Григорий Померанц Следствие ведет каторжанка
От автора
Эта книга — ряд подступов к загадочным страницам русской и мировой истории ХХ века. Во многих главах вспоминаются одни и те же события и факты, но увиденные с разных точек зрения, они приобретают новый смысл. Поэтому повторения не могут быть устранены.
Отдельные главы не всегда логически вытекают одна из другой. Иногда они связаны ассоциативно. Вся совокупность подступов — открытая система, ее можно дополнять и расширять. Автор рассчитывает пробудить самостоятельное историческое мышление своих читателей.
Григорий Померанц
Москва, 2003–2004
I. Подступы к загадке большого террора
Пленница истории
С Ольгой Григорьевной я познакомился в доме моего тестя, Александра Ароновича Миркина. В ранней юности он вместе с другим гимназистом основал в Баку, в 1919 г., Союз учащихся-коммунистов. Это был их ответ на армянскую резню, устроенную аскерами Нури-паши вместе с местными азербайджанцами в октябре 1918 года. Тогда три дня трупы валялись на перекрестках. И над ними всю ночь выли собаки…
Живой легендой бакинского подполья была Оля, член партии с 1916 г. (ей было тогда пятнадцать лет), в 1918 г. — секретарь Шаумяна, турками присужденная к повешению, уцелевшая благодаря порыву великодушия вновь назначенного азербайджанского министра внутренних дел. Заболевшая тифом, ухаживая за больными товарищами во Владикавказе, занятом белыми, вывезенная в тюках с коврами в Грузию и, едва оправившись, вернувшаяся на подпольную работу в Баку…
Александра Ароновича больше всего потряс апокриф, как Оля, девушка 17 лет, в одиночку управилась с парусом и компасом и пересекла Каспийское море. В мою память врезалось другое: пароход из Ванинского порта в Магадан. Качка страшная. Корабль то взлетает вверх, то падает в пропасть. В трюме зэка не обнимаются, как родные братья, а перекатываются, живые и мертвые, в жиже из морской воды, дерьма, мочи и блевотины. В это месиво бросали и куски хлеба. Когда крикнули: кто хочет в гальюн? — Ольга Григорьевна, оставшаяся на ногах, поднялась — и осталась на палубе, спрятавшись за пришвартованные драги. Другие продолжали перекатываться в трюме.
Кажется, я впервые увидел ее в 1965 г. Постарела, пополнела, но сила блистала в глазах через толстые стекла. Дряхлеющее тело держалось на сгустке воли. После Лубянки, Колымы и ссылки Хрущев назначил ее, вместе с другой каторжницей, Пикиной, проводить реабилитацию. Старые кадры Парткомиссии для этого не годились. Ольга Григорьевна была создана для своей миссии. Окруженная ненавистью, она ломала сопротивление сталинистов. Узнав, что указ о пожизненной ссылке противоречит основам права союзных республик, она добилась отмены и одним махом распустила всю контру по домам. Маленков пытался саботировать, но у Ольги Григорьевны было право прямого доклада Хрущеву, и Хрущев показал, кто в Советском Союзе главный.
В 1960 году Хрущев назначил Шатуновскую в комиссию Шверника, расследовать убийство Кирова. Шверник там возглавлял, Генеральный прокурор, председатель КГБ и один из заведующих отделов ЦК присутствовали на заседаниях, а работала она.
Ольга Григорьевна умела говорить официальным языком (отдельные канцеляризмы прорывались и в разговорах со мной), но со страстью каторжницы, помнившей Колыму. Ей невольно покорялись. Она сумела раскрыть сверхсекретные сталинские сейфы, найти бумаги, на которых рукой Сталина были набросаны схемы московского и ленинградского террористических центров, родившихся в его голове. Она нашла свидетелей, знавших о совещании на квартире Орджоникидзе, когда несколько членов ЦК, совесть которых вопила против голодомора крестьян, предлагали Кирову заменить Сталина (а Киров отказался, боясь, что не управится с Гитлером). Она разыскала члена счетной комиссии XVII съезда, забытого расстрельщиками и оставшегося в живых, и узнала тайну о 292 бюллетенях, в которых вычеркнуто было имя Сталина. Она выяснила, как в Ленинград был направлен чекист Запорожец с заданием убить Кирова, как Леонида Николаева убедили взять на себя эту роль, как его трижды задерживала личная охрана Кирова — и как трижды убийце возвращали портфель и оружие. Ей удалось восстановить картину первого допроса Николаева, кричавшего, что он выполнял волю партии. Все свидетели были расстреляны или покончили с собой, но Пальгов, прокурор Ленинградской области, прежде чем застрелиться, рассказал все Опарину. Директор завода, член МК Чудов, накануне ареста рассказал все Дмитриеву. И письменные показания старых большевиков Опарина и Дмитриева совпали друг с другом и с показаниями конвоира Гусева, которого Сталин не заметил и не уничтожил.
От имени комиссии Шверника Ольга Григорьевна запросила КГБ и получила официальную справку, по полугодиям, о масштабах Большого террора, развязанного после убийства Кирова. Общий итог она помнила наизусть до смерти и я его помнить буду, пока жив: apecтованы 19 840 000 человек, расстреляны в тюрьмах 7 000 000, всего за 6,5 лет, с 1 января 1935-го по 1 июля 1941 г. Любая советская статистика не вполне достоверна (к этой проблеме мы еще вернемся), но вспомним, что Пол Пот, в маленькой Кампучии, примерно за такое же время уничтожил 3 374 768 человек (из Протокола Комиссии по расследованию. Цитирую по книге «Похороны колоколов». M., 2001, с. 9). Мудрено ли, что Сталин, в Большой России, перебил больше.
Хрущев плакал, потрясенный результатами расследования, но Суслов, главный идеолог партии, и Козлов, второй секретарь ЦК, убедили Никиту Сергеевича сделать вид, что расследование еще не закончено, и Хрущев согласился отложить публикацию на 15 лет. Ольга Григорьевна безуспешно пыталась доказать, что это политические самоубийство, и оказалась права. Цекисты не могли спать спокойно, зная, что у Хрущева, с его непредсказуемыми решениями, осталась в руках идеологическая бомба. Страх перед этой бомбой — одна из причин отставки Хрущева. Сразу же после выхода Ольги Григорьевны на пенсию (из-за ссоры с Сердюком, фактически возглавлявшим Парткомиссию[1]) в 1962 г., дело в 64 томах стали потихоньку потрошить, а после октября 1964 г. его выпотрошили до основания. Улики и справки исчезли или подменялись другими. И правда осталась только в памяти пенсионерки, связанной подпиской о неразглашении, но твердо помнившей все основные факты. Незадолго до смерти Ольги Григорьевны дочь Запорожца, расстрелянного, как и все, кто слишком много знал, с огорчением узнала о роли своего отца и попросила меня еще раз расспросить, точно ли все было так, как я рассказывал. Я пошел на Кутузовский. Ольга Григорьевна очень одряхлела, сидела согнувшись. Но услышав, в чем сомнение, — распрямилась и четко, как на экзамене, повторила слово в слово то, что я слышал от нее лет за десять или пятнадцать раньше. Слухи, что она потеряла память и всё путает, злостно распространялись сталинистами.
При первой возможности, 10 февраля 1990 г., Шатуновская направила в «Известия» письмо, где коротко и четко изложила основные результаты расследования и главные подлоги, совершенные сталинистами. Это было последним делом ее жизни. Вскоре она умерла. Однако часть рассказов Шатуновской записывались ее дочерью, Джаной Юрьевной, и внуками. Эти рассказы совпадают с тем, что я сам от нее слышал и с ее письмом в «Известия».[2]
Этот фонд до сих пор не учтен историками. Одним мешает рептильный сталинизм, другим антикоммунистическая прямолинейность. Слышатся голоса, что разница между Сталиным и Кировым невелика, и не так важно, как один гад пожрал другого гада. С этой точки зрения, переход от культурной революции Мао к новой экономической политике Дэна тоже не имеет значения… Думаю, что миллионы расстрелянных по тюрьмам и упавших без сил на Колыме, в Воркуте и на бесчисленных лесоповалах думали об этом иначе. Когда Сталин умер, я вышел на волю и вышли на волю все мои лагерные друзья. Для всех нас очевидно, что Большой террор разрушил армию. Большой террор дал Гитлеру его легкие победы, а нам — необходимость затыкать собственной шкурой просчеты бездарных сталинских ставленников. Следствием Большого террора была блокада Ленинграда и миллионы пленных, умиравших в гитлеровских лагерях или в сталинских — за «измену Родине». Большой террор истребил все кадры, способные и повернуть страну, которую победы на поле брани привели в социальный тупик. И при первой попытке реформ оказалось, что нет у нас реформаторов, а есть только теневики и бандиты, установившие нынешнее царство коррупции. Пока имя Сталина не будет предано всенародному проклятию, не будет у нас покаяния. А не будет покаяния, то и возрождения России не состоится.
Вернемся, однако, к Ольге Григорьевне. Она стоит того, чтобы познакомиться с ней поближе. Со мной это случилось после одного совершенно неожиданного разговора. Я приехал, собственно, за какими-то лекарствами из аптеки «4-го управления». Роясь в ящиках, она спросила: «Читали вы сегодня „Правду“? Там такой-то пишет, что Бога нет». Я был ошеломлен. Старая большевичка могла сказать мне: «Что вы делаете, Гриша? Это бандиты, Они вас убьют!». Но Бог! Вопрос о Боге был давно закрыт для всех ее друзей. Они не сомневались, они знали, они верили в свой атеизм с твердостью Коли Красоткина (а Оля вступила в партию примерно в этом прекрасном возрасте). И вдруг — удивление, что «Правда» отрицает Бога! Я осторожно спросил, чего другого она могла ожидать от Центрального Органа своей партии. В ответ она очень просто пересказала свой духовный опыт в ссылке: что-то огромное, неизмеримое подхватило ее и подняло над землей, надо всем пространством и временем, и она почувствовала сердцем, что это дыхание Бога, что иначе эту реальность нельзя назвать, что других слов у нее нет. Почему она об этом заговорила со мной? Потому что ни с кем другим она говорить про свой опыт не могла, а сказать хотелось. Мостиком к разговору были стихи Зинаиды Миркиной и стихи Тагора, близкие им обеим. «„Гитанджали“, — говорила Шатуновская, — я в 16 лет готова была носить на груди». (В стихах Тагора Бог и возлюбленный сливаются, как первая и вторая ипостась в Троице; и у Зинаиды Миркиной так же. — Г. П.). — «Почему же вы не сохранили книжку?» — «Пришли ходоки из деревни, сказали, что нет книг, я отдала всю свою библиотеку». — «Зачем в деревне Тагор?» — «Что вы, разве я могла так рассуждать? Революция, значит все общее. Все мои друзья погибли на фронтах». Последняя фраза логически не связана с предыдущими, но она связана чувством, энтузиазмом, распахнутой душой. Когда Красная Армия во главе с Кировым вошла в Баку, Оля взбунтовалась против Наримана Нариманова, присвоившего себе несколько дворцов. Оля и ее друзья считали, что в дворцах должны жить дети рабочих. Но Нариманов нужен был как азербайджанская декорация для советского управления Азербайджаном. Бунтарей перевели в центральную Россию и там понемногу приучили к партийной дисциплине.
Я застал в Москве двадцатых годов только следы революционного энтузиазма. Он уже угасал. Энтузиасты группировались вокруг Троцкого, трезвые дельцы — вокруг правых, аппаратчики нашли своего вождя в Сталине. Но какой-то ореол святости вокруг слова «революция» еще горел, Бога писали со строчной, а Революцию, случалось, и с прописной. Это не было орфографически обязательно, но так было в сердцах советских мальчиков и девочек. Революция была богом, и этот бог увлек Олю и многих других, даже постарше. Их паровоз летел стрелой, в коммуне остановка… И они катились, как вагоны, по рельсам, которые вели совсем не туда. Что-то подобное произошло с Цюй Цю-бо (надеюсь, что не путаю его фамилию. В семидесятые о нем писал известный синолог Л. П. Делюсин). Он учился в революционной Москве, увлекся — и стал одним из основателей Китайской компартии. Потом произошел разрыв с Чан Кай-ши, Цюй Цю-бо схватили, пытали… Он выдержал пытки, никого не предал. И тут случилось странное для нас дело (но совершенно обычное в Китае): ему предложили бумагу, тушь, кисточку — написать то, что хочется, перед смертью. В Китае нет физических прав личности, но есть твердое правило хранить духовный облик замечательных людей, оставивших след в истории. Это очень древний обычай, и Чан Кай-ши остался ему верен. Цюй Цю-бо взял кисточку — и написал, что он выполнил долг перед товарищами. Но ему глубоко жаль, что пришлось ввязаться в политику. Он любил стихи, любил живопись — зачем, зачем он все это бросил! Нечто очень сходное говорил Бухарин на очной ставке со своим учеником Александром Айхенвальдом: не пишите ни о политике, ни об экономике, думайте и пишите о человеке! Если довести эту мысль до конца — бросьте бренное! Думайте и пишите о вечном! (Об этом писал Бергер, собеседник Айхенвальда в камере смертников, в книге «Крушение поколения», написанной в Израиле.)
В Ольге Григорьевне этот поворот к вечному начался — но остановился на половине пути. И я могу только догадываться, почему так случилось. Однажды я спросил ее, почему она не пишет воспоминаний. Она ответила мне: я посвятила жизнь ложному делу, и мне не хочется об этом вспоминать. Однако она очень охотно вспоминала отдельные эпизоды. Просила только своих детей не писать об этом (видимо, вспоминала обязательство не разглашать; но рассказы — это тоже разглашение).
Одна из ее историй — рассказ о трех роковых встречах с Маленковым. Первая роковая встреча — заочная. Мирзоян (тогда — секретарь ЦК Казахстана) был вызван к Маленкову (в то время — секретарь ЦК) зашел — и увидел на столе список с запросом санкции ЦК на арест. Заглянул — и увидел там имена Сурена Агамирова и Ольги Шатуновской. В 1937 г. было ясно, что правду искать бесполезно. Зачем-то уничтожают героев бакинского подполья. Мирзоян встретил Агамирова и попросил предупредить Олю — у нее трое детей, пусть вызовет из Баку мать. И тогда Ольга Григорьевна в последний раз увидела Сурена, друга своей юности. Вместе играли в горелки, вместе были присуждены к повешению и отпущены во Владикавказ (тогда еще красный). Вместе вернулись в Баку. Вместе создавали связь с Москвой. Вместе бунтовали против Наримана Нариманова. И наконец стали жить вместе. Их считали мужем и женой. Но Оля не хотела ничего, кроме нежности, а Сурен, направленный в другой город, не устоял там перед девушками; они просто вешались ему на шею. Все умоляли Олю простить его. Все любовались этой прекрасной парой. Но Оля не простила. Чтобы отрезать возможность новых мольб Сурена, сказала, что сблизилась с одним из своих поклонников, с Кутьиным. И потом действительно вышла за него замуж, родила троих детей… В 1937 г. Сурен пришел, гладил детей по головкам и говорил: «Оля, Оля, что ты наделала! Это могли быть наши дети!». Ольга Григорьевна пересказывала эту сцену без комментариев.
Став членом Парткомиссии, она затребовала дело Агамирова. Всего три допроса. На первом — все отрицал. На втором — все отрицал. На третьем признал, что разрушал домны. Трибунал, расстрел. Ольга Григорьевна навела справки: никаких разрушений не было.
О второй заочной встрече с Маленковым (в то время Председателем правительства) я уже упоминал. С помощью Хрущева член парткомиссии заставил Председателя правительства прекратить саботаж и распустить по домам бессрочную ссылку.
Третья встреча — лицом к лицу, встреча члена комиссии Шверника с членом антипартийной группировки Молотова, Маленкова, Кагановича. Представляю себе железный взгляд Ольги Григорьевны, с которым она задала свой вопрос: почему члены Политбюро не сопротивлялись безумным решениям деспота. «Мы его смертельно боялись», — ответил Маленков и рассказал, как Сталин, смакуя, излагал свой сценарий убийства Михоэлса и заодно Голубова (другого эксперта, посланного вместе с ним в Минск отбирать кандидатов на Сталинские премии). Обоих пригласил министр ГБ, угостил вином, — чтобы при вскрытии в желудке нашли алкоголь, — а затем вошли палачи. Я совершенно не уверен, что убийство было совершено точно так, Сталин мог любоваться сценарием, пришедшим в голову задним числом, и сами убийцы могли схалтурить, но Маленков, в ответ на вопрос Шатуновской, не мог мгновенно придумать эту историю, воображения бы не хватило. Характер Маленкова хорошо описан у Авторханова в «Технологии власти». Это канцелярист, а не поэт застенка.
С уст Ольги Григорьевны легко слетали страшные истории. Почему же трудно было взяться за перо?
Я думаю, трудно было свести концы с концами. Трудно объяснить самой себе, как порывистая мечтательница стала дисциплинированным солдатом партии и как эта партия пришла к внутренней катастрофе. Ольга Григорьевна была бесконечно смелее и независимее остальных бакинских стариков, друзей моего тестя. Выйдя из добровольного затвора, в котором она жила при Хрущеве, зная, что за каждым ее шагом следят, Шатуновская поражала резкостью своих суждений и как-то очень быстро повернула Александра Ароновича к оппозиции. Он привык быть вместе с партией, и «вместе с Олей» заменило ему это, повернуло к «социализму с человеческим лицом». В 1968 г. и он и все его друзья болели за Дубчека. Но пошла ли сама Ольга Григорьевна дальше этого? И вышла ли она сама из-под власти политики? Я думаю, что работа по разоблачению Сталина держала ее в старом политическом русле, мешала полному духовному повороту. Стремление показать, что Сталин — убийца ленинской партии, поддерживало в ней некий образ ленинской партии, который сильно отличается от моего.
Уже в отставке, уже оторванная от своего дела в 64 томах, она страстно собирала информацию о связях Сталина с царской охранкой. Я охотно допускал, что после кровавого ограбления тифлисского банка у Сталина просто не было другого выбора, иначе повесили бы. Симулировать безумие, как Камо,[3] он не был способен. Но скорее всего он обманывал охранку так же, как пытался обмануть своего заклятого друга Гитлера. Второе ему не удалось, но от охранки он, скорее всего, отделался пустяками. Для его гигантского честолюбия роль агента была слишком мелкой. Революция обещала больше. И он ставил на революцию. А при этом кое-кого предавал. Еще в 1918 году Шаумян, получив телеграмму Ленина о помощи из Царицына, воскликнул: «Коба мне не поможет!». И на вопрос Оли, почему, рассказал ей, что в 1908 г. был арестован на квартире, о которой знал только Коба, и Коба прямо заинтересован в смерти неприятного свидетеля. Тогда все перевесил авторитет Ленина, который Сталину доверял. Но на Колыме и в ссылке старое всплыло, и в уме Шатуновской сложилась концепция Сталина-провокатора, сознательного разрушителя партии. По-моему, Сталин был провокатором по характеру, и служил ли он охранке и насколько добросовестно служил ей — не так важно.
Александр Петрович Улановский, анархист, отбывавший ссылку в Туруханске по соседству со Сталиным, рассказывал мне, как Сталин натравливал пролетарскую часть ссылки на интеллигентскую — с какой целью? Ради мелкого честолюбия оттеснить Свердлова от положения старшины ссыльных? Быть может; но думаю, что просто ему доставляло наслаждение стравливать людей друг с другом. Когда власть Сталина сделалась незыблемой, — для чего он продолжал стравливать своих сподвижников, для чего он провоцировал их, уничтожая братьев Кагановича, арестовывая жену Молотова? Я не вижу здесь политического смысла; одна радость игры, радость провокации ради провокации. Достоевский угадал этот характер в своих образах провокаторов — прежде всего Петруши Верховенского, но отчасти и Смердякова.
Даниил Андреев увидел Сталина крупнее — как метафизического провокатора, близкого предшественника Антихриста. Прямой связи с дьяволом у Сталина, вероятно, не было-ине прямо из преисподней он получал «хохху», эманацию мук, превращавшуюся в яростную энергию. Но образ, созданный Андреевым, занял свое место в карнавале образов, мелькающих в моем сознании, когда я думаю о Сталине. Академик Сыркин представлял себе органическую молекулу как резонанс нескольких структур. Вот и Сталина я представляю себе как резонанс нескольких образов. Вот он вызывает Гилельса, слушает всю ночь Бетховена и, вероятно, чувствует в этой музыке свое демоническое величие. Или над озером Рица, на Сосновке, велел соорудить беседку и приезжал туда в четыре часа утра слушать соловьев. Я спускался из Сосновки потрясенным. Такая природная красота — нерукотворная икона. Что она будила в Сталине? Что он сам встал на место Бога? Не знаю. А иногда он признавался себе (но только себе!) в своей слабости, вспоминал себя заброшенным подростком, высмеянным односельчанами шлюхиным сыном, и десятки раз смотрел «Огни большого города», сентиментальную историю маленького человека. Или восстанавливал на сцене Художественного театра «Дни Турбиных» и по-лакейски любовался красивой жизнью господ. Которым он потом проломит голову.
Я пытался излагать Ольге Григорьевне свои взгляды и чувствовал, что она колебалась. Но ей очень хотелось, чтобы на первом месте была не логика превращения «добра с кулаками» в «зло с кулаками». Пусть лучше партию истреблял профессиональный провокатор, агент охранки, а партия остается партией и гибнет как партия. Это несколько даже риторично звучит в заключительных словах ее письма в «Известия»: «Судьбоносное, непреходящее значение 17-го съезда в этом и заключается, что партия коммунистов на том съезде последний раз дала бой, оказала действенное сопротивление побеждавшей на долгие годы диктатуре Сталина». Видимо, в порыве чувства Ольга Григорьевна не заметила, что последний абзац решительно противоречит предпоследним: «Многие делегаты съезда и сам Киров выступали на съезде со славословиями в адрес Сталина. Бухарин, Рыков и Томский капитулировали под улюлюканье некоторых делегатов, объявивших 17 съезд съездом победителей… Но все оказалось фарсом, трагическим фарсом: съезд победителей превратился в съезд расстрелянных. Над кем же пытались объявить себя победителями на 17-м съезде? Над народом, против которого Сталин повел с 1928 года войну, под видом построения социализма на селе совершил контрреволюционный переворот, отняв у крестьянства землю и волю и орудия производства, за которые оно воевало с белыми всю Гражданскую войну. Теперь же оно уничтожалось и физически в своей лучшей трудовой части.
Однако, несмотря на то, что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие начали сознавать страшную суть содеянного и роковую роль Сталина в этих событиях».
Что же сделали те, кто «начали осознавать»? Перейдем к началу письма. «Во время 17 партсъезда, несмотря на его победоносный тон и овации Сталину, на квартире Серго Орджоникидзе, в небольшом доме у Троицких ворот, происходило тайное совещание некоторых членов ЦК — Коссиора, Эйхе, Шеболдаева и других. Участники совещания считали необходимым отстранить Сталина с поста генсека. Они предлагали Кирову заменить его, однако он отказался. После того как Сталину стало известно об этом совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров, не отрицая этого факта, заявил, что тот сам своими действиями привел к этому».
Получается, что с Кировым даже не успели переговорить заранее, наедине, без возможности подслушивания и доноса. Посмотрели друг другу в глаза, почувствовали: стыдно; и задумались: что же делать? А делать было нечего. Истерика культа дошла до такой точки, что выступить открыто, с трибуны, не решился никто. Уже стали рабами. И по-рабски, втайне, вычеркивали в бюллетенях фамилию, которую дружным хором славили. Далеко не только те, кто собрались у Орджоникидзе. Мы знаем число тех, кто устыдились — и зачеркнули фамилию Сталина. А сколько человек устыдились, но ничего не сделали? Ведь страшно было. Подумать и то страшно.
Я вспоминаю, как в августе 1944-го мы без команды сматывали палатки, чтобы идти на помощь Варшаве, а нам велели «отставить», и на другой день по радио сообщили, что помочь Варшаве нельзя. До самого вечера мы, офицеры, встречая друг друга, отводили глаза. Было очень стыдно. Но мы молча, подчиняясь военной дисциплине, вынесли свой стыд. А какая-то часть делегатов, встречаясь друг с другом глазами, не вынесла. Хотя, скорее всего, большинство про совещание у Орджоникидзе и не знали. А если и прошел слушок — какое уж тут «действенное сопротивление»! Шатуновская сперва описывает съезд реалистически (кровавый фарс), а потом нахлынула романтическая память о партии, в которую когда-то вступала, в истинную партию, в идеальную партию, которая, как все идеалы, не знает износа.
Шатуновская сама себя опровергает: «несмотря на то, что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие из них начали осознавать…». Что, когда? К 1934 году миллионы крестьян на Украине, на Кубани, в Казахстане уже вымерли. Когда же это начал сознавать Коссиор, исполнявший волю Сталина на Украине, или Шеболдаев — на Северном Кавказе?
В 1953-56 гг. я работал учителем в станице Шкуринской. И мой коллега, завуч Батраков, рассказывал мне, как его отца, старого коммуниста, мобилизовали отбирать хлеб у кулачья. Вошли в дом. Казачку облепили пятеро детей — мал-мала меньше. Без звука отдала ключи (мужа уже сослали). Старший Батраков вошел в клуню, посмотрел — в углу горстка кукурузы, до весны даже впроголодь на всю ораву не хватит. Вернулся и бросил ключи к ногам женщины. Его за это исключили из партии. Он заболел, умирал, сын (Батраков-младший) стал пересказывать что-то, услышанное по радио, — про врагов. «Еще неизвестно, кто враги», — прошептал отец.
Екатерина Колышкина (в первом замужестве баронесса де Гук, а во втором — Дохерти) писала, что у русского, даже самого большого злодея, палец в святой воде. Но почему один Рютин почувствовал этот палец в 1930 году и прямо выступил против Сталина (тогда же хотели расстрелять; помешал еще не совсем безвластный Бухарин; расстреляли попозже)? Почему 292 делегата съезда почувствовали прикосновение святой воды только тогда, когда уже было поздно помочь вымершим с голоду, оставалось только умереть вместе с ними? Сталин правильно почувствовал, что против проголосовали в душе больше, чем 292, и истребил всех, в ком хоть колыхнулась совесть. Слабо. Беспомощно. Но мертвые сраму не имут. И за то, что всколыхнулась в них совесть, да простятся им грехи вольные и невольные. За всхлип совести ломали позвоночник Эйхе. За эти всхлипы миллионы коммунистов (с недостаточно гибкой спиной), при жизни прошли сквозь ад.
Но вернемся снова к Шатуновской. Где же она была, в 30-е годы? Рожала, кормила, воспитывала своего третьего ребенка, Алешу. Когда ее арестовали, он потихоньку залезал в шкаф и подолгу сидел там: шкаф пахнул мамой. А мама работала в аппарате МК, в облаке казенных слов и казенных мыслей, скрывавших страну, как дымовая завеса. Только во вторую половину 30-х годов она окунулась в безумие «персональных дел», взаимной травли, пыталась остановить то, что ей казалось чудовищной нелепостью, сорвала несколько уже подготовленных решений — и вскоре ее саму посадили.
В одном из рассказов детям Ольга Григорьевна вспоминает эпизод из дела Бухарина. Отпущенный на Парижскую выставку Бухарин встречал старых друзей, меньшевиков, и говорил им, что они были правы: революция 1917 года в России была демократической, никаких условий для строительства социализма здесь не было. Но если и впрямь не было, если меньшевики были правы, то весь ленинский эксперимент становился чудовищной авантюрой. Чтобы писать воспоминания, надо было решить проблему, выходившую за рамки фактической правды, вступить в область истинных и ложных теорий. Шатуновская, видимо, не чувствовала себя подготовленной к этому. Пафос ее работы (сохранившийся и в отставке) был в отсечении явных фактов от явной лжи. Но и в области фактов был личный опыт, колебавший кумиры большевизма! Меньшевики не расстреливали. Меньшевистская Грузия была убежищем для большевиков, бежавших от националистического и белого террора. А потом в Грузию вошли большевики — и стали расстреливать. Ольга Григорьевна это знала. И знала, вероятно, что меньшевики повсюду протестовали против террора, без всякой личной симпатии к адмиралу графу Щастному или великим князьям. Знала, но не хотелось ей углубляться в это. Область явной лжи (она называла это контрреволюцией) начиналась нее только с 1928 года. До этого была область сомнений, от которых она, кажется, так и не освободилась.
Видимо, надо было родиться на двадцать лет позже, чтобы спокойно, без всякого надрыва, понять, что власть, захваченная Лениным, обладала инерцией системы, которую Сталин почувствовал и использовал. У него был аппаратный гений. Он увидел, что партия становится видимостью, аппарат — реальностью, и решительно довел этот процесс до конца. Партия была отдана в руки аппарату партии, стала придатком к аппарату. Ленинский страх распада партии на фракции был использован со всей энергией и без всякого стыда. Исчезли фракции — и партия тоже исчезла. Исчезла опасность проникновения буржуазной идеологии — и от марксистской идеологии тоже ничего не осталось. Только в «Капитале» (в т. III) торчала фраза о «бесконечном развитии богатства человеческой природы как самоцели». Никто больше не говорил (как Троцкий), что человек при социализме достигнет по крайней мере уровня Гёте и Аристотеля. Аристотелей заменили винтики партийной машины.
А как хорошо все начиналось! Как легко было бежать в революцию в одних чулках, оставив дома запертые отцом туфли! Такой же порыв, как за пару лет до этого — ухаживать за подругой, больной чахоткой, с риском заболеть самой — и выходила ее. А потом, когда Ольга Григорьевна вернулась с Колымы (и ждала ее ссылка), подруга отказалась ее принять, боялась за мужа. Через несколько лет Шатуновская сама пошла в гору, подруга попросилась в гости, и Ольга Григорьевна ее не приняла. «Друзья познаются в беде». И к Хрущеву не пошла, приглашавшему ее в гости после отставки: презирала трусость. А между тем, чего она от него хотела? Не аргументами убедили его Суслов с Козловым — какие они диалектики! — а чутьем: за ними стоит весь аппарат.
Впрочем, бог с нею, с политикой. Мне интереснее мораль. Ольга Григорьевна готова была душу положить за други своя. В этом отношении она была «анонимной христианкой». Но она не чувствовала, что красота отца, прощающего блудного сына, выше ее королевской гордости, напоминавшей гордость Ахматовой. И тут вспоминается мне один совсем не политический эпизод. Я убедился на собственном опыте, что внезапное чувство причастия бесконечности блекнет и одной памяти о нем недостаточно, надо искать, как ежедневно причащаться своей глубине, как раздувать искру… И я дал Ольге Григорьевне «Школу молитвы» Антония Блума. Потом спросил, как? И Ольга Григорьевна, ничего не говоря, с неумолимой своей твердостью, отрицательно покачала головой. Если бы она сказала: «Не очень… мне многое здесь не нравится» — осталась бы почва для разговора, я охотно заходил бы, продолжая такие разговоры, но кивок головой не допускал никакого диалога, никакого изменения раз и навсегда вынесенного приговора.
Почему? Ведь она любила религиозное чувство в стихах — на этом мы и сошлись. Но поэтическое чувство реальности Бога не затрагивало ее гордости. Можно подумать и так: я человек, и мне дано почувствовать Высшее, Бесконечное. Смирение — из другой сказки. Именно по глубине своей натуры Ольга Григорьевна впитала в себя гордость не только социального, но метафизического бунта, гордость Прометея. «Бесконечное развитие богатства человеческой природы» в «Капитале» имеет за собой долгую традицию. Тут и Протагор (человек — мера всех вещей), и «Панегирик человеку» Пико делла Мирандолы, и слова Кириллова в «Бесах»: «Если Бога нет, то надо самому встать на место Божье»… Не думаю, что Ольга Григорьевна все это прочла, но концепция бунтующего человека была рассыпана в сотнях книг, картин, музыкальных сочинений… Вместе с инерцией рабства революционное сознание отбросило и «ценностей незыблемую скалу», на вершине которой бесконечная по мощи святыня, объемлющая мир своей любовью и ждущая от человека такой же бесконечной, превосходящей все земные мерки, любви… Ждущая от человека открытости залива океану, готовности утонуть в море света, сгореть в пламени без дыма…
А без открытости залива океану, без опоры на Бога, стоящего над всеми земными системами, построенными из обломков Целого, человек становится рабом Дела и системы, созданной для торжества Дела, и только террор, вырвав солдата партии из строя, вернул Ольгу Григорьевну к поискам собственной глубины. Но тут же подхватило ее другое дело, дело реабилитации невинных, дело расследования сталинского коварства, и снова не было паузы созерцания, не было внутренней тишины, чтобы расслышать в ней Бога. Одна страсть — к справедливости для бедных — уступила место другой страсти — к обнажению страшной правды, — и стареющая женщина с неукротимой волей вступила в борьбу, один на один, с огромной машиной лжи, ничтожной в каждом винтике, но могучей именно своей безликостью. И до последних дней Ольга Григорьевна перебирала в уме улики и подлоги, держала в памяти свое резюме дела в 64 томах.
Чтобы дойти до конца в духовном освобождении от иллюзий истории, ей надо было освободиться от захваченности обличением Сталина. Но тогда не было бы и дела в 64 томах. Так же как без яростной памяти на зло не было бы «Архипелага ГУЛАГ». Без страстной односторонности история не умеет обойтись.
Ольга Григорьевна Шатуновская — трагическая фигура, оставшаяся в тени русской истории. То, что она не все могла до конца додумать, — не первый случай. История не дает нам видеть все с одинаковой ясностью, открывая одну перспективу, она закрывает другие. Сегодня легко видеть, к чему революция вела. Трудно понять пафос людей, ринувшихся в революцию от ужаса старого мира, от бойни Первой мировой войны, чудовищного истребления людей во имя «решения великого вопроса, какой мир хуже, Брестский или Версальский» (не боюсь процитировать Ленина).
В 1990 году, на заседании Восточноевропейского семинара Франкфуртского университета, мне был задан вопрос: не потому ли русским труднее дается расставание с прошлым, чем немцам, что в нацизме грубо торчала идея насилия, а в коммунизме насилие предлагалось только как средство к общему счастью. Я ответил: «Да, конечно!» — и вспомнил своих друзей из «коммунистической фракции демократического движения». Моему другу Хайнцу Кригу легче было перечеркнуть свою юношескую любовь к Гитлеру, чем Петру Григорьевичу Григоренко — свою любовь к Ленину. И хотя я достаточно сказал о фарсе XVII съезда, хочется сказать сейчас и о другой половине правды, о трагическом фарсе. Мои современники ничего не знают, ничего не помнят. А я помню. Я жил в 1937 году и даже написал письмо И. В. Сталину с советом не увлекаться террором… Было мне тогда 19 лет, и, к счастью, И. В. Сталин моего письма не прочитал… А террор все ширился, и понять его становилось все труднее. Чуть-чуть спустя я говорил Агнессе Кун, что Сталин трус и готов перебить сто невинных, только бы не уцелел один злоумышленник, способный его самого убить (что никто его и не собирался убивать, я и в лагере не понял). Между тем, колесо все раскручивалось и понять смысл того, что происходит, стало вовсе невозможно. Террор вертелся, как вечный двигатель, сам себя подкармливая лавиной доносов и вызванных под пыткой признаний. Наверное, именно этот пик иррациональности схвачен в образе Сталина-демона, питающегося эманацией человеческих страданий, хоххою. Наконец, после перерыва в год длиной, родился первый анекдот и, как голубь мира, облетел Москву: «Как живете? — Как в автобусе: одни сидят, другие трясутся». И я сказал себе: мы стали смеяться над страхом; еще немного, и страх перейдет в мужество отчаяния. Если кто-то управляет этим безумием, то террор пойдет на убыль. И в самом деле, пик террора остался позади. Слава Богу, именно в это время я кончал свою курсовую работу о Достоевском, где опровергал оценки Горького, Ленина и Щедрина. Временно воцарилась усталость от казней, и работу вяло оценили как антимарксистскую, но за мной всего только установили наблюдение. Полгода раньше — сел бы как миленький.
И вот вопрос: перестал ли я хоть тогда считать Сталина гением? Не помню. Что-то пошатнулось, но не совсем сломалось. В 1941 году, когда нас стали бить, кумир почти распался. А когда началась победы — я снова поверил в главнокомандующего…
Положение Сталина как живого бога установилось еще между XVI и XVII партсъездами. Подняться на трибуну и сказать, что Сталин грубо ошибся, в 1934 году было так же невозможно, как похулить Мохаммеда в Мекке, перед миллионной толпой мусульман. А дальше такие мысли додумывались разве только в лагере, да и в лагере — не всеми. На воле человек, глядя в зеркало, шептал: «Один из нас стучит…».
Много позже, в другое, вегетарианское время, когда оставалась только инерция культа, Петр Григорьевич Григоренко шел на трибуну районного партактива, как на казнь. Хотя было очевидно, что казни за критику Хрущева не будет, жизнью платить не придется. Но оставалась какая-то мистика, окружавшая особу Первого секретаря ЦК. Который по должности был великим теоретиком марксизма и проч., и проч., и проч., и за кощунственное попрание этой святыни пришлось поплатиться всего только своей военной карьерой. Перечитайте то, что Григоренко написал об этом эпизоде, и умножьте страх, который он испытывал и преодолевал, подымаясь на трибуну, на какое-то очень большое число. На тысячу, или даже на миллион.
И еще вспомните, что была и государственная опасность, что почти весь немецкий народ сплотился вокруг Гитлера, что с выкриками одержимого резонировало отчаянье безработных, резонировала обида за Версаль, и возникла огромная военная сила, опрокидывавшая европейские государства, как карточные домики. В 1934 г. Киров отказался от предложенной ему роли не только потому, что плохо разбирался в международной политике. Нетрудно было создать совет из достаточно подготовленных людей. Еще живы были Радек, Бухарин. А в генеральном штабе еще работали способные люди. (Вспомним Тухачевского. Он вместе с Гудерианом тайно разрабатывал в Поволжье тактику танковых армий.) Но энергии и решимости вождя, способного противостать Гитлеру, ни у кого не было. И создавать новый фиктивный авторитет, подобный сталинскому, времени не оставалось. Авторитет Сталина-бога был бедствием, когда Сталин ошибался, когда он принимал преступные решения. Но этот авторитет бога был спасением, когда все разлеталось в прах, и оставалось только единство народа со своим вождем, и вместо разбитых армий создавались новые армии… Немцев это не выручило, но мы, уложив 27 миллионов, взяли Берлин…
Ветераны этого до сих пор не могут забыть. Я сам был под Москвой, и к северо-западу от Сталинграда, и у меня в Берлине, в апреле 1945-го, кружилась голова; несколько капель моей крови упало и на русскую, и на немецкую землю; но ни чувство победы, ни чувство крови не заглушат во мне разума и совести, и для меня знамя Сталина — знамя лжи, и победа его — победа лжи, обвившей гибельную утопию коммунизма лаврами воинской славы. И наша национальная обязанность — разделаться с памятью Сталина так же, как немцы — с памятью Гитлера, сбросить имя Сталина со всем, что к нему прилипло, в пекло истории. Золото народного мужества не сгорит.
Над XVII съездом партии парила тень Гитлера. Сила демократии — не на войне. Открытая оппозиция, раскол партии был риском, на который никто не решался. Делегаты съезда оказались между тигром и бушующим морем, между тиранией Сталина и победой Гитлера. Они попытались избежать этой альтернативы, но робко. Неуверенно, вступая в борьбу со связанными руками. Их поражение было несомненным, но море крови, которое пролил взбешенный Сталин, не имеет равных в истории.
Больше всех мне жаль зачинщика этого «боярского заговора», Серго Орджоникидзе. Он был человеком очень наивным. Галина Серебрякова вспоминает, как вожди, выпив, рассуждали, в чем счастье. Орджоникидзе сказал: строить социализм. Сталин ответил: нет, иметь врага, уничтожить его, а потом выпить бутылочку хорошего вина… Видимо, Орджоникидзе всерьез верил, что Сталин сможет уйти с поста генсека по-хорошему. Хорошие люди часто думают о других лучше, чем те заслуживают, и Серго был человек простодушный, прямой, вспыльчивый и добрый (мне говорили люди, близко знавшие его). От простодушия — его план (если можно говорить о плане): голосованием на съезде подействовать на совесть людоеда, и людоед станет вегетарианцем.
Очередной боярский заговор, очередная затейка верховников кончилась так же, как при Иване Васильевиче и Анне Иоанновне: опричниной и бироновщиной (далеко затмившей своих исторических предшественников). Кобе невыгодно было сажать своего друга Серго на скамью подсудимых, но он несколько лет настойчиво и умело изводил его и довел до самоубийства. Оставив в живых вдову и делая вид, что покойного он очень любил. Только на представлении оперы «Великая дружба» не выдержал и вышел из ложи, когда на сцене появилась тень Банко…[4]
А вдова не перестилала постели, на которой умер Серго, не трогала простынь, где запеклась кровь ее мужа, и до самой смерти ложилась спать рядом. Она дожила до встречи с Ольгой Григорьевной и рассказала ей, как все было.
Боюсь, что я не доживу до фильма или сериала, в котором узел русской истории, слившийся с жизнью Ольги Григорьевны Шатуновской, найдет свой зримый облик. Но только, будущие сценаристы, постановщики, актеры — не халтурьте! Попытайтесь вглядеться в жизнь людей, бросившихся из огня в полымя, в ужас Гражданской войны — от ужаса «законной» войны, начатой тремя законными императорами, в пролетарский интернационализм — от погромов и резни. Попытайтесь понять людей, «съеденных идеей», уверенных, что ради всеобщего счастья все позволено. Попытайтесь довести этих героев, через застенки и медленную голодную смерть, к той глубине, на краю которой остановилась Ольга Шатуновская.
Истоки и устье большого террора
Я один из немногих живых собеседников Ольги Григорьевны Шатуновской, женщины, которой судьба вручила ключи к истокам и устью Большого Террора. Мне не приходило в голову ничего записывать. Я философ, а не историк. Но я многое помню. И к счастью, я могу опереться на записи, которые делали дочь Ольги Григорьевны, Джана Юрьевна Кутьина, и внуки — Андрей и Антон. Я познакомился с этими записями в 1997 году, в их первоначальной, несистематизированной форме, а к началу 2002 г. получил в распоряжение книгу, изданную американско-германским издательством La Jolla, «Об ушедшем веке рассказывает Ольга Шатуновская».
Основа этой книги — сведенные вместе и откомментированные записи дочери и внуков после рассказов женщины огромной силы духа, жизнь которой сплелась с историей советской власти, начиная с героических лет становления, кончая распадом и первыми попытками открытой дискуссии о преступлениях Сталина. Это история типической жизни героини революции и узницы Колымы с фантастическим изломом, превратившим каторжанку в судью своих палачей.
Это самое достоверное свидетельство об истоках и внутренней логике Большого Террора, увиденного и из застенков НКВД, и с кресла члена Комиссии Партконтроля. Это рассказ о том, как следственное дело в 64 томах было выхолощено и фальцифицировано цекистами,
Рядовые следователи, сочувствовавшие Ольге Григорьевне, рассказывали ей, как Сердюк заставлял свидетелей менять свои показания, как некоторые документы просто уничтожались, а другие подменялись фальшивками. Все эти сведения Ольга Григорьевна пересказывала своим друзьям, старым бакинцам, а с середины 60-х годов и мне.
Я ничего не записывал, мне не приходило в голову, что в случае падения советской власти фальсификация будет упорно защищаться. Дочь и внуки Ольги Григорьевны оказались умнее. Несмотря на запрет (Шатуновская была связана подпиской о неразглашении), рассказы записывались на другой день, иногда буквально на следующее утро. С разрешения Джаны Юрьевны, я прочел машинописные «беседы в домашнем кругу» и договорился с одним из сотрудников «Общей газеты» дать своего рода журналистское резюме о деле Кирова. Эта публикация была осуществлена 10.04.1997, в № 14. К сожалению, А. Трушин не обошелся без мелких неточностей, раздосадовавших родных, и они решили не иметь больше дела с прессой и издать книгу самостоятельно, к 100-летию со дня рождения Ольги Григорьевны. Средств хватило только на очень небольшое число экземпляров. Книга не поступает в продажу, и, в лучшем случае, ею могут быть обеспечены только крупнейшие библиотеки.
Среди дополнений, включенных в книгу, — письмо Ольги Григорьевны, написанное 10.02.1990 г. и направленное в газету «Известия». Это часть дискуссии об убийстве Кирова, проходившей в прессе в 1989–1990 гг. Я попросил своего заочного друга, Н. Ф. Рыбалкина,[5] порыться в своем архиве. Через месяц он прислал мне ксерокопии статей В. Лордкипанидзе, с которой начался «гласный» спор (АИФ, 1989, № 6) и статьи Г. Целмса, завершившего обсуждение (ЛГ, 27.06.90). Лордкипанидзе повторяет то, что я слышал от Ольги Григорьевны: убийство Кирова организовал, по поручению свыше, чекист Запорожец. До эпохи гласности об этом же писал Антонов-Овсеенко-младший в там-издатной книге «Портрет тирана». Ольга Григорьевна признает, что разрешила опереться на ее рассказы, но без ссылок на нее (упомянутая книга, с. 358). Можно пожалеть, что памфлетный стиль Антонова-Овсеенко отымал у фактов часть их достоверности. Между тем, о роли Сталина в убийстве Кирова догадывались многие старые коммунисты (свидетельствует, в частности, Олег Волков, вспоминая разговор на берегу Енисея с Николаевым, однофамильцем убийцы; фрагмент перепечатан в книге «Жизнь во тьме» («Антология выстаивания и преображения». М., 2001, с. 21–22).
На статью В. Лодкипанидзе отвечала А. Кириллина, сотрудница Ленинградского музея истории партии, защищая единственную возможную версию, позволявшую обелить Сталина после полного провала легенд о заговорах зиновьевцев и троцкистов. Версия эта слабая: Кирова, которого тщательно охраняли, убил одинокий злоумышленник («Известия», 11.01.90). Ольга Григорьевна была еще жива. Ее блестяще мотивированный ответ сжато излагает основные факты:
«На другой день после убийства на допросе у Сталина в Смольном Николаев заявил, что его в течение четырех месяцев склоняли к убийству сотрудники ГПУ, настаивая на том, что это необходимо партии и государству…
После моего ухода (в 1962 г. — Г. П.), в окружении Н. С. Хрущева нашлись лица, заинтересованные в переоценке выводов Комиссии Политбюро. Они поручили заместителю председателя КПК З. Г. Сердюку вновь допросить главных свидетелей. Эту работу помогал ему выполнить сотрудник КПК Г. С. Климов…
В июне 1989 года ко мне явился представитель КПК Н. Катков в сопровождении двух прокуроров с целью якобы посоветоваться о работе Комиссии. В ходе беседы подтвердилось, что по заданию сталинистов из окружения Хрущева был совершен исторический подлог. Из документов расследования исчезли: свидетельство члена партии с 1911 г. С. Л. Маркус, старшей сестры жены С. М. Кирова, — с его слов — о тайном совещании на квартире Орджоникидзе… Копия полученных на следствии показаний помощника Орджоникидзе — Маховера, присутствовавшего на упомянутом совещании…
Исчезли также показания старых большевиков Опарина и Дмитриева о сцене допроса Сталиным Николаева 2 декабря, когда убийца заявил Сталину, что к покушению на жизнь Кирова его побудили и готовили сотрудники НКВД.[6] Тогда энкаведисты жестоко избили Николаева и в бесчувственном состоянии доставили в тюрьму.
Исчез важнейший документ: представленная КГБ в Комиссию Политбюро сводка о количестве репрессированных с января 1935 г. по июнь 1941 года — по годам и различным показателям — с общим итогом: 19 840 тысяч арестованных, из которых 7 миллионов расстреляно в тюрьмах. Представитель КПК заявил, что в деле имеется якобы лишь моя записка с упоминанием двух миллионов жертв. Такой записки я никогда не писала».[7]
Однако дискуссия продолжалась. Г. Целмс осторожно подвел ее итоги в «Литературной газете». КПСС еще была тогда правящей партией, и Целмс не называет кошку кошкой, а только показывает поведение сотрудников ЦК, которым он предъявляет, одну за другой, улики, собранные Шатуновской. Цекисты ведут себя как сообщники, пытающиеся спрятать концы в воду. Но три конца не удалось спрятать. Первое: Суслов семь или восемь раз ставил на секретариате вопрос об увольнении Шатуновской. Не о наказании за извращение фактов, а просто об увольнении. Эта нейтральная формулировка разъясняется в книге Ольги Григорьевны: факты, раскрытые Шатуновской, были, по мнению Суслова, разрушительны для «международного рабочего движения».
Второй торчащий конец: «Как быть с докладной запиской в Политбюро, подписанной Шверником и Шатуновской? Записка эта сохранилась, что подтвердил мне ответственный работник ЦК КПСС В. Наумов. А в ней перечислены все основные документы расследования, те самые, которых теперь в деле нет. Предположить, что Шатуновская, готовя информацию для членов Политбюро, включила в записку несуществующее (и что Шверник этого не заметил. — Г. П.), по-моему, немыслимо» (Целмс).
Третий торчащий конец: «А предсмертное письмо хирурга Мамушина своему другу Ратнеру? Ратнер сохранил письмо, а в нем — раскаяние. Кается хирург, что, участвуя во вскрытии тела Борисова (телохранителя Кирова, задерживавшего Леонида Николаева и отымавшего у него оружие. — Г. П.), дал в свое время те показания, которые от него требовались. „Характер раны не оставлял сомнения, — пишет он в 1962 году, — смерть наступила от удара по голове“».
Всего три улики совершенного подлога: две прямые и одна косвенная. Но ведь прав Мертон: чтобы убить человека, не нужно целой армии, достаточно одного выстрела. Чтобы доказать подлог, достаточно одного вопроса: куда делись документы, перечисленные в записке Шверником и Шатуновской? Ведь не выжили оба вместе из ума? А если выжили, то почему не вернули им назад их бред?[8]
Дискуссия была прервана событиями 1991 года. Сталинисты замолчали. Истина казалась установленной. И публикация в «Общей газете» имела целью только привлечь внимание и средства к предполагавшемуся изданию книги о замечательно яркой личности, забытой историками. О каторжанке, пытавшейся использовать поручение Хрущева с целью, далеко выходившей за его намерения. О женщине с огромным умом и волей, к сожалению, оставшимися неразвернутой пружиной (не состоявшейся возможностью был, в частности, выход на трибуну XX съезда).
На книге рассказов О. Г. Шатуновской нет никаких официальных примет достоверности. Просто бабушка рассказывает внукам, как она жила. Может быть, сказки? Но почему-то рассказы Ольги Григорьевны о революции, о Гражданской войне, о дискуссиях в партии 20-х годов, о застенках 37-го года, о Колыме не вызывают ни малейшего подозрения во лжи. Они перекликаются с тем, что рассказывают другие. И трудно поверить, что рассказчица вдруг становится лгуньей, как только прикоснулась к священной корове и сдирает позолоту с ее фигуры. Так же простодушно, как прежние рассказы, звучит ее рассказ о человеке, который травил ее и в конце концов выжил из Парткомиссии: «Во время двадцать второго съезда я и Пикина (другая каторжанка. — Г. П.), она тоже была членом Комиссии партийного контроля, мы сидели во время съезда, а перед нами сидела молдавская делегация. Они к нам вот так обернулись и говорят: — ну поздравляем. Теперь Сердюк от нас ушел и будет у вас. Ему как раз надо быть совестью партии. Мы-то он него избавились, а вы получайте. Мы с Пикиной спрашиваем, а какие факты? Они стали рассказывать, какие он взятки брал, как он подделки делал. У нас волосы дыбом поднимались…» (с. 357).
Кому же нам верить? Безупречно честной женщине, всегда твердо державшейся фактов (а это я лично удостоверяю), или заведомому мастеру подлогов? Которого, по всей вероятности, Суслов (великий интриган) специально подсунул в Парткомиссию для этой цели?
Но положение в стране изменилось, и по телевидению был пущен фильм о бытовом убийстве, которым Сталин только воспользовался. А покойную Ольгу Григорьевну обличают как автора «фальсификации века», совершенной в угоду Хрущеву. Ситуация из «Покаяния» Абуладзе! Судят женщину, выкопавшую труп Аравидзе, и обвиняемая становится обвинителем. Со страниц книги (правда, малотиражной) она спрашивает: как вы опровергнете крики Леонида Николаева, которые слышал конвоир Гусев, о которых рассказывали друзьям, перед смертью, Пальгов и Чудов? Вызвать из гроба их тени? Как вы опровергнете показания мертвых о совещании на квартире Орджоникидзе?
Надо отдать должное цекистам 1990-го года: они не решились назвать Шатуновскую лгуньей. Пущена была другая версия: что старуха выжила из ума и нельзя ей ни в чем верить (о записках родных никто не знал). Но письмо в редакцию «Известий» не показывает никакого упадка памяти и умственных способностей. Могу прибавить, что примерно в это время, после статьи Лордкипанидзе, мне пришлось уточнить некоторые подробности убийства Кирова. Ольга Григорьевна не хотела вмешиваться в жизнь детей и внуков и жила одна. Дети и внуки навещали ее, но она сама, без сопровождающего не выезжала. Полуослепнув на Колыме от нервного потрясения, она с трудом ориентировалась на улице. В этот день ей было плохо. Она сидела сгорбившись. Взор казался угасшим. Но услышав вопрос, больная распрямилась, глаза блеснули прежним светом — и она повторила все факты точно так, как я пару раз от нее уже слышал. Это показание я готов повторить под контролем детектора лжи и, если надо, — против всего состава «независимого расследования», в присутствии любого числа сталинистов, на передаче «Глас народа».
Читатель вправе считать, что я предубежден в подборе фактов. Я действительно предубежден — всем опытом XX века. Но родные Ольги Григорьевны давно за рубежом, и наши страсти не кипят в них. Наоборот, в особенности внук Ольги Григорьевны, Андрей Бройдо, всегда настаивал, чтобы с памятью бабушки не смешивались «политические дрязги». Это выражение, повторенное Джаной Юрьевной, я выслушал по телефону. От такого бесстрастного настроя записи, сделанные и опубликованные родными, только выигрывают в своей достоверности. Книга устанавливает то, что в мусульманском праве называется иснадом. Высказывание Мохаммеда, — не продиктованное Аллахом и не вошедшее в Коран, — считается достоверным, если этот хадис передан людьми, заслуживающими доверия. К примеру, «Мохаммед, да будь благословенно имя его, сказал Абу Бакру…» и т. п. Книга, изданная Джаной Юрьевной и ее детьми, — достоверный хадис. Тем не менее, десятки миллионов людей не примут его. И моя репутация человека, за долгие годы не научившегося лгать, не поможет.
Признать, что Сталин заказал Кирова, а потом убрал киллеров, как при обычных разборках, очень неприятно миллионам людей. А признавать неприятное даже философы не все умеют. Книге не поверят избиратели КПРФ, для которых «Сталин — это победа». Книге не поверят рядовые ветераны. «Про Сталина многое пишут, — сказал недавно, в день Победы, какой-то старик, с которым, может быть, мы когда-то сидели в соседних окопах, — но это наш Главнокомандующий…» Я сожалею, что книга, если она дойдет до таких людей, сделает им больно. У них, возможно, ничего не было в жизни ярче военных лет, а правда, которую раскапывала Шатуновская и которую я отстаиваю, вносит трещину в это самое яркое, самое лучшее. Я ни в какой мере не отрицаю героизма солдат и офицеров, но я убежден, что мы, борясь с одним тираном, возвеличили другого. И в результате победители живут хуже побежденных и немцы имеют больше основания праздновать День Победы (над их армией!), чем мы. Это трудно вместить, проще отбросить некоторые факты.
Ни для кого не секрет, что демократия у нас оказалась без демократов, без минимума честности, необходимого для демократических институтов, и не раз приходилось слышать, что «нам нужен новый Сталин», разумеется, идеализированный и сажающий за решетку воров. То, что сталинский порядок развращал людей в лагерях и подготовил нынешнее царство коррупции, в простые головы не укладывается. Масса рванулась к твердой власти и не хочет знать, каким ужасом оборачивается иногда в России этот самый твердый порядок.
Я не сомневаюсь, что многие государственные люди также считают необходимым поддерживать миф о достойном советском прошлом и строить на этом мифе идеологию единства. Эта идея просвечивает в некоторых речах. Нынешние сотрудники государственной безопасности еще не родились, когда Сталин совершал свои преступления, но им трудно служить в ведомстве, запятнанном сталинским коварством.
«Мы государевы люди, — объяснял один офицер моему другу, лет двадцать тому назад, засекречивая его работу. — Прикажут, и будем защищать свободу научного исследования. Прикажут — еще крепче засекретим». Государевы люди, по старорусской традиции, готовы выполнить и приказ изверга. Сердце царево — в руке Божьей, на этом стоял и, кажется, до сих пор стоит русский государственный порядок (черты которого Г. П. Федотов проницательно заметил в «Сталинократии»[9]). Но есть некоторый предел, за которым повиновение становится бесчестным. И многим государственным людям кажется, что лучше государственный миф, чем историческая правда.
Я придерживаюсь противоположной точки зрения: только глубокое национальное покаяние очистит нравственный климат России и создаст основу для ее возрождения. Для этого надо знать все факты. И книга Шатуновской дает много материала для размышлений.
Вот, например, попытка Ольги Григорьевны объяснить, почему так медленно шло у нее прозрение, почему убийственные аргументы противников Сталина отскакивали от нее в 20-е годы, не затрагивая. И даже страшные потери во время насильственной коллективизации (по оценке, принятой Шатуновской, — до 22 млн. человек) вызывали только сомнения, колебания; и мысли о каком-то перевороте — может быть фашистском — пришли слишком поздно… (с. 211–214). Я читал это и вспомнил ее разговор с Персицем, начальником следственного отдела.
«— Вот, товарищ начальник, до чего эти враги дошли, ей дают подписать отрицательный протокол (т. е. протокол, в котором обвиняемая признается в ничтожном пустяке, а все серьезные обвинения отрицает. — Г. П.), а она не подписывает, куражится.
Вот тогда я его впервые увидела, невысокого роста.
— Сейчас же подписывайте, вы, видимо, не понимаете, где вы находитесь, что и при каких обстоятельствах следует делать. Вам дают отрицательный протокол, вы понимаете, что это такое?
Вот не помню, кажется, после этого он вызвал меня к себе в кабинет.
Я говорю ему: — Что вы творите, что вы делаете? Вы же не врагов сажаете, всех честных партийцев.
Он взял меня вот так пониже локтя за руку:
— Если здесь вот у вас язва, что вы будете делать? Вырежете сперва язву, а потом и то, что вокруг нее — здоровое мясо, так и нам приходится делать.
— Похоже на то, что и руку уже всю отхватили.
— Ну что ж делать, может быть, и руку» (с. 168).
Я думаю, что Персиц в этом почти интимном разговоре говорил то, что думал.
«…Я спросила его, а зачем же тогда эти очные ставки, эти протоколы?
— Так надо, — говорит он.
Потом уже на пересылках я узнала, что он и его брат были арестованы и расстреляны» (с. 170).
Моя покойная знакомая, Надежда Марковна Улановская, бывшая советская разведчица, рассказывала, что следователь этого ранга, кажется, именно Персиц, хвастался, что одну женщину он спас. Во всяком случае Ольгу Григорьевну он не разрешил пытать и не подвел под трибунал, дававший расстрел.[10] Метафора Персица о здоровой ткани раскрыла мне логику мясорубки, действовавшей по законам статистики. «Здоровая ткань», которую приходится выжечь, — это все участники дискуссий 20-х годов, в том числе и защитники «генеральной линии». Они запомнили аргументы противников Сталина. При каком-то повороте эти аргументы могли им пригодиться.
«…Приходит к нам Володя Хуталашвили, — вспоминает Ольга Григорьевна. Двадцатые годы.
— Давайте, товарищи, побеседуем.
Давайте, — мы хотим с ним беседовать. И вот целый вечер мы с ним разговаривали, а он нам объяснял, что из себя представляет Сталин. И говорит:
— Вы не понимаете, почему столько старых большевиков пошли за оппозицией? Это не потому, что нам нравится Троцкий и его платформа, а потому, что мы хотим, чтобы партия не шла за Сталиным, — это подонок, это негодяй. Он обманывает всю партию… Вашими руками он нас закопает в землю…» (с. 213)
Если считать, что безусловная вера в вождя, вера слепая, вера фанатичная, вера без капли сомнения, — необходимое условие победы в XX веке, то потенциальная пятая колонна — и Ольга Григорьевна, и Персиц, и не случайно Персицы тоже уничтожались: они слишком много думали для партии самоновейшего типа и слишком много знали. Тогда становится понятной и логика Молотова, повторявшего, после всех разоблачений XX и XXII съездов, что 1937 год был необходим, ибо он избавил нас от пятой колонны. Как историк я обязан понимать мотивы поступков государственного деятеля, даже такого, как Молотов, охотнее других подписывавшего расстрельные списки. И мотивы Маленкова, лично давшего санкцию на арест Шатуновской… А то, что в 1962 г. он сам оказался на допросе у Шатуновской и вынужден был объяснять ей, почему члены Политбюро не сопротивлялись явно преступным указаниям, — зигзаг истории, не изменивший ее основного течения.
Я сам — живой свидетель Большого Террора и помню его как массовое безумие, вышедшее за все мыслимые рамки. Оно и было безумием, но безумием, направляемым параноидным умом, в котором была своя система. Факты, раскрытые Шатуновской, позволяют понять, чем Сталин руководствовался, в чем он мог убедить своих пособников (Молотова, Кагановича, Маленкова): совещание у Орджоникидзе и голосование на съезде — 292 голоса против Сталина — показали, что партия не простила бессмысленной гибели миллионов крестьян, что возникла скрытая оппозиция и в ожидании схватки с Гитлером следует уничтожить «пятую колонну»; но уничтожить, не называя вещи своими именами, не разрушая сложившихся идеологических стереотипов. Отсюда вопрос Шатуновской: «…зачем же очные ставки?» и ответ Персица: «Так надо». Надо заставить репрессированных признать, что они служили Троцкому или даже прямо Гитлеру. Надо сломить и очернить ту часть народа, в которой осталось слишком много чести и совести и, наконец, — остатки европейских понятий о правах и достоинстве личности. Надо сохранить только тех, кто не вышли из XVI века или готовы вернуться к XVI веку (Г. П. Федотов именно так понимал волю Сталина).
Разумеется, жертвы избирались статистически, по категориям, и я, например, попал в свою категорию только в 1949 году. Но категории продуманно выбирались, было прислушивание к ходу процесса в целом. Примерно зимой 1938-39 года снова появились анекдоты и стало ясно, что страх больше не может расти. И в самом деле, наверху это заметили. «Ежовые рукавицы» исчезли со стен. Появилось (не в печати, но полуофициально) новое слово: «ежовщина». Безумного Ежова заменил «добрый» Берия, и он кого-то, посаженного «напрасно», выпустил (но дело Шатуновской, которое Микоян подсунул на реабилитацию, Берия не пропустил). Во всем этом была логика, которую я долго пытался понять и, кажется, наконец понял: весь народ начинал чувствовать себя пятой колонной, подлежащей уничтожению, барьер, отделявший от жертв, стал распадаться, отчуждение уступало место сочувствию, и это надо было прекратить, восстановить барьер, и невозможно было сделать это, не введя террор в берега и кого-то не освободив. Цель была достигнута. На эту основу опирался чудовищный авторитет Сталина.
Однако почему могучая система, созданная Сталиным, начала разваливаться буквально на другой день после его смерти?
Зачем Хрущеву понадобилось ввести каторжанку в Комиссию партийного контроля? И зачем ему была нужна массовая реабилитация? Юрий Айхенвальд объяснял это усталостью от зла, порывом добра.[11] Но у всех деспотов были порывы добра. Это не вело к изменению системы. И многие в ЦК не хотели крутых поворотов. Почему Молотов оказался в меньшинстве? Что в сталинской системе стало невыносимым для его коллег?
Много лет спустя моим соседом по столику в Коктебеле оказался физик, придумавший аппарат для разведки урановой руды с воздуха. Через четыре месяца самолеты с его аппаратом уже летали. Случай сделал моего соседа свидетелем, как достигалась эффективность системы. Его ввели в кабинет Берии (курировавшего работы) на минуту или на две раньше времени, и он увидел, как Лаврентий Павлович срывал погоны с генерал-полковника и бил его погонами по лицу. От этого не был защищен никто. Ванников, снятый с должности наркома оборонной промышленности и брошенный в застенок, был прямо из застенка, в брюках, удержавшихся на одной пуговице (остальные срезались), в кровоподтеках, привезен в кабинет к Сталину. «Видишь, как меня отделали твои опричники?» — сказал Ванников (они были с Кобой на ты). «Я тоже побывал в тюрьме», — ответил Сталин. «Ты был при царе, а я при тебе!» — воскликнул Ванников. Сталин довольно усмехнулся. Потом он взял лист бумаги, нарисовал два глаза, перечеркнул один и сказал: «Кто старое помянет, тому глаз вон». Перечеркнул второй — и прибавил: «А кто старое забудет, тому оба. Иди, тебя подлечат!». Ванников рассказывал это своим друзьям по бакинскому подполью 1919 года. Одним из них был мой тесть.
Я думаю, что никакой вины за Ванниковым не было, но он мог кое-что знать, хотя бы, например, об уверенности Шаумяна, что Сталин был связан с охранкой. Это было угрозой для новой биографии, биографии полубога. Я думаю, по аналогичным соображениям Молотов не согласился с предложением Ежова отправить жен арестованных наркомов в лагерь на 8 лет и написал: «первая категория» (т. е. расстрел). Наркомовские жены лучше наркомов знали кремлевские сплетни. Расстрелять их — и прошлое можно переписывать заново.
Однако приближалась война. Тридцатидвухлетний Устинов не справлялся с громадой оборонки. И Сталин передумал. Оборонку поделили: Устинов остался на вооружениях, Ванникову дали боеприпасы. Но предупредили (зачеркиванием второго глаза): будешь болтать — и оба глаза вон!
Время от времени Сталин испытывал даже своих ближайших сотрудников, готовы ли они на все ради фюрера. У Кагановича он уничтожил двух братьев. У Молотова посадил жену. Не берусь судить, что здесь от политики «доверяй и проверяй» (был такой лозунг), а что — каприз параноика, но так или иначе, никто не был застрахован, никто не мог спать спокойно. Система держалась на постоянном стрессе. И люди устали. Устали ближайшие сподвижники. Если бы они знали историю Китая, то вспомнили бы письмо Сыма Цяня, кастрированного по повелению императора. Сыма Цянь сокрушался, что даже министры не избавлены от подобных наказаний. Хрущев назвал вопль Сыма Цяня возвращением к ленинским нормам.
Однако ленинской нормой был Красный террор. И началась эпоха общественного сознания в путаных постановлениях, которые все забыли, и в запомнившихся анекдотах. «Иосиф Виссарионович, могли бы вы расстрелять сто тысяч?» — спрашивал Ильич. — «Конечно!» — «А — мильон?» — «Да хоть бы и миллион» — «А — десять миллионов?» — «И десять, если нужно!» — «Врете, батенька! Вот тут-то мы вас и поправим».
Путаные постановления скрывали, что цекистам нужна была гарантия для себя. При сохранении диктатуры для прочих. Именно в этом была для них сладость ленинских норм (когда террор проводился партией, а не против самой партии). Эту заднюю мысль выразил другой анекдот: «В каких трех случаях можно сесть голым задом на ежа? Во-первых, если зад чужой; во-вторых, если еж побрит; в-третьих, если партия велела».
Принцип «если партия велела» оставался выше закона. Еж не был побрит (в случае политической оппозиции законность становилась фикцией). Но зад непременно должен был быть чужим. Номенклатура освобождалась от репрессий. Прецедент был показан после провала «антипартийной группировки»: Маленков, Каганович и Молотов потеряли свои посты, но не головы. Впоследствии вся номенклатура была освобождена от судебной ответственности даже за преступления, которые карались у буржуев. Одного коррупционера, фамилию которого я забыл, перевели с Донецкого обкома на райком, а с райкома-вдиректора Дома творчества писателей. Там я имел честь его видеть. В Закавказье и Средней Азии процесс завершился прочной амальгамой коррупции и теневой экономики. Попытки Шеварнадзе и Алиева бороться с ней, опираясь на КГБ, привели к повышению размеров взяток вдвое, учитывая плату за страх. Шатуновская, сохранившая связи с Баку, рассказывала мне подробности.[12]
Изменение системы коротко описал очередной анекдот: «Ленин показал, что страной может управлять одна партия; Сталин — что может один человек; Хрущев — что может всякий дурак; Брежнев — что страной можно вовсе не управлять; Андропов — что можно попытаться управлять, но недолго».
Когда страна еще способна была на поворот, вроде китайского, — не нашлось политика, способного повернуть, не нашлось кадров, на которые он мог опереться.
Сталин перебил всех, кто мог свернуть со сталинского курса. И когда был, наконец, брошен лозунг «ускорения и перестройки» — анекдот точно оценил ее перспективы:
«Что такое понос? Ускоренное и перестроившееся дерьмо». Горбачевские следователи, вызвавшие на бой «рашидовщину»,[13] не справились с ней. Рашидовщина победила. Демократия обернулась клептократией. И сейчас миллионы людей мечтают о новом Сталине. То есть о повторении порочного круга: деспотизм — застой — развал — смута — деспотизм… и т. д. и т. п. Пока Россия не будет стерта с политической карты мира.
Почему в этом процессе на короткое время выдвинулся Хрущев? Потому что он, по природному легкомыслию, не был парализован страхом и сохранил способность к инициативе (не всегда разумной). Почему он провалился? Потому что номенклатура терпела его легкомысленные скачки до тех пор, пока это было ей выгодно, а потом перестала терпеть. Многое, что делал Хрущев, было глупо. Например, он просто перенес сталинскую дату полного построения коммунизма с 1965-го на 1985-й год и серьезно думал к этому времени что-то построить. Любопытно, что все запомнили нелепую дату Хрущева и забыли исходную дату Сталина. А между тем, я помню, как она меня поразила. Приехав в отпуск, зимой 1945-46 г., я спросил своего школьного друга, Вовку Орлова: с кем Сталин собирается строить коммунизм? С теми, кто по десять человек лезли на одну немку и потом втыкали во влагалище бутылку горлышком вверх? Вовка (только начинавший делать карьеру и сохранивший цинизм юности) прищурил бровь и сказал: «К тому времени он помрет, а как будут расхлебывать другие — ему плевать…». Расхлебал Хрущев, и все над ним смеялись: «можно ли построить коммунизм в Грузии? Нельзя, потому что коммунизм не за горами».
При Брежневе придуман был другой термин: «реальный социализм». Молва тут же определила границы: коммунизма — по кремлевской стене, а реального социализма — по московской окружной дороге.
Хрущев делал много глупостей. Самой гибельной для его власти была ссора с Жуковым, а для экономики — сокращение приусадебных участков. Любовь крестьянина к земле, тяжко раненная коллективизацией, была добита. В сумбурном сознании недоучки, где обрывки политграмоты смешивались с привычками кремлевской грызни под ковром (ничего не видно, и время от времени выбрасывают дохлую собаку — сказал об этом Черчилль), сложилась, видимо, мысль, что секвестр несчастных крестьянских соток будет шагом от индивидуального труда к коллективному, к коммунизму. Но надо отдать должное — от сталинской теории движения к коммунизму через усиление классовой борьбы, от повторяющихся волн массового террора Хрущев отказался решительно и наотрез. Он лгал, говоря, что у нас нет политических арестов; однако массового террора действительно больше не было. И за это он заслужил свой памятник на Новодевичьем, поставленный Эрнстом Неизвестным, простившим ему ругань на выставке. Хотя крестьянство своих соток не простило, и по-своему оно тоже право.
Для полной ликвидации сталинских «перегибов» нужны были новые люди. Старые кадры сопротивлялись. Они смутно чувствовали, что система, замешенная на всеобщем страхе, развалится без этого компонента. И вот в Комиссию партийного контроля (КПК) были назначены две каторжанки, Пикина и Шатуновская. А дальше уже сама Шатуновская боролась, чтобы во все комиссии, разъехавшиеся по лагерям, были введены бывшие заключенные. Там, где это не удалось, дело шло медленнее. И все-таки оно шло, Комиссии на местах снижали сроки до 5 лет (и таким образом подводили под амнистию 28.03.53 г.), освобождали по отбытии двух третей срока и т. п.
Пикина держалась осторожно, учитывая свое двусмысленное положение в сталинистском КПК. А Шатуновская, используя прямой провод к Хрущеву, «плохо на него влияла», как выразился один из помощников Хрущева, до того плохо, что ее перестали соединять с ним. Но Ольга Григорьевна звонила его жене, Нине Петровне, и просила, чтобы Хрущев сам к ней позвонил, или звонила к своему старому другу Микояну. Так ей удалось добиться указа о роспуске всей бессрочной ссылки без индивидуального разбора дел. Пегов, родственник Суслова, руководивший Президиумом ЦИК, положил распоряжение ЦК под сукно и указа не издавал. Шатуновская довела дело до того, что Пегова сняли (хотя за ним стоял не только Суслов, но и Председатель правительства Маленков), а бессрочная ссылка разъехалась по домам. Этот инцидент возмутил не одного Маленкова. Старики были недовольны многим — особенно докладом на XX съезде, — и Политбюро попыталось сбросить Хрущева. Но Хрущев нашел опору в Жукове, Фурцева обзвонила пленум ЦК, и большинство Политбюро превратилось в антипартийную группировку. После этого полным ходом стала работать комиссия Шверника. Суслов, сумевший сманеврировать при падении группировки и примкнуть к победителю, семь или восемь раз ставил на секретариате вопрос об увольнении Шатуновской. Он понимал, что без Шатуновской комиссия станет ничем. Но Хрущев это тоже понимал: полное разоблачение Сталина открывало для него огромные политические перспективы (хотя вряд ли бы он сумел толково ими воспользоваться…).
Вот отрывок из рассказа Шатуновской в семейном кругу: «От пола до потолка гигантские сейфы. И их десятки, наполненные документами. Разве мы могли бы, даже если бы годами там рылись, найти. Но позвала заведующего этим архивом, сейчас я его фамилию не помню. Меня предупредили, что это человек Маленкова. Тем не менее, я с ним стала говорить, ну как с порядочным человеком. Убеждать его, что вот видите, мы в силу решения XX съезда должны исследовать этот вопрос. Что у вас есть? Дайте нам! Потому что вот мы пришли в ваш архив, но ведь он колоссальный. А вы знакомы с содержанием этого архива. Дайте нам то, что может послужить ключом!» («Рассказывает Ольга Шатуновская», с. 307).
Я один раз поймал на лету взгляд Ольги Григорьевны, в который она вложила всю себя. Это было при встрече со старыми товарищами по подполью. Но взгляд этот помог мне понять, почему начальник следственного отдела не разрешил ее пытать и почему заведующий архивом, человек Маленкова, на другой день принес ключ к Большому Террору. Это были списки двух террористических центров, ленинградского и московского, составленные рукой Сталина. Фамилии Зиновьева и Каменева были сперва в ленинградском списке (значит, хотел их сразу расстрелять), но потом зачеркнуты и перенесены в московский список (значит, наметил особый московский процесс). Графологическая экспертиза подтвердила: почерк Сталина.
Другим ключом было отсутствие 289 избирательных бюллетеней в архивах XVII съезда. Об этом я уже писал.
Киров и Орджоникидзе считались лучшими друзьями Сталина. Этот идеологический макет не хотелось разрушать, вдову Орджоникидзе и родных Кирова не трогали. Шатуновская их опросила, и они обо всем рассказали. Ольга Григорьевна упоминает их письменные показания в списке важнейших документов. Другие свидетели тоже нашлись. Или, по крайней мере, друзья уничтоженных свидетелей.
Так, расстреляны были офицеры, наблюдавшие, как Сталин рылся в картотеке секретно-политического отдела и выбирал фамилии для террористических центров, но сержанты уцелели и дали письменные показания.
Сталин, во-видимому, сумел убедить своих приспешников, что тайная оппозиция, на словах курившая ему фимиам, опаснее явной, что этой болезнью заражены почти все старые большевики, не способные принять превращение Сталина в божьего помазанника, стоящего выше человеческий критики, в подобие не то Адольфа Гитлера, не то Ивана Грозного. Без культа вождя-полубога, считал он, нельзя победить Гитлера. И потому социальный слой, зараженный критицизмом, должен был уничтожен в целом, ликвидирован как класс. Но надо это сделать, соблюдая идеологические штампы, так, будто продолжается борьба с троцкизмом, заставляя арестованных признаваться, что они троцкисты и даже прямые агенты гитлеровской разведки.
«Так надо», чтобы народ поддержал, принял террор и даже потомки приняли подлог за правду. Образ Сталина не должен быть помрачен. Мы не должны были увидеть в нем провокатора, заказавшего Кирова, чтобы потом — убрав всех киллеров, — убить еще миллионы людей.
Идеологи партии, прочитав резюме, составленное Шатуновской, были в шоке. И я уже писал, что к Хрущеву явились вдвоем Суслов и Козлов и убеждали его не наносить смертельного удара международному рабочему движению. Хрущев понял, что за ними стоит сплоченное большинство ЦК. С Жуковым он уже поссорился, и пришлось отступить, отложить публикацию на 15 лет.
Был ли у Хрущева другой выход? Если бы рядом стоял Жуков с преданными ему офицерами, как в споре с Маленковым и прочими… Но история не знает сослагательного наклонения. Суслов не стал ждать пятнадцати лет. Он искусно плел интригу, использовал самодурство Хрущева, чтобы перессорить его с кем только можно, и через два года свалил. Еще за спиной Хрущева — как только ушла Шатуновская — показания свидетелей стали подменять. А после октября 1964 года ничего в архиве не осталось, кроме упомянутой записки в Политбюро — да еще предсмертного покаянного письма врача, давшего в 1934 г. ложное заключение, от какой причины погиб Борисов, преданный Кирову телохранитель.
Не удалось Шатуновской добиться и реабилитации Бухарина. Несколько месяцев по Москве носились слухи, что Бухарин вот-вот будет реабилитирован. Но за юридической реабилитацией могла последовать реабилитация идей, — а поздний Бухарин был сторонником НЭПа надолго и всерьез, сторонником врастания кулака в социализм, противником сплошной коллективизации. На труды Бухарина опирался Дэн Сяопин. Но реформы Дэна потребовали от номенклатуры отказа от некоторых своих привилегий. Наша номенклатура была для этого слишком коррумпирована. Она предпочла брежневский кайф. Факты мешали кайфу, и факты были упразднены.
Сейчас снова есть сильная тенденция упразднить ненужные факты, создать фантом славного прошлого. Однако факты упрямее, чем лорд-мэр, говорит английская поговорка. Рано или поздно факты выплывут, и нашим внукам будет стыдно за своих дедушек и бабушек, не способных глядеть в глаза реальности.
В рассказах Шатуновской есть только один факт, который может стать предметом честной научной дискуссии: общая цифра потерь от Большого Террора, 19 840 000 репрессированных и 7 000 000 расстрелянных. Я не сомневаюсь в том, что Председатель КГБ Шелепин передал Шатуновской перечень потерь, с раскладкой по областям и годам, общим итогом которого была эта запомнившаяся цифра. Но репрессии проводились по разверстке, по плану (так же как раньше раскулачивание), а все планы только на бумаге выполнялись у нас на 100 %. До меня дошел рассказ о чекистском начальнике, попавшем в тюрьму. Своим соседям по камере он говорил, что масштабы планового задания привели его в ужас, и он решил выполнить его за счет людей, изъятие которых не разрушало бы хода дел. В области было много евреев, переписывавшихся с родственниками за границей. Неопытные люди, они легко ломались, подписывали смертельные для себя признания, и их расстреливали. Но комиссия из более компетентных верхов нашла такой выход из положения вредительским. Этот рассказ кажется мне достоверным. А вот другой рассказ, который выслушал я сам, сидя в Пугачевской башне вместе с одним из бывших контролеров Министерства госконтроля, Фальковичем: когда-то, в деникинском подполье, он входил в группу анархистов и скрыл это от партии. Фалькович участвовал в послевоенной ревизии ГУЛАГа, установившей, что в списках заключенных числились миллионы мертвых душ, на которые выписывались пайки. Когда нужно, миллионы мертвых могли считаться живыми; а когда нужно, то миллион или два живых можно было засчитать мертвыми. (Какая разница? Все равно помрут в лагерях.)[14]
Цифра, запомнившаяся Шатуновской, может рассматриваться как верхний предел выполнения плана Большого Террора. Но невероятным этот предел не был. Во всяком случае, цифра репрессированных 2 000 000, которую Суслов счел приличной и которую он имел наглость приписать Шатуновской (любопытно было бы представить этот артефакт на графологическую экспертизу), — просто высосана из пальца. К двум миллионам Большой Террор никак нельзя свести.
Однако ни справка, полученная комиссией Шверника, ни расчеты демографов не убедят десятки миллионов людей, доведенных до отчаяния диким рынком и грезящих о новом Сталине, суровом, но справедливом, который наведет в стране строгий, но справедливый порядок. Невозможно переубедить людей, жизненной необходимостью которых стали фантомы. Можно только попытаться учить тех, кто готов учиться, готов удержать в голове, что Сталин — убийца десятков миллионов людей и Сталин — создатель системы, выдержавшей войну с гитлеровской Германией; Сталин — разрушитель армии (число арестов здесь точно подсчитано) и Сталин — организатор новых вооруженных сил; Сталин, совершавший чудовищные ошибки (например, в июне 1941 г.) и Сталин, умевший учиться на своих ошибках; Сталин — создатель стиля работы, дававшего поразительно эффективные результаты, но не дававшего возможности жить; приучившего колхозников к воровству как альтернативе голодной, смерти, а лагерников — к поговорке «умри сегодня, я умру завтра». Стиля, создавшего великие стройки — и подрывавшего самые основы жизни (не даром я его сравнивал с Цинь Шихуанди, строителем Великой китайской стены, после которого династия его сразу рухнула).
Удержать это в голове способен человек, живущий глубже уровня простых реакций (против коммунистов в 1991 г., за коммунистов в 1993 г. и т. п.); человек, способный вынести трудную правду, жить в мире противоречий, не надеясь, что кто-то другой все решит за него. Но глубоко жить трудно. Вл. Антоний Сурожский как-то заметил, что это главный наш грех: потеря контакта с собственной глубиной. И для того, чтобы освободиться от этого греха, недостаточно усилий учителя истории и даже школы, всей системы наук и искусств. Тут нужно еще понимание поверхностности жизни как греха и покаяния в этом грехе, то есть действительного выхода на более глубокий уровень жизни. И первый шаг в нужном направлении — это отказ от ложного, еще не зная истинного, встреча с бездной открытого вопроса…
Слепая преданность вождю может спасти при временных поражениях; но она не спасла Гитлера, когда дьявол отвернулся от него. И она не спасла дела Сталина — правда, распад произошел уже после его смерти. Золото черта становится гнилыми листьями, когда поднимается солнце. Или, если вам больше нравится Булгаков, — платья, розданные дамам, исчезают, и обманутые с визгом чувствуют себя в одном белье посреди толпы. А потому можно повторить слова Талейрана: Большой Террор был больше, чем преступлением; он был непоправимой ошибкой. И читая Шатуновскую, мы можем вдуматься в истоки и следствия этой ошибки, войти в живую ткань нашей страшной истории и увидеть коллективизацию и Большой Террор сразу с нескольких точек зрения, понять мотивы всех участников исторической трагедии и подойти к проблемам современности, не закрывая глаза на прошлое, каким оно было. Проходит век, и преступления становятся частью истории. Но не будем строить единства России на лжи. Попробуем построить его на воле к внутренней правде. Бог не прощает наших грехов. Но если душа народа ему открыта, если Он входит в эту душу, свет выдавливает из души тьму, не оставляет места тьме.
II. Легенда Красного Баку
Первый подвиг Оли Шатуновской
Об этом Ольга Григорьевна рассказывала дважды. Один раз покороче, другой — подлиннее.
«Когда нас принимали в гимназию, мне было двенадцать лет. Я сдала на круглую пятерку, Маруся — на тройку. Но ее готовила племянница священника, который преподавал в гимназии Закон Божий. Была одна вакансия, и взяли Марусю, за нее ходатайствовал священник. Потом, во второй четверти, освободилась еще одна вакансия, ученица четырнадцати лет оказалась беременна, сошлась с кем-то…
Зимой 1915-го года у Маруси обнаружили чахотку, она грозила перейти в скоротечную. В Баку многие болели чахоткой, я сама болела два раза. С нашего двора всех детей повыносили.
Я стала давать уроки сестрам Бабаевым, Анюте и Шуре. Их родители, армяне, были очень богатые люди. У них был дом, выходивший на четыре улицы, занимал целый квартал. Как этот дом (огромное здание на Кутузовском. — Г. П.). Платили тридцать рублей в месяц. Анюта училась в четвертом классе, Шура в шестом, со мной. Я была худенькая, как травинка, они раскормленные, с большими бюстами, и очень тупые.
Каждый день я заходила из гимназии домой и сразу шла к ним. С трех до девяти длились уроки, перед контрольными до десяти. Вызубривала им всё. Мои мальчики, Андрюша Ефимов, Миша Лифшиц, ждали всегда с девяти вечера напротив, у армянской церкви, там была скамейка.
За тридцать рублей я снимала Марусе комнату с полным пансионом… Ее там кормили наотвал — яйца, мясные супы. И она стала поправляться. Ведь семья ее жила в подвале, мать работала прачкой и брала работу на дом. Можете себе представить, что там было. На лето Маруся поехала в Екатеринодар к тетке и там окончательно поправилась.
Мама меня спрашивала: „Зачем ты ей помогаешь? Она тебя не отблагодарит“.
Я отвечала: „Мама! Я не за благодарность это делаю, я не хочу видеть ее в гробу. Ведь с нашего двора всех детей повыносили“» (с. 58–59).
Прибавим теперь несколько строк из более подробного рассказа:
«Они жили в подвале, где всегда сохло белье. Врачи сказали, что она умрет, если останется там. Я пришла к родителям просить, чтобы Маруся жила с нами, мама отказала. Тогда я нашла себе урок…
Шура была такая тупая, как я ее ни учила, все равно получала двойки. Ее мать была недовольна и говорила:
— Олечка, мы вам тридцать рублей не за то платим, чтобы Шурочка двойки получала. Нам знания не нужны, нам аттестат нужен, чтобы Шурочке можно было солидного жениха найти.
Ну что делать, я и так сижу с ними допоздна: пока всё на завтра не пройдем, не могу уйти. Меня вызывают, почему вы пишете за нее сочинения? И мать ее вызывают.
Она входит в нашу комнату, руки в боки.
А я приходила домой только пообедать и с трех до девяти у них была. Я уже с Мишей Орлицким и с Суреном дружила, они придут за мной и ждут, когда я уроки кончу, — слышу, свистят. Мать ее говорит — что это? Слышит свист, но не догадывается, что это меня свистят.
И мой отец очень недоволен был — что тебя, как собаку, высвистывают?
Сочинения я стала диктовать ей в тетрадки на разные темы. Но она была так тупа, что даже названия не могла вписать правильно. Например, тема — русская женщина, а она вписывает ее в тетрадь, где все про Евгения Онегина» (с. 26–27).
30 рублей в месяц трудно давались Оле. Но девочка четырнадцати лет с железным упорством продолжала работу и добилась своего. Маруся осталась жить. Теперь продолжу короткий рассказ — он годится как эпиграф ко всей жизни Ольги Григорьевны:
«Потом уже я работала в Сиббюро ЦК в Новосибирске, он тогда назывался Новониколаевск. Однажды иду на работу и вижу, Маруся с мужем и грудным ребенком сидят в коридоре. В руках держат бумажки — просить пособие как члены партии. Ее муж окончил Сельскохозяйственную академию в Москве, распределили в Барнаул, и они просят пособие на первое время.
Я говорю: — Маруся, не надо, пойдем со мной.
Я жила недалеко, один квартал. Отдала ей все простыни на пеленки, свой полушубок. Так второй раз я ей отдала все, что у меня было.
В сорок шестом году я оказалась в Москве, еще враг народа. Все мои друзья пришли. Маруся не пришла, сказала:
— У меня брат в Наркоминделе, я не могу рисковать.
Потом, когда меня восстановили и я начала заниматься реабилитацией, она передала через других, что хочет прийти. Я ответила, что нет, теперь уже поздно. Друзья познаются в беде» (с. 58–59).
Роковой шаг
В 1916 г. Оля вступила в РСДРП(б) — партию социал-демократов- большевиков.[15] Ее родители, узнав, были бы в ужасе. Но они были в ужасе и от готовности Оли принять в свой дом чахоточную. А то, что Маруся умрет (и другие Маруси тоже), не вызывало у них ужаса.
Есть какой-то возраст, когда жажда справедливости овладевает юношей или девушкой до пены на губах. Это наблюдение друга нашего дома, замечательной учительницы Веры Измаиловны Шварцман. Выражение «пена на губах» принадлежит ей, а не мне. Я только пустил его в ход, и оно теперь приписывается то мне, то Достоевскому (потому что впервые я употребил его в эссе о Достоевском). Нет, это выражение школьной учительницы, итог ее многолетних наблюдений над учениками девятого, иногда и десятого класса. Я вспоминаю, что в девятом классе с увлечением читал роман «Что делать?», а покаяние Раскольникова считал слабостью.
Прошли через это и веховцы. Почти все они были революционными марксистами и даже подвергались за это преследованиям. К счастью, у них было время почитать и продумать не только Маркса, и революцию 1905 г. они встретили зрелыми мыслителями. Да и сама революция 1905–1907 гг. была чем-то вроде прививки от революции. Не случись мировая война, этой прививки, пожалуй, хватило бы для России…
Поколению Оли Шатуновской не повезло. Революция подхватила их даже не студентами, а гимназистами, почти что в возрасте Коли Красоткина, бессмертного мальчика из романа «Братья Карамазовы». В сороковые годы такие мальчики создавали антисоветские революционные организации. Со мной в камере сидел Володя Гершуни, племянник (или внучатый племянник) исторического Гершуни, эсеровского террориста. Не знаю, кто сочинил в поздние сталинские год песню, на мотив уголовной (про центральную тюрьму):
Сижу я в камере, все в той же камере, Где, может быть, еще сидел мой дед, И жду этапа я, этапа дальнего, Как ждал отец мой здесь в шестнадцать лет…А. А. Носов, редактор отдела публицистики «Нового мира», просматривая уже принятую главным редактором статью о Шатуновской, был явно ею недоволен, бранил большевиков и спрашивал меня, почему эти мальчики и девочки не отнесли свое возмущение в какую-нибудь приличную партию, вроде конституционно-демократической? Я ответил, что в 1917–1918 гг. масса народа голосовала за ультрареволюционные партии и даже социалисты помягче (социал-демократы — меньшевики, народные социалисты и т. п.) на выборах в Учредительное собрание провалились. Страна устала от кровавой, бессмысленной бойни, казалось, не имевшей конца, страна хотела революционных перемен. Миллионы людей подхватывали лозунг «война войне!», «Мир без аннексий и контрибуций!». Миллионы людей вдруг поверили в социализм, который сразу покончит со всем злом.
Слово «социализм» сейчас выцвело. Для многих оно даже стало бранным (по крайней мере, до тех пор, пока не сформировался дикий рынок, отбросивший массу в обратную сторону). На Западе это программа социальной защиты, разумная, пока не вредит производству, а потом откладываемая в сторону — что-то обыденное для цивилизованной страны и так же мало волнующее, как контейнеры для сборки мусора. Но в революционной России это был миф, обращенный к сердцу и прикрытый видимостью научной аргументации, усыплявший разум.
Валентинов, во «Встречах с Лениным», вспоминает реплику рабочего, участника одного из социал-демократических кружков: «Как послушаешь вас, барышня, так при социализме и кошки не будут давить мышей!». При социализме, говорили взрослые, ответственные люди, «каждый средний человек достигнет по крайней мере уровня Гёте и Аристотеля». Это слова Троцкого. А Ленин писал, что при социализме из золота будут делать общественные уборные. Социализм был религией земного рая, построенного без Бога. И вера в этот рай имела своих мучеников — и своих мошенников, эксплуатировавших чужую веру… Или своего Великого инквизитора, утратившего веру (не знаю, с кем лучше сравнить И. В. Сталина).
Без понимания силы и глубины социалистической веры нельзя понять ни победы большевиков в Гражданской войне, ни победы Сталина над большевиками, искренне захваченными своими иллюзиями. Простые парни, принятые в партию по «ленинскому набору» (после смерти Ленина), легко принимали лозунг построения социализма в одной стране. Социализм сводился к формуле: от каждого по способностям, каждому по труду. Миф переносился в отдаленное будущее, в коммунизм, практически оставался принцип честного расчета с рабочим за его труд. Такой социализм отличался от цивилизованного капитализма только одним: единственным хозяином оставалось государство, предположительно — рабочее государство, неспособное эксплуатировать рабочих. Петр Григорьевич Григоренко признавался (в своей книге «В подполье можно встретить только крыс…». Нью-Йорк, 1981), что в юности это его убеждало.
Дореволюционное поколение революционеров не могло так думать. Для него социализм означал совершенно новые отношения между людьми, совершенно новых людей. И было очевидно, что отдельная страна, окруженная врагами и вынужденная проводить «сверхиндустриализацию за счет крестьянства» (так это откровенно сформулировал Троцкий), не может воспитывать Аристотелей, ей не до жиру, быть бы живу. Этой стране необходимы и эксплуатация рабочего (чтобы накопить средства для капиталовложений), и армия (содержание которой тоже недешево обходится), и тюрьмы для недовольных и т. п.
Я думаю, что Бухарин принимал сталинский лозунг только по тактическим соображениям, как громоотвод против авантюристических планов мировой революции, а практически стоял за «НЭП надолго и всерьез» и «врастание кулака в социализм», то есть развитие рыночной экономики, как сейчас говорят, при сохранении «командных высот» у государства; вариант, который испытывается в Китае. Но в Китае никогда не было идеала свободной личности, от Ренессанса до Маркса, а в России это было, в верхнем, образованном слое, у интеллигенции. Там идея «бесконечного развития богатства человеческой природы как самоцели» (Маркс) падала на хорошо подготовленную почву.
Даже после горького опыта 1905–1907 гг. критика веховцев вызывала страстный отпор. И большевистской интеллигенции было ясно, что никакого бесконечного развития богатства человеческой природы в изолированной стране не выйдет. Напротив, жизнь будет труднее, чем при капитализме, и чем больше старание «догнать и перегнать» за несколько лет капиталистическую современность, тем тяжелее. Другое дело, если социалистическими станут Германия, Франция; а без этого — никаких пирогов и пышек. Это сознание выразил анекдот начала двадцатых годов, который мне рассказывал мой тесть, в 1923 г. секретарь комсомольского комитета МВТУ и оппонент Маленкова (секретаря партийного комитета МВТУ):
Гилеля, мудреца Талмуда, отличавшегося мягкостью и все разрешавшего, спросили: «Можно ли построить социализм в одной стране?» Он ответил: «Можно». Однако Раше (средневековый комментатор, живший на тысячу лет позже) добавил: «Но жить в этой стране нельзя будет».
Моя мама никогда не имела никакого теоретически продуманного мировоззрения. Но выйдя замуж за одного из лидеров виленского Бунда (еврейской социал-демократии), она перевидала в своем доме многих социалистов и примерно угадывала, что они чувствовали за словом «социализм». И в 1936 г., когда было объявлено, что социализм построен, она спросила меня: «Неужели это социализм? Ради этого люди шли на каторгу, на виселицу?». Я ответил с гордостью студента второго курса: «Конечно. Ведь у нас общественная собственность на средства производства». И тотчас почувствовал, что лгу. Что люди шли на каторгу и на виселицу не ради того, чтобы собственником стало государство.
Почему Оля Шатуновская, при всем своем уме, не почувствовала этого? В беседе со Старковым она четко объясняет: «В конце двадцатых — начале тридцатых годов я считала, что все, что делается, — правильно. Вообще сначала у меня всегда было: все, что Ленин говорит, все правильно. Даже мысли не может быть, чтобы не согласиться с Лениным. Как бы мне ни казалось, что нет, не так, я должна это отбросить. Раз Ленин говорит так, значит, только так. А потом это как-то перешло и на Сталина. Сталин говорит…
Но нужно вам сказать, что он применял очень коварные методы. Например, до этой насильственной коллективизации было принято постановление ЦК о том, что нужна демократия, нужна самокритика…» (и т. п.; с. 212). Приемы Сталина, благодаря которым он всегда выглядел наследником Ленина, лидером ленинского большинства, подробно исследованы Авторхановым в его «Технологии власти». Но ловушкой, которую Ольга Григорьевна не заметила, был характер самой ленинской партии. Это была партия вождя, Ленина. Про меньшевиков никогда не говорили: «плехановцы», «мартовцы» и т. п. А большевики были ленинцы. И жесткая партийная дисциплина, установленная после II съезда РСДРП, была дисциплиной подчинения вождю. Это не было четко сформулировано, выражено в слове, но таков был дух. И девушка 17 лет, ставшая секретарем Шаумяна, одного из ведущих ленинцев, впитала это в себя бессознательно. Ей было странно, что боролись за голоса при выборах в Учредительное собрание, а потом Учредительное собрание разогнали. Но Ленин сказал, что это правильно, — значит правильно.
Именно это — вождизм — уловил Муссолини как новый принцип партии масс, именно это он откровенно, последовательно оформил, отбросив социал-демократические формальности, которые Ленин сохранял, хотя в критические моменты нарушал (например, в спорах о Брестском мире). А иногда зря сохранял. «Ленин очень любил Рудзутака, и когда он диктовал свое завещание, он написал, что Сталина надо заменить человеком более лояльным.
Крупская спросила:
— Кого ты имеешь в виду?
Он ответил:
— Я имею в виду Рудзутака.
— Почему же ты не напишешь это прямо?
— Не могу же я сам указать наследника» (с. 47).
Муссолини называл себя учеником Ленина и был совершенно прав. А Гитлер был учеником Муссолини. Если брать слово «фашизм» в широком смысле — как движение масс, основанное на вере в вождя, то большевизм — исторически первая фашистская (или, скажем, тяготеющая к фашизму) партия. В этом смысле фашизм возможен без расизма (итальянские фашисты не были расистами) и даже без национализма, по крайней мере на первом этапе, до захвата власти. После захвата власти интернационализм большевиков сохраняется только как идеология, постепенно уступая место советскому (или кубинскому, югославскому, китайскому) патриотизму. Примерно так же Вселенская церковь становилась национальной (русское православие, польский католицизм). Оберштурмбанфюрер Лисс убедительно объясняет логику этого развития старому большевику Мостовскому (в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба»).
Замечательно, что массовые коммунистические партии сложились только в странах, история которых колеблется между демократией и диктатурой. У англосаксов оказался прочный иммунитет ко всем видам фашизма, хотя расизм там был и теоретически обоснован Чемберленом до Гитлера. Более того: расизм прекрасно уживается с демократией, начиная с борцов за сохранение рабства в южных штатах Америки и до апартеида в ЮАР. С другой стороны, демократическая фразеология и процедуры, ставшие холодным ритуалом в коммунистических партиях, при благоприятных условиях могут зажигать сердца и вызвать вспышки борьбы за подлинную свободу. Такой вспышкой была «чешская весна». В молодости Ольги Шатуновской это случалось дважды, и каждый раз ее фактически высылали из Баку (где у нее был огромный личный авторитет) куда-нибудь вглубь России, перевоспитывая в рядового функционера.
Но до этого в 1918 году еще было далеко. И прежде чем стать жертвой советской власти, надо было эту власть утвердить. И юноши и девушки, подобные Оле и ее другу Сурену, ежедневно рисковали головой, чтобы в конце концов попасть на советскую каторгу или быть расстрелянными в советской тюрьме.
Гимназисты на эшафоте
О том, как она без туфель убежала в революцию, Ольга Григорьевна рассказывала с улыбкой:
«В Баку еще не было советской власти, но мы с Марусей Крамаренко были в дружине. Нам сказали, что если будут выстрелы, значит, началось, выходите. Мы пришли к нам домой ночевать и вдруг слышим, началась стрельба. Мы хотели идти, а отец — он был против того, что мы с большевиками связались. Бандиты какие-то — никуда! Запер нас на замок, два амбарных замка повесил.
Я думаю, как же так, нам же доверили, на нас надеются, а мы тут сидим. Я представлялась себе великой деятельницей, а ума было не больше, чем сейчас у Антоши[16] — шестнадцать лет!
И вот я все думаю и думаю — как быть, как выйти? — и к утру придумала, что можно выйти по другой лестнице, надо только вылезти на карниз с галереи. А чтобы пройти по карнизу, надо, чтобы было за что держаться, выставить стекла, так и сделала.
Пошла на галерею, подушкой выставила три-четыре стекла, так что они не звякнули, вылезла и по узкому карнизу пробралась на лестницу. Маруся за мной.
Мы — к воротам, а ключ от ворот у меня был. На улице пальба, а у ворот с этой стороны стоит хозяин и смотрит в щелку на улицу, что там происходит. Мы, раз, к воротам! Я ключом отперла замок, он не успел нас остановить. Опомнился, кричит: — Стойте, куда вы в одних чулках? А мы бегом…» (с. 30–31).
Ничего Оля и Маруся в эту ночь не совершили. Но очень скоро оказалось, что революции нужны были гимназисты. Выбор Шаумяна, сделавшего Олю своим секретарем, не был исключительным случаем. Через два года, в том же Баку, Киров назначил моего тестя, шестнадцатилетнего Саню Миркина, секретарем Бакинского уездного ревкома. Интеллигенты постарше большевизму не сочувствовали, и там, где нужна была грамотность, шли вперед гимназисты. А другие гимназисты (кажется, еще чаще) шли в белую гвардию. С той же пеной на губах они принимали белый террор, как красные гимназисты — красный.
Белый террор на порядок или на два-три порядка уступал красному по масштабам, но не по злости. Масштабы задавались целью: фантастическая цель оправдывала фантастические жестокости, скромная цель восстановления прерванной традиции оправдывала меньше злодейств. Кроме того, белое движение было хуже организовано и плохо продумано. После разрыва Колчака с эсерами у него не было агитаторов, способных убедить мобилизованных крестьян, за что им стоит воевать. В других углах России даже серьезной попытки мобилизации не было. Белые цеплялись за окраины, где были казачьи войска или высадившиеся в портах интервенты. Победив в столицах, большевики создали центральную власть, способную призвать офицеров, вернувшихся с германского фронта, в Красную армию, и была ЧК, угрозы которой за уклонение от призыва были не шуточными. Армейская контрразведка белых не могла даже поставить себе такую стратегическую задачу. А добровольно средний интеллигент, ставший офицером на германском фронте, не хотел идти воевать ни с белыми, ни с красными. Интеллигенты могли сочувствовать героям индивидуального террора, но с отвращением относились к государственному террору, к расстрелам и виселицам. Обе стороны в гражданской войне отталкивали таких людей, как Короленко, Волошин, Пешехонов. Для них не важно было, кто больше расстреливал и вешал, для них всякая казнь — столыпинская, ленинская, колчаковская — была одинаково мерзкой.
Некоторые публицисты сегодня подчеркивают, что белые, по мере возможности, сохраняли евангельские заповеди и гражданские законы. Однако шкуровцы верили в Бога, а за ними по стране шел кровавый след погромов. Однако социал-демократы-меньшевики упорно протестовали против всякого террора, хотя в Бога не верили и по языку, по фразеологии не отличались от большевиков. Но у меньшевиков было другое понимание Маркса и другое, гуманитарно-европейское понимание прав человека. Когда Колчак попал в руки Иркутского совета, где руководили меньшевики и эсеры, Верховного правителя судили и перед исполнением приговора дали свидание с его гражданской женой, Тимиревой. То есть была установка на правовой порядок, насколько он возможен в условиях гражданской войны.
И у красных, и у белых водораздел проходил между европейски-гуманитарным правосознанием и пугачевским правосознанием, с красной кокардой у одних и с белой — у казаков врангелевской армии, которые в Киеве привязывали родителей к креслам и на глазах отца и матери насиловали девочек-гимназисток.
Колчак, кажется, верил в Бога, но когда ему надоело спорить с эсерами и он разогнал комитет членов Учредительного собрания, то его офицеры изрубили шашками и перекололи штыками социалистических депутатов. Колчак этого не приказывал, но он никого не наказал — не хотел ссориться с казаками. Большевики не могли получить лучшего подарка. Коалиция, способная победить их, была взорвана. Эсеры не простили Колчаку резни. Части, находившиеся под их влиянием, открыли Красной армии фронт. А при попытке мобилизовать крестьян — организовали сопротивление мобилизации. Эту зияющую дыру в политике белых нельзя было заткнуть геройством гимназистов, сочинивших песню, переделанную впоследствии на советский лад:
Смело мы в бой пойдем За Русь святую. И за нее прольем Кровь молодую.[17]Кровь лилась — но она не удержала распада.
Я гимназистка восьмого класса. Пью самогонку заместо кваса. Катись, катись, мой шарабан! Не будет денег — тебя продам. Порвались струны моей гитары, Когда бежала из-под Самары. Катись, катись, мой шарабан! Не будет денег — тебя продам. На белом снеге волкам приманка: Два офицера, консервов банка. Катись, катись, мой шарабан! Не будет денег — продам «наган».Впрочем, Колчаку было куда бежать: от Самары до Иркутска. А бакинская коммуна лопнула, как мыльный пузырь. Весной 1918 г. она была создана и 31 июля пала. Баку окружали турецкие войска. Единственной надеждой казались англичане. И большинство в советах перешло к эсерам, стоявшим за приглашение союзных английский войск. Новое, эсеровское правительство арестовало большевистских комиссаров и посадило в тюрьму. Всей жизни коммуны было примерно сто дней.
В эти «сто дней» Оля стояла у самой вершины власти — оставаясь буквально голодной.
«Когда я ушла из дому, то сначала жила у Степана Шаумяна, но тогда еще всё было (то есть были продукты на рынке. — Г. П.), не надо было заботиться, где взять. А потом однажды Сурик Шаумян зазвал нас (видимо, вместе с Суреном. — Г. П.) к себе обедать, мы пришли, и я почувствовала, что мать, Екатерина Борисовна, не рада нам, на столе всё так скудно. Мне стало так неприятно — зачем, думаю, Сурик позвал нас. Я работала днем со Степаном как его секретарь, но я ничего не требовала, карточку или еще что, — а ему было не до этого.
— Ну так как же? Он же знал, что ты ушла из дома! (видимо, реплика Джаны. — Г. П.)
И вот чтобы получить карточку, я работала ночным корректором. Газета, правда, всего четыре страницы, но ее надо насколько раз проверить…
У меня был пропуск в столовую военную, но я стеснялась туда ходить — девочка, буду одна среди мужчин, и голодала.
Я ночевала в штабе дружинников… Моя комната была за галереей, на которой вповалку спали дружинники, и Анастас (Микоян. — Г. П.) иногда спал там.
Чтобы пройти в уборную, надо было пройти через них, и я ни за что не могла сделать этого. У нас было такое воспитание, что ни за что при мужчине нельзя пройти в уборную, и я страшно мучилась, выбиралась ночью в окно, спрыгивала на другую крышу на метр» (с. 54).
«Потом был еще клуб, который мы снимали, и я жила там в дальней комнате, там со мной ночевал Сурен. Вообще-то он жил дома, но когда пришли турки, он пришел и остался со мной. Анастас не знал этого, он все хотел видеть меня и однажды ночью пришел и стал стучать в дверь, он не знал, что со мной Сурен. Сурен вышел.
— Что ты хочешь?
— Я хочу поговорить с Олей.
— Этого нельзя сейчас.
Потом Анастас все упрекал меня. Ты вот говоришь, что ни с кем пока быть не хочешь, а сама с Суреном ночуешь. — Ну и что, что ночую?» (с. 55).
Действительно — ну и что? Романтические гимназисты спали в одной постели, целовались — но ничего больше этого Оля не хотела и не разрешала. Вышла она замуж несколько лет спустя и за другого. Но пора перейти к надвигавшейся катастрофе.
Шатуновская присутствовала при получении телеграммы Ленина: «Царицын — Сталину, Баку — Шаумяну», и слышала восклицание Шаумяна: «Коба мне не поможет». В своих рассказах она подчеркивает, что Сталин действительно не помог — ни хлебом, ни военной силой. Но вряд ли он мог много сделать. И англичане, пославшие небольшой отряд (по разным оценкам — девятьсот или полторы тысячи человек), не решились принять бой с вдесятеро большими силами турок (назвавших себя армией ислама). Не имело смысла жертвовать жизнью своих солдат, спасая армян от погрома. А младотурки, проигрывая одну войну, пытались начать новую игру — за создание империи или федерации тюркских народов Азии (существовал и коммунистический вариант пантюркизма: татарский коммунист Султангалиев защищал проект советского Тюркистана, без дробления по племенам, с единым литературным языком тюрки, от Казани до Ашхабада и Алма-Ата; Ленин этот проект отверг).
Накануне катастрофы группа молодежи решила штурмовать тюрьму, чтобы освободить заключенных большевиков и дать им возможность спастись. Вооружились гранатами и ждали подходящего момента, когда администрация и охрана разбегутся. Но Микоян убедил эсера Саакяна, остававшегося на своем посту (остальные члены президиума совета уже бежали), — «что вы социалисты и мы социалисты. Ну наши пути разошлись. Мы по-разному смотрим на пути революции, но неужели вы, социалисты, допустите, чтобы наши народные комиссары попали в руки турок, чтобы турки их растерзали. Это же навсегда останется в анналах истории как позорное пятно для социал-революционеров. Этому Сако Саакян внял. И на бланке президиума — вот такой большой бланк бакинского совета — написал начальнику тюрьмы: „Приказываю освободить всех задержанных большевистских комиссаров“.
И вот мы там стоим, уже темнеет… Микоян бежит к нам и держит эту бумагу. А мы же с гранатами. Не надо, говорит, сейчас я их выведу…» (с. 43).
Судьба не пощадила комиссаров. Им пришлось плыть на корабле вместе с дашнаками с другими армянскими беженцами. Команде не хотелось в Астрахань, к красным. Она повернула в Красноводск, к белым. А в красноводской тюрьме у одного из комиссаров нашли в кармане «сухарный список», т. е. список, по которому в бакинской тюрьме выдавали сухари. По этому списку комиссаров выделили из массы беженцев и расстреляли.
Между тем, генерал Нури-паша, вступив в Баку, издал приказ, на три для передававший город армии. Это было сигналом к резне.
«Мы сидели в доме Серго Мартикяна: Сурен Агамиров, Шура Баранов и я. Разъяренные, разгоряченные кровью орды накатывались на дом. Трое суток мы не сомкнули глаз. Квартира Серго была в пристройке, на пятом этаже, и лестница к ней вела не сразу, продолжением общей, а начиналась за длинным выступом.
Внизу из окон галереи был виден залитый кровью дворик. Мужчин всех убивали, насилуют женщин, девочек. Грабят, ломают, жгут. Когда нечего уже взять, просто крушат все по дороге: столы, стены, мебель, детей об стену. А мы трое сидим в квартире Серго, и нет ни времени, ни мыслей, только ожидание, что будет.
Сурен зарядил револьвер, положил на стол:
— Если ворвутся, убью и тебя, и себя.
— Да что ты, брось.
— Тебе хорошо, Шурка, ты — русский.
— Да, у Шурки есть шанс, маленький, крошечный, но есть. Сурен — черный, смуглый, армянин, я — девушка, нам спасения нет. Ну а если найдут и оружие…
Оружие запрятано в трубе, Сурен и Шурка, перемазавшись, изловчились как-то забить там гвоздь и подвесить его пачками. Но если найдут…
Трое суток по очереди дежурим у глазка стеклянной галереи, стекла замазаны мелом, маленький глазок. Оля, отдохни! Я отошла, взглянула в зеркало — кто? Кто там за мной? Оглянулась — нет никого. Так неужели это я — это вот зеленое, перекошенное, нечеловечески напряженное лицо? Это я, Оля?
Когда пошли четвертые сутки, резня понемногу утихла. Пятые. На пятые вспомнили, надо поесть. Пятые сутки ни крохи во рту, в квартире ни хлебной корки.
— Я пойду к Зине, может, она даст что-нибудь.
— Не ходи, Оля.
— Ничего, я укутаюсь в шаль.
Я закуталась до самых глаз и пошла. Разграбленный изнасилованный город. Жутко. Двое турок за длинные волосы тащат женщину, живот распорот, и голубовато-розовые кишки тянутся по мостовой. Вздрогнула, натянула еще больше шаль. Видно, прячут куда-то, спешат, тащат (генеральский приказ разрешал резню только на три дня. За три дня не управились. Но на пятый день был, видимо, приказ замести следы. — Г. П.). Вот опять женщина, с отрезанными грудями. Вот на высоких воротах вбит гвоздь, и на гвозде за ухо висит четырехмесячный ребенок, ухо растянулось, сейчас лопнет. Вот младенец, новорожденный, без черепа, стукнули о стену, и разлетелся вдребезги. Вот казармы, здесь помещалась команда самокатчиков — велосипедистов по-нынешнему. Они не успели выехать. Турки сбрасывали их сверху на штыки ожидавших снизу. Двести человек, все до одного, огромная груда тел. Раздетых, оголенных, все до нитки ограблено. Груда белых, ослепительно белых тел — русские, и только одно-два смуглых, армяне. Но, слава Богу, вот и ворота Зины.
— Стой, девка!
Чьи-то руки схватили сзади, поволокли. Хозяин дома стоял у ворот, побежал, закричал.
— Оставьте ее, она джуди! Она к нам ходит, она — джуди! Не армянка — джуди!
Медленно, неохотно отпустили руки.
Испуганно юркнула в дом. Зина накормила, дала муки. И как ни страшно, отправилась в обратный путь» (с. 62–63)
Армянку можно было бы изнасиловать и после назначенного генералом срока. Но джуди — еврейка. У турок другой козел отпущения — не евреи, армяне. «Если увидишь змею и армянина, убей сперва армянина, потом змею». А еврейские купцы в течение нескольких веков были неофициальными послами между блистательной Портой и Речью Посполитой, когда нащупывался переход от войны к миру. Евреи для турка не стоят вне законе. Их, как и русских, можно было убивать только попутно, сгоряча, в опьянении общей резни.
Сходную картину нарисовал мне мой тесть. Его поставили к стенке, и курды, изображая расстрел, требовали от тетки, заменившей ему мать, золота. Турецкий офицер, увидев это безобразие, стеком стал хлестать курдов по лицам; они с криками разбежались. Известный порядок был и в погроме. Евреев не избивали.
Оля впервые пережила погром девочкой четырех лет. Тогда достаточно было запереть крепкие ворота. Слышны были только крики. От припоминания их долго продолжались припадки. Потом они прошли. Осталась только память, что царская администрация смотрела на погромы сквозь пальцы, что полиция медлила. Это одна из причин, по которым девушку захватил коммунистический интернационализм. Но тогда все-таки была полиция, пусть вялая. А теперь население расплачивалось за ленинскую политику развала армии, развала фронта, развала старого государства. Никому из молодых коммунистов эта мысль не пришла в голову. Только на старости лет Ольга Григорьевна признает, что причиной катастрофы был развал армии. Число убитых она называла по слухам — 35 000. Мой тесть говорил о 25 000. А у армянского историка Галстяна я нашел третью цифру — 10 000 (видимо, более точную). Ограбленные, изнасилованные — не в счет.
Между тем, сформировано было гражданское правительство.
«Бехетдин, начальник охранки, представил правительству: Агамирова, Баранова и Шатуновскую приговорить к повешению. На парапете стояла виселица с двухэтажный дом, и там вешали.
Накануне утром объявили: завтра утром вас повесят на парапете. А через несколько часов вдруг — выходи! Ведут через Губернаторский сад, по Губернаторской улице, я думаю, куда ведут? Напротив суда — дом Ротшильда. В шикарном кабинете, устланном коврами, встает из-за стола Бейбут-хан Джеваншир.
Он меня знал. Было так. В мартовские дни восемнадцатого года, когда гражданская война в Баку происходила и красные цепи подползали по Воинской улице, там был пятиэтажный дом, редкость! И с чердака его строчили из пулеметов по нашим цепям. Тогда подкатили орудие и стали разносить дом на щепы. В этом доме жил Джеваншир, он был с детства другом Степана. Чудом уцелел телефон. Он звонит Степану:
— Степан, спаси!
Это было полгода назад. Я жила тогда у Степана.
Степан берет из пачки бланк чрезвычайного комиссара и пишет на нем мандат: поручаю войти в дом такой-то Сурену Агамирову и сыну моему Сурену, взять и вывести Джеваншира с женой и доставить мне.
Они привязали к штыку белую тряпку, вышли с белым флагом, чтобы не стреляли с чердака. Потом дом сдался, тоже выкинул белые флаги.
Их привели, а я жила у Степана. Через пару дней большевики взяли власть, Степан стал председателем Бакинского комитета. И две недели он (Джеваншир. — Г. П.) жил у Степана…
Джеваншир был богатый человек, капиталы за границей. В подполье (т. е. до революции. — Г. П.) он поддерживал Степана. Он жил в Белом городе, иногда ночевали у него, иногда прятали литературу. Он говорил Степану:
— Я вашу власть не признаю, я хочу уехать в Турцию.
Ему разрешили… Вскоре после занятия турками города он вернулся, а когда формировалось мусаватское правительство, его назначили… министром внутренних дел, а раз так, охранка должна ему доложить. Ему доложили свои достижения, что они за последний месяц сделали, и в том числе, что завтра будут вешать трех большевиков, их Нури-паша утвердил. Когда он услышал фамилии Агамирова и Шатуновской, он им ничего не сказал, но сказал — приведите ее ко мне. И вот я вошла к нему в кабинет. Я этого совсем не ожидала.
Он сказал им: — Уходите!
И говорит: — Оля, здравствуй! Я назначен министром внутренних дел.
И сразу, с места в карьер: — Где Степан?
Я говорю, что Степан такого-то числа с такой-то пристани отплыл на пароходе „Туркмен“ в Астрахань. Просачивались до нас какие-то темные слухи, будто завезли их в Красноводск и там прикончили, но мы не верили, и я этого не сказала.
Он говорит: — Ничего подобного.
Ему охранка в порядке усердия доложила, что Степан скрывается в Баку. Нас тоже на допросах об этом спрашивали. Он им верит. Начал меня умолять, убеждать.
— Где Степан? Мы располагаем точными данными. Я его спасу. Вы же знаете, он меня спас. Я его спасу. А так его будут искать, искать и прикончат в конце концов. Дайте мне его спасти.
— Я вас уверяю, что его нет в Баку.
Постепенно он входил в раж.
— Фанатики вы! Безумцы вы! Ведь вы же поймите, что я его спасу. Почему вы мне не верите?
— Бейбут-хан, поймите, что его нет.
Он ничего не хочет слушать и до того разозлился, что ударил в ладоши, вошли два стражника — уведите ее. Иянеуспела сказать, что нас приговорили к повешенью, меня вывели…
И вот я сижу и жду. И вечером открыл дверь турок, он немного знал русский.
— Бедный девочка! Бедный девочка… Завтра, вот, парапет, вот! — и рукой от горла вверх показывает.
— На вот! — кинул кисть винограду. Через час опять приходит:
— Ой, молодой, совсем молодой. Завтра парапет, вот! На стакан вина!
Еще через час: — На подушка! Спи хоть ночь, завтра тебя не будет.
Я говорю:
— Если ты такой добрый, там внизу в подвале мои братья сидят, сведи меня к ним.
— Знаю. Их тоже, парапет, вот! — и опять рукой показывает.
— Я хочу со своими братьями попрощаться, веди меня туда!
— Нет. Что ты? Нельзя. Начальник тут. Меня тоже, парапет, вот!
Я тогда как брошу кисть: — На! Не надо мне твоего винограда.
— А-а… Подожди ночь. Подожди немного. Начальник уйдет.
Ночью мы пошли туда. Только вошли, только успели обняться, поцеловаться, сказать друг другу, что будем петь Интернационал, уже:
— Иди. Иди, надо скорее!
И вот опять сижу. Жду. Все смотрю на фрамугу в дверях, как начнет светать, значит всё. Еще темно, и вдруг слышу — идут. Группа людей. Идут, сабля волочится, приклады стучат. Что же такое? Неужели уже? За нами? Рассвета не дождались… Остановились у камеры. Гремят замки.
Входит начальник охранки, Бехетдин-бей. Рыжий турок его звали. Светлые волосы, голубые глаза. Он входит со своим переводчиком, начальником тюрьмы и еще несколькими тюремщиками. И говорит по-турецки что-то своему переводчику. И тот переводит мне:
— Вас освобождают. Смертная казнь через повешенье заменяется высылкой за пределы Азербайджана.
Я говорю: — Не надо меня обманывать, я и так пойду. Переводчик говорит: — Она не верит.
Тогда сам Бехетдин-бей, обращаясь ко мне лично, говорит на французском: Министр внутренних дел вновь сформированного правительства Бейбут-хан Джеваншир заменил вам смертную казнь через повешенье высылкой за пределы Азербайджана. Когда я услышала это имя (Джеваншира. — Г. П.), то поняла, что это правда. И поняла, что он, хотя и рассвирепел тогда, но распоряжение это о нашем помиловании отдал. И тут я похолодела, вдруг только меня?
— А мои друзья тоже?
Он засмеялся: — Ха-ха-ха! Вы же на допросах были незнакомы. Вы не узнавали друг друга.
Я повторила свой вопрос, и он говорит: да.
Тогда хлынула такая волна радости» (с. 63–66).
Судьба хранила Олю для новых, советских застенков. Она и ее друзья решили не дожидаться официальной высылки (с риском попасть к белым, а там другая виселица). Тайком, переодевшись, выехали в Тбилиси. Там помещался подпольный большевистский крайком. Как раз в это время собралась подпольная конференция. Сняли для этого дом. Так как хозяева опасались неприятностей, «они просили конференцию поскорее закончить, и поэтому решено было заседать без перерывов, и конференция продолжалась три для и три ночи. Присутствовало человек пятьдесят… Мы дремали по углам. После этой конференции меня и Сурена послали на работу во Владикавказ» (с. 75). Советская власть там еще держалась, но на волоске.
В Грузии большевиков арестовывали, если они вмешивались в грузинские дела, а в остальном старались не замечать. Туда спасались и из Баку, и (впоследствии) из Владикавказа. Большевики расплатились за это примерно так же, как с эсерами, которые помогли им выиграть Гражданскую войну, и с Нестором Махно, тачанки которого, форсировав Сиваш, ворвались во врангелевскую столицу — Симферополь.
«В двадцать первом году Сталин и Орджоникидзе возглавляли террор в Грузии. Красная армия свергла меньшевистское правительство и устанавливала советскую власть. Грузия была за меньшевиков и восставала. Они жестоко расправлялись.
Леонид Жгенти рассказывал — когда он был учеником школы, один раз заболел и отпросился у врача домой. Когда вышли из школы, она была окружена НКВДшниками.
— Стой, ты куда?
— А у меня живот болит, меня врач отпустил домой.
— Никуда не пойдешь, стой тут. Но он все же не стал стоять, потому что ему было совсем невмоготу, и побежал. Тогда он не понимал, а потом говорил, спасибо вслед не выстрелили. А те вошли в школу, велели всех учеников выстроить, отобрали двадцать самых рослых, связали одной веревкой, увели и расстреляли. Зачем? Террор. Чтоб родители не восставали. И так во всех школах» (с. 50).
Почему в этом участвовал Орджоникидзе, человек по натуре добрый (об этом мне достоверно рассказывали)? Как это связать с добрым Орджоникидзе в последние его годы, с попытками бороться с Большим Террором, зная, чем он рискует? Видимо, человек, опьяненный идеей, фанатик идеи, теряет интуицию добра и подчиняется логике зла. Я не удивлюсь, если узнаю, что шахидка, взорвавшая себя вместе с несколькими израильтянами, за год перед этим плакала над убитой птицей.
И еще вопрос. Судя по термину «НКВДшники», Жгенети рассказывал о том, как избежал расстрела, много лет спустя, когда слова ЧК и ГПУ отошли в прошлое. А что, если бы Оля, дважды спасавшаяся в Грузию, услышала такой рассказ в 1921 году? Но в 1921 году Оля и ее друзья уже были мягким административным решением отосланы на партийную работу в брянское захолустье.
Легенда подполья
Мой тесть несколько раз вспоминал, как Оля одна, на парусной лодке, пересекла Каспийское море и доставила важные бумаги в Красноводск. Но почему-то Ольга Григорьевна никогда не говорила мне об этом красивом эпизоде, напоминавшем мне бегущую по волнам Ал. Грина. А рассказывала о другом — как флиртовала с офицерами Белой армии в Батуми и на миноносце доставлена была в Новороссийск. Меня стало разбирать сомнение: не возник ли красивый образ Оли, под белеющим парусом, в воображении учащихся-коммунистов, не имевших достоверной информации о секретной миссии в Москву и питавшихся слухами. Оля, всего на три года старше отцов-основателей Союза учащихся-коммунистов, была членом партии с дореволюционным стажем (в партийной иерархии это было нечто вроде дворянства), а ее красота и слухи о ее подвигах окружили ее облаком легенды. В умах четырнадцати-пятнадцатилетних мальчиков она могла совершать и то, чего не было.
Во всяком случае, своей дочери и внукам она рассказывала примерно то же, что мне, только подробнее. Сперва действительно было задумано захватить лодку в порту и на ней добраться до Астрахани (Красноводск тогда еще красным не был). Исполнение поручалось команде из двух человек: Анастасу Микояну и Ольге Шатуновской (старший — Анастас). Днем, когда порт открыт, бумаги спрятаны были в избранной лодке, а ночью Анастас и Оля по одному пробирались к причалу. Однако ничего не вышло. Олю задержали, пригласили зайти в участок. Она повела полицейских бульварами по пути, которым должен был идти Анастас. Он действительно увидел их и скрылся. Оля задержалась около дома, будто распустился шнурок у ботинка, и тихонько в водосточную трубу сунула фальшивые документы. В полиции ничего не нашли и утром ее отпустили. Второй раз Оля, переодевшись мальчиком-рыбаком, должна была открыто выехать с рыбаками от пристани в Черном городе (Баку делился на Белый город и Черный город). Один из полицейских оказался тот, кто уже раз задерживал ее. Он крикнул: «Это не парень, это девка, держите ее!». Оля, прыгая с лодки на лодку, добралась до соседней пристани и ускользнула.
Тогда решено было отправить трех гонцов, разными путями. Анастасу достался прежний маршрут, через Астрахань, а Оле — через Батум и Ростов. Попутно ей поручили доставить в Ростов несколько пачек прокламаций (подпольная типография в Ростове провалилась). Паспорт ей сделали на имя нижегородской мещанки Евдокии Дулиной. Оля могла сойти и за госпожу Джапаридзе, и за девицу Дулину. В наружности ее не было резких примет национальности.
В Батуми оказалось, что пароходное движение прекращено, только военные корабли ходят. Согласно инструкции, в гостинице велено было не останавливаться и с батумскими коммунистами не связываться.
«Ходила по городу, мыкалась, корзина обшита и перевязана, я сдала ее в камеру хранения, — рассказывала Ольга Григорьевна, — а сама ночь на вокзале, на бульваре, в подъезде — чтоб не приглядеться, не обратить на себя внимание. Была бы еще оборвана, а то хорошенькая беленькая чистенькая девушка. Трудно…
Наконец, на пятый день нашла одного рыбака, уговорила — за тысячу керенок довезет меня на парусной лодке до Туапсе. Только чуть отъехали, шторм поднялся. Ветер, волны, лодка, как щепочка, того и гляди перевернет.
Он на меня ругается: — Куда к черту ехать? Не надо мне твоих денег, уцелела б голова!
Я и сама от страха ни жива, ни мертва. Ну, думаю, все равно — два раза уже провалилась, пусть хоть умру. Сижу, сжимаю свою корзину. Волны все больше, гроза поднялась. Он мне в лицо керенки бросил: — К черту убирайся, жизнь дороже!
Опять я сдала корзину в камеру хранения, а сама около моря хожу. Нечаянно подслушала, кто-то сказал, мол, на днях „Буг“ отходит. Я думаю, надо на „Буг“ пробраться…
Пошла в магазин, купила дорогой, нарядный башлык, красный с золотом. Волосы после тифа короткие и локончиками. В башлыке-то не видно, что сзади острижена, а то нехорошо, не принято ведь это было, а впереди локончики. Сама свеженькая, хорошенькая, ну а в башлыке прелесть прямо! Я и сама чувствовала, что все, кто ни идет по улице, вслед оборачиваются.
Познакомилась на бульваре с офицерами, рассказываю им, что не знаю, как быть. Бабушка у меня в Ростове, сирота я, больше никого у меня нет, и бабушка умрет, тогда совсем без наследства останусь. Все это постепенно им рассказываю, они хотят помочь мне…» (с. 88–89).
В тот момент, когда Оля взглянула на себя в зеркало и увидела, какая она свеженькая, хорошенькая в этом башлычке, она перестала быть Олей, она стала Дусей, очаровательной провинциальной барышней, трогательно беспомощной, обращавшейся к офицерам как к своим, ждавшая от них мужской помощи и получившей помощь.
Офицеры могли быть грубы со своими подчиненными, но перед этим очаровательным существом они становились, как сказал Маяковский, безукоризненно нежны, не мужчины, а «облако в штанах». Не решались пригласить ее в ресторан, говорили: «Мы понимаем, с кем мы говорим». Эта очаровательная Дуся будила в них самые лучшие чувства. Они объяснили ей, что на миноносец ее могут посадить только морские офицеры, познакомили ее с моряками, офицерами с «Буга», а те с графом Козловым, работавшим в представительстве Деникина, родственником адмирала. «Опять гуляли, опять рассказывала про бабушку, про наследство. Потом назначили мне день, когда вместе идти. Иду. У дверей — двое деникинцев, здоровенные детины. Я думаю, господи, куда это меня несет в самое их логово. Дал он мне конверт запечатанный, вышла на улицу и вздохнула, там молодежь вся. Ну что, Дунечка, как? Радуются за меня… Через два дня отправление, погрузку уже закончили. Вот с корзиной пришла на корабль, прочитал командир, нахмурился, но отказать не может и говорит: „Вот здесь располагайтесь“. А у него каюта, как квартира: кабинет, спальня, столовая. Вот, показывает на спальню — у молодежи лица вытянулись — они думали там, где-нибудь меня поместят, они будут ко мне ходить, я — к ним. А тут на тебе. Я свою корзину под кровать задвинула, здесь, в неприкосновенности, так и ехала. Они меня зовут — завтрак, обед, ужин. Салон, в общем, культура. По-французски я говорила хорошо. О книгах говорят, шутят» (с. 89). По уровню культуры они принадлежали к одному слою, разговор легко налаживался. Прислуживают матросы, тарелки подают горячие, салфетки. «Вот как-то тарелка плохо подогрета что ли, один офицер кинул ее в лицо матросу. Мне противно, но не реагирую, стараюсь» (с. 89–90).
Только в один момент Оля позабыла свою роль.
«Был шторм, а когда шторм, все офицеры — на своих местах, и никого со мной нет, я пошла одна гулять по всему кораблю, бродила, бродила и спустилась в машинное отделение. Оказывается, чем глубже, тем меньше качает. Там жарко, кочегары, обнаженные до пояса, бросают в топку уголь, и все время команды: право-лево, туда-сюда. Я так прислонилась, смотрю, как они бросают, и машинально тихонько так, запела „Раскинулось море широко… товарищ, ты вахту не смеешь бросать…“ Так, машинально, не то говорила, не то пела. И когда пошла наверх, то меня стал провожать механик, молодой человек.
Там очень много ступенек, мы прошли один, два, как бы этажа, и стали отдыхать на площадке. Он смотрит на меня и говорит: „Я очень ищу большевиков. Я могу быть им полезен“. Я стою и молчу.
— Скажите, зачем вы здесь? Нет, не правда это! Ну я знаю, вы не то, что говорите!
Вот странная интуиция, так сильна у человека, и просит, молит. И у меня тоже интуиция.
— Ну скажите, кто Вы? Я прошу Вас! От этого зависит моя жизнь.
Я тоже не прямо, тоже намеками:
— Ну да, может Вы и не ошибаетесь. Но что Вы хотите?
— Я хочу связаться с большевиками. Видите, мне противно здесь быть, но я не ухожу, потому что хочу я именно здесь быть полезным. Свяжите меня с большевиками. Я ведь не живу здесь. Я только об этом и думаю. И все жду, я хочу бороться. Я говорю важно: „В одиночку ведь не борются“.
— Я не один! Разве мало народу здесь? Люди найдутся, свяжите меня! — Ну какой Ваш адрес? — А сама боюсь. Никто не видел?» (с. 90)
«„Где Вы живете? Как Ваша фамилия?“ И больше ничего. И мы пошли опять наверх. Вот ведь, что это? Передача мысли? Он ведь страшно рисковал: а вдруг я его сейчас выдам адмиралу? Но ведь и ты рисковала (реплика Джаны. — Г. П.). Ну, я что! Я, может быть, хочу его выдать… — Потом в Ростове я отдала его адрес Донскому комитету. А в это время по мне панихиду справляли» (с. 105).
«В Батуми были, конечно, большевики, и мне в Баку еще сказали, чтобы я с ними не здоровалась, может быть, за ними следят и я себя выдам. Я и не здороваюсь, но они меня видели. Видели, как я в военный порт с офицерами шла, видели, как с моря понеслась шлюпка с двенадцатью гребцами, с рулевым. У меня взяли из рук корзину, передали на шлюпку. Меня взяли под руки, посадили в шлюпку, и шлюпка умчалась на рейд. А тогда на рейд возили расстреливать, а потом в море бросали. Они сообщили в Баку, что видели, как Олю повезли на рейд. В рабочем клубе отслужили по мне гражданскую панихиду. Сурен в горе. В его тетради: „Оли нет, ее убили. Как жить теперь? Для чего жить?“. Маме не сказали, что на рейд, сказали, что, дескать, не то утонула, не то арестовали. Мама ездила, искала меня в Батуми по тюрьмам. И только потом из Ростова приехал Марк[18] и развеял эту легенду, сказал, что я была у него в Ростове и прошла через линию фронта…» (с. 106)
Однако надо было ехать дальше. Чтобы пройти на вокзал, требовалось около десяти справок, а у нее ни одной. Оля взяла свою корзину и пошла вдоль железной дороги, минуя вокзал, километров десять; а потом вернулась по путям и оказалась на перроне. Прислушалась, — говорят: «Вот стоят теплушки, они пойдут на север». Забралась в одну из них, уселась на свою корзину. «Сзади офицерик сидит, со мной любезничает. Вдруг на полустанке двери закрыли и снаружи на замок заперли. И так спокойно говорят: „бабы, а это сейчас документы и билеты проверять будут“. Что делать? Смерть, если поймают.
Говорю офицерику: — Вы скажите, что я ваша жена, хорошо?..
Ушли. Поезд тронулся. Свет погас, и он — негодяй такой! Стал приставать ко мне. Лапать.
Мне позвать людей стыдно как-то, что же, девчонка еще, восемнадцать лет. Я его все улещиваю, стыжу.
— Пустите, ну что вы, как вам не стыдно?
А он: — Ты же жена мне!
А я была как дикая кошка, до меня пальцем не дотронься.
Он сидел сзади меня и схватил за грудь, а я, как сидела впереди него, так и двинула ему локтем в лицо. Сильная девка, и прямо в глаз ему звезданула. Он так и упал со своих мешков и давай на весь вагон на меня орать:
— Шлюха! Без документов! Я вот тебе! Мать твою… Погоди у меня… И ведь все это под угрозой смерти, если меня поймают.
— Ну, погоди, стерва, я тебя выдам.
Откуда только силы у меня взялись, я выпрыгнула — высоко ведь над землей, вместе с корзиной, и под составы, под один, под другой. Страшно! Корзина тяжелая, того гляди паровоз дернет, составы тронутся, задавят. Корзину кидаю, сама под вагон, опять корзину кидаю и дальше. Поднырну, корзину переставлю, вытащу… Он некоторое время бежал за мной, слышу его топот, ругань. А потом все, отстал. Я еще составов пять пробежала и вижу — спаслась.
Наконец, спряталась. Отдышалась. Часа через два иду, уехали уж, наверно? Опять ищу, что делать, как дальше ехать?» (с. 106–107)
«Стоит эшелон, на вагоне надпись: „8 лошадей, 20 человек“. Внутри десять казаков, везут лошадей в Ростов. „Дяденьки, возьмите меня“. Ну, они разрешили:
„Залезай, мол, девка, ложись“. Шинели подостлали. Я не сплю, лошадей не боюсь, людей боюсь. Но дверь закрыта, на ходу что хотят сделают. Ну ничего. Никто не тронул. Вот все-таки такие тогда еще неиспорченные нравы были. Парни деревенские молодые освободили мне уголок от лошадей, постелили сено. „Ложись, — говорят, — барышня“. И я уснула. А потом разбудили: „Вставай, — говорят, — барышня, к Ростову подъезжаем“.
Я с большими очень трудами добралась. У меня были явки в Ростове к Сырцову. А Сырцов у нас был секретарем Донского комитета. Но в это время он уже оказался отозван, вместо него была Минская. Его я не застала в Ростове, я его потом застала за фронтом. И вот я пошла к Сырцову прямо с корзиной. Неосторожно, конечно, но надоела она мне, скорей бы избавиться, позвонила. Такой небольшой двухэтажный домик. И вдруг мне открывает дверь полковник деникинский. Я так и обмерла. Думаю, что такое, какая тут промашка. И говорю: „Вы меня извините, я ошиблась. Мне не сюда“. Он говорит: „Да нет, Вам, наверное, сюда. Вот, подождите“. А тут из прихожей лестница наверх, знаешь, как бывает в маленьких домах. Вбежали две девушки, говорят мне условный пароль. Я тогда то же им отвечаю. „Вы не бойтесь, это наш папа, он за нас“. Оказывается полковник — отец Сырцова и прикрывает его. А сам Сырцов вызван на работу в Красную Армию за линию фронта. Я ему говорю: „Вот корзина. А мне надо переночевать и корзину передать в Донской комитет“. И вот мы эту корзину спрятали во дворе, в дровах. Я у них переночевала, а потом меня отвезли на Софийскую площадь. Там еще была явка у одной портнихи. А Ольге Минской уже дали знать, что я приехала из Азербайджана. И меня позвали на заседание Донского комитета» (с. 107–108)
В Ростове Оля впервые столкнулась с темной стороной большевизма, с равнодушием к людям, в том числе к людям, работавшим в одной организации, с готовностью убить человека по одному подозрению. Вот как Оля об этом рассказывает:
«Я присутствовала на заседании, где разбирался вопрос о причинах участившихся провалов разных мероприятии. В организацию, очевидно, проник предатель. Заподозрили молодую красивую женщину, присланную в Ростов из Москвы. Она служила в штабе одной из частей деникинской армии. Для отвода глаз даже стала любовницей одного офицера. Передавала, рискуя жизнью, ценные сведения о военных действиях, о намечаемых передвижениях частей. Руководительница подпольной организации решила, что эта женщина одновременно работает на деникинцев. Не вызвав ее, не допросив, заочно ей вынесли смертный приговор, как предателю, и по настоянию этой руководительницы привели в исполнение. Один из товарищей рассказал мне подробности убийства. Особенно я была поражена, увидев одну из членов организации в платье покойной. Я не скрыла своего удивления и получила упрек в интеллигентской бесхребетности. Позже в Москве я узнала, что обвинение в предательстве было ошибкой. Убитая была смелая преданная коммунистка» (с. 108).
В Москве Ольга подала докладную записку Стасовой, которая руководила всеми подпольными организациями по ту сторону фронта, и описала эту историю.
«Надо было продолжать путь к Москве. В Туле стояли красные войска, поезда на север уже не шли, линия фронта приближалась. Меня научили, как дальше идти — доехать до Белгорода, там купить мешок сахара и дальше идти пешком. Купили мне крестьянское платье, валенки.
В Ростове жил тогда Марк Выгодский. Он работал стенографом в деникинской канцелярии и всё передавал нашим. Марк стал плакать, перед этим одного нашего разведчика поймали, привязали к березам и разорвали пополам. Он стал умолять меня: „Оля, не ходи. Я чувствую, что будет плохое, я тебя умоляю!“. Я говорю: „Марк, что ты меня умоляешь! Меня послали, я должна идти“. Купили мне билет и почти до Курска я доехала. А там оказалось, что мост через реку взорван и дальше поезда не идут. Как переходить? Не знаем. Как-то переходят.
Я спустилась к реке, круто там. Как быть? По льду идти. Смотрю, сваи от моста торчат и по ним люди скачут на тот берег. На сваях шапки снега, а я ни снега, ни льда раньше не видела. Страшно мне. Ну, думаю, ладно, проскачу по крайней мере. И вот скачу. Темнеет уже. Все скачут. И я скачу с мешком, валенки на мне, они все же как-то держат, шершавые. Поскакала. Только до того берега добралась, тут состав стоял и тронулся. Паровоз сзади толкает, я на ходу прыгнула, за бортик кое-как уцепилась, держусь, руки замерзли, мешок в зубах. Ну, думаю, сейчас упаду. Ехал, ехал и остановился. Все из теплушек выбежали, прибежали в какую-то сторожку холодную греться. И я туда. Потом со всеми уже в теплушку забралась. Доехали, дальше не идет. Еще на подводе немного подъехала, а потом пешком стала идти. Я так шла, расспрошу, какие впереди деревни, и говорю, что туда иду, но не в ближнюю. В ближней они могут знать, кто живет, а в самую дальнюю — в Устиновку, в Михайловку. Куда ходила? В Белгород, за сахаром. В избу приду, ребятишкам сахар раздам, меня хозяйки уж не знают, как усадить. Они-то не знали, что с ним делать. Зальют сахар водой и из миски ложкой едят. Я им говорю: „Вы хоть бы кашу сварили“. А они говорят: „Мы не знаем, что с ней делают“.
Я усвоила повадку и говор местных крестьян… Однажды напала на сытную семейную вечеринку, в другом месте два парня сказали мне, что с нетерпением ожидают прихода красных — у них интересно, весело, молодежь учится, а у нас скука. Так я дошла до какой-то деревни. Уже близко линия фронта, и говорю, что мне надо в Обоянь. Хозяин говорит: „Ты не ходи, подожди. Одну ночь побудь, к утру может уже красные займут, ты и пойдешь“. А я думаю, что это нехорошо, придут — тут посторонний человек, и пошла ночью. Вот уже светает, снег. Я хоть и плохо видела, но не так, как сейчас, конечно. Вижу на снегу впереди телефонный кабель сматывают, значит линию фронта сейчас перейду. Вдруг откуда-то небольшой отрядик на конях, и офицер мне говорит: „Ты куда идешь?“ — „А вот, — говорю, — в Обоянь“.
— Там красные.
— Красные?
Я как заревела, заголосила.
— Красные? Ой, я туда не пойду.
Офицер смеется.
— Да что ты, — говорит, — испугалась, иди не бойся, красные девок не трогают.
— Нет, я туда не пойду, я назад хочу идти.
Он меня уговаривает: „Ты иди, — говорит, — не бойся“.
Ну уговорил, и вот я иду, а сама думаю, вдруг еще кто-то на дороге встретится, спущусь лучше в овраг, там пойду. И спустилась, там снег лежит до пояса, я едва продираюсь, себя кляну. И слышу на той стороне оврага, я справа спустилась, а слева большое движение войск. Конный отряд двигается по дороге над оврагом. Говорят бойцы не по-русски. Вспомнила, в составе Красной Армии сражаются отряды латышей. Я выглянула — вроде тут буденовки со звездами. А меня предупредили в Ростове: „Тебе, когда покажется, что ты уж совсем перешла, ты все равно не открывайся, такие случаи были. Тебе покажется, даже звезды увидишь, все равно, может они замаскировались“. Я из оврага вылезла с мешком. Они сейчас же меня схватили, а я не сознаюсь, вот говорю все свое. Они меня свели в деревню, в избу отвели, во вторую комнату, вроде я арестована. Потом слышу говорит: „Вот, товарищ комиссар, девку подозрительную поймали, из оврага выбиралась“. Они входят в комнату, ну я вижу все, как по описанному — кожанка на нем и звезды. И слышу же, как они его назвали „комиссар“. Тогда я встаю и говорю: „Здрасьте, товарищ, комиссар!“. Он так удивился, а я распорола подкладку, показала ему мандат, мы стали разговаривать. Ему интересно — девушка из Баку пришла. Потом отправил меня дальше». (с. 109–111).
В Москве Оля встретилась с Анастасом, добравшимся до цели первоначальным путем через Каспий. Возвращались вместе. Ехали долго, вагон с партийными работниками был прицеплен к воинскому эшелону, который тащился по разрушенным тогдашним железным дорогам, с огромными остановками. Оле — единственной женщине — предоставили отдельное купе. Туда пытались попасть командиры, влюблявшиеся в нее, но Анастас их всех отпугивал и прогонял, настаивая на том, что он здесь старший и что Оля ему подчиняется и он должен не допускать никаких вольностей. А сам пользовался возможностью сидеть с ней в купе и вместе читать Розу Люксембург. Анастас был образован беспорядочно, по-русски плохо говорил, но по-немецки читал и пользовался этим, чтобы посидеть рядом.
В Ашхабаде это общее ухаживание дошло до скандала. «Там нас пригласили в богатую армянскую семью. И были там с нами Рахулла Ахундов, Бесо Ламинадзе, Леван Гогоберидзе и Володя Иванов-Кавказский. Вот мы сидим и Леван говорит: „Давай выпьем с тобой на брудершафт“. Я уж не помню всю эту церемонию — на стул становились, руки перекрещивали, целовались. Мы выпили, а потом Анастас говорит: „А теперь со мной выпей“. Я говорю: „Не хочу“.
— Почему? С ним пила, а со мной не хочешь?
— C ним пила. А с тобой не буду» (с. 113).
Это кажется причудой, но на самом деле за отказом достаточно много стояло. Поцелуй с Леваном ничего существенного не вносил в жизнь. С Анастасом же были сложные, долго складывавшиеся отношения, роман парня из предместья с гимназисткой. Гимназистка была увлечена силой, энергией Анастаса. Но то и дело он ее шокировал грубостью.
Впрочем, первую грубость она проглотила безропотно, чувствовала, что заслужила. Степан Шаумян велел ей все материалы, обличавшие дашнаков, немедленно отдавать в печать. В это время оказалось, что один из комиссаров изменник. Анастас прислал секретное письмо, и семнадцатилетняя Оля, не понимая, что письмо секретное, сдала его в печать за подписью Микояна. В результате, на него несколько раз покушались, стреляли из-за угла. Стали разбираться, Шаумян сказал, что письма не видел, и Оля призналась: «Это я послала». Анастас «зло так, с кавказским акцентом, он очень плохо тогда говорил по-русски, сказал: „Дура ты, дура!“» (с. 91).
Чувствуя себя виноватой, Оля решила охранять вагон, в который Анастас должен был сесть, уезжая на время из Баку. Анастас увидел ее с винтовкой, удивился и спросил: «„Ты что?“. А она строго так отвечает (рассказывал впоследствии Микоян): „Я тебя охранять буду“. Я говорю — иди, иди, я сам себя охраняю. А она — нет, — говорит, — не уйду, меня Степан прислал. Строгая такая, серьезная» (с. 90).
Потом Анастас был ранен, лежал в квартире Шаумяна, и они ближе познакомились. Был еще случай, когда ей поручили работать с молодежью, она не знала, с чего начать, и Шаумян предложил ей расспросить Анастаса. Незаметно он своей ученицей увлекся, и на свадьбе друзей, Артака и Маруси, произошло первое объяснение. Здесь нельзя ничего пересказывать, каждое слово характерно, каждый жест неповторим:
«Была свадьба Маруси Кромаренко и Артака. Собрались все в одной квартире. Много народу. Пришли и мы с Суреном. Я смотрю, Анастас почему-то стоит на темной галерее и все смотрит, смотрит во двор. Я подхожу, говорю ему: „Почему ты стоишь здесь? Что ты такой грустный? Сейчас весело будет. Песни будем петь“.
А он говорит: „Да. Мне грустно“.
Дикарь он тогда был. Повернулся и говорит с вызовом, и акцент жуткий.
— Да, грустно. Меня никто не любит.
Не говорит, ты меня не любишь. А никто. Никто меня не любит.
Я говорю: „Ну что ты? Как это тебя никто не любит? Мы все тебя любим, я тебя люблю“.
Он обрадовался очень: „Правда, любишь? Ну если любишь, будешь со мной сидеть на свадьбе, а не с Суреном?“
Пожалуйста!
Оля смеется, когда говорит это, и звонко так, будто тогда (реплика записывающего. — Г. П.)
— У меня две стороны, с одной Сурен, с другой ты.
— Нет, только со мной, и говорить только со мной будешь!
Ну а потом уже стал мне свидания назначать. Скажет. Приходи туда-то и туда-то. Я приду, и мы поедем на фаэтоне. Он тогда скрывался, был в темных очках, и не ходил, чтобы его не узнали, а все на фаэтоне ездил. И скажет кучеру, чтобы поехал куда-нибудь далеко. Мне что? Мне нравилось, что за мной ухаживают, возят. Поклонников много, мне весело.
Один раз поехали, выехали за город, он схватил меня и стал целовать. Вообще представить не могла, чтоб кто-нибудь мог так меня зверски хватать и вообще с такой страстью целовать. Сурен нежно так, ну в щечку или в губы поцелует, поласкает.
— Пусти! — стала вырываться. Он не пускает. Я вырвалась, выпрыгнула на ходу из фаэтона. Он кричит кучеру:
— Стой! — А тот не обращает внимания. Видит, что влюбленных везет, не оборачивается, ничего не слышит и не видит. Анастас соскочил за мной, тогда он, наконец, остановился.
— Садись, поедем, — говорит.
— Нет, я не поеду, я так пойду. Я сама до города дойду.
— Почему? Почему ты так делаешь? Ты почему ушла, ты почему так делаешь?
— А ты почему так хватаешь меня?
— Я целую тебя, ты сама сказала, что любишь меня. Когда любят, всегда целуют.
Я ж говорю, он совсем дикарь был, не то что сейчас. Ну мы пошли, стали говорить.
— Ты сказала, что ты любишь меня. А ты, наверное, не меня любишь, ты Сурена любишь.
— Люблю, конечно. Сурен не как ты, так грубо не хватает. Сурен меня нежно целует.
Он мне все внушать стал, что когда люди любят, они всегда целуются и даже еще больше бывает. И говорит, что у него в Тифлисе есть сестра троюродная Ашхен, она всегда позволяет себя целовать, а ты вот не позволяешь.
— Ну и езжай к своей Ашхен и целуй ее.
А ему действительно очень опасно было в Баку, его искали, и надо было ехать в Тифлис. В тот раз мы совсем разругались. И так почти все время мы ругались. Что мне? Поклонников хоть отбавляй.
Вот один раз мы поехали за город. И опять он стал просить меня: „Выходи за меня замуж“. И слышал, наверное, что когда просят женщину о любви, на колени становятся, встал на одно колено, стоит, а самому обидно это. И говорит:
— Вот, я перед тобой даже на колени встал. Перед женщиной на колени встал. Ни перед кем не стоял, а перед тобой встал.
Я гордая была, и очень мне это обидно показалось. И я говорю:
— Ну и что же, стой. А перед кем же тебе еще стоять, не перед мужчинами же. Вот и стой передо мной, правильно.
Он обозлился тогда.
— Вот ты гордая какая, моя сестра не такая, она мне карточку подарила.
Достал из кармана и показал мне карточку, там девушка, хорошенькая. И надпись по-армянски: „Моему любимому Анастасу“. Я говорю: „Зачем же ты мне говоришь все это? На колени встаешь? Ты по езжай в Тифлис к ней, тебе будет хорошо“.
Он обозлился, схватил карточку, порвал ее на мелкие клочки и бросил к моим ногам. Он думал, что мне это понравится, а меня тогда совсем от него отворотило.
— Как ты смеешь, как ты посмел, тебе девушка карточку подарила, а ты ее порвал! Вот запомни навсегда. Никогда, никогда я не подарю тебе своей карточки. Просить будешь, никогда не подарю. Может быть, ты ее тоже разорвешь и к ногам какой-нибудь женщины кинешь.
Он очень растерялся.
— Не знаю, как тебе угодить. Я думал, что ты рада будешь, что я карточку другой женщины порвал, а ты…
— Как ты смел? Она тебе такую надпись надписала. А ты порвал, к ногам моим кинул.
— Она мне не нужна, мне ты нужна. И так всякий раз — как встретимся, так ругаемся» (с. 92–94).
Отсюда двойственное отношение Оли к Анастасу. Она его по-своему любила, но на благородном расстоянии, мысль о физическом контакте ее отталкивала. С Леваном можно было поцеловаться, это означало только знак дружбы, Анастас же спьяну опять стал бы целоваться взасос. И девушка с ружьем, охранявшая Анастаса от покушений, на это была решительно не согласна. В некоторых отношениях она была принцессой на горошине. А он стал настаивать. «И так взял меня и стал приподымать, — рассказывает Ольга Григорьевна. — Хочет на стул поставить, я вырываюсь. Рахула вдруг как вскочет, выхватил револьвер и выстрелил в Анастаса, хорошо руку его кто-то подтолкнул. Пуля пролетела выше. Анастас тоже выхватил револьвер, стреляет, едва их схватили за руки, развели. Стол опрокинулся, все угощение, чего только там не было — шашлык, бешбармак, вина, посуда дорогая, все на полу валяется. Хозяйка давай меня ругать. „Ах ты такая, — говорит, — бессовестная, мужчинами крутишь“. Я говорю: „Я не виновата. Я что?“ — „А почему ты не могла с ним выпить, когда он просил?“ — „А я не хотела“» (с. 113).
Ольга Григорьевна многое в этих отношениях не додумала, а действовала на уровне интуиции, и в своих рассказах она тоже это не до конца раскрывает, приходится додумывать. «Анастас долго потом с Ахундовым не разговаривал. Шутка ли — перестрелялись. А в Баку вперед нас эти слухи дошли, что Анастас с Ахундовым из-за меня перестрелялись. И так, что вроде я с Анастасом сошлась. Сурену сказали. Я когда приехала, он хмурый такой и со мной не разговаривает» (с. 113). Однако предстоял еще один тур приключений. Из Красноводска «плыли на барже, которую под белый миноносец перестроили и перекрасили. Но мы приехали не в Баку, а в Махачкалу. У Анастаса еще какое-то дело было. А мне дали мешок с николаевками, такие спресованные кубики, чтоб не было заметно, в угол мешка соломы натыкали. А в руках опять корзина, а под юбками — баул с бриллиантами. „Пойдешь одна?“ — говорят. „Пойду“. Меня одели в форму медсестры, серое платье, будто в отпуск еду в Баку. И я пошла. Надо было пройти границу между дагестанским правительством, которое придерживалось нейтралитета, и белыми, деникинцами, которые там тоже были. Я перешла речку Самур. Ну, думаю, вроде перешла. А тут отряд азербайджанских. „Что, — говорит, — несешь?“ Один спешился и смотреть хочет. Ну что, если я вам мешок сперва покажу, там николаевки… Я корзины открываю, юбки свои поднимаю. „Что, женские вещи будешь смотреть? На, смотри, если тебе не стыдно женские вещи смотреть“. Он покраснел весь, он был ведь азербайджанцем, им это стыдно. Товарищи ему кричат: „Слушай, иди, не позорься! Оставь ее“. Он махнул на меня рукой, сел на коня, они уехали.
Пришла в Дербент, а там на вокзале таможенники, все вещи осматривают, не уехать мне. Я пробралась сзади по путям, легла в канаву, она вся заросла лопухами с человеческий рост. Лежу, слышу — первый звонок, второй звонок. Как раздался третий звонок, свисток, я вскочила и на ходу — в поезд. Таможенники поняли, что я их перехитрила с корзиной, с мешком из канавы; бегут, свистят, кричат, машинисту машут, чтобы остановил. Он не остановил, так я и уехала. До Баку мне нельзя, думаю, там тоже таможня. Я вышла в Кишлах, это километров за пять до Баку. И пошла ночью пешком через степь. Страшно. В степи кечи, разбойники. Но вот Бог дал, дошла, никого не встретила…
Пришла ночью на квартиру к подпольному казначею Исаю Довлатову. Говорю: „На, возьми, Исай“. Даю ему мешок с николаевками, баул с бриллиантами. Как мне давали, не считали, сколько унесешь, так и я ему, не глядя даже, что там за бриллианты, отдала. И чувствую, словно гора каменная с меня свалилась. Всё. Они мне постелили, я уснула, как убитая. Днем проснулась, встала, вышла из их дома легкая, словно ласточка…
Пошла к Сурену, а он хмурится, ему сказали, что я в Москве с Анастасом сошлась. Я говорю: „Да, нет, не было! Что ты так!“. И ушла. А потом уж мы опять стали вместе жить. Сначала я к нему пришла. Они, трое братьев, на веранде спят, я-вего комнате, где он раньше спал. А ночью он ко мне приходил. Ничего не было такого, просто мы лежали вместе, ласкаем, целуем друг друга. А мать пришла на веранду, его там нет. Она тогда в комнату пришла, а мы тут лежим вместе в постели. Она на утро скандал устроила, отцу рассказала. Сурен им говорит: „У нас ничего такого нет, мы так“. Они, конечно, не верили. „Пусть она уходит, позор какой! Без брака живете!“ Сурен говорит: „Если она уйдет, и я уйду с ней“. Мы ушли с ним на конспиративную квартиру и там жили» (с. 113–115).
После победы
Первое время после того, как в Баку вошла 11-я армия во главе с Кировым, Анастас занял важный пост в партийном руководстве, а Оля стала секретарем ЦК комсомола. Но очень скоро их самостоятельность оказалась опасной для нового порядка и обоих отправили на север — перевоспитывать героев Гражданской войны в винтики партийной машины. Сперва эта судьба постигла Микояна, Олю — немного погодя.
Молодежь держалась независимо, своевольно. Большевистские верхи старались подавить эту групповую сплоченность и поодиночке разбрасывали героев по России, где никто про их геройство не знал.
В марте 1921 года отозвали Микояна за преждевременное решение начать борьбу с дашнаками. Анастаса отозвали одного, поскольку он возглавил эту борьбу. Его послали в Нижний Новгород. «Это казалось нам всем ужасным, как ссылка. Уехать из родных мест, с Кавказа, куда-то на север. Мы все очень его жалели. Он уговаривал меня поехать с ним: „Неужели ты отпустишь меня одного в чужие края, на север, на чужбину? Неужели не поедешь со мной?“ — „Я очень тебя люблю, Анастас, — отвечала я, но поехать с тобой не могу. Уехать с родины, когда мы столько лет боролись — тогда это казалось, что столько лет, и теперь, наконец, победили. Это, конечно, ужасно, что тебя посылают туда, на север, но я поехать не могу. Это даже к лучшему. Жизнь сама решит за нас, мы расстанемся и перестанем ссориться“.
Тогда мы простились, он ушел. В честь его отъезда был устроен вечер, но я не пошла туда. Зачем? Когда все говорили о наших с ним отношениях, прощаться на людях, чтоб все смотрели и говорили: „Вот она не поехала с ним“. И я помню, он ушел, и я долго сидела около балкона в своем кабинете, где я жила. Мне было очень грустно, что он уезжает, что я лишаюсь близкого друга. Долго я так сидела. Вдруг вижу идет Левон Мирзоян.
— Оля, пожалуйста, пойдем. Анастас очень грустный и мрачный. Просил приди, хоть ненадолго, проститься.
— Я уже простилась.
— Пойдем, очень прошу тебя.
Он долго все уговаривал меня, даже встал на колени.
— Пойдем, я прошу тебя!
— Нет, не пойду. Зачем я буду прощаться с ним на людях?
Мы уже простились.
Потом я говорю: „Тебя Анастас послал?“
— Нет, он не посылал. Мы все видим, какой он грустный, и я пошел за тобой.
Я говорю: „А зачем тогда Сурену сказал, что у нас с Анастасом уже всё?“.
— Так я думал. Вы все время спорите, ругаетесь. Все так думали.
Потом говорит: „Оля, теперь мы уже на вечеринку опоздали, пойдем, еще успеем на вокзал. Пойдем, хоть там простишься“. Так он просил, все уговаривал меня, наконец, я говорю: „Иди, Левон, а то ты меня уговариваешь, ты же сам опоздаешь к поезду“. И он ушел. А потом опять пришел.
— Ну что, проводили?
— Да, было очень много народу. Все пришли на вокзал, только ты не пришла.
— Ну, вот видишь, зачем бы я пошла? И так много народу.
— Скажи, ты догадалась?
— О чем?
— Ты хитрая, ты догадалась? Да?
— Нет. О чем я должна была догадаться?
— Неужели ты не догадалась? Мы хотели украсть тебя, заманить на вокзал. А там я бы тебе сказал: „Оля, давай зайдем проститься в купе“. А там бы тебя заперли, поезд бы тронулся. Потом где-нибудь я бы сошел, а ты бы поехала. Уж не будешь же возвращаться, когда все будут знать, что ты поехала.
Я говорю: „Неужели, это Анастас придумал?“
— Да нет, я вижу, какой он мрачный, я ему предложил: давай, увезем Олю насильно. Потому я тебя так и уговаривал. Значит, ты с Суреном остаешься?
На другой день я приехала к Сурену в Черный город. Он говорил потом, что очень волновался, он не знал, уехала я или осталась. Хоть я и сказала ему, что не поеду с Анастасом, но он боялся, вдруг я перерешила. Вскоре и меня послали в Черный город, и мы стали жить вместе. Анастас прислал с дороги письмо, очень большое. „Ты не поехала со мной, я еду один на чужбину. Мне грустно и одиноко“. Сурен нашел это письмо, поднял его высоко в руках так, что я не могла дотянуться. Я говорю: „Как ты смеешь брать мои письма?“. Он говорит: „Ты сказала, что с его отъездом, наконец, все кончилось, а сама хранишь его письма. Вот, вот!“. И высоко наверху порвал письмо много, много раз.
Мы прожили в Баку полгода. В ноябре 1921 года нас тоже отослали на работу в Брянск» (с. 99-101).
В проводах Анастаса много примечательного. Левон Мирзоян стоял на пороге блистательной партийной карьеры, через несколько лет он секретарь ЦК Азербайджана, а потом Казахстана, и Сталин милостиво дозволил ему назвать город своим именем (разумеется, пока в 1938 году все это не кончилось обычной катастрофой). И вот Мирзоян еще совершенно не боится участвовать в шумных массовых проводах полуопального Микояна, который отправлялся в партийную полуссылку за недисциплинированное поведение, за то, что он не дождался приказа из Москвы, не посчитался с тем, что у советской власти в Азербайджане нет массовой опоры и не стоило пока ссориться с дашнаками, влияние которых в городах было довольно сильным. Никакого страха репрессий еще нет в партийной среде. На пирушке была еще целиком та революционная молодежь, дышавшая воздухом подполья, не покорившаяся духу жесткой дисциплины. Но мало этого, лично Мирзоян придумывает интригу, как вывезти Олю вместе с Микояном в поезде, заперев ее в купе, абсолютно не задумываясь о том, что это — не просто женщина, а партийный кадр. В это время ее уже из секретарей ЦК комсомола перевели в секретари партийного райкома в один из районов Баку. По-видимому, чтобы в новой иерархии она была не первой, а второй. Секретарь райкома — это партийный кадр. Как можно было перебрасывать ее в другое место, не получив никакого разрешения, просто потому что хотелось удружить Анастасу и устроить его личную жизнь. Вся ситуация очень характерная для переломного момента, когда люди еще оставались людьми и не были партийными кадрами.
И, наконец, мы видим здесь Анастаса Ивановича Микояна в последний период его романтической молодости и Олю между двумя влюбленными, каждый из которых был по-своему ей дорог.
Очень скоро пришла очередь и Оли уезжать. Личный авторитет Оли Шатуновской после всех ее легендарных подвигов не укладывался в партийную иерархию. За Олей в Баку сразу подымалась целая стайка молодежи. Возникла опасность, что комсомольская организация Азербайджана противопоставит себя в целом партийному руководству. И это вызвало (мягкие еще по тем временам) партийные репрессии.
Когда второй раз пришла советская власть, Нариманов завладел особняками. Рабочие ЧОНа (частей особого назначения) протестовали, требовали, чтобы в них были детские дома. В то время из сорока губерний России привозили тысячи голодающих детей. «„Вот их туда и помещайте“, — говорили рабочие. Рабочие выходили с винтовками на улицу, останавливали машины. „Все из машин выходите на шоссе! Разве мы для этого завоевывали советскую власть?“ — „А чего вы, здоровые, туда ездите? Вот их туда и помещайте“. Меня вызвали тогда в ЦК, вот что твои рабочие творят! Нариманов не хотел национализировать землю. Когда мы говорили об этом в Москве, нам сказали: „Мы это знаем, ничего. Пока пусть он будет. А вы пока поработайте в России, наберетесь опыта“. Мы с Суреном пошли в Москве к Молотову в ЦК, который помещался тогда в Доме архитектора, чтобы нас вместе послали, так как нам дали путевки в разные места: Сурену — на Эмбанефть, а мне — в Ленинград. Ну и тогда нас послали в Брянск» (с. 123).
Нариманов был нужен, чтобы придать азербайджанский облик новому советскому правительству Азербайджана, в котором слишком мало было сколько-нибудь заметных азербайджанцев. Большинство образованных азербайджанцев бежали от советской власти в Иран и впоследствии остались в эмиграции. А Нариманов все-таки был известный человек, писатель. И он нужен был как вывеска. Поэтому, до известной меры, его терпели. А главное то, что, как показал опыт, большевистская партия не терпела чрезмерной инициативы на местах. Все должны были действовать по приказу из Москвы. И Оля со своим романтизмом, со своим чувством, что судьба дала ей право решать самой, оказалась человеком, не укладывающимся в новый порядок. Если для Анастаса Микояна его отъезд был последним вольным шагом жизни и он быстро привык к дисциплине, то Оле со временем припомнили ее недисциплинированность.
Впрочем, свою преданность Оле и готовность при малейшей возможности ей помочь Анастас Микоян сохранил. И каждый раз, когда представлялась малейшая возможность это сделать, он это делал. В 1939 году, когда сняли Ежова, он сумел продвинуть дело Ольги Шатуновской на реабилитацию. Но дело это не прошло. Берия наложил на него лапу. Потом Анастас помог ей выбраться с Колымы, откуда не выпускали даже отбывших сроки и даже попытался выпросить у Сталина разрешения жить ей после Колымы в Москве, но — Шатуновская слишком много знала такого, что и Берия, и Сталин хотели похоронить.
«Берия был в Грузии. Он не был в Азербайджане долго. В Азербайджане его посадили в тюрьму, а его Багиров выпустил. Его посадили как провокатора, а Багиров его освободил. Киров в Тбилиси был тогда постпредом. Он дал телеграмму в штаб 11 армии, в реввоенсовет, Орджоникидзе: „Сбежал провокатор Берия, арестуйте“. И его арестовали в Баку. А потом Багиров его освободил. А почему? Они друзья были? (реплика Джаны). Не друзья, а просто оба — провокаторы, тот и другой. Багиров же на самом деле служил в земской полиции. А когда советская власть пришла, он переделался. Он — провокатор и тот — провокатор. Вот и получилось, что провокаторы пролезли» (с. 119–120).
Впоследствии дело Ольги Шатуновской в 1937 году началось с доноса Багирова, который все недисциплинированные поступки молодой Ольги Шатуновской интерпретировал как троцкистскую деятельность. Хотя в то время это была деятельность, направленная против Троцкого. Ибо тогда Троцкий не был в оппозиции. Он стоял рядом с Лениным. А в вопросе о Карабахе он был вместе со Сталиным сторонником таких действий, которые удовлетворяли турок.
***
В Брянской губернии Оля и Сурен тоже оказались в разных городах. И это, в конце концов, разрушило своеобразные отношения, которые сложились между ними, еще когда они были полудетьми.
«Сурена назначили директором Людиновского завода. Машиностроительный завод, турбины изготовлял. Он пришел домой и мне говорит: „Вот, мол, как, соглашаться или нет?“ Все же это интересно, промышленность — серьезное дело. От Брянска до Радицы паровозной недалеко, а оттуда паровозик в Людиново ходит.
Мы решили, что будем друг к другу ездить, я-кнему, а он — ко мне. Я говорю: „Соглашайся“. Так и жили. Потом я в командировке заболела. Воспаление легких. Я приехала к нему в Людиново больная. Лежу в его комнате в Доме приезжих на большой кровати. Мне ставят компрессы, банки. Большая комната, я лежу за ширмой, а в комнату все время кто-то входит. И ко мне за ширму заглядывают. Все время хлопают двери. Я спросила эту женщину, заведующую домом приезжих: „Кто это?“. Она помялась немного, а потом говорит: „Вы только ему не рассказывайте, тогда я скажу. Видите ли, когда Вы приезжали раньше, Сурен Хуршудович не говорил, что вы — его жена, а его сестра“. А сейчас я лежу на его постели, она уж понимает, что я никакая не сестра, а жена. „Вы такая красивая, от такой красивой жены…“ В общем, она рассказала мне, что его возлюбленные любопытствуют на меня посмотреть. Он был очень интересным человеком, музыкальный, он им самодеятельность организовал в клубе. Ясно, что все девки на него вешались. Но я тогда этого не понимала. Я не была его фактической женой. Может быть, сказалось то, чтояв18летперенесла тиф, когда приехала из Тифлиса во Владикавказ. Когда он пришел вечером с работы, спрашивал, как я себя чувствую, хочет переменить компресс, я ничего этого делать не дала, сказала: „Не трогай меня!“. Едва смогла встать на ноги, дошла до станции и уехала к себе в Брянск. И тогда в Брянске я стала более приветлива с Юрием.[19] Я, конечно, видела, что нравлюсь ему» (с. 131–132).
«Я хотела отомстить Сурену и поэтому сблизилась с Юрием. Я и ему так сказала. Он был, конечно, оскорблен, что его используют как орудие мести. Он, правда, очень удивился, что я — девушка.
— Но если бы ты не была Сурену фактической женой, что ж ему оставалось? Неужели ты не понимала? (Далее идет диалог с Джаной)
— Нет, не понимала. Я думала, что можно и так. И так хорошо, а это не обязательно.
— И никто не объяснил?
— Я ни с кем не говорила — ни с матерью, ни с подругами, что вот так. Не делилась такими интимными подробностями. Все считали, жена и жена. Но спали всегда вместе, он меня целовал, обнимал, ласкал. А этого я не хотела. Мне казалось, что это лишнее, зачем, когда и так хорошо. А сама потом думала, почему так у меня было. Может быть, сказалось то, что я перенесла тиф, у меня не было потом год менструаций, может быть, я отстала в развитии. Он не настаивал, не принуждал, он только спрашивал: „Ну, ты потом, когда-нибудь будешь?“. Я говорила: „Да, потом“. Странно все это. „Почему же он тебе не объяснил, что так нельзя?“ Не объяснил. Он никогда мне этого не говорил. Может быть, боялся оскорбить — вот, дескать, он иначе не может. Только рассказывал про свои измены и раскаивался. А может быть, и сам не считал, что иначе нельзя. Сам раскаивался, что не может подождать. „Странно…“ Да, странно и непонятно. Я сама, когда вспоминаю, удивляюсь. „А когда Вы решили быть вместе?“ Что мы будем жить вместе? Это всегда так считалось. Жить вместе мы стали с гражданской войны. Однажды на фронте, ночевали в избе, было очень холодно, мы легли вместе. С тех пор всегда стали быть вместе, то есть стали считаться мужем и женой для окружающих» (с. 132–133).
Разрыв с Суреном был болезненным и долгим. Он клялся, божился, что больше этого никогда не будет, что это в последний раз. Но потом опять повторялись его измены. И он сам рассказывал о них, клялся опять
«Я была глубоко оскорблена. Одной из последних была история с Марусей Барановой. Мы с Шурой Барановым считались братья, потому что вместе были приговорены к смертной казни: Сурен и он. Нас послали на съезд партии в Москву. Сурен приехал из Ленинграда и рассказал, что там в Ленинграде у него был роман с Марусей Барановой, сестрой Шуры. Он остановился у них и сблизился с нею. Она умоляла его не бросать ее. Он говорил ей: „Ты знаешь, я с Олей“. — „Оставь Олю“. Она упала в коридоре в обморок, он поднял ее, отнес в комнату на диван и ушел. Мне так противно это все стало. Я говорю: „Ты вот что сделай — возвращайся в Ленинград к Марусе. Как ты мог? Маруся, сестра Шуры, с которым мы вместе под смертью были“. И тогда мы решили разъехаться. Сурена послали председателем совнархоза в Ташкент, а нас с Юрием отправили в распоряжение Сиббюро в Новосибирск. Там был председатель[20] ЦК Косиор. Меня — в агитпроп, Юрия — секретарем райкома» (с. 133).
Я думаю, что история любви и разрыва Оли с Суреном не сводится к причинам, о которых говорили Ольга Григорьевна с Джаной. Бывает ведь и так, что страх перейти через известную черту охватывает не женщину, а мужчину, и активную роль играет женщина. Так было в отношениях между Александром Блоком и Любовью Менделеевой. Блок помнил взрывы своих страстей и не хотел такого взрыва с Прекрасной дамой. А Любовь Дмитриевна не понимала, чего он боится. И в конце концов ей удалось увлечь его. Но той радости, которой ожидала, она не получила. Блок действительно не умел контролировать взрывы чувственности, потерявшей связь с сердцем. При близости возникают очень мощные взрывы биологической энергии, и нужна собранность духа, чтобы использовала этот порыв так, как флейтист использует свое дыхание, превращая дыхание в музыку. «Любовь вплотную» (выражение Цветаевой) может стать музыкой осязания. Шопен писал Жорж Занд, что в присланном ей ноктюрне он запечатлел память проведенной с ней ночи. Но далеко не всем это удается. И многие значительные люди оказываются рабами примитивного инстинкта. Одним из таких людей был Н. А. Бердяев. Он пишет, что в области пола человек спускается на уровень животных, что пол принижает человека. Надсон не был девушкой, у которой прекратились менструации, но он писал стихи, которые часто цитируют:
Только утро любви хорошо, Хороши только первые речи.На самом деле это не так, но добиться того, чтобы это было не так, не просто. И поэтому страх перед рубежом половой близости может быть связан просто с поэтичностью чувства. Чувство девушки, готовой носить на груди томик любовных стихов Тагора, чувство, связывавшее Ольгу с Суреном, вызывало страх, что волна страсти опошлит любовь, сведет на уровень чего-то, что у всех. Недаром ведь французы говорят, что самое опасное препятствие для любви, когда не остается никаких препятствий. Именно это препятствие очень трудно преодолеть, сохранить те глубоко личные чувства, сохранить поэзию, святость чувства, когда начались ласки, в которых очень много биологической энергии и не сразу удается выступить высшим духовным силам человеческой личности. Поэтому психологический барьер, перед которым остановилась Ольга Шатуновская, нельзя вывести только из того, что она переболела тифом и нарушилось физиологическое равновесие девичьего организма.
В одной семье, с которой мы переписываемся, юноша полюбил девушку. Оба были очень молоды: ему — 16, ей — 15. Но именно ей захотелось всего, а он сказал: рано. Девушка обиделась, ушла, потом вернулась, почувствовала, что любит его, какой он есть, нестандартный, не такой, как все. И они стали жить, как Сурен с Олей. Разница только в том, что родители обо всем знали (мальчик был дружен с отцом и все ему говорил; возможно, сказалось время, когда говорить о таких вещах стало легче, чем раньше, исчезли старые табу). Длилось это довольно долго. Потом все наладилось.
Из попыток Ольги Григорьевны объяснить дочери свое поведение я бы подчеркнул табу, закрывшее возможность называть вещи своими именами. Сейчас это табу может сохраниться на личном уровне, но сто лет тому назад его поддерживала культура. И трудно сказать, что решило в жизни Оли — характер или эпоха.
Бунтарка по натуре, восстававшая против родителей и впоследствии против партийной дисциплины, Оля в чем-то оставалась барышней из чопорной семьи, в которой вопросы пола были табу. Это чувство табу, невозможность прямо о чем-то сказать, очень крепко в ней сидело, она не могла его преодолеть.
Когда белые подходили к Владикавказу, Оля почувствовала, что не может оставить заболевших друзей, валявшихся в тифозных бараках. Форма сестры милосердия у нее была. Она ее надела и явилась в госпиталь в качестве вольнонаемной. Знать она ничего не знала, гимназисток учили только перевязывать раны. Оля гладила больных по голове, давала им пить. Однажды начальница госпиталя велела поставить больному катетер. Оля никогда не видела члена детородного. Увидев его, она чуть не упала в обморок. Начальница госпиталя промолчала, но все поняла. Через несколько дней она вызвала к себе Олю и сказала, что не сочувствует большевикам, но вынуждена их предупредить: приходили офицеры контрразведки и спрашивали, не скрываются ли большевики в госпитале. Сомнений не было — надо уходить. Пришлось перебраться в бараки, где никакой медицинской помощи не было, живые и умирающие валялись на соломе. Оля дала приказ выздоровевшим уходить в Грузию, и вдруг сама заболела. В перерывах между наплывами бреда она написала записку, приказав уходить без нее, а потом прислать за ней. Сурен дважды пытался вернуться, но товарищи силой ее увели.
Организм Оли, вынесший впоследствии Колыму и ссылку, не выдал — она выздоровела, но не держалась на ногах. Человек, присланный из Тифлиса, едва дотащил ее до молоканина (русского сектанта), занимавшегося извозом. Молоканину ее выдали за дочь генерала, который хорошо заплатит за ее спасение. Увидев полумертвую девушку, сразу упавшую на пол, он наотрез отказался ее взять. Но вмешались жена, дочь — уговорили. Олю запихнули между коврами, и так она семь суток пролежала в дороге без капли воды. Друзья, каждый день приходившие встречать арбы из Владикавказа, не узнали ее. С трудом, в полуобмороке, она узнала их. Через самое короткое время она вернулась в Баку на подпольную работу, возглавила группу связных, ездила через три фронта к Ленину, привезла в Баку деньги для покупки оружия.
***
В 1925 г., когда Нариманова сняли, Ольга Шатуновская вместе с Кутьиным вернулась в Баку. Работала она секретарем райкомов в разных рабочих районах, ее знали и любили, всегда избирали в Бакинский комитет партии. И здесь она опять почувствовала за собой тот шлейф личной славы, которая позволила ей принимать самостоятельное решение и выступать против любого авторитета. Да, она выполняла линию партии, она боролась за реконструкцию нефтяной промышленности, боролась против троцкистов. Действительно активно боролась, не давала троцкистам завоевать ни одной ячейки. Но в то же время она решительно выступила против стиля работы Мирзояна, который ей, недавний ее товарищ, не понравился, показался слишком властным.
Она пишет об этом так: «Потом я была одним из инициаторов раскрытия ошибок партийного руководства, у нас тогда был Мирзоян — так называемой атаманщины, зажима самокритики. ЦК поддержало нас, и „Правда“ 28 июля 1929 г. напечатала постановление об этом и статьи Емельяна Ярославского, но потом вскоре нас опять отозвали» (с. 139).
Связь событий Ольга Григорьевна не заметила и, вспоминая об этом на старости лет, опять не до конца продумала. А между тем, атаманский стиль руководства был сталинским стилем руководства. Т. е. стиль авторитарный, стиль, превращавший демократический централизм в безусловное подчинение одному человеку, первому секретарю, партийному лидеру. И она не скоро разгадала, что постановление о зажиме самокритики, об атаманщине, статьи в «Правде» были сталинским маневром. Поэтому не случайно статью напечатали, их похвалили, что они правильно действовали, а потом быстренько отозвали из Баку. И тут, в большой России, Оля сразу теряла свой шлейф личной славы, личного авторитета и становилась винтиком большой партийной машины. Она добросовестно выполняет свою работу, но без прежнего увлечения, и все большую роль в ее жизни играет семья. В своем домашнем кругу она как бы продолжает бакинскую легенду. Начиная с 1927 г. Ольга Григорьевна рожала детей, и мальчиков она называет именами бакинских комиссаров — Степа, Алеша, девочку — Джаной (тоже воспоминание о Баку).
Четвертые роды оказались неудачными. Они кончились выкидышем на седьмом месяце: из-за небрежности акушерки Ольга Григорьевна чуть не погибла. Виновную в этом она простила.
«Лежу. 12 человек родильниц, сестра приходит, простыни подо мной меняет, обложили льдом.
— Вы что-нибудь сделали?
— Да Вы что! Если бы хотела, я б на пять недель сделала! Зачем же я буду на седьмом месяце?
Ладно, обложили льдом. К ночи стало сильнее. Я лежу в полузабытье, больные кричат: „У нее кровь под кроватью! Вызовите врача!“. Пришла сестра, выдернула простыню, что-то на пол шмякнулось. Я говорю:
— Что?
— Да ничего, сгусток» (с. 157).
Ольга Григорьевна начала понемногу терять сознание, «очнулась от крика, они кричат так ужасно все сразу: „Мы ей говорили, мы ей все говорили. Она ничего не делала“. А это в четыре часа детей кормить принесли, свет зажгли, они увидели, как я лежу, такой крик подняли: „Умирает, умирает! Зовите врача!“ Меня на каталку в операционную…» (с. 157).
Потом пришли к ней спрашивать показания.
«— Все дали, остались только Ваши.
— И что тогда будет?
— До пяти лет тюрьмы.
— Тюрьмы?
— Да, конечно. Вы ж понимаете, она совершила преступление! Вы могли умереть! Дайте Ваши показания.
— Из-за этих показаний ее посадят в тюрьму? Но я не хочу кого-нибудь сажать в тюрьму!
— Но Вы понимаете, она совершила преступление! Вы могли умереть!
— Ребенок уже все равно умер, а я жива. Нет, я не буду, я не хочу.
И я вижу, главврач радуется, даже сказал что-то. Конечно, ему не хочется, чтобы потом про его больницу так говорили.
— Так Вы не будете давать показания?
— Нет. Не буду! Они ушли, открывается дверь, и та акушерка прямо с порога падает на колени, целует мне руки: „Спасибо, спасибо, что Вы меня от тюрьмы спасли“. Я говорю: „Как же это так получилось?“. — Все мой супротивный характер виноват. Он у меня с детства такой. Что мне говорят, я всегда наоборот делаю. Чем они больше кричали, тем меньше я хотела сделать по-ихнему. Они кричат: „Врача!“. Я: „Нет, не вызову вам врача!“ Я сама не знаю, почему я такая. Вот теперь чуть до тюрьмы не дошла.
Ну вот, отлежалась немного и вышла на работу» (с. 158159).
Tак заканчивает Ольга Григорьевна свой рассказ.
Понятно, что четыре беременности за несколько лет оставляли ей не так уж много места для ее партийной деятельности. И в какой-то степени это было если не сознательно, то полусознательно. Полусознательно она ушла в свое, женское. И как бы у себя дома пыталась восстановить то счастливое царство, которое она пыталась строить в юности в бакинской коммуне. Со Степой ребенком, с Алешей ребенком, Джаной ребенком.
Но работа шла. Ольга Григорьевна поучилась на курсах марксизма-ленинзма. И вопреки ее желанию уйти на скромную работу в какое-то железнодорожное управление, ее взяли в Московский комитет. Вспомнил ее Каганович, слышал когда-то ее выступление в Брянске на конференции, взял в аппарат. И вот она оказалась там заместителем заведующего орготдела МК. Заведующим был Крымский. Потом его послали начальником политуправления Черноморского флота, который в Испанию людей возил, а она стала исполнять обязанности зав. отдела и парторга ЦК и МК. Это была партийная организация единая. И еще комсомол. Всего 500 человек. Работала много, ее любили, она старалась всем что-то сделать: одному сестру надо устроить учиться, другому ребенка в сад и т. д.
«В то время я не понимала, почему Крымский на все трудные дела меня посылал, — что они использовали женское обаяние в партийных целях. И действительно, все сложные дела решались» (с. 159). А потом «Крымского арестовали, как троцкиста. А меня и Демьяна Коротченко обвиняли потом, что мы во всех районах своих людей сажали, троцкистские кадры, потому что как раз в это время проходили везде партконференции и мы всюду ездили.
Вот однажды звонят из Калинина: „Оля, у нас идет партконференция, выступают, кричат, что Голодникова не перевыбирать, потому что у него в ЖДаРе (название завода) в секретарях парткома был троцкист, он его поддерживал. Что делать?“ Я посоветовалась с Демьяном Коротченко. Он говорит: „Ты скажи так — Сталин на днях сказал: не всякий троцкист, кто с троцкистом по одной улице прошел“. Он любил такие лицемерные формулировки. Сам всех сажает, сам говорит так…
Я познакомилась со стенограммой выступления и в докладе обсуждаю все вопросы, которые поднимались о промышленности, о сельском хозяйстве, а потом говорю о парторге ЖДаРа, говорю, что его назначило руководство для укрепления завода как опытного коммуниста. Крики:- А вы что, не знали, что он троцкист?
— Знали. Но мы считали его преданным делу нашей партии.
— Ну, органам виднее.
— Я хочу сказать, что московский областной комитет полностью доверяет Голодникову и рекомендует его кандидатуру» (с. 159).
На этот раз Ольге Григорьевне удалось отстоять решение, казавшееся ей разумным, удержать от очередного взрыва истерики бдительности, и две трети проголосовали за то, чтобы доверять Голодникову. А через несколько месяцев он был арестован. Потому что тут лавина шла, и всякие попытки остановить лавину, восстановить права здравого смысла интерпретировались потом как помощь врагам народа.
Вскоре на саму Олю поступил упомянутый уже донос из Азербайджана от Багирова, в котором все ее бунтарские юношеские выступления интерпретировались как троцкистская деятельность. То, что это логическая нелепость, никого не смущало. Ее с ответственной работы сняли, перевели на работу в издательство и начали подбирать на нее материалы. Она работает, на нее подбирают материалы. И когда ее посадили, уже были, наконец, подготовлены материалы очных ставок. Как эти материалы были получены, можно легко догадаться.
III. Колымская тропа
В застенках
О своей судьбе Ольга Григорьевна узнала заранее. Левон Мирзоян, против которого она когда-то бунтовала, был на приеме у Маленкова. Того внезапно вызвали к Сталину, и Левон прочел знакомые фамилии в списке, лежавшем на столе: Агамиров, Шатуновская. Это был список коммунистов с дореволюционным стажем, которых нельзя было арестовать без санкции ЦК. Подпись Маленкова уже была поставлена. Мирзоян встретился с Суреном и сказал ему: предупреди Олю… Первого ноября Сурен и Оля простились, а пятого за нею пришли.
Материал против нее был выбит с трудом.
«Энкавэдэшники сами говорили: „Что за птица такая, Шатуновская? Никто на нее давать показания не хочет“. Всех секретарей райкомов арестовали, каждому какое-нибудь дело пришили, заставляли на себя подписывать и на других. Они подписывают, что делать? — когда забьют, кровью исходишь, но на меня отказывались давать… А двое все же дали.
Устраивают очную ставку: Парташников. Очная ставка Парташникова и Шатуновской. Показания Парташникова: „Такого-то числа Шатуновская пришла ко мне в кабинет и сказала: „Ничего, Парташников, не расстраивайся, нас осталось мало, но все равно наша троцкистская организация действует“.
— Шатуновская, Вы согласны с этим?
— Какая организация, какая чушь! Парташников, подними голову, посмотри на меня.
Он не поднял.
— Парташников, Вы подтверждаете свои показания?
— Подтверждаю.
— Подпишитесь.
— Шатуновская, подтверждаете?
— Нет!
Пишет — отрицаю.
— Подпишитесь.
Его уводят. Думаю, а зачем меня оставили? Вводят еще одного. Очная ставка с Матусовым. Он тоже был у нас секретарем райкома. Матусов показывает, что во время перевыборной партконференции Шатуновская была выбрана в президиум и сидела рядом со мной и шептала мне на ухо, что надо переходить в их троцкистскую организацию. И в это время она меня завербовала.
— Какая чушь! Во время конференции, в президиуме, шепотом я тебя завербовала? Матусов, посмотри на меня!
Не смотрит. Сидит замученный, понурый.
— Матусов, Вы подтверждаете?
Матусов подтверждает.
Потом, наверное, после этого была встреча с Персицем в его кабинете, потому что я спросила его, а зачем же тогда эти очные ставки, эти протоколы? „Так надо“, — говорит он. Потом дают подписать окончание следствия: „Следствием установлено, что Шатуновская занималась контрреволюционной партийной деятельностью, насаждала в советских партийных аппаратах троцкистские кадры, вербовала в троцкистские организации“.
— Что это? Я не подпишу такое.
— Подписывайте, подписывайте…“»(с. 169–170).
Разговор с Персицом приводится в главе «Истоки и устье Большого Террора».
Был один замечательный эпизод в самом начале следствия — встреча со следователем Захаровым. В тридцатые годы Ольга Григорьевна была парторгом по шахтам в подмосковном угольном бассейне. 144 района входило в Московскую область, в том числе Тула, Тверь. Огромная была Московская область. Поскольку угля было мало, этот бассейн имел большое значение.
«Я туда приезжала и спускалась в самые шахты, — рассказывает Ольга Григорьевна. — Разрабатывали пласты толщиной до одного метра, кое-где приходилось пробираться ползком. Работали отбойными молотками и кирками… Однажды я пришла в забой, там работали несколько человек, и это всегда было опасно, когда работали широким фронтом, потому что может обвалиться кровля. Они, рабочие, и говорят: „Уже крепи трещат, уходите“. А я им говорю: „Пока вы здесь работаете, я буду с вами“. Им, конечно, приятно, что товарищ из Московского комитета партии находится здесь, с ними. Но вот уже крепи начали ломаться, и мы ушли из забоя. После того, как я вернулась из бассейна, решали, как поднять производительность? И я внесла предложение — устроить для шахтеров прогрессивку, заинтересовать их и других тоже. А в 1937 году первым следователем был Захаров, такой рыжий человек. И когда мы остались с ним одни, он спрашивает: „Вы меня не узнаете?“
— Нет.
— А я был тогда в забое, в Подмосковном угольном бассейне. Когда вы приезжали к нам и мы все вами восхищались, что вот вы с нами. Неужели вы — враг народа?
Я ему отвечаю: „Я такой же враг народа, как и тогда. Я ни в чем не изменилась“. Он схватился за голову и вышел из кабинета. Входят другие: „А! С такой сволочью, с таким закоренелым врагом даже следователь отказался работать!“. И меня передали другому следователю.
В конце пятидесятых годов ко мне приходили из московской военной прокуратуры два прокурора и сказали, что Захаров работает сейчас главным прокурором Московского военного округа и что он хочет ко мне прийти, но ему очень стыдно, что он был моим следователем. Я спросила: „Какой? Рыжий?“ — „Да, да, рыжий“ — „Ну что ж, он ведь отказался, он ничего мне не сделал. Пусть придет“. Но он не пришел» (с. 172–173). Я думаю, Захарову стыдно было за другие свои следственные дела, от которых он не отказался. Многим тогда становилось стыдно.
Дорога на тот свет
«После окончания следствия приводят в общую камеру… Трехэтажные нары. 120 человек, десятиведерная параша. Я еще молодая, гибкая была, мне хотелось размяться. Я стала на нарах делать что-нибудь — ноги за голову закину или голову между ног. Маруся Давидович говорит: „Не делай этого, они тебя осуждают, говорят, трех детей оставила, а сама это выделывает“» (с. 170).
«Потом нас перевели в Бутырскую тюрьму. И там камера без стола. Нам хлеб на пол покидали и бадью с баландой поставили. Дежурные подошли к дверям и говорят в глазок:
— Возьмите вашу еду.
— Мы — не собаки с пола есть,
— А у нас стола нет.
— Ну и не надо. Совсем есть не будем.
Но что это, это же голодовка. Это они не могут, посовещались. „Выходите все на прогулку!“ Погуляли где-то по заднему двору минут пятнадцать, привели в другую камеру со столом, на нем еду поставили. А еще разрешали здесь, когда в баню идешь, что-нибудь покупать в счет тех денег, что они отобрали. Кто-то из женщин купил желтую майку, ее распустили, стали вязать. Она раздала кому что — кому спинку, кому воротник, кому рукава. Что ни делать, лишь бы делать. Все рады. А я научилась крючки из спичек делать…» (с. 171).
«Потом дают приговор особого совещания: 8 лет исправительно-трудовых лагерей за контрреволюционную троцкистскую деятельность. „Подписывайте“. Я перевернула листок. „Вы что? Вы что делаете?“ — „Ничего. Я хочу номер дела посмотреть“. Тогда еще такие иллюзии были, что буду жаловаться, писать, номер дела нужно. „Нельзя этого“. Вырвал у меня бумагу, перевернул: „Подписывайте!“ Но я успела все же углядеть, что на обороте зелеными чернилами „колы“ было написано. Значит, Колыма» (с. 172). «В Бутырке, когда подписали приговор и стали готовить нас к отправке, один раз привели на ночь в камеру, а на столе лежали книги, и одна была „Отцы и дети“. Я ее очень любила. Я ее схватила, забралась за выступ стены и всю ночь читала. И словно луч солнечный засветился среди мрака. Пока я жива, мой внутренний мир существует, никто не может его отобрать. И книги есть, значит, еще можно жить» (с. 173).
«В дороге давали ржавую селедку и хлеб, наполненный тараканьими яйцами, который есть было невозможно. На одной станции мимо вагона идет начальник поезда. Он был страшный пижон — желтые краги и стек. Идет, стеком по своим крагам пощелкивает. Одна женщина, которая лежала на верхних нарах, говорит ему: „Посмотрите, каким хлебом нас кормят“ — и кинула ему пайку. И сейчас же, не сговариваясь, все протянули ей свои пайки и все „трах, трах“ упали прямо к его ногам. Он, конечно, не нагнулся смотреть, как заорет: „Ах, бляди, туда их, и туда!“ Страшный матерщинник, знал ведь, что не блатнячек везет, а политических, и так ругался. „На три дня на хлеб и воду!“ Да и про хлеб он знал, из списанной муки его делали. И вот три дня воды не дают, а до этого ведь ели селедку, пить хочется, жажда мучит. Около Биробиджана пошел дождь, мы свои кружки выставили, с крыши течет черная вода. Нам уже все равно, в кружки капает, покапает, выпьем, снова ставим. Пока состав шел, не было видно. А на станции они заметили. „Убрать!“ — кричат. Мы не убрали. Они палить из винтовок начали. Пули летят в окошко. Все с нар соскочили, на пол попадали. За эту дорогу двое в теплушке умерли, старушки, может, и не старушки, а просто постарше, мне так казалось. И как-то раз, не то простудились, не то заболели. Врач приходила и всем одинаковые порошки стала давать. Я тоже два взяла, бумагу с них развернула. У одной женщины в шве был графит зашит, и я маленькими муравьиными буковками письмо маме написала, сложила треугольничек и адрес написала… Один раз на станции, вижу, женщина идет с мальчиком через пути, а конвойные так ходили: туда — обратно, другой — обратно — сюда, как раз повернулись и к концам пошли. Я подождала, когда она подойдет, и глазами ей показываю и шепчу. Она услышала, подошла ближе. Я ей — к ногам конвертик этот крошечный, его к хлебному шарику прилепила, чтоб падал лучше. Он прямо к ее ногам упал, она кивнула мне — поняла, мол, нагнулась чулок поправить и взяла бумажку и опять кивнула, глазами только, и пошла с мальчиком. Мама письмо это получила. Оно было в конверт положено и дошло. Ну, что-то уместилось: „Мама я живу. Везут на Колыму. Когда смогу, напишу.“ Потом еще один раз также на другой бумажке написала. И тоже дошло» (с. 174).
На Колыму Ольга Григорьевна плыла на пароходе Дальстроя. На нем всегда везли заключенных на Колыму. Возили не через Татарский пролив, пролив слишком мелок, а через Лаперузов, мимо Японии. Там однажды один корабль затонул и все заключенные погибли. К счастью, на этот раз корабль прошел, но шторм был страшный. Из-за шторма плыли не десять дней, а две недели. Шторм был самый большой, как казалось, во всяком случае, Ольге Григорьевне. Но она не очень разбиралась в этих баллах и говорила — не то 10, не то 12 баллов. «Все в трюмах валяются, рвут, под себя ходят, сюда же пайки бросают. Многие умерли, и мертвые через живых перекатываются, рвота, блевотина, моча, запах такой стоит. Когда пришли, чтобы в гальюн вести, я одна вышла, больше никто не поднялся.
— Что, больше никто не хочет?
— Вы же видите, у них нет сил подняться. Вы бы мертвых хоть от живых отделили.
— А, все вы мертвые будете. Вас для этого везут.
Я вышла из гальюна, а конвойных нет — то ли забыли, то ли не стали из-за меня одной ждать. А на палубе драги везли, для промывки, для золотых приисков, огромные, брезентом покрыты. Я туда за брезент спряталась от ветра и там до вечера стояла. Холодно и страшно, но все равно лучше, чем в трюме среди блевотины. А страшно! Я никогда такого не видела: шторм, волны, как горы, пароход идет поперек волны. Если он потеряет рулевое управление и встанет вдоль — все! Волна на него обрушится, и он пойдет ко дну. Он то идет наверх — на волну, то вниз. Когда наверх — еще ничего, — все далеко видно, а когда вниз — оказываешься как в пропасти, зеленые стены прямо надо мной, сейчас сверху обрушатся. Перед ночью ушла в трюм — страшно! Бросает, швыряет. Надо же держаться все время, иначе оторвет и полетишь за борт. Потом, когда шторм кончился, пришли, мертвецов описали — на каждого дело ведь едет, и за борт бросили» (с. 176–177).
На Колыме Ольга Григорьевна сперва работала на лесоповале. Она рассказывала мне (в книге этого нет), как бревно, падая, вскользь задело ее по голове. Спасли косы, обкрученные вокруг головы, иначе, наверное, было бы сотрясение мозга. А так она уцелела. Потом начали записывать, кто из женщин способен вести письменную работу, она записалась. И с тех пор она время от времени попадала, как в мое время говорили, в придурки, то есть в ту часть заключенных, которые занимаются в конторе сравнительно легкой работой.[21] Но только время от времени, потому что через какой-то месяц, год или полгода начинались опять гонения. Почему контрреволюционеров держат на легкой работе? Их опять отправляли куда-то на более трудную. А потом опять иногда какое-нибудь медицинское заключение позволяло ей от этих работ освободиться. Было все-таки некоторое различие советских лагерей от немецких лагерей уничтожения. Об этом писал и Бергер в своей книге «Крушение поколения». В немецких — ослабевшему заключенному вкалывали шприц и потом отправляли в печку. А в советских существовал такой институт, как больница. И в больнице иногда можно было отлежаться, прийти в себя. Это также досталось на долю Ольги Григорьевны. Временами, когда она заболевала, она попадала в больницу. А потом ее снова куда-нибудь переводили, ну, скажем, в отделение главного механика и т. д.
Ольга Григорьевна была замечательным работником, и начальство ближайшее ее ценило. Попав в котельную, она за всех была: за табельщика, за нормировщика, за бухгалтера и за плановика. Когда она ушла, на ее место взяли четырех человек. Поэтому местное начальство, по возможности, старалось ее уберечь от стражей режима, которые следили за тем, чтобы контрреволюционеры доходили[22] на общих работах. Маскировали ее, скажем, надевали на нее фартук, как будто она в это время делает какую-то грязную работу. А потом она садилась за стол. Когда ловили на этом, опять посылали в холод и грязь.
Работа в конторе имела свои неприятности, свои опасности. Из отдела главного механика пришлось уйти, потому что начальник стал приставать. Света и так нет, там ведь зимой темно, электричество часто гаснет, а он еще нарочно свет выключает. Позовет к себе: «Оля, пойдемте ко мне в кабинет». Свет выключит и начнет лапать. И не дашь ему в глаз, как офицерику в 1919 году. Пришлось самой отказаться от теплого места. Все время приходилось маневрировать, угрозы со всех сторон.
Неожиданно трудной оказывалась работа, казалось бы, очень выгодная, на ней наесться можно было, работа на путине. Рыба — сколько ее там валялось, пропадало, хвосты чуть не полрыбы, молоку выбрасывали. «„А они разрешали брать?“ — спрашивает Джана. „А чего ж не разрешать? Наша кухарка приходила, наберет этого всего, сварит. Все накидывались, особенно мужчины, и все валились с кровавым поносом. Путина, а работать некому, все лежат. Приехала комиссия, думали, эпидемия холеры. Потом разобралась — белковое отравление. После недоедания сразу слишком много белков — организм отвык от белков и не может их перерабатывать. Руки все в рыбьих нарывах. Здесь за один такой — освобождение, а там их сто, все равно не дадут, можешь — работай. Потом опять, когда стало у меня воспаление почек, гиперуремия, меня отправили в лазарет, при лагере был. Без сознания почти приволокли. Я в кладовке свалилась, несколько часов лежала, слышу трогают меня, а это врач и санитарка Дуся. „Вы, — говорят, — идти можете или на носилках?“ — „Нет, — говорю, — не надо на носилках, как-нибудь дойду“. А на промыслах не было пресной воды, мы голову соленой, морской мыли. В волосах колтун, разве косу ниже пояса промоешь? Дуся говорит: „Давайте, я Вам голову помою и Вам сразу легче станет“. Принесла два ведра пресной воды, голову мне с постели свесила, клеенку подложила и промыла все. Я говорю: „Какая Вы добрая! У Вас ведь и так столько дел!“ А она говорит: „Как же, мы все тут в беде, должны друг другу помогать“. Мы потом очень подружились и полюбили друг друга“» (с. 186–187).
«Мы стояли у больших лотков и потрошили рыбу, горбушу, икру откладывали отдельно, печень и сердце, кто хотел, брал. А так они все равно пропадали. Все остальное выкидывали. А в зале стояли чаны с водой, там стояли женщины постарше, они мыли в них рыбу. Мы кидали им туда прямо назад, через голову. Один раз мы не спали три ночи подряд, пришло очень много рыбы. Приехал уполномоченный, уговаривал нас: „Женщины, на материке идет война“.
— Мы знаем.
— Вы уж постарайтесь, пожалуйста. Вам дадут белого хлеба и конфет.
— Нам не надо, мы и так сделаем.
— Почему, мама?
— А чтобы не думал, что мы за их слипшиеся подушечки не спим.
Так и стояли трое суток подряд. А руки до локтя все в крови и чешуе. Если хочешь пойти оправиться, то надо полчаса отмываться. Так мы уж идем все сразу, собираемся группами человек десять. А одна только вымоет руки и всех нас оправляет, расстегивает, застегивает…
Надо эту рыбу класть в бочку, селедку — голова к голове в одном слое, а в другом слое — хвостами в ту же сторону, в какую раньше клали головы. Или, скажем, крест-накрест надо класть, слой за слоем, чтобы они не тухли, чтобы они друг друга не мяли, чтобы они сохраняли свою форму. А уголовницы накидают просто селедку в бочку, а сверху положат несколько рядов. Я говорю: „Как же так? Как же вы так работаете? Ведь селедка же испортится в бочке“. А они говорят: „Туда сюда, дескать, пусть ее сгниет. Нам лучше будет“.
Потом я ходила с тачкой, и женщины очень возмущались. А там отходы эти белковые. Я вывозила их из цеха на какую-то свалку. Женщины говорили: „До сих пор еще не было, чтобы женщины ходили с тачками. Раз ты можешь ходить с тачкой, то и нас заставят. Эта работа не женская“. Все на меня кинулись. Я говорю: „А как же? Я не могу, у меня исколоты все руки рыбьими плавниками“. У меня по всем рукам пошли нарывы… Я до того исхудала, что у меня около предплечья сходились уже пальцы. Я могла обхватить одной рукой — левой за правую. И каждый укол вызывал нарыв. Все руки в нарывах. Но кое-как прошли эти нарывы, я стала опять работать с рыбой.
Три месяца работали в Армани. На Армань приехали морем. Был шторм. Катер не мог пришвартоваться. Нас бросали прямо вниз в волны, на катере парни ловили в руки. Так высадили. Жива» (с. 187–189).
Продали уголовнику мужнюю жену
«Сначала я работала в конторе, но потом сказали, что конторских будут угонять по этапу дальше в тайгу. И я перешла работать в цех на производство. Но они меня очень ценили как бухгалтера-плановика, и вот как-то просили помочь в аврал. Бухгалтер сказал, что он даст записку конвою, что меня оставляют. А до этого еще конвой меня продал одному шоферу с Атки. Он, это конвой, торговал женщинами и говорил мне: „Шатуновская, я всех уже пристроил, одна ты ходишь пустая. Вот один парень хочет с тобой познакомиться“. 3начит, он меня ему продал.
Вот однажды мы с Асей пришли в столовую. Там сначала кормили вольных, а потом нам давали нашу баланду, уж не знаю, из лагеря привозили или здесь готовили. Вот мы сидим с ней за столом, хлебаем эту баланду. Наши пайки хлеба достали, вдруг подходит к нам верзила, с эту дверь ростом, и говорит: „Ну, девочки, сейчас я вас угощу“. Идет в буфет, приносит нам большой поднос, полный всяких конфет, пирожных, печений, садится с нами за столик, разговаривает и на меня смотрит. Я уж понимаю, что это шофер с Атки, о котором говорил конвой. Мы говорим: „Нет, нет, не надо, спасибо“. Он уговаривал, уговаривал, потом как обозлился, как поднос трахнет, все конфеты и печенье и поднос на пол полетели. Мы ушли, а он стал за мной следом ходить, не пристает, но ходит. И когда я работала поздно с бухгалтерами — сам-то ушел, а другие работали, — вышла часов в 12, чтобы идти, прохожу и вижу — грузовики „кразы“ стоят, пять штук. Ну у меня сердце так и упало, я знаю, что он на таком работает. Значит, они с Атки приехали. Двор освещен луной. Я только зашла в тень, он выступает и говорит: „Подожди, на вот!“ 3асовывает руку в карман, огромная ручища, и вытаскивает пригоршню бумажных денег. А до этого он мне говорил, что у него две наволочки денег. Они же — все освобожденные уголовники, и работают, зарабатывают. А потом: „Ну, не хочешь добром, злом захочешь!“. Приставил мне бритву к переносице и качает — одно неверное движение и глаз нет. А его дружки, человек пять, окружили кольцом, так что не пройти, и подталкивают.
Я уж не знаю, что делать? Что-то стала говорить: „Подожди, сейчас никак нельзя, сейчас за мной придут, завтра приходи“. И тут какой-то человек вышел, хорошо виден в лунном свете. Я говорю: „Вот он, за мной идет“. Они на минутку расступились, я через их кольцо прошла и побежала. Как я побежала, как летела! Они за мной. Я до деревянной будки, до вахты добежала и обоими кулаками как забарабанила, закричала: „Откройте, впустите!“. Вахтер вышел с наганом, видит подбегают, пригрозил им наганом, впустил меня. Я прямо без памяти от страха, едва пришла в себя. Он говорит: „Ну, иди“. — „Нет, — говорю, — теперь я без конвоя не пойду. Давайте мне конвой“. Утром сказала бухгалтеру, что я не могу больше задерживаться, рассказала. Он говорит: „Я сам буду тебя провожать“. Ну уж если так. Так я была им нужна. А потом много времени прошло. Стала ночь, дня не стало совсем. Я в столовую редко ходила, чайку в конторе попью, так съем чего-нибудь. Но однажды все же пошла. И что ли он караулил меня? Так давно я не ходила, а он все равно караулил.
В столовую дверь с улицы — в тамбур, а потом — в саму столовую. Я в тамбур вошла, там пар от мороза, и раз, кто-то меня обхватил сзади. Ну все. Как от медведя, не выберешься! Только руки мне удалось освободить и дверь я дернула, а он не дает. Там в столовой заметили, что дверь дергается туда-сюда, кому-то войти не дают, и вышли. Он отпустил.
Они продавали нас, женщин, — конвой. Однажды они вели нас с работы в лагерь, впереди конвой, сзади конвой с собаками, посреди конвой. Но как-то расступились они, стоят машины, и те, около машин, выхватывают из колонны, кто им приглянется, и бросают в машину. Мы с Леной услышали крик впереди, догадались, что делать. Мы обе высокие, видные, натянули платки пониже, согнулись, зашамкали, как старухи: „Сейчас в баньку придем погреемся, да, Лена?“. А Марусю Давидович один раз уже в грузовик кинули, она стала кричать, как-то удалось спастись» (с. 200–202).
Каждый день нужна была сила, ум, изворотливость, сосредоточенность воли, чтобы уцелеть физически и нравственно. У Ольги Григорьевны сохранились все зубы, потому что она заставляла себя пить отвратительный по вкусу настой из стланника. В этом настое был витамин С, и она вернулась с Колымы с зубами. А многие не выдерживали этой отвратительной на вкус жидкости, и у них зубы выпадали прямо с корнями. Питье стланника — как бы символ того, что надо было делать каждый день, быть все время подтянутой.
А когда отступали опасности и можно было расслабиться, нападала тоска по детям, по мужу. Ольга Григорьевна вышла замуж в отместку Сурену, без большой любви к Юрию, но в лагере всех тянет к оставленной семье. И письма с Колымы к Юрию больно читать.
Вот письмо от 14 октября 1943 г.
«Юрий-джан! Теперь это все уже прошло, все ликует во мне, я так счастлива! Правда, я сама тоже хочу, наконец, вырваться. О, как хочу! Но даже если этого не будет, если не доживу, я все равно до конца буду теперь спокойна и счастлива. Милый, мой, любимый! Я всегда вижу тебя гордого, свободного, с высоко поднятой головой, со смелым решительным взором. Таким ты был всегда в жизни. Так ты выглядишь и на карточке, которую когда-то сюда мне прислал. Какой ты теперь снова? Опять независимо и бесстрашно смотришь в жизнь? Как я хочу, чтобы наши дети стали такими же, как ты! Верю, что теперь это так и будет! Теперь они уж не будут беспризорными, не будут скитаться, над ними никто не посмеет измываться, как Люба над Джаной. Как бы вам ни было еще трудно, пусть недоедание, лишение, холод, все не страшно теперь для них, раз есть у них отец. Дорогой мой Юрий! О, если бы я могла теперь тоже быть с вами, приникнуть к тебе на грудь и отдохнуть, отдохнуть, наконец, от страшных шести лет. Неужели мне суждено выпить всю чашу до дна? Еще долгие два года тянуть эту лямку! Здоровье уже неважное и со зрением тоже довольно плохо. Врач говорит, что на нервной почве повреждение сетчатки глаз, осталось 6–7 % зрения. Ну ты не думай, Юрий, что я совсем слепая. Нет, вблизи я еще вижу, пишу, читаю, шью и вообще работаю. Работаю так, что считаюсь стахановкой, имею книжку отличника. Одно время было хуже, но теперь и со зрением несколько лучше и общее состояние поправляется. А после такого счастливого известия я, наверное, совсем окрепну. Ведь самое главное это состояние духа. Я это так хорошо узнала за эти годы!
Юрий-джан! Прости, я все о себе. Но если б ты знал, родной мой, как я истосковалась, как страшно я одинока. Кому же мне, наконец, вылить все, все, что бесконечно гнетет и давит. Иногда хочется рыдать, кричать, биться, отчаянье охватывает, душит. Ты, ты это знаешь. Кто же поймет меня, если не ты? Ведь ты так хорошо знаешь мою душу, знаешь, как я горела в работе, как отдавала всю себя. Как мне жить с этим клеймом? Как мне находиться здесь, теперь находиться, когда вся страна напрягается в решающей схватке с врагом? Каково мне здесь читать о партизанской борьбе, о молодой гвардии? И потом я думаю, если не удастся за оставшиеся два года добиться отмены приговора, если отсижу весь срок, так кто же я буду, когда освобожусь? Тогда клеймо останется на мне. И так и буду преступницей, отсидевшей срок. Тогда все передо мной будет закрыто, и партия, и работа, и даже семья, потому что к вам меня тогда не пустят, я должна буду жить где-нибудь на окраине. Юрий, я пишу тебе все это, надеюсь все же, может быть, удастся что-нибудь тебе сделать. В мае или в июне этого года местные органы послали на меня ходатайство в Москву об освобождении. Но вот уже октябрь, а ничего не слышно. Три года тому назад 5 ноября 1940 года нам дали справку в приемной Берии, что дело мое закончено и передано в Особое совещание. Ты телеграфировал мне тогда об этом. С тех пор я ничего не слыхала больше о своем деле. Да оно и понятно, вскоре началась война. Наркомат эвакуировался, конечно, разбора дел не было. Но в 1943 году то и дело я вижу, то одного, то другого освобождают здесь. Значит, опять разбор происходит. Вот потому и могу надеяться, тем более, что за меня пошло ходатайство местными органами, которые по поручению центра уже разобрали дело еще в 1940 году, а теперь опять ходатайствовали. Мне кажется, что если б вы там подтолкнули, наведались бы. Ведь где-нибудь все это лежит: и результаты пересмотра 1940 года и нынешнее ходатайство. Но скажи мне открыто, дорогой Юрий, может быть, я не должна просить тебя об этом, может быть, ты не считаешь возможным для себя такие хлопоты. Тогда ответь мне прямо, не скрывай, прошу тебя. В этом случае скажи мне прямо, только не молчи. Тогда я буду знать, что мне не надо на это надеяться. Что могу, буду тогда делать сама.
Дорогой Юрий! Смотри не проговорись маме, что у меня неважно со зрением. Ей это ни в коем случае не надо знать. Я всегда пишу ей, что вполне здорова. Ее б такое известие прямо убило…» (с. 191–193).
Это письмо 1943 года было вызвано запоздалым известием, что у Юрия были свои беды. Но сейчас давно уже на свободе, работает. Она не знала, как он купил свое освобождение, и многого другого не знала. И Оля на него надеялась. Другое письмо 1944 года еще более пронзительное.
«Юрий, дорогой мой, ненаглядный! Вот опять весна наступила, а сердце мне раздирает такая невыносимая тоска и боль. О, как я хочу быть с вами! Как безумно, безумно хочу на волю! Вот уже целый месяц я собираюсь тебе писать, но не могу, потому что боюсь, что это будет не письмо, а мучительный крик. Иногда наступает полоса отупения, какого-то равнодушия. И сам себе кажешься молчаливым вьючным животным, работаешь, пьешь, ешь, спишь, двигаешься, как будто во сне, в тумане. И вдруг эту пелену пронизывает что-то. Это зов жизни. Помнишь кусочек голубого неба, крик петуха на заре, далекий аромат, принесенный ветром. Все существо сотрясается. Сердце мучительно сжимается и бьется. И оглядываешься вокруг себя и хочется протянуть руки к далекому, недоступному счастью. А когда же, когда же придет конец? Я знаю, что так писать не надо, зачем причинять страдания и тебе? Но я не могу, иначе я совсем не в состоянии взяться за перо. И получается, что я вовсе не пишу. Да кому же я скажу об этой черной скорби, если не тебе? Ведь ты мой единственный любимый друг! Если бы упасть к тебе на грудь и отдохнуть, наконец, от этого горя! Неужели это вправду когда-нибудь будет? Я высчитываю, с5мая осталось ровно полтора года. Пройдет это лето, потом зима, долгая, снежная, холодная. И, наконец, опять придет весна. Это будет последняя весна в неволе! Потом должно наступить, наконец, то невероятное, изумительное! Я вырвусь и помчусь к вам. И придет, наконец, миг ослепительный, непередаваемый, выношенный столькими годами тяжких страданий, миг, когда увидимся. Будет ли это в самом деле? Неужели будет? Пока еще мне не верится, что этот момент действительно придет. Но если нет, то зачем же жить? Ведь я ж живу только ради этого. Эта надежда светит мне на протяжении годов и даже в те страшные месяцы, когда не было и тебя, только она меня и поддерживала.
Милый мой, любимый мой, Юрий! Прости, что я пишу все это. У тебя много и без того невзгод и трудностей. Нехорошо взваливать на тебя еще и мой груз. Я знаю, что должна сама до конца нести то, что мне судьба дала. И в этом мужество человека. Надо стиснуть зубы, молчать и идти своей дорогой. Но ты ведь понимаешь меня, Юрий-джан! Вы так порадовали меня последнее время. За пару недель я получила от вас три телеграммы, сперва от Степочки, потом две — от тебя.
А как там моя Джанушка, моя голубушка поживает? Какая я была богатая! Как они любили, чтобы я посидела с ними на их на кроватках, когда они лягут спать! Даже маленький Алешенька, и тот пищал и звал к себе! Как приятно мне думать, что Степочка и Джаночка опять там. И ты, мой родной, ты опять в своей комнате на тахте.
Милый мой, дорогой Юрий! У меня к тебе большая просьба! Порадуй меня! Напиши мне большое длинное письмо. Опиши мне всю вашу жизнь.
Недавно я видела страшный сон. Проснулась от него с криком. Мне снилось, что я вернулась к вам, но уже я вам не нужна, я чужая. Долго, долго тянулся этот сон. Я измучилась совсем. А часто мне снится, что я приехала, я в Москве, но не могу вас найти. Много кошмаров и много бессонных ночей! От мамы давно уж ничего нет. Переписываешься ли ты с ней? Как ее здоровье? Она уж такая старенькая. Хоть бы дожила до встречи нашей. Напиши мне, что она. Что ты знаешь о ней?
Я теперь работаю уже не на шестой автобазе. Но вы пишите по-прежнему туда. Мне всё передадут. Я работаю в теплотехнической лаборатории при центральной котельной города Магадана. Мне здесь очень хорошо, гораздо лучше, чем было на автобазе. Всю зиму очень тепло, я здесь уже пять месяцев, ни разу не болела, очень поправилась. А то 1943 год я почти весь проболела, три раза в больнице лежала. На автобазе в цехах очень холодно, и у меня без конца болели почки. Я прихожу сюда в 6 часов утра, с 8 начинаю работать до 7 вечера. Остаюсь здесь до 10 вечера. В свободное время вышиваю, подрабатываю, иногда стираю, глажу. Да вообще никакой работой не брезгую. Я всегда сыта, обута, одета, почти каждый день читаю. Недавно у меня были „Отверженные“ Гюго. Как-то попалась книжка Майн Рида. Я читала, наслаждалась, все думала, читал ли эту книжку Степочка? Книги — мое спасение. Как бы ни было горько, тягостно, омерзительно, беру книгу и окунаюсь в нее, ухожу в нее с головой, читая мудрые мысли, читая прекрасные образы, читая о людях» (с. 207–209).
В это время у Юрия уже была другая семья, была дочь от другой жены. Но он лгал и писал, что любит, ждет. И эта ложь поддерживала Ольгу Григорьевну. И еще поддерживали добрые люди, с которыми она встречалась, дружила. Чувство привязанности, которое иногда она вызывала, чувство любви. Попадались там хорошие люди. Много было хороших людей среди несчастных, попавших в холодный Освенцим.
Энциклопедия лагерей
Люди рассказывали о своих делах, как их арестовывали. Колыма была замечательным справочником о том, как шел Большой Террор. И колымская школа хорошо подготовила Ольгу Григорьевну к ее будущей работе в Москве по распутыванию клубка сталинских преступлений. Мне уже приходилось писать, что террор проводился двумя способами. Первым было изгнание тех, кто не укладывался в шаблон, не умещался в прокрустово ложе. Вторым — нечто вроде римской децимации (казнь каждого десятого в дрогнувшем войске); практически хватали первых попавшихся. По-видимому, в план Большого Террора входило навести страх на всех. Поэтому давался план, по этому плану арестовывали. Например, арестовывали всех финнов, всех эстонцев, всех латышей. Просто так, получали из милиции список, кто здесь по национальности финн или латыш. В Ленинграде было довольно много таких, и в Москве они были. И прямо по списку арестовывали, потом уже придумывали им какие-то преступления. А то еще один старик, которому Ольга Григорьевна носила настой из стланника (в мужском бараке никто этим не занимался), рассказывал свое дело. У следователя было нарисовано дерево разветвленной вредительской организации, охватывавшей всю железную дорогу. А вместо листьев кружочки там были, их надо было заполнить фамилиями. Дерево было заранее составлено. От старика и от других, которых наобум арестовали, требовали, чтобы они называли фамилии, которые подходят, фамилии людей, которые жили в тех или других местах, были на тех или других станциях, на тех или других должностях. Потом этих людей брали, заставляли их признаться. Это был тот способ, который несколько раньше (в этом Ольга Григорьевна могла убедиться) использовал Сталин, начиная все дело, когда он придумал форму ленинградского террористического центра, московского террористического центра. И потом эту схему он заполнял именами по картотеке. Его пособники выучились действовать такими же методами. Они получали план: арестовать столько-то человек, расстрелять столько-то человек. И они разными методами пользовались, чтобы этот план выполнить.
Колыма была живой энциклопедией сталинского террора, всех способов заполнения лагерей юридически неповинными людьми. Как я уже говорил, первое — за какие-то проблески самостоятельности, независимости, собственного достоинства. Это я назвал прокрустированием, не влезали в прокрустово ложе. Затем первых попавшихся, чтобы никто не чувствовал себя в безопасности, чтобы все дрожали. Это я назвал децимацией. И, наконец, целыми слоями, которые признаны были почему-либо неблагополучными с точки зрения политики в данное время. Это в сущности давно началось. Так осуществлялся ленинский красный террор; потом так ссылали всех сколько-нибудь зажиточных, крепких крестьян, не разбираясь, как они относятся к советской власти, как они выполняли свои обязательства по налогам и т. д. Просто снимали целый слой. И точно так же, целыми слоями снимали людей во время Большого Террора.
Осмысляя это, Ольга Григорьевна вспоминала то, что ей говорил Шаумян, что Сталин был связан с охранкой, что он был провокатором. Впоследствии она подбирала все материалы, которые подтверждали эту версию. Так ей было легче понять, что произошло. Я об этом достаточно много думал. Версия о том, что Сталин был провокатор, что обличающие его материалы нашлись и что Большой Террор был попыткой уничтожить всех людей, которые могли про это знать, до меня доходила давно. Но, во-первых, это не объясняло масштаба Большого Террора. Число людей, которые могли бы знать про эту мнимую, а может быть, и действительно найденную кем-то бумажку, было не так уж велико. Это первое. Во-вторых, слишком поверхностно, слишком рационально все объяснялось. Как современник Большого Террора, я чувствовал в нем дыхание безумия. И вот это дыхание безумия исчезало, если считать, что действовал просто провокатор, прятавший свое прошлое и для этого готовый перебить несколько миллионов человек. Возможно, Сталин и был когда-то провокатором, но чересчур подчеркивать это мне казалось потерей исторической перспективы. Я все время воспринимал Сталина в ряду с другими, если можно так сказать, гениальными параноидами: с Цинь Шихуанди, Иваном Грозным, наконец, Мао Цзедуном. Все они, безусловно, не были провокаторами и не состояли на службе ни в какой охранке. Для многих из них это просто нелепое предположение, просто не было ничего подобного в их эпоху, в их биографии, и самой такой возможности не было. Но я чувствовал какую-то аналогию, которая их связывает. И мне кажется, что и Сталина лучше можно понять в этой связи.
Сталин очень часто действовал вполне рационально, Это укладывается в представление о нем как о параноиде. Параноид не во всем безумен, он может, скажем, прокладывать себе путь к власти с помощью интриг. И действовать так, как действует всякий расчетливый, хитрый, изворотливый политик. Его параноидность в это время сказывается только в частных случаях, в какой-нибудь злобной мстительности по отношению к отдельным людям. Она не выступает на первый план. Она, даже выступив со всей яркостью, может потом снова спрятаться. Например, когда началась война, когда Сталин убедился, что не он обманул Гитлера, а Гитлер обманул его, встала простая жизненная задача: или победить, или погибнуть. И Сталин опять рационально действовал, как всякий человек, который спасается от смертельной опасности. И опять со всей своей безумной энергией он действовал в определенном разумном ключе.
Конечно, у него были свои заскоки, у него были чудовищные ошибки. Например, ошибка с попыткой удержать Киев, с Изюм-Барвенковскоой операцией, когда он приказывал продолжать наступление в условиях подавляющего превосходства в воздухе немцев. Начиная с весны 1942 года, когда кончились морозы, немецкая армия вышла из окоченения, давшего некоторые шансы советскому контрнаступлению. Нежелание признать факты привело к катастрофе, к выходу немцев на Волгу и до Большого Кавказского хребта. Но в общем, он действовал, в широком смысле, рационально. Он подбирал людей не по принципу безусловной преданности, а тех генералов, которые побеждали немцев, и отставлял безусловно преданных ему людей, которые воевать не умели. И в результате он победил. Были, однако, периоды, когда на первый план выступала паранойя. И я считаю, что Большой Террор был таким явлением параноидного сознания. Узнал он, что состоялось совещание на квартире Орджоникидзе, где предлагалось перевести его в Председатели Совнаркома, а секретарем ЦК сделать Кирова. Знал он, что 292 человека проголосовали против него. Что из этого следовало? На уровне рациональной политики достаточно было бы диктатору «замочить» одного или двух человек, как сейчас принято говорить. Остальных вельмож, которые совещались о его замене, потихоньку убрать с авансцены, задвинуть куда-нибудь подальше. Может быть, даже провести вот такое убийство, как было проведено, свалив на какую-то подпольную организацию, и после этого провести несколько расстрелов. Но не было никакой необходимости действовать в таких гигантских масштабах. Не было необходимости, накануне войны, почти неизбежной, разрушать армию. Примерно половина среднего командного состава была уничтожена и большая часть высшего командного состава! Примерно такие же разрушения проводились во всех областях. Эта была все-таки политика сумасшедшего, который заразил своим безумием своих ближайших сподвижников; он их умел заражать и подчинять своей воле. Рациональным это не было. Страха было бы достаточно, если, допустим, провести акцию против Кирова, свалить все на зиновьевцев, провести один процесс и остановиться. Не разворачивать это в чудовищную костоломку по всей стране, когда даже на некоторое время НКВД было поставлено выше партии и не НКВД подчинялось партийной организации, а партийные организации, скованные по рукам и по ногам, как труп, были предоставлены органам НКВД для выполнения плана гигантских массовых арестов и расстрелов. Не было в этом прямого смысла. Люди и так были перепуганы, и так выполняли все, что от них он требовал.
Единственное, чем могло грозить сохранение в живых людей, входивших в те или иные оппозиции, или во всяком случае склонных к оппозиционной независимой мысли, это то, что после его смерти, если бы они его пережили, они могли бы поднять голову. Но это после террора и произошло, отчасти благодаря масштабам террора. Та система, которую он создал, с большой силой начала раскручиваться в обратную сторону, как только он умер. Потому что обстановка всеобщего страха, обстановка, в которой каждый вельможа мог быть назавтра беспомощной жертвой застенка, достаточно всех измучила. И как только он умер, все начали, им же подобранные, его же сообщники, его же пособники, ломать себе голову и искать пути, как бы избавиться от этой обстановки всеобщего страха. И то же самое показал опыт Цинь Шихуанди, династия которого пала уже при его сыне Эр Шихуанди. Все это никак нельзя объяснить без того, чтобы признать Сталина, вместе с Цинь Шихуанди, параноидами. И параноидным был его план последних лет — вызвать истерику ненависти делом врачей, а потом, в обстановке этой истерики, послать войска, как тогда выражались, на освобождение Европы. Мне достоверно известно, рассказывал один полковник Ирине Муравьевой, моей первой жене, в Эстонии в 1954 году, что уже был дан приказ готовить войска к освобождению Европы. Это опять был параноидный план — двинуть войска сквозь взрывы атомных бомб к Атлантическому океану. Это была бы мировая катастрофа, это не было планом разумного человека. Разумным, хотя и не очень умным человеком, был Хрущев, который сразу от этих планов отказался. Сталин был все-таки очень одаренным сумасшедшим, одаренным в определенной области, в области интриг, в понимании механизма власти, при тупости во многом другом.
Наблюдения над историей говорят, что бывают целые эпохи безумия. Большой исторический период проходит под знаком некого сложившегося в начале этого периода исторического разума. А затем разум века сего, как говорил апостол Павел, становится безумием. И тогда Павел и другие апостолы спасали души людей «безумием проповеди». Это всё очень точные слова. Время, когда жил апостол Павел, было эпохой безумия. В хаосе складывался новый разум. Потом этот новый разум сложился, и Фома Аквинский уже примирял веру и разум. В переломную эпоху господствует безумие — или светлое безумие, или черное безумие. Не случайно современниками были Нерон, Калигула и апостолы Петр и Павел.
И в XX веке не случайно современниками были черные безумцы (Гитлер, Сталин) и светлые безумцы: Ганди, Мартин Лютер Кинг. И Ганди, и, допустим, Ленин и Сталин, с точки зрения, скажем, позитивиста, агностика, трезво рассуждающего, взвешивающего каждый свой ход, относятся к людям более или менее безумным. Но безумцы светлые идут, как выразился митрополит Антоний Сурожский, по Божьему следу. И в их безумии рождается новый разум. Безумцы же черные идут, если развить метафору Антония, идут по дьявольскому следу. Вот это присутствие дьявола в действиях Сталина хорошо чувствовал Даниил Андреев, человек огромной духовной проницательности. И хотя в картинах, которые он рисует в «Розе мира», достаточно много поэтического воображения, но, я думаю, что верна его интуиция, что Сталин, в какой-то мере, шел по интуитивно им сознаваемому дьявольскому следу. Эпохи перелома, исторического излома, крушение одного порядка разума и отсутствие другого порядка разума, эпохи внутреннего разлома, бифуркации, когда инерция истории прекращается, старая инерция прекращается, а новая инерция еще не сложилась, это эпохи безумства. И я могу только еще раз вспомнить, что в 1937 году я отчетливо чувствовал эту атмосферу общего безумия. И думаю, что я не ошибался.
Романтики начала XIX века любили играть с образом демона, с образом сатаны. Но подлинной эпохой сатанизма был, конечно, XX век. Рядом там проходили два незримых следа, которые чувствовали некоторые люди, одаренные к тому, чтобы это воспринимать, — Божий след, как выражался Антоний Сурожский, и сатанический след.
IV. С того света — и снова во мглу
Первое возвращение
Вернемся, однако, к жизненному пути Ольги Григорьевны Шатуновской. О своем возвращении в Москву она мне никогда не рассказывала. И я ей не задавал вопросов об этом, потому что понимал, что это было бы ей неприятно. Впрочем, я все существенное знал в пересказе. То ли она самой моей теще об этом говорила, то ли говорила своей ближайшей подруге Мирре, единственной из ее партийных друзей, которая имела мужество не отказаться от Ольги Григорьевны и решительно не признала ее врагом народа. Так или иначе, теща моя, Александра Авелевна, все существенное мне об этом возвращении рассказала. И потом я только с большими подробностями прочел это в машинописи под названием «Беседы в домашнем кругу» и чуть покороче в печатной книге.
Первый из рассказов Ольги Григорьевны имеет суммарный, итоговый характер, и в этом пересказе она уже знает не только то, как она приехала, но и все, что предшествовало этому:
«Когда я вернулась с Колымы в сорок шестом, Юрий не встретил поезд в Ярославле, и маме самой пришлось мне все рассказать. Юрий познакомился в 1939 году с молодой работницей завода. Она приходила ночью, мама делала вид, что не замечает. Приходила и днем в воскресенье, катались вместе с детьми на лыжах. В войну, когда все уехали, с вокзала пришла к ним. Настя убиралась в квартире, то есть пришла эта женщина (а Настя — это их домашняя работница. — Г. П.) и с тех пор стала жить. Когда он сидел в тюрьме, носила ему передачи. Я спросила потом: „Ну, жил ты, ладно. Зачем прописывал?“. Сказал, чтобы квартиру обратно получить. После ареста он судился от имени детей. Сам не был реабилитирован, ему не полагалось, а только детям. Но на троих или четверых с ним ему не дали бы всю квартиру, а на пятерых дали. Поэтому ее прописал.
В сорок шестом, когда я еще не приехала, она собирала тюки — одеяла, простыни, все вывозила к матери (то есть исходила из того, что Юрий ее собирался переселить в отдельную комнату, которую он для нее сумел выбить. — Г. П.). Настя пришла и увидела, что она чайный сервиз заворачивает. „Ты, что же этот сервиз берешь? Это же Оле подарили“. — „Юрий Николаевич сказал, здесь все мое, я здесь хозяйка“. Настя сказала: „Ах, здесь грабят, я тоже“. И взяла большую подушку и швейную машину, которую принесла потом, когда я приехала. Увезла (опять разговор не о Насте, а о Марусе. — Г. П.) также столовое серебро, все мамины ложки, ножи, вилки, которые мама из Баку привезла. Мы с мамой вышли на кухню и спросили про это. Она ответила: „Виктория Борисовна приезжала, и мы ее здесь кормили. Юрий Николаевич сказал, что здесь все мое“. Я хотела сказать: „Верните сейчас же!“ И она бы побоялась, но мама сказала: „Пойдем отсюда, здесь не с кем разговаривать“. Когда я приехала, Юрий только два-три дня жил в балконной комнате со мной и мамой, спал на полу около стола. Потом я вижу, что он ее во всем защищает. Сперва она его шантажировала, что покончит с собой, сидит так на кухне, голову повесила. Я говорю: „Что ты, что с тобой?“ — „Ах, она говорит, что покончит самоубийством“. — „Знаешь что, успокойся. Она не покончит с собой. Человек, который думает о смерти, не ограбит ребенка“. А он дал маме 100 рублей денег и тебе байку на платье (тебе, это о Джане, очевидно, это рассказ Джане. — Г. П.), так она потребовала, чтобы это ей отдали. Я не хотела, а мама сказала: „Возьмите всё“. Она украла его бумажник, деньги и карточки взяла себе, а бумажник утопила в пруду. Телефон о его голову разбила. Он бежал через весь город с окровавленным лицом к Ляле. Я, когда приехала, видела этот телефон в чулане разбитый. А потом Ляля мне рассказала, что он к ней окровавленный пришел. Она как-то спросила: „Что ты в ней, такой негодяйке, нашел?“ Он ответил: „Знаешь, я много женщин знал, но таких не встречал“, что-то особенное нашел. (В женских разговорах об этом вспоминался аналогичный выбор другого мужчины, объяснившего все просто: „Она хорошо дает“. — Г. П.)
В сорок шестом однажды она легла посреди проходной, знаешь, где башни, и не пускала его в завод. Демонстрацию устраивала, что он от нее ко мне уйти хочет. Потом она всех отравить хотела. Кинула в кастрюлю купорос. А мама вошла в этот момент на кухню, она тогда схватила кастрюлю и вылила ее всю в уборную. Ты не помнишь, как однажды ты с ней подралась из-за зеленой кружки? (Это опять обращение к Джане. — Г. П.) Ты кричала: „Не трогай эту кружку! Это мамина кружка!“ Она кричала: „А ты почему приехала? Все там дохли, а ты приехала. Я тебя обратно на десять лет отправлю“. В это время Степа открывал дверь ключом, он, как услышал эти слова, побледнел весь и говорит: „Убирайся отсюда!“. Она пошла в свою комнату, а он за ней, схватил за горло и стал душить. Зрачки белые, ничего уже не соображает, еле его оттащили. Она взяла свои тюки и ушла. Девочка была в детсаду. (Это ее девочка, Маруси. — Г. П.) Юрий потом говорил: „Вы моего ребенка из дома выгнали“» (с. 320–321).
Степа родился в 1927 году. Когда Олю арестовали, ему уже было 10 лет. Он маму хорошо помнил, и он был ей безусловно предан. Остальные же дети привыкли к новой семье, привыкли, что у них есть сестренка, и это уже зажилось. Ольгу Григорьевну это обижало, но с этим приходилось считаться.
Второй рассказ Алеши, очень своеобразный, подымавший какие-то факты, которые другие не запомнили или не считали нужным мне говорить. Я от него это и устно слышал. Вот этот рассказ:
«Гадалка маме предсказала судьбу, что она проживет очень долго и что будет у нее три тюрьмы, три мужа и трое детей. Гадала она по руке и нагадала глупость. Они с Суреном смеялись. Никаких не трое детей, а будет много детей, пять — шесть, как принято на Кавказе. Тут они смеялись, а как эти гадания мама по жизни комментировала? Первая тюрьма — турецкая, вторая тюрьма — 1937 года, третья, как мама говорила, это самая страшная — 1949 год. Она говорила, что второй арест она перенесла хуже, чем первый. Первый она еще не знала, что такое тюрьма и что будет. А вторая тюрьма — она уже представляла, куда попадет. А когда после ареста мамы вернулся в Москву (то есть Алеша вернулся), то потом мне рассказывали здесь Степа и папа, что я часто забирался в платяной шкаф и прятался там. Когда меня спрашивали, что я там делал, я говорил: „Здесь мамой пахнет“. Мне это рассказывали, что я забрался в платяной шкаф и отвечал — там мамой пахнет. Там висели ее платья и кофточки. Вот такой собачье немножко поведение…» (с. 228–229).
Но вот третий рассказ, который вводит нас уже непосредственно в обстановку возвращения, рассказ в настоящем времени, а не задним числом.
«Настя увидела меня издали и сказала вам (речь идет о детях. — Г. П.) — бегите, вон ваша мать. Без Насти вы бы меня не узнали. Я вошла в свой дом. Мама (то есть Виктория Борисовна. — Г. П.) сказала: „Олечка!“ и тут же увела меня в ванную под предлогом мыться с дороги и стала меня готовить к тому, что есть Маруся. Она рассказывала издалека, дескать, у Юрия была женщина. Я сказала: „Ну что ж, восемь лет, большой срок“. И что у него дочка от нее, и что она жила здесь, и что Юрий приготовил ей комнату. И только потом, что она здесь сейчас, здесь в этой квартире, сейчас! Я пошла к ней, Маруся лежала. Я сказала: „Здравствуйте!“ Маруся не встала, она лежала и кричала: „Все равно, он к вам не вернется, он с вами жить не будет, все равно он будет жить со мной!“ Я вышла из комнаты.
Квартиру стали заполнять люди. Все узнали, что я вернулась. Приходили, приносили кто что. Приехал Юрий, сказал: „Ну, ты, наверное, уже знаешь. Я поехал тебя встречать, чтобы предупредить, но мы разминулись, не удалось мне“. — „Да, я знаю“. И вдруг ты (то есть Джана. — Г. П.) закричала. Я не знаю, что случилось, только вижу Маруся тебя утихомиривает, выталкивает из кухни. „Тише, тише“, — говорит. А ты плачешь: „Не хочу, чтобы он ходил к ней! Пусть не ходит!“ Оказывается, Юрий пошел ее утешать, а ты говоришь: „Не надо, не ходи“. Потом Маруся всю ночь пугала его самоубийством, то из окна хотела выброситься, то на пруд топиться в Сокольники бежала. Бросила его все документы в пруд. Утром Юрий пришел в комнату и сказал, что Маруся просит отдать ей четыре метра байки. Я говорю: „Как же, ты ведь дал их Джане. Она же будет обижаться“. А мама сказала: „Ах! Олечка, о чем ты говоришь?“ Я отдала эту байку. И двести рублей, которые он дал на твою встречу, он тоже взял и ей отдал. Мы теперь без денег будем. Вечером Юрий сидит за столом, голову подпер руками. „Ты, что, Юрий?“ А он говорит с таким отчаянием: „Маруся самоубийством может покончить, и я боюсь“. И рассказал, что той ночью она из окна выбрасывалась, в пруду топилась.
„Как ты думаешь; что делать?“ — „Успокойся, Юрий, ничего этого не будет, она не покончит“. Он так поднял голову и говорит: „Да? Ты вправду так думаешь? А почему?“ Я усмехнулась и говорю: „Человек, который хочет покончить самоубийством, не станет у ребенка последнюю тряпку отнимать, а она о тряпке думает. И вот что, если она тебе так дорога, ты лучше иди к ней, все равно наша любовь кончилась. Зачем нам быть с тобой? Будь с ней“.
Потом она нас отравить хотела. Мы с мамой входили на кухню, а она сыплет купорос в нашу кастрюльку. „Маруся, что вы делаете?“ Она как схватит кастрюльку и сразу вылила в уборную и ушла к себе в комнату. Когда Юрий пришел, мы стали говорить ему, а она его уж подготовила, что они, дескать, будут наговаривать, и он говорит: „Да, нет! Что вы выдумываете?“ — „Как же выдумываем? Она же вылила весь бульон в уборную!“ Вот тогда я и поняла окончательно все. Раз он ее защищает, раз он ей верит, и говорю: „Юрий, знаешь, давай не будем больше ни о чем говорить. Я ничего от тебя не хочу. Не защищай ее. Иди, живи с ней, она тебе нужна. Вот и живи с ней. Я все равно с тобой жить не буду. Ничего между нами нет. Любовь кончилась. Я сама с детьми буду. А ты будь с ней. И не говори больше мне ничего, что она это от любви все делает, что она тебя любит. Иди, живи с ней. От меня отстань, пожалуйста“» (с. 230–232).
Дальше идет интерполяция Джаны:
«Я иногда пытаюсь теперь сказать, что мало чего с кем не бывает. И может быть, бабушке тогда показалось про этот купорос. Но мама тогда кричит, как раненый зверь: „Ты не помнишь? Конечно, она и так всем говорит, что ты ее больше матери любишь“. И когда так много еще нужно времени, чтобы ее утешить, успокоить» (с. 230–232).
Я думаю, что этот вопль раненого зверя бывал у Ольги Григорьевны и в другом случае, когда ей не верили в том, что она твердо знала. Она ведь твердо знала, что значилось в справке, полученной комиссией Шверника непосредственно от Шелепина из КГБ, сколько уничтожено и посажено было людей в эпоху после убийства Кирова и до начала войны. Эту справку, итоговые цифры она наизусть знала. Она, конечно, возмущалась, ей больно было, что люди этому не верят, не верят в эту цифру около 20 миллионов арестованных и 7 миллионов расстрелянных.
Указывалось, что цифры по архивам КГБ не совсем сходились с подсчетами демографов. Я думаю, что дело это сводится к обычной в Советской стране подгонке данных под задание. Москва давала четкие задания, сколько людей посадить, сколько людей расстрелять. Из Москвы давалось задание, сколько арестовать, как при раскулачивании — раскулачить столько-то человек. При этом иногда могли быть и расхождения, то есть делался вид, что план выполнен, а на самом деле его немножко недовыполняли. Я сидел в Пугачевской башне с одним из контролеров министерства госконтроля Фальковичем, который участвовал в ревизии ГУЛАГа в 1946 году. Он говорил мне, что обнаружились там миллионы мертвых душ, на которых выписывалось продовольствие, а потом это продовольствие расхищалось. Это было необходимо, чтобы люди не умерли с голоду, потому что расхищение устранить нельзя было. И когда мертвые души были упразднены, то люди в лагерях стали умирать с голоду. Было страшное время — 1947, 1948 годы (мне рассказывали, когда я туда попал сравнительно вскоре после этого, в 1950 году). Но, возвращаясь к этой теме, которая вызывала тоже у Ольги Григорьевны невротическую реакцию, существует общая проблема уровня фальсификации выполнения плана в советской России. Мне попадался журнал, кажется английский, во всяком случае англоязычный, где два очень ученых человека спорили примерно в таких терминах: один из них утверждал, что с вероятностью, допустим, 0,88, советские данные выполнения плана завышены, допустим, на 21 %, а другой говорил, что с вероятностью 0,91 или 0,93 (конечно, я приблизительно говорю) советские данные завышены на другую цифру. Так что это серьезная научная проблема. И так как КГБ имело твердые данные, сколько арестовать и сколько расстрелять, то не исключено, что потом подгоняли цифры под этот план.
Приписки были нормой НКВД. Лагпункт, на котором я тянул срок, выдавал, так сказать, на гора лесоматериалы. Я хорошо знал, что почти каждая платформа уходила с лесозавода недогруженной. Еще в 30-е годы сложилась поговорка «если бы не туфта и не аммонал, хрен построил бы Беломорканал». Вполне логично предположить, что и параноидный план Большого Террора тоже выполнялся, как все советские планы, с некоторыми приписками. Однако цифры в официальном отчете, который был представлен Комитетом Государственной Безопасности комиссии Шверника и был в руках Ольги Григорьевны, цифры эти были официальным верхним пределом выполнения плана. Они так же достоверны, как все официальные советские цифры о выполнении плана. Это верхний предел реальности. Во всяком случае, это единственная точная цифра, которая должна бы была существовать в истории и которую могут корректировать различного рода расчеты и поправки. Другой исходной точки в истории не осталось. Цифра в 2 миллиона репрессированных, вписанная в историю Сусловым, просто смехотворна. Она, по-видимому, образовалась очень простым путем — зачеркиванием нуля. Около 20 миллионов… Суслов один ноль зачеркнул и оставил два миллиона. Смехотворная цифра. А цифра, запомнившаяся Ольге Григорьевне, остается реальной. Поправки ничего не меняют. Масштабы террора остаются теми же, если, допустим, было арестовано не 20 миллионов, а 15 миллионов, если было расстреляно не 7 миллионов, а 5 миллионов. Все равно, это чудовищные, демонические цифры. И если даже учесть, что в общем итоге за 1935 — 1941 гг. смешаны две волны террора (после убийства Кирова и после «освобождения» западных областей), — чудовищность, фантастичность Большого Террора не исчезает.
Отстаивание реальности справки, которую Ольга Григорьевна держала в руках, стало для нее одним из тех немногих случаев, в которых она теряла самообладание, в которых кричала, как раненый зверь, по выражению Джаны Юрьевны, и могла казаться человеком фанатичным, несколько поврежденным. На самом деле она была человеком очень сдержанным, железной воли. Но есть какой-то предел, в котором каждая воля и каждая сдержанность начинают отказывать.
Бегство от Ирода
Однако вернемся к рассказу о ее жизни после возвращения ее в Москву. Разрыв с Юрием, как и разрыв с Суреном, хотя и решенный сразу же, не сразу был осуществлен. Есть некая психологическая закономерность, что слишком долго складывавшиеся отношения обладают силой восстанавливаться, и в течение нескольких месяцев продолжалась странная жизнь двух женщин в одной квартире, между которыми метался Юрий, слабый человек, не способный ничего решить твердо и окончательно. «Мне нельзя было жить дома, — вспоминает Ольга Григорьевна. — Приходил участковый, взял подписку в 24 часа выехать. Разрешалось жить не ближе 100 км от Москвы. Я была прописана в Александрове. Участкового угостили, Юрий выпил с ним, и он говорит: „Да разве это я, разве мы не знаем, что она приехала. Ну знаем, мать приехала к детям, смотрим вот так. (Он поднял пальцы к глазам.) Но кто-то на вас доносит, поступил донос, мы обязаны реагировать“. Участковому дали 100 рублей, он порвал подписку. И потом каждый месяц он приходил, платили ему 100 рублей. А потом однажды он пришел и говорит, что теперь донос пришел из Московского отделения милиции и что пишет бывшая жена вашего мужа. И если она не перестанет писать, то я ничего больше не могу сделать. А она уже написала донос, что у меня здесь контрреволюционная организация, что собираются ссыльные друзья. Дора, соседка, тоже сказала как-то: „Пусть к тебе так много народу не ходит, я — осведомитель и должна сообщать о них. Но ты меня не бойся, я тебе зла не сделаю, ты бойся Марию, она что хочет на тебя напишет“. Юрий пригрозил, что не станет жить с ней, и тогда она не отправила свой донос. Он предлагал, что мы уедем в Рубцовск, и получил уже назначение главным инженером. Пришел к нам и сказал: „Вот, давай поедем туда, помоги мне отстать от нее“. Я посмотрела на него и сказала: „Нет, если ты сам не можешь, я тебе не помогу. Ты под ее властью и там тоже не освободишься. Зачем я туда с тобой поеду? Я тебя не люблю, дети мои здесь. Зачем я поеду? Нет, не поеду“» (с. 232–233).
В это время на 101 км, вернее за 101 км, накапливались целые колонии репрессированных, выживших в лагерях и вернувшихся. Они прописывались в Александрове или в Петушках и оттуда потихоньку приезжали побыть со своими семьями, к которым их тянуло. Я был хорошо знаком с одним таким пожилым человеком. Его звали Ефимом Мироновичем. Он называл свое положение по-еврейски «куф-алэф». «Алэф» — первая буква алфавита, по буквенному еврейскому счету означало единицу, а «куф» означало сотню. Вообще вся древняя система счета была буквенная, «алэф» — единица, «бейт», в другом произношении «бейс», — двойка и т. д. Я еще из этих цифр помню: «вов» — это шесть, а «ламэд» — тридцать. Помню потому, что 36 праведников, по хасидской легенде, сохраняют мир от разрушения. По этой легенде незаметные праведники терпят всякие унижения, их топчут ногами, их бьют, унижают, но когда кто-то из них умирает, то Бог отогревает душу, замерзшую от холода жизни, в своих ладонях. И если даже в жарких ладонях Бога душа не отогревается, Бог плачет, и каждая его слеза приближает конец света. Это очень поэтичная легенда, она известна по ряду пересказов, в частности в знаменитом в свое время романе Андре Шварбарта «Последний из праведников». Я думаю, что скупые слезы Ольги Григорьевны тоже вошли в этот счет.
Пока речь шла только о доносах Маруси, от них можно было отделаться за 100 руб., но дальше начал действовать тот самый указ об очистке столиц и крупных городов от антисоветских и антипартийных элементов, по которому и я был арестован (несколько позже, в 1949-м. Ольгу Григорьевну вспомнили раньше, в 1948-м).
«Лева Шаумян пошел к Анастасу, а он просил у Сталина за Шатуновскую. Нет, ничего не удалось. Лева передал это мне и сказал, что Анастас советует уехать куда-нибудь, спрятаться тихонько. Может быть, не заметят, может, обойдется. К тому времени в издательствах уже почти не давали работать. Работа была корректорская. В речиздате я сидела как-то в коридоре, вдруг пришла одна знакомая по МОГЭСу и всматривается в меня, потом редактор говорит: „Она сказала, что же это вы, врагам народа работу даете? Это же Шатуновская там сидит“. Он был хороший человек, Чагин, он стал давать работу на другую фамилию. И сказал: „Ты сама не приходи“» (с. 235).
Об осторожной помощи Микояна Ольга Григорьевна вспоминает несколько раз. «Еще в 1939 году я просила маму хлопотать о пересмотре дела, она смогла пойти к Анастасу, и вот на Колыму прислали мое для пересмотра на их усмотрение. Я его не видела, меня вызвали в местное НКВД, допрашивали, а потом дали бумагу и велели написать все. Я знала примерно, в чем меня обвиняют, села и стала писать так, что все эти обвинения опровергла. Когда следователь взял мои бумаги, прочел их, он посмотрел на меня изумленно и говорит: „Никогда не видел, чтоб человек так мог написать!“ Пошел к начальнику, дал ему мои бумаги. Тот пришел вместе с ним и говорит: „Вы здесь, прямо без подготовки писали?“ — „Да, — говорит следователь, — она при мне писала. Часа два-три писала“. — „Ну, и пишете Вы! Никогда бы не поверил, что можно вот так, сразу лаконично и логично все написать. Мы направим Ваши документы обратно в Москву с положительной резолюцией“. Но потом прошел месяц, два, ничего не было слышно. Я написала маме: „Как же так, вызывали, я все написала, они сказали, что отправят с положительным ответом“. Мама ходила на Лубянку к следователю Рублеву. Он сказал, что да, уже было подготовлено положительное решение, но потом ему не дали хода. Мама спрашивает, что, кто-то руку приложил? „Не руку, а лапу“, — говорит. Это он сам потом был у меня в КПК и рассказывал. Я спросила его» (с. 206–207).
Второй раз Микоян хлопотал, чтобы ей дали уехать с Колымы после конца срока. Тогда хлопотал и начальник — за ударный труд. «Вышло распоряжение — тех, кто отличился ударной работой, выпускать. Мой начальник стал за меня хлопотать, ведь я у него работала за пятерых: бухгалтера, экономиста, плановика, учетчика, нормировщика. И вдобавок за него самого. В Магадане было 22 котельные, наша центральная. В конце каждого месяца надо было сдавать отчет. А к отчету прилагалась таблица — огромная простыня цифр с показателями за каждый день и с итогами по декадам и за весь месяц. Эту таблицу надо было сосчитать. Когда начальник первый раз упросил меня это сделать, я думала не смогу. „Зиновий Михайлович, как же так? Там надо считать по сложным формулам“ — „Ничего, Ольга Григорьевна, я вас научу считать на логарифмической линейке, вы все на лету схватываете. Научитесь и этому“. И действительно, сейчас я уж забыла, как это делалось, а тогда научилась. И все эти отчеты составляла сама. В управлении котельными заметили, что отчеты сильно изменились по стилю. А у меня есть способность собирать все в узлы, все мысли. Это знали и в МК, и в ЦК, за это меня ценили» (с. 216).
К хлопотам начальника котельной прибавились и усилия Микояна. Ольга Григорьевна написала письмо мужу и вложила письмо для Анастаса, что «мой срок кончился, но не выпускают». Юрий пришел к нему на прием, Анастас был тогда министром внешней торговли. «Анастас как-то выхлопотал через Берию, пришла туда телеграмма. Мне сообщили, что я могу выехать. Я стала оформлять документы на выезд. Когда я приехала в Москву, Анастас боялся со мной встречаться, я передавала ему записочки через Шаумяна. И то он читал их, когда они выходили в сад, где-нибудь за кустом, где нет охраны». Микоян не был так хорош, как казалось Ольге Григорьевне. Восемь расстрельных списков он подписал (просматривая их бегло, она заметила только сотни подписей: Сталин, Молотов). Но Микоян не был зомбирован страхом. Когда страх его оставлял, он снова мог держать себя по-человечески. Третий случай — при первом возвращении Ольги Григорьевны в Москву. Более красочный рассказ об этом запомнил Алексей Юрьевич Кутьин. Микоян пытался защитить Ольгу Григорьевну от последствий инструкции 48-го года и обратился прямо к Сталину:
«„Иосиф Виссарионович, в Москву вернулась Шатуновская Ольга, я ее знаю по Баку, у нее трое маленьких детей, пусть уж живет в Москве“.
Сталин на какую-то минуту замешкался, посмотрел на Берия и на Микояна и сказал: „А вот от Лаврентия Павловича поступили данные, что у Шатуновской контакт с английской и американской разведкой“. Микоян побледнел, это что значит? Что он хлопочет за англо-американскую шпионку! В то время, когда сын сидел, это было грозное предупреждение…» (с. 229)
Ольга Григорьевна уехала в Кзыл-Орду. Это ее не спасло. Только поставило точку в отношениях с Юрием и захотелось начать свою женскую жизнь заново. Она вспоминает: «И в пятьдесят лет еще не поздно выйти замуж. Когда я жила в Кзыл-Орде, у меня столько женихов было. Помнишь, Вадим Павлович, он звал меня с ним в Алма-Ату уехать, там у него квартира была. Он с женой разошелся, ей оставил квартиру в Ташкенте. Он не любил своих дочек, говорил, что они легкомысленные, всё об одежде думают. Он был академик Казахской Академии наук. Он строил Чирчикскую ГЭС, тоже сидел. Их проект объявили вредительским, их посадили. Она тоже сидела, его жена, но в лагере для жен. Но потом по их проекту строили все равно, хоть и вредительский. И они потребовали второго расследования, комиссия проект их пересмотрела, и их выпустили. Сюда он приезжал, что-то наблюдал за плотиной, пришел к Виктору, который был главный инженер. А я ходила куда-то, замерзла, по пути решила зайти к Нине погреться. А она на кухне вся в ажиотаже — жарит, варит и шепчет мне: „Ты поди к ним в комнату, займи его разговорами до прихода Виктора, а потом я стол хороший накрою, поужинаем вместе“. Я говорю: „Нет, Нина, я только погреться зашла, я Виктора ждать не буду и уйду“. Ну так все же мы с ним разговорились, а потом я говорю: „Я пойду“. А он тоже пальто одевает. Нина в ужасе, что он уходит. Он говорит: „Я Олю провожу, потом вернусь“. Ну и стал он ко мне заходить. Как приедет, все время — ко мне. Нина говорит ему, и он потом мне это передавал, „Вадим Павлович! Зачем вам Оля, она худая, грустная всегда. Да за вас любая двадцатилетняя пойдет“. Он говорит: „Не нужна мне двадцатилетняя, мне нужна Оля“. А потом разговорились о его книге, он книгу писал. Я говорю: „Покажите мне“. Он показал. Я говорю: „Надо ее редактировать, давайте я вам помогу“. И мы с ним всю книгу перевернули, он в такое восхищение пришел: „Это же другая книга. Ты поедешь со мной в Алма-Ату, я доложу о тебе президенту Академии наук, он выхлопочет тебе прописку“. Но это уже потом, когда мы сошлись и он уговаривал меня пожениться!» (с. 243–244). «По его словам Президент Академии наук „за тебя двумя руками ухватится, как только я доложу, что такой человек есть. Это уж ты мне и то сделала, что книга стала вдвое лучше“. А им, знаешь, как они пишут, им надо все с ног на голову переставлять. Но было уже поздно, уже начальник паспортного стола меня предупредил, что меня ищут. И вот он уезжал, Вадим Павлович, в командировку, сперва в Ташкент, а потом на сессию в Москву. А потом, говорит, когда я вернусь, я все это сделаю, и он прислал мне телеграмму, сперва из Ташкента, потом из Москвы, а когда вернулся — всё! уже меня взяли.
А про начальника паспортного стола я тебе не рассказала. Был у меня знакомый казах Гасан, я ему жаловалась. „Что, — говорю — за паспорт, справка каторжная. Всегда из нее видно, что враг народа. Если был бы у меня чистый паспорт“. И Гасан говорит: „Я поговорю с начальником паспортного стола. Он мой родственник, может быть, он тебе сделает чистый паспорт“» (с. 243–244).
Вообще такие дела делались, но они сходили с незаметными людьми. Например, мой отец получил чистый паспорт вместо паспорта на основании статьи 39. И он мог жить по этому паспорту всюду, где его лично не знали. Но он был незаметный человек, а Ольга Григорьевна была человеком заметным, и все эти попытки как-то обмануть бдительность органов были бесплодны. Однако попытка была сделана. «И вот приходит и говорит, что договорился. Готовь 500 рублей. А пока вот что, мы сделаем обед, ты придешь и обо всем с ним так договоришься. И вот я накупила на 200 рублей водки, выпивки всякой, а закуску его родственница сама наготовила и пришла. Сидим мы за полным столом, он и те двое его родственников — муж и жена и начальник этот, казах, пьем, едим. Все по-русски говорим. Вдруг что такое? Что-то заспорили, по-казахски, шумят, ругаются. И хозяйка и все что-то говорят тому казаху, ругает его. Я спрашиваю: „Что такое? Из-за чего поругались?“. Хозяйка говорит: „Пойдем, посидим на кухне“. Пришли туда, она говорит: „Видишь, какой он бесстыдный, говорит, мне эта женщина нравится, не надо 500 рублей, пусть со мной одну ночь переспит. Мы ему говорим, что ты думаешь, если русская, то проститутка. Как тебе не стыдно! У нее трое детей, интеллигентная. Я твоей жене скажу“. — „Говори“. И все равно свое. И вот мы сидели, сидели, все его пережидали. Наконец, он ушел. Нет, сел на лавочке у ворот, сидит, ждет, пока я домой пойду. Наконец, Гасан говорит: „Пойдем, он заснул, я провожу тебя“. Только вышли, а он за нами, притворился только, что спит. Ну что делать? Идем, не отстает он. Я говорю Гасану, я сейчас убегу. А под ногами арыки. Там сквер такой, и весь в арыках, там же иначе ничего не растет. Ну, думаю, сейчас свалюсь в какой-нибудь! Ничего. Выберусь, а он пьяный, ему не догнать меня. Ну так и убежала. А что делать с паспортом? Опять Гасана прошу. Гасан говорит, что тот раскаивается, просит извинить, что пьяный был. Вот он однажды говорит: „Завтра бери свой паспорт, фотографию, 500 рублей, иди к нему в милицию“. Пришла с утра, села в очередь. Как моя очередь подходит, подаю в окошечко. Он говорит: „Нет, вы подождите“. И так несколько раз: „Нет, вы подождите“. Я опять сижу, и так весь день просидела, уже вечер, все уходят, скоро все закроется. Что же, думаю, это он делает? Опять хочет вдвоем остаться. Но ведь он в милиции. Он ведь здесь ничего позволить не может. Наконец все ушли. Он меня зовет, зайти к нему туда в комнату. Опять приставать будет? Делать нечего, вхожу. Говорит: „Вы меня извините, что я тогда такой дурак пьяный был. Я вас оскорбил, конечно, вы уж меня извините, но дело вот какое. Я уже ничем вам помочь не могу, вас уже ищут, розыски на вас пришли, уже спрашивают про вас. Какая-то бумага из Москвы прибыла. Так что я вас предупреждаю, вы лучше уезжайте, может, спрячетесь где-нибудь“. А где я спрячусь?
Был у меня еще один человек, который просил меня уехать с ним. Это был главный технолог Мурадов: „Поедем со мной в горы, мы зарегистрируемся, ты будешь на моей фамилии, и ни один человек тебя там не найдет“. Я все отказывалась.
Он придет к нам, бывало, и говорит: „Вот сейчас конец рабочего дня, поедем вместе, я тебя домой отвезу“. Я говорю: „Да нет, что вы. Ни за что!“ Чтобы я перед всеми на его бричку села? Он — главный инженер, а я — кто? „Нет, езжайте, — говорю, — я сама дойду“. — „Ну тогда, — говорит, — я отпущу их, а вас пешком провожу“. И тут я ему рассказала. Он говорит: „Уедем, уедем обязательно. Вот я возьму расчет“. Он вообще уж хотел уехать отсюда. Ему тут надоело, к себе — в Осетию. Но ведь он — управляющий. (Видимо, временно исполнял обязанности. — Г. П.) Сразу так не уволишься. И вот как-то конец рабочего дня, я сижу над своими бумагами, кассирша приехала, зарплату дали, а то три месяца уже не давали. Вот она разложила бумаги и говорит: „Сейчас вот, я все посчитаю, разберусь и тебе, Оля, первой выдам“. И управляющий, этот осетин, зашел, разговариваем, бричка его во дворе стоит. Вдруг говорят: „Оля, тебя в соседнюю комнату зовут“. Там другое отделение наше было. Ну, часто звали. Я говорю: „Как идти, с бумагами?“ — „Не знаем“, — говорят. Я вошла, а там уже трое ждут. И всё. Как железный занавес опустился. И все кончилось» (с. 245–246).
«Мурадов, главный технолог сырдарьинского молмаслопрома, балкарец. Он был членом Учредительного собрания, и когда он услышал, что всех членов собрания понемногу подбирают, арестовывают, он уехал в Казахстан. И много лет уже здесь работал. В Нальчике у него были сестры и было много родных там. Брат был директором совхоза под Нальчиком. Нет, он не занимался политикой, нет, беспартийный, просто для своих мест он был интеллигентный человек. Имел высшее образование, хорошо говорил по-русски. И когда были выборы, его выбрали в Учредительное собрание.
— Он действительно был интеллигентным? (Реплика Джаны Юрьевны. — Г. П.).
— Да, очень интеллигентным.
— Ну, а что он тебе не нравился?
— Нравился, но Вадим Павлович нравился больше. Сказать по правде, я играла тогда на два фронта, где выйдет. Но ведь бывает и не в таком положении женщина играет на два, а то еще и больше фронтов. Я не была уверена, что Вадиму Павловичу удастся прописать меня в Алма-Ате. Я уже знала, что это трудно.
— А чего же он ждал? Пока ты получишь чистый паспорт? Ты ему сказала, что уже пришел розыск?
— Сказала. Но он сказал, все равно мы уедем в мои края, брат — директор винсовхоза под Нальчиком, мы там зарегистрируемся. Ты будешь Мурадова, никто тебя не разыщет.
Он написал письмо сестрам.
„Дорогие сестры, вы знаете, что я дал обет никогда не женится и держал его 20 лет, а сейчас я встретил женщину, очень интеллигентную, которую полюбил, и хочу на ней жениться“. У него невеста умерла перед свадьбой. Сестры прислали ответ. Он мне его показывал, что рады и счастливы. Пусть он скорее со мной приезжает. „Вот видишь, — говорил он — они тебя будут любить“.
Надо было уволиться. Это тоже не просто. Где они найдут другого такого специалиста? Даже после моего ареста, как говорят, он увольнялся еще две недели. Наверное, надо было ждать ответа из министерства. Подумать, такая судьба! Одна невеста умерла перед свадьбой, другую арестовали.
Потом наши сотрудницы Вера и Тамара… рассказали, что было в тот день. Было много народу за получкой, ее не давали три месяца. Все говорили, что Ольгу Григорьевну арестовали. Мурадов пришел, услышал, побледнел ужасно. А через две недели уволился и уехал.
— А если бы успели уехать?
Оля промолчала. „Ну, что Бог ни делает, все к лучшему. Что ж связывать свою судьбу с чужим человеком?“» (с. 246–247).
Новая тюрьма и бессрочная ссылка
Я думаю, что Ольгу Григорьевну не выручил бы тогда ни чистый паспорт, ни замужество с Мурадовым. Она просто не понимала тогда, что значит всесоюзный розыск. Тут ищут основательно, нашли бы и по чистому паспорту, нашли бы и по фамилии Мурадова. Кзыл-Орда, в конце концов, не деревня. Там многие люди могли бы показать, что она уехала с Мурадовым. Шансов на то, чтобы спрятаться, почти не было. А второй срок, не только ей, многим было мучительно пережить, именно в момент ареста. Хотя второй срок не грозил тем, что первый. На Колыму второй раз не посылали. Отбывших срока отправляли, если не было на них других материалов, просто в ссылку. Ссылка, правда, могла быть очень отдаленная, в очень суровой местности. Но все-таки в большинстве случаев это была ссылка на вольное поселение. К тому же пароход, на котором Ольгу Григорьевну везли в ссылку, застрял, и в Туруханск она не попала. Но сразу после ареста у Ольги Григорьевны начались припадки. Первый раз эти припадки были на Колыме, когда срок кончился, а выпускать не выпускали. И тогда ночью, когда Ольга Григорьевна засыпала, она теряла свою волю, свою сдержанность, и начинались страшные припадки с криками и судорогами. Подбрасывало чуть не на аршин от нар. И вот после второго ареста снова начались эти припадки. Держали во внутренней тюрьме, которая при НКВД, а не в городской, в одиночке. Ночью Ольга Григорьевна начинала биться и кричать, и вся тюрьма просыпалась. Сидели в тюрьме одни мужчины и, слыша женские крики, они начинали бить и стучать во что попало, думали, что избивают. Страже это, конечно, не нравилось, и в камеру подселили Клаву Замятину, участницу Рютинской группы (см. ниже). Отсидев десять лет, она получила бессрочную ссылку в Казахстан. Тюремное начальство узнало, что она фельдшер, и стало спрашивать, что с Шатуновской. Клава ответила, что это нервное, сдерживается днем, выходит ночью. Ей поручили будить соседку. Они с Олей подружились.
«Три месяца сидела в одиночке в тюрьме МВД. Потом вспомнила, память всю отбило, что они при обыске у меня 600 рублей взяли и квитанцию не дали. Я подала заявление на имя начальника тюрьмы — следователю. Он говорит: „Что же вы так долго ничего не говорили, через три месяца“. Я говорю: „Не знаю, я забыла совсем“. Наверное, он сказал начальнику следствия, тот очень обозлился. Меня вызвали на допрос, руки скрутили назад и поволокли. Он… ругается страшно. „У нас, — говорит, — процесс в Венгрии будет, мы тебя по нему пустим“. И назад вот так же со скрученными руками поволокли. Наверное, за деньги разозлился, потому что под конец сказал: „Вспомнила через три месяца, что деньги какие-то взяли“. Тогда Клаву в камеру привели. Ее втолкнули, румяная, в свежем платье. Я думаю, это ко мне прокурорша, что ли. Я сижу после того допроса, а в комнате ничего больше нет, ни стула, ни другой кровати, дверь и окошко, и через это окошко раз в день воду в миске передавали.
Я говорю ей: „Вы — прокурорша?“ — „Нет, я такая же, как вы“. Я говорю: „Ну, вы садитесь здесь со мной, больше сидеть негде“. Она села на пол в углу. Потом же сказала: „Я думала, что ты помешанная. Ну, думаю, совсем плохо, к сумасшедшей посадили“. А я после этого допроса, да и вообще, сама не своя была, месячные были, я так и сидела на тюфяке, ничего — ни ваты, ни тряпки, все через тюфяк на пол капало. Больше уж потом не приходили. Потом на ночь я ей матрац дала, их два было. А одеяло уж не помню, я дала или они. На другой день они ей кровать поставили.
Клава Замятина, ее муж, Замятин, был в Рютинской группе. Рютин в тридцатых годах был секретарем Краснопресненского райкома. Он написал свою платформу, в которой все тогда уже понял и предвидел, что коллективизация — разорение крестьян и сельского хозяйства, что разрушены все производственные мощности, вся экономика, индустриализация — пыль в глаза, пятилетние планы не выполняются… Клавин муж распространял эту платформу, а Клава сама ее печатала. И когда ее потом в 1955 году хотели реабилитировать, это не удалось. По рютинскому делу не реабилитировали. Он (муж Клавы. — Г. П.) тогда был переведен на Урал, а Клава родила четырех детей и поехала к нему. Они там жили. В 1937 году его расстреляли, а ее осудили на 10 лет. Меня на 8, поэтому я смогла два года на воле пожить, да и то потому, что Анастас исхлопотал для меня разрешение на выезд. С Колымы никого не выпускали. А ее оставили сразу из лагеря в ссылку и привезли в Кзыл-Орду этапом в тюрьму до решения Особого совещания. А обо мне пришло решение Особого совещания, ОСО, из Москвы — ссылка на вечное поселение в Енисейский край. А ей — в Казахстан. Трое ее детей умерли в детдомах, один остался жив» (с. 248–250).
«Наш этап пригнали в Енисейск в октябре 1949 года. Уже начинался снег. Капитан отказался дальше ехать. Мы должны были ехать в Туруханск. Там нет леса — болота и тундра. Капитан сказал, что реку схватит льдом, сотрет пароход. Он дальше не поедет, должен возвратиться в затон в Красноярск. Ссыльных высадили в сарае, там стояли скамейки, можно было сидеть или спать. Но везде щели в стенах и продувает ветер. Конвой пошел в НКВД договориться, где нас разместить. Большинству предстояло ехать на тот берег на лесоразработки. Я, когда меня вызвали, сказала, что слаба здоровьем и зрением, там не смогу. Посоветовались, посмотрели дело, согласились. Вечером в сарай пришел дядя Миша. Он слышал в городе, что привезли этап и в нем есть земляки. Дал хозяйке денег, велел сварить картошки, другой еды. Идет и спрашивает по-грузински: „Кто здесь из Тбилиси? Пойдемте со мной“. А я говорю: „А из Баку вам не надо?“ — „Как не надо, надо. Я в Баку полжизни прожил“. И вот привел нас человек восемь к себе. На столе картошка, самовар, хлеб, лук, чай с сахаром. Наелись, все съели, тепло. Когда уходили, он сказал: „Вы завтра опять приходите“. И назавтра сам за нами пришел опять.
Сняли комнату, я стала массажисткой работать. Мне один знакомый показал и книги дал. Ходила пешком через весь город. Он от поликлиники направляет, а вы сами договаривайтесь. Обычно платили 3 рубля за один приход. Я брала рубль и стеснялась сразу просить. Потом под конец, дескать, все сразу, а потом, бывало, ходила, ходила на другой край Енисейска, не отдают. Старик, помню, лежачий был, ходить начал — нет и нет, сегодня нет, приходите потом, и в другой раз опять нет.
Потом дядя Миша заболел — воспаление сердечной сумки. В Енисейске был доктор Гурич. Он кончил духовную академию, должен был стать архиереем. Свою невесту он поручил другому, так как архиерей — это монах, не имеет право жениться. Пошел посоветоваться к Иоанну Кронштадскому. Тот посмотрел на него и сказал: „Этот путь не для тебя, откажись от сана, откажись от архиерейства“. Он вернулся, взял у друга своего невесту, женился. Потом у них родился мальчик, заболел туберкулезом. Гурич дал обет, что он станет врачом. В промежутке между двумя арестами стал профессором. Доктор Гурич сказал, что дяде Мише нужен пенициллин. А где его взять? Он сказал: „Пойдите в больницу, там хирург балкарец работает, попросите“. Я пошла, сказала, что вот ваш земляк, хороший человек, заболел.
Он дал, только не мог сразу много дать. А велел мне через день приходить, он будет давать по две ампулы. И сестру прислал — уколы делать, за деньги, конечно. Месяца через два-три дядя Миша написал в Красноярск, что он — гравер, может делать печати, организовать граверную мастерскую. До этого он был в Тюмени, справки были, они его вызвали. А мне раз-два в год давал справку глазной врач, что нуждаюсь в лечении в Красноярске. И там врач продлевал. Один раз у врача были неприятности, зачем дает так долго. Вы поосторожнее, это же враги. За мной приходили к дяде Мише, выселять меня из Красноярска» (с. 255–256).
«Ко мне всегда дети шли, — рассказывала Ольга Григорьевна Джане. — В лагере начальник котельной говорит: „Мы с женой, как прикованные, никуда не можем пойти вечером, дочка ни с кем не остается“. — „Не может быть! Со мной бы осталась. Меня дети не боятся“. Он выписал мне наряд на работу в ночную смену. Вечером пришла к ним, она смотрит. Я говорю: „Иди сюда, иди ко мне, Люба“. Она подходит так робко, я ее взяла на колени, а у самой слезы ручьем. „Тетя, почему вы плачете?“ Слезы мне вытирает. „У меня тоже такая девочка дома осталась“. Она от меня не отходила. Как я приду, родители могли идти, куда хотели. Я ее накормлю, умою, спать уложу, сказку расскажу, и свет гашу. А они говорили, что она так не ляжет, только со светом. „Мы ее два часа укладываем“. Они были мною так довольны. Целый стол наготовят, накроют, едой уставят. Но мне было неудобно, с краешку возьму два-три пирожка. С собой предлагают, но с собой все равно ничего не пронесешь, на вахте отнимут, если только между ног, но пирожки неудобно. И так он мне выписывал наряды в ночную смену. А ночью иду сама в лагерь. Если остановят, видно — серая юбка, бушлат. Говорю — из ночной смены. Могут проверить. И днем работаю, и вечером. Это же лучше, чем в бараке сидеть. В теплой чистой комнате, с ребенком. И в ссылке в Енисейске как-то сказали, что сдается комната. Я пошла. Женщина с ребенком на руках. Я говорю: „Вы сдаете?“ — „Да мы уж раздумали, ребенок первый, плачет, как незнакомого человека увидит“. Девочка прячется у нее в плечо. Я говорю: „Ну, что ты прячешься? Иди ко мне, у меня тоже такая есть“. Она и пошла. Мать была поражена, никогда такого не было, чтобы к постороннему пошла. Потом она от меня не выходила. Так что они даже сказали хозяйке, у которой сами снимали полдома, чтобы не сознаваться, что они сдали комнату за кухней, что они няньку для девочки наняли» (с. 260).
Так и кочевала Ольга Григорьевна между Красноярском и Енисейском, находила себе угол.
А когда перегоняли по этапу, могли и пристрелить. «Мы всегда думали, а куда деваются мертвые тела? Но всякий раз, человек отставал — и слышался выстрел. Я иду и все съеживаюсь, жду выстрела. Выстрела нет. И вдруг слышно — вдруг какой-то гогот. Когда вечером пришли на привал, около костра Цуцы нет. Я все думаю, что предала ее, мучаюсь, что я там не осталась, что меня не убили вместе с ней. А потом в темноте стала видеть какую-то фигуру, похожую на Цуцу. Страшно. Черная ночь, костры и это — как призрак. Мне кажется, что я сошла с ума, что мне мерещится, что это — моя совесть. И я боюсь к ней подойти, к этой фигуре, к этому призраку. Хожу кругами, все уже и уже. И вдруг слышу голос: „Оля! Ну что ты ходишь? Иди сюда“. Голос Цуцы. Я подбежала, это она, и со мной стала истерика. „Я тебя никогда не брошу, я бы никогда себе не простила“. Тогда она меня стала утешать: „Ну, что ты так мучаешься? Другого выхода не было“. А потом Цуца рассказала такую страшную вещь. Она села, конвойные сказали: „Вставай!“. Она сидит. Они сказали: „Ну, смотри тогда!“. И вдруг она увидела, что все охранные собаки смотрят прямо на нее. И она поняла, что когда ее убьют, то она по кускам будет в желудках этих собак. Собаки знали, что хозяева, конвой, оставляет это для них. Она прямо представила это себе и ей стало так страшно, что она сама встала и побежала и догнала всех. И вот тогда раздался гогот. Так вот мы поняли, куда деваются мертвые. А потом всех посылали на лесоповал. Но мне повезло, я там не долго была. Оттуда ведь почти никто не возвращался» (с. 256–257).
Дороги прозрения
В период сибирской ссылки Ольга Григорьевна сталкивалась со многими другими ссыльными. Еще и еще раз она убеждалась, каким образом ее друзей оформляли врагами народа. Сохранилось заявление, которое ее рукой было написано от имени Михаила Богданова. Вот отрывок из него.
«Я рабочий, гравер по металлу, был отдан в ученики с 11 лет. Пятнадцатилетним подростком в 1902 году вступил в партию эсеров в Кутаиси. Состоял в ней до 1918 года. На протяжении всех этих лет я участвовал в революционной борьбе против царского самодержавия в Закавказье и в России. В 1905 году я участвовал в восстании в Тифлисе, в 1906 году эмигрировал в Америку, оттуда вернулся в 1907 году, был арестован в Харькове и отправлен в ссылку, откуда бежал в Тифлис. Во время империалистической войны 14–17 годов я был пораженцем. В 1917 году, будучи зам. председателя Шуйского Совета рабочих депутатов, помогал товарищу М. В. Фрунзе формировать рабочие отряды и под его руководством в октябре я вместе с этим отрядом пошел на помощь восставшему пролетариату Москвы и участвовал в штурме Кремля. После Октябрьской революции я ушел на фронт гражданской войны, был уполномоченным по снабжению юга России, работал в это время вместе с Орджоникидзе и Якубовым. В 1921 году во Владикавказе я опубликовал в местной печати о своем разрыве с левой эсеровской организацией, произошедшем еще в 1918 году. С 1918 года никогда ничего общего с эсеровской организацией не имел. Вплоть до момента своего ареста в июне 1938 года я непрерывно и честно работал на советской работе. 21 июня 1938 года я был арестован в Москве, направлен в город Иваново в распоряжение ивановского НКВД, которое предъявило мне обвинение в создании контрреволюционной левоэсеровской организации на территории Москвы и области. Это обвинение было целиком сфабриковано агентурой расстрелянного провокатора и злейшего врага народа Берия. (В это время еще нельзя было трогать Сталина и, как говорится, тогда списывали все на Берия. — Г. П.) Оно стоило мне много крови, унесло все мое здоровье и отняло уже 16 лет жизни. Так называемое „следствие“ мое тянулось ровно год. За это время я подвергался непрерывным жутким истязаниям, меня систематически зверски избивали, доводили этими избиениями до бесчувственного состояния, после чего приводили в сознание, поливая водой, и снова избивали. В числе мер воздействия были бесконечные многосуточные стойки на ногах и сидки с вытянутыми руками и ногами без сна, что доводило меня до невменяемости, горячие карцеры, селедки, вызывавшие ужасную жажду, и еще многое другое. В камеру меня выпускали из кабинета следователя утром к подъему и после завтрака без сна вновь тотчас отправляли обратно на новые истязания, издевательства и избиения. Под конец следствия меня не выпускали из кабинета следователя 56 часов подряд. Били кулаками, сапогами, ключом в область сердца и правого легкого, выбили мне 24 зуба, наколотили две паховых грыжи, разбили мочевой пузырь, от чего я мочился кровью, разбили крестец, вследствие чего я не мог ходить и несколько лет лежа одевался и раздевался и лежа ел пищу. В результате этих избиений произошло выпадение прямой кишки, глухота, тяжелый порок сердца, атрофировалось правое легкое, с тех пор я дышу одним легким» (с. 268–269).
Накапливаясь, такие подробности меняли сознание, ломали партийные догмы.
«Когда началось прозрение? (спрашивала себя Ольга Григорьевна, незадолго до смерти, в 1989 году. — Г. П.). Еще до ареста, летом, когда уже шла огромная волна репрессий, я как-то чувствовала, что наступает какой-то поворот, уходят порядочные люди, преданные, строители социализма. И все же и в тюрьме я еще не понимала. До того, как меня в одиночную камеру посадили, я была в какой-то большой общей камере, я лежала на полу и рядом со мной лежала одна итальянская коммунистка. Она кое-как по-русски говорила. И мы с ней всю эту ночь проговорили до утра о том, что же произошло. Она мне рассказывала, что в Италии фашизм, арестовали ее мужа, активного борца. Потом арестовали родителей, рабочих-коммунистов, их детей, которые находились у родителей, отправили в монастырь на воспитание. В Италии очень много монастырей. Она эмигрировала, потому что чувствовала, что ее вот-вот тоже посадят, считая, что здесь отечество трудящихся. И вдруг ее тут сажают, и других политэмигрантов. Она мне говорила: „У вас произошел фашистский переворот“. Но это в голову не вмещалось, хотя еще до ареста такие мысли были.
Я ей говорю: „Этого не может быть. Ну, как фашистский переворот?“. То, что фашистский переворот может произойти под маской социализма и под маской советской власти, у меня не укладывалось в голове. Я ей говорю: „А вот я сидела в Новинской тюрьме, там на окнах не было козырьков, и я слышала музыку“. Нас ведь арестовали под 5 ноября, весь состав Московского комитета. Я слышала музыку, и где-то по верхушкам видела даже красные знамена демонстрации, которая шла. А эта Новинская тюрьма, она там была, где теперь СЭВ, снесли ее корпуса.
Так что, когда демонстрация шла, видно было, я видела красные знамена. Как же фашистский переворот?
Но это глупо, наивно так думать. Могут звучать революционные гимны, могут нести красные знамена, и все равно это прикрывает фашистский переворот. Она говорила: „Раз коммунистов арестовывают, значит, фашизм“. Но в меня это не вмещалось. Многие мои близкие друзья до сих пор не могут понять этого. Моя близкая подруга Мария Давидович была очень умная женщина, но она не могла додуматься, даже когда мы уже были реабилитированы. Она приходила ко мне, и мы спорили.
Нас гнали одним этапом на Колыму, меня, Марусю Давидович и Лену Либецкую. Они сидели еще в Фордоне, в польской тюрьме. И мы тихонечко на нарах шепотом беседовали. Все время старались понять. Ну что же это? Вот так, капля за каплей. (На следствии Марусю Давидович подвешивали за ноги и били головой об стенку. Но коммунистические идеи трудно было вышибить. — Г. П.) До ареста, летом 1937 года, когда репрессии уже разразились, я помню у Хрущева был заведующий особым сектором Рабинович. И вот я иду по улице от МК, а навстречу мне идет Рабинович. И там у них уже помощников некоторых взяли. И он мне на улице говорит: „Оля, что же происходит?“ — „Мне кажется, что это какой-то переворот, только какой, я понять не могу“. Вот я помню, что это я Рабиновичу сказала.
Мы были объяты полным обожанием всего того, что происходило. Это как гипноз какой-то. Были, конечно, люди, которые понимали, но только не мы. Мы же были аппаратчики и старые коммунисты, которые посвятили свою жизнь всему этому, и нам очень трудно было перестроиться, очень трудно. И окончательно я все поняла, когда я работала уже членом Комитета партийного контроля над всеми этими вопросами. Вот когда погрузилась в процесс убийства Кирова, тогда окончательно я стала понимать» (с. 211–212).
Судя по моим разговорам с Ольгой Григорьевной, процесс понимания сталинщины не закончился и тогда. Тут такая бездна, что ее до конца и не поймешь. Продолжаем, однако, ее рассказ.
«Вот возьмите, например, эту насильственную коллективизацию и гибель, по некоторым данным, 22 миллионов. Это не официальные данные, но это говорили мне работники статистики. 22 миллиона смертей причинила насильственная коллективизация и голод, последовавший после нее. Я это знала, но все-таки до конца додумать, что был контрреволюционный переворот, это пришло ко мне только за последние годы.
А в конце двадцатых, в начале тридцатых я считала, что все, что делается, правильно. Вообще сначала у меня всегда в голове было: все, что Ленин говорит, все правильно. Даже мысли не может быть, чтобы не согласиться с Лениным. Как бы мне ни казалось, что нет, не так, я должна это отбросить. Раз Ленин говорит — так, значит — только так. А потом это как-то перешло и на Сталина. Сталин говорит…
Но нужно вам сказать, что он применял очень коварные методы. Например, до этой насильственной коллективизации было принято постановление ЦК о том, что нужна демократия, нужна самокритика, ее у нас недостаточно. Мы принимали все это за чистую монету. В 1923 году было сначала письмо Дзержинского об отсутствии демократии в нашей партии, потом заявление 46.[23] После этого состоялось постановление Центрального Комитета. А мы все принимали за чистую монету. Вот постановление о самокритике, о демократии внутрипартийной. Это же маскировка была хитрейшая, коварнейшая. Но мы же не понимали.
Это нас объединяло, привлекало, мы верили, что в нашей партии все правильно. В 1927 году была открытая дискуссия в партии. По всем ячейкам, всюду выступали оппозиционеры и выступали мы. Я в это время была секретарем райкома в Баку. И боролись за мнение каждой ячейки. Оппозиционеры уже читали завещание (речь идет о завещании Ленина, где он давал нелестную характеристику Сталину. — Г. П.), а мы не соглашались. Тогда в партии не так много народу было, наверное, миллиона три, не больше. На каждой ячейке читали завещание. А на наш район навалилось очень много видных революционеров. Во-первых, приехал бывший секретарь нашей подпольной организации Саркис Даниэлян, который пользовался очень большим уважением и авторитетом в Баку среди рабочих. Во-вторых, приехал видный теоретик оппозиции Тер-Ваганян. Затем приехал соратник Камо, Володя Хуталашвили. Вот такие силы крупнейшие приехали, и все на наш район навалились. Так что я и Артак Стамболцян, он был первый секретарь, а я — второй, мы бегали бегом по всем промыслам и заводам, куда оппозиционеры, туда и мы. А я только что родила, с новорожденным ребенком. И вот мы отстояли. Мы очень были довольны тем, что ни одна ячейка не согласилась с оппозицией, а соглашалась с нами, с генеральной линией. Мы этим были очень довольны и горды.
И вот однажды вечером, когда дискуссия по району закончилась, приходит к нам Володя Хуталашвили. „Давайте, товарищи, побеседуем“. — „Давайте“. Мы хотим с ним беседовать. И вот целый вечер мы с ним разговаривали. И он нам объяснял, что из себя представляет Сталин. И говорит: „Вы понимаете, почему столько старых большевиков пошли за оппозицией? Это не потому, что нам нравится Троцкий, его платформа, а потому что мы хотим, чтобы партия не шла за Сталиным, это — подонок, это — негодяй, он обманывает всю партию. Вот вы не поняли, что Ленин прозрел и рекомендовал его убрать. Вы не поняли этого. А он приносит нашей партии величайший вред, и кончится это все очень плохо“.
Очень много он нам говорил о Сталине, и мы не верили. „Не может этого быть! Ты клевещешь. Это оппозиционеры выдумывают. Не может это быть! Сталин — это Ленин сегодня“. Вот до чего у нас это было в мозгах. Он говорит: „Вашими руками он нас закопает в землю“. Мы говорим: „Да что ты говоришь? Никто вас не собирается закапывать в землю. А что вы ведете подпольную работу фракционную, так вас за это исключат из партии. На это есть постановление X съезда“. — „Нет, нас всех прикончит он вашими руками. Он нас закопает в землю, а потом по вашим головам он придет к единоличной власти, и тогда ваши головы полетят“.
Мы кричим: „Да, что ты! Обязательно все по образцу Французской революции что ли должно происходить?“ — „При чем тут, — говорит, — Французская революция? Я вам говорю, как будут развиваться события у нас в России. Все вот так будет coвершаться“.
Мы не верили. Весь вечер мы спорили, он нам объяснял и втолковывал, вкладывал в мозги, а от нас отскакивало, как горох от стенки. И в конце концов он рассердился, встал и говорит: „Запомните, слепые щенки, что я вам сегодня говорил“. Хлопнул дверью и ушел. А я на всю жизнь запомнила: „Слепые щенки, запомните, когда-нибудь у вас откроются глаза, но поздно будет“. Вот так и совершилось, как он говорил.
Конечно, они все погибли, всех оппозиционеров он прикончил. А потом он пришел к единоличной власти и прикончил и всех тех, по чьим головам он пришел на трон. Все, как Хуталашвили нам сказал, свершилось.
Почему они не могли переубедить ячейки? Какая-то часть пошла за ними, но он их всех истребил, а массы верили нам. Верили, что мы строим социализм, что большинство в ЦК — это последователи Ленина, Сталину верили. Наверное, человек так устроен, что в его мозги войдет, то и держится. Верили, слепая такая вера была. Вот он нас и назвал „слепые щенки“. Все они были уничтожены, не только они, но и рядовые.
Один раз, когда я уже в лагере была на Колыме, пригнали этап тюремщиц. Значит, те, которые сидели по тюрьмам, по политизоляторам. Пригнали целый этап, мы пришли с работы и узнаем, что пришел этап тюремщиц. И вдруг ко мне идут и говорят, что вот из такого-то барака тебя зовут, тебя там кто-то знает. Я пошла. А там одна бакинская коммунистка, которая была в оппозиции, совершенно рядовая. Рая, я помню ее звали. И эта Рая, когда я пришла, лежит на нарах. „Боже мой, Рая, ты что, в тюрьме была?“ — „Да“. Муж ее Мумидлинский тоже в оппозиции. Его, видно, уже расстреляли, а она сидела во Владимирской тюрьме и вот попала в этот этап.
Мы коренные бакинки. А ее отец был старый, старый большевик. Еще когда у нас боевая дружина формировалась в 1917 году при бакинском комитете большевиков, то у него на квартире первые совещания были. Она говорит: „Ну, вот что? Вот вы нас били, вы нас отвергали, а теперь мы с вами на одних нарах. Вот чего вы добились“. Ну, что я могла ответить? Ничего.
Маркс пишет („Гражданская война во Франции“): „До сих пор в истории всегда повторялось одно и то же явление. Если угнетенные трудящиеся брали власть и свергали власть угнетателей, то через некоторое время чиновники, выдвигаемые этими победившими трудовыми классами, постепенно складывались в новый класс и становились господином над выдвинувшими их трудящимися“. Ну, а дальше, он продолжает, в Парижской коммуне это не произошло, потому что они себя застраховали от выдвинутых ими депутатов и чиновников такими способами, как всеобщая избираемость, сменяемость, жалование не выше среднего мастерового. Он там показывает, как застраховалась Парижская коммуна от своих собственных чиновников. Но это же все только на 70 дней» (с. 212–215).
Для многих тогда было характерно то же самое: осознание того, что получилось от захвата власти большевиками, шло в рамках марксистско-ленинской теории. Это еще не было полным осознанием, только первым шагом. И в те годы, когда Ольга Григорьевна одна оставалась со своими воспоминаниями, в отдельной квартире на Кутузовском проспекте, в ней продолжалась эта работа, расставание с великой идеей. И отчасти поэтому ей так тяжелы были воспоминания. Она в одном месте говорит об этом, о тяжести воспоминаний — не только об изменах друзей, любимых, — но об измене идеи:
«Знаешь, чем еще так страшна старость? — сказала однажды Ольга Григорьевна, — болезнь, слабость, но еще груз воспоминаний, они давят меня». — «Ну и что? Вспомнила и хорошо. Они же всегда были с тобой, всю жизнь», — возражает, по-видимому, Джана. Ольга Григорьевна продолжает: «Но раньше они меня не давили, потому что я была занята другим. А теперь вспоминается все так ярко. Или у меня такое живое воображение? Будто рядом, а никого ведь уже нет. Я говорю прямо себе — не вспоминай, ну перестань, не надо, но я не могу больше, это так тяжело» (с. 123).
У меня не раз было впечатление, что она продолжает перебирать свой жизненный путь и чувствует, что разгадка от нее ускользает. Ведь этот процесс имел очень много слоев глубины. И с той точки зрения, к которой она привыкла, со стороны теории, которую она усвоила, вернее обрывков этой теории, оставшейся у нее, когда она постепенно от многого отказывалась, далеко не все было понятно. Говоря языком социолога, в двадцатые годы шел процесс становления партии вождя, за которым пошли массы, потерявшие привычную ориентацию. В XIX веке историческое развитие шло медленно, и казалось, что можно на него рационально повлиять. Поэтому еще в начале XX века (ведь настоящий XX век начался с 1914 года, Ахматова правильно это заметила) люди увлекались партиями, партийными программами, различными планами развития России. А когда начался настоящий XX век, пошли какие-то непредвиденные катастрофические изменения, и массы растерялись. Держала только вера в гениального руководителя, за которым надо пойти, и он выведет. То есть начала складываться партия вождя, опиравшегося на слепо поверившие ему массы, на слепо поверившие ему толпы растерявшихся людей. Именно это было главным козырем Ленина. Он создал такую партию. И эта партия оказалась гораздо более мощной, чем партия, устроенная на старых принципах, несмотря на то, что сам Ленин не до конца сознавал, что он строит, и в его партии оставались некоторые остатки социал-демократизма. Муссолини очень правильно это понял, когда он назвал себя учеником Ленина. Он действительно ухватил суть дела, что наступил — по крайней мере в некоторых странах — век партий растерявшихся людей, слепо идущих за вождем.
И даже сегодня в нашей стране, когда сверху нам была брошена демократия, люди не умеют ею пользоваться, они сами не знают, за что голосовать, они не понимают никаких партийных программ, они привыкли, что словам нельзя верить. Чаяния и надежды масс все время кристаллизуются вокруг той или иной фигуры, то в Ельцина поверили, то в Лебедя поверили, какое-то время в Примакова верили, сейчас в Путина верят. То есть растерявшаяся масса людей не способна строить демократическое общество. Она стихийно движется, как поток, в сторону тоталитарного государства. И вот Муссолини стал учеником Ленина, отбросив кое-какие привески социал-демократизма, которые оставались еще формально в партии большевиков. Потом Гитлер стал учеником Муссолини. И Сталин постепенно стал ориентироваться на этот европейский опыт переосмысления ленинского начинания. И это, конечно, уже выходило за рамки программы и устава партии, созданных еще Лениным. Это было парадоксальным, неожиданным развитием тенденции, которую Ленин почувствовал и в какой-то степени воплотил. Но западноевропейский опыт Германии, Италии пошел дальше. И Сталин использовал центрально-европейский опыт. Фактически он двигался в ту сторону, по которой пошел Муссолини, а потом Гитлер, сохраняя все атрибуты ранней советской власти. Сам Сталин это понимал. Работая в КПК, Ольга Григорьевна нашла факты о постоянных контактах Сталина с Гитлером.
Для Ольги Шатуновской, для многих это долго казалось чем-то нелепым, невозможным. Если есть красные знамена, если раздаются по-прежнему революционные песни, какой же фашизм. Но ведь и фашизм в Германии пользовался красным цветом для своих знамен. Только посередине знамени был не серп и молот, а то, что мы называем фашистским знаком, свастика. А красный цвет Гитлер прекрасным образом сохранял. И если говорить о стиле гитлеровских песен, то они не так уж сильно отличались от революционных коммунистических песен.
Это один слой реальности, просто бросавшийся в глаза. И за этим еще более глубокий слой. В переломные этапы истории, когда кончается одна инерция и еще не сложилась другая инерция, когда история как бы делает крутой поворот, даже более крутой, чем прямой угол, почти поворачивает в обратную сторону, на 180 градусов, — невозможно победить, следуя каким-то разумным правилам, разумным расчетам. Тут начинается эпоха безумия, мне приходится еще раз повторять, потому что это еще один очень важный слой реальности. И с одной стороны выдвигаются святые безумцы (ими были ранние христиане 2000 лет тому назад), а с другой стороны выдвигаются безумцы, одержимые демонами. Те и другие действуют иррационально. Иррационально действуют Петр и Павел, иррационально действует Нерон или Калигула, человекоорудия дьявола, как назвал их Даниил Андреев И опять это повторяется в XX веке. XX век — это эпоха параноидных вождей. Отдельные люди были больны паранойей и в прежние времена, но они редко попадали на престол. А вот в эпоху крутого надлома в некоторых странах наступает время, когда именно параноид становится центральной фигурой.
То, что Ольга Григорьевна говорила о переходе от революции к единоличной власти, было сходным для Наполеона и для Сталина, но они совершенно разные люди, дышавшие воздухом разных эпох. Наполеон был человеком совершенно рационально действующим, и абсолютно нельзя смешать его с диктаторами XX века. Наполеон был автором Гражданского Кодекса, который стал классическим кодексом, организовавшим буржуазное общество. У него были свои страсти, он был замечательным полководцем, и его увлекала война сама по себе, он в этом смысле не знал удержу, но это еще все-таки не безумие. Никогда бы никакой Наполеон не стал истреблять своих собственных маршалов, посмевших ему возразить. Его не увлекала утопия Бабёфа, и он не стал бы, прикрываясь утопией, истреблять крестьян, неохотно продававших ему хлеб. Раскулачивание и голодомор — это то, что нормальный человек осуществить не мог, это было уже безумием, это было параноидным решением, и это решение проскочило, это решение как-то одобрялось даже такими людьми, как Ольга Григорьевна, которая, правда, не была никогда на работе в селе и не видела это своими глазами. Но как-то люди принимали все официальные фразы, которыми все это оформлялось. А разве не параноидной была опричнина царя Ивана Васильевича? Это действия, которые нельзя даже задним числом подвести под разумную политику. Этот прорыв паранойи в человеческую историю — параноидная опричнина, параноидная коллективизация, параноидный террор. Причем параноид мог в каких-то поворотах, я об этом говорил, действовать разумно и приобретать авторитет гения в глазах своих ближайших подручных. Тем хуже было для страны, которая оказывалась в его власти.
Конечно, отдельные эпохи религиозной одержимости, идейной одержимости были и раньше. Конечно, элемент безумия был в Варфоломеевской ночи в той же Франции, элемент безумия был во французской политике террора при Робеспьере. Но это были всплески, это были как бы короткие взрывы массовой одержимости без превращения безумия в стабильный порядок. Режим Гитлера, режим Сталина был уже режимом, в котором логика безумия, логика паранойи стала устойчивым политическим порядком. В этом различие. Варфоломеевская ночь длилась одну ночь, походы против альбигойцев длились дольше, но это не было стабильным порядком, основанным на безумных принципах. В XX веке возникает целая система государственная, в которой органически, краеугольным камнем было безумие, стабильное безумие, которое чередовалось с недолгими эпохами сравнительно разумной политики. Так же как и наоборот, сравнительно разумная политика раньше могла чередоваться с короткими периодами безумной одержимости, с отдельными всплесками вроде аракчеевщины и т. п. В XX веке безумие и разум поменялись местами, ведущим стало безумие. Акцент на безумии в XX веке, акцент на безумии в I веке был знаком эпохи перелома, эпохи общей линьки разума, и в поэтическом воображении Даниила Андреева рисовались легионы ангелов и демонов, сражающихся за Россию.
Первый период русской революции, после октября, несколько походил на Французскую революцию, хотел на нее походить, повторял ее лозунги, повторял сами словечки «комиссары», «террор». Это все французский словарь. Но дальше произошел переход от взбесившегося разума к бешенству, потерявшему всякую возможность рационализации. Я почти осязал, что эпоха Большого Террора (я пережил ее достаточно взрослым, 18-20летним) была эпохой безумия. Вероятно, так же выглядела коллективизация в деревне. Так же, я думаю, безумием, ставшим стабильным государственным порядком, тщательно хорошо организованным, была политика Холокоста. Так же, как организованным безумием, по-видимому, была политика Пол Пота, великая пролетарская культурная революция Мао Цзедуна.
Состояние безумия может быть у любой толпы, например у болельщиков на футбольном матче. Но одно дело бунт, другое — параноидный государственный строй. Это опричнина, это сталинщина, это гитлеризм. Разница огромная. Наконец, есть еще один слой глубины. Можно эту паранойю, ставшую системой, рассматривать как сатанизм, как вторжение демонических сил, как победу демонизма в человеческой истории. Это убедительнее всего показано у Даниила Андреева. Но лучше всего рассмотреть это на отрывках из «Розы мира», сохраняющих стиль автора. (См. ниже.)
Ольга Григорьевна чувствовала демонизм Сталина, но по своему мировоззрению не могла это осознать, выразить в понятиях. Только раз, в ответ на вопрос Алеши, почему Орджоникидзе застрелился? Почему он вместо этого не застрелил Сталина? — она сказала о магическом ужасе, который Сталин вызывал.
Разбираться во всех этих пластах бытия будут и через сто, и через тысячу лет, всё с новых точек зрения. Но Ольге Григорьевне досталось то, что после нее уже никто не сможет сделать: допросить живых свидетелей сталинских преступлений, которые он тщательно пытался скрыть. Началось, впрочем, с реабилитации.
«Меня реабилитировали в 1954 году, — рассказывает Шатуновская. — Тогда была создана правительственная комиссия. Политбюро постановило создать правительственную комиссию — одну! — по реабилитации. Во главе был Серов, КГБ. Я послала заявление после ареста Берия. Еще через некоторое время арестовали Багирова, секретаря ЦК Азербайджана. А Багиров, когда я еще была на воле, из Баку послал письмо, что вот Шатуновская в Баку работала и всегда вела антиленинскую работу. Это было еще летом 1937 года. Меня вызвал Хрущев: „Ты в каких отношениях с Багировым?“ — „В нормальных, обычные товарищеские отношения“. Он говорит: „Между вами нет никакой ссоры?“ — „Нет“. — „На, читай“. Я прочитала: „Вела в Баку в те годы антиленинскую работу“. Хрущев говорит: „Не обращай внимания, иди работай“. И я пошла работать. А вот когда меня арестовали, 5 ноября 1937 года, примерно через полгода после этого письма, это письмо было уже у них, уже в КГБ. „Ты не обращай внимания!“ Ну мне предъявили, главным образом, вот что: все лето 1937 года, еще даже весной шли районные конференции по Московской области. И я исполняла обязанности заведующего отделом партийных органов МК вместе с секретарем МК, который курировал этот отдел, Коротченко Демьян. И мы занимались всеми этими конференциями, руководили ими. Ну а потом, конечно, всех секретарей райкома арестовали. Всех. И расстреляли всех. Так вот мне предъявили, что я расставила врагов народа по всей области, по всем районам.»
Маленков, нет, не Маленков их выращивал. Они росли, были замечательные люди, были участники Гражданской войны. «Маленков тут совершенно ни при чем. Он и был-то всего года два, потом был Крымский. Это люди были старые большевики (речь шла о секретарях райкомов), участники Гражданской войны. Что Маленков? Маленков сам из себя ничего не представлял. Недоросль в партийном отношении, вырос потом в палача. (Это очень близко к портрету Маленкова, нарисованному Авторхановым в его книге „Технология власти“. — Г. П.). И вот когда арестовали Берия и Багирова, мне мои друзья там в ссылке, в Енисейске, говорят: „На тебя же Багиров написал, ты работала с Хрущевым. Напиши ему.“ Я говорю: „Не буду я никуда писать, не умею. Я не верю никому и ничему“. Приставали, приставали, пришли с бумагой и ручкой, прямо чуть ли ни силком „напиши Хрущеву“. И вот я на маленькой такой четвертушке бумаги написала ему несколько строк, что мы работали с вами вместе и вы, конечно, знаете, что я никаким врагом народа не являюсь. Больше не стала ничего писать, никаких объяснений, и отослала по почте. И представьте себе, что он так и взялся, немедленно дал поручение, и мне говорил следователь, который занимался моим делом, Рублев, что каждый день звонил помощник Хрущева Шуйский и спрашивал, ну когда вы кончите дело Шатуновской? Они закончили, и вот в эту комиссию, которая была создана, передали. И эта комиссия меня реабилитировала. Одна была тогда, единственная, и еще хуже, чем одна — под председательством Серова. Ну а потом он, конечно, меня вызвал к себе». (Он, в данном случае, Хрущев. — Г. П.)
V. Возвращение в историю
Призрак на Старой площади
В стремительном перемещении Шатуновской из ссылки на Старую площадь было что-то волшебное. Хрущеву нужны были кадры, способные проводить его политику, и люди, подобранные Сталиным (или Маленковым), для этого не годились. Но Ольга Григорьевна не была простым орудием реформ. Она сразу стала формулировать не только средства новой политики, но и цели. Правда, ее цели почти никогда не достигались, но они заражали Хрущева, вертелись в его голове и серьезно обсуждались. Лебедев, один из помощников Хрущева, был по-своему прав, когда говорил ей, что она оказывала на Хрущева «вредное» влияние.
Первым ее революционным шагом был отказ от «пакета», то есть, говоря современным языком, от «черного нала», прибавки к зарплате, не проходившей по ведомостям, т. е. от подкупа номенклатуры, вошедшего в скрытую норму, видимо, взамен закрытых распределителей. Но Оля Шатуновская и в 1918 г., и в 1921 г. от закрытых столовых отказывалась, предпочитала голодать:
«В Баку до революции пирожное сегодняшней выпечки стоило копейку. На следующий день это пирожное стоило полкопейки, а на третий день, если оно не было продано, все эти пирожные третьего дня собирались и делалось пирожное-картошка. В 20-е годы, когда пришла советская власть, у нас в Баку сразу не стало ничего есть. У меня были расчесы от ногтей, которые гнили и не заживали. Я пошла к одной знакомой фельдшерице, а она говорит: „Да ты, наверное, ничего не ешь, вот ты такая истощенная“. Я говорю: „Да“.
— Вам же дают.
— А я не беру. Все голодают, а я буду паек брать?
Я Саню Сандлера один раз встретила — идет веселый, толстый, весь лоснится. „А ты чего, — говорит, — такая. Я хожу в столовую, там, знаешь, как наедаюсь“.
— А я не хожу. Во-первых, сил нет из Черного города туда идти, а во-вторых, стыдно. Что ж я рабочих уговариваю, что это временные трудности, что надо хорошо работать, а сама буду паек есть?» (с. 121–122).
Чувство справедливости, жившее в ее сердце, за тридцать с лишним лет — с 1921 г. по 1954 г. — не изменилось. И со страстной убежденностью она настояла на отмене пакетов. Растерявшаяся номенклатура не успела организовать сопротивление. Однако другие реформы, предложенные Шатуновской, не прошли.
Василий Гроссман, в «Жизни и судьбе», писал, что коммунисты в заключении, в лагерях, сохраняли дух, выветрившийся, исчезнувший на воле. Это одна из причин, по которой реабилитированных отправляли на пенсию: они не вписывались в новые отношения. Но почему такую силу получила Ольга Григорьевна? Почему Хрущев согласился конфисковать пакеты и готов был на несколько других конфискаций? Как Хрущев, далеко не лишенный хитрецы, вступил в борьбу со своим собственным аппаратом? Без «вредного влияния» это необъяснимо. Но одним «вредным влиянием» тоже нельзя все объяснить. Нельзя повлиять на человека, твердо убежденного, что влияние лично ему вредно, «экзистенциально» вредно, расшатывает его бытие. Что-то в Хрущеве шло навстречу «вредному влиянию».
Почему Хрущев так ухватился за короткую записку, присланную из Сибири? Записку не только не почтительную, а просто невежливую: вы сами, дескать, знаете… Почему он каждый день заставлял своего сотрудника Шуйского теребить следователя с реабилитацией Шатуновской? И о чем Хрущев с ней три с половиной часа проговорил? Она мне ничего об этом не рассказывала и родным ничего не рассказывала. Мне очень жаль, что я не догадался расспросить ее. На прямые вопросы, может быть, ответила бы. А сама не начинала — почему? Может быть, стыдно было своих иллюзий?
В «Квадрильоне» я описал Хрущева как поручика Пирогова: его на о-ве Куба высекли, а он съел слоеный пирожок и утешился. Я все время видел перед собой Хрущева, когда описывал категорию «рыл», в отличие от «гадов». Впоследствии, после отставки, Хрущев сам подтвердил мою характеристику в разговоре с Петром Якиром. Петр спросил: в чем были принципы «группировки», едва не сместившей Никиту Сергеевича? Хрущев ответил: «Раньше, когда я был моложе, сколько ни выпью — мало. А сейчас — сыт. И баб — ни одну не хотел пропустить. А сейчас вот — сыт. Ну а власть — ею никогда сыт не будешь. Вот тебе и группировка». (Цитирую по памяти, но сказано было так просто и так ярко, что трудно перепутать.) Жаль, что я не знал этой притчи, когда писал «Квадрильон». Непременно бы использовал. Однако в отношениях с Шатуновской выступает некоторая душевная сложность, тяготеющая скорее к Достоевскому, чем к Гоголю. Тут не Пирогов, скорее Лебедев, способный заплакать, читая о судьбе мадам Дюбарри. Рыло со слезами о Бухарине и мечтой о светлом будущем… И с какими-то неумелыми стишками об этом будущем, которые он вспоминал, в укор модернистам.
Став первым секретарем, Хрущев чувствовал потребность сделать свой вклад в сокровищницу идеалов, внести туда нечто прекрасное. Суслов здесь ничего не мог подсказать, он в таких категориях просто не мыслил. А в политике нужен был, помимо несущих конструкций, еще некоторый декор идеалов. Ольга Григорьевна, самым стилем своей дерзкой записки, подсказала, что в ней идеалы еще живы. Припомнилось и ее личное обаяние. И Хрущев потянулся к ней, как к своей музе, способной диктовать нечто в духе разумного, доброго и вечного (в декоре унаследованной им постройки, нуждавшейся, по его мнению, только в текущем ремонте). А муза, вдруг принесенная к престолу Просвещенного Принца, унаследовавшего престол Деспота, загорелась иллюзией нравственной реформы, что-то вроде возвращения к партмаксимуму (ограничению зарплаты ответственных работников в 20-е годы). Разоблачение сталинских преступлений и нравственное обновление жили в уме Ольги Григорьевны в тесной дружбе.
В извинение Ольге Григорьевне можно вспомнить, что энциклопедисты XVIII века, люди бесспорно умные, во что-то подобное верили. И Ольга Григорьевна поверила и начала сеять разумное, доброе, вечное. Если Хрущев поддавался на ее слова, то почему не поддадутся другие? Но каждый ее шаг встречался злобным шипением.
Хрущев был человеком без царя в голове, эмоциональным и непоследовательным. Берия, Маленков и Молотов, стоявшие в первом ряду наследников Сталина, именно поэтому доверили ему первый пост в государстве (друг друга они больше боялись). Прочитав резюме дела Бухарина, он плакал, он восклицал: «Что мы наделали!». А потом так и не решился опубликовать это резюме. Хрущев плакал, вернув из лагеря жену и дочь своего друга Корытного, а потом ни разу не встречался: почувствовал, что это нарушило бы неписаный протокол высшей номенклатуры. Корытный был посмертно реабилитирован, но лагерный опыт прорыл незримый ров между двумя семьями. Только в отчаянном положении, во время войны, репрессированных генералов возвращали на прежние должности.
Хрущев сочувственно выслушивал Шатуновскую и Снегова, говоривших ему, что другие члены Политбюро — не настоящие ленинцы, а потом этим же не настоящим ленинцам все рассказал. Те взбеленились, и он согласился, что Снегова и Шатуновскую надо отчитать (отчитывать Ольгу Григорьевну поручили Микояну). Он способен был позабыть номенклатурные приличия и провозгласить в Баку тост в честь Шатуновской «не по чину», сразу после первого тоста, о деле Ленина, в обход местного хозяина Алиева. Но так же легко он мог предать ее.
Окружение Хрущева видело, что «вредное влияние» Ольги Григорьевны сбивает шефа с толку, и старалось ее изолировать, а по возможности — вовсе прогнать Шатуновскую. Суслов восемь раз ставил на секретариате вопрос о ее увольнении. Влияние ее висело на волоске, на волоске хрущевской прихоти и старой дружбы с Микояном. Трудно понять, как она не видела обреченности своих широких планов.
Впоследствии она не могла простить Хрущеву своих иллюзий. После отставки Хрущева многие инакомыслящие простили ему все грехи, а Ольга Григорьевна была беспощадна. Что-то здесь мне напоминает Марину Цветаеву: та сперва идеализировала людей, а потом с ожесточением срывала павлиньи перья, которыми сама же их украсила. Иллюзии были условием любви, без которой Цветаева не могла жить. Иллюзии — одно из условий героической борьбы, которую Шатуновская вела. Нет таких крепостей, которые люди, окрыленные иллюзией, не могли бы штурмовать — а иногда и брать (я немного перефразирую известный лозунг начала 30-х годов: «нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять!»).
Ольга Григорьевна рассказывает:
«Долго со мной Хрущев беседовал, три с половиной часа мы беседовали. Предложил идти работать в Комитет партийного контроля, а потом уже стали говорить, что надо создать много комиссий, а иначе это растянется на года. Серов старался поменьше реабилитировать. Вот, например, в КПК приходит заявление заключенной Иваницкой. Я Иваницкую прекрасно знала, она работала в Баку завагитпропом Сураханского райкома партии. Она пишет из лагеря. У меня были связи со всеми прокурорами, и военными, и в прокураторе СССР. Я звоню тому прокурору, который занимается Закавказьем, я тоже курировала Кавказ и Закавказье, и прошу его рассмотреть дело Иваницкой. Они рассмотрели, дали заключение — реабилитировать, и подали в комиссию Серова. А там ее обвинили, что она во время борьбы с троцкистской оппозицией была на стороне оппозиции. Значит, отказать, троцкистка. Я знаю, что она никогда не была троцкисткой. Приходит прокурор и говорят — он отказал. Я говорю: „Принесите мне дело“. Я смотрю ее дело, там на нее два человека показали, что она была в троцкистской организации, и они оба отказались от своих показаний. И пишут, что они поддались физическим воздействиям. А на самом деле она была завагитпропом райкома и возглавляла борьбу с троцкистами.
„Где заключение прокурора, который вел ее дело?“ — „Он этого не написал“. — „Ну, как же вы просмотрели? В деле отказ, а смотрите, что пишут. Пишут, что „где она и работала““ — „Ах, да, мы просмотрели“ — „Делайте второе заключение и обратно на комиссию“. Через какое-то время они выносят дело опять на комиссию. Серов говорит: „Почему второй раз?“
— Открылись новые обстоятельства.
— А кто распорядился?
— Это из КПК.
— Кто именно?
— Шатуновская.
— А, Шатуновская, ей там совершенно не место. Она сама контрреволюционерка, да еще реабилитированная, нечего ей в ЦК делать.
Это сказано при всей комиссии. Там человек сорок сидит. Они зачитали отказ этих людей от обвинения, и он был вынужден на этот раз ее реабилитировать. Они прямо с комиссии пришли ко мне и рассказали. Почему он стал сразу против меня, с первых шагов моей работы? Да потому что я поставила перед Хрущевым вопрос о том, что надо же этих палачей выявлять и привлекать к ответственности. Но Хрущев мне ответил, что мы не можем этого сделать, потому что их тысячи и тысячи. И тогда у нас получится новый 37 год. И я как-то в разговоре с Комаровым, он был зампред КПК, все это высказала. А Комаров пошел и доложил Серову. Вот почему он на меня и озлился, что я сама контрреволюционерка и мне не место в ЦК.
Ну и еще. Когда я только пришла, и мне однажды принесли конверт с деньгами, я подняла перед Хрущевым вопрос об отмене привилегий. Каждый месяц это было и в обкомах, и министерствах, помимо зарплаты, из государственной казны. Что это у нас в стране за порядки, что высшие государственные чиновники получают деньги не по ведомости, а в конвертах? Вот так же я ставила вопрос о ликвидации дач, персональных автомашин, пайков. Конверты Хрущев отменил, все остальное оставил. Партийное чиновничество меня возненавидело. Ну, а потом мы стали говорить Хрущеву, что надо создать комиссии и чтобы они ехали на места.
Он это поручил Микояну.
Я не руководила работой комиссии, я только подавала мысль Никите Сергеевичу и Анастасу Ивановичу, что надо экстренно все делать, иначе люди умирают, погибают. Если все будет тянуться годами, то они не выживут. И в конце концов собрали юристов и оформили комиссии законно. Комиссии были задуманы так, что в них войдут люди от КГБ и представители местной власти по месту нахождения лагеря. Этим занимался помощник Хрущева Лебедев. Он должен был сформировать весь состав комиссий, а я ему дала список реабилитированных. Их каждого, по одному надо было включать в эти комиссии. И я была уверена, что, конечно, это будет. Но вот эти 84 комиссии, их состав, пустили на голосование членам Политбюро, уже не на заседание Политбюро, а просто. Часто там голосуют так, просто пускают на голосование опросом. Что значит опросом? Вам приносят, мне приносят, это не на заседание; а опросы. Я пошла, мне сказали, что Швернику принесли.
Я пришла посмотреть, смотрю — ни в одной комиссии нет ни одного реабилитированного. Тогда я пошла к Миронову, заведующему административным отделом (имеется в виду отдел ЦК) и говорю: „Как же так, почему не включили?“
— А они все отказались.
— Как, все 120 отказались?
— Да. Все, кого ни вызывали, все отказываются.
— Неправда. Ни один не отказался, когда я их вызывала и составляла список. Вы просто неправду говорите.
И я настояла на том, чтобы остановили голосование и вернули все списки обратно Миронову для включения реабилитированных. Ну он все-таки включил только в 54 комиссии, а 30 комиссий поехали без реабилитированных. А раз там не было реабилитированных товарищей, то они действовали, конечно, очень скупо. Надо же было тысячи людей освобождать. Лагерей было, конечно, больше, чем 84. На некоторые комиссии падал не один лагерь, а несколько лагерей. Но не во всех же лагерях политических содержали. Ну вот это подсчитали тогда с МВД, у них брали списки лагерей. Это все проделывалось. Они полгода работали, эти комиссии. Это была очень большая работа, потому что там было оговорено, что с вызовом каждого на комиссию, каждого заключенного.
После этого прокуроры — некоторые были очень настроены хорошо и очень довольны тем, что их включили в работу по реабилитации, не все же там негодяи, которые под Берия ходили, — мне подсказали, что указ, который был издан в 1948 году о ссылке на „вечное поселение“ всех бывших политических, что этот указ незаконный. Ни в одном уголовном кодексе ни одной республики нет параграфа о ссылке на вечное поселение. Его надо просто отменить, издать другой указ, который тот, как противозаконный, отменяет. Я написала об этом письмо Хрущеву. Они мне дали, так сказать, все координаты, как это написать, юридически обосновать и т. д. И состоялось постановление Политбюро об отмене этого указа о том, что ссылка на вечное поселение является незаконной и что все сосланные по этому указу должны быть немедленно освобождены, без всякой реабилитации, просто освобождены и всё. Потом дальше уже каждый будет заниматься своей реабилитацией.
А у них есть такой порядок, они, если издают, издать какой-то указ, Президиуму поручается (то есть Президиуму Верховного Совета. — Г. П.), то они прилагают к постановлению Политбюро проект указа, и высылают туда, в Президиум Верховного Совета. Такая у них практика в Политбюро. Они отсылают в Президиум постановление, и к нему приложен уже проект указа. Им там остается только его выпустить, и они обязаны реализовать постановление Политбюро в течение одних суток. Ну, вот они вынесли это решение, отослали туда. Ну я думаю, что вот со дня на день. Я пригласила из МВД того начальника, который ведал этим вечным поселением, и они составили инструкцию на места о том, как проводить этот указ, то есть как освобождать всех. Вот проходит неделя, вторая, третья, ничего, никакого движения. Я его опять пригласила, я говорю: „Ну как, вы инструкцию спустили? Почему их не освобождают?“. А у меня же остались в ссылке в Енисейске друзья, я с ними переписывалась. Они мне пишут, что ничего нет и не слыхать даже. Он говорит мне, это работник МВД, какой-то большой начальник: „Вы знаете, у нас инструкция готова, но мы ее не спускаем, потому что указ не вышел“.
— Как указ не вышел?
— Не вышел.
— Этого не может быть!
Он говорит: „Я вас уверяю, указ не вышел“. Я позвонила туда, в Президиум Верховного Совета, и узнаю, что указ не вышел. Тогда я вечером позвонила домой Анастасу Ивановичу и говорю, что вот указ не вышел. А он радовался, что они вынесли такое постановление, что вся ссылка на вечное поселение будет отменена. Он даже рассердился, когда я ему это сказала. „Ну, что ты мелешь! Этого не может быть! У нас существует твердый порядок. Мы им отослали проект указа, они обязаны в течение суток его выпустить“. — „Ну, вот я тебе говорю, что указ не вышел. Если не веришь мне, проверь сам. Я проверила“. Он позвонил, а там круглосуточное дежурство, в Президиуме Верховного Совета. Дежурный говорит: „Сейчас проверю“. И сообщает ему: „Да, указ не вышел“. Тогда он звонит Хрущеву и ему сообщает, что указ не вышел. Хрущев тоже на него обозлился и тоже ему говорит: „Что ты мелешь? Так не бывает, не может быть. У нас существует твердый порядок, они обязаны в течение суток его выпустить“. Хрущев сам стал звонить в Президиум, и ему тоже ответили, что указ не вышел. Вот я не могу вспомнить, по-моему, был секретарь Президиума тогда Пегов. Их было три брата, это все родственники Суслова. Один сидел секретарем Моссовета, другой сидел секретарем Пролетарского райкома, а один вот был, по-моему, секретарем Президиума. Все они были родственниками Суслова и все они были люди Маленкова. По его директивам работали, по его подсказкам, они долго держались. Куда они делись, я уже не помню. Знаю, что того сняли. Конечно, их опять куда-то на хорошие места ставили. Они ж неутопляемые. Это все люди непотопляемые. Ну конечно, гром и молния! Их заставили на другой день этот указ выпустить. И оказалось, что это рука Маленкова, что он им подсказал: „Кладите под сукно. Как отменять! Этих врагов распускать по всей стране?!“. Так что этот указ вышел с большим опозданием. Я переписывалась со своими друзьями, я им написала ликующее письмо, что вы скоро будете на свободе, а они мне отвечали, что ничего подобного, никаких признаков…» (с. 283–289).
Отдельные люди помогали Ольге Григорьевне. В частности, она отметила, что ей в 1955 году очень помог военный прокурор Китаев. Он ей и сказал, что в уголовном кодексе нет ссылки на вечное поселение, чем она сумела воспользоваться. Но корпорация в целом была против нее. Коллеги шипели:
«Почему они все едут сюда, эти реабилитированные? Что там работы нет для них в Сибири? Пусть там восстанавливаются и работают в местных партячейках. Надо не пускать их в здание ЦК, а выходить к ним в бюро пропусков». «Обедали в столовой, наберешь на поднос, идешь за столик. Ни один не сядет за этот столик. Алексей Ильич Кузнецов устроил демонстрацию — идет с полным подносом и громко на весь зал: „А я вот сейчас к Ольге Григорьевне Шатуновской сяду“. Ко мне были прикреплены два шофера, Аня и Виктор. Аня однажды сказала мне: „Ольга Григорьевна, мы оба агенты НКВД, но я не очень стараюсь, а Витька старается. Когда я ему передаю смену, он расспрашивает обо всем, что было в его отсутствие“. В бюро пропусков списки всех, кому выписывали пропуска ко мне, передавались на Лубянку. Об этом управляющему делами ЦК Пивоварову сказал сотрудник НКВД. Телефоны тоже прослушивались. Однажды иду я по коридору второго этажа, а мой кабинет был на третьем, встречает меня инструктор Грачев (он работал не в моем отделе, но я знала, что он пришел с Лубянки), берет под руку и подводит к концу коридора, где стоят железные шкафы. Шкафы в это время были распахнуты, было видно, что там аппаратура. „Ольга Григорьевна, как вы думаете, что это?“. Я говорю: „Видимо, это ремонтируют телефонную аппаратуру“. — „Вы знаете, где я раньше работал?“. Я говорю: „Да“. — „Так вот, здесь подключены на прослушивание телефоны. Если вы хотите, чтобы не слышали, что вы говорите, то отходите от телефонов и стола к другому концу кабинета (а кабинет был огромный, больше, чем вся эта квартира), где стоят стальные шкафы, и там негромко разговаривайте“. Все-таки добрые люди тоже там были.
Молодой сотрудник органов, направленный к нам для помощи, спросил: „Ольга Григорьевна, как вы не боитесь? С вами может случиться автомобильная авария“. А как же в 1917 году мы шли на фронт? Мы же не боялись умереть. Дома тоже в телефоне был жучок, чтобы подслушивать, что говорится в комнатах. Степа нашел и вынул. Почтовый ящик взламывали 7 раз, каждый раз вызывали мастера для починки, ему надоело, он сказал: „К вам лазят, поставьте другой замок“. Что же мне амбарный замок на почтовый ящик вешать?» (с. 282–283).
В то же время, некоторые «тонкие политики» льстили Шатуновской, видя в ней человека, близкого к Хрущеву, способному оказать влияние на него. Так вела себя жена Молотова, Полина Жемчужина (при Сталине арестованная). «Пока Хрущев был у власти, она все время делала вид, что она за Хрущева и не согласна со своим мужем Молотовым. Она даже мне говорила: „Вот, давай, приходи к нам домой, и ты Вячеслава должна переубедить“. Я сказала: „Я к вам не пойду и ни о каком переубеждении его не может быть и речи. Он участник всех этих кровавых расправ“. На тысячи людей он подписывал списки. Ему дали список на несколько сот женщин, жен расстрелянных, и там на этом списке была заготовлена не то Ежова, не то Берия резолюция „8 лет лагерей“. Он зачеркнул (я своими глазами видела этот список) и сверху написал „Первая категория“, и их всех расстреляли. Первая категория — это расстрел. Жуткий негодяй!
Мейерхольда он же постарался угробить. Я видела дело Мейерхольда. Вот знаете, заключенным выдавали крошечные тетрадочки из папиросной бумаги и махорку. И вот отрывали листочек и крутили цигарку. Так вот, на такой книжечке Мейерхольд кусочком карандаша написал Молотову, что меня вынудили подписать на четыреста с лишним виднейших деятелей нашей культуры, режиссеров, актеров и драматургов, что они представляют из себя контрреволюционную организацию. Я это подписал, лежа в луже крови, и умоляю вас, я не хочу сам жить, я только умоляю вас, спасите цвет нашей культуры, потому что то, что я подписал, это клевета и ложь, вымученная. И он эту книжечку маленькую с перепроводиловкой, это уже Берия посылает Молотову: „Посылаю вам письмо заключенного Мейерхольда“. И на этой перепроводиловке Берия Молотов пишет: „НКВД, Берия“. Обратно отфутболил. Тот умоляет его о спасении четырехсот с лишним человек цвета нашей культуры, а он отсылает обратно. И они это вшили в дело. Я брала дело Мейерхольда, и там и эта тетрадочка, и эта перепроводиловка, и резолюция Молотова. Он этим показал себя Сталину, какой он преданный человек, что он даже жен, и тех предлагает расстрелять. А он их лично знал, это были жены наркомов.
Хрущев и Микоян рассказывали, что перед убийством Михоэлса Сталин сам после Политбюро, фактически на Политбюро, инструктировал Цанаву, как обернуть лом мешковиной, чтобы не было их следов, предварительно напоить немного, бросить на дорогу и проехать грузовиком. Потом изобразили, что пьяный Михоэлс попал в аварию. Вот так же на Политбюро Сталин обсуждал вопрос о выселении украинцев в Сибирь. А когда обсуждали, как быть с евреями, во время процесса врачей, с иронией заметил: „Ну что, дескать, посадить на баржи и утопить вместе с командой“. Предлагал варианты сценария» (с. 290–291).
В изустной передаче, не непосредственно от Ольги Григорьевны, уже от старших Миркиных я слышал этот рассказ о Михоэлсе в другом варианте. Речь шла о том, что при расследовании убийства Кирова, во время допроса Маленкова Ольга Григорьевна его спросила: «Почему вы не сопротивлялись преступным решениям Сталина?». Маленков ответил, что «мы его боялись. Он прямо на Политбюро рассказывал нам, как Михоэлса и Голубова, поехавших в Минск, немного напоили, а потом на них набросили мешки и по мешкам били ломами».
Какие-то детали спутаны в пересказе, но сама ситуация достоверна и полна исторического драматизма: Маленков дает санкцию на арест Шатуновской, а после провала попытки низложить Хрущева Ольга Григорьевна допрашивает его, и он объясняет свое поведение страхом. То, что даже члены Политбюро дрожали перед Сталиным, не было ложью. Сталина окружала атмосфера ужаса. Вельможи дрожали — и подписывали расстрельные списки. Молотов подписывал их иногда даже чаще Сталина (возможно, Сталину некогда было или он по привычке отступал несколько в тень). Но вот расчеты, опубликованные Мемориалом. Молотов завизировал 372 списка, Сталин — 357, Ворошилов — 185, Жданов — 176, Микоян — 8, Косиор — 5. (Косиор — участник совещания на квартире Орджоникидзе, когда шли разговоры о замене Сталина Кировым.) Сталин об этом знал. И вот он играет, как кот с мышью, давая Косиору, уже обреченному, список на расстрел других обреченных, и Косиор этот список визирует. Восемь списков, подсунутых Микояну, быть может означали колебание — не стоит ли его пустить в расход…
Ольга Григорьевна была бы очень огорчена, натолкнувшись в расстрельных списках на одну из подписей Микояна. Она представляла его себе цельнее, чем тот был. Я помню впечатление от речи Микояна на XIX съезде. Даже на тогдашнем уровне бесстыдной лести эта речь выделялась своей рептильностью. Микоян извивался, как червь, и извернулся: Сталин его не расстрелял. Но как только Сталин умер, Микоян сбросил маску и вспомнил все человеческое, что в нем оставалось. Это подтвердила Наталья Алексеевна Рыкова в «Снах счастливого человека», 8 ноября 2002 г. Я своими глазами видел ее тогда по телевизору и слышал ее рассказ.
После возвращения в Москву Наталье Алексеевне, как и всем, вернувшимся из бессрочной ссылки, надо было добиваться реабилитации. Случилось, что ее пригласила в гости старая большевичка, академик Лепешинская, и усадила рядом с Ворошиловым. Ворошилов обещал помочь. Но на другой день секретарь его ответил Наталье Алексеевне: «Климент Ефремович не мог этого сказать». Тогда Наталья Алексеевна позвонила Буденному. Секретарь Буденного ответил: «Семен Михайлович с вами не знаком». Третий звонок был к Микояну. «„Приходите!“ — ответил Анастас Иванович. В разговоре он сердечно отзывался об Алексее Ивановиче Рыкове, сожалел, что тот не сумел „удержаться“, и в заключение сказал: „Реабилитация вашего отца — это политика. Этим мы будем заниматься. А это касается вас…“ — тут он взял трубку, позвонил в прокуратуру и сказал Наталье Алексеевне: „Сейчас же бегите туда“». Через две недели она получила справку о реабилитации.
Микоян боялся живого Сталина, изворачивался, готов был на все, чтобы не попасть в опалу, но как только Сталин умер, — трах исчез и лесть исчезла, как дым. Ворошилов и Буденный, храбрые в бою, были пропитаны страхом до глубины подсознания. Им и мертвый Сталин был страшен. Трудно сказать, что спасло от этого Микояна. Хрущева спасала его беспорядочность, его неподатливость любой логике, в том числе логике зомбирования. У Микояна сказалась, может быть, способность скрывать свое лицо под маской, не столько личная, сколько разлитая в воздухе Востока, своего рода культуры сохранения себя в обстановке общей лжи при дворе деспота. Член сталинского Политбюро, сохранивший память сердца, найдет адвоката среди ангелов. Для таких людей католики придумали чистилище.
Находки в клубке змей
В предыдущих главах, говоря об утраченных иллюзиях Ольги Шатуновской, я не упомянул об одном обстоятельстве, без которого непонятны были бы ее удачи в расследовании. То, что оказалось миражем, фатаморганой в ее надеждах на исправление партии, оправдывалось в отношениях с отдельными людьми, поддававшимися ее обаянию. Даже секретные сотрудники, в просторечии стукачи, изменяли своему служебному долгу и раскрывали перед ней систему слежки. И когда она пыталась прорваться к сердцу человека, владевшего тайнами архивов, ей это иногда удавалось вопреки всякой вероятности.
Что здесь влияло, что решало? Я думаю — обращение к человеку мимо всего, что разделяет людей, с верой, что слова о решении двадцатого съезда он воспримет как голос совести.
Иллюзии — тень веры. Но вера сама по себе не иллюзия. Макаренко, человек примерно того же поколения, что и Шатуновская, — говорил об оптимистической гипотезе педагога, о вере в человека, пробуждающей человеческое сердце. Ольга Григорьевна верила в возможность чуда, в возможность преображения человека, и сила ее веры иногда творила чудеса.
Ход расследования рассказан был 10.12.1988 г. в беседе с режиссерами Мосфильма и еще раз в беседах с сотрудником «Мемориала» Н. И. Старковым в 1989 г. Остановимся на самом главном.
«Двадцатый съезд на закрытом своем заседании принял доклад Хрущева как резолюцию съезда, весь доклад. А в докладе он уже говорил о том, что обстоятельства убийства Кирова вызывают сомнения и что их надо расследовать.
И так как доклад был принят как резолюция съезда, то вот в дальнейшем мы и приступили к этому расследованию. И тогда мы обнаружили рукопись Сталина в его архиве, в которой он собственноручно сфабриковал два „центра“ — ленинградский террористический и московский террористический, своей собственной рукой он сфабриковал эти центры. И сначала он Зиновьева и Каменева поместил в ленинградский террористический центр, а потом он зачеркнул, переставил их в московский террористический центр. Я тогда эту рукопись сфотографировала и вместе с итоговой запиской по расследованию убийства Кирова разослала все членам Политбюро. Из всего расследования вытекало с несомненной ясностью, что убийство было организовано самим Сталиным. И вот на процессе тридцать шестого года, когда этот фальсифицированный суд был над Зиновьевым и Каменевым, в их уста вложили, якобы они в своей контрреволюционной деятельности были связаны с Бухариным — и с Рыковым, и с Томским. Но Томский к тому времени застрелился.
Застрелился он после того, как к нему явился домой Сталин — мы это знаем от его жены, ныне покойной, она тоже сидела. Сталин предложил ему отколоться от Бухарина и объединиться с ним. На что Томский ответил ему категорическим отказом и, по словам покойной жены Томского, обрушился на Сталина с руганью и выгнал его вон. И конечно, его судьба уже была предрешена, и он вскоре застрелился. А Зиновьева и Каменева заставили оговорить Бухарина. Он в это время был на Алтае. Он дал телеграмму, чтобы приговор не приводился в исполнение над Зиновьевым и Каменевым и что он требует очной ставки. Ну конечно, на это никакого внимания Сталин не обратил, и когда он приехал, то их уже не существовало.
Почему так спешно приговоры приводились в исполнение, буквально на следующий день?.. Мне кажется, что Сталин удовлетворял свои кровожадные инстинкты. Ему это было приятно, убедиться в том, что его идейные противники, которых он превратил в негодяев, в диверсантов, что он их уничтожил. Он же высказался даже однажды, что как приятно отомстить, привести в исполнение свою месть и потом пойти отдыхать (речь идет, по-видимому, о фразе, запомнившейся Галине Серебряковой: „счастье — иметь врага, уничтожить его, а потом выпить бутылочку хорошего вина“. — Г. П.).
Так вот расследование убийства Кирова, обнаружение этой рукописи Сталина, это привело к необходимости расследовать все остальные процессы… И тогда была сформирована комиссия Политбюро, во главе которой стоял член Политбюро Николай Михайлович Шверник, и в этой комиссии была я.
Расследование привело к абсолютно ясному выводу, что процесс Бухарина целиком сфабрикован. В этот процесс были включены люди, которые даже никогда друг друга не видели, так сказать, шайка бандитов, в которой один бандит другого не знал. Туда включил он и врачей, которых ему нужно было уничтожить, потому что они были причастны к вскрытию тела Горького. Этим нам не удалось заняться, но следовало бы, конечно, расследовать обстоятельства гибели Горького, так как они — Плетнев, Левин — вскрывали тело и, по словам Плетнева, убедились в том, что он был отравлен. Это Плетнев говорил в лагере молодым людям, заключенным, которые в будущем это опубликовали…
Состав обвиняемых он просто набрал с бору-сосенки — кого ему хотелось уничтожить, кроме Бухарина и Рыкова, он включил туда…
…Я читала письма Бухарина из тюрьмы Сталину. Я не знаю, где они сейчас, ведь прошло почти тридцать лет. Он главным образом писал по политическим вопросам, о своих разногласиях со Сталиным. Было около десятка писем. Нет, это не покаянные письма. Они такие, как бы вам сказать, ну как-то он полемизирует со Сталиным и его политикой, но в смягченной форме — он же сидит в тюрьме, у них в лапах, так это не в лоб, вот что у меня сохранилось…
Он пишет про Зиновьева и Камененва, что от них вынудили на него показания… И он не сомневается в том, что и заграничная командировка была игра с ним. Что приоткрыта чуть-чуть дверка мышеловки. А там его уговаривали — и Аксельрод и Дан (лидеры меньшевиков. — Г. П.), — чтобы он не возвращался, тем более, что с ним была и жена, Анна Ларина. Она была с ним. Ну, остальные все родные были здесь, в лапах. Но не этим он руководствовался, он отвечал, что стать политэмигрантом он не в состоянии. Это не для него…
Аксельрод писал потом, что Бухарин высказался, что „правы были вы. Революция должна была быть демократической, не социалистической“. Он признал правоту меньшевиков. Что все это кончилось страшным поражением нашего народа. Начиная с насильственной коллективизации…
Когда все это было установлено, я создала маленькие бригады по всем процессам, я же не могла сама освоить все это. Комиссия состояла из высокопоставленных людей: не говоря о Швернике, Генеральный прокурор Руденко, Председатель КГБ — тогда Шелепин, заведующий отделом административных органов ЦК — это был Миронов, и я пятая. Пять человек. Ну эти члены комиссии непосредственно не работали, а знакомились только с материалами, которые удавалось добывать…
По каждому процессу была создана маленькая бригада. И вот все процессы были расследованы. Еще до этого был расследован без моего участия так называемый процесс по ленинградскому делу. А уже в компетенцию комиссии входил процесс Тухачевского, процесс Зиновьева и Каменева, процесс Сокольникова-Радека, так называемый параллельный, Пятакова, и вот процесс Бухарина. В итоге была составлена обстоятельная докладная записка по делу Бухарина, и мы разослали ее всем членам Политбюро.
Наутро мне позвонил Никита Сергеевич Хрущев и говорил: „Я всю ночь читал вашу записку о Бухарине и плакал над ней. Что мы наделали!“.
Ну после этого я была в полной уверенности, что все эти результаты будут преданы огласке, тем более, что он и на двадцать втором съезде говорил о том, что мы все опубликуем. Между прочим, еще до двадцать второго съезда все было готово. Но Хрущев на съезде в своем заключительном слове не говорил о том, что все готово, а он говорил только опять, как и на двадцатом съезде — только в более широком виде, — что надо все расследовать. Его окружение, особенно Суслов и Козлов Фрол Романович, который был вторым секретарем ЦК, и члены Политбюро на него влияли. И в конце концов после двадцать второго съезда уговорили не публиковать результаты по убийству Кирова, ни результаты по процессам, в том числе по процессу Бухарина, а положить в архив. То есть фактически спрятать.
Я пошла к нему. И стала его убеждать, что это неправильно и что этого делать нельзя. Он мне на это ответил, что если мы все это опубликуем, то подорвем доверие к себе, к партии в мировом коммунистическом движении… И поэтому мы пока публиковать не будем, а лет через пятнадцать вернемся к этому. Я ему на это говорила, что в политике откладывать решения на пятнадцать лет — это значит вырыть себе яму под ногами. И даже сказала ему, что „вы окружены не ленинцами, напрасно вас убедили, что опубликовать все это будет вредно“» (с. 297–300).
Я думаю, что Хрущев почувствовал себя в изоляции — вдвоем с Микояном против всего Политбюро и, вероятно, против большинства ЦК, которому дальнейшие разоблачения были решительно ни к чему. И политический поворот, почти неизбежный после реабилитации Бухарина, тоже ни к чему. Мавр сделал свое дело, создал обстановку, при которой членам ЦК не грозил больше террор, и теперь этого мавра надо было обуздать, а потом и вовсе освободиться от него.
Хрущев занял свой пост не благодаря политическому таланту, а напротив — именно потому, что таких талантов, даже небольших, в нем не подозревали. И хотя он не был полным ничтожеством, но Суслову нетрудно было его обмануть и поссорить со всеми, на кого он мог бы опереться, из кого мог создать новую политическую силу (с научной интеллигенцией, с художественной интеллигенцией). Правление Хрущева между 1962 и 1964 гг. — это ряд скандалов, и хотя трудно сказать, где его подставляли, а где просто поддерживали взрывы самодурства, — задним числом роль Суслова легко угадывается. Фурцева сыграла важную роль в провале «группировки» — и с Фурцевой Хрущева на всякий случай поссорили. В воспоминаниях Ольги Григорьевны об этом есть свидетельство:
«После моего ухода Фурцева ко мне приезжала и говорила, что Суслов такой интриган, подставил меня, чтобы я первая Хрущеву против Кириченко (один из секретарей ЦК. — Г. П.) высказалась. „А этим Хрущев против меня настроился“. Она приезжала ко мне несколько раз, советовалась. Оставит где-нибудь подальше машину и приходит. Ну они какие-то факты набрали, что он (Кириченко. — Г. П.) не компетентен, что он не на уровне. И Суслов ее подставил, что она первая, когда они пришли к Хрущеву, стала говорить. Она просто не поняла, что он ее подставляет» (с. 320).
Впоследствии Джана Юрьевна спрашивала мать:
«Были люди, с которыми он (Хрущев. — Г. П.) мог реально работать? — Нет. Его поддерживал искренне Микоян. Вот умер Подгорный, который считался самым близким другом и выдвиженцем, он же его продал. Он перед отъездом в отпуск, свой последний отпуск, говорил с Подгорным, что я слышал, что у вас заговор, вы хотите меня снять. Так Подгорный бросился к нему со слезами на шею: „Что ты, что ты! Зачем ты веришь таким сплетням?“. Вот так они двурушничали. Я говорю, это банда, они на все способны.
Вы их называете бандой (вероятно, это возражение Джаны или кого-то другого), а что вы имеете в виду? Ведь банда — это люди, которые преступными методами действуют. Но это же и есть преступные методы. Например, я с Сердюком — это деятель Комиссии партийного контроля, беседовала. Я говорю: „Вы же выступали на XXII съезде, поддерживали разоблачение Сталина“. Он отвечает: „Нам так надо было, надо было подыграться Хрущеву. А мы вообще-то против всего этого“. С глазу на глаз открыто мне сказал. Когда я это сказала Хрущеву, он мне не поверил: „Не может этого быть, Сердюк — это мой человек“. Вот тебе и пожалуйста, мой человек. И он приспособился, то есть Сердюк приспособился. Первое время делал вид, что поддерживает всю эту работу по разоблачению убийства Кирова и по всем процессам. Каждый вечер вызывал меня к себе, чтобы я ему доложила, что за сутки еще было, какие данные поступили, оперативно руководил. А на самом деле он тоже двурушничал. Потом он перекинулся на сторону сталинистов. Выпытывал у меня все, что удалось сделать и узнать. А я думала, что он искренен» (с. 291–292).
Ольга Григорьевна опросила тысячу человек (эту цифру она неоднократно повторяла: и мне, и всем своим старым друзьям, и Старкову, который это записал). Некоторые ничего не знали, другие называли фамилию человека, который что-то мог слышать, мог знать, и так, шаг за шагом, концы, спрятанные Сталиным в воду, вылезали наружу. Но результаты приходилось докладывать моральным соучастникам Сталина, людям, которые пришли к влиянию и почету по трупам его жертв. Каждый день Шатуновская докладывала Сердюку и Козлову, а те вместе с Сусловым обдумывали, как бы все выявленные факты уничтожить.
Продолжим теперь рассказ режиссерам Мосфильма:
«Что делал Сталин на второй день, когда он приехал в Ленинград после убийства Кирова Николаевым 1 декабря 1934 года?
Сталин сидел в комнате за столом, вокруг него стояли сотрудники НКВД. Сталин взял чистый лист бумаги и лично, собственной рукой сфабриковал документ. Слева он написал „ленинградский террористический центр“, справа „московский террористический центр“. Перед ним стояла картотека, которая раньше стояла перед Кировым. И если Киров ею не воспользовался, то Сталин ее использовал вовсю. Он выписывал фамилии людей на лежавший перед ним чистый лист бумаги и размечал, кого куда направить из двадцати двух зиновьевцев, кого в московский, а кого в ленинградский террористический центры. Впоследствии все стоявшие в комнате сотрудники Медведя, да и он сам, были расстреляны. Остался только один, который дожил до двадцатого съезда.
По делу об убийстве Кирова очень важные данные были получены также от человека по фамилии Гусев, который стоял у камеры, где находился арестованный Николаев. Гусев дожил до дней двадцатого и двадцать второго съездов КПСС и рассказал, что преступник Николаев кричал из камеры на волю: „Четыре месяца меня ломали сотрудники НКВД, доказывая, что надо во имя дела партии убить Кирова. Мне обещали сохранить жизнь, я согласился. Меня два раза арестовывали те же сотрудники НКВД, когда я шел убивать Кирова, и два раза выпускали. А вот теперь, когда я совершил — для пользы партии! — дело, меня бросили за решетку, и я знаю, что меня не пощадят! Сообщите об этом всем людям на воле!“
Документы с данными, полученными от Гусева, я немедленно передала Хрущеву и в Политбюро.
Как мы нашли свидетелей допроса Николаева? Это не свидетели. Это люди, которым свидетели доверили. Один из них — Никита Степанович Опарин.
Опарин был членом Московского комитета, он строил Воскресенский химкомбинат и в дальнейшем был его начальником, директором. А я тоже до тридцать седьмого года работала в Московском комитете, была членом Московского комитета, он меня прекрасно знал. И вот Опарин написал следующее:
При допросе Николаева присутствовал прокурор Ленинградской области Пальгов. Пальгов — близкий друг Опарина и как бы его крестный отец, потому что во время Гражданской войны Никита Степанович Опарин был простой стеклодув и малограмотный даже, он только расписываться умел. Хотя он командовал полком, но ему приказы читали.
Опарин рассказывал, что Пальгов был старый большевик, работал, сражался в тех же частях, где был Опарин, и понял, что это самородок-рабочий, и вовлек его в партию в семнадцатом или восемнадцатом году.
Пальгов, ленинградский прокурор, вызвал к себе Опарина после убийства Кирова и ему все рассказал. И застрелился после этого. Потому что он понимал, что не сегодня-завтра его схватят и казнят, раз он является свидетелем. Так вот Опарин все написал — но со слов Пальгова.
А когда я была в Ленинграде, ко мне пришел старый большевик Дмитриев, который был в то время секретарем партколлегии ленинградского обкома. Он был другом Чудова, второго секретаря ленинградского обкома, который присутствовал при допросе.
Чудов тоже погиб — его, конечно, казнили и жену его, Людмилу, казнили. Но Чудов не сразу был арестован, он Дмитриеву эту сцену тоже рассказал. Абсолютно совпало. Два этих письма. Одно написал Дмитриев, другое написал Опарин. Эта сцена была изображена обоими абсолютно точно. Вот откуда я узнала сцену допроса.
Ну кроме того, Чудов предполагал, что Николаева убили, когда его били.
Когда он (Николаев. — Г. П.) это высказал, показал рукой на стоявших за креслом Сталина энкавэдэшников — „Вот они же меня склоняли!“, — они выбежали, стали бить его наганами по голове (мне Ольга Григорьевна рассказывала это подробнее: Николаев упал на колени, и Сталин первый ударил его ногой. — Г. П.). Опарин это написал мне, и Дмитриев, причем Чудову показалось, что они его убили. И Чудов даже предполагал, что на процессе было какое-то подставное лицо.
Потом, когда я была в Ленинграде — я там много сидела, беседовала с очень большим количеством людей, — мне подсказали, что в лениградском ГПУ (Ольга Григорьевна на старости лет систематически смешивала эти термины: ГПУ, НКВД. — Г. П.) были работники, которых Сталин вызвал с картотеками. Ну к тому времени они уже были полковники, а во время убийства Кирова они были сержантами и сидели на картотеках. Я их вызвала.
Один тогда вел картотеку зиновьевцев, активных зиновьевцев, ведь ленинградская организация во время оппозиции на девяносто пять процентов пошла за Зиновьевым — против Центрального Комитета. А другой сидел на картотеке троцкистов. И вот они написали, не просто рассказали, а написали, что их вызвал Сталин на другой день после допроса Николаева вместе с этими ящиками, картотеками. И что Сталин, кроме того, обладал списком активных оппозиционеров, которых незадолго до убийства Кирова Медведь предоставил Кирову, человек на двадцать с чем-то, на предмет их ареста.
Медведь хотел получить от Кирова санкцию на их арест, и Киров задал ему вопрос — это мы узнали от уцелевшего референта Кирова.
— А что они сделали, почему вы предлагаете их арестовать?
— Они встречаются.
— Ну так что из этого? Чем они сейчас занимаются?
— Ну этот вот учится, этот поступил учиться, тот там-то работает, вот этот то-то и то-то делает.
— Ну и что из этого, что они встречаются? Почему это говорит о какой-то контрреволюционности? Это товарищи по партии. Нет, я этот список не буду санкционировать.
И Киров вернул Медведю список без своей санкции.
Но этот список Сталин затребовал. И вот эти картотетчики бывшие показали, что он, во-первых, рылся в картотеках и, во-вторых, у него был список. И вот эту рукопись, которую мы потом обнаружили, он при них и составлял — руководствуясь списком, который Медведь предлагал Кирову, и выбирал из картотек.
Так мы получили, кроме самой рукописи, двух свидетелей, которые присутствовали, когда он формировал „центры“. Конечно, я все это отразила в своей записке…»
Удалось найти свидетелей и подлога, совершенного после голосования на семнадцатом съезде, предрешившего убийство Кирова:
«Всего было сорок три члена счетной комиссии. Руководил работой комиссии ее председатель Затонский. Вот что рассказал мне Верховых, который в те времена был секретарем тульского обкома партии и членом ЦК.
Всего у комиссии было в руках тринадцать урн с бюллетенями. На подсчет бюллетеней, лежащих в каждой урне, выделили по три человека, итого тридцать девять человек.
Затем все собранные данные свели вместе. Оказалось, что из общего числа делегатов семнадцатого съезда с решающим голосом, а их было тысяча двести двадцать семь, двести девяносто два голосовали против товарища Сталина. Двести девяносто два делегата выразили недоверие великому вождю, которому на съезде курили невероятный фимиам.
Когда нам принесли все данные, говорил Верховых, полученные из обсчета тринадцати урн, когда мы все свели вместе и когда оказалось, что против великого Сталина подано на съезде, который его прославлял, двести девяносто два голоса, волосы у нас стали дыбом. Председатель счетной комиссии помчался немедленно ночью к Кагановичу, ведавшего отделами партии.
Ночью же вместе с Затонским Каганович понесся к Сталину. Сталин спросил Затонского: „А сколько голосов получил Киров?“ Затонский, который знал все сводные данные, ответил правду: „Три голоса“. Тогда Сталин передал Затонскому простую команду: „Сделайте в вашем завтрашнем сообщении и мне столько же голосов против, сколько получил Киров, остальные бюллетени делегатов, зачеркнувших мою фамилию, уничтожьте, сожгите их“. Теперь в пакете, который хранится в ИМЭЛ, не хватает двести восемьдесят девять бюллетеней.
Я просила Верховых, единственного оставшегося в живых члена счетной комиссии — все остальные были расстреляны Ежовым, — чтобы он изложил все письменно, на бумаге» (с. 304308).
Режиссеры Мосфильма отвлекли Ольгу Григорьевну вопросами о Бухарине, об Орджоникидзе, и она так и не рассказала им о еще одном ключевом факте в предыстории Большого Террора: о совещании нескольких «видных деятелей партии» (так она мне говорила) на квартире Орджоникидзе в дни семнадцатого съезда. Собравшиеся говорили о невыносимом диктаторском стиле Сталина и о необходимости заменить его Кировым на посту генерального секретаря, а энергию Сталина использовать на посту Председателя совнаркома. Киров от этой перестановки отказался, не чувствовал себя способным направлять внешнюю политику после прихода к власти Гитлера. Рассказ записал Н. И. Старков, а потом Ольга Григорьевна повторила основные факты в своем последнем письме, опубликованном незадолго до ее смерти (см. Документы). Вот несколько отрывков из записей Старкова:
«Первый человек, который ко мне пришел, был Алеша Севастьянов. Это наш подпольщик, бакинец… После семнадцатого съезда Киров летом отдыхал в Сестрорецке, а Севастьянов в это время уже работал в Москве в черной металлургии, и Киров написал ему открытку или телеграмму с просьбой приехать к нему в Сестрорецк на отдых. Taк вот, Севастьянов пришел ко мне и рассказал, что было такое тайное совещание, что ему (Кирову. — Г. П.) предлагали заменить Сталина, что участники совещания считали необходимым убрать Сталина с поста генсека, что он (Киров. — Г. П.) отказался, что каким-то образом — возможно, было уже подслушивание — Сталин узнал об этом совещании… И Киров говорил, что, конечно, „Сталин меня в живых не оставит“» (с. 353–354).
Тогда Ольга Григорьевна стала опрашивать родных Кирова, его секретаря (Сталину неудобно было их трогать, и они дожили до XX и XXII съездов). Картина была восстановлена полностью, но сохранилась только в памяти Шатуновской. Сразу же были приняты меры, чтобы эта информация не распространилась. А Шатуновскую вызвали к помощнику Хрущева, Лебедеву, чтобы «промыть мозги».
«Я рассказывала, как меня пригласили к помощнику Хрущева Лебедеву, по идеологии? Он потом был директор ИМЭЛ, он умер.
Пригласил меня: — Приходите.
Когда все эти работы по процессам и по убийству Кирова, все уже было сделано, разослано. Приходите, пожалуйста, надо побеседовать.
Я пришла, мы разговаривали три с половиной часа. Дошло до того, что он кулаками стучал на меня по столу. Я ему сказала, что я не привыкла, чтобы со мной так разговаривали. Что воспитанные люди так не разговаривают, стуча кулаками и ногами. Но раз он начал на меня кулаками стучать, я тоже начала стучать.
Он заявил, что вы имеете очень плохое влияние на Хрущева. И мы все сделаем, чтобы вас не допускать до Хрущева.
Я сказала: — Вы, значит, глухи. Вы преподносите себя Хрущеву, как будто вы за линию двадцатого съезда.
В итоге этого разговора он вытащил из сейфа письмо жены Троцкого. Она жила в это время в Париже. А ведь все их дети были убиты. Дочь выбросилась сама из окна, а сыновей — под фамилией Седовы они были — того, который оставался здесь, того здесь и прикончили. Того, который был там, там убили. Так что она осталась совершенно одинокая, вдова Троцкого. Ее фамилия Седова.
Она прислала письмо после двадцатого съезда. И пишет она в этом письме, что я прошу вас, надо сказать о Троцком правду. Он имел разногласия со Сталиным, с генеральной линией ЦК. У него была другая линия, все это так. Но никаким шпионом, диверсантом и террористом он никогда не был. И я прошу об этом сказать открыто на весь мир. И никаким он убийцей не был, его самого убили.
Он вытащил это письмо: — Вот до чего вы довели, вот ваша работа. Осмеливается жена Троцкого ставить такой вопрос. (Ну и что с того? — спросит современный читатель. Но под влиянием пропаганды Троцкий стал чем-то вроде дьявола без рогов, и создатели мифа сами себя затянули в этот миф, жили в этом мифе. Я помню, во время выноса праха Сталина из мавзолея, в маленькой толпе зевак стоял грузин и все время повторял, как заклинание: „ведь, если бы не Сталин, то кто? Троцкий!“ Слово Троцкий звучало как „Антихрист“ или „царь преисподней“. — Г. П.).
А что, она ведь не пишет о том, чтобы его восстановить в партии, — возражала Ольга Григорьевна. — Или бы признали правильной его линию. Она только просит признать, что он не был никаким шпионом, диверсантом и террористом. Ну, разговор кончился тем, что „мы все сделаем, чтобы вас не допускать до Хрущева“. И они сделали. До этого я имела возможность звонить ему по вертушке, по кремлевской вертушке, а тут — он же сам вертушку не брал, в его преддверии, в приемной сидят НКВДшники, они берут и тогда ему докладывают, что вам звонит такой-то — а тут мне каждый раз отвечают, его нет, или он заседает, или он занят. И меня даже перестали с ним соединять. Так что в самых экстренных случаях мне приходилось звонить домой Нине Петровне, а я с ней, еще когда в Московском комитете работала, имела отношения. Она работала в парткоме электрокомбината, заведовала агитпропом этого парткома. Так что я с ней имела связь.
И я звонила: — Нина Петровна, меня не соединяют. Я тебя прошу, позвони, пожалуйста, позвони ему, пусть он сам мне позвонит.
Ведь это каждый раз не сделаешь. Это только в самых тяжелых, трудных случаях.
И действительно, они меня отрезали. А потом, когда я к нему пробилась, он уже положил в архив все, и я стала ему доказывать, что этого делать нельзя. Но тогда это было бесполезно, они уже его уговорили, он уже не поддался» (с. 323–324).
Фамилия Лебедева стала известна в связи с публикацией «Ивана Денисовича». В отношениях с А. И. Солженицыным он следовал указаниям своего шефа. Но в изоляции Шатуновской Лебедев действовал скорее против Хрущева.
Уволить Шатуновскую сусловцы не могли: член КПК был номенклатурой Политбюро. Но в конце концов она сама подала заявление об уходе. Довели ее до этого конфликты, связанные с сигналами о коррупции.
В Москве говорили о конфискации генеральских дач как о состоявшемся хpущевском решении. Но Хрущев только решил поставить вопрос, а обсуждение предоставить аппарату. И коррупционеры самым демократическим путем сохранили за собой то, что присвоили.
«У меня же был список, — рассказывает Шатуновская. — 204 виллы генеральские, которые построили им солдаты. Я это тогда внесла на комитет, так они подняли страшный шум, эти сталинисты, зампреды. А в повестке дня стоит материал, я его разослала перед заседанием. Когда Шверник открыл заседание, в повестке стоит — материалы все разосланы. И они начали кричать: „Николай Михайлович, не надо этого вопроса. Шатуновская всегда вносит такие вопросы, которые нас только ссорят с активом и с крайкомами, с ЦК республик“. А я действительно вносила такого рода вопросы. „Этот вопрос вне нашей компетенции“. А он такой растерянный: „А что снять?“ — „Ну, да, снять!“ — „Ну, давайте снимем“. И на другой день на секретариате они уже доложили, и это каждый раз».
Так же шло дело и с другими попытками Шатуновской бороться с коррупцией: «„Николай Михайлович, не надо этого вопроса, Шатуновская всегда вносит такие вопросы, которые нас только ссорят с активом и с крайкомами, с ЦК республик“. А я действительно вносила такого рода вопросы… И про обстановку в Грузии я же вносила, что там все на свете продается. То же самое, Мжаванадзе — кандидат в члены Политбюро, нельзя его трогать.
Я курировала Азербайджан, Армению, Грузию, часть Украины. Из Закавказья потоком шли письма о нарушениях, в частности документы на Мжаванадзе о взятках, о распродаже участков в городе. Его поддерживал Аджубей, редактор „Известий“, зять Хрущева. Однажды у нас был такой разговор. Меня предупредили, что в „Известиях“ назавтра готовится большая разгромная статья про моих сотрудников, что они в целях карьеры порочат Мжаванадзе. Я позвонила Аджубею и попросила снять статью. Он отказался. Тогда я сказала: „У нас есть материалы о вашем участии в этих делах“. — „Как вы смеете следить за мной?“ — „Мы за вами не следим, это ваши друзья-взяточники попали в поле зрения прокуратуры“. — „Статья будет издана“. Тогда я сейчас же звоню Никите Сергеевичу и всю эту историю докладываю. Он ответил грубовато. „Ну ладно, поговорили“. Статья не вышла, но они все равно их уволили» (с. 321–322).
А мне Ольга Григорьевна рассказала другую историю, тоже из этой же серии. Пришла к ней женщина в слезах, работала она прокурором в Сочи, и ее оговорили. А оговорили, потому что она раскрыла какую-то крупную организацию, мы бы сейчас сказали мафию. Ольга Григорьевна этим занялась и раскопала там очень много. Причем опять-таки покровителем их оказался тот же Аджубей. По словам Ольги Григорьевны, ему нужны были деньги для развлечений, скрытых от тестя.
Он, по-видимому, пошел более надежным путем, чем прежде, то есть позвонил Сердюку, который был заместителем председателя Комиссии партийного контроля, и тот начал оговаривать, искать компромат на всех свидетелей, которых Ольга Григорьевна нашла по этому делу о большой афере, захватившей и Закавказье, во всяком случае северный Кавказ. Сердюк послал контролеров поискать, как можно опорочить свидетелей. И вот прокурор РСФСР тогдашний оказывается согрешил, диссертацию свою опубликовал на казенной бумаге. Заместитель министра легкой промышленности тоже согрешил, купил гарнитур мебели не по розничной, а по оптовой цене. Словом, как в басне Крылова: «И мы грешны; прошедший год, когда кормы нам были худы, так у попа стащил я сена клок». Вот примерно такие преступления нашли. И собрав все эти материалы, Сердюк подошел к Ольге Григорьевне и сказал ей: «Ну что, Ольга Григорьевна, чья взяла?». Вот этот скандал, по ее рассказу, был последним, который переполнил чашу ее терпения и заставил ее подать бумагу о том, что она выходит на пенсию по состоянию здоровья, и в 1962 году она подала заявление, что вынуждена уйти из-за нарастающей слепоты. Хрущев два месяца колебался, но не вызвал ее, не уговаривал и в конце концов заявление подписал.
Сейчас многие считают, что при Сталине был порядок, а потом разболтались люди, стали воровать. Это совершенно неверно. Коррупция и расхищение государственной собственности широко распространились при Сталине, в особенности не случайно тут упоминаются все национальные республики. Там это просто становилось формой, что ли, национально-освободительной борьбы. Круговая порука любой из национальных республик, в большинстве из них, в борьбе против центра. Но и в России сказывалось истребление идейных коммунистов и замена их кадрами, склонными к воровству, «социально близких» по официальной терминологии ГУЛАГа.
Вот сцена из тюремной жизни 1949 года, когда Ольга Григорьевна была арестована. В камеру ввели двух женщин. Про себя они рассказали, что ехали с телегой или машиной, в два ряда погружены бидоны с маслом без всякой накладной.
В кустах была милицейская засада, их арестовали. «Я говорю: „Вы боитесь?“ — „Чего нам боятся? Мы прокуроры. Пойдите туда, а этого вот не хочешь?“ („туда“, „этого“ — замена ненормативной лексики). Так и говорят. Им каждый раз передачи носили, в кастрюлях горячее. Мы, — говорят, — записку Гафурову написали (Гафуров — это директор треста). В кастрюлю положили, их никто не проверяет, вся стража подкуплена. Пока молчим, выручай, а то разговоримся. Их потом освободили, конечно.
Мурадов (один из женихов Ольги Григорьевны. — Г. П.) тоже мне говорил, что он из-за этого не хочет работать. Там такие дела делаются, половина товаров в хищение идет. Он ходил в горком, секретарь его выслушал, ни одного вопроса не задал, сказал: „Вы кончили? Можете быть свободны“. Под праздник всем начальникам райкомов, прокуратур, милиции ящики на телегах развозят. Вот чем-то начальника милиции обошел, тот и устроил ему засаду» (с. 250–251).
Я могу это подтвердить на опыте моей жизни в станице Шкуринской в 1953–1956 годах. Сталин только что умер, порядки оставались еще совершенно сталинские. Два колхоза, имени Горького и имени Кирова. Имени Кирова более или менее живет по законам, все время планы не выполняет. А как работает колхоз имени Горького? Мне об этом рассказывали. Пойдет казачка убирать помидоры, может домой нести кошелку с помидорами, без всякого оформления трудоднями. Нанимает он механика, а тот на радиоцентре работал, поругался, оказался свободным. Тот мне рассказывал, что Рыжков (его, кажется, звали Николаем), председатель колхоза, говорит: «С каждого урожая там, арбузы, дыни, со всех интересных вещей тебе домой бричку завезут». 3начит, колхознице рядовой — кошелку, а механику — бричку завезут. Что касается членов правления, то они получали в свое распоряжение уже полуторку, везли ее на базар, реализовывали. Единственное, что иногда досаждало этому председателю колхоза — на него девушки подавали заявления, он их принуждает к сожительству. Но прокуратура районная эти дела заминала, потому что колхоз нормально, так сказать, выполнял государственный план, с помощью частичного перехода на теневой капитализм, на непосредственную оплату труда. Примерно так население в союзных и автономных республиках было заинтересовано в общей системе коррупции. Конечно, чем выше начальник, тем больше он загребал себе. Но он давал жить другим. Николай Рыжков жил так, как хотел, у него на столе стоял графин спирта и графин воды. Заходишь к нему, предлагает — выпей, закуси, закуси водичкой. Мжаванадзе жил шире, он бриллианты накапливал, впоследствии Брежневу и его дочке дарил бриллианты. Но сам жил — и давал жить другим. И круговая порука была настолько крепкая, что никакой режим, ни сталинский, ни тем более постсталинский ничего с этим поделать не мог. Просто, после Сталина то, что называется рашидовщиной, то есть система круговой поруки, которая давала возможность как-то жить среднему человеку и обогащаться начальникам, все дальше и дальше двигалась к тому, что мы получили, когда резко ослабела вся внешняя система контроля, немного удерживающая стихию теневой частной заинтересованности, считавшейся тогда незаконной. Она уже тогда имела криминальные формы, а потом все это приняло современный характер. Новое общество созрело в утробе старого.
И не случайно Ольга Григорьевна потерпела поражение, когда она столкнулась с этой стихией, когда уже окончила свое знаменитое дело в 64 томах и оказалась втянутой в борьбу с коррупцией: тут она потерпела полное поражение. Здесь против нее совершенно откровенно велась борьба, в которой Сердюк победил. Она почувствовала себя бессильной и подала в отставку. В сущности так же кончилась и горбачевская попытка покончить с рашидовщиной. Это стихия, разыгравшаяся еще при Сталине, еще дальше пошедшая при его преемниках, была настолько мощной, что один человек здесь ничего не мог сделать.
«Когда я уходила в шестьдесят втором году, — рассказывает Ольга Григорьевна, — я пригласила к себе заведующего архивом. Это был молодой человек лет тридцати, кончивший Историко-архивный институт, образованный человек, и вот мы с ним сидели, я ему передавала шестьдесят четыре тома, я ему говорю:
— Дайте мне слово, что если, когда я уйду, противники этой работы будут пытаться ее уничтожить или что-то делать с этими документами, то вы постараетесь все сохранить. Это нужно для будущего нашего народа, для нашей партии. Когда-нибудь, несмотря на то, что сейчас все положили в архив, когда-нибудь это все воскреснет.
Вы знаете, он заплакал, мужчина, взрослый человек, заплакал, когда я ему это говорила.
— Вы не думайте, что если мы молчим, то мы ничего не понимаем. Молчать мы вынуждены, но мы знаем и понимаем, что в этом кабинете происходило и какое значение имеет эта работа.
Вот он так мне сказал: „Я вам клянусь, что все, что от меня зависит, я сделаю, чтобы сохранить все эти материалы“.
Вот это было в шестьдесят втором году, значит, прошло почти тридцать лет. И так же подшиты, конечно, все мои записки, кроме того, что я их разослала членам Политбюро. Там же и проекты записок, ведь я не сразу оформила то, что я отослала, у меня это складывалось постепенно. Я меняла это, нарастало, поступали новые данные, и были разные варианты — я ведь не сразу пришла к абсолютному убеждению, что организовано убийство Сталиным. Сначала у меня были подозрения, а постепенно это, конечно, и в убеждение перешло.
В Комитете партийного контроля командовал Сердюк после моего ухода. И он с Климовым мог затребовать эти тома, и могли они уничтожить решающие документы. А могли и так вот, вроде Фомина, что его кто-то понуждает дать ложные показания, а он никаких показаний не дал…» (с. 308–309).
Очень скоро Ольга Григорьевна узнала, что все документы, добытые ею, уничтожаются и подменяются.
В плену прошлого
На пенсии Ольга Григорьевна прожила долго — с 1962-го по 1990 год. Полуслепота держала ее под домашним арестом, с редкими выездами к друзьям. В одиночестве одолевали воспоминания. Она не могла объяснить Джане, что именно было так мучительно вспоминать. Какие образы всплывали? Упущенного счастья? Потери иллюзий? Чувства случайности своего политического выбора, подсказанного романом «Овод» и дружбой с сыновьями Шаумяна? Чувства разрыва между Делом и Душой, между Историей и осязанием вечности, однажды охватившем ее?
А Дело не оставляло в покое. Доходили рассказы о подделке документов, о давлении на свидетелей, об изменении показаний. И она повторяла про себя факты, которые надо удержать в памяти, она вызубрила их и могла сразу вспомнить, как стихотворение. Ее мучили недоделки, ничтожные недоделки, имена двух-трех людей, которые, возможно, могли бы что-то прибавить к показаниям тысячи свидетелей. Беспокоили варианты в показаниях (очевидцы иногда по-разному видят одно и то же). Она несколько раз возвращалась в разговорах со мной к вопросу — был ли Николаев забит насмерть при первом допросе? Или это только показалось Пальгову? Казалось, что инерция расследования в одиночестве вертится на холостом ходу.
Меньше волновало расхождение между двумя рассказами о последнем дне Орджоникидзе. Последний день уже ничего не мог изменить, он был предрешен. Сталин убивал своего друга Серго долго, года три. Неудобно было объявить его врагом народа и не хотелось устранить человека, предлагавшего снять его с поста, быстро и сравнительно безболезненно, с помощью яда, как Горького. Хотелось мучить, не торопясь, сохраняя видимость деловых, товарищеских отношений…
Беседуя с режиссерами Мосфильма, Ольга Григорьевна рассказывала: «В архиве Сталина я обнаружила письма Серго Сталину, где он писал, что его ненавидит Молотов, который в то время был председателем Совнаркома. И что из личной неприязни к нему Молотов систематически проваливает те проекты и предложения, которые Серго вносит в Совнарком. И что поэтому работать он не может и просит его от этой работы освободить, так как деятельность Молотова распространяется и на деятельность Наркомтяжпрома и вредит работе. На что Сталин, конечно, не реагировал — оставайся на своем посту, разбирайся сам! — и надо думать, что он именно и натравливал Молотова на Серго по своему обыкновению стравливать. В дальнейшем Сталин поручил (травлю Серго. — Г. П.), по-видимому, Ежову. Надо думать, что Ежов не по своей инициативе доложил материалы на Политбюро о том, что на всех крупнейших стройках происходит вредительство. И вообще все пронизано вредительством.
Все эти стройки, конечно, были под руководством Серго. Он выразил сомнение в достоверности этих материалов и создал комиссии. Во главе каждой комиссии стояли крупные чекисты, которые в свое время работали с Дзержинским, но Ягода и Ежов их выжили из органов, и Серго их взял к себе и создал из них „особую инспекцию“ при себе, при наркоме. Это были такие, как Павлуновский, Ойский, крупнейшие чекисты времен Дзержинского (из них Павлуновский одно время входил в свиту Троцкого. — Г. П.). Вот ими он возглавил комиссии, и на каждую из строек, крупных, которые были обозначены в материалах Ежова, он послал эти комиссии. Конечно, там были и специалисты по каждой отрасли. И все эти комиссии, проверив стройки, на которые они были посланы, по возвращении составили отчеты, в которых констатировали, что никакого вредительства на стройке, которую они обследовали, нет и что, наоборот, с огромным воодушевлением и большим трудом все эти стройки идут.
Эти все записки Серго Орджоникидзе со своим письмом направил Сталину в опровержение материалов Ежова. Немедленно весь состав комиссий во главе с этими крупными чекистами был арестован и они объявлены тоже вредителями — они поехали на стройки и скрыли то вредительство, которое там происходит. Тогда все эти вопросы обсуждались на Политбюро, и Сталин поставил вопрос о том, что вся страна пронизана вредителями, а Серго вот не видал, не понял того, что комиссии прикрыли вредительство. И внес этот вопрос в повестку предстоящего пленума ЦК.
Сталин потребовал, чтобы на февральско-мартовском пленуме Серго доложил все это: что всюду вредительство и что комиссии, посланные им, — вредители, и так далее, от чего Серго категорически отказался. И тогда взялся Молотов доложить. Вот это предшествовало (смерти Серго — Г. П.).
К этому же времени был арестован брат Серго, начальник политотдела Закавказской железной дороги в Тбилиси, Папулия Орджоникидзе. Серго понимал, для чего арестовали его брата со всей семьей. И все они были расстреляны, и жена, и дети. Так что круг смыкался. И вот накануне этого пленума, в повестке которого было два вопроса: о всеобщем вредительстве и о Бухарине и о Рыкове, он застрелился» (с. 302–304).
Подробнее о последнем дне Орджоникидзе Ольга Григорьевна рассказывала своим родным со слов вдовы.
«…В день накануне пленума он с утра не встал. Зинаида Гавриловна видела, что иногда он поднимался, в нижнем белье, в кальсонах, подходил к столу, что-то писал и опять ложился. Она просила его встать, поесть, но он не вставал. Вечером приехал его друг Гвахария, начальник макеевской стройки, — детей у Орджоникидзе не было, он любил его как родного сына.
Гвахария говорит Зинаиде Гавриловне:
— Накрывайте стол, ставьте самое лучшее, ведь я же гость (по грузинским понятиям!), скажите, что я приехал, меня надо принять, он встанет.
Зинаида Гавриловна так и сделала; накрыли стол, она пошла звать его. А чтобы пройти в спальню, надо пройти прежде гостиную, и она подошла к выключателю зажечь свет, она зажгла и не успела сделать пару шагов, как раздался выстрел. Видимо, он увидел через щель в двери, что зажегся свет, понял, что сейчас будут звать… Он выстрелил себе в сердце.
Она вбежала, и в эту минуту, говорит, его рука с револьвером опустилась на пол.
А на комоде лежало его письмо, он написал все, что думал, что он не может больше жить, не знает, что делать, — это можно только думать, потому что никто этого письма не видел.
Зинаида Гавриловна бросилась к телефону и позвонила своей сестре Вере Гавриловне и Сталину.
Я с Верой Гавриловной тоже разговаривала. Она говорит: „Я вбежала в спальню, увидела мертвого Серго и бросила взгляд на открытое бюро. Там лежала пачка листков, я схватила их…“
Пришел Сталин со свитой. Там же все близко в Кремле, он собрал всех членов Политбюро и пришел вслед за Верой Гавриловной. Сразу спросил: „Он оставил что-нибудь?“ — „Вот письмо“. И все. Больше письма никто не видел. Выхватил у Веры Гавриловны из рук эту пачку листков, она не успела их спрятать к себе в сумочку. И сколько мы их ни искали, это посмертное завещание Серго, мы их не нашли. В архиве Сталина их нет и нигде нет.
Дальше Зинаида Гавриловна мне говорит: „Они подошли во главе со Сталиным к кровати мертвого Серго, и она в это время сказала: „Вот, не уберегли вы Серго ни для меня, ни для партии“. И он над неостывшим трупом Серго сказал ей: „Замолчи, дура““. Вот все то, что она мне рассказала. И показала. Она открыла одеяло на его кровати, когда я была у нее, и показала мне окровавленное белье, это происходило в пятьдесят шестом году, а застрелился он, как вы знаете, в тридцать седьмом. И вот она двадцать лет спала рядом с кроватью, на которой он покончил с собой, и под покрывалом — его окровавленное белье» (с. 161–163).
В этом рассказе все достоверно, вплоть до кальсон, в которых Серго вставал, чтобы написать еще несколько слов, вплоть до пятен крови на простыне. Напротив, рассказ дочери Серебряковой, опиравшейся на слова своей матери, напоминает легенду: проскользнул человек, застрелил Серго и исчез. Как, каким образом убийца незамеченным вошел в квартиру и так же незамеченным вышел? Вероятно, в версии Серебряковых только одно: после расстрела Папулии Орджоникидзе между Серго и Сталиным произошел разговор, во время которого Серго схватил Сталина за грудки, а Сталин пригрозил ему смертью. После этого Серго ждал ареста. Поэтому он и застрелился сразу, как только в соседней комнате зажгли свет, ожидая убийцу. Но убийцы не было. И Ольга Григорьевна твердо исходила из версии самоубийства. Исходила она из этого и в разговоре, запомнившемся ее младшему сыну:
«„Мама, я все же не пойму, почему Орджоникидзе застрелился сам, а не застрелил Сталина?“
„Это необъяснимо. Единственная возможная причина — магический ужас, который внушал Сталин своим соратникам“.
„Мама, как это было возможно, что вы, коммунисты, могли совершить такой ад, как убийство всей царской семьи, включая малолетних детей и прислуги?“
„Алешенька, сейчас это для меня кажется дикой нелепостью, но в то время все мы думали, что эта жертва абсолютна необходима для блага мирового пролетариата. И что революционная законность выше нравственной законности. Расстрел царской семьи в настоящее время мне кажется дикой, невероятной вещью“» (с. 332).
Я думаю, эти детские вопросы вставали перед Ольгой Григорьевной снова и снова, когда подробности расследования отпускали ее ум на волю. Но когти расследования разжимались редко. Многие наши разговоры возвращались к теме: был ли Сталин агентом охранки? Ольга Григорьевна соглашалась, что не в этом дело, но ей очень хотелось, чтобы Сталин все-таки оказался не настоящим большевиком, чужеродным телом в ленинской партии, подобием Азефа, Малиновского и других разоблаченных провокаторов. Она очень ждала документов, подтверждающих агентурную службу Джугашвили, но их не было. То, что попадало в печать, было липой, и Ольга Григорьевна с беспощадной точностью профессионала разоблачала фальшивки: не та дата, не тот номер… Достоверны были только рассказы, наводившие на мысль об особых отношениях с охранкой. Ho те же эпизоды можно было толковать иначе. Существовали мнения, подозрения:
«О том, что Сталин, тогда еще Коба, был агентом охранки, писал Ной Жордания в книге, изданной за границей. О том, что Сталин провокатор охранки, говорил Степан Шаумян в 1918 году… Троцкий отдал Сталину приказ — немедленно направить на спасение Бакинской Коммуны дивизию Петрова. Сталин отправил дивизию в совершенно другом направлении. Самого же Петрова с небольшим отрядиком в несколько десятков человек и парой пушек он отправил спасать Бакинскую Коммуну. Когда руководители Бакинской Коммуны, встревоженные прибытием столь незначительных подкреплений, собрались у Степана Шаумяна, он сказал: „Вы ожидали, что Сталин будет вас спасать? Ничего подобного, он хочет вашей гибели. Это агент охранки“» (с. 341–342).
Этот рассказ Шатуновской подтверждают воспоминания Стуруа, которые кратко излагаются на с. 388: «Население Баку переживало неимоверный голод. По заданию Шаумяна были собраны со всех складов мануфактура, гвозди и другие промтовары. Был создан рабочий отряд во главе с членом Кавказского краевого комитета, старым большевиком Георгием Стуруа. Все собранное этот отряд повез в Кизляр для обмена на хлеб.
Когда обмен был завершен и хлеб с невероятными трудностями был вывезен и погружен на баржи в Кизляре, явился уполномоченный из Царицына лично от Сталина с приказом направить баржи с хлебом не в Баку, а в Царицын. Стуруа на быстроходном катере направился к Сталину лично в Царицын, чтобы добиться отмены этого приказа. Убеждая Сталина отменить приказ, он говорил ему, что Баку голодает, нечем кормить солдат на фронте. И говорил, что в таком случае Баку непременно падет. На это Сталин цинично ответил: „Ну что ж, придет время, мы его обратно возьмем“».
Из этого можно сделать и такой вывод, что Сталин считал положение Бакинской Коммуны безнадежным и не хотел тратить силы и ресурсы на ее поддержку; или что он любой ценой готов был уничтожить личного врага, человека, считавшего его агентом охранки. Ясно, что Сталин дурной человек, способный быть агентом охранки. Но нельзя считать доказанным, что он был агентом охранки.
Существует также достоверный рассказ о скверном поведении Сталина в Туруханске. Шатуновская ссылается на Бориса Иванова, одного из тогдашних ссыльных.
«Идейным лидером большевиков Заполярья был Свердлов. Когда началась война и связь с Лениным оборвалась, он собрал большевиков на совещание в селе Монастырское. Приняли решение против войны, против поддержки правительства. Сталин сидел на совещании, но не сказал ни слова. Несмотря на это, его все же избрали в состав комиссии для составления итогового документа. Сталин встал и, не говоря ни слова, покинул совещание.
После этого собрания произошло другое происшествие, это было, по-видимому, в Курейке. В комнату, где сидели Свердлов и Борис Иванов, ворвались пьяные уголовники. Они бросились на Свердлова, убивать. Иванов был в это время — молодой рабочий-наборщик, здоровенный, и когда они накинулись на Свердлова, он схватил скамью, тяжелую дубовую скамью, и пошел с этой скамьей на них. Он случайно оказался у Свердлова в избе. И вот этой скамьей он этих уголовников стал бить. И они убежали… А потом он с ними разговаривал, и они сказали, что нас подкупил и напоил этот, Сталин.
Я думаю (это уже размышления Шатуновской. — Г. П.), что это было задание охранки, потому что Свердлов имел связь с Лениным и являлся центром ссылки политической. Так я думаю. Ну и кроме того, сам Сталин ему завидовал» (с. 334).
Рассказ Иванова совпадает с тем, что я слышал от Александра Петровича Улановского, анархиста, впоследствии сотрудничавшего с советской внешней разведкой и помогавшего направлять людей в республиканскую Испанию. 1937-й год он пересидел в датской тюрьме, вернулся в Россию, жил на пенсию. Когда арестована была его жена, решил использовать один шанс из ста и написал письмо Сталину. Сталин немедленно распорядился арестовать Александра Петровича и посадить на десять лет. Сталин не хотел, чтобы оставались на воле люди, знавшие прошлое. Но вскоре Сталин умер, и все Улановские собрались в Москве. Александр Петрович рассказал Солженицыну, что у Сталина глаза были желтые, как у тигра. Мне он об этом тоже говорил. К рассказу о покушении на Свердлова он прибавляет несколько деталей: Сталин убеждал ссыльных рабочих, что Свердлов только об интеллигентах заботится, а на рабочих ему наплевать. Склока дошла до того, что ссыльные пошли друг на друга с кольями, выдернутыми из плетней, в руках. Но Улановский не считал Сталина провокатором по должности. Ему казалось, что этот человек — просто негодяй, завистник и склочник, которому на всех наплевать, кроме своего тщеславия. Его поразила одна деталь: Сталин отдал хозяйке книгу, оставленную прежним обитателем, подкладывать странички под пирожки. На это пошла «Критика чистого разума». В ссылке — объяснил мне Улановский — книгу берегли как зеницу ока, поведение Сталина было беспрецедентным.
«Это все происходило во время войны, в четырнадцатом году (продолжает Шатуновская. — Г. П.). Теперь смотрите, что пишет Иванов дальше. Дальше он пишет, во-первых, о том, что Сталин изнасиловал ребенка (это Улановский тоже говорил. — Г. П.). И что жандармы это дело погасили. Это подтверждается документами, которые Серов, председатель КГБ, во времена Хрущева докладывал на Политбюро. Мне это говорил Хрущев лично, — что в жандармских документах фигурирует заявление отца этой девочки и видно, что вызвали для объяснения Сталина и погасили дело тем, что он дает расписку, что в будущем с ней обвенчается. И дело было закрыто.
Борис Иванов пишет, что после этих происшествий Сталина бойкотировала вся ссылка политическая, и он, очевидно, стал охранке не нужен в таком виде.
Дальше Борис Иванов пишет, что они призываются на фронт. Их посадили в сани под конвоем и повезли — это было зимой. Он описывает подробно, что по дороге он был поражен взаимоотношениями Сталина с жандармами, сопровождавшими их. Что он им командовал, вот среди белого дня он не хочет, чтобы ехать дальше — ехали по льду Енисея. Вот это поселок, давайте, заезжаем в этот поселок и будем отдыхать. И они подчинялись его команде. Наконец, они прибыли в Красноярск. И как только они въехали в город, жандармы предложили Сталину идти на все четыре стороны. А Иванова повезли в воинское присутствие, забрили лоб и отправили в действующую армию, где он и провел все годы войны.
Между прочим, пришел он совершенно сам. Я этого ничего не знала. Не то что мне подсказали, что пригласите Бориса Иванова, как мне очень часто подсказывали. Он пришел — вот это я хочу вам рассказать, я был в Туруханской ссылке вместе со Сталиным. Вот так и так. И конечно, говорит, меня мобилизовали для прикрытия. Сталина решили и перевели, конечно, в один из южных районов Красноярского края. После того как его стала бойкотировать вся ссылка…» (с. 334–335)
Подозрительных фактов в биографии Сталина очень много. Почему он отделался пустяками, хотя за участие в кровавом ограблении банка его должны были бы повесить? Почему его через три недели выпустили после ареста всех, кто был в подпольной типографии? Остальных задержанных осудили на каторжные работы (с. 390). Многие считали Сталина провокатором. «По рассказу Бориса Шеболдаева, работавшего секретарем северокавказского крайкома партии, в 1936 году он был вызван к Сталину, который поручил ему поехать в Новочеркасскую тюрьму, в изолятор для политических заключенных и переговорить с содержавшейся там в одиночке Варей Каспаровой.
Каспарова — старая большевичка, участница Бакинской Коммуны, близкая к Шаумяну… Сталин поручил Шеболдаеву сказать Каспаровой, что если она откажется от того, что говорила в его адрес, то он ее пощадит и сохранит ее жизнь… В ответ на это Каспарова вскочила с тюремной койки и яростно закричала: „Я знаю, что Сталин — провокатор, агент царской охранки! Говорила это и буду говорить до самой смерти, никогда не откажусь от этих слов“.
Шеболдаев, совершенно ошеломленный, покинул тюрьму. Он понимал, что теперь, когда он узнал такое о Сталине, его собственная жизнь в опасности, и не поехал к Сталину. Однако через несколько недель Сталин вызвал его и спросил об этом. Шеболдаев вынужден был ему все рассказать.
В 37 году Борис Шеболдаев был арестован и расстрелян. Арестована была также его жена Лидия Смирнова, от нее требовали показаний против мужа. Опричники схватили детей — трехлетнего Володю и шестинедельного Алика. Их тетка Валентина Смирнова, взяв узел с пеленками, насилу села в машину, в которой увозили детей. Однако ее на ходу выбросили из машины. Детей привезли в Бутырскую тюрьму и под воздействием их плача пытались добиться у матери ложных показаний. В результате Лика Смирнова сошла с ума…
О страшных допросах с детьми и последующей судьбе Лики Смирновой рассказала Лилия Иванова Рудзутак (племянница Яна Рудзутака), ее однокамерница» (с. 391). От нее, по-видимому, дошли до Шатуновской и слова Каспаровой (через Шеболдаева, рассказавшего все жене). Так удавалось найти следы и других высказываний, которые Сталин пытался вычеркнуть из истории. Но ничего нового Каспарова не сообщила. В основе все тот же рассказ Шаумяна, что в 1908 году он был арестован в квартире, о которой знал только Сталин.
В ходе Большого Террора Сталин методически уничтожал всех людей, которые могли сказать о нем что-нибудь плохое: уничтожил Иваняка, рассказавшего, что Сталин присвоил себе партийную кассу (с. 339); Жакова, записавшего и опубликовавшего антиленинскую речь, произнесенную Сталиным в 1917 году (с. 342). Уничтожались и люди, знавшие о подозрительном поведении Сталина, знавшие просто про разговоры о его связях с охранкой. Но из тысячи подозрений нельзя составить ни одного доказательства. И нельзя обосновать концепцию Орлова, что какие-то документы о связях с охранкой вызвали заговор военных и в ответ на него — Большой Террор. Шатуновская знала книгу Орлова, изданную на Западе, но ее собственные воспоминания участницы XVII съезда говорили о другом:
«Я была на съезде с гостевым билетом, и в кулуарах ходили слухи, что Сталин получил много голосов против, хотя сколько — не говорилось. Если был бы хотя 71 кандидат на 70 мест в ЦК, то Сталин бы не прошел… На съезде было объявлено о торжестве коллективизации — „социализм в деревне“ — и конечно, было много хвастовства. Но в кулуарах обсуждались большие ошибки, сделанные при коллективизации, гибель скота и падение производительных сил земледелия, приводились конкретные цифры…» (с. 160).
Во время последнего спора с защитником официальной точки зрения Шатуновской возражали, что эта воркотня по углам и голосование кучки недовольных не могли вызвать такие грандиозные последствия. Реакция Сталина была неадекватной, немыслимой для нормального человека. Но он не был нормальным человеком. Я уже говорил об этом и буду еще раз об этом говорить. Критические, переломные эпохи, когда старый разум ветшает, а новый не сложился, не первый раз выдвигают на авансцену истории параноидную личность. Не настолько безумную, чтобы каждый мог это заметить, но очень близкую к клинической паранойе. И для параноика достаточно самого ничтожного намека на скрытую угрозу, чтобы пустить в ход гигантский механизм репрессий. Тем более, что за рубежом назревала реальная угроза — к власти пришел Гитлер, и страх неминуемого столкновения возводил безумие в квадрат и в куб.
Последняя битва
Иногда по ночам Ольга Григорьевна просыпалась от собственных криков: ей казалось, что она борется «с ними». Подробно она не рассказывала — с кем. Не хотелось втягивать в трезвый день ночные кошмары. Днем была собранной, сдержанной. Такой я ее помню. Но было одно, последнее несчастье, которое опрокинуло ее среди белого дня: узнать, что безнадежно болен ее любимый сын, Степа. Тот самый, который стал душить Марусю, обещавшую посадить Олю еще на десять лет (насилу тогда отняли). Теперь он заболел раком. Кажется, единственный раз Ольга Григорьевна забилась в истерике. Ей было 80 лет, а надо было звонить, хлопотать… Ни на что не было сил. Только через несколько дней вернулась привычная собранность; стала добиваться обычных в таких случаях процедур, бесполезных и мучительных. Навещала сына, не всегда сознававшего, кто пришел, после очередной «химии». Иову было легче: его дети умерли без мук.
А жизнь длилась. Медленно падали силы. Все чаще хотелось лежать и даже гостей принимать лежа, А когда спрашивал о Деле — распрямлялась.
И все-таки она дождалась. Началась перестройка. С печати снят был намордник. Ходила по рукам книга Антонова-Овсеенко, использовавшего ее рассказы. Зашевелились фальсификаторы. Пришли прокуроры из КПК уговаривать ее, что она все выдумала, что не было показаний Гусева, Опарина, что не убит был Борисов и нет справки, переданной Шелепиным в комиссию Шверника, о чудовищных масштабах террора. А Крючков (новый шеф КГБ) дает другие цифры.
Новое, горбачевское руководство колебалось, поручало проверку будущим ГКЧПистам. Петр кивал на Ивана, Иван на Петра. «По словам Каткова (деятеля КПК. — Г. П.), Яковлев поручил Пуго (ответственные сотрудники ЦК), а Пуго ему (фамилия Пуго мелькнула впоследствии в частушке, сочиненной в „живом кольце“: „Забьем мы пушку тушкой Пуго“. — Г. П.). Когда я из беседы с Катковым и его двумя прокурорами поняла, что все уничтожено, и они торжествующе об этом говорили, вроде бы я сама какую-то фальшивку написала — ничего это нет, никакого совещания (на квартире Орджоникидзе. — Г. П.) не было, сводки нет такой (о масштабах репрессий. — Г. П.)и так далее, я написала второе письмо, где перечислила, какие документы уничтожены. По словам Каткова, нет, значит, они уничтожены. Тогда Наумов (деятель ЦК. — Г. П.) сказал — ну раз они так некомпетентно подошли к этому вопросу, мы все возьмем в свои руки. Они взяли в свои руки и опубликовали на основании этих подлогов в седьмом номере „Известий“ („Известий ЦК“. — Г. П.). Я больше не стала Наумову ни звонить, ни разговаривать. Зачем мне с ним говорить» (с. 359–360).
В конце концов горбачевское ЦК поддержало оценки новой комиссии по расследованию убийства Кирова («не нашей комиссии, сегодняшней», — комментирует Шатуновская на с. 360). Только Хрущев в своих воспоминаниях упоминал факты, установленные Ольгой Григорьевной. «Про убийство Борисова (телохранителя Кирова. — Г. П.) он пишет в своих мемуарах, что никакой аварии не было, что сотрудники НКВД ее инсценировали, что Борисов был убит» (с. 361).
Осталось одно — обратиться к прессе, переставшей быть партийной. С легкой руки Шатуновской, появилась в АИФ статья Лордкипанидзе, и началась дискуссия. Сотрудница Ленинградского музея истории партии Кириллина пыталась защищать версию, придуманную вместо официальной сталинской, явно провалившейся, — по ее словам, Киров был убит ревнивым мужем. Таким образом, оба заговора смыты со скрижалей истории: заговор зиновьевцев (а потом Зиновьева и Троцкого, а еще позже — Троцкого и Бухарина) против Сталина и заговор Сталина против собственной партии, не сумевшей проглотить без сопротивления смерть миллионов крестьян.
Тогда, собрав последние силы, Ольга Григорьевна написала, лаконично, как она это умела, письмо в редакцию «Известий», изложив в нескольких абзацах все основные факты. Это письмо, в конце концов, было опубликовано. И Георгий Целмс, после журналистского расследования, подвел итоги дискуссии в «Литературной газете» (см. ниже). Ему удалось найти следы уничтоженных документов: список, в котором были официально перечислены названия текстов, содержание которых раскрывала Ольга Григорьевна.
А Шатуновская скончалась, как многие в ее возрасте, после перелома шейки бедра. До 90 лет она не дожила трех месяцев. На похоронах не было ее друзей: они умерли на год, на пять лет, на десять лет раньше. Дети и внуки терялись в группе официальных лиц. Так схоронили одну из самых замечательных женщин XX века, в судьбе которой сталкивались роковые события революции, Большого Террора и попытки освободиться от сталинского наследства.
Но я не могу ее забыть. В статье, опубликованной в 1995 г., я писал о ней, не думая, что это может иметь политическое значение. Просто вспоминался замечательно яркий женский образ. И сейчас я пишу, опираясь на свои живые воспоминания, расширяя и уточняя их цитатами из книги, составленной родными Шатуновской (история поблагодарит их за этот труд). И я верю, что люди поверят нам с Ольгой Григорьевной, несмотря на то, что уничтожены почти все собранные ею документы. Если верно то, что рукописи не горят, то не горят и правдивые свидетельства.
VI. Дискуссия в прессе в 1989–1990 годах
Убийство Кирова. Некоторые подробности
В. Лордкипанидзе
Органы НКВД в Ленинграде с 1930 г. возглавлял известный чекист Ф. Д. Медведь. Первым заместителем у него был Карпов. В 1934 г. Карпова из Ленинграда отозвали, а на его место назначили (без согласования с Кировым и Медведем) И. Запорожца, который до этого работал в центральном аппарате НКВД. Он занял ключевой пост в управлении, поскольку ведал вопросами государственной безопасности.
Ф. Медведь пытался возражать против этого назначения, жаловался Кирову. Тот объяснялся с генсеком, но Сталин возражений не принял.
В последних числах ноября 1934 г. И. Запорожец исполнял обязанности начальника управления. Неожиданно он взял отпуск на пять дней по семейным обстоятельствам без оформления приказа по НКВД, получив на то личное разрешение наркома Г. Ягоды по телефону, и из Ленинграда уехал. Функции начальника перешли ко второму заместителю, Ф. Т. Фомину, который ведал пограничной и внутренней охраной.
Kак это было
В тот день, 1 декабря 1934 г., Федор Тимофеевич Фомин, как обычно, работал у себя в кабинете. Около 16 часов ему по телефону сообщили из Смольного о покушении на С. М. Кирова. Захватив несколько сотрудников, Ф. Т. Фомин сразу же выехал в обком партии.
С. М. Киров был убит выстрелом в затылок с близкого расстояния на площадке третьего этажа лестницы. Телохранитель несколько отстал, и Киров на площадке, где его поджидал Л. Николаев, оказался один.
После покушения Николаев пытался покончить жизнь самоубийством, но пистолет дал осечку. Подоспевшая охрана без труда схватила убийцу, поскольку тот находился в шоковом состоянии, бился в судорогах, его рвало.
По прибытии на место Фомину в первую очередь пришлось отбивать Николаева от разъяренных работников обкома, которые пытались его растерзать. Николаева обыскали на месте (при нем помимо пистолета была черная сумка с бумагами) и в невменяемом состоянии отправили в санчасть НКВД.
Не успел Фомин вернуться в свой кабинет, как ему позвонил Г. Ягода. Выслушав доклад, он поинтересовался, во что был одет Николаев и не обнаружены ли при нем вещи иностранного происхождения.
Спустя приблизительно час последовал второй звонок из Москвы — на проводе был сам И. Сталин. После доклада он также спросил: во что был одет Николаев, какая на нем была кепка и не было ли заграничных вещей? Получив отрицательный ответ на последний вопрос, Сталин после продолжительной паузы трубку повесил. Позже, анализируя ситуацию того дня, Ф. Т. Фомин пришел к выводу, что, видимо, что-то было упущено при подготовке акции в Ленинграде.
Человек с пистолетом
Спустя три часа после преступления в Смольном главному врачу санчасти с трудом удалось привести убийцу в чувство, и его доставили на допрос. К этому времени Федору Тимофеевичу удалось опросить ряд сотрудников управления, просмотреть дневник и другие бумаги, которые были в сумке у Николаева. Из дневника, исписанного нервным почерком, выяснилось, что он несколько раз пытался попасть на прием к Сергею Мироновичу. Секретарь отказывал, но обещал передать заявление лично Кирову.
Помимо дневника в сумке была найдена карта Ленинграда с обозначением маршрута, по которому Сергей Миронович часто ходил пешком от Смольного до своего дома на Каменноостровском проспекте. В этих случаях охрана обычно следовала в машине, а Кирова на улице сопровождали два сотрудника: один шел сзади, другой — впереди. Они заметили, что за Кировым ходит подозрительного вида мужчина. Николаев был задержан милиционером в подъезде дома и доставлен в НКВД. При обыске в сумке у него нашли пистолет с патронами, упомянутую выше карту. Однако, по указанию И. Запорожца, Николаев был отпущен с пистолетом.
На допросе перед Фоминым предстал худощавый, плохо одетый дегенеративного вида мужчина лет 35 (по документам ему было 30). В партии с 1920 г. — инструктором РКИ (Рабоче-крестьянская инспекция). Закончил вечернюю партшколу. За отказ ехать на трудовой фронт был исключен из партии, затем восстановлен по указанию из Москвы. В настоящее время безработный. На вопросы отвечал сбивчиво, путался, впадал в истерику, несколько раз повторял, что его выстрел прозвучал на весь мир. Причины убийства сообщить отказался. Подтвердил свои записи в дневнике. За Кировым «охотился» давно. На днях был на перроне Московского вокзала во время прихода «Красной стрелы», на которой Киров вернулся из Москвы с Пленума ЦК. Киров шел по перрону в окружении сотрудников обкома и НКВД, приблизиться к нему было невозможно. После этого в очередной раз пытался попасть на прием и опять получил отказ.
Были также допрошены жена и мать Николаева. При обыске на квартире у каждой из них было найдено по 5000 руб.
Жена Николаева Мильда Драуле, латышка по национальности, работала в столовой Смольного. Жили они в отдельной квартире, одно время снимали дачу в Сестрорецке.
Дальнейшее расследование было приостановлено, так как пришло сообщение, что к Ленинграду приближается литерный поезд с членами Политбюро ЦК ВКП(б). Все поехали встречать.
В Ленинград прибыли Сталин, Молотов, Ворошилов, Жданов, а также Ежов, Вышинский и др. Сталин вышел из вагона первым, ни с кем не поздоровался, а Ф. Медведя ударил по лицу, молча выслушал краткий доклад Фомина. Рядом по стойке «смирно» стоял Г. Ягода. Затем Сталин спросил, где находится тело Кирова. Поехали в Смольный.
Допрашивал Сталин сам
Ф. Т. Фомин от расследования сразу же был отстранен. Его назначили начальником штаба по поддержанию революционного порядка в городе.
Сталин решил сам заняться выяснением обстоятельств убийства Кирова. В Смольный были доставлены Николаев, его жена и мать. Допрашивал их Сталин по очереди. Затем Сталин потребовал доставить охрану Кирова, которая находилась под арестом в управлении НКВД. Время шло, а охрану все не привозили.
Позже выяснилось, что машина попала в аварию, в результате погибли Борисов и два других охранника Кирова.
Сталину, видимо, ждать надоело. Он вышел в приемную и, обращаясь к присутствующим, изрек: «Николаева надо поддержать физически. Купите курочек, фрукты, подкормите, подлечите, и он все расскажет. Для меня и так совершенно ясно, что в Ленинграде действует хорошо организованная контрреволюционная террористическая организация и убийство Кирова — дело ее рук. Надо все тщательно расследовать» (свидетельство Ф. Фомина). Так Сталин заранее предопределил результаты дальнейшего расследования и последующие за этим репрессии. В конце декабря 1934-го — январе 1935 года дело рассматривалось на закрытом процессе в Ленинграде. Председательствовал В. Ульрих. Обвинителем выступал А. Вышинский.
Основным «свидетелем» был Л. Николаев, которого ежедневно обрабатывали, обещали за нужные показания сохранить жизнь и выпустить через два-три года. Было установлено, что убийство С. М. Кирова организовано «ленинградским террористическим троцкистско-зиновьевским центром».
Л. Николаева и тех, кого он оговорил, сразу после процесса расстреляли.
Ф. Медведя, И. Запорожца, Ф. Фомина и других ответственных работников ленинградского НКВД арестовали в 1935 г. и обвинили в преступной халатности. Их выслали на три года в Сибирь. В 1937–1938 гг. против них были выдвинуты новые обвинения. Медведя расстреляли в 1937 г., Запорожца — в 1938 г.
Ф. Т. Фомина в 1938 г. обвинили в попытке покушения на членов Политбюро в момент их приезда в Ленинград 2 декабря 1934 г., но жизнь ему сохранили. В 1937 г. по делу Кирова в Ленинграде была расстреляна группа молодых сотрудников НКВД, которые ни по возрасту, ни по занимаемому положению к событиям 1934 г. не могли быть причастны.
О грозящей Кирову опасности знали многие работники НКВД. Прекрасно разбирался в обстановке и мой отец — Т. И. Лордкипанидзе, который был знаком с Кировым и очень уважал его. Осенью 1934 г. отец добивался назначения в Ленинград, но не встретил поддержки. Все перемещения в руководящем звене НКВД преследовали цель поставить во главе центрального аппарата и на местах послушных Сталину исполнителей.
Версия о причастности И. Сталина к убийству С. Кирова весьма правдоподобна, хотя и не имеет документального подтверждения. Однако не оставляет сомнения тот факт, что это убийство было использовано И. Сталиным для расправы с теми руководящими работниками партии и государства, которые были ему неугодны.
«Аргументы и факты», 1989, № 6
Вокруг трагедии в Смольном
Ольга Шатуновская
Уважаемая редакция! В вашей газете от 11 января 1990 года была опубликована статья А. Кириллиной «Трагедия в Смольном», в которой выдвинуты версии убийства С. М. Кирова. Автор пишет: «Комиссия Политбюро, созданная после 20-го съезда партии для расследования обстоятельств убийства Кирова, не обнаружила весомых доказательств этой версии». Имеется в виду причастность Сталина. Я категорически протестую против этого утверждения, оно прямо противоположно выводам, сделанным Комиссией Политбюро. Эта Комиссия была создана в 1960 году во главе со Шверником. Я тоже вошла в состав Комиссии, вся ее работа проходила при моем непосредственном участии. Мы опросили тысячи людей, изучили тысячи документов. Согласно решению 20-го съезда КПСС — а доклад Н. С. Хрущева был принят съездом как резолюция съезда — нами были расследованы обстоятельства убийства и события, ему предшествовавшие. Вот что открылось.
Во время 17 партсъезда, несмотря на его победоносный тон и овации Сталину, на квартире Серго Орджоникидзе, в небольшом доме у Троицких ворот, происходило тайное совещание некоторых членов ЦК — Косиора, Эйхе, Шеболдаева и других. Участники совещания считали необходимым отстранить Сталина с поста генсека. Они предлагали Кирову заменить его, однако он отказался. После того как Сталину стало известно об этом совещании, он вызвал к себе Кирова. Киров не отрицал этого факта, заявив, что тот сам своими действиями привел к этому.
При выборах в ЦК на съезде фамилия Сталина была вычеркнута в 292 бюллетенях. Сталин приказал сжечь из них 289, а в протоколе, объявленном съезду, было показано 3 голоса «против». Комиссия Политбюро, ознакомившись в Центральном партархиве с бюллетенями и протоколами голосования, установила факт фальсификации выборов. Вызванный в ЦК бывший член счетной комиссии съезда В. М. Верховых сообщил подробности этой истории. Впоследствии почти все делегаты 17 съезда были уничтожены. Из 63 членов счетной комиссии 60 были расстреляны, а уцелевшие репрессированы.
Киров, осознавая, что после происшедшего он неизбежно будет уничтожен Сталиным, говорил своим родным и друзьям, что голова его теперь на плахе. Убийцу Кирова Николаева трижды задерживала охрана Кирова, при нем был обнаружен портфель с разрезом на задней стороне, в котором находился заряженный револьвер и план Смольного. Однако сотрудники Ленинградского ГПУ его каждый раз отпускали, угрожая охране. Убийца, явившийся 1 декабря в Таврический дворец на партактив, где Киров должен был делать доклад, был предупрежден и перешел в Смольный, так как Киров поехал туда за материалами для доклада.
На другой день после убийства на допросе у Сталина в Смольном Николаев заявил, что его в течение четырех месяцев склоняли к совершению убийства сотрудники ГПУ, настаивая на том, что это необходимо партии и государству.
Личный охранник Кирова Борисов, предупреждавший его об опасности, был убит по дороге в Смольный ударом лома по голове сотрудниками ГПУ, сопровождавшими его на грузовике на допрос к Сталину.
Тщательное расследование многих других важнейших обстоятельств, показаний близких Кирову людей и других свидетелей, все это привело Комиссию к неопровержимому заключению: убийство Кирова было организовано Сталиным.
После убийства Кирова Сталин обрушил на страну лавину ужасающего террора. По всем республикам и областям рассылались контрольные цифры на аресты. В директиве за подписью Сталина и Молотова предписывалось организовывать во всех районах показательные суды, а если нет подходящих больших помещений, устраивать их в церквах.
Несмотря на однозначный результат, полученный Комиссией, мне уже не в первый раз приходится встречать публикации, в которых со ссылкой на документы Комиссии делается вывод о непричастности Сталина к убийству Кирова. Я вижу два объяснения этому. Возможно, это результат недобросовестности авторов подобных публикаций и сознательное искажение содержания исторических документов. Может быть, однако, причина в том, что подлинные документы Комиссии заменены какими-то другими. Я полагаю, что более вероятной является вторая версия. У меня есть серьезные основания думать, что это именно так.
После того как материалы всех расследований (они составили 64 тома) и итоговые записки по ним были сданы в архив, я была вынуждена уйти из КПК. После моего ухода в окружении Н. С. Хрущева нашлись лица, заинтересованные в переоценке выводов Комиссии Политбюро. Они поручили заместителю председателя КПК 3.Г. Сердюку вновь допросить главных свидетелей. Эту работу помогал ему выполнить сотрудник КПК Г. С. Климов. Они вызывали свидетелей, вынуждали их отказываться от ранее данных ими показаний и давать противоположные; уничтожали все основные документы и подделывали вместо них другие.
Было составлено новое заключение совсем иного свойства: якобы Комиссия не располагает достаточными данными, изобличающими Сталина в организации покушения на жизнь Кирова.
В июне 1989 года ко мне явился представитель КПК Н. Катков в сопровождении двух прокуроров с целью якобы посоветоваться о работе Комиссии. В ходе беседы подтвердилось, что по заданию сталинистов из окружения Хрущева был совершен исторический подлог. Из документов расследования исчезли:
— Свидетельство члена партии с 1911 года С. Л. Маркус, старшей сестры жены С. М. Кирова, — с его слов, — о тайном совещании на квартире Орджоникидзе и о вызове Кирова после этого совещания к Сталину и подробно о беседе его с генсеком;
— Копия полученных на следствии показаний помощника Орджоникидзе — Маховера, присутствовавшего на упомянутом совещании. По этому поводу представитель КПК заявил, что никакого совещания на квартире Серго в дни работы 17 партсъезда не было;
— Исчезли также показания старых большевиков Опарина и Дмитриева о сцене допроса Сталиным Николаева 2 декабря, когда убийца заявил Сталину, что к покушению на жизнь Кирова его побудили и готовили сотрудники НКВД. Тогда энкаведисты жестоко избили Николаева и в бесчувственном состоянии доставили его в тюрьму. В материалах расследования были свидетельства тюремных врачей.
— Пропало полученное в ходе расследования заключение, данное хирургом Мамушиным, участвовавшим во вскрытии тела Борисова. Согласно этому заключению Борисов погиб не во время инсценированной сотрудниками НКВД аварии, а от удара по голове массивным твердым предметом.
— Отсутствуют также показания Кузова, водителя грузовика, в котором везли Борисова на допрос к Сталину. Вместо прежнего показания, где Кузов писал, что никакой аварии не было, теперь имеется показание, что авария произошла. В ней якобы и погиб Борисов.
Круглосуточно находившийся при Николаеве в камере сотрудник ГПУ Кацафа написал в Комиссию, что убийца согласился дать следствию требуемые от него показания о якобы существующем «троцкистско-зиновьевском центре» только после обещания следователем сохранить ему за это жизнь.
На суде под председательством Ульриха Николаев сначала отказался от вымученных у него показаний и заявил, что никакого центра не было. Ульрих вел допрос Николаева в отсутствии всех остальных обвиняемых и в конце концов сломил его. В перерыве судебного заседания Николаева держали отдельно. Он снова кричал, что никакого центра не было, что он оговорил невинных людей. Об этом пишет в письме на имя Н. С. Хрущева конвоир Гусев, находившийся у дверей комнаты, в которой держали Николаева. После объявления смертного приговора Николаев непрерывно кричал: «Обманули!».
О происходившем на суде дала также показания Комиссии присутствовавшая в зале суда знакомая Ульриха. Ее свидетельство, так же как и приведенные выше показания Кацафы, исчезли.
Исчез важнейший документ: представленная КГБ в Комиссию Политбюро сводка о количестве репрессированных с января 1935 года по июнь 1941 года — по годам и различным показателям — с общим итогом: 19 840 000 арестованных, из которых 7 миллионов расстреляны в тюрьмах. Представитель КПК заявил, что в деле имеется якобы лишь моя личная записка с упоминанием двух миллионов жертв. Такой записки я никогда не писала.
В ходе нашего расследования в личном архиве Сталина обнаружен собственноручно составленный им документ со списками двух сфабрикованных им троцкистско-зиновьевских центров — ленинградского и московского. Причем Зиновьев и Каменев были вначале помещены Сталиным в ленинградский, а затем переставлены в московский центр, так же как и другие участники вымышленных центров. Этот документ был передан заведующим личным архивом Сталина как особо секретный.
Графологическая экспертиза Прокуратуры СССР подтвердила, что рукопись составлена собственноручно Сталиным. Два сотрудника ленинградского управления НКВД показали Комиссии, что в 1934 году, во время своего пребывания в Ленинграде, Сталин располагал, кроме того, списком двадцати двух бывших оппозиционеров, которых начальник ленинградского управления НКВД Медведь представлял Кирову для визы на арест, однако Киров в санкции отказал.
В присутствии этих сотрудников Сталин и сфабриковал состав террористических центров. Этих свидетельств, по словам представителя КПК, в деле нет. Он уверял меня в том, что упомянутая рукопись принадлежит не Сталину, а руке Ежова, хотя фотокопия сталинской рукописи и акт графологической экспертизы были разосланы вместе с итоговой запиской членам Политбюро.
Над кем же пытались объявить себя победителями на 17-ом съезде? Над народом, против которого Сталин повел с 1928 года войну, под видом построения социализма на селе совершил контрреволюционный переворот, отняв у крестьянства землю и волю и орудия производства, за которые оно воевало с белыми всю гражданскую войну. Теперь же оно уничтожалось и физически в своей лучшей трудовой части. Однако, несмотря на то, что почти все присутствовавшие на съезде лично участвовали во всем этом, многие из них начали осознавать страшную суть содеянного и роковую роль Сталина в этих событиях.
Судьбоносное, непреходящее значение 17-го съезда в этом и заключается, что партия коммунистов на том съезде последний раз дала бой, оказала действенное сопротивление побеждавшей на долгие годы диктатуре Сталина.
О. Г. Шатуновская, член КПСС с 1916 года.
Москва, 10.02.1990
«Сельская жизнь», 1990, 23.09
Убийство Кирова: последний свидетель
Георгий Целмс
От редакции
Классик как-то заметил: человечество смеясь расстается со своим прошлым. Но нам пока не до смеха — слишком трагично наше недавнее прошлое, мертвой хваткой держит оно сегодняшний день.
Чтобы окончательно расстаться с прошлым, нужно сначала хорошо разобраться в нем, а для этого, как бы ни было нестерпимо сердцу, лучше его узнать.
С первых дней перестройки наше общество начало разгребать старые эти завалы. Однако работа идет медленно, и путь возвращения к правде делает порой немыслимые зигзаги. Ведь здравствуют еще, ходят среди нас многие из тех, кто вдохновенно творил ложь и сейчас ревниво оберегает ее от света гласности.
Мы предлагаем сегодня читателю три драматические истории. Все они в той или иной степени продиктованы страшным драматургом и режиссером, от леденящей хватки которого мы так стремимся освободиться. Потому что, только распрощавшись с тяжелым прошлым, можно шагнуть из настоящего в будущее.
В конце концов я хватаюсь за соломинку — апеллирую к подпольному фольклору 30-х годов: «Ах, огурчики-помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике». Из песни вроде бы слова не выкинешь. Но и соломинку не желают оставлять мне мои уважаемые собеседники, уверяя, что пели-то частушку совсем не так. Насчет огурчиков-помидорчиков сходится, дальше же вовсе не Сталин, а «кто-то Кирова убил в коридорчике». Скрупулезное, по всему видать, идет расследование…
Однако стоит ли забегать вперед? Расследование ведь еще не закончено. Наберемся терпения. Ждали больше полувека, так что месяц-другой не срок. Но я до неприличия проявляю настырность. Так что разговор все-таки происходит. Впрочем, он ровным счетом ни к чему моих собеседников не обязывает. Ни старшего прокурора Прокуратуры СССР Ю. И. Седова, ни старшего прокурора Главной военной прокуратуры Н. В. Кулиша, ни помощника начальника следственного отдела КГБ СССР А. Я. Валетова. И хотя лица они официальные и встреча происходит в кабинете КПК, беседу нашу к делу, как говорится, не подошьешь. Ведь никаких выводов официально пока не сделано, никаких документов не показано. Даже диктофон мой не включен. Так что каждый волен вполне отказаться от своих слов. Ведь мы как бы просто-напросто побалагурили о том о сем. Не более того. Однако выхожу я из здания КПК с тяжелым чувством. И хотя «расследование не закончено», я хорошо теперь понимаю тревогу Ольги Григорьевны Шатуновской. Были у нее, похоже, на то все основания.
Долгие годы Ольга Григорьевна жила надеждой, что наступит срок и тайное станет явным. Архивы сохранят правду, которая добывалась ею с таким трудом. Все это время, однако, ее не оставляло беспокойство. Догадывалась: тайком идет работа по сокрытию правды — переписываются заново акты экспертиз, свидетельские показания. К ней приезжали бывшие ее свидетели и рассказывали, как их заставляют давать новые, ложные показания. Но она вынуждена была молчать. Кому пожалуешься, если в сокрытии правды заинтересован самый что ни на есть верх?
Как только Ольга Григорьевна поверила в перестройку, она написала в ЦК — высказала свою тревогу по поводу сохранности материалов о расследовании гибели С. М. Кирова. В конце концов, ее посетил работник КПК Н. Катков в сопровождении двух прокуроров. Прокуроры — Седов и Кулиш, — как помнит она, молчали. Катков же укорял: «Все, что вы писали, не имеет основания. Упомянутых вами фактов не существовало». Вот так, ни больше ни меньше — «не существовало». Следовательно, она фантазирует, отрывая своими бреднями занятых людей от работы…
После этого визита у нее не оставалось сомнений: очень важные документы расследования исчезли или подменены.[24]
Первая страшная ложь по этому делу, как известно, родилась в 1934 году — убийство Кирова убийцы приписали несуществующему «троцкистско-зиновьевскому центру». И вот, стало быть, «новая версия», а точнее — фальсификация, сотворенная уже в наши дни?
«Новая версия» не задержалась в архиве — выпорхнула на страницы многих изданий. Особенно активно популяризировала ее А. Кириллина, старший научный сотрудник Института истории партии при Ленинградском обкоме КПСС.
Стрелял в Кирова Николаев. Но действовал ли он в одиночку или выполнял чью-то волю? — задавалась она вопросом на страницах, например, «Сельской жизни». И делала вывод: «До сих пор на этот вопрос точного ответа нет». Кириллина перечисляет все версии убийства: 1) террористический акт оппозиции; 2) операция «Консул», то есть убийцы — Троцкий и работники иностранных посольств; 3) политическая интрига Сталина; 4) личная месть Николаева. Свалить все на оппозицию или на Троцкого (1-я и 2-я версии) сегодня уже невозможно. Но еще ведь остаются две версии. «К сожалению, — пишет Кириллина, — ленинградские чекисты не успели достаточно проработать тогда версию убийцы-одиночки». Именно ее она нам и навязывает. Что же касается причастности Сталина, то оказывается: «Комиссия Политбюро, созданная после XX съезда партии для расследования обстоятельств убийства Кирова, не обнаружила весомых доказательств этой версии». И дальше: мы «не станем уже в наше время творить новую неправду».
Золотые слова! С избытком хватит на наш грешный век сотворенной неправды. Но вот ведь штука — Кириллина вроде бы ссылается на выводы той комиссии, в которой О. Г. Шатуновская была главным действующим лицом. А сделала эта комиссия выводы прямо противоположные: главный виновник смерти Кирова — Сталин. Конечно, нет ни его отпечатков пальцев на пистолете убийцы, ни копии приказа — «убить тогда-то, а об исполнении доложить». Зато косвенных доказательств вроде бы предостаточно.
Так, может, добыты новые документы, перечеркнувшие работу первой комиссии? В принципе такое возможно. Первая комиссия работала на большой эмоциональной волне — сразу же после XX съезда. В этих условиях обвинительный уклон против Сталина исключить нельзя. Выходит, после Шатуновской новые люди расследовали это дело? Ну так и доверим профессионалам сравнение и критический анализ документов. Третьей комиссии, стало быть, и карты в руки. Только вот Шатуновская уверяет, что главные документы, добытые ею, пропали, и сравнивать, значит, нечего…
— Бредит старушка, — раздраженно говорят мне в КПК, — все документы целехоньки.
Но уже потом, при встрече с тремя следователями, выясняется, что «и не было никаких таких документов».
— Так что же, память подвела Ольгу Григорьевну?
— Может, и память. Все-таки возраст. Но скорее всего старушку просто используют.
— Кто же?
— Да детки репрессированных мутят воду.
Сознаюсь, что я тоже «такая детка». А насчет того, кто мутит воду, пока повременим.
Здесь надо, пожалуй, представить «последнего свидетеля». Ольга Григорьевна Шатуновская — член партии с дореволюционным стажем, в 1937 году разделила участь миллионов — многие годы провела в лагерях на Колыме. В отличие от своих товарищей по судьбе она после XX съезда вернулась на ответственную работу. Н. С. Хрущев, хорошо знавший ее, предложил Ольге Григорьевне пост в Комитете партийного контроля при ЦК КПСС.
Когда на XX съезде партии Хрущев сказал, что надо бы заново расследовать убийство Кирова, первым вызвался сделать это Молотов. Вскоре он представил в Президиум ЦК записку, подтверждая в ней сталинскую версию убийства.
«Шверник показал мне молотовскую записку. „Какой негодяй! — подумала я. — Он же ничего не расследовал“, — вспоминает Ольга Григорьевна. — Тогда я написала контрзаписку. Хрущев пригласил меня и предложил заняться этим делом». Была создана комиссия Президиума ЦК, куда она и вошла. Позднее Хрущев напишет в своих воспоминаниях: «Я считал необходимым включить в эту комиссию Шатуновскую, которую знал как неподкупного и верного члена партии».
Два года она вела расследование. Два года ей непрерывно мешали.
Семь или восемь раз за это время Суслов ставил на секретариате вопрос об увольнении Шатуновской. Кто-то регулярно ломал почтовый ящик ее квартиры — «досматривал» корреспонденцию. Она замечала, что кто-то тайком навещал квартиру — рылся в книгах, письменном столе. Однажды пропали зашифрованные записки, которые она хранила в старой сумке. Как-то два ответственных работника ЦК, ее друзья, предупредили, не сговариваясь: ваш служебный телефон прослушивается, а всех, кто к вам приходит в КПК, берут на заметку.
Но она продолжала свое дело — опросила более тысячи человек, накопив 64 тома документов. Помогал ей Кузнецов, помощник Шверника. Вывод комиссии не оставлял сомнений: Киров убит по указанию Сталина. На основании проведенного комиссией расследования Президиум ЦК принял тогда постановление о пересмотре всех судебных процессов 30-х годов: Зиновьева-Каменева, Пятакова-Сокольникова, Тухачевского, Бухарина… Но Хрущев остановился на полдороге, ему не хватило решимости идти дальше. Все добытые с таким трудом документы опустились на дно архивов. Как опускались туда и другие расследуемые ею дела. «Все мафиозные дела, которые мы расследовали — в Грузии, в Ростове, в Азербайджане, в Сочи — все это Суслов и компания (Игнатов, Шелест, Кириленко) хоронили, — замечает она и добавляет с горечью: — Все это стоило мне нервов не меньше, чем годы тюрем и лагерей».
В конце концов, она написала письмо Хрущеву, что не может больше работать. Благо повод был: зрение ее сильно сдало. Шатуновскую отправили на пенсию, а через два года соратники Хрущева, тайно сговорившись, свергли его. Плата за непоследовательность — показательный урок для политиков…
Шатуновская понимала, что люди, пришедшие ей на смену в КПК, постараются до предела замутить истину. Но она не могла и предположить, что документы могут просто исчезнуть.
Но может, их и не было вовсе, как предполагают мои многоуважаемые следователи-собеседники? Может, бредит старушка?
Тогда как быть с докладной запиской в Политбюро, подписанной Шверником и Шатуновской? Записка эта сохранилась, что подтвердил мне ответственный работник ЦК КПСС В. Наумов. А в ней перечислены все основные документы расследования. Те самые, которых теперь в деле нет.
Предположить, что Шатуновская, готовя информацию для членов Политбюро, включила в записку несуществующее, по-моему, немыслимо.
Я не знаю, когда ей пришлось горше всего. В колымских ли лагерях? В КПК ли в окружении сталинистов? На пенсии, когда она узнавала, как гибнут добытые ею документы? Или сегодня, когда на самом закате жизни никто не хочет ее услышать? Ей поведали тайну сотни людей. Ее память хранит в неприкосновенности их исповеди. Было бы только желание узнать правду. Увы, она не встречает такого желания.
Первый вопрос, который возник бы перед любой комиссией, расследующей это дело: каковы были взаимоотношения Сталина с Кировым? Иначе: опасался ли Сталин Кирова, а Киров Сталина?
Вот какой ответ получила комиссия Политбюро, в которой работала О. Г. Шатуновская, в 1960 году. Сестра жены Кирова Софья Львовна Маркус, например, показала, что во время XVII партсъезда состоялось тайное совещание старых большевиков (Косиор, Эйхе, Шеболдаев, Шарангович и др.), на котором было решено заменить Сталина на посту генсека Кировым. Правда, Киров наотрез отказался. Сталину каким-то образом обо всем этом стало известно — он вызвал Кирова к себе. Сергей Миронович ничего не стал отрицать. Более того, заявил Сталину прямо, что тот своими действиями вызвал недовольство ветеранов партии. Как помнила Софья Львовна, Киров вернулся из Москвы подавленный. Он говорил, что теперь его голова на плахе.
Примерно это же показали Елена Смородина (жена репрессированного комсомольского вожака Ленинграда Петра Смородина), а также Алексей Севастьянов, старый друг Кирова. Летом 34-го года, отдыхая в Сестрорецке, Киров делился с ним своими невеселыми мыслями: «Сталин теперь меня в живых не оставит». Семья с тех пор стала жить в постоянном страхе.
Но может, давным-давно добыты новые документы, перечеркнувшие свидетельства и Маркус, и Смородиной, и Севастьянова?
Только, похоже, перечеркивать ничего уже и не требуется — нет в деле этих свидетельств. По крайней мере, следователи в КПК никак их не припомнят. Что же касается своего мнения, то оно у следователей есть: не мог никак Сталин опасаться Кирова. Не та, дескать, была фигура. Да и вообще они были друзьями.
— А как же совещание старых большевиков?
— Да не было никакого совещания! Судя по атмосфере XVII съезда, никому такое просто в голову не могло прийти.
— Ну, а фальсификация итогов голосования на съезде?
— А кто вам сказал, что была фальсификация?
— Но Шатуновская утверждает, что лично установила отсутствие 289 бюллетеней.
— Ну, во-первых, не 289, а 166. А потом факт отсутствия вовсе не тождествен факту уничтожения. Вот, например, в нашем Верховном Совете сколько депутатов то и дело не голосует? Мы же не считаем их голоса «против». Да и вообще, пропасть могли бюллетени, затеряться.
Такая у нас проходит беседа…
Тщетно пробую разгадать загадку, которая по силам разве что Шерлоку Холмсу: как цифра 289 превратилась в 166. Тщетно пытаюсь понять, кому и для чего требуется сегодня черное по-прежнему считать белым…
«После того, как мы вместе с Кузнецовым и работником партархива Лавровым составили акт о передаче[25]289 бюллетеней, нам предстояло выяснить причину их исчезновения, — вспоминает О. Г. Шатуновская. — Мы знали к тому времени, что из 63 членов счетной комиссии съезда 60 были расстреляны, а уцелевшие репрессированы. На наше счастье, в живых остался Верховых. Он был не просто членом комиссии. Он фактически замещал председателя Затонского, так что, должно быть, знал тайну. Мы вызвали Верховых в КПК и поначалу решили не говорить ему об обнаруженной недостаче. Просто задали вопрос: что происходило при голосовании на выборах ЦК? Мы были поражены его ответом — Верховых сразу же точно назвал число: 292 голоса было подано против Сталина, три отражено в протоколе, остальные — 289 — уничтожены. Затем он написал нам, как все происходило. Когда обнаружилось, что против Сталина проголосовало 292 человека из 1059, Затонский отправился к Кагановичу. Тот повел его к Сталину. Сталин спросил: „А сколько получил „против“ товарищ Киров?“ Затонский ответил „Четыре“. Сталин приказал: „Оставьте мне три, остальное уничтожьте“». Это и было сделано.
Ладно, бог с ней, с точной цифрой. В конце концов, не столь уж принципиально — 289 или 166. Главное, что против Сталина голосовала значительная часть делегатов и их бюллетени по приказу генсека были уничтожены. Именно об этом рассказывал очень важный свидетель — Верховых. Так что же, и его свидетельство пропало?
— Есть оно, сохранилось, — успокаивают меня мои собеседники. — Читайте в 7-м номере журнала «Известия ЦК КПСС» за прошлый год.
Читаю и не верю своим глазам. Свидетель тот же, да свидетельство не то. Как-то вмиг ослабела у свидетеля память, и фраза «точно теперь не помню» повторяется много раз. Ни слова о визите Затонского к Кагановичу и Сталину.
Но все-таки, все-таки даже в этой публикации, на мой взгляд, достаточно доказательств уничтожения «плохих» бюллетеней. По крайней мере двое из трех членов счетной комиссии это косвенно подтверждают.
Верховых: «В итоге голосования… наибольшее количество голосов „против“ имели Сталин, Молотов, Каганович, каждый имел более 100 голосов „против“». Викснин: «Сколько против Сталина было подано голосов — не помню, но отчетливо припоминаю, что он получил меньше всех голосов „за“».
Правда, третий свидетель, Андреасян, припоминает: кажется, три голоса «против» — то есть те, что указывались в протоколе.
Шатуновская рассказывала, как Андреасян приходил к ней с мемуарами незадолго до смерти и каялся, что не устоял — изменил под напором новых уже работников КПК свои показания. Это, однако, сегодня не доказать.
Итак, глухая, непробиваемая выстраивается защита: никакого совещания старых большевиков не было и в помине, и никто Сталина Кировым заменить не намеревался. Ну, а на XVII партсъезде все лишь дружно славили Сталина и никто (или почти никто) его при голосовании не вычеркивал. Следовательно? Следовательно, не мог Сталин иметь зуб на Кирова, мотив «устранения», стало быть, начисто отсутствовал.
Однако есть у меня в запасе неотразимый, как сдается мне, вопрос:
— Мог ли Николаев убить Кирова без чекистов? Отрицать содействие в этом деле чекистов вроде бы абсолютно немыслимо. Ну, а кто же им мог приказать, кроме Лучшего Друга чекистов?
Однако смутить моих собеседников невозможно. «Мог Николаев это сделать в одиночку, — утверждают они. — И чекисты здесь ни при чем».
— Но ведь убийцу задерживала охрана за полтора месяца до убийства. И хотя в руках у него был портфель с пистолетом, вышестоящее начальство приказало его отпустить.
— А откуда мы знаем, что чекисты заглядывали в портфель? — невозмутимы мои собеседники. — Не исключено, что они не видели пистолета — прохлопали, прозевали. — Ладно, вообразим лопухов-чекистов. Но смерть Борисова, телохранителя Кирова, по дороге на допрос к Сталину? Важный был свидетель, много мог бы порассказать. В том числе и про портфель с пистолетом… — Смерть Борисова — просто случайность. Машина попала в аварию. Покрышка подвела. Нельзя было выезжать на такой машине…
Так мы благополучно возвращаемся к версии 1934 года — про неисправность машины; про аварию и глухую стену, о которую расшибся Борисов… Но Шатуновская ведь представила показания шофера грузовика Кузина, который чудом уцелел в сталинских лагерях: «Сидевший рядом сотрудник НКВД вдруг выхватил у меня руль и направил машину на глухую стену. Но я успел выхватить руль, так что пострадала только фара… Борисова убивали камнем по голове».
— Кузину веры мало, — убеждают меня оппоненты. — Он в 34-м году говорил одно, а в 37-м — другое…
Ладно, мало ему веры.
А предсмертное письмо хирурга Мамушина своему другу Ратнеру? Ратнер сохранил письмо, а в нем — раскаяние. Кается хирург, что, участвуя во вскрытии тела Борисова, дал в свое время те показания, которые от него требовались. «Характер раны не оставил сомнения, — пишет он в 1962 году, — смерть наступила от удара по голове…»
Наконец, допрос Сталиным Николаева. Николаев сразу же заявил, что его четыре месяца склоняли к покушению энкавэдисты. За это здесь же в кабинете он был зверски избит. Свидетели? Шатуновская их представила. О допросе рассказали старые большевики. Опарин и Дмитриев. Первый — со слов Пальгова, ленинградского прокурора, второй — со слов Чудова, секретаря обкома. И Пальгов, и Чудов присутствовали на допросе и понимали, что им теперь несдобровать («свидетели»). Пальгов, прежде чем пустить себе пулю в лоб, успел сообщить о допросе своему другу, Чудов перед арестом — своему.
Можно было бы еще долго перечислять свидетельства, добытые О. Г. Шатуновской. Да что толку? Мне ведь неизвестно, какие из них есть в деле, какие перечеркнуты новыми показаниями, а какие пропали, превратившись в «плод воображения старой женщины». Остается только балагурить с моими любезными собеседниками. Философствовать, так сказать…
— Так, значит, мог Николаев исключительно по своей инициативе убить Кирова? — в который уж раз спрашиваю я.
— Мог, мог! — уверенно отвечают мне. — Знаете, какой он был? Метр с кепкой, злой на весь мир. А тут еще его с работы погнали. Не погнали бы, может, и не было бы ничего…
***
Когда с приходом к власти Брежнева все верные сталинцы, воспрянув духом, стали снова втаскивать на пьедестал своего свергнутого кумира, легко представить, какая работа шла с наследством Шатуновской.
Ну, а сейчас-то мыслимо ли подобное вообразить? Зачем? Кому это нужно? После того, как о Сталине сказано, казалось бы, уже все? Да и в конце концов так ли важно знать: причастен или не причастен Сталин к убийству Кирова? Среди миллионов убиенных одной жертвой больше, одной меньше.
Впрочем, нет, не скажите. Убийство Кирова — все-таки особое преступление. И если доказано будет, что вдохновил и организовал его Сталин, тут уж даже таким, как отставной прокурор Шеховцев, придется признать: убийца, уголовник. Да еще кого убил?! Не какого-нибудь смутьяна-оппозиционера, а своего твердокаменного единоверца! Так что это важный редут.
А может, все не так и сталинисты здесь ни при чем? Может, правит бал исключительно политическая конъюнктура? Ведь признать сегодня, что «Сталин не виноват», — возбудить всеобщее недовольство демократов, признать, что «виноват», — разгневать их многочисленных противников. Так лучше не гневить ни тех, ни других. А как же быть с истиной? Ничего, подождет. Лучше все оставить на многоточии — «прямых доказательств нет…».
Их и впрямь — нет, прямых доказательств. Пока одни лишь мои подозрения и догадки. Расследование еще не закончено. И последнее слово все-таки не за моими собеседниками-следователями. Так что, может, зря бью тревогу?
Если в конце концов тревога окажется ложной, несмотря на свой конфуз, я буду этому только рад.
«Литературная газета», 1990, 27.06, № 26 (5300)
Из воспоминаний
Олег Волков
…В свободное время и хорошую погоду мы нередко прогуливались по тропке, бежавшей вдоль прибрежного угора над Енисеем, с Николаевым — потомственным петербургским пролетарием, вступившим в партию еще в 1903 году и испившим до дна чашу тридцать седьмого. Мне приходилось замедлять шаг, часто останавливаться, чтобы дать моему спутнику перевести дух. Здоровье Николая Павловича из рук вон плохо, но он не унывает — и это после десятки в самых страшных — колымских! — лагерях.
— Вот увидите, мы с вами еще выберемся отсюда — по невским набережным пройдемся, поедем в Мацесту лечиться. Нашли что сказать — для могилы место себе облюбовал! Я на добрый десяток лет вас старше, и то думаю дома побыть, родные места увидеть. Все выдержали — теперь как-нибудь дотянем. Быть того не может, чтобы гангстеры вроде Берии…
— Тише вы, неугомонный! — останавливаю его я.
— Эк вас вышколили! Что — рыбы нас в Енисее подслушают? Одни мы тут с вами.
Я считаю Николаева неосторожным, но не в его натуре молчать. Этот человек отдал жизнь тому, что считал правдой. Когда-то он самоотверженно оборонял Петроград от Юденича, в Гражданскую войну командовал частями Красной Армии, затем возглавлял крупные предприятия в родном Питере. Бессменный член, а потом и секретарь Ленинградского обкома, Николаев знал о многом, что творилось в годы, когда страна стала захлебываться в потоке казней, расправ и насилия. Непроизвольно нервничая и шаря глазами по пустынному берегу, Николай Павлович рассказывал про убийство Кирова, очевидцем которого ему пришлось быть в Смольном. И я помню, как верил и не верил в изощренное вероломство и лицемерие убийцы, оплакивавшего друга-соперника, убитого по его заданию.
— Меня больше года лупили следователи всех рангов. Догадывались, что я все знаю. Добивались признания, чтобы расстрелять: ведь Сталин следил, чтобы были уничтожены не только организаторы, исполнители и свидетели убийства, но и те, кто вел по нему следствие, потом и те, кто отправлял на расстрел первых палачей. Не знаю, как я уцелел… Думаю, не было ли все же в органах людей, пытавшихся кое-кого спасти?
Николаев говорил, что непременно напишет воспоминания. Вряд ли ему пришлось это сделать — смерть настигла его почти сразу после возвращения в Ленинград. А жаль — это была бы летопись честно прожитой жизни! Человек этот вряд ли когда запятнал себя поступком против совести, был верен своим представлениям о правде и справедливости. Николаев был членом профсоюза печатников со времени его основания в начале века, принадлежал к старой рабочей интеллигенции, и это сквозило в его обличии, речах и поведении: то был человек терпимый, внимательный к людям, скромный и благородный.
Цитируется по сборнику «Жизнь во тьме»
(«Антология выстаивания и преображения»). М., 2001
VII. Философский комментарий
Через эпохи безумия
Академик Бехтерев без колебания поставил диагноз: паранойя. Это легенда. Против нее выдвинут серьезный довод: академик не мог нарушить Гиппократову клятву и бросить в толпу слова, способные повредить больному. Однако бесспорно, что Бехтерев неожиданно умер — то ли отравился, то ли, скорее всего, отравили. Возможно, Сталин, обладавший чутьем на людей, угадал поставленный диагноз. И Бехтерев принимал участие в обследовании Ленина. Сталин знал, что он собирался на международный конгресс и, возможно, опасался, что Бехтеров мог сказать лишнее своим коллегам. Об этом говорила по телевидению его дочь, Наталья Петровна, 6 июля 2004 г.
Само возникновение легенды вокруг таких людей не случайно. Не случайно тяготение Сталина к личности Ивана Грозного. Не случайна реабилитация Цинь Шихуанди при Мао. И нельзя сбросить со счетов короткий вывод А. Н. Яковлева, долгие годы изучавшего Сталина: «негодяй, Люцифер, клинически неразгаданный тип» (Нузов В. Разговоры вполголоса. М. 2002, с. 200. Курсив мой. — Г. П.). Тут сразу все характеристики, о которых я писал, в том числе — грань безумия.
Достоверно мы знаем только одно: Бехтерев при невыясненных обстоятельствах умер, а Сталин продолжал собирать власть в своих руках. Вскоре он достиг такого могущества, что признан был величайшим гением всех времен и народов. Таким же величайшим гением стал Гитлер. Даже после позорного краха его затей, в 1946 г., большинство немцев считали его величайшим политическим деятелем Германии.
В XX веке Исаак Башевис-Зингер поправил Ломброзо, считавшего, «что гениальность — род безумия. Он забыл добавить, что безумие — род гениальности» (цитирую по статье В. Соловьева в «Еврейском слове», 2002, № 37). По итогам XX века можно говорить об особом роде безумия, за которым шли массы. Безумия, связанного с сатанизмом; и все ж безумия.
Безумцы, совершавшие великие исторические дела, выходили на авансцену истории еще до Р. Х. Можно говорить о параноидальности Цинь Шихуанди, неукротимо деятельного и болезненно подозрительного деспота, одержимого страхом и постоянно менявшего дворцы, где он жил (совсем как Сталин — комнаты на своей даче). Цинь Шихуанди объединил Китай, утвердил свод законов, заставил выстроить Великую стену. Государство, созданное им, имело только один недостаток: жить там было невыносимо. Никто не был застрахован от пыток и казни, применявшихся с невиданной широтой. Не было ни общих прав, ни личных привилегий; и никаких святынь, кроме блага государства (совпадавшего с волей государя). Сразу после смерти владыки вельможи не выдержали напряжения. Сын Цинь Шихуанди, Эр Шихуанди, был убит; новая династия, Хань, после некоторых колебаний, запретила доступ к государственным должностям сторонникам Фацзя (школы государственных законов, официальной философии Цинь). В 1965 году, когда я, поговорив о древнем Китае, назвал фамилию Сталина, никто не удивился: тень его все время всплывала в ассоциациях.
Однако в древности трон, по большей части, доставался ординарным принцам. Только в XX веке, после падения великих монархий, появился спрос на диктаторов, и навстречу массам, выбитым из колеи, рванулись одержимые и безумцы.
Судя по опыту Великой французской и великой русской революции, начинали одержимые, съеденные идеей, но клинически нормальные люди. С грехом пополам они уживались друг с другом и действовали целой плеядой. Во Франции развитие болезни на этом остановилось. Наполеон был человек трезвый и презирал идеологов. В XX веке дело пошло дальше. Из крупных диктаторов только Муссолини был банальным политическим авантюристом, без вкуса к массовым убийствам. Все остальные обнаруживают разные формы и стадии безумия: idеe fixe и паранойи. И все громоздят гекатомбы трупов.
При сравнительно ровном, спокойном течении истории господствуют привычки, обычаи, традиция, в чем-то хорошая, в чем-то дурная. Но когда привычный ход дел глубоко нарушен, наступает время принципов. Чем больше низы плюют на принципы, лишь бы выжить, тем больше сатанеют энтузиасты принципов, и в обществе идет зоологическая борьба принципов, обещающих спасение. В конце концов, если кризис сам себя не исчерпал, одна идея, подобно большой рыбе, пожирает прочие. И тогда она становится подобием бога ацтеков, требующим новых человеческих жертв во имя поставленной цели, а цель заново формулируется так, чтобы оправдать новые жертвы. И появляются служители этого культа.
Такова буйная форма безумия безумных времен. Но не все народы безумствуют одинаково. Классическая древность оставила нам в наследство две зловещие фигуры: в Китае — Цинь Шихуанди с его безграничной подозрительностью и безграничной жаждой истребления действительных и мнимых врагов; а в Риме — Нерон с его безграничной жаждой все более извращенных наслаждений. Одна из ловушек современности — спор демонического извращения власти с демоническим извращением свободы, так что нравственный распад свободного мира кажется спасением от Молоха государственного террора, а государственный террор кажется спасением от нравов Содома. Как иначе нашли бы сподвижников Пол Пот и Бен Ладен? Откуда бы взялся их пафос борьбы со скверной?
Два пути в пропасть ведут спор, который хуже. И нет ни одного народа с абсолютным иммунитетом. Англосаксы не поддавались безумию утопии (кончавшейся idеe fixe и паранойей) — но легко втянулись в соблазны Содома. Они готовы стереть с лица земли последних диктаторов-инезамечают, что нравы Запада вдохновляют шахидов и (что еще страшнее) тайные силы истории, беспощадные к гнездам разврата. А Россия мечется между двумя соблазнами.
Однако современниками Нерона были Петр и Павел. Слушало их ничтожное меньшинство. Но я вижу глаза сегодняшнего меньшинства, а не только глаза Сталина-Вия и усталой Клеопатры «Египетских ночей». Бури XX века вызвали огромное напряжение творческой веры. Не мог митрополит XIX века выступить с призывам укорениться в Боге и мыслить и чувствовать свободно, не цепляясь за решения соборов. Не дошел до этого кризис средневекового мировоззрения. Не мог бы Папа XIX века начать политику обновления (аджорнаменто); не мог бы другой папа покаяться в двух тысячелетиях грехов возглавляемой им Церкви. Не мог тибетский римпоче назвать Томаса Мертона природным буддой. Не мог Далай Лама комментировать Евангелие на сессии семинара христианской медитации им. Джона Мейна. Мысль о прозрачности границ между верами и вероисповеданиями мелькала и в прошлом, но только XX век начинает видеть в этом выход из нынешнего духовного тупика. Не стирая различий — они неотделимы от богатства ликов культуры, но перестав использовать различия как оправдание ненависти и недоверия друг к другу. Прозрачность словесных одежд откровения может стать основой мировой солидарности, без которой человечество обречено на гибель.
В румынской коммунистической тюрьме, где священников методически секли розгами, чтобы они отреклись от Бога, один из мучеников веры додумался — дострадался — до простых слов: «Мы поняли, что число наших конфессий можно было сократить до двух: первой из них стала бы ненависть, которая использует обряды и догмы, чтобы нападать на других. Другая — любовь, которая позволяет очень разным людям опознать их единство и братство перед Богом… Все чаще случалось, что атмосфера в камере была пронизана духом самопожертвования новой веры. В такие мгновения мы думали, что нас окружают ангелы» (Вурмбрандт Рихард. Христос спускается с нами в тюремный ад. В книге «Мученики веры» («Антология выстаивания и преображения»). М., 2002, с. 149–150).
Светлое безумие любви идет навстречу черному безумию похоти и ненависти, как пожар навстречу пожару. Так некогда проповедовалось откровение Христа — «для иудеев соблазн, для эллинов безумие». И чем больше бесновались Калигулы и Нероны, тем успешнее шла проповедь. Когда побеждал мещанский здравый смысл Веспасиана, оба пожара стихали. Но потом черное безумие вновь вспыхивало — и прокладывало дорогу светлому. Исторические эпохи безумия — это эпохи состязания сверхсознания с подсознанием, ангелов-хранителей человечества с демонами разрушения, светлых и темных выходов за рамки обыденного, признанного нормой в спокойные времена. Привычки, ставшие принципами, трещат и ломаются на крутых поворотах истории. Благополучие хрупко, ненадежно и толкает поскорее насладиться радостями Содома. Неблагополучие создает мятущееся панургово стадо, несущееся к пропасти вслед за своим безумным вождем. И спасение — только в поисках «Божьего следа», как это назвал Антоний Сурожский: «Действия Христовы рождаются изнутри глубинного созерцания, и только из глубин созерцания может родиться деятельность христианина. Иначе это будет деятельность, основанная на принципах: нравственных, богословских или любых принципах; но сколь бы ни были они истинны, прекрасны, справедливы, они не соответствуют божественной динамике, внезапной динамике небывалого, непостижимого, в чем именно характерно действие Божье. Мы, христиане, призваны жить на большей глубине, жить глубокой внутренней жизнью — но не в смысле обращенности на самих себя. Мы призваны уйти глубже этой обращенности, и самая эта глубина позволит нам вглядеться долго, спокойно, пламенно-чисто в канву истории, канву жизни и благодаря такому созерцанию, глубокому вглядыванию различить в ней след Божий, нить Ариадны, золотую нить, красную нить, которая укажет, куда Бог ведет нас среди окружающей нас сложной целостности жизни. И тут громадная разница между мудростью и человеческой опытностью. Опытность — результат прошлого, накопленный человеческий опыт; она обращена к пережитому, опыту более обширному, чем личный опыт, и делает выводы интеллектуально основательные, точные, глубокие. А мудрость поступает „безумно“. Мудрость состоит в том, чтобы погрузить свой взор в Бога, погрузить свой взор в жизнь в поисках того, что я только что назвал следом Божьим, и действовать безумно, нелогично, против всякого человеческого разума, как нас учит поступать Бог» (русский перевод Е. Л. Майданович в журнале «Континент», 1996, № 89).
Но как отличить Божий след от дьявольских подмен? Мефистофель убеждает Фауста, что он служит добру. И временами это выглядит убедительно. А новое зло рождается как пена на губах ангела, вступившего в бой за святое и правое дело. Шестнадцатилетняя девушка, взорвавшая себя, чтобы убить как можно больше израильтян, была уверена, что служит Богу. На поверхности бытия, где царят страсти, все идеи, доведенные до конца, ведут в пропасть. Только на глубине, в безмятежности сердца, просвечивает истина. Всякий грех, говорил Антоний, есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.
Соблазн таится в развитии общества. Общество становится все сложнее, развитие — все быстрее, и мишурный блеск открытий скрывает простое, неизменное, вечное, без которого жизнь теряет смысл. Состояние человеческого духа, описанное экзистенциалистами, — запутанность и заброшенность. Сегодня оно не стало лучше, только острота кризиса притупилась и слабее попытки вырваться из убаюкивающего комфорта — там, где этот комфорт достигнут (на сколько лет — Бог весть; взрывы живых бомб уже сегодня разрушают чувство комфорта).
Чудовищные образы, возникшие в сознании Даниила Андреева, не находят прямого соответствия в мире фактов. Но воображение создает только формы, только образы демонического. Каково оно на самом деле, мы не знаем, но силы света и силы мрака сражаются почти зримо, и картина Смутного времени XVII века, нарисованная поэтом XX века, поражает своей современностью.
XXI век грозит нам чередой острых положений, когда соблазн стремительного и ничем не ограниченного насилия может быть почти неудержимым. Вспомнят ли тогда груды трупов, оставленных после себя непреклонными вождями? Сумеют ли наши современники и наши потомки «удерживать деятелей от охватывающего их транса»? (Robert Bellah. Beyond belief. NY, 1970)
Глазами поэтов
«В интересах истины»… Так называлась статья, в которой впервые, после большого перерыва, заговорили о заслугах Сталина. Истина, к которой призывали авторы — три маститых историка, — была верностью фактам. Факту, что Сталин был Верховным Главнокомандующим. Что город, у развалин которого выиграна была решающая битва Второй мировой войны, назывался Сталинградом. Об этих фактах при Хрущеве велено было молчать — так же, как при Сталине молчали о Троцком, организаторе Красной армии в годы Гражданской войны.
После первой статьи вышли в свет сотни других статей и несколько десятков красиво изданных книг. Нагромождены горы печатных фактов о заслугах Сталина — и не меньшие горы фактов о сталинских преступлениях. Целый архипелаг фактов. Но что можно доказать фактами? Что значит факты, если мы не знаем, какому богу молиться, что считать добром и что — злом?
Оценка не выводится из фактов. Она выходит из сердца и уже в готовом виде накладывается на факты, подчиняя их себе, группируя их по-своему и соединяясь с ними в концепцию, в историческую теорию. Причем заранее надо примириться с тем, что все факты в одну концепцию не влезут. Каждая концепция вытаскивает на свет, освобождает от деформации одни факты — и отодвигает в тень другие. Корректный ученый упоминает и факты, говорящие против него, но оценивает их как незначительные, второстепенные, не решающие. Некорректный пропагандист просто умалчивает о том, что ему не выгодно, или нахально врет об интервенции войск ФРГ (которых в 1968 г. на границе Чехословакии не было).
Где-то я прочел (не помню названия статьи), что исторический Макбет был прогрессивный государь, боровшийся с феодалами. Может быть, он действительно боролся с феодалами. Мне совершенно все равно, с кем он боролся, мне важно, как он это делал и чем он сам в конце концов стал. Мне важно то, чем Макбет поразил Шекспира. Я смотрю на Макбета глазами Шекспира и другими глазами смотреть не хочу.
Я смотрю на Юстиниана сквозь «Тайную историю» Прокопия. Тот же Прокопий написал официальную историю, в которой превозносит Юстиниана до небес. Я не доверяю официальным историкам. Вы, в свою очередь, можете не доверять самиздату VI века, находить его тенденциозным, завистливым, низким. В поисках арбитра мы обращаемся к фактам. Но что нам могут дать факты?
Мы узнаем, что в царствование Юстиниана войска под командой Велизария отвоевали у варваров часть Италии и северной Африки. Это факт. Но что он означает, что он дал Византии? Не было ли следствием завоеваний перенапряжение всех сил государства и, в конце концов, — неспособность защищать свои старые провинции? Не было ли безумием пытаться расширить до каких-то древних, легендарных рубежей границы империи в век, когда империи разваливались и требовалась скорее консолидация национальной жизни в ограниченных пространственных рамках?
Известна также неуклонная твердость Юстиниана в борьбе за единство ромеев, его ревность к чистоте православия, его решительность в подавлении ересей. Но действительно ли окрепло от этого внутреннее единство Византии? Не было ли оно, напротив, расшатано — особенно в провинциях, где еретики составляли большинство населения? И нужно ли вообще подавлять ереси? Не погибает ли вместе с дыханием ереси живая жизнь догматов? Не возникает ли догмат — целостный образ истины, рожденный в бесстрастии духа, — как ответ на страстный вопрос ереси? Не прекращается ли развитие догматов, если власть грубо оборвала рост ересей? Не превращается ли тогда догмат в мертвую догму, в речи друзей Иова? Нет ли ереси в самом стремлении греческого духа поставить систему догматов выше вопросов Иова? Открытых вопросов, невыносимость которых догматы уравновешивают, но никогда не могут уравновесить до конца, никогда не могут превзойти?..
Обо всем этом можно спорить. И если оценка личности Юстиниана занимает нас гораздо меньше, чем оценка личности Сталина, то просто потому, что Юстиниан, и Феодора, и ослепленный Велизарий, просивший милостыню на паперти храма, давно истлели.
В спор о Сталине включались массы. Они недовольны повышением цен, нехваткой самой простой еды — и наклеивали на ветровые стекла автомобилей портреты Сталина. Они раскупали календарики со Сталиным во всех видах (в мундире и без мундира, с девочками и без девочек). Эти календарики продавали во всех поездах, вместе с порнографией, артели немых. Потом массы разочаровались в Сталине, потом снова очаровались.
Массы думают просто. Это их сила. Массы не думают полупонятными словами: «диалектика», «перцепция», «экзистенция». Деревенская масса почти сплошь думает словами, за которыми встают простые предметы, простые явления: корова, земля, сено, вёдро, ненастье. От этого на лицах крестьян — близость к правде. Я присматривался в электричке. По-моему, бросается в глаза. Городская масса хуже. Она соединяет недостатки крестьян и интеллигентов, без их достоинств. Городская работа требует как-то ворочать абстракциями. Даже грубая городская работа несколько абстрактна. Это долго объяснять, но это так. Вся жизнь в городе заставляет гоняться за абстрактными ценностями, и все это тоже отражается на лицах. Т. е. сперва на душах, а потом на лицах. Только очень глубокая образованность перевешивает фальшь, связанную с цивилизацией. Но перевешивает — не раз навсегда, а от случая к случаю. Достоинства интеллигенции лучше выразить отрицательно: не правда, а борьба с фальшью.
Интеллигент со школьных лет вынужден отвечать урок полупонятными словами. Сперва учителю, потом самому себе. Избежать этого очень трудно. Я часто вижу себя в положении мальчика из сказки Андерсена и напрягаю все силы, чтобы оправдать свое чувство голого короля и не говорить о сверкающей мантии. Чтобы не сказать и не написать ни одного непережитого слова. Чем выше взлеты, подхватившие вас, тем легче сорваться. От Исайи — до Азефа. От Христа — до Иуды. Сорвался любимый ученик — и заснул. Сорвался Петр — и отрекся. Иуда — только крайний случай. Это мысль Розанова, но я пережил ее, и она стала моей. Я вижу на многих лицах интеллигентов фальшь. Невольную, мучительную фальшь (это наш крест); а иногда злостную фальшь, т. е. тщеславие умением повторять умные слова и связывать их так, как следует, по всем правилам — кроме одного: не говорить того, что сам не пережил. И пережил тем слоем души, каким подобает.
Есть ложь верчения ума в шелухе, окружающей луковицу, и есть ложь срывания одного слоя луковицы за другим, до нуля, с богатырским усердием Льва Николаевича Толстого. И между двумя торными дорогами лжи тоненькая тропинка истины, поминутно теряющаяся в болоте. Как не сбиться с нее? Как не броситься к пастухам и пастушкам, к мужику Марею, к сегодняшнему (пусть колхозному) мужику? Они так просто, так безыскусно любят то, что любят! Да, но любят они опять — Сталина. Не все, конечно. Но подавляющее большинство…
К сожалению, пастухи и пастушки верно судят только о том, что можно увидеть, пощупать, лизнуть. И проблему Сталина они пробуют на вкус. При Сталине был порядок. При Сталине цены на водку снижали, а сейчас повышают.
Это чистая правда — и совершенная ложь. Да, снижали цены — потому что крестьянам платили «палочками» (неотоваренными трудоднями). Потому что Иван Денисович привык на своем участке работать с радостью и до смерти не сумел от этого отвыкнуть. А дети его — отвыкли. И не просто отвыкли. Рухнул какой-то духовный стержень: пьянство вышло из берегов. Рухнула любовь к земле, к скотине, воля к труду. Петр Григорьевич Григоренко рассказывал мне, что у него в психушке три раза отбирали начатые воспоминания. И теперь ему никак не взяться за перо. Что-то такое сделали с крестьянами. Слишком много раз отбирали коров, урезали приусадебные участки. И теперь на все плевать.
Мы с миленочком гуляли От утра и до утра. А картошку убирали Из Москвы инженера.С этим теперь ничего не поделаешь. Ни мерами кротости (больше платят — больше пьют). Ни мерами строгости («Всю Фонтанку не пересажаешь»). Воз, перевернувшись вверх колесами, медленно сползает в клоаку. Положение устойчивое, стабильное (не то что на Западе). Но какое-то глухо тревожное. И народная любовь к Сталину, в самой своей сути, — наивное выражение неохоты ползти в клоаку.
Глас народа — глас Божий («при Сталине был порядок»). Но кто послал миллионы людей в лагеря? Кто превратил народное сознание в сознание вора и бездельника? В 1928 году этого еще не было.[26] Роковой удар был нанесен в 1929 году по приказу Сталина. По его же приказу удары повторялись еще несколько лет. И по его приказу уничтожены были лидеры партии, пытавшиеся в 1934 году изменить курс. Начиная с убийства Кирова и Орджоникидзе, кончая процессом Бухарина. Но этого всего пастухи и пастушки не понимают. Это в их простые головы не лезет. Их любовь к Сталину — как
…та старица простая, Не позабытая с тех пор, Что принесла, крестясь и воздыхая, Вязанку дров, как лепту, на костер… (Тютчев. Гус на костре. 1870)Sancta simplicitas. Святая простота. Но есть и другая латынь: Vox populi — vox asini. Глас народа — рев осла. Святым — слова Яна Гуса. А нам, грешным, — выбор между мужеством сопротивления и цинизмом коллаборациониста. Мужеством одиночки (против власти и народа) и цинизмом блудливого образованца. Который всегда с народом, за народ, вместе с народом. Ибо власть и народ едины. В любви к Сталину этот сомнительный тезис бесспорно оправдывается фактами.
Отравлен хлеб и воздух выпит, Как трудно раны врачевать! Иосиф, проданный в Египет, Не мог сильнее тосковать… (Мандельштам. Отравлен хлеб… 1913)Я не вижу никакого общего выхода из Египта. Никакого народного выхода. Все народы любят своих драконов и сражаются с чужими драконами. Немцы сражались со Сталиным, русские — с Гитлером. Придет ли времечко, когда исчезнет любовь к своим собственным драконам? К своей собственной военной славе?
Может быть, придет. Но начинать — только так, как начинала Марина Цветаева:
Отказываюсь — быть. В Бедламе нелюдей. Отказываюсь — жить. С волками площадей Отказываюсь — выть. («Стихи к Чехии». Март 1939)На этом камне стоит моя церковь. Церковь изгоев. А остальные, липнущие к массе, — пусть они попробуют решать уравнение с тьмой неизвестных.
При Сталине было разорено столько-то миллионов крестьян и выстроено столько-то МТС. Погублен цвет интеллигенции — и выучена армия специалистов. Уничтожен гитлеровский Майданек — и создана советская Колыма. Столько-то тонн чугуна. Столько-то расстрелянных. Столько-то новых школ. Столько-то людей, потерявших совесть. Как все это привести к одному знаменателю?
Сталин победил Гитлера. Но без Сталина Гитлер, может быть, вовсе не пришел бы к власти. Без сталинской коллективизации, ужаснувшей Европу. Без сталинской травли социал-демократов, расколовшей антифашистский фронт.
Впрочем, где бы была тогда наша боевая слава? И кто бы тогда поставил русские гарнизоны в Берлине, Варшаве, Будапеште, Праге, от которых теперь осталась только ненависть к России…
Человек, прошедший через горнило военно-патриотического воспитания, должен быть сталинистом, обязан им стать — если он мужчина, а не слюнявый интеллигентик. Догматический марксизм здесь поразительно сходится с традиционным языческим представлением о славе Отечества. Победителей не судят. И если слава России — в ее армии, в Русской империи, в русской страже на Эльбе, то преступления Сталина — мелочь, которую должно сбросить со стола, и пора, наконец, сделать это. Принято говорить, что факты — упрямая вещь. Но оценка фактов — вещь чрезвычайно податливая. Бесспорно, что Сталин растерялся в первые дни Отечественной войны. Бесспорно, что он истребил опытных военачальников. Но зато он создал авторитарный режим, который выдержал все удары врага без единой попытки бунта, государственного переворота, даже оппозиции. А твердая единоличная власть — одно из условий победы. Бесспорно, Сталин — гений политической интриги — не был военным талантом. Многие его приказы оказались явно ошибочными. Но также бесспорно, что армия, подчиняясь этим приказам, в конце концов победила. Победителей не судят. Война кончилась взятием Берлина. И Сталин стал символом победы. С его именем сражались и умирали солдаты. Мне пришлось пару раз вести в атаку взвод или роту, и я сам кричал (как все лейтенанты и сержанты это кричали):
Вперед…вашу мать! За Родину…вашу мать!
Огонь…вашу мать! За Сталина…вашу мать!
«За Сталина» вошло в русское народное сознание почти так же крепко, как «…вашу мать!». И вышибить «За Сталина» из сознания почти так же трудно, как мат. Без которого простой человек двух слов не свяжет.
Интеллигенты могут брюзжать, что победа — не всегда благо, и поражение не всегда зло; что Япония выиграла от своего поражения и даже Германия — в выигрыше от катастрофы 1945 года. А Россия до сих пор не в силах подняться под страшным грузом своей победы. Под грузом имперского сознания, въевшегося в кровь.
Однако миллионы людей, гордых русской военной славой, думают иначе. Иван Грозный для них великий государь: он присоединил царства Казанское, Астраханское и Сибирское. И Сталин для них великий государь. Они никогда не согласятся с тем, что России было бы лучше без царств Казанского, Астраханского, Сибирского, Калининградского — и без опричнины.
Спор этот вечный. Но со временем все, что из плоти, развалится, истлеет, перестанет волновать — и хорошее, и худое. О всесильном временщике, управлявшем половиной тогдашнего мира, мы вовсе ничего не помнили бы, если бы не рассказал о нем Иоанн Златоуст:
«Где ты теперь, светлая одежда консула? Где блеск светильников? Где рукоплескания, хороводы, пиры и празднества? Где венки и уборы? Где вы, шумные встречи в городе, приветствия на ипподроме и льстивые речи зрителей? Все минуло… Тень была и убежала. Дым был и развеялся. Брызги были и исчезли. Паутина была и порвалась. Поэтому мы без конца и неустанно повторяем: „Суета сует и всяческая суета…“» (Из «Гамилии на Евтропия»)
Что мы помним о гвельфах и гибеллинах? То, что о них написал Данте. Что для нас Николай I? Государь, разбивший турок и персов, а потом сам разбитый под Севастополем? Или примечания к стихам Пушкина и Лермонтова? А. А. Ахматова писала, что понятие «николаевское время» постепенно исчезло и уступило место «пушкинскому времени» и царь стал второстепенным персонажем в нашей картине прошлого, сгруппированного вокруг подлинного царя русской культуры — Пушкина. Она писала об этом после марта 1963 года, когда газеты сообщили о десятилетии со дня смерти композитора Прокофьева и ничего не сообщили о десятилетии со дня смерти Сталина (того же 5 марта). Она писала об этом, думая о себе, о своем друге О. Э. Мандельштаме — и об Иосифе Сталине. Когда-нибудь о Сталине будут узнавать из примечаний к стихам поэтов, живших в его время. К ее стихам:
Я приснюсь тебе черной овцою На нетвердых, сухих ногах, Подойду, заблею, завою: «Сладко ль ужинал, падишах? Ты вселенную держишь, как бусу, Светлой волей Аллаха храним. Мой сынок пришелся ль по вкусу И тебе, и слугам твоим?»Это стихотворение было напечатано с классическим подзаголовком: «Подражание армянскому». Другое стихотворение, без Аллаха и падишаха, Анна Андреевна не записывала и брала с друзей клятву — не доверять бумаге, помнить наизусть:
Стрелецкая луна. Замоскворечье. Ночь. Как длинный крестный ход, идут часы, недели. Мне снится страшный сон… Неужто в самом деле Никто, никто, никто не хочет мне помочь? «В Кремле не можно жить». Преображенец прав. Там древней ярости еще кишат микробы: Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы И Самозванца спесь взамен народных прав.С такой оценкой Сталин, надо полагать, и войдет на страницы учебников будущего — достойное звено в цепи, предсказанной М. Волошиным:
И еще не весь развернут свиток И не замкнут список палачей… («Северовосток»)Однако в Сталине было нечто, не ложащееся в высокий слог — даже в слог, приличный злодею, но злодею высокой трагедии. В нем было что-то пошло уголовное, воровское. Сталин отчасти просто вор, укравший власть у трагических злодеев вроде Троцкого, слишком увлекшихся риторикой революции и забывших о Смердяковых, которые ждали своего часа. Эту уголовную, смердяковскую стихию Сталина и его приспешников почувствовал О. Мандельштам. Настолько почувствовал, что не мог более писать о времени высоким слогом, сошел с любимых эллинских котурнов и обратился к фене (воровскому жаргону):
Греки сбондили Елену по волнам, Ну а мне — соленой пеной по губам…Его стихи стали дергающимися, скрюченными, как люди, сдавленные страхом в своих квартирах с тонкими, как бумага, стенками. И как плевок — звучит эпиграмма, за которую он заплатил жизнью:
Мы живем, под собою не чуя страны. Наши речи за десять шагов не слышны. А где выйдет на пол-разговорца, Там помянут кремлевского горца. Его толстые пальцы как черви жирны, А слова — что пудовые гири верны. Тараканьи шевелит усища, И сияют его голенища. А кругом его сонм тонкошеих вождей. Он играет услугами полулюдей: Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет — Он один лишь бабачит и кычет. Как подкову кует за указом указ: Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что ни казнь для него, то малина…Сами по себе эти стихи слишком прямолинейны, чтобы быть прекрасными. В них нет обычных мандельштамовских темнот, сквозь которые светится что-то самое главное, невысказанное — внутреннее, «забытое слово»… Чувствуется, что человек писал — как в окно бросался, ослепнув от страха и неотвратимой воли сказать — сказать то, чего никто, кроме него, не скажет, потому что все оцепенели, а он, до безумия охваченный страхом, — поэт, и поэтому должен сказать, хотя бы назавтра плаха…
Как землю где-нибудь небесный камень будит, Упал опальный стих, не знающий отца. Неумолимое. Находка для творца. Не может быть иным. Никто его не судит.Размеры моей работы не позволяют цитировать прозаиков. Ограничусь несколькими строками из рассказа одного писателя — Владимира Набокова. Гению всех времен и народов он посвятил рассказ «Истребление тиранов»:
«Я никогда не только не болел политикой, но едва ли когда-либо прочел хоть одну передовую статью, хоть один отчет партийного заседания. Социологические задачки никогда не занимали меня, и я до сих пор не могу вообразить себя участвующим в каком-нибудь заговоре… Я знаю, кроме того, что моей родине, ныне им порабощенной, предстоит в дальнейшем будущем множество других потрясений, не зависящих от каких-либо действий сегодняшнего правителя. И все-таки: убить его…
Напрасно меня бы стали уверять, что он вроде как ни при чем… Идея подбирает только топорище, человек волен топор доделать — и применить…
Добро еще, если бы он нас питал той жалкой истиной, которую некогда вычитал у каких-то площадных софистов: он питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на обломках и обмолвках ее».
Все это писалось в 1936 году в Германии. И, конечно, не только про Сталина: есть и «плешивость кесаря», и другое. Но сталинское преобладает: «Зубы были плохие, и случалось, обманывая кратким охлаждением огненную боль открытого нерва, он втягивал поминутно воздух». Это чисто сталинская черта: он был трус и боялся кресла зубного врача. Или жировая складка на лбу. Но главное — это тупость во всем, кроме политической интриги. Тупость в сочетании с железной волей:
«Боже мой, как я ненавидел тупость, квадратностъ, как бывал я несправедлив к доброму человеку, в котором подметил что-нибудь смешное… И вот теперь передо мной не просто слабый раствор зла, какой можно добыть из каждого человека, а зло крепчайшей силы, без примеси», сгусток «той глухой, сосредоточенно угрюмой, глубоко себя сознающей воли, которая из бездарного человека лепит в конце концов торжествующее чудовище». «Он поражал бездарностью, как другие поражают талантом».
К этой характеристике удивительно плотно прилегают страницы, посвященные Сталину в «Розе мира» Даниила Андреева, «Все течет» Гроссмана, «В круге первом» Солженицына. Только Фазиль Искандер стоит несколько в стороне со своим «Пиром Валтасара», изумительной главой в романе «Сандро из Чегема». Сталин там другой. Обрисованный изнутри, без гротеска. Даже немного лирический Сталин. Но вряд ли этот эпический и лирический Сталин симпатичнее андреевского, которому по ночам прямо и просто помогала нечистая сила. Андреев, систематизируя свои видения во Владимирской тюрьме, назвал это состояние «хохха»:
«…Не знаю, видел ли его кто-нибудь когда бы то ни было в этом состоянии? В тридцатых-сороковых годах он владел хоххой настолько, что зачастую ему удавалось вызывать ее по своему желанию. Обычно это происходило к концу ночи, причем зимой чаще, чем летом: тогда мешал слишком ранний рассвет. Все думали, что он отдыхает, спит, и уж, конечно, никто не дерзнул бы нарушить его покой ни при каких обстоятельствах. Впрочем, войти никто не смог бы, даже если бы и захотел, так как дверь он запирал изнутри. Свет в комнате оставался затенен, но не погашен. И если бы кто-нибудь невидимый проник туда в тот час, он застал бы вождя не спящим, а сидящим в глубоком, покойном кресле. Выражение лица, какого у него никто никогда не видел, произвело бы воистину потрясающее впечатление. Колоссальные, расширившиеся черные глаза смотрели в пространство немигающим взором. Странный матовый румянец проступал на коже щек, совершенно утративших свою обычную маслянистость. Морщины казались исчезнувшими, все лицо неузнаваемо помолодевшим. Кожа лба натягивалась так, что лоб казался больше обычного. Дыхание было редким и очень глубоким. Руки покоились на подлокотниках, пальцы временами слабо перебирали их по краям… Хохха вливала в это существо громадную энергию, и наутро, появляясь среди своих приближенных, он поражал всех таким нечеловеческим приливом сил, что этого одного было бы достаточно для их волевого порабощения…»
Любопытно, что было бы, если бы Сталин из ночей увидел Андреева, созерцающего его из своей камеры? Наверное, расстрелял всю тюрьму вместе с охраной… Однако продолжим цитату из Даниила Андреева.
«…Каждая из инкарнаций этого существа (будущего Антихриста. — Г. С.) 6ыла как бы очередной репетицией. В предпоследний раз он явился на исторической сцене в том самом облике, который с гениальной метаисторической прозорливостью запечатлел Достоевский в своем „Великом инквизиторе“. Это не был Торквемада или кто-либо другой из крупнейших руководителей этого сатанинского опыта, но к рядовым работникам инквизиции он не принадлежал. Он появился уже на некотором спаде политической волны, и в течение его многолетней жизни ему стало ясно, что превратить католическую церковь в послушный механизм Гагтунгра,[27] в путь ко всеобщей тирании не удастся. Но опыт деятельности в русле инквизиции очень много дал этому существу, развив в нем жажду власти, жажду крови, садистскую жестокость и в то же время наметив способы связи между инспирацией Гагтунгра, точнее Урпарпа,[28] и его дневным сознанием. Эта инспирация стала восприниматься временами уже не только через подсознательную сферу, как раньше, а непосредственно подаваться в круг его бодрствующего ума. Есть специальный термин — хохха. Он обозначает сатанинское восхищение, то есть тип таких экстатических состояний, когда человек вступает в общение с высокими демоническими силами не во сне, не в трансе, а при полной сознательности. Теперь, в XVI веке, в Испании, хохха стала доступна этому существу. Оно достигло ступени осознанного сатанизма.
Промежуток между этой инкарнацией и следующей протекал, конечно, на Дне, куда шельт вместе с астралом были сброшены грузом ужасной кармы, а затем в Гашшарве: извлеченный оттуда Урпарпом и его слугами, потенциальный антихрист подготавливался там свыше двухсот лет к своему новому воплощению. Напоминаю, что монада, некогда похищенная для него из Ирольна[29] самим Гагтунгром у одного из императоров древнего Рима, продолжала томиться в плену, в пучине лилового океана, в Дигме,[30] а как бы обезглавленный шельт императора пребывал в подобии летаргического сна в одном из застенков Гашшарвы…
Но почему, вернее, зачем это существо, предназначенное к владычеству над Россией, было рождено не в русской семье, а в недрах другого, окраинного, маленького народа? Очевидно, затем же, зачем Наполеон был рожден не французом, а корсиканцем… Для того, чтобы лучше выполнить свое предназначение во Франции и в России, оба эти существа должны были быть как бы чужеродными телами в теле обеих великих стран, не связанными никакими иррациональными нитями с тем народом, которому предстояло быть главной ареной их деятельности и жертвой по преимуществу. Надо было прийти „с топором в руке неведомо откель и с неисповедимой наглостью“[31] действовать так, как действует завоеватель на порабощенной земле».
По привычке выслушивать и другую сторону, я хотел бы вспомнить лауреатов, увенчанных Сталинскими премиями. Но от большинства лауреатов след как-то мгновенно стерся. А то, что я принял всерьез и запомнил — никак не в пользу Сталина. Ольга Берггольц еще в 1940 году написала обо всей сталинской словесности:
За образ горестный, любимый, За обманувшую навек Пески монгольские прошли мы И падали на финский снег. Но наши цепи и вериги Она воспеть нам не дала, И равнодушны наши книги, И трижды лжива их хвала…Есть еще стих Павла Антокольского. Он опомнился от страха в 1956 году и храбро наплевал на могилу:
Мы все лауреаты премий Врученных в честь него, Спокойно шедшие сквозь время, Которое мертво. Мы все его однополчане, Молчавшие, когда Росла из нашего молчанья Народная беда. Таившиеся друг от друга, Не спавшие ночей, Когда из нашего же круга Он делал палачей. Мы, сеятели вечных, добрых Разумных аксиом…В 1958 году Антокольский эти стихи забыл и подвывал травле Пастернака. Вместе с Мартыновым и Солоухиным, Сельвинским и Слуцким. Зато после XXII съезда он снова вспомнил гражданское мужество и дочел публично на стадионе:
Мы, сеятели вечных, добрых, Разумных аксиом, За кровь Лубянки, темень допров Ответственность несем. Пусть всех нас переметит правнук Презрением своим, Всех одинаково, как равных: Мы срама не таим…Чего уж таить! Как шило в мешке…
Только Твардовский после смерти Сталина посвятил ему несколько искренних строк. Его поразила поспешность, с которой сообщники, ничего никому не объясняя, отшатнулись от трупа. И с чувством укора он напечатал еще не запрещенную, но уже не предписанную хвалу:
Мир не видал подобной власти Отца, любимого в семье. Да, это было наше счастье, Что с нами жил он на земле.Потом Твардовский это вычеркнул. Но вычеркнутое должно остаться, как память о миллионах людей, не способных сразу отшатнуться от опрокинутого кумира. А что сам Твардовский перечеркнул свою хвалу — тоже должно остаться. И навсегда останется стихотворение памяти раскулаченной матери:
В краю, куда их вывезли гуртом, Где ни села вблизи — не то что города, На севере, тайгою запертом, Всего там было — холода и голода. Но непременно вспоминала мать, Чуть речь зайдет про все про то, что минуло, Как не хотелось там ей помирать — Уж очень было кладбище немилое. Кругом леса без краю и конца — Что видит глаз — глухие, нелюдимые. А на погосте том — ни деревца, Ни даже тебе прутика единого. Так-сяк не в ряд нарытая земля Меж вековыми пнями и корягами. И хоть бы где подальше от жилья, А то — могилки сразу за бараками. И ей, бывало, виделись во сне Не столько дом и двор со всеми справами А взгорок тот в родимой стороне С крестами под березками кудрявыми. Такая там краса и благодать — Вдали большак, дымит пыльца дорожная. — Проснусь, проснусь, — рассказывала мать, — А за стеною — кладбище таежное… («Памяти матери»)В 1936 году я читал — не понимая — читал в стенгазете «Комсомолия», что студент Саша Твардовский исключен из рядов за пьянку. Потом его восстановили, и в партию взяли, и в ЦК: пьянка — простительный грех. Главное — верность. Твардовский был верен советскому кресту. Но сам себе чего-то не мог простить и снова пил. И членом ЦК, и редактором «Нового мира». Только потому, что ему мешали, тыкали палки в колеса? Или что-то мешало ему в себе самом?
Теперь над ней березы, хоть не те, Что снились за тайгою чужедальнею. Досталось прописаться в тесноте На вечную квартиру коммунальную. И не в обиде. И не все ль равно, Какою метой вечность сверху мечена. А тех берез кудрявых — их давно На свете нету. Сниться больше нечему.Я думаю, что это эпитафия не только матери Твардовского.
Странная вещь — поэзия. Нельзя сказать, что она не продается. Продается с готовностью, с жадностью голодной девки. Но как-то так выходит, что все купленное немедленно становится золой. И остается только крупинки золота — правды.
Пройдет пятьдесят, сто, двести лет. Истлеют постановления, передовицы, статьи, книги. Сотрутся народные календари со Сталиным и девочками. Останется только то слово, которое от Бога. И в нем — клеймо позора на медных лбах, которые ничего не забыли и ничему не научились. Хотя некоторую посредственную силу мысли им Бог дал; не нашлось доброй воли (с тех, кто простейшего силлогизма своротить не мог, — спросу меньше). Тех, кого с клеймом на лбу, ради этого клейма, выжженного вечным словом, будут помнить — «доколь славянов род Вселенна будет чтить». И после того, когда от империи ромеев останутся только проповеди Иоанна Златоуста.
Ты помнишь обугленный Дантов ад, Звенящие гневом терцины? Того, кто поэтом на казнь обречен, И Бог не спасет из пучины… (Г. Гейне)Москва, 1969–1979
P.S.
Эта статья перепечатывается почти без изменений из книги «Сны земли», изданной в 1985 году в Париже. Прошло (со времени написания, 1979-й год!) четверть века. Зло выступило в новой форме. Но по-прежнему держится фантом грозного змееборца, поражающего змея растущей квартирной платы. И пока положение бедняков не улучшится, этот фантом удержится в умах миллионов.
Москва, 2003
Через подмены и подлоги
Мне было лет 13 или 14, когда газеты стали печатать письма немецких колонистов (тогда на украинском юге, по-старому в Новороссии, было много немецких поселений). И колонисты уверяли, что им вовсе не нужны продовольственные посылки из Германии. Кажется, даже фотографии печатались с упитанными лицами авторов. А наша домработница Галя рыдала после каждого письма с Украины и сушила сухари из своих 400 грамм городского хлеба, полученного по карточкам. Потом она ушла на завод: там давали больше хлеба.
Я знал, что во время Гражданской войны голодали города. Но трудно было понять, почему теперь в городах, худо-бедно, хлеб был, а в деревне его не было. Из деревень в Киев прорывались голодные дети и вырывали кусок хлеба прямо из рук. Это рассказывала мама, она тогда уже играла в Киевском театре и к нам, в Москву, только наезжала. В январе 1934-го я сам поехал к ней в гости, в Коростень, где почему-то, в середине сезона, гастролировал театр, и на пересадке увидел крестьянку, лежавшую в дверях на перрон. Люди, торопясь, переступали через нее. Я остановился, посмотрел в глаза: может быть, она встанет? Ее выцветшие бледно-голубые глаза ответили: не могу. Видно, бежала от голода и не добежала. Несколько секунд мы смотрели друг на друга. Потом я шагнул и вышел на перрон. Эти бледно-голубые глаза встают передо мной каждый раз, когда историки ссылаются на документы. В документах живых глаз не было.
Года за два, в 1932-м, Вовка Орлов важно сообщил мне: «А пятилетка-то провалилась!» Я удивился и назвал ему официальные цифры, сколько у нас новостроек. «Да, — с важностью ответил Вовка, — но все делается для деревни, а в деревне хаос и кровь». К его отцу, профессору Орлову, захаживал иногда Бухарин, поговорить о диалектическом материализме в точных науках. Видно, Вовка пересказывал бухаринские оценки. В чем-то Бухарин (или пересказ Бухарина) оказался не прав: Сталин проводил индустриализацию не для счастья большинства народа, а для производства танков. Но что-то непоправимое действительно происходило. Это носилось в воздухе. И невозможно было разобраться, что к чему. В 1934 году Бухарин признал Сталина победителем; потом был разоблачен как шпион и диверсант. И мы на комсомольском собрании требовали его расстрела. А когда всех шпионов, диверсантов, пособников Гитлера стиснули в ежовых рукавицах, расстреляли и Ежова; а Гитлер стал нашим другом и через пару лет неожиданно напал на Советский Союз.
Я почти обрадовался войне. Мои идеологические стереотипы встали на место. Фашизм снова стал абсолютным злом и мы — борцами с этим злом. Про первое ополчение я слишком поздно узнал, но в октябре все, кто хотели, могли готовиться к уличным боям. Нам выдали трофейные винтовки, залежавшиеся на складах, — сперва канадские (и к ним по 20 патронов), потом французские с боезапасам на 120 выстрелов. Патрулируя Волоколамское шоссе, мы сочиняли об этом частушки, с припевом из немецкой нахальной песенки:
La, la, la — о, Susanne, das Leben ist nicht schwer: Fur einem toten Brautigam kriegt man tausend neue her! (О, Сюзанна, жизнь не тяжела: За одного мертвого жениха получай тысячу живых!)Это было веселое лицо войны. А потом — сверкающее снежное поле с розовыми пятнами от прямых попаданий (кровь, растекаясь по снегу, окрашивала его в розовый цвет). И поле смрада между балкой Широкой и балкой Тонкой к северо-западу от Сталинграда, где я по ночам наталкивался на недохороненные руки и ноги. А в конце концов, пройдя через два госпиталя, я дошел до победы.
Но тогда, в октябре 1941-го, — слава Богу, что немцы не поперли прямо в Москву! Слава Богу, что они перемудрили и стали окружать город, а пока окружали — ударил мороз… И тут вдруг оказалось, что как раз к этому страна была готова. После финской кампании, когда солдаты замерзали насмерть, были пошиты миллионы ватных брюк, телогреек, изготовлены валенки и ушанки, шерстяные подшлемники и белые маскировочные костюмы… А победоносные немецкие солдаты превратились в зимних фрицев, закутанных в бабьи платки.
Остановившиеся и выброшенные на свалку часы два раза в сутки показывают верное время. Сталин снова стал предусмотрительно мудр, а Гитлер, рассчитывавший взять Москву до морозов, — безумен. Дорога в Берлин оказалась долгой (с зигзагом к Волге). Но все-таки они Москву не взяли, а мы до Берлина дошли. С именем Сталина и с ненормативной лексикой на устах.
И по мере того, как мы шли на Запад, менялись наши цели. Таял, как снег, антифашизм, интернационализм… Нашей целью стала сама победа, сама война. Выплывала из прошлого ядовитая смесь самосознания раба и всемирного завоевателя. Демонический утопизм уступил место имперскому демонизму. «Сталин — это победа», — говорит сейчас Зюганов. И победа — это Сталин. Победа все списывает, все пытки в застенках, все расстрелы, все голодные смерти. Я не говорю о тех, кто смог идти против течения, но толпы, массы все простили Сталину, как Грозному — за покорение Казани, Астрахани, Сибири. В фантомах, изготовленных киноискусством, Сталин овеян поэзией, как Грозный — в народной песне.
Я пережил хмель победы и знаю его силу — целый пучок сил. Я упивался величием победы и ужасался ее мерзости (грабежам, насилиям). Я не знал, как совместить одно с другим. Из анналов истории ни того, ни другого не вырубишь. Ни изнасилованных немок, ни эпического напряжения всех народных сил, с которым выиграна была война. И победа России слилась с победой тирана, изнасиловавшего Россию и навязавшего ей своих наследников.
Можно по-разному толковать факты, выводя их из корней в истории или из отрыва от корней, но прежде всего это факт: слава победы прочно слилась с именем Сталина, и беспомощные петли хрущевской мысли не смогли эту славу разрушить. А между тем, слава краденая, Сталин украл славу победы у солдат, ополченцев, офицеров, ложившихся костьми, защищая Ленинград, Одессу, Севастополь, Тулу, защищая рубеж Днепра у Смоленска, защищая последний, ржевский рубеж перед Москвой… В самый опасный момент войны Сталин очень плохо руководил боевыми действиями или вовсе ими не руководил. Планы Гитлера сорвало упорство обороны, почти бессмысленное. И в конце концов Гудериан, окружая Тулу, потерял осторожность, оставил без защиты тылы полков, сжимавших кольцо, и по этим тылам был нанесен ответный удар. А тут еще и мороз… И немцам пришлось отходить, бросая замерзшую, оставшуюся без горючего технику. И это было знаком к общему переходу в контрнаступление.
На другой год, под Сталинградом, Сталин обдуманно создавал мужество отчаяния. Он запретил эвакуировать население: «Армия не защищает пустых городов» (чего это стоило — рассказал Н. Ф. Рыбалкин в книге «Тень родного города»). Сталин приказал артиллерии с левого берега бить по своим солдатам, если они не выдерживали и пытались спастись, переправившись через Волгу. Но в 1941 году мужество отчаяния возникало стихийно. И эта готовность затыкать своими телами дыры в сталинских просчетах дала возможность исправлять планы, заменять тупиц способными военачальниками, вернуть из лагерей генералов, которых забыли расстрелять (Горбатова, Мерецкова, Рокоссовского — они потом командовали армиями и фронтами).
И тогда, когда люди, наспех одевшие военную форму, стали обстрелянными солдатами, когда сложилась военная машина, не уступавшая немецкой, — Сталин вышел на авансцену, стал маршалом, генералиссимусом. Он в самом деле чему-то научился, и события направили его энергию в нужном направлении. Он обладал каким-то почти бессознательным чутьем только в одном: в превращении аппарата власти из средства в цель. В этом он был, если хотите, гений. А во всем остальном — из тех мужиков, которые задним умом крепки. Надо было понести страшные потери во время войны с маленькой Финляндией, чтобы понять: в России надо воевать, тепло одевшись. Надо было сперва расстрелять Тухачевского, еще в 20-е годы разработавшего вместе с Гудерианом тактику большей танковой войны (немцы тогда не имели права строить танки и экспериментировали вместе с нами тайно, в Поволжье); надо было дать Гудериану возможность показать нам кузькину мать со своими танковыми корпусами; а потом уже чему-то выучиться на горьком опыте и тоже свести «броневые ударные батальоны» в танковые корпуса.
Мы все так учились; даже поговорка была создана (а потом забыта) про нашу горькую учебу: «немцы нас научат воевать, а мы их отучим». Только мы платили за учебу своими шкурами, а Сталин — нашими. Война сама учит, сама создает воинов. Даже из меня, созданного совсем для другого, она создала вполне сносный винтик в военной машине. В 1942 году война поражала меня общей неумелостью — после стольких лет подготовки к войне; а в 1943-м все, весь офицерский и сержантский костяк армии, сделались профессионалами. Но какой ценой мы за это заплатили! И как он нам — народу, прошедшему через войну, — за это заплатил! Даже несчастных несколько рублей, которые платили за ордена и медали — 5, 10, 15 рублей, — и те отменили…
Тот, у кого в руках телевидение, легко создает фантомы. Что нужно подчеркнуть — подчеркивает, что нужно затушевать — затушует. А если попробовать без ретуши? Тогда остается человек с огромной энергией — и параноидным умом, заражавшим страну своим безумием. В конечном счете разрушавшим Россию. Не только провалами, но и победами. Ибо успехи на ложном пути оказались сугубым провалом; таким провалом, которого еще не было в русской истории.
***
Начать с того, что Сталин сам привел Гитлера к власти. Ослепнув к фактам, ослепнув к критике, которой подвергалась его политика в Коминтерне. Это хорошо осветил германский исследователь Л. Люкс. «Сталинское руководство Коминтерна беспощадно пресекало любую попытку немецких коммунистов объединиться с социал-демократами в борьбе против фашизма, клеймило этих коммунистов как беспринципных оппортунистов. Это о них сказал Эрнст Тельман в декабре 1931 г., что они не видят из-за нацистских деревьев социал-демократического леса. О возможности единого фронта с социал-демократами стали говорить в Коминтерне лишь в середине 1934 г., когда рабочее движение в Германии было уже уничтожено Гитлером».
Люкс отмечает, что особенно глубоко обличал гибельный курс Сталина Троцкий, высланный за границу. «Можно обвинять Троцкого в чем угодно, но только не в том, что он недооценивал нацистской угрозы. Его полемика с официальной линией Коминтерна в начале тридцатых годов — это блестящая и уничтожающая критика сталинского упростительства». Троцкий, проигравший во внутрипартийной борьбе со Сталиным, становится защитником демократии и использует свой собственный опыт разрушения демократии, чтобы обличить тактику Гитлера. «Троцкий… понимал, что рано или поздно нацисты перейдут к внепарламентским действиям. В декабре 1931 г. он писал, что национал-социалисты никогда не получат абсолютного большинства на выборах. Иными словами, Троцкий был уверен, что демократическим путем нацизм не придет к власти. Но господствующие группировки в Германии могут передать нацистам власть добровольно… В этом случае государственный переворот был бы естественным следствием передачи власти.
Задолго до победы Гитлера Троцкий не уставал повторять: без уничтожения парламента, многопартийной системы и прежде всего организаций рабочего класса господство нацистов немыслимо. Единственное, что может предотвратить нацистский переворот — это единый фронт коммунистов и социал-демократов. Сталинское же руководство, продолжает Троцкий, признает лишь один вид единого фронта — когда все другие партии безоговорочно подчиняются приказам Коминтерна. Сталинскую теорию „социал-фашизма“ Троцкий называет бессмысленной конструкцией, у которой есть только одно преимущество: никто из членов Коминтерна не смеет против нее протестовать».[32]
«Очень рано Троцкий предсказывал смертельную угрозу, какую нацистская Германия представляет для Советского Союза. Лишь фашистская Германия может решиться на войну с Советским Союзом, писал Троцкий еще в 1932 г., до победы нацистов. Троцкий даже советовал советскому руководству провести частичную мобилизацию, как только нацисты захватят власть в Германии. Сталинское руководство Коминтерна квалифицировало эти советы как провокацию. Сталинист Отто Куусинен утверждал в сентябре 1932 г., будто Троцкий добивается, чтобы Советский Союз без всякой необходимости ввязался во внешнеполитическую авантюру… (Предложение Троцкого действительно было нелепым; но оно говорило о степени его тревоги за будущее СССР. — Г. П.)
Когда национал-социалисты действительно пришли к власти, Троцкий заявил, что их стремление к неограниченной экспансии можно подавить лишь силой. Пытаться вести с ними мирные переговоры бесполезно. На западные державы он, однако, в этой борьбе не слишком надеялся. Троцкий достаточно рано распознал политическую близорукость тогдашних западных руководителей. Западные державы, писал он в 1933 г., лелеют надежду, что национал-социалистическая экспансия устремится на Восток. Поэтому они и не возражают против вооружения Германии. В действительности же национал-социализм стремится не только к завоеванию Востока, но и к мировому господству. Поэтому его война с западными державами тоже рано или поздно неизбежна» (там же, с. 190–101).
Только в одном Люкс видит ошибку Троцкого, в недооценке личности Сталина. И его и Гитлера он считал просто ничтожествами, успех которых «объясняется действием анонимных исторических сил, которые, так сказать, „воспользовались“ Сталиным и Гитлером» (с. 191–192). Я думаю, что мысль Троцкого внутренне противоречива, но она не совершенно ложна. «Анонимные исторические силы» — фактор, который рационализм обычно упускает; и то, что Троцкий его отметил, делает ему честь. Однако медиумичность к «анонимным силам» — это уже некоторый дар. Успех самого Троцкого в 1917–1922 гг. связан был с подобной медиумичностью к «анонимным силам», развязанным революцией. И Сталин сожрал его (со всеми его дарами), когда демонизм истории повернулся другим боком и решающим стал дух аппарата, дух власти ради власти, насилия ради насилия — тот демон, к которому прислушивался Сталин. «Анонимные силы» сами не выбирают (в противном случае придется придать им лицо, вообразить что-то вроде уицраоров Даниила Андреева). Выбирает человек, медиумичный к тем или другим анонимным силам, угадывающий их. И в этом смысле Гитлер и Сталин значительны.
Перефразируя Козьму Пруткова, можно сказать: их гений подобен флюсу, полнота его одностороння. Сравните нелепую фразу, написанную Сталиным о юношеском сочинении Горького: «эта штука посильнее, чем „Фауст“ Гёте», — и вполне сносную статью Троцкого о Есенине. Превосходство культурного уровня Троцкого очевидно; но еще более очевидно превосходство Франка или хоть Струве над Троцким; очевидно, что для политической победы нужна была демагогия Троцкого, а не философия Франка. Струве не расстрелял бы пленных, сдавшихся на честное слово; а Троцкий запретил обыскивать посетителей, добивавшихся разговора с ним, вот его и убили. Если бы он обладал бесцеремонностью Сталина, Меркадер, убийца Троцкого, был бы задержан. Сталинский размах связан с тем, что для него действительно всё было позволено, любая мерзость, любая подлость, и этот душевный склад уголовника он внес на политический Олимп.
Однако всё позволено было не только разуму, но и страстям. А страсти иногда ослепляют. Почему Сталин не внял предупреждениям Троцкого об опасности нацизма? Ведь эта опасность грозила России, СССР, самому Сталину, наконец, а не Троцкому, жившему спокойно в Мексике? Здесь приходится гадать во тьме подсознания. Может быть, ослепляла захваченность «революцией сверху», которую он проводил в России. Стиль этой «революции» (или контрреволюции, как писала Шатуновская) был резко враждебен социал-демократизму, не мирился с ним. Сталину лично социал-демократы были противны, а с Гитлером возникало ощущение сродства и бессознательно хотелось не враждовать с ним (гитлеровцы поумнее тоже чувствовали, что из коммуниста может выйти нацист, а социал-демократические бонзы навсегда остаются чужими). Сталину не хотелось искать союза с демократическими лидерами, которых он глубоко презирал. Ему не хотелось создавать широкой народный фронт, в который, пожалуй, и Троцкого надо включить, и католиков, недавно (в 1929 г.) призывавших к крестовому походу против Советской России. По указаниям Сталина, в Испании, где народный фронт был создан, коммунисты взрывали его, воюя то с анархистами, то с троцкистами.
Даже после того как наци получили 40 % голосов, Сталин был не способен выйти из своей антидемократической захваченности. Он бессознательно предпочел Гитлера и под влиянием «анонимных сил», дремавших в его душе, вел страну к гибели.
Вторым шагом к пропасти была его внутренняя политика, ликвидация НЭПа и создание системы всеобщих каторжных работ. Это было его первой пирровой победой из целой серии пирровых побед. Власть сосредотачивалась в руках человека, не имевшего никакой разумной идеи, что делать с властью (ни исторически разумной, ни тем более духовно разумной, т. е. идеи более высокого духовного уровня). Такое сосредоточение власти становилось злокачественной опухолью, разрастанием государства ради государства, подавлением всех живых сил ради Молоха, постоянно требующего новых жертв. Впоследствии Сталин втиснул свою волю в марксизм, назвав ее «движением к коммунизму через усиление классовой борьбы».
Сталин не сразу открыл свои карты. Он несколько лет маневрировал, прятался за спину Зиновьева, завидовавшего славе Троцкого, а потом Бухарина, освободившегося от своего левачества и принявшего НЭП «надолго и всерьез», до «врастания кулака в социализм», до лозунга «обогащайтесь» (впоследствии по этому пути пошли китайцы). Маневры, описанные Авторхановым в «Технологии власти», дали первую пиррову победу: ликвидацию механизма обратной связи, возможности легальной критики политических ошибок. Вслед за этим была достигнута вторая пиррова победа: над крестьянством. После беспомощного и неорганизованного сопротивления насильственному фаланстеру крестьяне покорно всунули шеи в колхозное ярмо. Кто мог, бежал в город, и поток обездоленных дал рабочую силу для новостроек. Была с волшебной быстротой создана оборонная промышленность. Но в 1941 году добрая половина этой промышленности оказалась на оккупированных землях.
Нельзя считать все это чистой случайностью. Генерал Григоренко, анализируя поражения 1941 года, выделяет несколько факторов, сошедшихся в один клубок. Тут и тупое упрямство Сталина, не выносившего рядом с собой независимо мыслящих людей, и глухое недовольство крестьян, нежелание сражаться за свою каторгу, прямая готовность сдаваться в плен, становиться «добровольными помощниками» вермахта и другими способами сотрудничать с оккупантами.
В 1950 г. в Бутырской тюрьме я играл в шашки с учителем, пытавшимся возродить русскую школу при немцах. Сделав очередной ход, я спросил его, почему он выбрал свой путь. Партнер посмотрел мне в глаза и ответил: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Я кивнул головой, и мы продолжали партию.
Только ограниченность Гитлера помешала ему шире использовать открывшиеся возможности и превратить отечественную войну в гражданскую. В Белоруссии немцы сохраняли колхозы: так им показалось удобнее собирать дань. В ответ партизанский штаб распустил колхозы. Крестьяне так дружно откликнулись, что помешать немцам не удалось. Освобожденные крестьяне стали поддерживать партизан, и республика превратилась в партизанский край. Потом, в 44-м, деревенские женщины с каким-то отчаяньем в глазах спрашивали нас: неужели восстановят колхозы? Неужели восстановят?
Во время войны удалось вызвать надежду, что все «перегибы» будут исправлены и победа станет народной. Волна патриотизма подхлестнула экономику, и огромное напряжение всех сил в тылу поддержало фронт. После конца войны энтузиазм стал угасать. Пришлось подхлестывать систему всеобщей каторги новыми волнами политических истерик. Тогда нам и разъяснили, как двигаться к коммунизму — через усиление классовой борьбы, — пока вождь не умер и его наследники не поддались усталости от напряженного ожидания опалы и казни…
Третьей пирровой победой был Большой Террор. Необходимость его вытекала (в параноидном уме Сталина) из второй победы, вернее — из глухого нежелания признать вторую пиррову победу. Недовольство вырвалось в тайном голосовании на XVII съезде (открыто критиковать Сталина уже никто не решался). Реакция вождя была такой неадекватной, что казалась немыслимой. На этом основании факты, установленные Шатуновской, брались под сомнение. Но Сталин не был вполне нормальным человеком. В Большом Терроре выступило наружу то, что он до известного мига мог скрывать, что казалось просто дурным характером — параноидные комплексы в сознании, клубки мстительной ненависти.
Граница между шизоидом и шизофреником, между параноидом и параноиком никем не охраняется, возможны переходы в обе стороны. После начала войны Сталин пережил нечто вроде наркотической ломки, был жалким, растерянным и потом заново учился владеть своими страстями — и на переговорах в Тегеране, Ялте и Потсдаме выглядел вполне прилично (до нового обострения болезни в старости). Но реакция на тайное голосование делегатов XVII партсъезда была скачком в безумие. В ожидании близкой войны, под предлогом борьбы с «пятой колонной» (т. е. с агентурой врага) был наполовину разрушен партийный аппарат, хозяйственный аппарат и, наконец, — управление армией и флотом.
Новые поколения плохо понимают, как всё это выглядело и какую роль это сыграло в наших поражениях. Цифры потерь армии были подсчитаны и опубликованы в статье генерала Тодорского. Репрессии вывели из строя половину среднего командного состава и три четверти высшего. Но как подсчитать — что чувствовали те, кто уцелели? На что они годились, подавленные страхом? Это в документах не прописано, только в рассказах свидетелей. Один из таких рассказов мы перепечатываем из журнала «Знание — сила» за 1995 год — рассказ 93-летнего генерала Полищука о потрясающем спектакле абсурда, разыгранного в Реввоенсовете в 1937-м. Это несколько особый спектакль, с личным участием Сталина в главной роли. В тысячах и десятках тысяч спектаклей Сталин лично не присутствовал, только его дух там царил.
Я сидел и нехотя голосовал на десятках комсомольских собраний, обсуждавших дела о притуплении и потере бдительности. Арестованы были родственники примерно третьей части студентов. Если враг народа служил бухгалтером, как мой отец, то считалось, что бдительность притупилась. А если у него было громкое имя (Ганецкий, Кун), то бдительность совсем потерялась. Тогда не выговор, а исключение из рядов. И если Нина Витман, рыдая, твердила, что ее отец ни в чем не виновен (кроме немецкой фамилии, смекал я), то за это тоже исключали из рядов. Яростные проработчики буквально брызгали слюной от бдительности.
Впоследствии мне пришлось выслушать рассказы моего тестя о терроре в Наркомтяжпроме. Лично он уцелел. Его спасало то, что обвинения каждый раз высказывались публично и разбирались самими сотрудниками Наркомтяжпрома. После смерти Орджоникидзе выступил на партсобрании Л. М. Каганович и бросил фразу (для повышения температуры бдительности): «если мои сведения верны, то между нами сидит английский шпион Миркин». Тут же была создана комиссия в составе двух заместителей наркома, Первухина и Целищева. Шпионаж заключался в том, что Миркин запатентовал в Англии какое-то изобретение. Это давало возможность получать валюту. Комиссия три ночи разбирала дело, не стоившее выеденного яйца. Целищев предлагал завершить расследование в угоду сталинскому наркому. Первухин оказался порядочнее и возражал: дадим возможность Миркину изложить свою точку зрения. В конце концов обвинение было снято. Чтобы почувствовать запах времени, надо прибавить, что сам нарком тоже терял бдительность в отношениях с близкими родственниками: со старшим братом, М. М. Кагановичем, вынужденным застрелиться, и младшим братом, Ю. М. Кагановичем. По слухам, мать трех Кагановичей приходила к Лазарю просить за младшего (за старшего можно было просить только Бога) и (по слухам же) Лазарь ей ответил: «У меня один брат, один отец — товарищ Сталин!». Никто меня не убедит, что это государственная политика. По-моему — это паранойя.
Другой раз Миркин, инженер, окончивший МВТУ, раскритиковал изобретение, на которое Серебровский, зам. наркома, специального образования не имевший, выделил порядочную сумму денег. Всякая ошибка в эти годы легко могла быть истолкована как вредительство. Чтобы уцелеть, Серебровский собрал какую-то импровизированную комиссию и при стенографистках сделал заявление, что отец Миркина, живший в Баку, был провокатором и Миркин это скрыл от партии. Миркин бросился его душить. Завенягин, будущий начальник ГУЛАГа, мужик очень сильный, сгреб Миркина в охапку и вытолкал в соседнюю комнату. К счастью, нашлись земляки и показали, что отец Миркина, часовщик, жил и умер в Петербурге, а в Баку жила и взяла мальчика на воспитание тетка. Миркин кричал, что Серебровский сам провокатор. В конце концов, арестовали Серебровского.
К сожалению, нет общих цифр потерь руководящих хозяйственных кадров или партийных кадров. Приходится ограничиваться случайными картинками вроде этой. Они все говорят об одном: абсурд царил повсюду, чтобы уцелеть, надо было проявить бдительность, то есть втягиваться в сталинский бред, клеймить друг друга, топить друг друга. Над всей cтраной повис запах террариума, где один гад пожирал другого гада. Человек, не поддавшийся бреду, не свихнувшийся от бдительности, оказывался на этой исторической арене, как со зверьми на арене римского цирка. В третий раз Миркина спасло то, что Арманд, за которого он заступился, был по мановению свыше восстановлен в партии, и решение партийного собрания аннулировано (Сталин, видимо, решил не трогать детей ленинской подруги Инессы Арманд — пригодятся писать мемуары).
В четвертый раз Миркина два месяца подряд по ночам таскали в НКВД, пугая арестом, чтобы он дал показания против своего друга, перешедшего из меньшевиков в большевики в 1920 г. Пребывание в меньшевиках стало пятном, которое требовалось смыть вместе с запятнанным человеком. Миркин показаний не дал, и от него отцепились.
Но на нем самом осталось страшное пятно: в 1923 г., будучи секретарем комсомольского комитета МВТУ, он выступал за платформу Троцкого (если не переписывать историю, то надо прибавить: как и большинство молодежи; только немногие, как Жора Маленков, секретарь партийного комитета МВТУ, вовремя смекнули, за что голосовать). И каждый раз, когда кто-нибудь свыше читал анкету Миркина, бдительность требовала перевести его на менее ответственную работу, шаг за шагом — от начальника НИС (научно-исследовательского сектора Наркомтяжпрома, что-то вроде Комитета по делам науки) до прораба. К сорока восьми годам мой будущий тесть стал инвалидом. Я застал тестя мрачным ипохондриком, руинами государственного человека. Один из редких случаев бдительности, не доведенной до ареста.
После пирровой победы террора в стране исчезла всякая активность, всякая самостоятельная мысль в хозяйстве, в науке. Уцелевшие повторяли поговорку: «моя хата с краю, ничего не знаю». Я слышал это несколько раз от самых непохожих людей. Их всех сдавило время. Накануне великой войны, накануне необходимости огромного, почти сверхчеловеческого общего напряжения, люди рассыпались по своим углам, попрятались в норки. Ничего, кроме поражения, это не сулило.
***
А что делал Сталин, когда война надвинулась вплотную, когда до 22 июня остались считанные дни? Он убивал тех, кто пытался открыть ему глаза. Он просто не хотел смотреть в лицо опасности. Из всех донесений разведки он выбрал одно: что в Германии не шьют зимнего обмундирования. Хотя, поставив этот факт в связь с другими фактами, нетрудно было понять, что у Гитлера был расчет на блицкриг, на молниеносный разгром советских армий. Катастрофические последствия сталинского вредительства (это слово здесь очень подходит) сжато описал П. Г. Григоренко. В сборнике «Жизнь — сапожок непарный» («Антология выстаивания и преображения») приводится десять соответствующих страниц из его книги «В подполье можно встретить только крыс…».
Здесь мы даем только несколько выдержек:
«Я дал свое сжатое описание начального периода войны и анализ причин разгрома наших войск. Причины были даны выпукло, обнаженно. Спорить против них в такой постановке было невозможно. Но в этом и была защита книги Некрича (историка, автора книги о войне. — Г. П.), т. к. при внимательном сравнении каждый мог видеть, что Некрич в более завуалированной форме дал те же причины. Одну причину только обошли мы оба. Не знаю, видел ли ее Некрич в то время. Что же касается меня, то я обошел ее сознательно. Назвав ее, я очутился бы в псих-тюрьме немедленно. Эта причина — большое число не желающих воевать за советский строй.
Такого умопомрачительного количества пленных не могло бы быть, если бы эти люди не хотели сдаваться в плен. Партия своей политикой террора против трудящихся города и деревни довела массы людей до того, что они предпочитали плен жизни в такой стране. Тогда этот вывод я сделал, только задумавшись над цифрой пленных. Я в то время еще не знал того, что мне известно теперь — того, что военнопленные предпочитали смерть возвращению на родину, что советские войска с помощью союзников целые операции проводили для того, чтобы возвратить „любимой“ родине ее „заблудших“ сынов» (с. 196).
«К исходу третьей недели фашистские армии на этом направлении стояли у ворот Смоленска, завершив еще одно окружение значительных наших сил. Типпельскирх сообщает, что только на этом направлении в период с 22 июня по 1 августа 1941 года гитлеровцами взято в плен около 755 тысяч человек, захвачено свыше 6000 танков и более 5000 орудий (К. Типпельскирх. История второй мировой войны. М., 1956, с. 178–184, 186)» (с. 197).
«Наш Юго-Западный фронт (бывший Киевский особый военный округ), войска которого, удовлетворительно управляемые командованием и штабом фронта, проявили подлинные чудеса героизма и, серьезно затормозив наступление группы фашистских армий „Юг“, вели в это время бои далеко к западу от Днепра, — в результате выхода противника в район Смоленска, оказался под угрозой удара во фланг и тыл с севера. Именно с этого времени над Юго-Западным фронтом начала все более грозно нависать опасность той трагедии, которую с полным основанием можно признать самой крупной катастрофой Великой Отечественной войны, — Киевского окружения наших войск.
Вопрос об этом окружении выходит за рамки данного, по необходимости несколько разросшегося письма в редакцию, но я не могу не сказать о том, что с 16 июля, когда угроза самого страшного достаточно отчетливо потребовала эффективных мер, до начала развязки под Киевом прошло тридцать восемь дней, но за это время не было сделано ничего реального. Хуже того, все делалось, как нарочно, на руку противнику. Командование и штаб Юго-Западного фронта понимали, что над руководимыми ими войсками нависает грозная опасность, и пытались ей противодействовать, но бездарными распоряжениями тогдашнего Верховного главного командования все разумные фронтовые мероприятия отменялись, а войска фронта, в конечном счете, были поставлены в условия полной невозможности оказать врагу эффективное сопротивление.
В результате, за месяц с небольшим наш Юго-Западный фронт был полностью разгромлен. Командующий фронтом генерал-полковник Кирпонос, молодой талантливый генерал, — начальник штаба фронта Тупиков, очень способный разведчик, — начальник Разведотдела фронта полковник Бондарев и многие другие прекрасные штабные офицеры, после героического, но безнадежного сопротивления напавшим на командный пункт фронта танкам противника, ввиду явной угрозы плена, покончили с собой. А те, кто не погиб в бою и не успел, либо не смог застрелиться, сложили свои головы в фашистской неволе или, пройдя через годы тяжелейших мучений фашистского плена, пережили еще и горечь обвинения в „измене“ родине и муки сталинско-бериевских застенков. Уцелела лишь часть тех офицеров штаба фронта, которые во время нападения на командный пункт вражеских танков находились в войсках, выполняя задания командования фронта. Таким образом, уцелел, в частности, начальник Оперативного отдела штаба фронта полковник (ныне маршал Советского Союза) И. Х. Баграмян.
И что же: такой ход событий закономерен или, наоборот, были совершены какие-либо ошибки, которые именно и привели к столь плачевным результатам?» (с. 199).
«Да, прав — трижды прав! — был покойный президент США Кеннеди, когда заявил, что у победы — много родственников, поражение же — всегда круглая сирота. Наше поражение 1941 года тоже не избежало сиротства. Все, кто имел тогда отношение к руководству войной, — родственники одной лишь победы. Ну, а поскольку поражение совсем не может быть без родных, то эта малопочетная роль великодушно предоставляется объективным причинам и закономерностям» (с. 199–200).
«Чтобы разобраться в фальсификациях и понять, что же происходило в действительности, необходимо прежде всего установить соотношение сил сторон к началу войны. Оказывается, по количеству дивизий было примерное равенство, по числу танков мы превосходили противника впятеро, по боевым самолетам — более чем в 2,5 раза. Имелось у нас превосходство также в артиллерии и минометах.
Но один количественный перевес — еще не свидетельство превосходства. Всегда, а в современных условиях — особенно, огромное, зачастую — решающее, значение имеют качественные показатели вооружения и боевой техники.
Так, наши истребители старых образцов, даже при большом их численном превосходстве, не могли достаточно эффективно противодействовать „хенкелям“ и „юнкерсам“, потому что уступали им в скорости и мощи вооружения. Что же касается наших старых бомбардировщиков, то они против вражеских истребителей были, по существу, беззащитны. Однако нельзя забывать, что в составе наших ВВС (Военно-воздушных сил) имелось 2700–2800 боевых самолетов новых конструкций (т. е. немного меньше, чем в гитлеровской Германии было тогда всего боевой авиации). А эти наши самолеты по своим боевым качествам не только не уступали соответствующим типам самолетов напавшего врага, но во многом превосходили их.
В отношении танков все пишущие о начальном периоде войны обходят вопрос о подавляющем численном превосходстве наших танков и акцентируют на том, что в числе имевшихся в наших западных военных округах танков было всего 9 процентов машин новых образцов. Приводя эту цифру, они не упоминают о том, что девять процентов означают весьма внушительное число — 1700–1800 машин. Не затрагивают они и важнейшего вопроса о качествах германских танков. Тем самым читателю предоставляется право думать, что у противника танки были значительно лучше наших, хотя они, если брать весь их парк, как уже указывалось, были, примерно, равноценны нашим. Но танки противника нельзя было даже сравнивать с нашими „Т-34“ и „KB“. Только к 1943 году — к Курской битве — противнику удалось создать машины, приблизившиеся по качеству к имевшимся у наших войск с самого начала войны танкам новых конструкций. Но и эти новые фашистские танки и самоходки были все же хуже нашей „Т-тридцатьчетверки“, оставшейся в течение всей войны непревзойденной боевой машиной.
Качественное превосходство наших новых танков над фашистскими было столь большим, что последние и в тех случаях, когда у них было большое численное превосходство, не рисковали ввязываться в бой даже с одиночными „Т-34“ или „KB“. Если бы эти наши танки, численность которых лишь в два раза уступала всей численности фашистских танков, были использованы массированно, то противнику не помогло бы не только двойное, но и десятерное их численное превосходство. С одними этими нашими танками можно было бы не только противостоять гитлеровскому танковому удару, но и разгромить танковые группировки врага» (с. 201–202).
«Войска западных приграничных военных округов, незначительно уступая по численности вероятной армии вторжения противника, в военно-техническом отношении были значительно сильнее ее. Но — квалифицированные командные кадры были изъяты из армии почти полностью и подвергнуты репрессиям различной степени. На их место пришли в большинстве люди малоквалифицированные и просто в военном отношении неграмотные, зачастую — абсолютные бездарности. Авторитет командного состава в связи с этим, а также вследствие психоза борьбы с „врагами народа“, резко снизился, дисциплина пришла в упадок.
1. Вопросы подготовки к отражению внезапного нападения не были решены:
— Аэродромная сеть приграничных округов была развита слабо. В результате к началу войны авиация продолжала размещаться весьма скученно на старых, давно и хорошо известных Германии аэродромах.
2. Зенитные средства в войсках имелись в мизерных количествах. Большая их часть была малоэффективной. Поэтому войсковой ПВО фактически не было и войска, если не имели авиационного прикрытия, оставались совершенно беззащитными с воздуха.
Не было и ПВО аэродромов, что при внезапном воздушном налете противника могло привести к потере всей авиации.
3. Перед самой войной резко ослабили способность войск к борьбе с танками: сняли с вооружения 45 мм противотанковую пушку, а еще раньше, по прихоти Сталина, 76 мм пушку „ЗИС“.
4. Танковые войска, в cвязи с затеянной перед войной реорганизацией, встретили войну в небоеспособном и малобоеспособном состоянии.
5. Укрепленные районы вдоль старой границы были не только разоружены, но и взорваны. Вдоль новой границы начали строить, но ничего не завершили.
6. Шедевром же всех недомыслий было то, что войска продолжали учиться по-мирному: артиллерия стрелковых дивизий была в артиллерийских лагерях и на полигонах, зенитные средства на зенитных полигонах, саперные части в саперных легерях, а „голые“ стрелковые полки и дивизии в своих лагерях. При надвигающейся угрозе войны эти грубейшие ошибки, — пишет маршал Советского Союза Малиновский, — граничили с преступлением» (с. 202–203).
«Как видим, сталинское правительство натворило глупостей, равнозначных измене. Издавна так ведется, что правительство, ответственное за ошибки в подготовке к войне, привлекается к ответу. Так, правительство Чемберлена ответило за мюнхенскую ошибку отставкой. Американцы провели сенатское расследование пирл-харборского провала, Франция судила свое правительство за то, что оно допустило поражение своей армии.
И вот за эти ошибки нашего правительства, равнозначные невиданной измене, расплатился только народ. Расплатился, во-первых, — невероятными по масштабу потерями на фронте. Гитлеровцы на всех фронтах Второй мировой войны на востоке, западе, юге и в Африке потеряли убитыми и умершими от ран около четырех миллионов человек, а мы — только на советско-германском фронте — 13,5 млн., то есть в три с половиной раза больше. Расплатился наш народ, во-вторых, — жизнями миллионов мирных людей, погибших во время гитлеровской оккупации. Расплатился, наконец, в-третьих, — миллионами репрессированных во время войны и в послевоенный период защитников нашей родины, ее воинов — солдат и офицеров, проявивших в беспримерной борьбе с вторгшимся противником чудеса храбрости и героизма» (с. 205).
Глава «Разведсводка № 8» полностью дается ниже.
Сталин вел себя как солдат, позволивший переглядеть себя в штыковом бою. Сержант Лагутин, участник штыковых боев под Севастополем, — он от них в тридцать лет поседел, — говорил мне, что в таком бою противники, стоя в оборонительной позиции, глядят друг другу в глаза. Тот, кто не выдержит и опустит глаза, погиб. В этот миг он потерял волю и его закалывают. Гитлер в июне 1941 года глядел в глаза немедленной войне, Сталин мысленно отодвигал начало войны вперед, на несколько недель или месяцев. Он опустил глаза и заставлял всех опустить глаза. Он вел себя как предатель.
Когда разгром стал фактом, шок выбил Сталина из комплекса сверхполноценности, из его патологического самосознания божества, царящего над фактами. На какое-то время — между 22 июня и выступлением по радио 3-го июля — он совершенно растерялся и позже не раз терялся. Он передал Гитлеру, через посредство болгарского дипломата, свою готовность на полукапитуляцию. Но Гитлер отмахнулся от его предложения. Пришлось воевать, и воевать не как живой бог, а как битый фраер. Это давалось ему с трудом. Периоды растерянности чередовались с периодами тупого упрямства. Он долго не разрешал сдать Киев — престижный город, столицу Украины, — и приказ отступать отдал только тогда, когда отступать было некуда. По его вине в окружение попали полмиллиона человек. Он назначил командовать фронтами своих бездарных холуев — Ворошилова, Буденного и Тимошенко, — предоставив немцам доказывать, что они бездарны (немцы это быстро доказали). Только к ноябрю, когда запахло зимой (и выявилась перспектива зимней кампании, к которой Гитлер не был готов), Сталин, по-видимому, вошел в норму, но упорство маньяка к нему не раз возвращалось; весной 1942 года оно стоило нам трех новых разгромов: на северо-западе, в Керчи и под Харьковом.
Понадобилось два курса шоковой терапии, чтобы Сталин научился сдерживать свою манию величия и считаться с упрямыми фактами (например — с господством противника в воздухе, не допускавшим летних наступательных операций). Его первая реакция на прорыв немцев к Волге была истерической. Десятки дивизий были брошены в кровавую бессмыслицу наступления к северу от Сталинграда — с максимальным продвижением в три километра, устланных трупами (уцелели только артиллерийские подразделения). Об этой мясорубке не принято вспоминать; для меня она стала самым страшным из увиденного на войне. Но в конце концов — кто из королей, принцев и кронпринцев не вошел в роль полководца? Только китайский император не командовал войсками, только полная бездарность, вроде Николая II, не способна справиться с этим.
Полной бездарностью Сталин не был. Комплексы обид, ненависти и жажды мести копились в нем с детства. Они рождали энергию стресса, энергию ненависти, способную многое перевернуть. К сожалению, эта энергия чаще устремлялась по гибельному пути и не творила, а разрушала, втягивая энтузиастов в процесс разрушения. Ибо клокочущая энергия удачно сочеталась с прямолинейной рассудочностью речей, доступных деревенскому комсомольцу. П. Г. Григоренко признавался, что в юности его убеждала сталинская однозначная логика. Однозначно нацеленная ярость заражала людей. Особенно людей известного типа, энергичных исполнителей, гением которых он был. Некий внутренний бич заставлял Сталина нестись вскачь, и он заставлял других двигаться тем же аллюром. Если же движение заводило в тупик, то за «головокружение от успехов» обвинялись и наказывались другие.
Война с Гитлером дала Сталину цель, общую с миллионами людей, не мирившихся с мыслью о порабощении России. Но цель войны постепенно подменялась.
Мы начинали воевать с «фашистской силой темной», и многим показалось, что все злое в нашем государстве победа смоет, что миллионы людей, посаженных в лагеря напрасно, из страха перед «пятой колонной», после победы освободят, что исправлены будут все «перегибы», все ограничения свободы… Были даже разговоры о переходе к многопартийной системе. Молоденькие лейтенанты, не пережившие террора, выражали свои чувства грубее, проще: «после войны попов вешать будем» (из хода разговора было ясно, что попами они называли политработников). Каждый представлял себе добро по-своему, но сознание своего человеческого достоинства воинов и воля к расширению свободы были общими. Между тем, пропаганда упорно выдвигала на первое место ненависть и месть, ненависть и месть. Побеждая Гитлера на поле боя, мы принимали от Гитлера эстафету дьявола, образ мировой империи, основанной на грубой силе, и грубая сила, насилие, стала образом сталинской победы.
Сталин присвоил себе победу, украл ее у офицеров вроде лермонтовского Максима Максимовича и толстовского Тушина, решавших в оборонительных боях. Я этот тип встречал как младшего лейтенанта Гусева, лейтенанта Сидорова, я их вспоминал в «Записках гадкого утенка». Именно они сорвали блицкриг и связали руки Гитлеру в Сталинграде.
Сталин не желал слушать людей, говоривших ему, что весной 1942 г. надо было зарываться в землю, создавать глубоко эшелонированную оборону, а не лезть в ловушки, которые немцы ему расставляли. Но и Гитлер не желал слушать людей, пытавшихся преодолеть тупое упорство, с которым он сосредоточил лучшие войска в борьбе за развалины Сталинграда, давая время русскому командованию собрать резервы и несколькими ударами разрезать немецкий фронт, сотни километров которого были отданы под охрану румын, итальянцев, испанцев, венгров… И давая время всем нам, наспех собранным, наспех обученным ополченцам, стать профессиональными солдатами и офицерами.
В сталинградской битве сошлись оба процесса: задуманного штабом перехода в контрнаступление и стихийный процесс войны, обучавший войне. В боях со слабым противником войска осознали свою силу — и вдруг сказались медленно накапливавшиеся изменения в каждом из нас, в каждом отдельном солдате, сержанте, офицере, генерале. Сложилось ядро бывалых вояк, вокруг которых опыт войны перенимали новые пополнения. Против фантома героя-арийца был создан фантом «героя-сталинградца», и солдаты, нацепившие на себя гвардейские значки, осознали себя гвардейцами. «Немцы нас научат воевать, а мы их отучим», — твердила пропаганда в 1943 году. А в 44-м первую поговорку уже сменила вторая, подхваченная из далекого прошлого: «русские прусских всегда бивали, наши войска в Берлине бывали». Начинался хмель победы, безудерж воображения, направленного к новым победам и к упоению своим правом победителя, которому все позволено, любые грабежи, любые насилия.
И во хмелю люди поверили, что города сдавали солдаты и в плен сдавались солдаты, а брал города Сталин. Его никто не мог отправить в штрафной батальон за преступления 41-го, 42-го года, на его счет зачислялись только победы. И совершилась одна из величайших подмен в русской истории, где и раньше хватало подмен и подлогов.
Фантом III Интернационала уступил место фантому Третьего Рима. Но не Рима Филофея, верившего в благословение Бога, — а Рима Ксеркса.
Владимир Соловьев задал вопрос: Россия Ксеркса иль Христа? Сталин ответил: Ксеркса. И на Россию легло проклятье, лежавшее на нем, лежавшее на всех империях XX века. На пути в Берлин в городе Форст, побеседовав со старухой немкой, которую изнасиловали семь наших солдат, я вспомнил «Торжество победителей» Шиллера. И на развалинах Берлина меня попеременно заливали то волны радости за эпическую победу, то волны стыда, и я вспоминал другие строки из той же оды, в переводе Жуковского:
Все великое земное Разлетается, как дым. Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет другим…VIII. Документы
Заседание РВС: 1–3 июня 1937 года
Свидетельство очевидца генерал-лейтенанта К.Полищука
Вводная статья публикатора И. Чутко
Из сообщений газет 1 июня 1937 года страна узнала о самоубийстве начальника Политуправления Красной армии Гамарника, а 11 июня — об аресте группы высших командиров Красной армии, в том числе Тухачевского, Уборевича, Якира, Корка и Фельдмана. Мне довелось быть непосредственным свидетелем событий на совместных заседаниях Политбюро ЦК ВКП и Революционного Военного Совета Союза (РВС) в июне 1937 года в Кремле.
Пожалуй, я последний живой участник этих заседаний, и мне хочется рассказать, как все это происходило, и о некоторых участниках тех драматических событий.
Революционный Военный Совет в те времена был высшим командным и руководящим органом Красной армии и всей системы обороны страны. Под командованием РВС находились все вооруженные силы Союза — сухопутные, морские, воздушные, пограничные, — военные комиссариаты всех рангов, а также многие военно-промышленные предприятия.
В целом вся деятельность в целях обороны была прямо или косвенно подчинена РВС. Возглавлял РВС народный комиссар обороны, в состав Совета входили заместители наркома, представители промышленности, представители Совета Обороны и партии. Генеральный секретарь ВКП Сталин неизменно был членом РВС.
По мере необходимости созывались пленумы РВС, в которых участвовали командующие войсками округов и члены их военных советов, начальники центральных управлений, некоторые командиры корпусов, все начальники военных академий и некоторые военные атташе. Обычно на таких пленумах обсуждались годовые итоги деятельности Красной армии и разрабатывались планы работы на последующее время.
После пленума, как правило, проводился правительственный прием состава РВС в Кремле или Доме Красной армии, где с заключительным словом выступал Сталин. На приеме присутствовали все члены Политбюро. Обычно это происходило в декабре.
1934–1937 годы были очень тревожным временем. Особенно усилилась напряженность после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Уже до этого прошли процессы Промпартии и Южного Центра со старой инженерной интеллигенцией на скамьях подсудимых — процессы, где на открытых судебных заседаниях Рамзин и Стечкин признавались в организации контрреволюционных вредительских и диверсионных групп. Они разоблачали себя и товарищей в коварных замыслах восстановления капитализма в России. При этом не было засвидетельствовано ни одного конкретного случая вредительства. Процессы носили явно театральный характер с игрой на широкую публику, на возбуждение кровожадных эмоций. Они достигали своих целей. За ними следовали волны народных демонстраций, митингов с лозунгами «Смерть вредителям и диверсантам!» и истерические статьи в печати, требующие всеобщей бдительности и разоблачения последышей буржуазии и ее вредительских холопов в лице инженеров, профессоров и вообще всех старых спецов.
После убийства Кирова началась полоса арестов. Началась массовая чистка Ленинграда от реальных и воображаемых остатков зиновьевской оппозиции, а также того, что еще сохранялось от старой технической и культурной интеллигенции, дворянских и служилых слоев населения. Стало известно, что пачками идут расстрелы на Шпалерной; да, собственно, на митингах и собраниях объявлялось, что мы будем беспощадно мстить за Кирова. Все эти операции возглавил Жданов, председатель ленинградской тройки по рассмотрению контрреволюционных преступлений.
В парторганизациях шли последовательно чистка рядов, кампания выдачи единых партбилетов и, наконец, полоса критики и самокритики. Все эти кампании имели одну цель: дать карательным органам материалы, позволяющие держать под подозрением возможно больше людей, потенциально подготовленных к аресту и расправе.
Страх, подозрительность, доносы, клевета и разгул агентуры органов стали нормой для первого города революции.
В конце сороковых — начале пятидесятых годов в Московском авиационном институте одним из самых уважаемых студентами профессоров был Константин Ефимович Полищук. Предметом своим он владел в совершенстве, подкупал искренней доброжелательностью и артистичностью.
Поверьте, в юных душах, по крайней мере в некоторых, уже в то ледяное время хватало горьких сомнений, что все советское — непременно лучшее в мире. Наука, техника, искусство, мораль… И что наставники у нас — лучшие под луной, в том числе проросшие из так называемых выдвиженцев и уж подавно — из «красных директоров».
Между тем как раз из них был и К. Е. Полищук. Но мы этого не знали по очень простой причине: недавний «зэк», выпущенный из тюрьмы, однако не реабилитированный, он, естественно, избегал какого-либо внеаудиторского общения с нами, помалкивал обо всем, кроме своей специальности.
Сейчас Константину Ефимовичу 93 года. Родом он из крестьян, до революции окончил землемерное училище. В 1916 году вступил в партию, был пропагандистом, участвовал в гражданской войне. После войны — комиссар знаменитой школы РККА «Выстрел», затем — Высшей электротехнической школы, впоследствии преобразованной в академию (теперь Военная академия связи). Был ее начальником и одновременно комиссаром.
Такова его восходящая карьера. Но было в ней одно существенное понижение: в 1922 году комиссар академии перешел там же в рядовые слушатели — увидел, что со своим землемерным образованием занял чужое место.
Стал инженером, окончил адъюнктуру и вновь поднялся до должности начальника академии.
Арестовали его в 1937 году, отпустили в 1943, «простив». В заключении он работал в секретных конструкторских бюро НКВД с А. Н. Туполевым, В. М. Мясищевым, Р. Л. Бартини, В. М. Петляковым, «прощенный» — с Мясищевым и Туполевым, по совместительству преподавал в МАИ. Автор учебника по оборудованию самолетов и более двадцати изобретений. Генерал-лейтенант в отставке.
О заседании Реввоенсовета СССР в июне 1937 года, о начале разгрома верхушки Красной армии К. Е. Полищук рассказывает по памяти, без ссылок на архивы, литературу. Не беда. Расхождения получились, насколько можно судить, непринципиальными, лишь в некоторых деталях, а главное — документы и литература не всегда правдивее памяти. Во всяком случае, с ней тоже надо считаться.
(Далее следует текст документа.)
***
В Электротехнической академии РККА, начальником которой был я, все это можно было наблюдать в натуре: потоки грязных доносов, следующих за ними исключений из партии и, наконец, арестов. Начали один за другим исчезать преподаватели, слушатели и сотрудники. Почему, куда, по каким обвинениям — все оставалось неизвестным, в том числе и мне, и комиссару академии. Конечно, ползли слухи: арестовали шпиона Яковлева (начальник исследовательского отдела, он был в командировке в Америке), арестовали Яворского (начальник факультета), «вредителя», троцкиста и так далее.
Одно за другим шли партсобрания, на которых рассматривались дела об исключении из партии либо тех, над которыми висел меч, либо тех, на которых он уже опустился. В последних случаях парторганизации сообщалось, что такой-то изобличен как враг народа и арестован, следовало единогласное решение об исключении. Все наши частные события шли на фоне громких всенародных процессов «троцкистских блоков», сначала Каменева — Зиновьева, а затем Пятакова — Радека.
Вот в такой обстановке вечером 31 мая 1937 года я получил шифрованный вызов явиться завтра, 1 июня, на заседание РВС. Когда утром 1 июня я вошел в здание РВС (на улице Фрунзе), меня направили в секретариат наркома обороны. В комнатах секретариата и в зале заседаний уже собрались многие высшие начальники Красной армии: командующие войсками, начальники центральных управлений, начальники академии, некоторые командиры соединений. Все они сидели за столами, на которых лежали стопки отпечатанных на машинке листов бумаги. Все столы, специально поставленные, были покрыты такими материалами; сидящие за столами брали эти листки и прочитывали их, после чего вновь клали их на стол и брали другие. Все были угрюмы и молчаливы.
Когда я подошел к управделами РВС Смородинову и поздоровался, он сказал: «Идите к столам, найдите себе место и читайте разложенные материалы, заседание РВС состоится позже, когда будут прочитаны материалы». Нашел я себе место рядом с Тодорским, моим начальником по Управлению академиями, и Иппо, начальником Политической академии имени Ленина. Оба они были исключительно озабочены и безмолвны. Взял со стола стопку листов и начал читать. Листы оказались протоколами следственных показаний Тухачевского и других арестованных по обвинению в военном заговоре.
Показания были напечатаны под копирку на листках обычной бумаги, некоторые имели нумерацию, другие не имели, и все они не были сброшюрованы. Печать далеко не на всех была достаточно четкой, читать было трудно. Не сразу удавалось также подобрать последовательно страницы показаний. Чтение было торопливым. Между столами постоянно прохаживались сотрудники секретариата — Смородинов, Хмельницкий, Штерн — и просили не задерживать листы. Читать приходилось те листы, которые были свободны, а остальные были на руках у других. В общем, ознакомление было несистематическим, сумбурным.
Мне удалось прочитать показания Тухачевского и Фельдмана, не полностью Уборевича, совсем я не читал показаний Корка и Якира и, по-видимому, не очень много от этого потерял: все показания были написаны по одной и той же схеме. Схема эта была примерно такая: какова цель преступного заговора, в котором вы состояли, кто и при каких обстоятельствах завербовал вас в преступный заговор, какие преступные задания вы выполняли, от кого и сколько денег вы получали за шпионские сведения, передаваемые вами иностранной разведке, кого вы завербовали в состав военных заговорщиков и при каких обстоятельствах.
Ответы на эти вопросы были стереотипные, в основном обобщенные, с незначительными нюансами, связанными с различиями в служебном положении обвиняемого и его биографией. Конкретные факты, точные даты, количественные и результативные данные преступлений, как правило, не указывались, но показания были пышно расцвечены стандартными саморазоблачительными фразами типа «встал на преступный контрреволюционный путь предательства Родины с целью восстановления капитализма в стране, уничтожения советской власти, физического истребления членов ЦК Коммунистической партии и вождя народов мира Сталина».
Такими были, например, показания Тухачевского. В них указывалось также, что он завербовал в преступный заговор многих высших военачальников, среди них Якира, Уборевича, Корка, Фельдмана, Эйдемана, Примакова. Говорилось и о том, что Тухачевский будто бы передавал фашистской разведке чертежи и другую документацию новых образцов военной техники (самолеты, танки, реактивное оружие и прочее), а также направлял все научные и конструкторские разработки на бесплодный, вредительский путь.
По аналогичной схеме были написаны показания Фельдмана и Уборевича, с той лишь разницей, что Фельдман показывал, что его завербовали в военный заговор Гамарник и Тухачевский, хотя он самостоятельно, будучи в Германии, был завербован шпионом. Он также показывал, что сам завербовал многих генералов для участия в заговоре, в том числе и своего бывшего заместителя, ныне начальника Управления академий Тодорского. (Тодорский в это время сидел за столом рядом со мною и читал эти показания). Он указал как на завербованного на заместителя командующего войсками Ленинградского военного округа Гарькавого.
Фельдман показал, что в разное время он получал в небольших суммах деньги за шпионские сведения, а иногда ему передавали ценные подарки (часы, авторучки). Где, когда, как получал деньги, не уточнялось. Главные направления его преступной деятельности — передача шпионских данных о командных кадрах и вредительство в организации частей и соединений Красной армии и передача мобилизационных планов врагу.
Выражения «преступная», «шпионская», «контрреволюционная», «изменническая» повторялись в протоколах так часто, что составляли, по-видимому, не менее половины текста.
Уборевич также сознался в том, что имел двойную вербовку: сначала его завербовал Тухачевский с постановкой ему задач вредительства, а когда он был в Германии, его напрямую завербовала фашистская разведка. Он неоднократно получал деньги за передачу сведений о состоянии и деятельности частей и соединений Белорусского военного округа, которым он командовал. Вредительская работа Уборевича, по протоколам, включала создание неэффективных укрепленных районов на западной границе, вредительский характер боевой подготовки войск и планы сдачи территории округа врагу. Он завербовал в состав заговорщиков многих генералов штаба и соединений округа, в том числе своего начальника штаба Мерецкова (Мерецков также сидел за столом и читал эти показания).
Надо было видеть состояние духа тех, кто упоминался как завербованный в заговорщики и читал об этом в протоколах обвиняемых, сидя здесь, в зале РВС. Это был убийственный шок.
Всегда бодрый, доброжелательный, общительный Тодорский был смертельно бледен, неподвижен и безмолвен. Ни он, ни кто-нибудь из его друзей не сказали ни слова. Все угрюмо молчали, старались не глядеть друг на друга. Обстановка могильная.
В таком состоянии духа мы покинули здание РВС. Как и все, я безмолвно вышел на улицу Фрунзе и побрел, не замечая ни яркого июньского солнца, ни уличного оживления. Я не находил никакого объяснения случившемуся. Долго зная многих высших начальников Красной армии, коммунистов, героев гражданской войны, творцов обновленной, технически совершенной оборонительной системы страны, не мог представить их преступниками, изменниками, врагами народа, заговорщиками против советской власти, партии, ее руководства. Но я только что читал подписанные ими их личные показания…
Все это не укладывалось в голове: сумбур, противоречиво, дико, алогично, предчувствие великой трагедии.
Совместное заседание Политбюро ЦК и РВС Союза. Я у Спасских ворот Кремля. Обычная процедура — опрос в караульном помещении, и мы поодиночке направляемся по асфальтированной дорожке к купольному зданию заседаний ВЦИК СССР. По краям дорожки на известном расстоянии стоят охранники войск НКВД, они направляют идущих к зданию. В здании поднимаемся в круглый зал заседаний (Свердловский зал).
Здесь собрался высший состав Красной армии — генеральская и адмиральская ее верхушка, военные, политические и технические руководители. Не было только наиболее ценной группы Тухачевского, Уборевича. Они томились совсем недалеко от этого зала, в подвалах внутренней тюрьмы (Лубянка). Все сидят в рядах амфитеатра отчужденно, подавленно. Нет обычных шуток и каких-либо разговоров. Организаторы заседания тихо ходят по ковровым дорожкам и разговаривают между собою шепотом.
Из глубины зала появляются Сталин, Ворошилов, Калинин, Молотов, Жданов, Ежов, Каганович, маршалы Буденный, Блюхер. Зал встает и молча наблюдает, как президиум занимает свои места. За боковыми служебными столами рассаживаются генералы Управления РВС — Смородинов, Хмельницкий, Штерн и другие, а также руководящие работники НКВД и секретари ЦК.
Места в президиуме заняли члены Политбюро — в середине Ворошилов, Молотов, а левее их разместились Калинин, Жданов, Каганович и Ежов. Сталин сел на краю стола справа от Ворошилова. Все в президиуме выглядели очень озабоченно, даже угрюмо, если не считать Ежова. Маленького роста, почти карлик, с квадратной головой, похожий на Квазимодо из «Собора Парижской Богоматери», он был суетлив, улыбчив и о чем-то перешептывался с сопровождавшими его генералами НКВД. Он победно оглядывал президиум и зал. Сталин в своем привычном френче, в сапогах и брюках навыпуск выглядел постаревшим с тех пор, как я видел его на заседании РВС в декабре 1936 года в Доме Красной армии. Он тоже не показывал признаков угнетенности, наоборот, имел уверенный, даже веселый вид. Он с заинтересованностью оглядывал зал, искал знакомые лица и останавливал на некоторых продолжительный взгляд. Что касается Ворошилова, то на нем, что называется, лица не было. Казалось, он стал ростом меньше, поседел еще больше, появились морщины, а голос, обычно глуховатый, стал совсем хриплым. Буденный с пышными усами носил, как всегда, благожелательную улыбку, а Блюхер был сверхозабочен, тревога сквозила во всех его движениях. Маршала Егорова в зале не было.
Приглашенные разместились главным образом в передних рядах, прямо перед президиумом. Правда, передний ряд был пуст, его занимать избегали. Общее число собравшихся не превосходило ста человек.
Заседание открыл Ворошилов примерно так: полагаем, что все участвующие ознакомлены с материалами о действиях преступной контрреволюционной группы военных заговорщиков, поставивших своей целью свержение советской власти, уничтожение руководителей партии и советского правительства и реставрацию капитализма в нашей стране. Мы проворонили наличие контрреволюционного и шпионско-вредительского заговора в Красной армии, и это наша вина. Ума не приложу, как мы могли просмотреть такие преступления, не видеть, что творится на наших глазах в самом сердце Народного Комиссариата обороны. Преступления огромны, нашей обороне нанесен неисчислимый урон. Нам надо разобраться, как это могло случиться, выявить все корни заговора, его распространение в рядах армии и раз и навсегда покончить с любыми проявлениями контрреволюционных преступлений, откуда бы они ни исходили. Надо проявить величайшую бдительность, чтобы обнаружить все следы преступлений, возродить дух преданности Красной армии нашей партии, правительству, Сталину, восстановить обороноспособность страны.
Мы должны выразить высокую признательность наркомату внутренних дел и особенно Ежову за исключительно важную работу по вскрытию преступной банды Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Фельдмана, Гамарника и других изменников Родины, полностью очистить ряды армии от шпионов, вредителей, террористов, какие бы посты они ни занимали в Красной армии. Мы должны научиться распознавать преступников в наших рядах, разоблачать и беспощадно уничтожать.
Прошу высказываться по рассматриваемому вопросу. Еще раз заявляю, подчеркнул Ворошилов, что я лично в этом деле проявил недопустимую близорукость и отсутствие должной бдительности, что в дальнейшем я постараюсь исправить свои ошибки.
Все выступавшие держали слово примерно по одной схеме. Они прежде всего рассказывали о своей простоте: как это так они многие годы работали рука об руку с преступниками, дружили с ними и нигде и ни в чем не замечали их преступлений; они глубоко сожалеют о своих промашках, раскаиваются в доверчивости к врагам народа, высказывают презрение к преступникам, требуют для них беспощадной кары, обещают проявлять бдительность во вверенных им соединениях и учреждениях, обещают сделать все, чтобы возместить нанесенные заговорщиками потери и вывести Красную армию на небывалую высоту боевой готовности и преданности партии, правительству и лично товарищу Сталину.
Те, кто был назван в показаниях как завербованный заговорщиками, клялись, что они никогда ни в помыслах, ни делом не замышляли никаких преступных действий, что они грубо оклеветаны преступной бандой; требовали для изменников смертной кары. Ни один из выступавших не подверг сомнению и критике истинность показаний, их правоту и доказательность, юридическую чистоту и логичность показаний, наличие фактических данных. Никто не обратил внимание на бессодержательность материалов следствия, общие слова и отсутствие конкретных сведений (что, где, когда, чем подтверждается).
Я до сих пор не могу понять, почему такие высокие, многоопытные мужи, герои Гражданской войны и революционных действий так слепо пошли на поводу за бестолковыми, необоснованными протоколами, такими чисто хлестаковскими словесными нагромождениями. Тут, по-видимому, приложим только один закон: «если Бог хочет наказать, он прежде всего отнимет разум».
Скажу про себя: хотя какие-то инстинктивные сомнения гнездились в душе, но тот факт, что вот сейчас я сам читал личные показания знакомых мне людей, где они страстно признавались, что они преступники, что они имели цели шпионажа, вредительства, что они предавали сознательно, за деньги предавали страну, помогали врагу, ослабляли Красную армию и заставляли верить — да, это преступники, это лицемеры-изверги, они заслуживают смерти.
Все выступавшие оценивали совершенное участниками заговора как самое отвратительное преступление, мерзкую уголовщину, заслуживающую одной оценки — смерть преступнику.
По этой схеме выступили Дыбенко, Блюхер, Орлов, Кучинский, Алкснис, Осепян, Авиновицкий, Кулик, Городовиков и другие.
Из высших начальников особое впечатление произвело выступление Мерецкова. Он был назван Уборевичем как участник заговора, которого Уборевич завербовал давно и который выполнял шпионские и вредительские задания. Мерецков долгое время был начальником штаба Белорусского военного округа у Уборевича. В 1936 году Мерецков работал главным военным советником Испанской республики и лишь накануне заседания РВС вернулся из Испании. Мерецков говорил, что показания Уборевича, будто он участник военного заговора, — неслыханная клевета на него: он никогда ни единой мыслью или действием не повинен в каких-либо преступных намерениях или действиях. Он всегда, на любых постах верой и правдой служил Родине, партии, Сталину. Он поражен такой беззастенчивой клеветой Уборевича. Он на любой работе готов доказать свою преданность Родине. Что касается Уборевича, то он, Мерецков, проклинает преступника и его преступления и требует для него самой беспощадной кары.
В таком же ключе выступил и Кучинский, бывший до этого начальником штаба Украинского военного округа и долго работавший под руководством Якира.
Тодорский, которого тоже назвал в своих показаниях Фельдман как участника военного заговора, завербованного им, совсем не выступал на заседании и, как мне помнится, не являлся на эти заседания ни второго, ни третьего июня.
При всяком выступлении (они происходили с мест, без выхода на трибуну) Сталин внимательно слушал оратора, пристально смотрел на выступавшего, изредка попыхивая трубкой, а иногда вставал и прохаживался возле стола. Никаких бумаг перед ним не было, и я не замечал, чтобы он записывал что-либо. Реплики он давал редко. Замечания его были краткими. Так, во время выступления Мерецкова, когда тот клялся, что он ни в чем не виновен, Сталин сказал: «Это мы проверим», а на его заявление доказать на любой работе преданность Родине, Сталину, заметил: «Посмотрим». Все время заседаний Сталина не покидала уверенность, приподнятость настроения и даже ироничная усмешка.
Молотов, Калинин, Каганович все заседание сидели молча, с сосредоточенным видом, тоже внимательно слушали и изредка о чем-то переговаривались между собой. Ежов, напротив, вел себя очень оживленно, он то и дело вскакивал со своего места, уходил куда-то, потом снова появлялся в проходе, приближался к Сталину, шептал что-то ему на ухо, опять вскакивал и надолго исчезал из поля зрения. На лице его была квазимодовская усмешка и желание показать энергию и смелость действий. Иногда, выходя из зала, он забирал и всю команду своих помощников, которые плотно толпились у входа в зал; через час-полтора все вновь появлялись в зале, а Ежов снова шептался со Сталиным.
В течение двух дней заседаний наблюдались прямо дьявольские происшествия: из зала заседаний наяву исчезал то один, то другой военачальники. Обнаруживалось это обычно после перерывов в заседании. До перерыва рядом с вами сидел кто-нибудь из командиров, а после перерыва вы его уже не могли обнаружить в зале. Все понимали, что это значит: тут же, на наших глазах, агенты НКВД хватали того или иного деятеля и перемещали его из Кремля на Лубянскую площадь. Все мы понимали, что происходит, в кулуарах фамилии исчезнувших шепотом перекатывались волнами, но в зале все молчали, с ужасом ожидая, кто следующий. Особенно крупная утечка начальников произошла между заседаниями, в ночь с первого на второе июня. Состав пленума потерял за это время около половины своих членов — как командных, так и политических руководителей. И опять-таки никто из многоопытных мужей не поднялся в зале и не спросил, что же это такое происходит, куда деваются наши товарищи? Все, как кролики, смотрели на Сталина и Ежова, все наэлектризованно следили за движениями Ежова и его помощников, толпившихся у входа, все следили за перешептываниями Ежова со Сталиным, все думали: «пронеси, Господи!». Над всеми царил дух обреченности, покорности и ожидания.
В общем, из Свердловского зала после двух дней заседания своим ходом вышли меньше половины высших военачальников Красной армии, а другая половина под охраной ежовской команды оказалась уже на Лубянке.
В конце второго дня выступил Сталин. Он был очень бодр, уверен в себе и, я бы сказал, был весел. Он также утверждал, что в Красной армии обнаружен военный контрреволюционный заговор, организованный кучкой негодяев и т. д. Эта кучка подонков, «засранцев» (так и было сказано) вздумала пойти против нас, против руководителей ЦК. За это они поплатятся жизнью. Это жестокий урок для всех нас, мы обязаны самым тщательным образом проверить все корни и связи заговорщиков и очистить ряды Красной армии от всех изменников и их охвостьев. Надеюсь, что НКВД под руководством испытанного большевика товарища Ежова до конца выполнит свою благородную миссию.
Последнее слово на заседании сказал Ворошилов. Общий смысл его выступления был таким же, как и вводное слово. В заключение он сказал: смерть жалким предателям, ублюдкам Тухачевскому, Уборевичу, Якиру, Корку, Фельдману и всем, кто пошел против Сталина.
К концу заседания первого дня, когда слава и гордость Красной армии, ее высшие командиры выступили с покаянными речами, били себя в грудь, заявляя о верности Сталину, в зале произошло заметное оживление и даже шум. В зал в очередной раз вбежал Ежов, с кипой каких-то бумажек он подошел к Сталину, дал ему две бумажки, пошептался с ним, а затем с остальными бумажками пошел к входу в зал, к толпе своих помощников, которые удовлетворенно переговаривались друг с другом. Ежов передал своим агентам бумажки, и они начали разносить эти бумажки по рядам заседающих военачальников и давали каждому по две бумажки. Получил и я такие две бумажки в пол-листа. Это оказались заявления Бухарина и Рыкова. Они были напечатаны на машинке и имели следующее содержание. Я помню их дословно. Вот они:
«Народному комиссару
внутренних дел Н. И. Ежову
Ник. Ив. Бухарина
заявление
Настоящим заявляю, что я готов давать показания о своей контрреволюционной деятельности.
Н. Бухарин,
1 июня 1937,
Москва. Внутренняя тюрьма НКВД».
То же — от А. И. Рыкова.
Возбужденный и смеющийся Ежов торжествовал победу своих пыточных мастеров.
Забитыми, жалкими вышли мы, оставшиеся еще на воле командиры Красной армии. Что происходит? Что ждет нас? Кому верить? С одной стороны, сознание полной собственной невиновности, с другой — записанные в протоколах дознаний заявления арестованных, признающихся в тяжелейших преступлениях против всех святынь. А тут еще хватают и сажают сидящих рядом твоих товарищей, которым ты верил как себе!
Но ведь ни один выступивший на заседании не усомнился в том, что заговор имел место, не усомнился ни Ворошилов, ни те, кого тут же схватили и превратили в заговорщиков. Откуда такая слепота? Если хоть чуть-чуть критически отнестись к протоколам, то «липа» обнаруживается просто блистательно.
Все читавшие эти протоколы были слепые люди, они потеряли остроту зрения до 1937, они были изувечены культом личности, они не хотели думать, критиковать, анализировать. Они верили. И почти всем им пришлось вскоре подписывать такие же липовые собственные показания и идти на плаху.
Несмотря на грубость, невежество и очевидность обмана, постановка Ежовым спектакля военного заговора заворожила «стреляных воробьев» революционной борьбы и Гражданской войны и опытных полемистов во внутрипартийных дискуссиях и оппозиции. Как кролики, они смотрели в змеиные очи великого вождя и смиренно ждали, когда их схватят и проглотят. Иначе, чем массовым обалдением, это состояние не назовешь.
Особого замечания заслуживает поведение на заседаниях Ворошилова и Буденного — они оба работали со Сталиным многие годы, прошли с ним боевые походы, видели его грубость, лицемерие, коварство и не сделали ни одной попытки проверить и сопоставить с действительностью глупейшие нагромождения чуши в показаниях пятерки. Либо они, сидя на высших командных постах, были в самом деле безмозглые идиоты, либо они подыгрывали «великому вождю» сознательно, идейно, или боясь за собственную шкуру. Если судить по дальнейшему ходу событий и роли в них того и другого, то первое предположение, может быть, больше характеризует Буденного, а второе — Ворошилова, хотя сам он, бия себя в грудь, о себе говорил: «Я старый дурак».
Восстанавливая в памяти ход всего этого заседания Политбюро и РВС и имея опыт собственного участия в качестве кролика в дальнейшем развитии этой драмы, я убежден теперь, что поведение Сталина на этом заседании явно указывало, что в его лице мы имеем дело с автором сценария и режиссером всей этой постановки. Он ее задумал и разработал давно и ко времени осуществления уже имел полный подбор действующих лиц, подготовил их действия и все мизансцены и рассчитал ожидаемый эффект игрового действия.
Заседания Политбюро и РВС, суд и расстрел Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Фельдмана и других были прологом к дальнейшим многосерийным частям драмы по последовательному массовому уничтожению командных кадров Красной армии. В убийственном состоянии духа покинули зал все оставшиеся на воле высшие командиры Красной армии. Потеряв уверенность в себе, товарищах, руководителях, делах. Мысли, что же это происходит, что же будет дальше, стесняли волю, активность, деятельность.
Вернувшись в Ленинград, в академию, я ощутил полную опустошенность; дни за днями шли слухи, что новые и новые мои руководители и товарищи исчезают в неизвестности. Пропал начальник связи РККА Лонгва, начальник артиллерийской академии Тризна, начальник политуправления округа Славин. В академии исчезли начальник факультета Яворский, начальник научно-исследовательского отдела Яковлев, начальник учебного отдела Ковалев.
Вокруг себя я ощущал пустоту, меня явно избегали некоторые подчиненные, старались не ходить на доклады, в общем, старались держаться отчужденно, начиная с моего помощника по политчасти Саенко. Кстати, мои два бывших помощника по политчасти, Баргер и Чернявский, уже были арестованы. А 10 июля 1937 года, когда в день отдыха я с семьей был на даче под Ленинградом, ночью явились добры молодцы, приехали на моей же машине из города, устроили разгромный обыск, отвезли меня в город и бросили в известную царскую тюрьму «Кресты».
Так началось мое хождение по мукам.
Журнал «Знание — сила», 1995, № 5
Разведсводка № 8
Петр Григоренко. Из книги «В подполье можно встретить только крыс….» Нью-Йорк, 1981.Глава 18. С. 251–261.
Подлинную историю этой разведсводки я узнал лишь в 1966 году.
Как-то мой друг и учитель, российский писатель Алексей Костерин пригласил меня зайти: «Познакомлю тебя с очень интересным человеком», — сказал он. Я всегда был рад приглашению Алексея Евграфовича.
Когда я приехал, у Евграфыча никого из посторонних не было и мы, как обычно, уселись за чай и разговоры. Алексей был удивительный собеседник. Любой теме он умел придать увлекательность и, чаще всего, веселый отсвет. При этом смеялся он заливистым мальчишеским смехом. Такого заразительного смеха я больше никогда в жизни не слышал.
Я сидел спиной к входной двери и так был увлечен беседой, что не обратил внимания на стук в дверь и на хозяйское — «войдите»! Поэтому для меня было полной неожиданностью, когда улыбающийся всем лицом хозяин произнес: «Ну, вот, а теперь познакомьтесь, однополчане»… Я вскочил и пораженный уставился на не менее пораженного моего однокурсника по Академии Генерального штаба и сослуживца по Монголии и Дальнему Востоку — Василия Новобранца. В последний год нашей совместной службы мы были очень дружны. Алексей Евграфович, к которому Союз писателей направил Василия со своими мемуарами, очень быстро понял, что мы хорошо знаем друг друга. И вот свел нас. И теперь с удовольствием хохотал, глядя на нашу обоюдную растерянность. Но скоро мы овладели собой. И вот сидим вспоминаем. А затем я получаю от Василия экземпляр его рукописи мемуаров и до деталей постигаю весь ужас творившегося в военной разведке.
До Академии Генерального штаба Василий работал в войсковой разведке. После академии мы оба были назначены на оперативную работу. Работая бок о бок, подружились. За год до начала войны Василий был отозван в распоряжение Разведупра Генерального штаба, и вскоре мы узнали о назначении его начальником информационного управления. Это было прямо-таки головокружительное повышение.
Правда, шло оно в общей струе так называемых «смелых выдвижений», которые были рекомендованы самим Сталиным.
Будучи человеком умным, инициативным и мужественным, Василий Новобранец твердой рукой взял бразды управления разведывательной информацией. И когда бериевская разведка передала в Политбюро ЦК КПСС и в Генеральный штаб так называемую «югославскую схему» группировки немецких войск в Европе, Василий, внимательно ее изучив, твердо сказал: «Дезо!» (дезинформация).
Докладывая начальнику Разведупра, он сказал: «Наша схема базирована на донесениях нашей агентуры и проверена нашими „маршрутниками“ („маршрутники“ это люди, которые, ничего не зная о группировке противника, получают задание пройти определенным маршрутом и доложить обо всем замеченном по пути). Но и без этого наша схема определена. Группировка противника ясна. Она ясно выражена как наступательная. А югославы, мало того, что „не заметили“ почти четверти немецких войск, переместили большую их часть к Атлантическому океану, раскидав там без всякого смысла, они и у наших границ показывают немецкие войска на тех местах, где мы знаем, что их нет, и расположены они без оперативного смысла. В своей пояснительной записке югославы объясняют эту бессмысленность как явный признак того, что немецкие войска отведены сюда на отдых. Но это детское объяснение. Если бы даже те немецкие войска, которые показаны у Атлантического океана, действительно готовились, как утверждают югославы, к десантной операции против Англии, то войска у наших границ, даже если они пришли сюда на отдых, должны располагаться не без смысла, а в оборонительной группировке. Я не поверю, что в немецком Генеральном штабе сидят такие идиоты, которые, планируя наступательную операцию на Запад, не примут мер для прикрытия своего тыла с востока».
Начальник Главного разведывательного управления полностью согласился с этим. Но в Политбюро его даже не выслушали. Было получено указание руководствоваться в оценке состава и группировки немецких войск югославской схемой. Оказывается, эта схема понравилась Сталину и он начал руководствоваться ею. По ней, а не по разведсводке № 8, писалось и «Заявление ТАСС». Доказывая Василию Георгиевичу «мудрость», заложенную в это заявление, я оправдывал безмозглость «вождя» и объективное предательство им Родины. Заявление ТАСС лишило армию элементарной боеготовности и дезориентировало весь народ, а югославская схема наносила удары по наиболее знающим, опытным и мужественным работникам высшего руководства вооруженных сил.
Видимо, чувствуя недоверие к югославской схеме со стороны многих, Сталин собирает специальное заседание Политбюро, посвященное этой схеме. Основным докладчиком, защищавшим эту схему, был начальник разведки ведомства Берия. После нескольких человек, поддержавших докладчика, слово попросил начальник Главного разведывательного управления Советской армии генерал-лейтенант авиации Проскурин. Выступление его, спокойное по форме, несмотря на несколько злых реплик Сталина и Берия, было убедительным, всесторонне обоснованным и очень хорошо иллюстрированным. Оно не оставляло камня на камне от югославской схемы и произвело впечатление даже на сталинское Политбюро. Казалось, заколебался сам Сталин.
Но на следующий день Проскурин был арестован и впоследствии расстрелян. Начальником Главного разведывательного управления был назначен генерал-полковник (впоследствии маршал Советского Союза) Голиков Ф. И. Чуть раньше генерал армии (впоследствии Маршал Советского Союза) Жуков Г. К. сменил на посту начальника Генерального штаба генерала армии (впоследствии Маршала Советского Союза) Мерецкова. И оба эти деятеля начали настойчиво внедрять полюбившуюся Сталину югославскую схему. Между тем Информационное управление готовило очередную разведывательную сводку. Проект Новобранец доложил Голикову. Тот оставил проект у себя. Затем отправился с ним к Жукову. По возвращении вызвал Новобранца. Вернул ему проект, сухо произнес: «Вы так ничего и не поняли. В основу надо положить схему югославов!».
— Но это же «дезо»!
— Не умничайте. Сам Иосиф Виссарионович верит этой схеме. Выполняйте то, что вам приказано. Это мой и начальника Генерального штаба приказ.
Василий ушел. Что было ему делать? Вызвать исполнителей и, не глядя им в глаза, дать приказ переписать «дезу» и от имени ГРУ направить войскам как последние данные разведки? Но это же преступление, которому имени нет. И у него рождается мысль. Нелегко пойти на такое. Это почти верная смерть. Но и скрепить своей подписью страшную ложь он тоже не может. Весь следующий день он в бездействии. Не выходит из кабинета и никого не принимает. Еще день. И вдруг в самом конце дня телефонный звонок. Генерал-лейтенант танковых войск (впоследствии маршал бронетанковых войск) Рыбалко, однокашник Василия по Военной академии им. М. В. Фрунзе и один из ближайших его друзей, хочет зайти повидаться перед отъездом по новому назначению. Василий с радостью принимает его. Теплая, дружеская встреча, сбивчивые радостные разговоры, и Василий, естественно, выкладывает главный свой вопрос. Сообщает и свое решение. Рассказав, спрашивает:
— Ну, как ты думаешь?
— А ты знаешь, чем это для тебя пахнет? — вопросом на вопрос ответил Рыбалко.
— Знаю. Но я хочу знать, как ты поступил бы на моем месте?
— Это нечестно, — посерьезнел Рыбалко, — так ставить вопрос. Мне мой ответ ничем не угрожает, а тебя он на смерть может толкнуть.
— Нет, ты все же мне скажи, как бы ты поступил на моем месте? Я тебя знаю как человека мужественного и честного, и я не хотел бы, чтобы ты сейчас вилял.
— Я не виляю. Я просто не хочу отвечать.
— Нежелание отвечать — это уже ответ. Но мне сейчас хотелось бы слышать слово друга, которого я люблю. От твоего ответа ничего не зависит. Я поступлю, как наметил, но я хочу слышать, как поступил бы ты.
— Ну, что же, слушай. Если бы я был на твоем месте и не растерялся, не упал духом, если бы мне пришел в голову твой план, я бы его осуществил, чего бы это мне ни стоило.
— Ну и я не хуже тебя! План свой я выполню. И если мы больше не увидимся, то при случае скажи, что погиб я за Родину. А сейчас иди, я приступаю к выполнению плана немедленно.
Рыбалко, горячо простившись, ушел. Новобранец достал из сейфа проект сводки № 8; экземпляр № 1 положил обратно в сейф, с № 2возвратился к столу. Развернул. На первой странице в левом верхнем углу стояло
«Утверждаю»
Начальник Генерального Штаба
Жуков Г. К.
Василий взял ручку и пред словом «Начальник» поставил «п/п», что означало «подлинный подписал». Затем открыл последнюю страницу. На ней, в конце сводки, стояли две подписи. Верхняя нач. ГРУ Голикова, вторая начальника Информационного управления Новобранца. Василий пристроил «п/п» и к подписи Голикова, затем решительно расписался на положенном ему месте. Теперь этот документ для всех в ГРУ приобретал силу подлинника. Своей подписью он подтверждал не только содержание сводки, но и то, что первый экземпляр действительно подписан и Жуковым и Голиковым.
Оставалось только пустить документ в ход. Новобранец вызвал начальника канцелярии.
— Вот сводка № 8. Идет как очень важный и весьма срочный документ. Передайте сразу же в типографию. По готовности тиража немедленно разослать. Получение всем подтвердить. Как только будет получено последнее подтверждение, доложить мне, где бы я ни находился и когда бы это ни произошло.
Машина заработала. Через несколько дней все сводки достигли своих адресатов. Срочность доставки, подтверждение о получении привлекли внимание к сводке, и она немедленно попала на стол потребителей. Ее читали. О ней заговорили: в военных округах, фронтах, армиях. А в Генштабе тем временем трагедия шла к своему естественному завершению.
Новобранец, получив доклад, что все вручено адресатам, забрал первый экземпляр и пошел к Голикову. Положил ему на стол развернутым на последней странице и спокойно, но твердо попросил: «Подпишите!».
— Что это? — взвился Голиков.
— Это сводка, но править ее поздно. Я сдал в типографию без вашей подписи.
— Изъять из типографии, — взвизгнул Голиков.
— Поздно. Она уже отпечатана.
— Немедленно сюда весь тираж!
— Невозможно. Он уже разослан по адресам.
— Вернуть, — крик оборвался на самой высокой ноте.
— Поздно. Она уже вручена, и я получил все подтверждения о вручении.
Голиков вдруг стих: «Ах, так! — почти шепотом выдавил он из себя. — Вы еще пожалеете об этом». И подхватив папку со сводкой, умчался к Жукову.
На следующий день в кабинет к Новобранцу зашел генерал-майор:
— Мне приказано принять у вас дела.
Новобранец позвонил Голикову.
Тот ответил: «Да, сдавайте!».
— А мне?
— Для вас в канцелярии лежит путевка в наш одесский санаторий. Поезжайте, полечитесь. А там посмотрим, как вас использовать.
Но Василию и так было ясно. Одесский санаторий Главного разведывательного управления (ГРУ) был негласным домом предварительного заключения. Об этом в ГРУ все хорошо знали. Те из разведчиков, кому предстоял арест, посылались в этот «санаторий» и там через два-три дня, иногда через неделю, подвергались аресту. Василий рассказывал: «Не надо было большой наблюдательности, чтобы увидеть, что в Одессу я ехал под надежной охраной. Собственно, они даже и не прятались. Ехали в одном со мною купе. Я и их двое. Вторая пара в соседнем купе. Два места у тех, и одно место в моем купе свободны, хотя билетов на станциях не продают: „свободных мест нет“».
В первый же день я обошел всю территорию «санатория». Надежно ограждена и бдительно охраняется. Не убежишь. Да и куда, собственно, бежать? И зачем? Это тем более невозможно, когда вины за собою не чувствуешь. В «санатории» я, кажется, один. Никого не встретил до конца дня. И в столовой был один. Моя дорожная охрана тоже исчезла, после того как «санаторская» эмка взяла меня с поезда. На душе пакостно. Проскользнула мысль: «Могут, ведь, уже сегодня ночью забрать. И куда повезут? Или прикончат здесь? Удобных мест в „санатории“ хватает. А может, и брать не будут. Просто из-за очередного куста пустят пулю в затылок. Никто даже выстрела не услышит. И никто не узнает. Жену я волновать не хотел. Сказал: „Срочная командировка“. Значит, и она не догадается. Нет, догадается. Ведь перестанут мое жалование доставлять. И из военного дома предложат выехать». Так и ходил я по «санаторному» парку изо дня в день со своими, ой какими невеселыми мыслями.
На четвертый день проснулся от грохота бомбежки. Разрывы были не очень близко. Прикинул — со стороны военного аэродрома. «Война» — пронеслась мысль. Схватился, быстро оделся. Открываю дверь. Прямо передо мной морда.
— Вы куда?
— На телеграф!
— У нас свой есть.
— Проводите!
— У меня нет указаний.
— Сейчас не до указаний. Вы что, не понимаете — война!
— Какая война? — растерянно лепечет «морда».
— А вы что думаете, это вам теща приветы шлет? — тычу я пальцем в направлении грохота разрывов авиабомб. — Ведите меня на телеграф!
«Морда» покоряется. Торопливо ведет меня по переходам и, наконец, приводит в аппаратную. Дежурный офицер-связист вежливо приподнялся. Он тоже встревожен звуками разрывов и без возражений принимает мою телеграмму, которую я написал тут же. Вот ее текст (на имя Голикова): «Прохлаждаться в санатории, когда идет война, считаю преступлением. Прошу назначить на любую должность в действующую армию».
Выступление Молотова в 12 часов дня подтвердило то, в чем я и так был уверен: «Война началась».
Во второй половине дня прибыл и ответ на мою телеграмму: «Назначаетесь начальником разведки 6-й армии Киевского особого военного округа. Командующий армией генерал-лейтенант Мужиченко. Выехать немедленно. Голиков».
«Выехать немедленно» — легко сказать. А на чем? И куда? Где искать эту несчастную шестую в неразберихе начавшейся войны? «Но мне везло, — говорит Василий. — На третий день я уже был в армии!».
Все это он описал в своих мемуарах, которые, однако, света не увидели. Да и увидят ли? Экземпляр, который Вася подарил мне со своей дарственной надписью, изъят КГБ. Другой экземпляр попал туда же вместе с костеринским литературным архивом. Остальные два экземпляра изъяты у самого автора.
Не знаю, удастся ли ему еще раз проделать огромный труд воссоздания мемуаров и найти издателя или хотя бы хранителя до более благоприятных времен. Я во всяком случае не хочу пытаться дать краткое переложение этих мемуаров. Я хочу только показать, как «власть трудящихся» поступает с наиболее преданными сынами Родины. Человек, который шел на смерть ради того, чтобы сообщить правду об опасности, нависшей над страной, брошен в пучину войны с расчетом на то, чтоб живым он не вышел из нее.
Что происходит дальше, сообщаю только конспективно. Армия ведет упорнейшие бои, поэтому отстает от быстрее отступающих соседей и попадает в окружение. Прорывается, но снова окружена. Снова прорывается. Но боеприпасов нет, горючего нет, продовольствия тоже нет. И остатки армии мелкими отрядами пытаются пробиться через занятую врагом территорию к своим. Одним из таких отрядов командует Василий Новобранец. Непрерывные бои, походы без сна и отдыха, и отряд тает.
В конце концов, он с еще одним бойцом пытается пройти на юг, к Одессе (на восток дороги плотно перекрыты), но попадает в плен. Приговаривается к расстрелу, но бежит из-под расстрела. Тяжело заболевает, часто теряет сознание, но упорно двигается. Теперь уже на север, в Полтавщину, в село, где живет семья жены. И добирается до села, незаметно проникает в родную хату и падает без сознания, в бреду.
Постепенно его отхаживают. Температура исчезла, но слабость не позволяет двинуться дальше. И здесь кто-то открывает присутствие в доме Стешенко советского офицера и сообщает немцам. И его, слабого, еле двигающегося, забирают немцы и местные полицаи.
И когда вели его до местной комендатуры, он мучился над одним вопросом, как ему назваться? Назваться своей фамилией — нельзя. Немцы настойчиво ищут советских разведчиков. Списки последних имеются во всех комендатурах, и они, как только обнаружат разведчика, направляют его в органы немецкой разведки. А этого Новобранец боится больше всего. Начальник Информационного управления ГРУ — это «дичь» слишком крупная, и абвер несомненно ухватится за него, а это не сулит ничего хорошего.
Но нельзя дать и вымышленную фамилию. В селе наверняка знают его настоящее имя. И он избирает камуфляж. Он припоминает, что последний раз он был с женой в селе летом 1939 года в звании майора. Значит, если он назовется майором, сельские это подтвердят, а разведчик Новобранец у немцев несомненно идет подполковником. И второе, он назовется двойной фамилией: жены и своей. Он станет Стешенко-Новобранец. Против этого сельские тоже вряд ли возразят. Двойные фамилии и в селах теперь принимают, а село всё знает, что фамилия его жены Стешенко. Почему он называет себя Стешенко-Новобранец, а не наоборот? Это уже в расчете на немецкую скрупулезность. Найти в списках разведчика подполковника Новобранца под личиной майора хозяйственной службы Стешенко — это не для рядового немецкого офицера. Привесок к «Стешенко» — «Новобранец» — для этого офицера не может иметь значения.
Расчет был верный. За почти четыре года пребывания в плену немцы ни разу не заподозрили майора хозяйственной службы Стешенко-Новобранца в том, что он разведчик, подполковник Новобранец. Но кроме опасности, что немцы обнаружат его, существовала другая опасность. Мог непроизвольно выдать кто-нибудь из старых знакомых при неожиданной встрече в лагере или на этапе. Это заставляло быть всегда настороже. И как только видел он вновь появившееся знакомое лицо, то еще издали кричал: «майор Стешенко-Новобранец — выдающийся хозяйственник приветствует вас». И никто не подвел его. Все сразу принимали Стешенко и забывали о Новобранце.
Годы плена Василий провел как постоянный, активный участник Сопротивления. За это его переводили из лагеря в лагерь, все ужесточая режим. Последний год он находился в лагере с особо жестоким режимом в Норвегии. Здесь он тоже создал и возглавил подполье. Сумел связаться и с норвежским Сопротивлением. С его помощью организовал восстание в лагере. Охрану интернировали, а оружием, захваченным у охраны, вооружили военнопленных. Был создан первый советский батальон, который и пошел на освобождение других лагерей. По мере выполнения этой задачи силы росли: организовался полк, затем дивизия и, наконец, армия, которая и довершила, совместно с норвежскими силами Сопротивления, освобождение всей страны,[33] еще до капитуляции Германии. После чего разместилась гарнизонами по стране.
Командующий армией Василий Новобранец ввел в армии строгую дисциплину, благодаря чему с населением установились самые дружеские отношения. Сам Василий пользовался огромным авторитетом у руководителей норвежского Сопротивления. С большим уважением относился к нему и возвратившийся в страну король Хокон.
Беспокоило Василия только поведение Советского правительства. Он не знал, что отвечать своим бойцам и офицерам, когда они спрашивали при встрече: «Ну, как там Родина? Одобряет действия?». Что мог сказать Василий? Он сразу же после успешного начала восстания предпринял буквально героические меры, чтобы установить связь со страной. И это ему, наконец, удалось. Но в ответ на обстоятельные доклады о положении в Норвегии от Советского командования не поступало никаких указаний. Даже слова поощрения не было слышно оттуда. Выделенная Советским командованием радиостанция ограничивалась получением донесений из Норвегии и запросом различных сведений, главным образом, разведывательного характера.
Но вот война закончилась. Германия подписала акт капитуляции, подписана «Декларация о поражении Германии», а самочинно созданная из советских военнопленных армия стоит в Норвегии, не зная, что ей делать. Не получая ответа на свои телеграммы, Новобранец решает просить короля Хокона, чтобы он обратился к Советскому правительству по поводу эвакуации советских военнопленных из Норвегии. Король с радостью согласился сделать это и написал соответствующее письмо. Ответа на это письмо не последовало, но вскоре прибыла советская военная миссия во главе с генерал-майором Петром Ратовым.
Петр Ратов — мой и Василия однокашник по Академии Генерального штаба. Со мной он был и в одной группе, а с Василием был близок еще и как с разведчиком. Поэтому с глазу на глаз они были друг для друга просто Петя и Вася. Естественно, что Василий немедленно отправился к Ратову. Тот принял его по-дружески. Но когда зашел разговор о сроках эвакуации Ратов только руками развел: «Не имею никаких указаний на сей счет». Но дальнейшее показало, что указания какие-то были. Ратов, как бы между прочим, задал вопрос: «А зачем ты держишь армию под ружьем? Говорите об эвакуации военнопленных, а какие же это военнопленные, когда они вооружены, по-военному организованы и обучены, дисциплинированы. Это военная сила, а для чего она?».
— У меня сложилось впечатление, — говорил мне Василий, что Петра именно потому и прислали, что он мой приятель. Кто-то в Советском Союзе боится моей армии. И я повез Ратова по гарнизонам, чтобы он убедился, что это не заговорщики, а обычные советские люди, истосковавшиеся по родному дому и мечтающие только о нем. Ратов дал о нас благоприятную информацию, и несколько раз повторял ее. Но прошло еще почти три месяца, прежде чем за ними пришли корабли.
На погрузку все шли радостно-возбужденные. На членов корабельной команды смотрели чуть ли не как на посланцев неба. И были, естественно, поражены, столкнувшись с отчужденными взглядами, официальным, если не враждебным отношением офицеров и матросов. Особенно же неприятно поразило присутствие на кораблях сухопутных солдат и офицеров. Эти вели себя куда хуже моряков. Это были скорее лагерные охранники, чем солдаты. Они и вели себя как охрана.
— Все оружие в пирамиды! Ничего из оружия при себе не оставлять! И ощупывали выходящих из пирамиды не только взглядом, но и руками.
Все это не могло воодушевить воинов, рвавшихся на Родину. Настроение упало. Темные предчувствия навалились на людей. Офицеров отделили от солдат. Василий был изолирован в отдельной каюте, напоминавшей скорее одиночку тюрьмы, чем корабельную каюту. Предчувствия, наверно, так навалились на людей, что они не выдержали. Примерно на полпути от Осло до Ленинграда солдаты решительно потребовали показать им меня и офицеров. Возмущение, видимо, было настолько сильным, что капитан попросил Василия пойти к солдатам и успокоить их.
— И хотя у меня самого, — говорил он, — кошки скребли на душе, я вынужден был успокоить солдат. Ибо к чему могла привести вспышка возмущения? Только к гибели всех. — Но это было не худшее выступление перед солдатами. Более отвратительную роль мне предстояло еще сыграть. Когда мы прибыли к месту разгрузки, мне предложили сказать солдатам, что сразу домой их отпустить не могут, что они должны пройти через карантинные лагеря. Власти должны убедиться, что в их ряды не затесались шпионы, диверсанты, изменники Родины. Я должен был призвать их к покорности своей судьбе. И я это сделал. А потом со слезами на глазах стоял у трапа и смотрел, как гордых и мужественных людей этих прогоняли к машинам, по коридору, образованному рычащими овчарками и вооруженными людьми, никогда не бывавшими в бою и не видевшими врага в глаза. Затем увезли и меня. «Проверять», не шпион ли я, не диверсант, или изменник Родины. Без малого 10 лет страшнейших северных лагерей. И опять ему повезло. Случай помог выбраться оттуда и еще раз одеть военную форму, честь которой он берег всегда.
Итоги событий, связанных с разведсводкой № 8, можно подвести на том самом пункте, с которого ее автор отправился в Советский Концентрационный лагерь. Это был его конец. Спасти от смерти могло только чудо. В данном случае оно произошло. Но оно не закономерно. Логика вела только к могиле.
Итак. Над страной висит грозная опасность. Те, кому народ доверил свою защиту, молчат об этой опасности. Но нашелся человек, который закричал. И его крик был услышан, и это спасло миллионы жизней. Но те, кто должен был поднять тревогу и не сделал этого, набросились на него и кинули в пучину войны, рассчитывая на его гибель. Сами же они благоденствовали. На костях и крови миллионов они заработали не только высокое положение, но славу и почести. А тот, кто кричал тревогу? Если бы он не кричал, то был бы рядом, а может, и впереди тех носителей почестей и славы. Ведь он умнее и смелее их. А так как он нарушил законы бандитской шайки, то теперь вышел из войны измочаленным, изломанным и с клеймом изменника Родины (все пленные, согласно Сталину, изменники Родины). Но и такой он им опасен. Ведь придет же время, когда спросят — «а как же так получилось, что нападение врага оказалось внезапным»? Такое время еще пока не настало, но опасность уже была. И вот, когда она возникла, то Голиков и Жуков оба вспомнили про разведсводку № 8. Мы, дескать, предупреждали, но Сталин…
Вот для такого времени и нужно было, чтобы опасный свидетель молчал. Пока живы были Сталин и его ближайшие холуи, места в жизни таким, как Новобранец, не было. Но, как я уже сказал, ему снова повезло. Во-первых, умер Сталин, во-вторых, в 1954 году из Норвегии приехала рабочая делегация и в ее составе несколько человек из руководства норвежского Сопротивления, лично знавших Василия. Вот они-то и потребовали встречи с ним. Притом потребовали не у какого-то десятистепенного чиновника, а непосредственно у Председателя Совета министров СССР, во время приема у него.
Тут-то и свершилось чудо. За два дня Василия специальным самолетом доставили в Москву, восстановили в армии, присвоили воинское звание полковника и устроили встречу с его норвежскими друзьями. Подарок, достойный Санта Клауса.
IX. Философский комментарий (Продолжение)
С оглядкой на рюриковичей
В народном сознании, нацеленном на победу, победа все списывает — все безобразия опричнины, все сталинские преступления. Интересно привести несколько заметок Марка Харитонова, сделанные в то время, когда он работал над книгой «Два Ивана». Мысли его крутились вокруг Ивана Грозного, и все время возникали ассоциации между образом Грозного в народной памяти и вероятной судьбой образа Сталина в истории.
«Увы, народ в истории не только безмолвствует, он еще оставляет исторические песни. О праведном гневе царя Ивана Васильевича, например, выводившего на Руси крамолу. И народолюбивые историки разводят руками перед этим голосом, приравненным к гласу Божьему: недаром ведь в народной памяти сложился образ грозного царя. Ах, недаром.
Живи Сталин во времена, когда не было интеллигенции, — и нам осталось бы фольклорное (или якобы фольклорное) умиление („На дубу зеленом“).[34] Не повезло негодяю: сложилась уж порода свидетелей, утерявших невинность холопского почтения ко всякой власти, силе, величию. Когда-то такими интеллигентами были летописцы: в их строках живет строгое нравственное чувство.
Анекдотичные примеры бывают всего нагляднее: пришла к нам песня и о совсем недавней русской истории — о Распутине. Распутин — так это звучит. Красивый и смелый простолюдин с огнем в глазах пришел в царский дворец. Он проповедовал Библию, как пророк. Царь доверил ему править страной, и всё было хорошо. Но пришла к Распутину беда — он полюбил царицу. И это оказалось ему гибельным. Кое-кому не понравился простолюдин-пророк, презревший запреты, провозгласивший свободную любовь и ставший любовником царицы…
И попробуй вытесни потом из сознания миллионов этот образ подлинным» (М. Харитонов. Стенография конца века. М., 2002, с. 90–91. Далее цитаты приводятся по этой книге).[35]
«Возможно ли, чтобы в Англии кто-нибудь стал оправдывать Макбета или Ричарда III, обосновывая политику современных королей? А у нас Иван Грозный до сих пор чуть ли не злободневный персонаж. Поразительна не только неизжитость проблем нашей истории, но сам образ мышления, ищущий, как в Средние века, опоры в предании: в опричнине — поддержку и аналогию сталинскому террору, в царях, завоевателях и тиранах — целеустремленных пролагателях „исторически прогрессивного“ пути к нынешнему державному порядку.
Именно из-за этой неизжитости мы судим о том же Иване и его опричнине более яростно и заинтересованно, чем французы о погромщиках Варфоломеевской ночи. Там, кажется, уже всерьез и не спорят об этом, разве что о Робеспьере. Наше татарское рабство не изжито, увы, внутри нас — и потому мы не вполне свободны в суждениях о жестокостях 400-летней давности» (с. 91)
И далее две цитаты на темы Грозного:
«…В годы непосредственно предшествовавшие вступлению на престол Ивана Васильевича… Россия стала Телом Христа… Иван необыкновенно остро ощущал мистическую природу вверенного ему судьбою тела… И между двумя мистическими инстанциями — Россией и Иваном Грозным — отношения не могли установиться иначе как по законам невидимого царства духа, недоступного пониманию современных историков… Драматизм был в том, что получившая единую христианскую душу Русь стала вдруг как бы прообразом Царства Божия, которым не нужно управлять и в котором все совершается наилучшим образом по высшим законам религии, любви и братства. Но поскольку она все же не была настоящим Божьим царством… управлять ею всё-таки было необходимо… Иван понял, что для того, чтобы управлять монолитной душой России, нужно оказаться вне этой души. Но как он мог оказаться вне России, оставаясь в центре России? Только одним способом: создав внутри России особую страну, которая Россией в смысле христианского тела не являлась бы» (В. Тростников. Трагедия Ивана Грозного. — «Русское возрождение», 1980, № 12).
Это об опричнине…
А вот Даниил Андреев — из «Розы мира»: эпоха Грозного и Смуты стала «рубежом в развитии русского сознания… слишком явным и жгучим было дыхание антикосмоса, спалившее современников Грозного и Лжедмитрия. Впервые в своей истории народ пережил близость гибели, угрожавшей не от руки открытого для всех явного внешнего врага, как татары, а от непонятных сил, таящихся в нем самом и открывающих врата врагу внешнему, — сил иррациональных, таинственных и тем более устрашающих. Россия впервые ощутила, какими безднами окружено не только физическое, но и душевное ее существование. Неслыханные преступления, безнаказанно совершавшиеся главами государства, их душевные трагедии, выносившиеся напоказ всем, конфликты их совести, их безумный ужас перед загробным возмездием, эфемерность царского величия, непрочность всех начинаний, на которых не чувствовалось благословения свыше, массовые видения светлых и темных воинств, борющихся между собой за что-то самое священное, самое коренное, самое неприкосновенное в народе, может быть, за какую-то божественную его сущность, — такова была атмосфера страны от детства Грозного до детства Пeтpa» (с. 92).
Несколько ниже, после анализа мыслей Марины Цветаевой о Пугачеве, Харитонов пишет:
«О народе, я уже размышлял на эту тему по поводу отношения к Ивану Грозному: для песен тоже были отобраны легенды об исключительной милости (как царь спас добра молодца от правежа, наградил казной, наказал обидчиков и т. п.). Ведь Разин из песен — тоже не реальный Разин; о реальном Разине есть исторические свидетельства, сравнимые со свидетельствами о Пугачеве.
Народ — лучший судия?.. Тут в чем-то другом было дело. Не в поиске истины („народ“ этим не озабочен), а может быть, в необходимости иметь посильную основу — пусть не Бог весть какого, но устойчивого существования. (Для этого нужна и государственность любой ценой, и военная победа.) Истины самых мыслящих, совестливых, трезвых людей бывают не только не нужны для поддержания этой устойчивости, но опасны, разрушительны.
И что такое „народ“? Если понимать под этим массу, прежде называвшуюся „простонародьем“, т. е. массу людей минимального образовательного ценза, то почему я заведомо должен признавать первородство любых его оценок, нравственных, даже литературных? Русская традиция народопоклонства порождена отчасти давней неразвитостью у нас культурного, интеллигентского слоя, его самосознания, отчасти задавленностью самого народа, которому всегда недодавали, что вызывало совестливые комплексы у интеллигенции. В этой совестливости была своя истина, свое достоинство. Но теперь уже почти нет того народа, который творил песни, исходил из предания. Сейчас его формирует не мифическая „народная память“, а телевидение (словно кот-баюн, способный рассказывать приятные сказки) да еще водка. Так ведь и сто лет назад представление о „народе-богоносце“ было больше вымечтанным мифом, чем действительностью; опыт следующих лет это слишком показал… Во всех слоях существовало меньшинство, независимо от образовательного ценза; вот оно для меня авторитет. Но это не то же, что „народ“.
Какие „народные ценности“ помешали немцам пойти за Гитлером? Ведь Гитлера принял народ — в отличие от совестливых одиночек. Кто поставлял у нас и у них кадры палачей, охранников, доносчиков? Обманутый инстинкт может привести к национальной катастрофе (в случае поражения; победа видоизменила бы и растянула бы вырождение народа; немцев катастрофа от вырождения все-таки спасла).
Словом, у „народа“ и незаурядной личности просто разные задачи в истории. И те, и другие нужны, только личности вовсе незачем бездумно обожествлять „народ“ и его критерии. Важно знать им цену. Это не мешает восхищаться тем, что заслуживает восхищения» (с. 115–116).
Размышления Харитонова заставляют предполагать возможность нескольких новых волн идеализации Сталина; Сталин преображается в борца с бюрократами, с ворами и взяточниками. На самом деле, Сталин сажал людей честных и не способных скрыть своего возмущения явным злом да еще крестьян, вынужденных воровать с колхозного поля, чтобы не умереть с голоду. Но народ возмущен сегодняшним злом и надеется на доброго царя и выдумывает его.
У Зинаиды Миркиной был разговор на коктебельском пляже с местным жителем, ловившим рыбу. Рыбак подошел и спросил, так же ли трудно в Москве. Выслушав Зинаиду Александровну, он заключил: Сталин нужен.
В завязавшемся разговоре выяснилось, что он о реальном прошлом довольно многое знает. Знает, что сажали «за колоски» (то есть за сбор оброненных колосков на колхозном поле). И «Архипелаг» он читал; понравилось. «Но что делать? — спросил он. — Вот пенсия у соседки была 30 гривен (150 руб.), а счет за квартиру пришел на 50 гривен. И старуха повесилась».
Я пытался писать в газету об одном современном случае. Статье как будто повезло. Она сразу попала в руки сочувствующего журналиста, тот попросил прибавить пару страниц, я прибавил, и сразу же всё было напечатано; кстати, и про мой юбилей помянули. Но отклика не было никакого. Месяц спустя я имел случай побеседовать с двумя депутатами. Оба статьи не читали.
Только месяца через два в газете мелькнула заметка о горячей линии для больных ветеранов. Но только в Москве. А писал я вот о чем:
«Товарищ правительство!
Я не о Лиле Брик прошу и не за себя. После дефолта я поморщился и обратился к моим читателям, которые посостоятельнее, с просьбой помочь насчет лекарств (все дорогие запрещено было прописывать, а мне нужны были как раз дорогие). Постепенно привык к частной благотворительности и в поликлинику ходил только за тем, что не дороже трехсот рублей с чем-то. Так и в марте зашел, но оказалось, что Министерство здравоохранения установило каждой поликлинике лимит на прописывание амловаса (средство от гипертонии. — Ред.), и этот лимит на март был исчерпан уже четвертого числа. Вот если бы я зашел третьего марта, особенно с утра… Тогда я мог бы встать в очередь, чтобы получить свои таблетки в аптечном ларьке.
Я не возмутился, потому что ничего хорошего и не ждал. Раньше рецепты (на недорогие лекарства) выписывали, но в ларьке нужного часто не было. Теперь вот и вовсе прижали. Я пошел домой, позвонил в фирму, и через три часа мне лекарство прислали — сразу на три месяца. Но ведь у подавляющего большинства моих сверстников такой возможности нет. И стоит на первом этаже поликлиники унылая очередь стариков и старух.
Конечно, можно заставить нефтяных магнатов платить земельную ренту за недра, из которых они выкачивают „черное золото“. Тогда хватило бы и на учителей, и на врачей, и на старух. Но провести давно задуманный закон невозможно: „черное золото“ обменивается на желтое, а желтое — на голоса депутатов. Министерство финансов жмет на Министерство здравоохранения, а Минздрав — на того, кто с краю, конечно же, не на магнатов.
Не так давно Министерство социального обеспечения получило указание быть внимательнее к нам, участникам Сталинградской битвы. Очень долго проверяли документы. Я насилу отыскал полуистлевшую справку (интересно было, что из всего этого шума выйдет). Нас собрали, угощали водкой. Закуска богатая — бутерброды с икрой, жареная курица. Выпив, старики разговорились — что надо вернуть Сталинграду его имя. Я собрался было им возразить, но убедился, что один сосед глуховат, а другой слепнет, и пожалел их иллюзии.
Глохнувший ветеран назвал 9 октября вторым своим днем рождения. Его тогда вытащили из-под обломков рухнувшего здания. Трое из сорока подавали признаки жизни. Двое выжили… Как ему отказаться от чувства, что тогда он отдавал свою жизнь за БЕЗУСЛОВНО правое дело, и веры в то, что слово „Сталинград“ должно навеки звучать так, как оно звучало для его защитников?
Я был ранен в феврале 42-го, в очень плохо организованном наступлении против 16-й немецкой армии. И в госпитале задумался, какую роль в нашей неумелости сыграл безумный сталинский террор. У России годы размышлений, годы расставания с иллюзиями все еще впереди. Простой, прямолинейный ум противится этой работе. Для него мучительно думать, почему поражение привело Германию к богатству, а победа привела нас к нищете. Мучительно думать, что Сталинградская битва — это и победа России, и победа тирана, изнасиловавшего Россию, а жизнь, в которой ветераны замерзают насмерть в нетопленых квартирах, заставляет золотить прошлое.
Мне расхотелось спорить со сверстниками. Они свое дело сделали. И спасибо за то, что вспомнили нас, что накануне Дня защитника Отечества еще раз позвонили каждому и спросили, не нужно ли нам чего-нибудь: „Может, телевизор отремонтировать?“ — „Нет, телевизор у нас в порядке, — ответила жена, взявшая трубку. — Нам лекарства нужны“ — „Этого мы не можем“, — ответила дама из центра социального обслуживания.
И как-то сразу обрисовалось, до чего трудно бюрократической системе быть человечной! Одно министерство получило указание стать гуманным, а другое — стать экономным.
Может быть, есть какой-то путь получить от добычи нефти и газа хоть часть того, что получают от этого норвежцы? И это дало бы больше, чем переименование Волгограда?
Если бы только для стариков! Но умирают или бродят без призора и дети. И халтурщикам, привыкшим где подработать, а где украсть и пропить, будущее не светит. А честные труженики рассыпаны всюду и всюду не собраны. Они не верят громким словам. Они не знают, как бороться с господством воров и взяточников. Эта коалиция начала складываться за спиной Сталина, занимая места совестливых и самостоятельно мыслящих людей, при Брежневе теневая экономика стала захватывать целые республики и после короткой схватки победила Горбачева. Она приспособилась к демократии, как раньше приспособилась к террору, и правит во всех демократических учреждениях».
Я надеюсь на донкихотов, которые продолжают учить и лечить, на меньшинство, которому тошно от цинизма, но движение к глубинному смыслу жизни может быть только движением меньшинства. Сумеет ли оно задеть, увлечь массу — зависит от Бога и от нашей способности помочь Богу. Я не теряю надежды, но ничего определенного впереди не вижу. А пока массы мечутся от фантомов к цинизму и от цинизма к фантомам и ветераны тешат себя фантомом заботливого Сталина, как заключенные — фантомом амнистии (в лагере такие слухи назывались парашами). Только очень короткое время правда вылезала на первое место в СМИ и захватывала читателей. При Сталине правда пряталась в лагерях. Сегодня ее снова оттеснили куда-то за кулисы. Упразднение исторических источников — очень давняя традиция, которая в советское время пережила пышный расцвет.
Ли Хунчжан, взяв в плен тайпанского вана (по русской титулатуре XIX в. — великого князя), счел необходимым его казнить. Но перед этим пленник получил бумагу, тушь и кисточку — написать свое жизнеописание для имперских анналов. Так принято было издавна. Конфуцианцы более двух тысяч лет хранили — и сохранили до современных изданий и переводов — «Книгу правителя области Шан», где Шан Ян называет идеи Конфуция червями, пожирающими государство. Мудрость Конфуция требовала сохранять память о каждом значительном событии, о каждой значительной мысли, о каждом значительном человеке, даже позорившем Конфуция в своих писаниях. Живучесть китайской культуры показывает, что это хороший принцип.
В русской традиции ничего подобного нет. Никому не приходило в голову дать Разину или Пугачеву продиктовать свое жизнеописание. Сама идея такой записи, основанная на уважении к истории, выглядит нелепо в нашей стране. Мы до сих пор не знаем, действительно ли Мирович собирался освободить Иоанна VI, или это была провокация, задуманная Екатериной, чтобы устранить претендента на престол. Возможно, Мирович, подобно Леониду Николаеву, был соблазнен обещанием тайной награды за хорошо сыгранную роль. На что иное он рассчитывал? Что бы он сделал со своим Иоанном против гвардейских полков, верных матушке-государыне? Приходится повторять официальную версию, потому что никаких документов, противоречащих этой версии, нет.
Сталин — не первый продолжатель этой традиции и не последний. В конце 80-х годов я как-то упомянул о факте всего лишь тридцатилетней давности, и меня обвинили в клевете. Речь шла о возмущении рабочих Грозного, вызванном инцидентом на дискотеке. У ингуша оказался под рукой кинжал, и он заколол русского парня, с которым поспорил. Это был не первый случай. Возвращение сосланных народов было плохо подготовлено, то и дело возникали конфликты из-за попыток без всяких формальностей вселиться в свой собственный, незаконно отнятый дом. Кинжалы при этом — по слухам! — не раз пускались в ход. Русские рабочие, еще помнившие, что их сам товарищ Сталин назвал старшим братом в семье народов, возмутились. Они разоружили милицию, избрали рабочий совет — и совет отправил в Москву телеграмму с просьбой изъять город Грозный из Чечено-Ингушской АССР. В ответ была поднята целая дивизия, город окружен, и какой-то герой Советского Союза, избранный председателем совета, без боя сдал несколько пистолетов. Воевать с Москвой рабочие и не собирались, они ожидали защиты от мести за чужие преступления (не они же ссылали чеченцев и ингушей!). Москва приказала арестовать зачинщиков. Ходили слухи о расстрелах. Но только слухи.
Я был в те годы связан с молодежью, взбаламученной ХХ съездом. Кто-то из ребят ездил на место, говорил с очевидцами. Так мы узнавали и о других событиях — о бунте в Темир-Тау, подавленном воинской частью нерусского состава (по слухам, русские солдаты отказались стрелять), о кровавом подавлении демонстрации рабочих в Новочеркасске… Обо всем этом я упомянул тридцать лет спустя, и на меня пришла жалоба. Ингушский профессор писал, что никаких инцидентов, вызвавших возмущение рабочих, не было и возмущения не было, и требовал привлечь меня к ответственности за разжигание национальной розни.
Меня вызвали в прокуратуру. Я попросил отсрочку и написал другу в Мюнхен. Тот справился в архиве самиздата и прислал мне ксерокопии двух публикаций в эфемерных листках, выходивших при Горбачеве. Авторы публикаций, так же как и я, опирались на устные сообщения. Документы, возможно, были — в архивах КГБ, но они еще не были доступны. Прокуратура закрыла глаза на то, что одно недоказанное сообщение опирается на другие, тоже недоказанные; дело о возбуждении национальной розни было прекращено.
Теперь рассмотрим случай, о котором написана эта книга: прошло не тридцать лет, а семьдесят, и живых свидетелей убийства Кирова больше нет. Остаются только официальные версии или официальные дыры в информации. И можно фантазировать о прошлом, как о заговоре Мировича, создавать любые сценарии и ставить фильмы, придающие художественному вымыслу характер достоверности. Тогда становится ясной решающая роль рассказов Ольги Григорьевны Шатуновской, лично беседовавшей с конвоиром Гусевым, своими ушами слышавшего крики Леонида Николаева, лично допрашивавшей Кагановича, как он по приказу Сталина сжигал избирательные бюллетени… Все остальные соображения, как мог быть убит Киров, теряют перед этим свою силу. Факт обладает бесконечным весом для историка, и всякий вымысел, самый правдоподобный, становится нулем перед фактом, подтвержденным достоверным свидетелем. Устранить этот факт можно, только доказав лживость Ольги Григорьевны Шатуновской. Но тут у меня есть преимущество: я лично знал Ольгу Григорьевну в течение четверти века и убежден в ее правдивости, как в своей собственной. Между тем, историк, назвавший расследование Шатуновской «фальсификацией века, созданной в угоду Хрущеву» (так было передано телевидением), никогда Ольги Григорьевны в глаза не видал, не знает ее действительных отношений с Хрущевым, а валит на нее, как на мертвую (этот оборот речи здесь удивительно к месту). Ибо она в самом деле мертва и не может выступить по телевидению, и умерли все ее старые друзья, убежденные в ее правдивости, — кроме меня, случайно вошедшего в круг ее знакомых и подружившегося с ней, и, конечно, — кроме детей и внуков, записывавших рассказы своей матери и бабушки. Что победит в истории — архив ЦК, обработанный по указаниям Суслова, или записи, сделанные без всякой политической цели, с одним желанием — сохранить образ замечательной женщины?
Если верить официальным документам, то польских офицеров в Катыни расстреляли гитлеровцы: и эксгумация была сделана, и пули были извлечены из черепов — пули немецкого образца, — и какой-то митрополит присутствовал при эксгумации и подтвердил, что все по-честному. А мне рассказывали смолянки (моя первая жена была родом из Смоленска), что любой крестьянин, живший по соседству с Катынью, знает, когда и кто расстреливал. Эта частная информация оказалась чистой правдой. Официальный подлог был впервые разоблачен Ольгой Григорьевной Шатуновской. Краткая версия ее рассказа Старкову была опубликована в «АИФ», 1990, № 33; стоит привести текст полностью:
«…В частности, Павел Иванович Богоявленский, главный помощник возглавлявшего комиссию Политбюро[36] Н. Шверника, сообщил мне следующее.
Все пленные польские офицеры, находившиеся в Катыни, еще до войны с немцами были расстреляны по указанию Сталина. Когда немцы захватили этот район, совершенное злодеяние было раскрыто и о нем узнал весь мир. Но Советское правительство отказалось от этого преступления и приписало его немцам. После того как Cмоленская область была освобождена, был составлен план, ставивший своей целью доказать, что это дело рук гитлеровцев.
Тогда же была создана комиссия под председательством Шверника, в то время Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР, в которую включили митрополита, ученых, писателей для освидетельствования преступления в Катыни. К. Симонов, например, входил в эту комиссию. Но прежде чем комиссия выехала в Катынь, туда была послана группа работников Лубянки. Они выкопали трупы, погрузили их в ящики и привезли в Москву, в Институт судебной медицины. Там из них извлекли пули советского производства и вместо них заложили немецкие, в карманы им положили немецкие газеты и немецкие деньги. Потом трупы отвезли обратно, закопали и поставили на них (т. е. на могилы — Г. П.) вешки.
Комиссия во главе со Шверником и Богоявленским в это время прибыла в Катынь, опять были раскопаны трупы и установлено, что расстрел произведен немцами, потому что пули — немецкие, газеты и деньги — тоже немецкие. Об этом был составлен и обнародован акт, под которым все подписались: и митрополит, и писатели, и ученые, и сам Шверник. И это было так обнародовано.
Все это сообщил мне помощник Шверника Богоявленский, участвовавший в этой операции, план которой был составлен Сталиным. Когда Боявленский беседовал со мной, он смеялся и говорил, что вот как ловко удалось Лубянке провести общественность и вообще весь мир. Между тем думаю, что еще живы некоторые сотрудники НКВД, принимавшие участие в этой акции, а также сотрудники Института судебной медицины» («Рассказывает Ольга Шатуновская», с. 380).
Прошло еще несколько лет — и подлог был признан официально (уже при Ельцине). Новой эксгумации для этого не потребовалось.
***
Неполнота официальных документов и прямые подлоги — очень давняя традиция. Советская власть шла здесь по хорошо проторенной дороге. Фаина Гримберг в книге «Две династии» (М., 2000) жалуется: «Как не имеем мы „полного (более или менее) корпуса“ материалов о допросах сторонников Разина, так и допросы по делам пугачевцев столь же смутные и путаные, изобилующие пропусками и умолчаниями (вспомним, с какими трудностями столкнулся Пушкин, когда писал свою „Историю пугачевского бунта“, — главная трудность заключалась в недоступности материалов» (с. 337). Даже такие события, как наводнение, не всегда попадали в печать. Маркиз де Кюстин, столкнувшийся с этой особенностью русских порядков, шутил, что если бы всемирной потоп случился при императоре Николае, мы никогда бы о нем не узнали. В советское время мы просто привыкли, что сведения о происшествиях и катастрофах доходят только по слухам, что нет у нас никаких происшествий, крушений поездов, самолетов, убийств — только у них. День Победы мы празднуем не тогда, когда Кейтель подписал капитуляцию, 8 мая, а на день позже, когда товарищ Сталин выспался и подарил нам праздник. Впрочем, и Рождество мы празднуем по-своему, и только через 49 000 лет русское Рождество совпадет с западным. А потом снова разойдется…
***
После войны я попал в единственное место, где критически мыслящие личности получили свободу разбирать сталинские подлоги. Прогуливаясь между вахтой и столовой Лагерного пункта № 2 Каргопольлага, мы судили и рядили, где граница между правдой и ложью. Очень не хватало информации. Очень не хватало глубины подхода к информации. Все время мелькали ассоциации между Сталиным и Грозным, но никому не приходила в голову ассоциация с Азефом. Образ Сталина рисовался чудовищным, но крупным, он не снижался до уголовника, который заказал соперника, а потом и киллеров замочил.
Вспомним вопрос Алеши Кутьина, почему Орджоникидзе не застрелил Сталина, вместо того чтобы самому застрелиться, и ответ Ольги Григорьевны, драгоценный ответ — на детский вопрос! — о каком-то демоническом ореоле Сталина, ореоле удава, перед которым люди становились кроликами. Мы не улавливали реальности, в которой удав иногда становился мелким гадом, жалившим людей исподтишка. Прошло несколько лет — Фазиль Искандер уверенно нарисовал эту уголовную ипостась Сталина, а нам она просто не приходила в голову. Магический ореол вокруг вождя распался только после его смерти.
В 1955 году моя знакомая готовилась к экзамену. Со скукой перебирая факты, она легко вычислила, кто убил Кирова, и сказала мне об этом. Я воскликнул: «Какая изящная мысль!». Девушка удивились: при чем здесь изящество? Я не сразу мог объяснить, при чем, но слово запомнилось, а задним числом изящество решения напоминает мне переход от петель Птолемея к простой модели Коперника. Пока Сталин жил, эта простая мысль — даже в лагере, среди антисоветчиков — никому не пришла в голову. Разве только собеседнику Олега Волкова на Енисее, старику, лично знавшему участников драмы. Мы были молоды, нам в 1934 году было, в лучшем случае, 16 лет, и наш образ Сталина носил отпечаток сталинской пропаганды. Даже сравнение с Иваном Грозным Сталин сам подсказал нам. Николаев-Енисейский, однофамилец убийцы, превосходил нас не умом, а жизненным опытом, памятью времени, когда Сталин еще не был живым богом. Но и Николаеву его вывод дался мучительно трудно. Этот вывод бросал тень на весь исторический процесс, вплоть до святынь утопии. Поэтому и Ольга Григорьевна, открыв роль Сталина — заказчика убийства Кирова, — пыталась вывести ее из грязного прошлого агента Охранного отделения. И соглашаясь со мной, что можно обойтись и без этой гипотезы, все-таки тянулась к ней. Очень уж хотелось отделить донкихотский порыв ее юности от сталинской грязи. И Николаеву-Енисейскому этого хотелось. Но факты упорно выстраивались в его голове. Он знал людей, обвиненных в убийстве, знал систему охраны, не допускавшей придумку о выстреле одинокого убийцы…
История неофициальная, подлинная и подноготная, неожиданно дошла до нас из далекого прошлого. Сосед по бараку, служивший в лагере пожарником, рассказал нам о подлоге, который раскрыл. Разбирая древние грамоты, Альшиц натолкнулся на «лицевой», то есть каллиграфически переписанный свод летописи, в который нервной скорописью, на полях, был вписан боярский заговор. Альшиц проделал то, что впоследствии Ольга Григорьевна с планом двух террористических центров: отдал документ на графологическую экспертизу; экспертиза подтвердила, что вставка на полях принадлежит царю Ивану Васильевичу. По словам Альшица, статья, где он описал свое открытие, послужила главной причиной ареста. Ему инкриминировался намек на сталинские процессы 30-х годов. Альшиц решительно отрицал преступное намерение, но прогуливаясь с нами, он признавал, что аналогия действительно приходила в голову (все такие разговоры велись на прогулке, вполголоса, называя Сталина по-английски и оглядываясь, нет ли поблизости встречных). К сожалению, за Альшица я не могу поручиться, как за Шатуновскую. Он был способен и на выдумки. Но мысль о том, что боярский заговор существовал только в параноидном мозгу царя, сразу убеждала. Невероятные истории, выдававшиеся за правду на московских процессах, внушали подозрения и в подделке древних свидетельств.
Любопытно, что так же вполголоса, словно государственную тайну, мне рассказали несколько лет спустя, уже на воле, историю о еще более древнем подлоге. Есть скандинавская сага, в которой заказчиком убийства Бориса и Глеба оказывается не Святополк Окаянный, а Ярослав. Имени рассказчика я на этот раз не запомнил. Рассказчик был случайным знакомым. Но под рукой оказалась книга Фаины Гримберг «Две династии». Там нашлась разгадка. Оказалось, что сага об убийстве Борислейва опубликована и переведена на русский язык очень давно, еще в XIX веке, просто ее не принято вспоминать из пиетета к Повести временных лет и житию святых Бориса и Глеба. Гримберг подробно объясняет, почему у двух русских святых имена не славянские и не библейские, а близкие к именам казанских татар. По ее гипотезе, Борис и Глеб — не сыновья Владимира, а усыновленные им заложники, которыми он по тогдашнему обычаю обменялся с владыкой Казани при заключении вечного мира. Усыновление не давало твердых прав на киевский престол, но не исключало этого (была бы сила). Ярослав, породнившийся с Олавом Норвежским, опирался на скандинавские дружины. Борис мог рассчитывать на своих кровных родственников. «Причиной устранения Бориса и Глеба могло послужить, допустим, то, что они в борьбе за Киев могли рассчитывать на помощь и поддержку как волжских, так и дунайских болгар. О чем свидетельствует, например, предсмертный поход Бориса, который отправился „на печенегов“, а их почему-то „не оказалось на месте“, а Борис „стал на Альте“ — довольно удобно, если он собирался к Дунаю или ждал подкрепления» (с. 130).
«Каноническая версия о убиении Бориса и Глеба Святополком нам хорошо известна. Однако в 1833 году была опубликована одна из исландских саг — „Прядь об Эймунде Хрингссоне“. Уже в следующем году это произведение под именем „Эймундовой саги“ появилось на русском языке. Перевод был выполнен О. И. Сенковским, историком и филологом, также издававшим популярный журнал „Библиотека для чтения“. Сенковский выступал и как прозаик, под псевдонимом „барон Брамбеус“… Публикация „Эймундовой саги“ вызвала конфликт, Сенковского упрекали в том, что он пытается подорвать авторитет Повести временных лет, лежащей в основе русской истории. Впрочем, на стороне Сенковского, доверявшего скандинавскому источнику, выступил, например, М. П. Погодин… И до сих пор „Сага об Эймунде“ остается объектом дискуссионных суждений…
Но каковы же сведения, содержащиеся в этом источнике?
Прежде всего, в саге содержатся сведения о своего рода „втором норманнском ренессансе“, когда для борьбы с братьями после смерти отца Ярослав Владимирович использовал наемные дружины норманнов. Этот факт подтверждается и другими источниками, и связан и с женитьбой Ярослава на Ингигерд и с пребыванием в Киеве Олава Норвежского (сага даже утверждает, что Олав и Ингигерд, в русском крещении Ирина, едва ли не правили вместо Ярослава, то есть как бы с его согласия)… Эймунд и Рагнар были предводителями наемных варяжских дружин. Идентифицировать персонажей саги с персонажами Повести временных лет не составляет труда. Вальдамар — это Владимир Святославич, Виссавальд — Вышеслав, Ярислейф — Ярослав, Вартилаф — Брячислав, внук Владимира… Сомнение вызывают два лица — Бурислейф и Бурицлав. Впрочем сага их различает. Бурицлав — это хорошо известный скандинавам польский правитель Болеслав Храбрый, тесть Святополка и союзник. А Бурислейф — известный нам Борис. Любопытно, что „Эймундова сага“ — единственный источник, где Борис носит имя, похожее на „Борислав“. Впрочем, вполне логично, что создатели саги „добавили“ к имени „Борис“ титульное княжеское „слав“. Не исключено, что и сам Борис так называл себя, на славянский, княжеский лад, подчеркивая тем самым свои претензии… Ни Святополк, ни Глеб в саге не упоминаются; говорится о борьбе Ярослава и Бориса за Киев. Причем, Борис оказывается тесно связанным с „Туркландией“ — тюркоязычными народностями; он ведет на Киев, где находится Ярослав со своими норманнами, тюркоязычную „рать“. Ярославу удается одолеть Бориса хитростью, подослав Эймунда и Рагнара, которые тайно пробираются в шатер Бориса и убивают его… Кто же убийца Глеба? Где находится Святополк? На эти вопросы сага не дает ответа…
Впрочем, существует еще одна причина, вследствие которой может быть понятна ненависть Православной церкви именно к Святополку и объявление именно его убийцей Бориса и Глеба. Кстати, язычником Святополк быть не мог, тогда король-христианан Болеслав не отдал бы за него дочь. Но какого же рода христианином был Святополк? Кое-что проясняет „Хроника“ Титмара Мерзебургского, в которой говорится о заточении Владимиром Святополка вместе с его женой и ее духовником… Прибавим сюда то обстоятельство, что Владимир получил христианство из Константинополя, Болеслав же был христианином „на римский манер“… Можно сказать, что Византия дважды выиграла в борьбе с Римом: первый раз — христианизировав „по константинопольскому подобию“ дунайских болгар; и второй раз — то же самое проделав с Киевской Русью… Однако надо сказать, что в плане внешней политики это мало помогло Константинополю…
Итак, на примере истории Бориса и Глеба, мы можем понять прежде всего, как трудно „изучать и писать историю“; какая это непростая работа: сформулировать, составить, сопоставляя данные источников, ту или иную версию. И следует примириться с тем, что возможно существование нескольких версий одного и того же события. Но и это еще не все. Обратим внимание на то, что добродетели Бориса и Глеба и их убиение описаны в „Сказании“ по определенному канону; в данном случае, по византийскому житийному канону. По определенному канону описано и убийство Бориса в Эймундовой саге; но здесь задействованы модели построения фольклорные, модели сказки, легенды… Дело в том, что любой текст имеет свою структуру, состоит из определенных „канонических моментов“. Собственно информация в любом тексте подается посредством использования определенных моделей построения текста. Это совсем не означает, что тексты лгут; нет, просто надо уметь прочитать текст; надо уметь учитывать, в какое время жил создатель текста, какого был вероисповедания, каковы были его политические убеждения, у кого на службе он находился или мог находиться… Например, ясно, что Повесть временных лет ориентирована на византийские письменные традиции. Женитьба Владимира Мономаха на дочери англосаксонского правителя показывает его „англосаксонские связи“, объясняющие, в свою очередь, использование „англосаксонской модели“ в „Поучении“. Трудно понять „Войну и мир“, не разобравшись в том, как использует Толстой „модели“, задействованные в „Пармской обители“ Стендаля или в „Юлии, или Новой Элоизе“ Руссо. И невозможно ориентироваться в литературной жизни Европы XX века, не понимая мощного влияния именно русских „литературных моделей“… Итак, будем учиться уважать текст; будем учиться видеть в создателе текста, даже если мы не знаем его, все равно будем учиться видеть в нем сложную личность, имеющую свои убеждения, свою ориентацию на определенные образцы.
И, конечно, очень-очень важно понять, что вовсе не непременно мы получим ответы на все интересующие нас вопросы; даже если будем работать много и плодотворно… Зачастую важным достижением является уже сама возможность сформулировать, задать вопрос; „поставить вопрос“, что называется…
Что же касается Бориса и Глеба, то, конечно, не стоит забывать о том, какое место занимают они в русской культуре; они русские святые, этого у них не отнимешь, несмотря на все версии их происхождения и жизни и смерти…»
В истории Бориса и Глеба, пожалуй, действительно неважно, кто заказчик убийства. В исторической памяти образы убиенных настолько переросли убийц, что Бог с ними, с окаянными, готовыми зарезать родного брата ради киевского престола. Важно народное сочувствие жертвам княжеских междоусобиц. Важна легенда, воплотившая в себе сочувствие, освятившее жертвы. Другое дело — тридцатые годы XX века. Жертвы этого времени — люди грешные, и не было попыток описывать их по византийским канонам. Однако ореол божественного помазания примеривал к себе палач; сталинская легенда золотит палача, и мне страшно за наших потомков, у которых палач, того и гляди, окажется в святых. Если ставился вопрос о канонизации Гришки Распутина, то ведь и канонизацию Сталина можно себе представить…
Я надеюсь, что это только мой кошмар, но кошмар «виртуальный». Мечта о грозном царе, который покончит с коррупцией и снизит квартирную плату, может побудить очередного президента намекнуть очередному патриарху на желательность признать Сталина бичом Божьим или каким-то еще небесным избранником, изведенным убийцами в белых халатах. То, что Сталину помогли умереть, вполне вероятно, Берия этим хвастал. Но поэтика легенды способна передвинуть несколько имен, несколько дат и провести каких-нибудь мудрецов Сиона на роль Святополка, а убийц в белых халатах изобразить исполнителями всемирного заговора. Верующие, подготовленные чтением «Протоколов сионских мудрецов», вполне способны принять скорректированное издание русской истории. Цитата из статьи Тростникова (в книге Харитонова) пригодится как образец сталинского жития, и найдутся агиографы, которые выполнят заказ сердца.
Я придумал этот гротеск, еще не зная, что в патриотических газетах появились статьи, объясняющие террор тайной религиозностью Сталина, и уже тиражируется легенда, что, по его приказанию, Москву, почти окруженную немцами, обнесли иконой Божьей Матери. Любопытно, как будут оправдывать террор против крестьян, против военнопленных, закрытие церквей?
В стране, где прошлое непредсказуемо, возможно и самое невероятное в будущем.
Через путаницу добра и зла
Когда люди стали замечать сдвиги, происходящие в обществе, и заметили существование Истории, — оказалось, что это очень коварная госпожа. Каждый ее вызов может быть осознан; каждая задача отделена от других, определена — и в человеческих силах создать проект решения. Но совершенно невозможно предвидеть, к чему приведет выполненный проект.
По мере исполнения доброе дело сплетается с множеством фактов, которые не учтешь, и приносит злые плоды. Ад вымощен благими намерениями; Анатоль Франс написал об этом рассказ «Чудо святого Николая». И наоборот, дело, начатое со злым сердцем, со злой целью и злыми средствами, может где-то обернуться добром (на этом основано хвастовство Мефистофеля, положительная оценка Чингисхана, создавшего зону свободной торговли, и т. п.)
Я отвлекаюсь от того, что Чингисхан саму войну считал добрым делом. Я выношу за скобки все войны и революции. Какими прекрасными ни были цели, каким искренним ни был порыв освободительной войны, священной войны, — ясно, что насилие — средство, способное пожрать любую цель, и в ходе долгой войны цели ее неизбежно подменяются — и подменяются люди, начавшие освободительную борьбу. Поэтому возьмем пример мирного проекта, начатого с добрыми намерениями и выполненного добрыми средствами. В 1948 году возникла проблема беженцев, мешавшая заключить перемирие между арабскими странами и Израилем. Бедные арабские страны не соглашались взять на себя прокорм беженцев. Число беженцев определялось по-разному: от 550 тысяч до 900 и даже миллиона трехсот. Английская оценка может считаться компромиссной (примерно 750 000). Две богатые страны, Англия и США, взяли содержание беженцев на себя. Выделенные средства позволили бы организовать расселение беженцев и включить их в нормальную жизнь Египта, Сирии и т. д. Однако арабские страны принципиально отказывались от этого, они требовали возвращения беженцев на незаконно отнятые земли. Таким образом, осталась только одна возможность: благоустроить жизнь беженцев в лагерях.
За год до этого, в ходе раздела Индостана, число беженцев достигло 16 миллионов. Достаточной помощи не было. Индия и Пакистан вынуждены были сделать то, что делали греки с беженцами из Турции, немцы с населением Восточной Пруссии и Силезии: расселять на новых местах. Через пару лет проблема беженцев исчезла со страниц газет и журналов.
На Ближнем Востоке мешало принципиальное несогласие признать реальность Израиля, и развитие пошло другим путем. Объединенные нации, получив средства от Англии и США, создали в лагерях беженцев удовлетворительные условия жизни; молодежь училась, получала начальное, среднее и высшее образование. Арабские страны (многие из которых стали богатыми) полностью стряхнули с себя эту проблему. Палестинцам давали работу, но не предоставляли права гражданства, социальное страхование и т. п. Палестинец всюду чувствовал себя изгоем, и всюду росло чувство обиды без вины виноватых.
Особенно ярко горел костер обиды в лагерях, где оставались подрастающие дети. Они были беженцами от рождения до смерти. Лагеря стали школами ненависти, накал которой всё рос. Произошло что-то вроде превращения временной припухлости в постоянную и злокачественную опухоль. В этой психической опухоли злокачественные клетки стремительно размножались и создавали метастазы. Люди, в душе которых растет и растет обида, не способные расстаться с обидой, ставшие воплощением обиды, полны разрушительной энергии. Такая энергия создает катастрофы. Она способна взорвать мир.
Человеку, переполненному обидой, всё позволено; он это сознает и позволяет. Столкнулись две обиды: израильтян за Холокост и арабов за потерю Палестины. Сложился тип недоучившегося студента, ставшего террористом. Мы его хорошо узнали в России. Первыми террористами на Ближнем Востоке были выходцы из нашей страны; потом они выиграли войну и стали противниками террора, но дети арабских крестьян, выучившись за счет ООН, окунулись в террор, как в родную стихию.
Накал возмущения, копившегося у беженцев, хорошо описан в книге Фаваза Турки «Дневник палестинского изгнанника». Я реферировал эту книгу и хорошо ее помню. Сегодня этот накал интеллигентского возмущения, похожего на пафос революции, слился с фанатизмом традиционной религии и создал тип шахида — рыцаря глобального террора. Так доброе решение, выполненное добрыми мирными средствами, привело к злу, с которым никто не может справиться. И это не единственный пример.
Обратимся теперь к действию, начатому с заведомо недобрыми намерениями: к подхлестыванию нашего наступления от Курской дуги до Берлина. Летом 1943 г., после двух прорывов южного фронта немцев по реке Миус, наша пехота представляла собой довольно жалкое зрелище. На запад катились «студебекеры» и «шевроле» с прицепленными к ним орудиями, а за ними плелись в пыли уцелевшие пехотинцы. Немцы не мелочились, сразу отходили на хорошо подготовленную линию Вотана. И я подумал: ну что ж, исход войны решен. Теперь эти «студебекеры» и «шевроле» довезут наши пушки до границы. А Гитлера пусть добивают союзники; мы свое дело сделали.
Сталин думал иначе. В освобожденных областях мобилизовали мальчиков и стариков, избежавших угона в Германию, и пополнили стрелковые роты пушечным мясом. Возвращались в строй и легко раненные, но основной массой стрелков были «трофейные солдаты». Они легко терялись в бою и гибли несравненно чаще, чем ветераны. Обучать некогда было. Сталинские приказы требовали наступать, не считаясь с потерями.
Чего хотел Сталин? Захвата Восточной Европы, а с этого трамплина — и всей Европы. Бессмысленная затея ничего не дала, кроме растраты народных сил России и ненависти покоренных, исторически чуждых Российской империи, не желавших входить в нее и не примирившихся с порабощением. Ради этой цели, оказавшейся призраком, исчезнувшим через несколько десятков лет, солдаты и офицеры наступающей армии накачивались духом ненависти и мести, и дух этот вырвался на волю, когда мы перешли долгожданную границу, когда мы оказались «в логове зверя».
Заодно захватило и Венгрию. Вышла на русском языке книга венгерки, которую наши воины-освободители изнасиловали шестьдесят три раза и наградили сифилисом. Эта женщина не была сломлена, она сумела физически и духовно одолеть свою судьбу и на старости лет описала то, что ей пришлось перенести. Тираж книги небольшой, 500 экз., но если рукописи не горят, то тем более не сгорит книга. Надо смотреть фактам в глаза, было и такое. Хотя по большей части обходилось принуждением к сожительству: победитель показывал пистолет как ордер, и женщина покорялась. Впоследствии многие воины, вспоминая свои подвиги 1945 года, испытывали чувство стыда.
Однако допустим, что Сталин пожалел солдат, снизил темп наступления и предоставил Европу союзникам, несравненно более близким народам Центральной Европы, чем русские. Как бы союзники выполнили свою задачу? Пошли бы они на жертву миллионами жизней солдат или пустили в ход атомную бомбу?
В августе 1945 года бомбы уже были готовы. Готовились они не для Хиросимы и Нагасаки, а для Берлина и Эссена. Эйнштейн написал свое письмо Рузвельту в 1942 году, когда флаг со свастикой развевался на Эльбрусе. Казалось, что только атомная бомба может остановить Гитлера. Оппенгеймер и его команда физиков-антифашистов работали для этой цели. И медлить нельзя было: немецкие физики тоже трудились над изобретением секретного оружия…
Гитлер не капитулировал бы со второй бомбы, как Хирохито. Он не был потомком богини Аматерасу, оставшимся после капитуляции в своем дворце. Если бы фюрер не покончил с собой, его повесили бы. И после первой пары бомб он продолжал бы сопротивление до десяти, до двадцати атомных грибов, до превращения Центральной Европы в выжженную пустыню, из которой ветер разносил бы облака радиоактивной пыли на запад и восток, на север и юг.
Когда мы думаем о подвигах и преступлениях советских солдат, их разнузданность весной 1945 года кажется каплей зла сравнительно с атомной катастрофой, от которой армия, штурмовавшая Берлин, спасла Европу. Наши солдаты — простодушные варвары. Дорвавшись до окопов противника, они в плен не способны были брать, убивали сдающихся в плен, поднявших руки. А через четверть часа, когда немец, притворившийся мертвым, подымал голову, его угощали трофейной сигаретой и вели в штаб. Что-то подобное случилось и в Германии. Помрачение ума длилось две недели. После этого люди снова стали людьми и очень жалели своих квартирных хозяек, когда чехи стали поголовно выселять немцев из Судетенгау.
Бывают состояния аффекта не только у отдельных людей, но и у целых армий, целых народов. Состояние аффекта позволяет суду оправдать преступника. Но у Сталина не было временного помрачения, было постоянное господство мрака, и оно не заслуживает оправдания.
Покойный Вениамин Львович Теуш, сосед и друг четы Солженицыных в Рязани, написал комментарий к «Одному дню Ивана Денисовича». Из этого самиздатского текста мне запомнилось различие между человеческим и дьявольским злом: человеческое ожесточение перегорает и гаснет; дьявольское зло негасимо. Человеческое чувство различает врагов и друзей; дьявол с наслаждением мучает и истребляет свои собственные кадры… Моделью дьявола для Теуша явно был Сталин.
Варварское поведение солдат и офицеров показало, что ни христианизация на византийский лад, ни цивилизация на западный лад не были доведены в России до конца. Лесков писал об этом еще до разрушения культурного слоя, из которого брались царские офицеры: «Евангелие в России еще не было проповедано». Под тонким покровом культуры шевелился хаос, и напряжение войны вытолкнуло наружу наследие викингов, зарезавших Бориса и Глеба и простодушно хваставших своим подвигом. Ибо это деяние, окаянное в глазах иноков, ничем не противоречило варварской лестнице ценностей: «золото, женщины, месть, слава». Грабежи и насилия над женщинами не противоречили солдатскому пониманию воинской доблести.
Для людей, иногда даже образованных, но оставшихся душой на уровне дружин Ярослава, Сталин долго еще будет кумиром. Стихотворение Куняева о Карле XII хорошо передает их чувства. Они гордятся родством с бичом Божьим, как монголы — родством с Чингисханом. Чтобы избавиться от этого наваждения, недостаточно перекреститься на икону. Нужно преображение. Я не теряю надежды на творческое меньшинство. Но дух Сталина не раз еще будет искушать народ, хотя бы прах изверга был заложен в царь-пушку и выстрелом развеян по ветру.
Параноидный клубок в душе Сталина стал преемником «анонимных сил» истории, вырвавшихся наружу в 1914 году и с тех пор не обузданных. Об этих силах хорошо написал Гершензон: «Вокруг человека и в нем самом кишат несметные силы, о которых он вовсе не может быть осведомлен сознательно; эти силы, неуловимые для разума, чрезвычайно энергично действуют в мире… Эта война сразу приняла такие размеры и такой характер, что ее смысл как мировой катастрофы обнаружился с первых дней. Кажется, новый потоп, но уже не водный, а огненный, послан на землю за беззаконие людей… Эта черная туча, разразившаяся кровавым ливнем над Европой, скоплялась в течение многих лет… В нравственном мире, как и в физическом, есть свой закон сцепления, и порою рассеянный в мире грех собирается в грозные тучи, смывающие города и истребляющие целые царства. Нужно дать себе ясный отчет в этой простой истине, и нужно это для того, чтобы не бледнеть лицемерно или наивно перед ужасом войны, не видеть в ней внезапную напасть и не открещиваться от ответственности за нее… За нынешний ужас каждый в прошлом виновен, и по делам теперь каждому нести свою часть кары. Для нынешней катастрофы нам уже поздно каяться и поздно учиться, но надо сознать былую ошибку и научить детей».
Гершензон говорил это в Киеве, 29 марта 1917 года. Бедствия тогда только начинались. Они намного превзошли ужасы Первой мировой войны. Текст лекции о кризисе современной культуры («Избранное», т. 4. М., 2000) звучит так, как если бы она состоялась после всего страшного опыта XX века. Как избежать продолжения этого опыта, не поддаться обаянию медиумов «анонимных сил», переворачивавших вверх дном народы и государства? Как сохранить свою внутреннюю свободу перед лицом сатанинского величия? Принципы здесь не спасают. Нет такого злого дела, для которого нельзя найти прекрасного основания. «Zu Grunde kommen ist zu Grunde gehen», — писал Гегель (прийти к основанию — значит пойти ко дну). Спасает чувство «Божьего следа», как это назвал Антоний Сурожский (см. выше, в разделе «Философский комментарий», в главе «Через эпохи безумия»).
Мудрость, — если перевести слова вл. Антония на книжный язык интеллигента, — это скачок интуиции, не требующий никакого логического обоснования. Скачок интуиции, выводящий из тупика логических построений, основанных на прошлом опыте, неприменимого к неслыханной новизне. Это мудрость постоянного вглядывания в неожиданные и небывалые повороты жизни. Она не гарантирует от ошибок, но дает возможность быстро исправлять их, постоянно ставя созерцание целого выше аксиом (принципов) и логических выводов; не отказываясь от аксиом и логики, но постоянно сознавая их несовершенство в попытках ухватить истину. Мудрость требует выхода за рамки своей обусловленности эпохой и культурой, требует готовности к диалогу, в котором дух его, объединяющий людей, ставится выше столкновения реплик. Но для этого требуется взгляд на современные споры как бы с неба, как бы с птичьего полета, перешагивая через противоречия, охватывая их в неком метахудожественном и металогическом единстве…
Послесловие
Какой скачок сегодня требуется России? Как выскочить из паутины безвыходных противоречий, опутавшей весь мир? Что может сегодня сделать Россия? Начиная прямо сейчас? Восстанавливать, продолжать, расширять традиции культуры, оборванные коммунистическими экспериментами? Или создавать что-то небывалое? Мне кажется, соблазн небывалого снова искушает Россию в идеологии евразийской цивилизации. Один из творцов ее прямо признался мне, что эта цивилизация — скорее явление идеологии, чем науки, призрак величия, способный вдохновить россиян.
Привкус идеологии есть в самом слове «цивилизация». Тойнби определил цивилизацию как «наименьший круг стран, с которыми имеет дело историк, занимаясь проблемами собственной страны». Определение разваливается, если приложить его к России, Индонезии, Тибету и вообще любой стране, сложившейся на перекрестке двух или трех субглобальных цивилизаций. Историк России непременно затронет Византию (цивилизация!), мир ислама (цивилизация!), Запад (опять цивилизация!). То есть окружение России — не одна цивилизация (как для Англии, Франции и т. д.), а целых три. Определение Тойнби годится только для стран, которые и на глазок всякий относит к родственному кругу стран (Англия и Франция — страны западного христианского мира, Сирия и Египет — страны ислама). Однако в хрестоматийно плохом определении Тойнби есть одно хорошее, крепкое, точное слово — «круг» (полученное по наследству от Шпенглера). Это круг стран, а не отдельная страна. Это коалиция культур (как выразился Леви-Строс), устойчивая коалиция культур. Мысль о коалиции есть и в определении цивилизации Эмиля Дюркгейма: «своего рода моральное единство, охватывающее известное число наций, так что каждая национальная культура — только частная форма целого».
Если бы Тойнби не был эмпириком, с отвращением относившимся к сложным логическим построениям, он окинул бы с птичьего полета ход истории и разделил бы его на ступени: первые, локальные цивилизации (Шумер, Аккад, Египет); имперские попытки, обреченные на развал из-за отсутствия духовного единства (такими попытками наполнено II тысячелетие до Р. Х.); конфессионально-имперские цивилизации, объединившие племена и народы единым Священным Писанием, единым языком Святого Писания и единым шрифтом. Я их назвал субэкуменами (то есть проектами мировой цивилизации), но появление нового термина «глобализация» позволило заменить непривычный термин другим, более легким для усвоения: субглобальные цивилизации. То, что Тойнби называет цивилизацией, — субглобальные цивилизации, возникающие на основе первоначального культурного круга с появлением мировых религий.
Термин «культурный круг», по-моему, не стоит забывать. Он хорошо подходит к Ближнему Востоку до христианства и ислама. Это некоторое туманное единство нескольких смежных локальных цивилизаций, которое можно описать (и Шпенглер это делает), но нельзя строго определить. Глядя на процесс с той точки, к которой он придет, с точки зрения его «цели», — это совокупность культур, под влиянием которых и в борьбе с которыми складывался еврейский монотеизм. Я думаю, что культурный круг — хорошее описание и для ранней истории Индии.
Теперь легко понять, какую подмену, какой подлог заключает в себе идея евразийской цивилизации. Это попытка продолжить союз нерушимый республик свободных в царстве грез. Никто не спорит, что Россия — страна евразийская. Природа и история Евразии наложили на Россию свой отпечаток. Но субглобальной цивилизации Россия не создала и не создаст. Культура России расцветала в периоды открытых контактов с Византией (икона) или с Западом (литература XIX века) и глохла в периоды имперского высокомерия. Андрей Рублев строго выполнял все постановления VII Вселенского собора, и только в рамках канонов, созданных византийцами, он, быть может, превзошел своих учителей в трактовке сюжетов Троицы и Спаса. Достоевский и Толстой бесспорно превзошли своих учителей, романистов Запада. Но форму романа они заимствовали, она не выросла на русской почве. В статье о французском следе в русской культуре я писал, что наши писатели как бы ткали неповторимые русские ковры из европейских ниток. Европейское в русской культуре — это европейское в целом (не английское, не французское, не немецкое, не итальянское, не испанское), и в этом смысле оно неповторимо русское. Достоевский понимал это и в романе «Подросток» высказал устами Версилова.
Мне можно возразить, что не всё в русской литературе можно свести к монологу Версилова; я и не утверждаю, что всё. Но без европейского материала не обходятся даже размышления Лебедева, в романе «Идиот». И дальнейшее развитие русской культуры я не мыслю себе без диалога с Европой. XIX век только начал дело русской культуры — внести в европейскую (и мировую) разноголосицу свое «целостное разумение». Дело это надо продолжить. И, конечно, не только в литературе. Я думаю, русский дух расцветает в сотрудничестве с другими культурами, а не в изоляции.
Русская локальная цивилизация не имеет никаких шансов создать еще одну субглобальную коалицию. На это не хватит времени. Не хватит культурного пространства, которое можно захватить своим проектом глобализации (всё уже разобрано). Наконец — не хватит способности создать законченный круг форм культуры (ср. мою статью о гармонии форм субглобальной цивилизации в книге «Страстная односторонность и бесстрастие духа». М., 1998). Синявский назвал Россию страной Святого Духа, сильной в одухотворении любых заимствованных форм, но слабую в творчестве форм. Странички об этом в его «Голосе из хора» стоит перечесть.
Единственный пример российского цивилизационного строительства — это советская система. Она спародировала все условия субглобальной цивилизации (с замахом на глобальный масштаб: слушай, Земля, голос Кремля!). Ее Святое Писание — Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. И — «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин» (Маяковский). Наконец, и шрифт был, по возможности, унифицирован и латиница заменена кириллицей. Что из этого вышло?
России надо — как и отдельному человеку — познать себя саму. Борьба за сверхдержавность была погоней за призраком, которому приносились гигантские жертвы. Страна на пороге национального самоубийства. Мы втягиваемся в воронку глобального террора, из которого еще никто не нашел выход. Надо искать другой путь национального спасения. Стоит вспомнить, что делали некоторые народы после краха империи. Персы, например, трижды завоеванные и покоренные, не отчаялись и создали такую литературу на языке фарси, что очередные завоеватели, кызылбаши, объявили государственным этот язык, и независимость Ирана была восстановлена без единого выигранного персами сражения. Припоминается мне и надпись Бальзака на портрете Наполеона: что он не доделал мечом, я доделаю пером.
Ольга Шатуновская ошиблась, отдав в деревню всю свою библиотеку. Распределение культуры поровну на всех — бесплодное дело. Георгий Петрович Федотов одобрил решение Петра I: начинать надо с Академии, а не с народной школы. Большевики добились всеобщей грамотности, а вершины культуры разрушили, и создали массу, удобную для тоталитарного господства. Только возродив творческое меньшинство, можно поднять народ до уровня ответственной свободы.
Это дело долгое, но дорога в тысячу ли начинается с первого шага. Россия вряд ли станет стандартной европейской страной с ее местным партикуляризмом. Но вполне сбыточное дело — воссоздать вселенское понимание Европы и контакты европейского культурного мира с цивилизациями Азии. Может быть, потеряны будут некоторые территории. Но нельзя терять дух всемирной отзывчивости. Это мой философский комментарий к делу в 64 томах о преступлениях Иосифа Сталина, делу, выпотрошенному В. А. Сусловым — и все же неистребимому.
Примечания
1
Ольга Григорьевна случайно занялась жалобой на оговор и наткнулась на заинтересованность в этом деле Аджубея, зятя Хрущева. Ход к Хрущеву был таким образом закрыт, и Сердюк грубо торжествовал победу. Ольга Григорьевна не вынесла унижения и подала в отставку.
(обратно)2
«Об ушедшем веке рассказывает Ольга Шатуновская». Составители: Джана Кутьина, Андрей Бройдо, Антон Кутьин. Берлин, La Jolla, 2001 г. 453 с. Хронология с. 398–402, Комментарии с. 404–444. Библиография с. 442–444, индекс 446–453. 77 илл. — Далее страницы указываются в тексте.
(обратно)3
Камо (Симон Тер-Петросян, 1882–1922) — старый большевик, участник двух русских революций.
(обратно)4
Сталин никому не объяснял, почему он помрачнел и вышел. Услужливые холуи нашли в музыке Мурадели недостатки и сочинили постановление об опере «Великая дружба», которое изучалось в музыкальных и других кругах. Оперу сняли с постановки.
(обратно)5
Умер после долгой болезни в 2004 г.
(обратно)6
Термины ОГПУ и НКВД в тексте смешиваются. Это черта времени, когда ОГПУ только недавно было переименовано. — Г. П.
(обратно)7
В книге «Рассказывает Ольга Шатуновская» это письмо перепечатано; см. с. 382–384.
(обратно)8
Поэтому не прав г-н Жуков, писавший, что нет никаких документов об участии Сталина в убийстве Кирова («Вопросы истории», 2002, № 2). Есть тень уничтоженных документов и есть раскрытие содержания этих документов в книге Шатуновской. Противостояние официальной версии, явно лживой, и частных оценок, заслуживающих доверия, было проблемой и для составителей «Блокадной книги». В последнем, дополненном издании ее Д. Гранин пишет: «„Ленинградское дело“ до сих пор остается одной из самых запутанных страниц послевоенной жизни страны. Документы, связанные с этим делом, были уничтожены, очевидно, сразу после смерти Сталина, лично Берией и Маленковым» («Блокадная книга». М., 2003, с. 13). То, что мы знаем, — только частные сообщения. Число ленинградцев, умерших от голода, вероятно, вдвое больше официальной цифры: «Установил в своей книге Павлов — уполномоченный ГКО по Ленинграду во время войны, — что количество умерших от голода горожан составляет 600 тысяч — и всё, никакие последующие изыскания, аргументы историков не могли поколебать этой цифры. Г. К. Жуков сумел пробить в своих воспоминаниях упоминание о миллионе умерших ленинградцев. Но и это не поколебало официальные органы и таких „знатоков“, как Суслов и Брежнев» (с. 503–504).
(обратно)9
И в других статьях, вошедших во второй том сборника «Судьбы и грехи России». СПб., 1991, ч.2.
(обратно)10
В разговоре со мной (в книге этого нет) О. Г. пересказала аргументы Персица: если вы ничего не подпишете, то пойдете под трибунал как неразоружившийся троцкист. О. Г. посмотрела ему в глаза и поверила. А потом всю жизнь сомневалась, не умел ли он правдиво лгать.
(обратно)11
См. его книгу «Дон Кихот на русской почве», ч. 1 (Москва-Минск, 1996).
(обратно)12
Например, плата за должность таксиста, открывавшую возможность неконтролируемого дохода, повысилась с 1000 руб. до 2000 руб.
(обратно)13
Рашидов — секретарь ЦК Узбекистана, ставший символом симбиоза номенклатуры с мафией.
(обратно)14
В. Бакатин, на два месяца ставший Председателем КГБ, заинтересовался судьбой своего деда. Вот что он узнал:
«Мой дед, учитель, в 37-м работал на элеваторе бухгалтером. Рано утром сходил на рыбалку. Бабушка поджарила рыбу, ушла на работу в школу. Пришла — сковородка с рыбой едва начата, деда нет. Взяли, значит, прямо из-за стола. И он канул в Лету. Никто никогда его больше не видел.
Я листал его „дело“, обычный скоросшиватель, серенькие обложки. И обвинение обычное: английский и японский шпион, участник монархического заговора во главе с князем Волконским. Каждый ответ точно копировал вопрос допроса:
— Вы признаете себя виновным в создании террористической организации?
— Да, я признаю себя виновным в создании террористической организации.
— Вы признаете, что хотели взорвать элеватор?
— Да, я признаю, что хотел взорвать элеватор. И т. д…
И под каждым листом допроса — подпись. Причем у деда был каллигрофический почерк; виденные мною подписи под листами ни на что не похожи: как таракан пробежал. 27 июня его арестовали, 27 августа 1937 года он был расстрелен. Сейчас признано, что его, как и миллионы других, расстреляли просто „для счета“».
Бакатин не знал точных цифр. Но ему было очевидно, что «миллионы… расстреливали просто для счета». И семь миллионов — ни в коем случае не фантастика. Мое определение «верхний предел» примерно говорит то же. (См. Нузов В. Разговоры вполголоса. М., 2002, с. 187.)
(обратно)15
Выбор был случайным: дружила с сыновьями Шаумяна.
(обратно)16
Младший внук О. Г. — Г. П.
(обратно)17
Смело мы в бой пойдем / За власть советов, / И как один, умрем / В борьбе за это.
(обратно)18
Выгодский, один из ростовских подпольщиков.
(обратно)19
Кутьиным, будущим мужем Ольги Григорьевны. — Г. П.
(обратно)20
Вероятно — представитель. — Г. П.
(обратно)21
Сейчас слово «придурок», попав в обиход «фраеров», стало означать что-то вроде полоумный, но это лагерное слово, имевшее совершенно другой смысл. Это просто заключенный, который каким-то способом или просто по счастливой случайности оказался не на изнурительно тяжелых работах.
(обратно)22
Доходить — медленно умирать с голоду.
(обратно)23
Одно из многих выступлений против зажима внутрипартийной демократии. — Г. П.
(обратно)24
Это ей и раньше рассказывали, начиная с 1962 г. — Г. Померанц.
(обратно)25
Так в тексте О. Г. Видимо: недостаче. — Г. Померанц.
(обратно)26
?
(обратно)27
Один из демонов властолюбия.
(обратно)28
Демон властолюбия.
(обратно)29
Один из миров просветления.
(обратно)30
Одно из страдалищ.
(обратно)31
Салтыков-Щедрин.
(обратно)32
Люкс Л. Третий Рим? Третий Рейх? Третий Путь? М., 2002. С. 187–189.
(обратно)33
Часть страны была освобождена союзниками. — Г. П.
(обратно)34
В песне прославляются два сокола — Ленин и Сталин. — Г. П..
(обратно)35
Марк Харитонов в 1979 году не мог предвидеть предложения канонизировать Распутина. Дошло и до этого.
(обратно)36
Речь идет о Комиссии по расследованию сталинских преступлений.
(обратно)
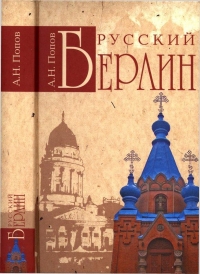
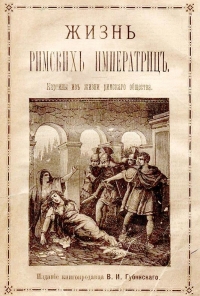

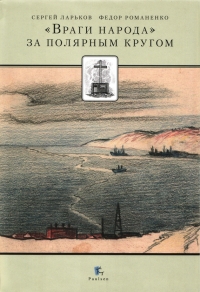


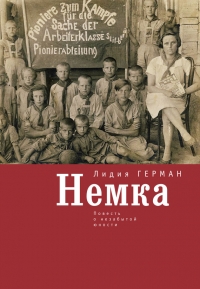

Комментарии к книге «Следствие ведет каторжанка», Григорий Соломонович Померанц
Всего 0 комментариев