Борис Грибанов Женщины, которые любили Есенина
Глава I ЛЮБОВНЫЕ ЗАБАВЫ ЮНЫХ ЛЕТ
В былые времена в народе ходила байка о том, что Господь, сотворив земную твердь, полетел над нею и, как и положено труженику, пахарю-сеятелю, разбросал щедрой рукой из лукошка куда дремучие леса, куда реки и моря, куда высокие горы, а куда и жаркие пустыни. А когда он пролетал над Рязанщиной, лукошко прорвалось, и в прореху просыпалось все самое лучшее — густые мещерские леса, полноводная Ока, пшеничные поля, яблоневые сады. Так и благословил Бог — то ли по собственной воле, то ли по воле случая — сердце России.
Потом, в самом конце девятнадцатого столетия, судьба еще раз поднесла этим краям, да и всей России тоже, подарок, дороже которого нет и быть не может, — она подарила Поэта. Он прожил на нашей многогрешной земле недолго — всего тридцать лет, но жизнь его была искрометной. Подобно падучей звезде, он прочертил небосвод русской поэзии, оставив за собой яркий, немеркнущий след. И множество разбитых женских сердец.
3 октября (21 сентября по старому стилю) 1895 года, когда в селе Константинове Рязанской губернии в семье Есениных родился мальчик, получивший при крещении имя Сергей, никто не подозревал, что он-то и есть подарок судьбы, который станет со временем гордостью всего края. Он рос обычным деревенским мальчишкой со своими мальчишечьими заботами, радостями и горестями. Впрочем, давайте остановимся и посмотрим, насколько обычными они были. Детство, окружение, прошлое семьи слишком многое определяют в становлении личности и восприятии мира, чтобы можно было ими пренебречь. Не зря Гете говорил, что, для того чтобы понять поэта, надо побывать на его родине.
Становление Есенина происходило в сложную эпоху, сложными, многоплановыми и далеко не однозначными были и его отношения с женщинами. Есенин самоутверждался всю жизнь — и в поэзии, и в любви. Но любое самоутверждение начинается с вопроса: «Кто я?»
В автобиографиях и 1922 и 1923 года Есенин подчеркивает, что он сын крестьянина. Не следует думать, что это дань тому времени, когда в любой анкете одним из главных пунктов было «социальное происхождение» и когда все преимущества оказывались на стороне тех, кто вышел из низов. Есенин не метил в чиновники, не собирался делать карьеру, он был Поэтом. Да к тому же и автобиографии эти были писаны не для отдела кадров. И все-таки он настойчиво и постоянно напоминает всем, где его корни.
Он действительно был сыном крестьянина, но только в том смысле, что его предки принадлежали к крестьянскому сословию. Формально и его дед по отцу Никита Осипович Есенин, и его дед по матери Федор Андреевич Титов числились крестьянами, но землю не пахали. Однако, и голью перекатной их назвать было нельзя.
Никита Осипович Есенин был мужиком основательным, крепко стоял на ногах, не пил, знал грамоту, держал в селе бакалейную лавочку. В Константинове его уважали, в течение ряда лет сход выбирал его старостой. Умер он сравнительно рано — сорока двух лет — и оставил свою жену Аграфену Панкратьевну с четырьмя малолетними детьми — двумя сыновьями и двумя дочерьми. Худо ли, бедно ли, но свое семейство Аграфена Панкратьевна поддерживала, брала в свою избу на постой захожих людей, богомазов, расписывавших местную церковь, монахов, бродивших по деревням и «менявших» иконы — в те времена икона с божественными ликами товаром не считалась, продать-купить ее было нельзя, можно было только «выменять». «Меняли» иконы, конечно, на деньги, но словесно святость блюлась.
Места были благодатными, поля тянулись за край земли, казалось, не обойти, не измерить их, не счесть всех богатств, которые с них можно собрать. Но и народу в тех местах было немало. Да еще с одной стороны Константинова протекала полноводная Ока, а с другой стороны вся землица принадлежала богатейшему в округе помещику Кулакову, так что прокормиться было не так просто. Сестра поэта Александра Есенина писала: «Густо заселен наш край. В редкой деревне насчитывается менее сотни дворов, а в больших селах, как Федякино, наше Константиново или Кузьминское, их по шестьсот—семьсот. В каждом таком селе живет около двух тысяч человек. И режутся эти поля на узкие полоски, как в бедной многочисленной семье режут праздничный пирог».
Местные мужики от нужды уходили на заработки кто в Москву, а кто и в сам Петербург. Константиновские чаще шли по торговой части, чуть ли не с детских лет служили «мальчиками» при пекарнях, торговых рядах, трактирах.
Сын Аграфены Кондратьевны Александр, которому было суждено стать отцом поэта, отправился в Петербург, где пошел в услужение к мяснику. Когда ему исполнилось восемнадцать лет и он в очередной раз приехал в родные края, он посватался к местной красавице Татьяне Федоровне Титовой. Ей тогда едва минуло шестнадцать, но на нее заглядывались чуть ли не все окрестные парни.
Сыграли свадьбу, но вскорости он уехал, на этот раз в Москву, оставив молодую жену в доме свекрови. По словам Александры Есениной, свекровь с невесткой не ладили, даже больше — невзлюбили друг дружку. Пошли ссоры. Властная бабушка поэта все делала, как считала нужным, в доме не переводились постояльцы, иногда их бывало помногу, и весь этот табор надо было накормить и обстирать, воды наносить, избу прибрать. Почти вся работа легла на плечи Татьяны Федоровны, но никакой награды за свои труды, если не считать ворчливые попреки и косые взгляды, она от свекрови не видела. Ушедший на «отхожий промысел» муж высылал свое жалованье в деревню, но не ей, а Аграфене Кондратьевне.
Но если уж что не заладится, то не заладится во всем. Дед Федор Андреевич Титов повздорил с дедом Есениным еще в то время, когда Татьяна Федоровна «невестилась». «Эта ссора, — вспоминала Александра, — тяжело отразилась на всей дальнейшей жизни матери, а особенно на детстве Сергея… Дедушка поздно хватился улаживать жизнь матери и после неудачных попыток тоже стал чуждаться ее. Через несколько лет мать наша, имея на руках трехлетнего Сергея, ушла от Есениных. Дедушка взял Сергея к себе, но мать послал в город добывать хлеб себе и своему сыну… Мать пять лет не жила с нашим отцом, и Сергей все это время был на воспитании у дедушки и бабушки Натальи Евтеевны. Сергей, не видя матери и отца, привык считать себя сиротою, а подчас ему было обидней и больней, чем настоящему сироте».
Дед Федор Иванович Титов был фигурой колоритной. Екатерина Есенина вспоминала его как человека, который «был умен в беседе, весел в пире и сердит во гневе». Он умел нравиться людям, ко всем находил подход. Горе он не мыкал, не бедствовал, у него было четыре баржи, которые он гонял в Петербург и в которых души не чаял — да и немудрено, так как прибыток от них был немалый. Вот свидетельство Екатерины Есениной: «Дом его стал полной чашей. В доме были работник и работница, хлеба своего хватало до нови. Лошади и сбруя были лучшими в селе». Когда Федор Андреевич глубокой осенью возвращался из торговых походов в Константиново, он по заведенному у себя обычаю устраивал пир на весь мир, на улицу перед домом выкатывали бочки с брагой и вином и угощали от души всех желающих. Увы, впоследствии Федор Андреевич разорился: две его баржи сгорели, а остальные две во время половодья сорвало с причала, течение унесло их и разбило.
В доме деда Титова Сергей прожил пять лет. Не приходится сомневаться в том, что эти годы наложили отпечаток на характер мальчика. В беседе с профессором Розановым, высоко ценившим стихи Есенина, поэт сказал: «Оглядываясь на весь пройденный путь, я все-таки должен сказать, что никто не имел для меня такого значения, как мой дед. Ему я больше всего обязан. Это был удивительный человек. Яркая личность, широкая натура, «умственный мужик». Дед имел прекрасную память и знал наизусть великое множество народных песен, но главным образом духовных стихов».
Если с дедом Титовым все ясно, то с матерью Есенина дело обстоит далеко не так. Примечательны слова Есенина в письме к Марии Бальзамовой, посланном из Москвы в конце 1912 года: «Мать нравственно умерла для меня уже давно». Их нельзя списать на обычный в семнадцать лет максимализм — письма к Марии дышат чистотой и откровенностью. Видимо, надо было достаточно настрадаться, чтобы высказаться так резко и импульсивно.
Николай Сардановский, хорошо знавший Есенина в тот ранний период, писал в своих воспоминаниях: «Сергей не выказывал никакой любви к своей семье и постоянно спорил с отцом и матерью… У нас, людей посторонних, создалось впечатление, что Есенин враждебно относился к своей семье».
С другой стороны, уже будучи взрослым человеком, Есенин не раз и в беседах с друзьями, и в письмах с любовью говорил о матери. Надо думать, что по прошествии лет он все-таки сумел понять и простить мать. Но простить за что?
О том, что в жизни Татьяны Федоровны присутствовала некая тайна, можно судить только по косвенным намекам и глухим разговорам.
Некто Атюнин в 1926 году — через год после того, как Есенин ушел из жизни, — приехал в село Константиново и, что называется «по горячим следам», начал опрашивать земляков поэта, собирая все, что они могли о нем вспомнить. Вот что он вынес из своих изысканий: «В течение четырех лет Сергей жил в мире и покое, баловень и любимчик семьи, когда неожиданно счастливый семейный дом рухнул. Его мать родила сына (который вскоре умер) — его отец не признал этого сына за своего и расстался с Татьяной, а точнее бросил ее и Сергея на произвол судьбы, перестав высылать деньги из Москвы».
Двоюродный брат Сергея Н. Титов утверждал, что вскоре (даже подозрительно скоро) после своего замужества Татьяна Федоровна тайно родила дочь, которую тихо куда-то отослали, чтобы не дать повода для пересудов. По словам того же Н. Титова, Сергей не был первенцем и появился на свет уже после рождения той дочери, о судьбе которой доподлинно ничего не известно. По всей видимости, не все ладно было между родителями, и Татьяна Федоровна ушла из дома Есениных неспроста, да и в родном доме ее встретили без радости, иначе трудно было бы объяснить, почему ее отец взял Сергея себе, а дочь отправил с глаз долой, в город. Позже Татьяна даже просила мужа о разводе, но тот отказал.
Картина складывается хотя и не полная, но все же в целом ясная: в детстве Сергей Есенин почти не знал материнской ласки, что и заставляло его подсознательно искать не просто близости с женщинами, не только удовлетворять свои желания. В не меньшей, а может быть, и в большей степени он ждал от женщин проявления чувств, чем-то похожих на материнские. Разве не этим объясняется тот известный факт, что все женщины, которыми он увлекался или которых действительно любил, были старше его, если не считать последний год жизни?
Возможно, кому-то это утверждение покажется спорным, однако из дальнейшего нашего повествования многое станет более чем очевидным.
Уже в детские годы в характере Сергея Есенина проявилась черта, которую нельзя было не заметить ни тогда, ни позже. Он желал главенствовать, быть во всем первым. В этом своем желании он не видел ничего дурного и не скрывал его, он даже неоднократно писал о нем. Вернемся к автобиографии 1922 года: «Из мальчишек со мной никто не мог тягаться… Я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах». Конечно, кому не хочется прихвастнуть своей удалью? Но вот свидетельство соученика Есенина по сельской школе Клавдия Воронцова, которому незачем приукрашивать образ знаменитого земляка: «Среди учеников он всегда отличался способностями и был в числе первых… Он верховодил среди ребятишек и в неучебное время. Без него ни одна драка не обойдется, хотя и ему попадало, но и от него вдвое».
Атюнин, о чьих изысканиях мы уже сказали, писал: «Во всех проказах учеников Сергей был заводилой и вожаком, его приятели, посмеиваясь, называли его воеводой. Несмотря на то, что Сергей рос слабым, тщедушным, никто не решался обидеть его, он немедленно ввязывался в яростный кулачный бой».
Потом, уже в зрелые годы, он напишет:
Худощавый и низкорослый, Средь мальчишек всегда герой, Часто, часто с разбитым носом Приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме Я цедил сквозь разбитый рот: «Ничего! Я споткнулся о камень, Это к завтраму заживет».Из его же автобиографии: «Сверстники мои были ребята озорные. С ними я лазил по чужим огородам. Убегал дня на 2–3 в луга и питался вместе с пастухами рыбой, которую мы ловили в маленьких озерах, сначала замутив воду руками, или выводками утят. После, когда я возвращался, мне частенько влетало».
И еще одно признание: «Рос озорным и непослушным. Был драчуном. Дед иногда сам заставлял драться, чтобы крепче был».
Рядом были «наставники и пример для подражания» — он рос вместе с тремя дядьями, которые были постарше его и отличались буйным характером. Их шалости носили зачастую далеко не невинный характер. Когда Сергею было всего года три с половиной, дядья смеха ради посадили его на лошадь без седла и хлестнули ее, чтобы скакала порезвей. Потом Есенин с гордостью вспоминал, что очумел от страха и в отчаянии вцепился ручонками в гриву, но все-таки сумел удержаться и не свалился наземь.
Дядья научили его плавать — самым варварским и самым действенным способом. Вывозили его в лодке на реку и бросали в воду. Побарахтавшись раз-другой и нахлебавшись воды, он быстро научился держаться на плаву. Их же «заслугой» было и то, что Есенин стал первым среди мальчишек в небезопасной забаве — в лазанье по деревьям. Он стал первым во всем, потому что им владело желание главенствовать.
И все же кое в чем Сережа Есенин отличался от своих сверстников-сорванцов. Впрочем, слово «отличался» не совсем точно отражает суть дела — он просто был иным, в нем пробуждался Поэт.
К стихам Есенина потянуло рано — лет с девяти.
Любой талант, в том числе и поэтический, от Бога. Однако он подобен зерну, брошенному в землю, он растет и питается теми силами, которые находит в ней. Такой почвой оказалась для Есенина песенная народная среда. «К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец даже слагал их», — писал Есенин. И еще: «Книга не была у нас совершенно исключительным и редким явлением, как во многих других избах. Насколько я себя помню, помню и толстые книги в кожаных переплетах. Но ни книжника, ни библиофила это из меня не сделало… Устное слово всегда играло в моей жизни гораздо большую роль… В детстве я рос, дыша атмосферой народной поэзии».
Приведем еще две цитаты из есенинских автобиографий. 1923 год: «Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки. Некоторые сказки с плохими концами мне не нравились, и я их переделывал на свой лад. Стихи начал писать, подражая частушкам». Еще через год Есенин подтверждает уже сказанное ранее, но более пространно: «Часто собирались у нас дома слепцы, странствующие по селам, пели духовные стихи о прекрасном рае, о Лазаре, о Миколе и о женихе, светлом госте из града неведомого… Дедушка пел мне песни старые, такие тягучие, заунывные. По субботам и воскресным дням он рассказывал мне Библию и священную историю… Влияние на мое творчество в самом начале имели деревенские частушки».
В стихотворении «Мой путь», относящемся к 1925 году, Есенин опять возвращается к истокам своего творчества:
Тогда впервые С рифмой я схлестнулся. От сонма чувств Вскружилась голова. И я сказал: Коль этот зуд проснулся, Всю душу выплещу в слова.И далее следует очень важное признание — он мечтает о славе:
Тогда в мозгу, Влеченьем к музе сжатом, Текли мечтанья В тайной тишине, Что буду я Известным и богатым И будет памятник Стоять в Рязани мне.Жажда признания, жажда славы зародилась в нем очень рано. Кстати, забегая немного вперед, следует отметить, что все люди, пользующиеся популярностью, заслуженной или мнимой, выглядели в его глазах по-особому, он непременно хотел сблизиться с ними, встать с ними вровень, и это наложило заметный отпечаток на его романы с некоторыми женщинами, в том числе и с Зинаидой Райх, и с Айседорой Дункан. Однако о них попозже.
О том, насколько всепоглощающей стала с годами эта жажда, можно судить по небольшому, однако очень красноречивому эпизоду из «Романа без вранья» Анатолия Мариенгофа, друга и соратника Есенина по «Ордену имажинистов».
Они с Есениным шли по Кузнецкому мосту и увидели Шаляпина, который возвышался над толпой, как величественный монумент самому себе. Прохожие пялили на него глаза, тыкали в его сторону пальцами, норовили заглянуть под поля шляпы. Кругом слышался шепот: «Шаляпин!»
«Я почувствовал, — вспоминал Мариенгоф, — как задрожала рука Есенина. Расширились зрачки. На желтоватых, матовых его щеках от волнения выступил румянец. Он выдавил из себя задыхающимся (от ревности? от зависти? от восторга?) голосом:
— Вот это слава!
И тогда, на Кузнецком, я понял, что этой глупой, этой замечательной, этой страшной славе Есенин принесет в жертву свою жизнь».
Но все это было еще впереди. А сейчас следует вернуться во времена юности Есенина и взглянуть на него глазами его знакомых. Нельзя не подчеркнуть, что необыкновенная красота Сергея Есенина играла в его жизни и в его отношениях с женщинами первостепенную роль. Вот как описывал Есенина Николай Сардановский, товарищ Сергея по Константинову:
«Внешне он не производил впечатление человека болезненного, хотя в юности у него были осложнения с легкими. У него было красивое и очень белое лицо. Прекрасные, ярко–синие глаза. Он всегда смотрел вам прямо в глаза. Рот очень подвижный и выразительный. Мягкие, золотые волосы… Он постоянно жестикулировал руками в своей особой, свойственной только ему манере… Он всегда был аккуратно одет, даже с некоторой претензией на щегольство. Будучи очень привлекательным юношей, он обычно говорил мне, что не придает особого значения своему внешнему виду… Позднее он соглашался, что внешность играет немаловажную роль».
Немудрено, что девчонки из Константинова и других ближних сел, собиравшиеся осенью и зимой на веселые посиделки, млели от этого писаного красавца, строили ему глазки, пытаясь принятыми в деревне способами привлечь его внимание. Впрочем, особого труда это не составляло.
Сардановский пишет: «Насколько я припоминаю его, он был чрезвычайно влюбчив, ему очень нравились женщины».
Ему вторит уже упоминавшийся ранее Атюнин:
«Он любил слушать гармонь и поэтому часто посещал посиделки. В своих эскападах он не выделял кого-нибудь из девушек, он любил ухаживать за женщинами, но никому не отдавал явного предпочтения. Только позднее он серьезно влюбился в сестру своего друга Анну Сардановскую. Однажды летним вечером Анна и Сергей, оба сильно раскрасневшиеся, прибежали в дом священника (мать Анны, учительница в селе Дединове, родственница константиновского священника Смирнова, летом обычно приезжала с детьми и жила в гостеприимном доме Смирнова), держась за руки, и попросили монахиню разнять их руки, заявив, «мы любим друг друга и поклялись в будущем пожениться. Разнимите наши руки, и тот, кто предаст клятву и женится первым, пусть будет избит другим хворостиной».
Анна первая нарушила клятву и вышла замуж. Узнав о ее «измене», Есенин написал ей письмо через монахиню, требуя, чтобы та изо всех сил выпорола Анну.
Спустя несколько лет в стихотворении «Мой путь» Есенин вспомянет этот эпизод своей юности:
В пятнадцать лет Взлюбил я до печенок И сладко думал, Лишь уединюсь, Что я на этой, Лучшей из девчонок, Достигнув возраста, женюсь.Неизвестно, с кем из константиновских девочек потерял невинность Сережа Есенин, но его неудержимое влечение к женщине нашло свое яркое поэтическое выражение в прекрасных стихотворениях написанных в 1910–1911 годах, когда Есенин уже учился в Спас-Клепиковской церковно-учительской школе: «Выткался на озере алый цвет зари…» и «Темна ноченька, не спится…»
Какая подлинная страстность звучит в этих строках:
…Знаю, выйдешь к вечеру за кольцо дорог, Сядем в копны свежие под соседний стог. Зацелую допьяна, изомну, как цвет, Хмельному от радости пересуду нет. Ты сама под ласками сбросишь шелк фаты, Унесу я пьяную до утра в кусты…Тот же мотив звучит и в стихотворении «Темна ноченька, не спится…»:
…Залюбуюсь, загляжусь ли На девичью красоту, А пойду плясать под гусли, Так сорву твою фату. В терем темный, в лес зеленый, На шелковы купыри, Уведу тебя под склоны Вплоть до маковой зари.Однако не стоит думать, что Есенин, пользуясь своим обаянием, стал записным ловеласом. Если судить по воспоминаниям его земляков, на вечеринках и посиделках он вел себя скромно, во время прогулок с девушками читал стихи, чаще не свои, а Лермонтова, и никогда не хвастался своими победами, которых было, надо полагать, не мало, но и не так уж много. Очень часто он довольствовался чисто платонической любовью.
В 1912 году, когда ему было семнадцать лет, Аня Сардановская познакомила Есенина со своей подругой Марией Бальзамовой. Об этом знакомстве Сергей писал своему задушевному другу Грише Панфилову: «Встреча эта на меня так подействовала, потому что после трех дней общения она уехала и в последний вечер в саду просила меня быть ее другом. Я согласился. Эта девушка тургеневская Лиза («Дворянское гнездо») по своей душе и по своим качествам, за исключением религиозных воззрений. Я простился с ней, знаю, что навсегда, но она не изгладится из моей памяти при встрече с другой такой же женщиной».
Насчет «прощанья навсегда» Есенин явно поторопился. Между ним и Марией Бальзамовой завязалась довольно оживленная переписка. Сохранились письма семнадцатилетнего Сергея Есенина, из которых вырисовывается облик чувствительного юноши, в чем-то закомплексованного, открытого для любви и нежной дружбы.
Из письма от 23 июля 1912 года:
«Маня! После твоего отъезда я прочитал твое письмо. Ты просишь у меня прощения, сама не знаешь, за что. Что это с тобой?
Ну вот, ты и уехала… Тяжелая грусть облегла мою душу, и мне кажется, ты все мое сокровище души увезла с собой…
Я недолго стоял на дороге; как только вы своротили, я ушел… И мной какое-то тоскливое, тоскливое овладело чувство. Что было мне делать, — я не мог придумать. Почему-то мешала одна дума о тебе всему рою других. Жаль мне тебя всею душой, и мне кажется, что ты мне не только друг, но и выше даже. Мне хочется, чтобы у нас были одни чувства, стремления и всякие высшие качества. Но больше всего одна душа — к благородным стремлениям.
…Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой неприятное? Или — жить, или — не жить? И я в отчаянии ломаю руки, — что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить? И так становится больно-больно, что даже можно рискнуть на существование на земле и так презрительно сказать самому себе: зачем тебе жить, ненужный, слабый и слепой червяк?»
Из письма конца 1912 года из Москвы:
«Ох, Маня! Тяжело мне жить на свете, не к кому и голову склонить, а если и есть, то такие лица от меня всегда далеко и их очень-очень мало, или, можно сказать, одно или два.
…Зачем тебе было, Маня, любить меня, вызывать и возобновлять в душе надежды на жизнь. Я благодарен тебе и люблю тебя, Маня, — как и ты меня… Прощай, дорогая Маня; нам, верно, больше не увидеться. Роковая судьба так всегда шутит надо мною. Тяжело, Маня, мне! А вот почему?»
В одном из писем Марии Бальзамовой конца 1912 года впервые возникает мотив самоубийства — тема, которая черной нитью прошьет всю жизнь Есенина вплоть до его трагического конца.
" Я выпил, хотя и не очень много, эссенции. У меня схватило дух и почему-то пошла пена; я был в сознании, но передо мною немного все застилалось какою-то мутною дымкой. Потом — я сам не знаю, почему, — вдруг начал пить молоко и все прошло, хотя не без боли. Во рту у меня обожгло сильно, кожа отстала, но потом опять все прошло».
И в этом же письме он признается, что ему прохода не дают бойкие девицы. Надо думать, это не бравада, Есенин уехал в Москву не затем, чтобы коллекционировать разбитые сердца.
«Живу я в конторе Книготоргового т-ва «Культура», но живется плохо. Я не могу примириться с конторой и с ее пустыми людьми. Очень много барышень, и очень наивных. В первое время они совершенно меня замучили. Одна из них, — черт ее бы взял, — приставала, сволочь, поцеловать ее и только отвязалась тогда, когда я назвал ее дурой и послал к дьяволу».
И как продолжение темы появляется длинный и красноречивый пассаж:
«Жизнь — это глупая шутка. Все в ней пошло и ничтожно. Ничего в ней нет святого, один сплошной и сгущенный хаос разврата. Все люди живут ради чувственных наслаждений… Лучи солнышка влюбились в зеленую ткань земли и во все ее существо, — и бесстыдно, незаметно прелюбодействуют с ней. Люди нашли идеалом красоту — и нагло стоят перед оголенной женщиной, и щупают ее жирное тело, и разражаются похотью. И это-то, — игра чувств, чувств постыдных, мерзких, гадких, — названо у них любовью. Так вот она, любовь! Вот чего ждут люди с замиранием сердца! «Наслаждения, наслаждения!» — кричит их бесстыдный, зараженный одуряющим запахом тела, в бессмысленном и слепом заблуждении, дух. Люди все — эгоисты. Все и каждый любит только себя и желает, чтобы все перед ним преклонялось и доставляло ему то животное чувство — наслаждение.
…Я не могу так жить, рассудок мой туманится, мозг мой горит, и мысли путаются, разбиваясь об острые скалы жизни, как чистые, хрустальные волны моря.
Я не могу придумать, что со мной, но если так продолжится еще, — я убью себя, брошусь из своего окна и разобьюсь вдребезги об эту мертвую, пеструю и холодную мостовую».
Так какие же чувства питал Есенин к Марии Бальзамовой? Какие отношения их связывали? Была ли она для него человеком, перед которым можно открыть душу, или он надеялся на нечто большее?
«Зачем ты мне задаешь все тот же вопрос? Ах, тебе приятно слышать его? Ну, конечно, конечно, — люблю безмерно тебя, моя дорогая Маня! Я тоже готов бы к тебе улететь, да жаль, что все крылья в настоящее время подломаны. Наступит же когда-нибудь время, когда я заключу тебя в свои горячие объятия и разделю с тобой всю свою душу. Ох, как мне будет хорошо забыть свои волнения у твоей груди! А может быть, все это мне не суждено! И я должен плавить те же силовые цепи земли, как и другие поэты. Наверное, — прощай, сладкие надежды утешения, моя суровая жизнь не должна испытать этого».
Из письма 1913 года:
«Маня, милая Маня, слишком мало мы видели друг друга. Почему ты не открылась мне тогда, когда плакала? Ведь я был такой чистый тогда, что и не подозревал в тебе этого чувства. Я думал, так ты ко мне относилась из жалости, потому что хорошо поняла меня. И опять, опять: между нами не было даже, — как символа любви, — поцелуя, не говоря уже о далеких, глубоких и близких отношениях, которые нарушают заветы целомудрия и от чего любовь обоих сердец чувствуется больше и сильнее».
Однако уже осенью 1914 года между Есениным и Марией Бальзамовой что-то произошло. Он пишет ей странное письмо:
«Милостивая государыня, Мария Парменовна!
Когда-то, на заре моих глупых дней, были написаны мною к Вам письма маленького пажа или влюбленного мальчика.
Теперь иронически скажу, что я уже не мальчик, и условия, — любовные и будничные, — у меня другие. В силу этого я прошу Вас или даже требую (так как я логически прав) прислать мне мои письма обратно».
Возможно, в письмах Есенина к Марии Бальзамовой был некий налет игры, и игра ему надоела. Но вряд ли. Скорее всего, в его жизни произошло нечто для него очень важное.
Не исключено, что причиной разрыва с Марией Бальзамовой стало увлечение Есенина другой девушкой. На подобные мысли наводит письмо Есенина к некоей Лидии Мицкевич, которое не датировано, но, судя по всему, относится к периоду между 1912 и 1914 годами:
«Лида! Я так давно не видел тебя. Я хотел бы встретиться с тобой хотя бы в последний раз… Я сейчас совершенно одинок, и мне хочется поговорить с тобой. Может, только для того, чтобы повздыхать о прошлом… Я чувствую себя ужасно подавленным — вероятно, это результат моей болезни. Если ты не можешь встретиться со мной, не бойся отказать мне. В конце концов ты ничего не теряешь. С. А. Е.»
Однако здесь необходимо со всей отчетливостью подчеркнуть, что отнюдь не только любовные отношения с девушками занимали мысли юного Есенина. У него была одна главная любовь, владевшая его сердцем с детства и до его последнего трагического дня, — любовь к поэзии. Эта всепоглощающая страсть, неразрывно связанная с жаждой завоевать славу, управляла всеми его поступками.
Сардановский вспоминал, что Есенин впервые показал ему свои стихи в 1910 году. «К моему полному удивлению у него набралось уже множество стихов». Но это отнюдь не вызвало у Сардановского чувство благоговения. «Его стремление добиться славы и его способность сочинять стихи ни в коей мере не возвышали его в наших глазах, а его заносчивость и стремление выставлять напоказ свой талант и бесконечные разговоры о его стихах порядком надоели нам… Все это было результатом его острой потребности получить как можно скорее и как можно больше информации о литературе вообще и о его стихах в частности».
Дома на его занятия поэзией смотрели без восторга и восхищения. Когда он приезжал на каникулы домой и по ночам читал и писал при свете керосиновой лампы, его мать, женщина неграмотная и суеверная, выговаривала ему, что так недолго и рассудка лишиться.
Поддерживал и поощрял Сережу Есенина в его поэтических исканиях только учитель литературы школы в Спас-Клепиках Евгений Михайлович Хитров. По просьбе Хитрова Есенин переписал десять лучших, на его взгляд, стихотворений в двух маленьких блокнотах и подарил их своему учителю.
Каковы были главные темы ранних стихотворений Есенина?
Николай Сардановский вспоминал:
«Я думаю, что Есенин не очень любил крестьянский труд… Однажды летом мы косили сено на выделенном его деду участке общинного луга. Для крестьянского паренька он косил плоховато, и мы больше лакомились дикой клубникой, чем косили. Характерно, что в период уборки урожая Сережа особенно поддавался очарованию сельского пейзажа. Красота закатов на лугах, величие и мечтательность ночей в полях и особенно напряженный труд крестьян — все это привлекало его с такой силой, что в эти периоды он проводил все свое время в шалашах вместе с крестьянами, хотя ему не было нужды работать вместе с ними».
В 1910 году Сергей показал свои стихи Сардановскому, который потом вспоминал: «Его стихи были описательными и отчасти лирическими. Главное место в этих стихах занимали описания сельской природы».
Примечательно признание Сергея Есенина о том, какая книга из множества прочитанных им только в детстве и отрочестве оказала на него самое сильное влияние. «Знаете ли вы, — рассказывал он впоследствии, — какое произведение произвело на меня необычайное впечатление?! — «Слово о полку Игореве». Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот откуда, может быть, начало моего имажинизма. Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета».
В мае 1912 года Есенин закончил свое обучение в Спас-Клепиковской школе и был выпущен с дипломом учителя начальной школы. В семье считали, что он должен поступать в Московский учительский институт. «К счастью, — заметил Есенин, — этого не случилось».
Эта страница его биографии была перевернута.
Глава II АННА ИЗРЯДНОВА — ИДЕАЛЬНАЯ ГРАЖДАНСКАЯ ЖЕНА
После окончания школы Есенин несколько недель бил баклуши в Константинове: рыбачил, писал стихи, читал. В конце июля 1912 года он уехал в Москву, где поступил «мальчиком» в мясную лавку Крылова, где работал и его отец. Так начался тот короткий период его жизни в Москве, продлившийся до марта 1915 года, в течение которого он, меняя место за местом, зарабатывал себе на жизнь не стихами. Но это не надолго. Скоро он будет жить только на гонорары.
Из мясной лавки Крылова он вскоре ушел — жена хозяина требовала, чтобы он вставал, когда она входит, а стерпеть подобное унижение было выше его сил. После этого он поступил в книжный магазин — идеальное место для шестнадцатилетнего юноши, увлекающегося поэзией. Однако в начале 1913 года книготорговец разорился и Есенин оказался на улице.
Есенин вернулся в Константиново, но уже в марте снова собирается в Москву. На этот раз ему везет: он устроился на работу в типографию Сытина — крупнейшее по тем временам предприятие, где печаталось четверть всех книг, издаваемых в России. Поначалу он служит посыльным, потом переходит на должность подчитчика — помощника корректора.
В жизнеописаниях Есенина прижилось мнение, что Есенин был очень доволен своей работой в типографии Сытина. Между тем есть прямые указания на то, что сельского паренька Сергея Есенина, выросшего на просторах Рязанщины и привыкшего к почти неограниченной свободе, тяготила теснота и суета московских улиц, угнетала необходимость подчиняться жесткой дисциплине рабочего дня в типографии. В мае 1914 года Есенин предпринял неудачную попытку сбежать из Москвы в Ялту, заявив отцу: «Я чувствую себя подавленным, когда на меня смотрят, как на вещь. Я не хочу ни от кого зависеть».
Существует также вульгарно-социологическая тенденция преувеличивать участие Есенина в забастовочном движении рабочих типографии Сытина. Свидетельств о том, что Есенин реально примыкал к революционно настроенным рабочим, нет. Но это и не важно. Важно другое — в первые годы жизни в Москве душой и сердцем Есенина владели романтические идеалы. Это наиболее отчетливо видно из письма его другу по Спас-Клепиковской школе Грише Панфилову, написанному осенью 1912 года: «Благослови меня, мой друг, на благородный труд. Хочу написать «Пророка», в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу… Отныне даю тебе клятву, буду следовать своему «Поэту». Пусть меня ждут унижения, презрение и ссылки. Я буду тверд, как будет мой пророк, выпивающий бокал, полный яда, за святую правду с сознанием благородного подвига».
В другом письме Г. Панфилову, относящемуся к началу 1913 года, Есенин признается: «Вопрос о том, изменился ли я в чем-либо, заставил меня подумать и проанализировать себя. Да, я изменился. Я изменился во взглядах, но убеждения те же и еще глубже засели в глубине души… На людей я стал смотреть тоже иначе. Гений для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды, представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата».
И в другом письме, отправленным примерно в то же время: «Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для себя нового… Христос для меня совершенство. Но я не так верую, как другие. Те веруют из страха, что будет после смерти? А я чисто и свято, как в человека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему.
Жизнь… Я не могу понять ее назначения, и ведь Христос тоже не открыл цель жизни. Он указал только, как жить, но чего этим можно достигнуть, никому не известно».
В типографии Сытина в начале 1913 года Сергей Есенин познакомился с Анной Романовной Изрядновой, которая работала там корректором. Ему было восемнадцать лет, ей — двадцать три, разница вроде бы небольшая, но в юном возрасте довольно существенная. Он еще даже не оперился и не обзавелся в Москве своим углом, она уже стояла на своих ногах. Анна Изряднова была скромной, застенчивой и внешне неприметной женщиной, мужчины не обращали на нее внимания, и она чувствовала себя существом одиноким.
Можно себе представить, какое впечатление произвел на нее этот неправдоподобный юноша. «Он только что приехал из деревни, но по внешнему виду на деревенского парня похож не был, — писала Анна Изряднова в своих воспоминаниях. — На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив, окружающие по первому впечатлению окрестили его херувимом. Был он заносчив, самолюбив, его невзлюбили за это. Настроение у него было угнетенное: он поэт, а никто не хочет этого понять, редакции не принимают в печать. Отец журит, что он занимается не делом, надо работать, а он стишки пишет».
Анна Изряднова влюбилась в Сергея Есенина. Но не приходится сомневаться, что ее чувство к нему в значительной степени походило на материнскую любовь. Очень точную характеристику первой (гражданской жене) Сергея Есенина дала Татьяна Есенина, его дочь от Зинаиды Райх:
«Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитана. Все, связанное с Есениным, было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен — оберегать».
Есенину, который был одинок и беззащитен в Москве — «Москва неприветливая», — говорил он Изрядновой, — такая безропотная, заботливая любовница-нянька была подарком судьбы. Они быстро сошлись. В совместной жизни Сергей Есенин оказался очень тяжелым человеком. Как вспоминала Анна Романовна, «требователен был ужасно, не велел даже с женщинами разговаривать — они нехорошие… Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить». Повседневные жизненные тяготы, естественно, легли на плечи Анны Романовны.
В этом воспоминании следует подчеркнуть слова о любви Есенина к чтению. Он отличался этой страстью еще в школе. Преподаватель константиновской школы Сергей Соколов вспоминал: «В руках или под рубахой у него всегда была какая-нибудь книга. Это последнее обстоятельство выделяло его среди сверстников».
С малых лет Есенина отличала тяга к знаниям. Вот и теперь, обосновавшись в Москве под теплым боком Изрядновой, он поступает на историко-философское отделение Народного университета имени Шанявского. Анна Романовна ходит туда на лекции вместе с ним.
Посещение лекций в Университете Шанявского принесли Есенину двоякую пользу. Во-первых, он получил более систематическое представление о русской литературе XIX века. Историю русской словесности первой половины ХIX столетия читал известный тогда профессор Сакулин. Между прочим, именно ему Есенин рискнул прочитать несколько своих стихотворений, и маститый знаток одобрил их.
Курс русской литературы второй половины XIX века преподавал знаменитый профессор Айхенвальд. По свидетельству Сардановского, книгу Айхенвальда «Силуэты русских писателей» Есенин буквально не выпускал из рук.
Во-вторых, в Университете Шанявского Есенин познакомился с группой молодых поэтов, своих сверстников — Семеновским, Наседкиным, Колоколовым, Филипченко. Из них всех только Василий Наседкин стал близким другом Сергея, а впоследствии даже женился на его сестре Екатерине.
В период с 1912 по 1914 год Есенин вступил в Суриковский литаратурно-музыкальный кружок, объединявший «писателей из народа», близких к социалистам-революционерам и социал-демократам. Руководители кружка надеялись на то, что Есенин станет активным общественником, но их надеждам не суждено было сбыться — Есенина прежде всего интересовали стихи, хотя он и принимал участие в политической деятельности кружка.
Особенно его привлекали выезды на природу в Кунцево, где он читал собравшимся свои стихи. Один из участников литературно-политического «пикника», состоявшегося предположительно в начале лета 1912 года, Василий Горшков так описал происходившее:
«В тот яркий и жаркий день Сережа был особенно весел… Его все время окружали люди. Девушки соперничали друг с другом, засыпая его вопросами, и они глазели на Есенина, не скрывая от него, что он красив и что он им нравится сам по себе и нравятся его стихи. Сереже явно льстило это первое женское внимание. Его ярко-синие глаза сияли, он непринужденно смеялся, крутился среди них и бегал босиком».
В декабре 1914 года, когда кружковцы приняли решение издавать журнал «Друг народа», Есенин согласился стать секретарем кружка. Однако уже в феврале 1915 года он вышел из редколлегии журнала, ссылаясь на невысокие литературные достоинства публикуемых в нем произведений. Он заявил: «Мы должны создать настоящий литературный журнал. Мы не должны печатать слабые произведения», — взял шляпу и вышел из кабинета главного редактора.
В декабре 1914 года Изряднова родила сына. К тому времени Есенин работал в типографии Чернышева-Кобелькова уже корректором. Как отмечала Анна Романовна, он стал спокойнее. «Работа отнимает очень много времени: с восьми утра до семи часов вечера, некогда стихи писать. В декабре он бросает работу и весь отдается стихам, пишет целыми днями». Забегая немного вперед, следует отметить, что в январе 1914 года в журнале «Мирок» было напечатано первое стихотворение Есенина «Березы».
Итак, у Есенина родился сын. Он внутренне не был готов к такому серьезному событию. Как вспоминала Изряднова, «на ребенка смотрел с любопытством, все твердил: «Вот я и отец».
Из воспоминаний Анны Романовны создается впечатление, что она пыталась как-то приукрасить облик Сергея Есенина. Понимая, что ее слова: «На ребенка смотрел с любопытством» — бросают на Есенина некую тень, намекающую на отсутствие у него естественной отцовской любви, она тут же утверждает: «Потом скоро привык, полюбил его, качал, убаюкивал, пел над ним песни».
В правдивость ее слов трудно поверить, если учесть, что уже в марте Есенин безо всяких угрызений совести оставил и Анну, и первенца и уехал в Петроград искать там счастье и славу. Да и потом Есенин не заботился о них и навещал крайне редко.
Вспоминал Сергей Александрович об Анне Романовне, только когда нуждался в ней. По ее словам, он появился у нее в сентябре 1925 года, рано утром, не здороваясь, спросил, есть ли у нее печка, сказал, что надо кое-что сжечь. Она стала его отговаривать, но все было напрасно. Есенин пришел в раздражение: «Неужели даже ты не сделаешь для меня то, что я хочу?»
Незадолго до последней своей поездки в Ленинград Есенин появился у нее снова — проститься. На ее вопрос: «Что? Почему?» — ответил: «Смываюсь, уезжаю, чувствую себя плохо, наверное, умру». Просил не баловать, беречь сына. Но разве можно было кого-то уберечь в той кровавой мясорубке, в которую превратилась вся страна? Сын Сергея Есенина и Анны Изрядновой Юрий был арестован в 1937 году и сгинул — либо в тюрьме, либо в лагере.
Характерно, что петроградский критик Лев Клейборт, часто общавшийся с Есениным после того, как тот в марте 1915 года перебрался в Петроград, свидетельствует, что в те первые годы в Северной столице «Есенин не обронил ни единого слова о своей жене и сыне».
Позже Анна Изряднова случайно познакомится с детьми Есенина от Зинаиды Райх, а через них с первой «законной» женой поэта. По словам Татьяны Сергеевны Есениной, она никогда ни в чем его не упрекала, наоборот, защищала от всех.
Итак, перевернута еще одна страница жизни Сергея Есенина, позади осталась Москва, гражданская жена Анна Изряднова и трехмесячный сын Юрик. Его ждал Петроград, литературная столица России, где лежали ключи от будущей славы.
Глава III В ПЕТРОГРАД — ЗА ПРИЗНАНИЕМ И СЛАВОЙ
В Петрограде Есенин с головой окунулся в странный и незнакомый ему мир. Юноша, бывший в Москве всего лишь типографским корректором, вдруг оказался в сложной литературной среде столицы Российской империи с ее салонами и соперничающими поэтическими группами — символистов, акмеистов, футуристов. В таких дремучих дебрях немудрено было и потеряться.
Появление в этой изысканной атмосфере никому не известного деревенского паренька с его стихами могло бы пройти совершенно незамеченным, но Есенин приехал в Петроград в исключительно благоприятный для него момент. Война с Германией и Австро-Венгрией способствовала распространению панславянских настроений и усилению интереса к крестьянству. Русская интеллигенция остро ощутила свою ущербность и оторванность от земли и ждала спасения в крестьянстве. Поэты Николай Клюев и Сергей Клычков уже успели воспользоваться этими настроениями и надели на себя личины представителей исконного крестьянства «от сохи», глубоко религиозного и патриархально-примитивного, изображали из себя носителей неизвестных столичным снобам духовных ценностей.
Чтобы быть замеченным, начинающему поэту Сергею Есенину не оставалось ничего другого, как найти свое место в столичном маскараде. И надо отдать ему должное — он чутьем понял нужное амплуа и сыграл свою роль с присущим ему артистизмом. Он повел себя в этой ситуации этаким простачком с чисто мужицкой хитрецой. Без стеснения рассказывал впоследствии Есенин Анатолию Мариенгофу:
— Еще очень не вредно прикинуться дураком. Шибко у нас дураков любят… Каждому надо доставить свое удовольствие. Знаешь, как я на Парнас восходил?
И Есенин весело, по-мальчишески захохотал.
— Тут, брат, дело надо было вести хитро. Пусть, думаю, каждый считает: я его в русскую литературу ввел. Им приятно, а мне наплевать. Городецкий ввел? Ввел. Клюев ввел? Ввел. Сологуб с Чеботаревской ввели? Ввели. Одним словом, и Мережковский с Гиппиусихой, и Блок, и Рюрик Ивнев… к нему я, правда, к первому из поэтов подошел — скосил он на меня, помню, лорнет, и не успел я еще стишка в двенадцать строчек прочесть, а он уже тоненьким таким голоском: «Ах, как замечательно! Ах, как гениально! Ах…» И ухватив меня под руку, поволок от знаменитости к знаменитости, свои «ахи» расточая тоненьким голоском. Сам же я… от каждой похвалы краснею, как девушка, и в глаза никому от робости не гляжу. Потеха!
Есенин улыбнулся. Посмотрел на свой шнурованный американский ботинок (к тому времени успел он навсегда расстаться с поддевкой, с рубашкой вышитой, как полотенце, с голенищами, в гармошку) и по-хорошему, чистосердечно (а не с деланной чистосердечностью, на которую тоже был мастер) сказал:
— Знаешь, и сапог-то я никогда в жизни таких рыжих не носил, и поддевки такой задрипанной, в какой перед ними предстал. Говорил им, что еду в Ригу бочки катать. Жрать, мол, нечего. А в Петербург на денек, на два партия грузчиков подберется. А какие там бочки — за мировой славой в Санкт-Петербург приехал, за бронзовым монументом…
Вот таким маскарадным русским молодцом предстал Сергей Есенин перед Максимом Горьким в Петрограде где-то в 1915 году (Горький ошибочно относил эту встречу к 1914 году — Есенин приехал из Москвы в Петроград только в марте 1915 года). «Он показался мне, — писал Горький, — мальчиком пятнадцати — семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской».
Главной целью поездки Есенина в Петроград был Александр Блок. Он давно мечтал представиться Блоку, прочитать ему свои стихи, выслушать его суждение. Московский поэт Николай Ливкин вспоминал, как они с Есениным шли мимо сытинской типографии и Сергей твердо сказал ему: «Поеду в Петроград, пойду к Блоку. Он меня поймет…»
И действительно, уже на второй день своего пребывания в Петрограде Есенин отправился к Блоку. Тот его принял, послушал стихи и отнесся к ним одобрительно. В своем дневнике Блок оставил такую запись: «Крестьянин Рязанской губ., 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные». Он тут же написал рекомендательное письмо литератору Мурашеву, в котором представлял Есенина как «талантливого крестьянина, поэта-самородка».
Есенин очень гордился такой оценкой Блока. Однако настоящей близости между ними не возникло. Сказывалась разница в происхождении, социальном положении, образовании, круге общения. А главное — Блок был поэт городской, петербуржский, а Есенин, как он сам о себе сказал, был «последний поэт деревни».
В этом плане весьма характерно письмо Блока Есенину от 22 апреля 1915 года — ответ на просьбу Есенина о новой встрече. «Думаю, — писал Блок, — что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем… Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее».
В этом письме важно подчеркнуть два момента. Во-первых, определение — «такие мы с Вами разные», а во-вторых, предостережение Есенину — «не торопиться».
Но Есенин не собирался следовать совету Блока. Рюрик Ивнев, ставший близким другом Есенина, вспоминал об их первой встрече: «Казалось, что он сам еще не оценил самого себя. Но это только казалось, пока вы не видели его глаз. Стоило вам встретиться взглядом с его глазами, как «тайна» его обнаруживалась, выдавая себя: в глазах его прыгали искорки». Он был опьянен запахом славы и уже рвался вперед. Конечно, он знал себе цену. И скромность его была лишь тонкой оболочкой, под которой билось жадное, ненасытное желание победить всех своими стихами, покорить, смять».
Блок сделал для Есенина еще одно доброе дело — дал ему рекомендательное письмо к Сергею Городецкому. Есенин писал в своей автобиографии 1924 года: «Приехал, отыскал Городецкого. Он встретил меня весьма радушно. Тогда на его квартире собирались почти все поэты. Обо мне заговорили, и меня начали печатать чуть ли не нарасхват».
В январе 1916 года вышла первая книга его стихов «Радуница».
Проницательный Сергей Городецкий, как и Рюрик Ивнев, быстро раскусил своего нового молодого друга. «Есенин, — вспоминал он, — подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов. Все его выходки, бравады и неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения до другого. В этом смысле он ничуть не был похож на того пастушка с деревянной дудочкой, которого нам поспешили представить поминальщики».
Городецкий человек очень эмоциональный, как большинство поэтов, воспринял появление Сергея Есенина в Петрограде как своего рода сенсацию. «Стихи он принес завязанными в деревенский платок. С первых же строк мне было ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник песни. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос, которые он позже будет с таким остервенением заглаживать под цилиндр, синеглазый».
Городецкий познакомил Есенина и с Клюевым, который сыграл немалую роль в поэтической биографии молодого Есенина. «Клюев, — писал Городецкий, — приехал в Питер осенью (уже не в первый раз). Вероятно, у меня он познакомился с Есениным. И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы. История их отношений с того момента и до последнего посещения Есениным Клюева перед смертью — тема целой книги. Чудесный поэт, хитрый умник, обаятельный своим коварным смирением, творчеством вплотную примыкавший к былинам и духовным стихам Севера, Клюев, конечно, овладел молодым Есениным, как овладевал каждым из нас в свое время. Будучи сильней всех нас, он крепче всех овладел Есениным».
Городецкий умышленно обходит молчанием в своих воспоминаниях одно немаловажное обстоятельство — Клюев был известен как гомосексуалист. Он недвусмысленно приставал к Есенину; бывая с ним вместе в обществе, садился рядышком с Есениным, прижимался к нему, поглаживал его, клал голову ему на плечо.
Чернявский писал: «Я ни одной секунды не сомневался, что эротические приставания Клюева к Есенину в смысле их внешних проявлений могли вызвать что-либо иное, кроме резкого отпора со стороны Сергея, когда духовная близость и мирная нежность уступали место физиологическому влечению».
После возвращения из первой поездки в Москву Есенин рассказывал, что Клюев ревновал его к женщине, с которой у него завязался первый — городской — роман. «Как только я брался за свою шляпу, он садился на пол посередине комнаты и сидел так, подвывая, как женщина во весь голос: «Не уходи, не смей уходить к ней». Но Есенин сплошь и рядом грубо отталкивал Клюева. Городецкий пишет, что у Есенина бывали приступы ненависти к Клюеву. «Помню, как он говорил мне: «Ей-богу, я пырну ножом Клюева!»
Выросшему в патриархальной атмосфере Константинова Есенину было дико представить себе, что может существовать иная любовь, кроме как между мужчиной и женщиной. Однако в декадентских салонах Петрограда Есенину пришлось столкнуться с совершенно другими нравами. «Через несколько месяцев после своего первого приезда, — вспоминал Чернявский, — в дружеском разговоре со мной он откровенно затронул новую для него проблему, которая тревожила его и о которой он раньше не задумывался — проблему мужеложества. Его удивляло, какое место это занимает в жизни столичной литературной братии… Кое-кто говорит, что и он неминуемо развратится, но он считает, что у него нет никаких оснований для опасений».
Следует отметить, что за всю свою жизнь Есенин сравнительно мало писал о любви. Критики утверждали, что он пожертвовал любовью к женщинам ради любви к стихам, к славе, к родине.
Рюрик Ивнев категоричен в своем мнении: «Я знаю наверняка, что Сережа никогда не любил ни одну женщину. Он не долго увлекался той или иной женщиной. Они быстро надоедали ему. Никогда в своей жизни он не испытывал «большого чувства», «великой любви». И далее Ивнев утверждает: «Он никогда никого не любил простой человеческой любовью. В этом его трагедия и, вероятно, в этом корни его поэтического величия… Все, знавшие Есенина, отлично знали, что он никогда по-настоящему не любил ни одну женщину».
Чернявский подчеркивал, что новая для Есенина проблема педерастии тревожила поэта. В 1915 году, к примеру, он познакомился с откровенным гомосексуалистом Михаилом Кузьминым. Иннокентий Аксенов, видевший Есенина в Петрограде в 1915 году, писал, что «в окружении, где верховодили Кузьмин и другие педерасты, лежали корни судьбы Есенина. Надо было обладать чертовски здоровой душой, чтобы избежать растлевающего влияния того времени и среды».
Известно, что Есенин подвергался сексуальным домогательствам не только со стороны Клюева, но и других педерастов. Садовский вспоминал, что однажды в Петрограде в 1916 году Есенин ворвался к нему среди ночи «в страшной истерике. Он кричал и катался по полу, рвал на себе волосы и плакал». Немного успокоившись, Есенин рассказал Садовскому, что в кабаке мужчина по кличке Вурдалак, бывавший у пользующегося дурной славой князя Андронникова, «заявил, что любит Есенина и, вероятно, решив, что он находится в компании одного из мальчиков Андронникова, сопроводил свое «признание» соответствующими жестами».
Следует отметить, что Есенину в Петрограде неслыханно повезло: он легко и без каких-либо трудностей вошел в избранный круг уже знаменитых поэтов. Не говоря уже о Блоке, Городецком и Рюрике Ивневе, о которых мы рассказывали выше, Есенина познакомили с целым созвездием стихотворцев — Вячеславом Ивановым, Зинаидой Гиппиус и Мережковским, Андреем Белым, Анной Ахматовой и многими другими. Его оценили, Блок подарил ему книгу своих стихов с надписью «Сергею Александровичу Есенину на добрую память».
Любопытной и несколько загадочной оказалась встреча Есенина с Ахматовой. Есенин накануне очень волновался, сбивчиво говорил о ее стихах и о том, какой он себе ее представляет, и как странно и страшно, именно страшно, увидеть женщину-поэта, которая в печати открыла сокровенные стороны своей души. О чем они говорили, осталось неизвестным. Она подарила ему поэму «У самого моря» (вырезку из журнала «Аполлон») и надписала: «Сергею Есенину — Анна Ахматова. Память встречи. Царское Село. 25 декабря 1915».
Их встреча несла на себе налет некой тайны. Вернувшись из Царского Села, Есенин был грустен, а когда его спрашивали о поездке, которой он так ждал, отмалчивался и уходил от ответа. Потом у него вырвалось:
— Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам.
Есенин так и не сказал, чем же ему не понравилась Ахматова, которая приняла его ласково и приветливо. Создавалось впечатление, будто он жалел, что поехал к ней.
Есенин тогда охотно выступал с чтением своих стихов. Ему неизменно сопутствовал успех. Рюрик Ивнев оставил описание такого вечера, который он устроил через две недели после появления Есенина в Петрограде, в квартире, которую он снимал на Большой Сампсониевской улице: «Выступление юного поэта в тот памятный вечер было только началом триумфального пути. Все присутствующие не были связаны никакими «школами» и искренне восхищались стихами Есенина только потому, что любили поэзию — ведь то, что они услыхали, было так не похоже на все, что им приходилось до сих пор слышать… Мы были так увлечены стихами Есенина, что о своих стихах забыли. Я думал только о том, как бы скорее услышать еще одно из его новых стихотворений, которые ворвались в мою жизнь, как свежий весенний ветер».
Находились, конечно, и скептики. Федор Сологуб, к примеру, принял Есенина весьма холодно и объяснил это Рюрику Ивневу следующим образом: «Я отношусь недоверчиво к талантам, которые не прошли сквозь строй «унижений и оскорблений» непризнания. Что-то уж больно подозрителен этот легкий успех!»
В принципе Сологуб был прав, но он не хотел признавать, что бывают исключения из правил, что иногда судьба балует своих любимцев. Достаточно вспомнить хотя бы «баловня судьбы» Моцарта. Хотя, конечно, легкий успех таит в себе опасность особого рода — молодого и талантливого поэта не составляет труда затянуть в болото богатого и сытого благополучия.
Такая опасность грозила тогда в Петрограде и Есенину. Чернявский вспоминал: «Его стали звать в богатые буржуазные салоны, сынки и дочери стремились показать его родителям и гостям… За ним ухаживали, его любезно угощали на столиках с бронзой и инкрустациями, торжественно усадив посредине гостиной на золоченый стул… Толстые дамы… лорнировали его в умилении, и солидные папаши, ни бельмеса не смыслящие в стихах, куря сигары, поощрительно хлопали ушами».
В этой круговерти обольщения и соблазнов главное место занимали женщины, представительницы столичной литературной богемы. Есенин побаивался этих «жриц любви», посягавших на него, ему казалось, что женщины в городе непременно должны заразить его «скверной болезнью». «Они, пожалуй, тут все больные», — говаривал он.
Тот же Чернявский в своих воспоминаниях рассказывал, как Есенину на первых порах приходилось с трудом и смущением отбиваться от одной маленькой поэтессы, которая упорно садилась к нему на колени, требуя ласки. Другая девица разгуливала перед ним в чем мать родила, а он смущался и робел, не зная, что делать. Третья оказалась наиболее решительной — она так страстно целовала его, что у него голова пошла кругом. «Я и не знал, — говорил он друзьям, — что у вас этак целуются. Так присосалась, точно всего губами хочет вобрать». Но охота на неискушенного и, конечно, особенно привлекательного для опытных «жриц любви» «пастушка», так, по словам Сергея, ничем и не кончилась.
Любопытно, что он — быть может, подсознательно — выстраивал психологический барьер против столичных эротоманок. Он частенько предавался воспоминаниям о непритязательных и чистых девушках родной Рязанщины.
Любовные похождениях там, в Константинове, переплетались в памяти Есенина с образами красот природы Рязанщины. Как писал Чернявский, «ему хотелось украсить этим лиризмом самые родные ему и навсегда любимые предметы, образы, пейзажи — в глазах тех, кто не может знать их так, как он. От этого полубытового мечтательного рассказа о деревенской любви и всего, что с нею связано, у меня в памяти твердо остался только образ серебрящихся ночью соломенных крыш».
Вершиной литературного успеха Есенина в те годы в Петрограде стал выход в свет первой книги его стихов «Радуница». Со свойственной ему самоуверенностью он написал в своей автобиографии 1923 года: «Все лучшие журналы того времени (1915) стали печатать меня, а осенью (1915) появилась моя первая книга «Радуница». О ней много писали. Все в один голос говорили, что я талант.
Я знал это лучше других».
Никогда ранее стихи Есенина не получали такого резонанса со стороны литературной критики и литературных кругов. Его нахваливали, отмечали свежесть, музыкальность и цветистость его стихов.
Однако надо признать, что далеко не все критики были единодушны, приветствуя «Радуницу». Кое-кто из них отмечал в ней сильное влияние «крестьянствующих поэтов». Профессор Сакулин, например, прямо писал, что Есенин — поэт еще незрелый, подражающий в своем творчестве Клюеву. Другие критики, в частности Н. Венгров, подчеркивали его «дешевый и даже порой вульгарный стиль». З. Бухарова критиковала однообразие его ритмов, а Деев-Холодковский, рецензируя «Радуницу» в московском журнале «Друг народа», отмечал прямую зависимость Есенина от народных песен и считал Есенина и Клюева поэтами «интересными», сожалея об отсутствии в их стихах «гражданской скорби».
Указания на зависимость Есенина от стихов Клюева отнюдь не огорчали молодого поэта. Возможно, то, что его сравнивают с поэтом, уже завоевавшим широкую известность, даже льстило его самолюбию.
Первая мировая война продолжалась, и Есенин в 1916 году был призван в армию. Ему повезло — его не отправили на фронт. В своей автобиографии 1923 года Есенин писал: «При некотором покровительстве полковника Ломана, адъютанта императрицы, был представлен ко многим льготам. Жил в Царском недалеко от Разумника Иванова. По просьбе Ломана однажды читал стихи императрице. Она после прочтения моих стихов сказала, что стихи мои красивые, но очень грустные. Я ответил ей, что такова вся Россия… Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя…
В революцию покинул самовольно армию Керенского…»
Так или иначе, но весной 1917 года Есенин снова оказался в Петрограде.
Об этом периоде жизни Есенина вспоминал Рюрик Ивнев: «Встретился я с Есениным уже после того, как он вышел из «царскосельского плена». Это было недели через три после февральской революции. Был снежный и ветреный день. Вдали от центра города, на углу двух пересекающихся улиц, я неожиданно встретил Есенина с тремя, как они себя именовали, «крестьянскими поэтами»: Николаем Клюевым, Петром Орешиным и Сергеем Клычковым». Они шли вразвалку и, несмотря на густо валивший снег, в пальто нараспашку, в каком-то особенном возбуждении, размахивая руками, похожие на возвращающихся с гулянки деревенских парней.
Сначала я думал, что они пьяны, но после первых же слов убедился, что возбуждение это носит иной характер. Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я никогда его таким не видел.
— Что, не нравится тебе, что ли?
Клюев, с которым у нас были дружеские отношения, добавил:
— Наше времечко пришло.
Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне.
Он подошел и встал около меня. Глаза его щурились и улыбались. Однако он не останавливал ни Клюева, ни Орешина, ни злобно одобрявшего их нападки Клычкова. Он только незаметно для них просунул свою руку в карман моей шубы и крепко сжал мне пальцы, продолжая хитро улыбаться».
Описанный Ивневым случай при всей своей кажущейся незначительности весьма важен для понимания того, какую позицию занимал Есенин в стане крестьянских поэтов — внешне он солидаризировался с ними, но внутренне относился к их попыткам утвердиться силой очень и очень скептически.
А тем временем подступила весна, и Есенина потянуло в Константиново, на родину.
Глава IV РОМАНТИЧЕСКАЯ НОЧЬ С КОНСТАНТИНОВСКОЙ ПОМЕЩИЦЕЙ
Весной 1917 года Сергей Есенин приехал в Константиново.
За время его отсутствия здесь произошли немалые перемены.
Умер помещик Кулаков, которому принадлежал лес и половина здешних лугов. Хозяином он был строгим, сельчане, особенно детвора, побаивались его.
В Москве он владел ночлежными домами на Хитровом рынке, которые красочно описал знаменитый репортер Гиляровский. После смерти старого хозяина барская усадьба в Константинове отошла по наследству его дочери Лидии Ивановне Кашиной. Поговаривали, что она замужем за генералом, что у нее от него двое детей, но она с ним не живет — во всяком случае, в Константинове он никогда не появлялся.
Лидия Ивановна Кашина была женщина образованная, знала несколько европейских языков, красотой ее Бог не обделил, и была она, что называется, в соку — ей исполнилось тридцать два года. Теперь она приезжала сюда каждое лето со всеми чадами и домочадцами. Она завела отличных верховых лошадей, к ним был приставлен конюх. Привозила сюда садовника, который засадил цветами все дорожки в усадьбе. В доме с мезонином появился кучер, горничная, кухарка, прачка, экономка. При ней барская усадьба в Константинове преобразилась — Лидия Ивановна любила развлечения, верховую езду, веселые вечеринки.
Тетерь в барском особняке постоянно раздавались молодые, веселые голоса, звучал смех, песни, комнаты были уставлены вазами с цветами.
Заниматься с ее детьми, в том числе и латынью, Лидия Ивановна пригласила друга Сергея Есенина Тимошу Данилина. Сын Л. И. Кашиной Георгий Николаевич, уже будучи взрослым, вспоминал, что в Константиново их семья приезжала каждое лето. Бывали они там и зимой, на Рождество. «Этим же летом, — писал Г. Н. Кашин, — мы ставили какой-то водевиль, роли в котором разыгрывали я, моя сестра Нина и Тимоша Данилин». Вероятнее всего, именно Тимоша Данилин и рассказал хозяйке поместья о молодом поэте, уроженце Константинова, который приехал на лето из Петрограда в родные края.
Как бы то ни было, Кашина послала мальчика пригласить Есенина на спектакль. «Я это хорошо помню, — рассказывает Г. Н. Кашин. — Возможно, мне дали с собой букет роз. У нас в саду их было много, и они прекрасно цвели. Но, пожалуй, это было только один раз. Если бы такие поручения мне давали несколько раз, я бы этого не мог не запомнить. Когда я пришел, Сергей Александрович усадил меня около окна в избе, дал мне в руки исписанный листок и сказал, что это стихи, которые он сочинил. Я, правда, не разобрал его почерка, но сказал, что они мне понравились».
Когда Есенин перешагнул порог помещичьего дома, он был поражен — его встретила статная женщина в расцвете красоты. На прелестном лице с высоким лбом светились умом лучистые глаза.
Она была старше Есенина на десять лет, но это только придавало ей в представлении поэта еще больше очарования. Что же касается Лидии Ивановны, то на нее, конечно, произвела сильное впечатление красота Есенина, этакого златокудрого херувима, его стихи, полные свежести, и репутация поэта, уже начавшего печататься в столице.
Их потянуло друг к другу. Есенин стал частым гостем в доме с мезонином, принадлежавшем Кашиной. Мать Сергея Татьяна Федоровна открыто выражала свое неудовольствие их дружбой. Сестра Есенина Катя вспоминала: «Матери нашей очень не нравилось, что Сергей повадился ходить к барыне. Она была довольна, когда он бывал у Поповых. Ей нравилось, когда он гулял с учительницами. Но барыня? Какая она ему пара? Она замужняя, у нее дети.
— Ты нынче опять был у барыни? — спрашивала она.
— Да, — отвечал Сергей.
— Чего же вы там делаете?
— Читаем, играем, — отвечал Сергей и вдруг заканчивал сердито: — Какое тебе дело, где я бываю?
— Мне, конечно, дела нет, а я вот что тебе скажу: брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней. Ишь ты, — продолжала она, — нашла с кем играть.
Сергей молчал и каждый день ходил в барский дом».
Тем временем сюжет любовных отношений между Лидией Ивановной Кашиной и Сергеем Есениным близился к своей естественной развязке. Впрочем, какого иного развития событий можно было ожидать?
В один прекрасный день Сергей за завтраком объявил матери:
— Я еду сегодня с барыней на Яр.
Яром назывался хутор, стоявший в четырех километрах от Константинова на опушке леса, на берегу Старицы (старого русла Оки), отделяющей луга от леса. Хутор принадлежал наследникам помещика Кулакова.
Мать ничего не ответила на слова сына — она знала, что с Сергеем спорить бесполезно.
Погода стояла прекрасная, день был ясный, солнечный. Но после обеда неожиданно разразилась гроза. Буря ломала деревья, дождь хлестал изо всей силы. Мать разволновалась не на шутку, молилась святому Николаю Угоднику, чтобы он уберег ее непутевого сына Сергея от беды. А тут, как на грех, с улицы донеслись крики: «Тонут! Помогите! Тонут!» Татьяна опрометью бросилась из избы. Оказалось, что буря оборвала канат парома и его понесло к шлюзам, где он мог разбиться. Паром удалось спасти, но Сергея на нем не оказалось.
Встревоженная и злая Татьяна Федоровна ночью несколько раз бегала на барский двор и каждый раз возвращалась все более расстроенная — Лидия Ивановна домой все еще не возвращалась. Еще более разволновалась мать Сергея, когда узнала от дворника, что Лидия Ивановна с полдороги отправила кучера Ивана домой и дальше они с Сергеем продолжали путь к Яру вдвоем.
Сергей вернулся домой едва ли не под утро и, не говоря ни слова, отправился спать на сеновал.
В семье об этом случае никогда больше не говорили. Но в сердце Есенина та ночь с бурей в качестве романтической декорации осталась, по-видимому, надолго. Примечательно уже то, что через год после любовного приключения Есенин написал стихотворение «Зеленая прическа, девическая грудь», посвятив его Л. И. Кашиной.
О многом говорят проникновенные строки этого произведения:
Открой, открой мне тайну Твоих древесных дум, Я полюбил печальный Твой предосенний шум. И мне в ответ березка: «О любопытный друг, Сегодня ночью звездной Здесь слезы лил пастух. Луна стелила тени, Сияли зеленя, За голые колени Он обнимал меня. И так, вздохнувши глубко, Сказал под звон ветвей: «Прощай, моя голубка, До новых журавлей».«Новые журавли» не заставили себя долго ждать. Нить, связавшая Сергея Есенина и Лидию Ивановну Кашину, не обрывалась. После Октябрьской революции Кашина отдала свое поместье Советской власти и переехала в Москву, где стала работать секретаршей и переводчицей. Там они с Есениным не только встречались, одно время он даже жил у нее. Об этом свидетельствует его письмо Андрею Белому, датированное 1918 годом. Есенин сообщает Белому, что лежит «совсем расслабленный» в постели и указывает свой адрес: «Скатертный переулок, дом 20, Лидии Ивановне Кашиной для С. Е.».
Есть еще одно любопытное свидетельство некоего присутствия Лидии Кашиной в жизни Есенина. Надежда Вольпин, молодая поэтесса, у которой в начале 20-х годов был роман с Есениным (речь о ней пойдет впереди), рассказывает в своих воспоминаниях «Свидание с другом», как осенью 1923 года она шла на свидание с Есениным в кафе «Стойло Пегаса».
«Прихожу, как условились. Останавливаюсь в дверях. Он стоит под самой эстрадой с незнакомой мне женщиной. С вида ей изрядно за тридцать, ближе к сорока. Несомненно, провинциалка. По общему облику — сельская учительница. Тускло-русые волосы приспущены на лоб и уши. Лицо чуть скуластое, волевое. Нос с горбинкой, не восточный, а чисто славянский. «Здесь обошлось, — мелькнуло в уме, — без финской закваски». Рот, пожалуй, средний. Повыше меня, но значительно ниже собеседника. Так что говорит она с ним, несколько вскинув голову. Чем-то крайне недовольна. Слов я издалека не слышу, но тон сердитой отповеди. Почти злобы. На чем-то настаивает. Требует. Есенин с видом спокойной скуки все от себя отстраняет. Уверенно и непреложно. Мне неловко: точно я случайно подглядела сцену между любовниками… Пусть она старше его по виду на все десять лет, я склонна осудить Сергея за обиду, наносимую женщине…
Есенин подает мне знак подождать. Но с гостьей не знакомит.
Женщина удалилась, бросив: «Что ж! Я ухожу!» Даже не кивнула на прощанье.
— Кто такая?
— Так, одна… из наших мест.
— Землячка?
— Ну, да.
И у меня вспыхнуло имя: «Лидия Кашина! Та, кому посвящена «Зеленая прическа»…
Многие годы спустя я увидела в одном издании портрет Л. И. Кашиной. На портрете она смотрелась моложе и красивее. Но то же решительное, властное лицо — знакомое лицо «землячки».
Впоследствии я узнала, что как раз об эту пору — в сентябре 1923 года — Кашина появилась в Москве».
Впрочем, надо полагать, что описанная Надеждой Вольпин ссора вовсе не означала, что Есенин вычеркнул Лидию Ивановну Кашину из своей памяти. В начале 1925 года он пишет поэму «Анна Снегина», где прообразом героини, без сомнения, была Кашина. В поэме всплыли милые сердцу приметы прошлого:
Приехали. Дом с мезонином Немного присел на фасад. Волнующе пахнет жасмином Плетневый его палисад.Но до «Анны Снегиной» было еще далеко, а пока что, летом 1917 года, Есенин вернулся в Петроград, где его ждала предуготованная судьбой встреча с женщиной, которой предстояло стать его женой и сыграть в его жизни весьма значительную роль.
Глава V ЗИНАИДА РАЙХ — ЖЕНА ЛЮБИМАЯ И НЕНАВИСТНАЯ
Лето 1917 года в Петрограде было тревожным, смутным. Временное правительство выказало себя правительством слабым, нерешительным, поистине временным. На власть точили зубы как правые силы, так и левые — справа монархисты, слева эсеры и большевики.
Впрочем, Сергея Есенина, похоже, вовсе не тревожил вопрос: «Кому достанется власть?» Он стоял в стороне от политической борьбы. Его волновала только судьба его стихов. В автобиографии 1923 года он писал: «В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсерами не как партийный, а как поэт».
Следует отметить, что как поэт Есенин сотрудничал в левоэсеровских журналах весьма активно — он напечатал в них около шестидесяти стихотворений и маленьких поэм, в том числе «Марфа Посадница», «Товарищ», «О красном вечере задумалась дорога…», «О, Русь, взмахни крылами».
И вот однажды, зайдя в редакцию левоэсеровской газеты «Дело народа», Есенин увидел там молодую секретаршу-машинистку. Его поразили ее красота и обаяние. Она показалась ему «тургеневской девушкой», которые, как явствовало из цитированного ранее письма Грише Панфилову, представлялись ему идеалом женщины.
Спустя некоторое время Есенин напишет на своей фотографии, которую он подарил Зинаиде Райх:
За то, что девочкой неловкой Предстала на пути моем.Нельзя не признать, что в данном случае Есенин, ослепленный красотой Зинаиды Райх, не совсем правильно разобрался в ее натуре. Менее всего ее можно было назвать «девочкой неловкой». Она была самостоятельной личностью, настойчивой в достижении поставленной цели, трудолюбивой и очень неглупой.
Зинаида Райх была на два года старше Есенина, она родилась в 1894 году в Одессе в семье, где «все смешалось». Мать ее, Анна Ивановна Викторова, происходила из дворянской семьи, хотя и обедневшей, но весьма образованной и культурной. Достаточно сказать, что ее дядя был известным ученым-лингвистом, первым секретарем отдела рукописей Румянцевской библиотеки в Москве. Анна Ивановна была очаровательной блондинкой, да еще с музыкальным дарованием. В Орле, где она жила, Анна Ивановна познакомилась с Августом Райхом, выходцем из Силезии, в жилах которого, по утверждениям некоторых исследователей, текла и еврейская кровь. Во всяком случае, Есенин впоследствии говорил, что его жена еврейка. Август Райх был высококвалифицированным механиком, отличным слесарем. Он влюбился в Анну Ивановну и, чтобы получить возможность жениться на ней, перешел из католичества в православие. При крещении по православному обряду он получил имя Николай Андреевич.
В Орле, где и состоялось его знакомство с Анной Ивановной Викторовой, он оказался по воле весьма «романтического» случая — там он скрывался от полиции из-за участия в революционном движении.
Его старшая любимая дочь Зинаида выросла под влиянием отца. В гимназии она участвовала в подпольном кружке, распространяла революционную литературу. Эти ее увлечения не остались незамеченными гимназическим начальством — когда она окончила гимназию, ей не было выдано свидетельство о политической благонадежности, что лишало ее права поступать в российские университеты. Зинаида Райх приехала в Петроград, где училась на «приватных» женских курсах. Ее отец, пытавшийся последовать за дочерью в Петроград, не сумел там обосноваться и уехал с семьей в Орел, где сестра Анны Ивановны владела собственным домом.
Зинаида Райх осталась в Петрограде и пыталась обрести себя — училась в скульптурной мастерской, а одно время даже хотела стать сестрой милосердия. Попутно она в совершенстве освоила машинопись. Здесь необходимо отметить, что она была девушка хорошо образованная, знала французский и немецкий языки, латынь.
Ее метания кончились тем, что весной 1917 года она устроилась секретарем-машинисткой в редакцию левоэсеровской газеты «Дело народа».
Здесь и произошла ее встреча с Сергеем Есениным.
Все, знавшие Зинаиду Райх в то время, единодушно отмечали ее удивительную женственность и красоту. Художница Софья Вишневецкая, например, писала: «Мне нравилась ее внешность, ее прелестные, как вишни, глаза и веки, как два лепестка… необыкновенная матовая кожа и абсолютная женственность».
Не следует думать, что до знакомства с Сергеем Есениным мужчины обходили Зинаиду Райх вниманием. Как раз тогда, летом 1917 года, в нее был влюблен поэт Алексей Ганин, приятель Есенина. Он ухаживал за Зинаидой Райх, посвящал ей стихи. Вот он-то и предложил Есенину и Зинаиде Райх поехать вместе с ним на север, в его родную деревню Коншино в Вологодской губернии. Они оба с восторгом приняли его предложение.
Путешествие оказалось весьма романтическим и увлекательным. Русский Север покорил их своей суровой, непривычной красотой. Они побывали в Архангельске, Мурманске, посетили Соловки.
Сергей Есенин и Алексей Ганин наперебой ухаживали за Зинаидой Николаевной, но по общему молчаливому уговору она считалась «девушкой Ганина».
Трудно сказать, действительно ли в течение этого путешествия Есенин всерьез влюбился в Зинаиду Райх или его подтолкнула атмосфера соперничества с Алексеем Ганиным — Есенин всегда и во всем хотел быть первым, — но он сделал ей предложение, что было несколько неожиданно, поскольку предшествовавший объяснению ход событий не предусматривал такой развязки.
Татьяна Есенина, дочь поэта и Зинаиды Райх, так описывала со слов матери эту поездку:
«Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на «вы», встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.
Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:
— Я хочу на вас жениться».
Ответ «Дайте подумать» Есенина несколько рассердил. Некоторые колебания Зинаиды Николаевны, надо полагать, объяснялись тем, что в Петрограде у нее был жених, хотя свадьба еще не была назначена.
Есенина эта задержка выводила из себя, он нервничал — не мог понять, как девушка может колебаться, когда руку и сердце ей предлагает такой красивый мужчина и к тому же уже достаточно известный поэт. Есенин хорошо знал, насколько он привлекателен, и был уверен в своей неотразимости.
Наконец Зинаида Николаевна дала Есенину согласие стать его женой. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого не было. В ответ на телеграмму «Вышли сто, венчаюсь» их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца.
Венчание состоялось 4 августа 1917 года в Кирико-Улитовской церкви под Вологдой. Шафером на свадьбе был Алексей Ганин. На Зинаиде Николаевне не было свадебного платья, она была одета в белую блестящую кофточку и черную шуршащую юбку.
А букет для невесты Есенин нарвал по дороге на лужайке перед церковью. Возможно, ему это показалось добрым знаком — единением с землей, словно сама природа благословляла их брак, — не вычурный букет, купленный в магазине, как это принято в городе, а простые цветы, сорванные его собственными руками.
Однако их брак дал трещину в первую же ночь. Мариенгоф писал в своих воспоминаниях:
«Зинаида сказала ему, что он ее первый мужчина. Она солгала. И вот этого — по крестьянской своей натуре — он никогда не мог простить ей. Трагически, фатально, но не мог простить».
Однако на поверхности эта трещина затянулась.
Погостив некоторое время в Орле, Есенин с Зинаидой Райх вернулись в Петроград и поселились в двухкомнатной квартирке на втором этаже дома № 33 по Литейному проспекту. Окна выходили во двор.
Начала налаживаться нормальная семейная жизнь. Очень точно воспроизвел атмосферу этой первой есенинской квартиры поэт и тогдашний друг Сергея Владимир Чернявский:
«Жили они без особенного комфорта (тогда было не до этого), но со своего рода домашним укладом и не очень бедно. Сергей много печатался, и ему платили как поэту большого масштаба. И он, и Зинаида Николаевна умели быть, несмотря на начавшуюся голодовку, приветливыми хлебосолами. По всей повадке они были по-настоящему «молодыми». Сергею доставляло большое удовольствие повторять рассказ о своем сватовстве, связанном с поездкой на пароходе, о том, как он «окрутился» на лоне северного пейзажа. Его, тогда еще не очень избалованного чудесами, восхищала эта неприхотливая романтика и тешило право на простые слова: «У меня есть жена». Мне впервые открылись в нем черточки «избяного хозяина» и главы своего очага. Как-никак тут был его первый личный дом, закладка его собственной семьи, и он, играя иногда во внешнюю нелюбовь ко всем «порядкам» и ворча на сковывающие мелочи семейных отношений, внутренне придавал укладу жизни большое значение. Если в его характере и поведении мелькали уже изломы и вспышки, предрекавшие непрочность этих устоев, — их все-таки нельзя было считать угрожающими».
Между тем такие вспышки случались. Дочь Есенина и Зинаиды Райх Татьяна записала со слов матери рассказ о крупной ссоре, происшедшей уже в первые месяцы их совместной жизни в Петрограде. Зинаида Николаевна поведала дочери, как она пришла с работы. «В комнате, где он обычно работал за обеденным столом, был полный разгром: на полу валялись раскрытые чемоданы, вещи смяты, раскиданы, повсюду листы исписанной бумаги. Топилась печь, он сидел перед нею на корточках и не сразу обернулся — продолжал засовывать в топку скомканные листы. Она успела рассмотреть, что он сжигает рукопись пьесы. Но вот он поднялся ей навстречу. Чужое лицо — такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова — она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол — не в обморок, просто упала и разрыдалась Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую–то коробочку, крикнул: «Подарки от любовников принимаешь?» Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение — не могла ни говорить, ни двигаться.
Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно. В их бытность в Петрограде крупных ссор больше не было, но он, осерчав на что-то, уже мог ее оскорбить».
Короче говоря, в их отношениях появилась новая трещина.
Но в общем, семейная жизнь налаживалась. Зинаида Николаевна оказалась вполне хозяйственной женой — она была деловита, аккуратна, хорошо готовила. Есенин это ее достоинство весьма ценил и впоследствии, когда они уже были в разводе, не раз, тоскуя по нормальной семейной жизни, вспоминал, как вкусно готовила Райх.
Домостроевские наклонности Есенина, проявившиеся еще при его совместной жизни с Анной Изрядновой, дали себя знать и в браке с Зинаидой Райх. Первое, что он сделал, так это потребовал, чтобы Зинаида Николаевна ушла из редакции «Дело народа». Когда Райх рассказала ему, что увлекается скульптурой и занимается в скульптурной мастерской, он жестко сказал: «Тебе надо рожать, а не скульптуры лепить».
Райх не противилась — она уже была беременна. Но обрекать себя на роль домашней хозяйки и покорной жены, чье предназначение рожать детей, Зинаида Николаевна отнюдь не собиралась.
Из редакции она по настоянию мужа ушла, но поступила на работу в наркомат продовольствия в качестве машинистки. Через некоторое время она уже оказалась в секретариате самого наркома Цурюпы.
Здесь необходимо отметить, что осенние месяцы 1917 года и зимы 1918 года были самым счастливым временем в жизни Есенина. Рюрик Ивнев, частенько заглядывавший в квартирку Есенина на Литейном проспекте, был немало удивлен переменами в Сергее Александровиче: «Мне было довольно странно видеть Есенина «женатым». Когда мы сиживали за столом и пили чай, каждый раз, когда Зинаида Николаевна отлучалась на минуту из комнаты, Сергей начинал шутливо говорить мне, подмигивая при этом: «Ты понимаешь, теперь я женат. Тебе нравится моя жена? Давай, говори, не скромничай — может быть, она тебе не нравится?»
Перемены в облике Есенина в те месяцы подметил и Владимир Чернявский. Он утверждал, что этот короткий период времени был самым безоблачным в непростой биографии Есенина. Зинаида Райх была тогда молода, прекрасна и безмятежна. А Есенин, писал Чернявский, выглядел совершенно иначе, чем раньше. «Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. Ничто больше не вызывало его на лукавство, никто не рассматривал его в лорнет, сам он перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью».
О том, как изменился Есенин внешне, вспоминал и поэт Петр Орешин, который в то время был близок с Есениным. «Засунув обе руки в карманы, — писал Орешин о Сергее Александровиче, — он прошелся по большой комнате по ковру, и тут я впервые увидел «легкую походку» — есенинскую. Никто так легко не умел ходить, как Есенин… На цветистом ковре, под электрической лампочкой, в прекрасно сшитом костюме Есенин больше походил на изящного джентльмена, чем на крестьянского поэта, воспевающего тальянку и клюевскую хату, где «из углов щенки кудлатые заползают в хомуты».
Однажды в четыре часа утра Сергей Есенин уходил от Петра Орешина. Прощаясь с хозяином, он сказал: «Я люблю свою жену, брат. Человек не может жить один!»
Впрочем, на этот безоблачный небосвод порой набегали тучки, предвещавшие будущие грозы. Приятель Есенина по Петрограду Мурашев пишет в воспоминаниях: «Есенин только что вернулся из деревни, приехал ко мне и не захотел возвращаться к себе на квартиру, где его ждала молодая жена Зинаида Николаевна Райх. Позвонил ей по телефону. Она приехала и увезла Сергея».
В марте 1918 года советское правительство приняло решение перенести столицу из Петрограда в Москву. Наркомат продовольствия, естественно, тоже перебрался в Первопрестольную. В числе его сотрудников, погрузившихся в один из поездов, отправлявшихся в Москву, была и машинистка-секретарь Зинаида Райх со своим мужем поэтом Сергеем Есениным. В Москве их поселили в гостиничных номерах на Тверской.
Подруга Зинаиды Николаевны Зинаида Гейман, дочь видного большевика, вспоминала: «Сергей Есенин с Зинаидой жили в плохоньком номере какой-то гостиницы. У них было неуютно, мрачно, по-богемному… На столе крошки, вода, разбросано. У нас роскошно, номер в две комнаты и ванна, свой телефон, бархатная скатерть на круглом столе, который покрывался белоснежной полотняной скатертью, когда официант приносил блестящий металлический чайный сервиз… Словом, было уютно, и к нам вечерами часто приходил Сергей с Зинаидой. Она беременна Татьяной. В черном платье с высоким воротом. Он, в сереньком костюме с галстуком бантиком, приносил балалайку, пел и читал стихи. Тогда жилось впроголодь, но мы получали паек — черный хлеб и сахар были у нас вдоволь, и мы их угощали».
И все-таки, несмотря на все бытовые трудности, это было прекрасное время. Уже упоминавшийся Петр Орешин вспоминал: «Весной восемнадцатого года мы перекочевали из Петрограда в Москву, и для Есенина эта весна и этот год были исключительно счастливыми временами. О нем говорили на всех перекрестках литературы того времени. Каждое его стихотворение находило отклик. На каждое его стихотворение обрушивались потоки похвал и ругательств. Есенин работал неутомимо, развивался и расцветал своим великолепным талантом с необыкновенной силой».
Не следует забывать, что эти «исключительно счастливые времена» для Есенина, о которых пишет Орешин, совпали с поистине тектоническими сдвигами в истории России. В феврале 1917 года было свергнуто самодержавие, а в октябре большевики захватили власть в Петрограде, а потом и в стране.
Молодой, горячий, импульсивный Сергей Есенин не мог остаться в стороне от этих событий. В своей «Автобиографии» 1923 года он в следующих словах описал свою причастность к революции: «В революцию покинул самовольно армию Керенского и, проживая дезертиром, работал с эсерами не как партийный, а как поэт.
При расколе партии пошел с левой группой и в октябре был в их боевой дружине».
В другой «Автобиографии» (1924 года) Есенин писал более откровенно: «Первый период революции встретил сочувственно, но больше стихийно, чем сознательно». В краткой заметке «О себе» (1925 год) он уточнил: «В годы революции был всецело на стороне Октября, но принимал все по-своему, с крестьянским уклоном».
Примечательны в этом плане воспоминания И. Эренбурга: «Мы несколько раз встречались в Москве: говорили о стихах, о событиях. В отличие от Клюева, он менял роли… не играть он не мог (или не хотел). Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас в Рязанской…» В мае 1918 года он говорил мне, что нужно все повалить, изменить строение вселенной, что крестьяне пустят петуха и мир сгорит». В эту встречу Есенин подарил Эренбургу свою книгу «Голубень» с очень характерной дарственной надписью, в которой отразились расхождения во взглядах Есенина и Эренбурга на многие жгучие проблемы того времени: «Милому недругу в наших воззрениях на Русь и Бурю. И. Эренбургу на добрую память от искренне любящего С. Есенина. Мая Москва 1918».
Надо сказать, что в биографии Есенина имеются белые пятна, какие-то отрезки времени, окутанные дымкой неизвестности. К таким периодам можно отнести месяцы перед Октябрьской революцией и после нее. Почему-то не опубликовано ни одного письма, относящегося к этому периоду. Трудно поверить, что Есенин, который всегда вел активную переписку с друзьями, в это время вдруг без видимых причин прекратил писать близким ему людям. Западные исследователи высказывают предположения, что письма-то были, но в них, возможно, содержались нежелательные для властей мысли поэта. Возможно…
Сохранились отрывочные и большей частью косвенные свидетельства истинных настроений Есенина и его отношения к большевистской диктатуре. Во-первых, Есенин в ту пору находился под сильным влиянием Иванова-Разумника, своего духовного наставника, который восставал против марксистского «зверя»: «Этот зверь, притворявшийся первое время лисицей, сумел проглотить по очереди всех: в январе 1918 года Учредительное собрание и правое крыло эсеров, в апреле — анархистов, в июне — левое крыло эсеров». В другом случае он утверждал: «Искусство свободно и не может держаться на штыках».
Поэта Есенина прежде всего волновало отношение новой власти к личности художника. В сентябре 1924 года Есенин заявил: «Писать в соответствии с продиктованной линией абсолютно невозможно». Об одном своем приятеле, члене партии, он отозвался так: «Единственная его беда заключается в том, что он любит коммунизм больше, чем литературу».
Есенин был рад переезду из Петрограда в Москву. Конечно, когда он два с лишним года назад приехал в столицу Российской империи, петроградские литературные круги встретили никому не известного поэта из деревни вполне благожелательно — его яркий талант бросался в глаза. Есенину грех было жаловаться. Но, несмотря на все, Есенина никогда не покидало ощущение, что в снобистской атмосфере петроградских салонов он чужой. Поэт Георгий Адамович вспоминал, какой прием в свое время оказали Есенину: «Есенин приехал в Петербург… и писатели встретили его с ироническим удивлением… Мнение Сологуба о нем было совершенно непечатным, Кузьмин хмурился, Гумилев пожимал плечами, Гиппиус, глянув на его валенки сквозь свой лорнет, спросила: «Что это у вас за гетры?»
Петроград оставался для Есенина интеллектуально изысканной столицей, Москва же казалась более русским городом, не таким европейским, как Петроград. Кроме того, в Петрограде за Есениным закрепилась репутация ученика Клюева. В Москве же он мог начинать как бы заново, с чистого листа, да и соперников на поэтическом ристалище здесь было меньше.
Тихое семейное счастье Сергея Есенина и Зинаиды Райх в Москве длилось недолго. Вскоре Зинаида Николаевна, которая собиралась рожать, уехала в Орел к родителям, а Есенин остался в Москве, где открылась новая страница его литературной биографии.
Дочка Таня родилась 29 мая 1918 года.
Как и три с половиной года назад, когда Анна Изряднова родила сына Юрия, Есенин и на этот раз не выказал особых отцовских чувств.
В Орле Зинаида Николаевна вскоре после рождения дочери пошла работать. Сначала она служила инспектором, потом заведующей театрально-кинематографической секцией окружного военного комиссариата, заведовала красноармейским клубом. Потом она перешла на должность заведующей подотделом искусств губернского отдела народного образования.
Вернулась Зинаида Николаевна в Москву только осенью 1919 года. Эти полтора года оказались переломными в семейной жизни Сергея Есенина и Зинаиды Райх. Впрочем, дело было, видимо, не в долгой разлуке — она не раз за это время наезжала в Москву, и c дочкой Танечкой на руках, и без нее.
Есенин ютился тогда в маленьком чуланчике дома Пролеткульта в бывшем особняке купцов Морозовых, построенного в псевдомавританском стиле. Чуланчик был завален старой разбитой мебелью и всяческим скарбом. Можно себе представить, как чувствовала себя Зинаида Райх в этом бедламе.
Но о том, как складывались отношения между супругами в тот период, рассказ впереди. А сейчас самое время обратиться к новому этапу в жизни Есенина — московскому, имажинистскому.
Перед ним стояла труднейшая задача — покорить Москву, утвердиться в ней в качестве первого поэта. В одиночку осуществить это было трудновато, нужны были соратники, помощники. В Москве было плохо не только с продуктами, ощущался голод и на типографскую бумагу.
В сентябре Есенин сколотил группу из нескольких литераторов, которые решили создать кооперативное издательство. В первом организационном собрании приняли участие пять человек: Есенин, Клычков, Орешин, Белый и журналист Лев Повицкий.
Главная трудность была с бумагой. Выручила крестьянская сметка Есенина. Лев Повицкий вспоминал: «Он использовал тот же способ, к которому прибегал и несколько позже, когда была создана издательская компания «Имажинисты». Способ был предельно прост и действовал безотказно. Есенин надевал длинный крестьянский зипун, причесывал волосы на крестьянский манер и отправлялся на прием к дежурному члену президиума Московского Совета. Сняв шапку, он долго кланялся и, прибегая к рязанскому акценту, просил Христа ради проявить божескую милость и выделить бумагу на «крестьянскую поэзию». Конечно, никто не мог отказать такому просителю, от которого трудно было отвести глаза. Так мы раздобыли бумагу».
Между тем Есенина не покидало ощущение, что с крестьянскими поэтами ему больше не по пути. Ситуация в литературном мире менялась, акценты смещались, и он не хотел, чтобы за ним закрепилась репутация крестьянского поэта. Нужны были новые союзники — молодые, энергичные, если хотите, даже нахальные.
Их встреча была, если позволительно так сказать, предопределена судьбой. Они должны были встретиться если не в какой-нибудь редакции или издательстве, то уж во всяком случае в одном из литературных кафе, которых в Москве развелось немало.
Так оно и случилось. В конце августа 1918 года Есенин познакомился с Анатолием Мариенгофом в издательстве ВЦИК, расположенном на углу Тверской и Моховой. Поскольку этот человек занял большое место в жизни Сергея Есенина и оказал серьезное влияние на его судьбу, о нем следует рассказать подробнее.
Есенин увидел перед собой высокого, представительного мужчину с красивым, несколько удлиненным лицом и безупречным пробором — волосок к волоску. Одет он был очень тщательно, с продуманной элегантностью, в лаковых ботинках. Одним словом, денди.
Анатолий Мариенгоф происходил из небогатой дворянской семьи, получил хорошее образование, побывал на фронтах русско-германской войны. Он был поэтом, не крупным, но своеобразным. Во всяком случае, его стихи звучали на литературных вечерах и в поэтических кафе не менее оригинально и скандально, чем, скажем, стихи футуристов и прочих расплодившихся тогда поэтических школ и школок.
Именно Мариенгоф придумал новое литературное направление, которое он окрестил имажинизмом — от английского термина imagism, что обозначает образ. Еще в Пензе, где он жил до переезда в Москву, он подготовил первый имажинистский сборник «Исход», который был отпечатан в пензенской типографии осенью 1918 года.
Мариенгофа обычно сопровождал его соратник, поэт и весьма эрудированный теоретик имажинизма Вадим Шершеневич.
Новые знакомые быстро нашли общий язык. Идеи Мариенгофа об образе как зерне поэтического произведения получили живой отклик в душе Есенина, поскольку были созвучны его поэтическим наклонностям. Свидетельством тому может служить хотя бы его восхищение образным строем «Слова о полку Игореве».
После длительных и весьма непростых переговоров решено было собраться в комнате Мариенгофа и, если удастся договориться, выработать манифест. Мариенгоф вспоминал: «До поздней ночи пили мы чай с сахарином, говорили об образе, о месте его в поэзии, о возрождении большого словесного искусства «Песни песней», «Калевалы» и «Слова о полку Игореве».
Шершеневич впоследствии писал о том, как родилась «Декларация»: «Это было сделано не так просто. Мы долго думали, еще больше спорили, и накануне опубликования нашего первого манифеста имажинизма двое из нас отказались подписать его, и был момент, когда манифест был уже в типографии, в наборе, а нас спрашивали, можно ли печатать наши имена… Мы долго не могли договориться до всего, что нас потом объединило».
В результате в январе 1919 года в воронежском журнале «Сирена» появилась «Декларация», которая уже в феврале была перепечатана в газете «Советская страна».
Главная мысль «Декларации» была сформулирована в следующих словах: «Образ, и только образ… Всякое содержание в художественном произведении так же глупо и бессмысленно, как наклейка вырезок из газет на картины». Под «Декларацией» стояли подписи поэтов Сергея Есенина, Рюрика Ивнева, Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича, художников Бориса Эрдмана и Георгия Якулова.
Новое литературное течение с первых же дней своего появления на свет божий заявило о себе шумно и дерзко. Уже в феврале имажинисты, несмотря на бумажный голод, создали свое издательство.
Тогда же они открыли на Тверской улице в доме № 17, напротив гостиницы «Люкс», позднее переименованной в «Центральную», литературное кафе «Стойло Пегаса». Они приспособили под свой штаб помещение артистического кафе «Бом», где до революции любили встречаться литераторы, артисты, художники. Оно принадлежало широко известному в те годы клоуну-эксцентрику Бому, в «миру» Станевскому, выступавшему в эстрадной паре «Бим—Бом». Это кафе в свое время подарила Бому его поклонница, богатая купчиха Сиротинина, и оно было оборудовано лучшей по тому времени кухонной техникой.
Сразу же после революции Станевский эмигрировал за границу, а кафе через какое-то время оказалось в руках имажинистов. Преимущество этого помещения, помимо выгодного местоположения в центре Москвы, заключалось в том, что его не надо было заново отделывать, приобретать мебель, кухонную утварь.
Имажинисты разукрасили «Стойло Пегаса» в соответствии со своими вкусами. Георгий Якулов нарисовал на вывеске скачущего Пегаса и название, буквы которого как бы летели вслед за легендарным конем. Он же с помощью своих учеников выкрасил стены в ультрамариновый цвет, а на них яркими желтыми красками написал портреты своих соратников-имажинистов и строчки из их стихов.
Между двух зеркал было намечено контурами лицо Есенина с копной золотых волос и две строчки:
Срежет мудрый садовник осень Головы моей желтый лист.Слева от зеркала были изображены нагие женщины с глазами на животе, а ниже красовались есенинские строки:
Посмотрите: у женщин третий Вылупляется глаз из пупа.А через год на стене над эстрадой крупными белыми буквами были выведены стихи Есенина:
Плюйся, ветер, охапками листьев, — Я такой же, как ты, хулиган!«Стойло Пегаса» стало родным детищем Есенина. И он вел себя как полновластный хозяин-единоличник, организовывал литературные диспуты, почти каждую ночь поэты читали здесь свои стихи. Зачастую Есенин и ночевать оставался в «Стойле Пегаса», если не отправлялся на ночлег к кому-нибудь из друзей — своей крыши над головой у него не было.
Другим постоянным прибежищем Есенина и его друзей имажинистов, да и всей московской пишущей братии и вообще художественной интеллигенции было «Кафе поэтов», именуемое среди его посетителей «Домино». Оно тоже располагалось на Тверской, но поближе к Охотному ряду, напротив Главного телеграфа.
Держал это кафе Союз поэтов, в просторечии СОПО. Здесь было два зальчика, один общий — для заходивших сюда с Тверской посетителей, в основном богатых нэпманов и их подруг, и в глубине второй — для членов Союза поэтов, которые могли получить здесь «дореволюционный» обед по дешевке. Внутреннее убранство «Кафе поэтов» отличалось, как и «Стойло Пегаса», экстравагантностью — причудливая роспись стен, фантастические рисунки, карикатуры. Стены были исписаны строчками из стихов Есенина, Мариенгофа, Шершеневича. У эстрады покачивались разноцветные фонарики.
Впечатление от «Кафе поэтов» сильно портила вывеска на карнизе между первым и вторым этажом, гласившая: «Больница для душевнобольных». Вывеска эта относилась к больнице, размещавшейся на втором этаже, но служила поводом для множества шуток и даже издевательств. Но поделать с этим хозяева кафе «Домино» ничего не могли.
Двери «Домино» были распахнуты до двух часов ночи, когда почти все подобные заведения в Москве уже закрывались. Это во многом усиливало его привлекательность.
Имажинисты прекрасно усвоили опыт раннего футуризма с желтой кофтой Маяковского и «Пощечиной общественному вкусу». Хороший добротный скандал служил прекрасной рекламой, подогревал в публике интерес к имажинистам, способствовал распродаже их произведений. (Есенин со товарищи открыли на Большой Никитской в здании консерватории книжную лавку. Владельцем лавки числился С. Есенин, патент был выдан на его имя. Есенин ходил за разрешением на открытие лавки к председателю Моссовета и разговаривал с ним с олонецким акцентом, заимствованным им у Клюева, и обращался к Л. Б. Каменеву на «ты», как принято в деревне.
Имажинисты довольно бойко торговали в лавке своими книгами с автографами.
Есенин понимал цену скандала. Поэт Полетаев вспоминал любопытный разговор с Есениным, в ходе которого Есенин утверждал, что реклама нужна поэту, как и всякой солидной торговой фирме, и что скандалить не так уж плохо, так как это привлекает внимание дуры-публики.
Другой пролетарский поэт, Кириллов, который не раз оказывался свидетелем есенинских скандалов, писал, что «они как-то не вязались с обликом милого и задушевного человека. Мне казалось, что они неспроста. Как-то летом, возвращаясь с Есениным из Дома печати, я заговорил с ним на эту тему. Есенин пристально поглядел на меня. Во взгляде его чувствовался скрытый смех и лукавство.
— Вот чудак! На одном таланте теперь далеко не уедешь. Скандал, особенно красивый скандал, помогает таланту».
О том, как к Есенину прилипла кличка «хулиган», вспоминал он сам. В черновике автобиографии 1925 года «О себе» Есенин писал: «В начале 1918 года я твердо почувствовал, что связь со старым миром порвана, и отстал от группы Блока, Белого, написал поэму «Инония», на которую много было резких нападок и из-за которой за мной утвердилась кличка хулигана».
Очень точно написал о хулиганских выходках Есенина его ближайший друг и соратник по цеху имажинистов Анатолий Мариенгоф. Он обвинял критиков в том, что именно они внушили Есенину мысль вести себя как хулиган в поэзии и в повседневной жизни. Мариенгоф утверждал, будто Есенин решил с холодной и ясной головой, что это его путь к славе, и начиная с 1919 года стал преподносить публике то, что она хотела. «Я не знаю, что чаще трансформировалось у Есенина: его жизнь переходила в стихи, или стихи в жизнь. Его маска стала его подлинным лицом, а лицо стало маской».
Он затеял опасную игру. Есенин и раньше играл в нее — еще с 1915 года. Но никогда прежде он не ударялся в нее с таким бешеным темпераментом. Конечно, имажинист не изменил Есенина в одну ночь — в течение месяцев, даже лет, трещина могла оставаться незаметной. Скандалы имажинистов далеко не всегда были циничными и отвратительными, в них просвечивал и молодой задор, веселье, озорство.
Поэт Полетаев вспоминал об одном таком выступлении Есенина в «Кафе поэтов»:
«Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:
— Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к …..! Спекулянты и шарлатаны!
Публика повскакала с мест. Кругом кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывая «чеку».
Примеров таких «красивых» скандалов известно множество. Достаточно вспомнить хотя бы эпизод, когда одной темной осенней ночью имажинисты сняли дощечки с надписью «Кузнецкий Мост» и приколотили на их место дощечки, где было выведено «Улица имажиниста Есенина», а вместо «Петровки» в Москве появилась «Улица имажиниста Мариенгофа».
Типичный скандальчик в «Кафе поэтов» описывал Мариенгоф в своих воспоминаниях «Мой век, мои друзья и подруги». Шел вечер, называвшийся «Явление народу имажиниста Рюрика Ивнева». За столиком рядом с эстрадой сидел мужчина из «недорезанных буржуев» с лицом, испещренным дырками, как швейцарский сыр. Он все время громко разговаривал со своей рыжей дамой, заглушая тоненький голосок Ивнева. Есенина это вывело из себя, и он крикнул:
— Эй… вы… решето в шубе… потише!
«Недорезанный буржуй» не обратил никакого внимания на его окрик и продолжал так же громко говорить. Тогда Есенин подошел к его столику и со словами «Милости прошу со мной!» взял говоруна двумя пальцами за нос и неторопливо повел его к выходу через весь зал. При этом с рязанским выговором повторял: «Пордон… пордон, товарищи».
Зал замер от восторга, а швейцар шикарным жестом распахнул дверь. Рыжая спутница истерически кричала.
После этого случая в «Кафе поэтов» яблоку негде было упасть. Публика валила валом. Вероятно, многие мечтали своеобразно прославиться — а вдруг и его самого Есенин за нос выведет.
Необходимо подчеркнуть, что приверженность Есенина постулатам имажинизма была отнюдь не однозначной. Он не раз публично утверждал свою поэтическую независимость от каких-либо школ. Достаточно заглянуть в воспоминания Чернявского, который рассказывает о выступлении Есенина на литературном вечере в Ленинграде весной 1924 года: «Начав с защиты друзей, он — вольно или невольно — опроверг многое из сказанного ими. Его выводы были таковы: напрасно меня считают крестьянским поэтом («Вот Клюев на меня обижается»), напрасно они все, хотя они друзья мне, считают меня своим». «Я не крестьянский поэт и не имажинист, я просто поэт».
Связь Есенина с имажинизмом современники расценивали по-разному. Поэт Владислав Ходасевич высказал свое мнение со всей категоричностью: «Есенина затащили в имажинизм, как затаскивают в кабак. Своим талантом он скрашивал бездарность имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача».
Гораздо более объективно высказался профессор Розанов:
«Мне представляется, что Есенин ценил своих имажинистских друзей потому, что они были его компаньонами, ловкими и предприимчивыми, и не подавляли его своим авторитетом, как это было со «Скифами». Имажинизм дал ему возможность оторваться от своего прошлого. В частности, Есенин отрекся от того периода, когда его имя упоминалось после имени Клюева. Он возмущался критиками и составителями антологий, которые числили его среди крестьянских поэтов… Он считал абсурдом группировать поэтов не в зависимости от их творческих методов, а согласно их происхождению».
Разочарование Есенина в его соратниках по имажинизму наступило довольно быстро. Уже в 1921 году, то есть через два года после того, как Есенин познакомился с Анатолием Мариенгофом и Шершеневичем, он отозвался о них довольно уничижительно: «У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова… Поэтому они так любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривлянья ради самого кривлянья… Они никому не молятся, и нравится им одно пустое акробатство, в котором, они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше ни меньше как ни на что не направленные выверты».
Здесь уместно отметить, какое огромное значение для поэта Есенин видел в понятии «родина». Его друг последних лет Вольф Эрлих рассказывал, как однажды Есенин отозвался о Маяковском и в связи с ним о значении родины для поэта.
«Знаешь, почему я поэт, — сказал он, — а Маяковский так себе — непонятная профессия. У меня родина есть! У меня — Рязань! Я вышел оттуда и какой ни на есть, а приду туда же. А у него — шиш. Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда…. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины…»
Однако обнаруживавшийся с годами скептизизм Есенина к имажинизму никак не сказался на его приятельских отношениях с Анатолием Мариенгофом. Их связывала крепкая мужская дружба. Об этом говорит множество обстоятельств их жизни, письма Есенина Мариенгофу. Для примера можно привести хотя бы одно письмо Есенина из Нью-Йорка, датированное 12 ноября 1922 года: «Милый Толя. Если бы ты знал, как вообще грустно, то не думал бы, что я забыл тебя и не сомневался бы в моей любви к тебе. Каждый день, каждый час, и ложась спать, и вставая, я говорил себе: сейчас Мариенгоф в магазине, сейчас пришел домой… Вижу милую остывшую твою железную печку, тебя, покрытого шубой…»
Упоминание о комнате Мариенгофа в Богословском переулке прозвучало отнюдь не случайно. Эта коморка в течение нескольких лет служила бездомному Есенину спасительным прибежищем, здесь он подолгу жил, здесь они вдвоем с Мариенгофом мерзли, лежа под одним одеялом. Перед этим они бросали жребий, кому первому ложиться в ледяную постель и согревать ее своим телом. С этой постелью связан анекдотический эпизод, описанный Мариенгофом в «Романе без вранья».
Одна поэтесса попросила Есенина помочь ей устроиться на работу. У нее были, отмечал Мариенгоф, розовые щечки, круглые бедра и пышные плечи.
Есенин предложил ей жалованье машинистки, с тем чтобы она приходила к ним в час ночи, раздевалась, залезала под одеяло и грела постель, после чего отправлялась домой.
При этом Есенин и Мариенгоф поклялись, что они в это время будут сидеть к ней спиной, уткнувшись в рукописи. Три дня Есенин и Мариенгоф наслаждались, ложась в теплую постель. Однако на четвертый день поэтесса объявила, что не намерена дальше выполнять свои обязанности. При этом голос ее прерывался, она захлебывалась от возмущения, а глаза ее от гнева расширились до того, что из небесно-голубых стали черными.
Есенин и Мариенгоф недоумевали и напомнили ей, что они свято блюли взятые ими на себя условия.
— Вот именно! — воскликнула поэтесса. — Но я не намерена греть простыни у святых.
И она ушла, хлопнув изо всей силы дверью.
В эту комнату в Богословском переулке приходила Зинаида Райх, когда приезжала в Москву из Орла, иногда одна, иногда с дочкой Таней.
Однако не всегда эти визиты приносили радость. Был такой случай, когда Есенин не впустил в дом Зинаиду Николаевну с Таней на руках и им пришлось холодной ночью искать себе пристанище. А однажды Райх всерьез расстроилась и обозлилась на дочку за то, что та не хотела сидеть на коленях у отца, что, кстати сказать, было вполне естественно — девочка практически не знала отца и считала его чужим дядей. А Зинаида Николаевна испугалась, что Есенин может подумать, будто это она настраивает Татьяну против отца.
Вообще семейная жизнь Сергея Есенина и Зинаиды Райх полна противоречий, неясностей, белых пятен. Как, например, примирить такие, казалось бы, взаимоисключающие обстоятельства? В «Автобиографии» 1924 года Есенин написал: «1917 году произошла моя первая женитьба на З. Н. Райх. 1918 году я с ней расстался». Если верить этим словам, то следует признать, что в 1918 году семья распалась. Однако близкие отношения между ними продолжались. В июне 1919 года, например, он пишет ей: «Зина! Я послал тебе вчера 2000 рублей. Как получишь, приезжай в Москву». Еще раньше, в мае 1919 года, Есенин дарит Райх сборник своих стихотворений «Преображение» с надписью: «Милой Зинон от Сергуньки. Мая 19. 1919.»
В то же время случались и грубые ссоры. Однажды Есенин со зла бросил в лицо Зинаиде оскорбительное нецензурное слово. А она, не задумываясь, обозвала этим словом его самого. Есенин схватился за голову и простонал: «Зиночка, моя тургеневская девушка! Что же я с тобой сделал?»
Осенью 1919 года Зинаида Райх с дочерью Татьяной переехали в Москву. С 15 ноября 1919 года она работала во внешкольном отделе Наркомпроса консультантом по искусству в подотделе народных домов и клубов.
Любопытно, как по-разному оценивали Зинаиду Райх близкие друзья Есенина, с одной стороны, и люди, не входившие в их тесный круг, — с другой.
Самым большим ненавистником Зинаиды Райх был Анатолий Мариенгоф. В своих мемуарах «Мой век, мои друзья и подруги» он признавался, что, не любя Зинаиду Райх, обычно отзывался о ней: «Эта дебелая еврейская дама». Он не пожалел злых слов, описывая внешность Райх: «Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку».
Шершеневич писал: «Райх была при Есенине забитая, бесцветная и злая… Есенин держал Райх в черном теле, был равнодушен к их ребенку и этим сильнее всего огорчал Райх».
А другие люди воспринимали тогда Зинаиду Райх как красавицу, умницу, блистательную женщину, по праву занимавшую свое место в ряду таких выдающихся дам, сумевших не только выжить в страшные годы революции, но и нашедших свое место при новой власти — таких, как Лиля Брик, Лариса Рейснер, Тамара Иванова и другие. К тому же Зинаида Райх вполне успешно делала служебную карьеру — она занимала ответственные посты в советском аппарате (одно время она даже разъезжала по Москве на паре гнедых лошадей), она была близко знакома с Луначарским, Крупской, Маяковским.
И ей совсем не улыбалась перспектива опуститься до роли одной из поклонниц, сопровождавших Есенина из кабака в кабак. Кроме того, она терпеть не могла его друзей и собутыльников — Мариенгофа, Кусикова и других.
Здесь мы подбираемся к одной из главных загадок жизни Есенина: почему разрушилась его семейная жизнь с Зинаидой Райх?
Как известно, инициатором разрыва была Зинаида Николаевна. Хотя так же достоверно известно, что она продолжала его любить. На этот счет существует такое непредвзятое мнение, как мнение Августы Миклашевской, последней любви Есенина, — а ведь женщины ревнуют к прошлым романам своих возлюбленных ничуть не меньше, чем к настоящим. Так вот, Августа Миклашевская утверждала: «Друзья Есенина поговаривали, что Райх не любила Есенина. Нет, она его любила! Только с ним было очень трудно. Да еще и Мариенгоф внушал Есенину, что женитьба и семья поэту не нужны. Зинаида была женщина гордая. Она хотела иметь мужа, как все, а не так, как было с Есениным — по году не виделись».
В своих попытках сохранить мужа Райх пошла на крайнюю меру — она решила родить второго ребенка. Ее подруга Зинаида Петровна Викторова рассказывала, как она оказалась свидетельницей семейной ссоры. Райх, как всегда, когда волновалась, ходила по комнате. А Сергей вдруг обратился к ее подруге и выпалил: «Вот Зина хочет родить второго ребенка, а у нас уже есть Танечка, зачем нам сейчас другой ребенок?»
Остается найти ответ на второй главный вопрос: любил ли Есенин Зинаиду Райх?
Пожалуй, наиболее точно ответил на него злейший враг Зинаиды Анатолий Мариенгоф: «Кого же любил Есенин? Больше всего он ненавидел З. Н. Райх. Вот ее, эту женщину… которую он ненавидел больше всех в жизни, — ее — единственную — он и любил».
Ему вторил Г. Устинов: «Любил ли он кого? Я думаю, любил только первую жену. Он очень хорошо говорил о Дункан, о некоторых других, но у него не было постоянной любви, которая при этом была мучительной, потому что он не мог сойтись снова, и от него ушли».
В этой цитате звучит ключевое слово: «мучительная». Они действительно, любя друг друга, мучили и себя, и своего партнера по семейной жизни. Примечателен разговор, который приводил Мариенгоф в «Романе без вранья».
Однажды Есенин обнял его за плечи и проникновенно спросил:
— Любишь ты меня, Анатолий? Друг ты мне заправдашний или не друг?
— Чего болтаешь? — вопросом на вопрос ответил Мариенгоф.
— А вот чего… Не могу я с Зинаидой жить… вот тебе слово, не могу… говорил ей — понимать не хочет… не уйдет и все… ни за что не уйдет… вбила себе в голову: «Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу…» Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя), что у меня есть другая женщина…
— Что ты, Сережа?
— Эх, милый, из петли меня вынуть не хочешь… петля мне любовь. Толик, родной, я пойду похожу… по бульварам, к Москва-реке… а ты скажи — она непременно спросит, — что я у женщины… С весны, мол, путаюсь и влюблен накрепко… а таить этого не велел… Дай я тебя поцелую…
На следующий день Райх уехала в Орел.
20 марта 1920 года Зинаида Николаевна родила сына. Рожала в Доме матери и ребенка. Позвонила по телефону Есенину, спросила у него, какое имя он хотел бы дать сыну. Есенин задумался — ему не хотелось давать мальчику литературное имя. В конце концов сказал: «Константин». И только после крещения спохватился: «Черт побери, а ведь Бальмонта Константином зовут».
На сына Есенин посмотреть не пришел. А Райх с ребенком еще долго оставалась в Доме матери и ребенка. К Есенину она больше не возвращалась.
Случай свел их на ростовском вокзале. Мариенгоф увидел Зинаиду Николаевну. Она ехала в Кисловодск. А Есенин, увидев, что Мариенгоф разговаривает с Райх, пошел в другую сторону.
Зинаида Николаевна попросила Мариенгофа:
— Скажите Сереже, что я еду с Костей. Он его не видел. Пусть зайдет, глянет. Если не хочет со мной встречаться, могу выйти из купе.
Есенин сначала заупрямился.
— Не пойду. Не желаю. Нечего и незачем мне смотреть.
Мариенгоф стал его уговаривать:
— Пойди, скоро второй звонок. Сын ведь.
Есенин зашел в купе, нахмурив брови, Зинаида Николаевна развязала ленточки кружевного конвертика. Маленькое розовое существо барахтало ножками.
— Фу! Черный! — вырвалось у Сергея. — Есенины черными не бывают…
— Сережа!
Райх отвернулась к окну, плечи ее вздрогнули.
— Ну, Анатолий, поднимайся.
И Есенин легкой, танцующей походкой вышел в коридор международного вагона.
Трудно себе даже представить, что пережила Зинаида Райх в эти минуты.
А Есенин, как это свойственно большинству людей, готов был свои недостатки, свои прегрешения списывать на других. Так он уверил себя и старался уверить всех, что виновником его разрыва с Зинаидой Райх был Мариенгоф. Августа Миклашевская вспоминала, как Есенин жаловался ей на Мариенгофа: «Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх. Уводил меня из дома, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: «Ты еще ватные наушники надень». Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного».
Мариенгоф к тому времени действительно женился на актрисе Камерного театра Анне Никритиной и прожил с ней долгую и счастливую жизнь.
Однако хотя Есенин и жаловался на Мариенгофа, который, дескать, «постоянно твердил, что поэт не должен быть женат», сам он исповедовал (во всяком случае, на словах) те же убеждения. Своему молодому другу поэту Вольфу Эрлиху он внушал: «Ты мой совет запомни: холостая жизнь для поэта — все равно что мармелад! И стихи идут, и все идет! Женишься — света божьего не взвидишь!»
Друзья Есенина были убеждены, что женщины мешают мужской дружбе. Мариенгоф в своих воспоминаниях рассказывает следующий юмористический эпизод. На одном из сборищ в его комнате в Богословском переулке Шершеневич поведал такую байку:
— Известно ли вам, бессмертные, — начал Шершеневич, — что во время своего исторического путешествия Чарльз Дарвин посетил людоедов. Ознакомившись с их бытом и нравами, он спросил вождя каннибалов: «Сэр, почему вы кушаете преимущественно своих жен? Вы лучше ели бы своих собак. Разве они менее вкусны, чем леди?» Рассудительный вождь ответил: «Наши собаки ловят выдру. А женщины ни на что не годны. Поэтому мы предпочитаем ими утолять голод». Старейший из людоедов, желая выглядеть гуманным в глазах европейца, мягко добавил: «Но перед тем, как поджарить женщину, мы ее обязательно душим».
— Ах, как это мило! — воскликнул Рюрик Ивнев своим девичьим голоском.
— Не правда ли? Так вот, друзья, — заключил Шершеневич, — я бы тоже обязательно душил женщин, которые разбивают большую мужскую дружбу.
Профессор И. Розанов в своих воспоминаниях, относящихся к 1921 году, отмечал: «Меня удивляло, что о женщинах Есенин отзывался большей частью пренебрежительно.
— Обратите внимание, — сказал он мне, — что у меня почти совсем нет любовных мотивов… Моя лирика жива одной большой любовью — любовью к родине. Чувство родины — основное в моем творчестве».
Ему вторил Вадим Шершеневич: «Вообще Есенин был слишком занят собой, своими стихами и своей деятельностью, чтобы быть искренне привязанным к женщине. Любовь у него всегда была на третьем плане. Он даже к еде относился с большим вниманием, чем к «любимой». А семьянином был просто никудышным».
А как складывалась судьба Зинаиды Райх? Это весьма важно, ибо до конца жизни Есенина она зримо или незримо присутствовала в его судьбе и играла в ней далеко не последнюю роль. Это будет видно из дальнейшего повествования. Следует только сделать одну существенную оговорку: слова «как складывалась судьба Зинаиды Райх» не совсем точны. Зинаида Николаевна принадлежала к той породе сильных женщин, которые сами складывают свою судьбу.
После того как она родила сына Костю, Райх некоторое время жила в Доме матери и ребенка, работала в Наркомпросе, потом весной 1921 года уехала в Орел. И вот здесь она сделала первый шаг, чтобы изменить род своих занятий, обрести новую профессию — Зинаида Николаевна начала преподавать на театральных курсах историю театра и костюма.
До сих пор она всегда была простой канцелярской служащей. Как пренебрежительно заметил Анатолий Мариенгоф, «Райх актрисой не была — ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советская канцелярия. В Петрограде — канцелярия, в Москве — канцелярия, у себя на родине в Орле — военная канцелярия. И опять — московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.
И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых».
И вдруг театр.
В октябре 1921 года народный суд города Орла по заявлению Есенина оформил его развод с Зинаидой Райх, после чего она оставляет двух своих детей на попечение родителей и уезжает в Москву, где поступает учиться в Государственные высшие режиссерские мастерские (вскоре переименованные в Государственные экспериментальные мастерские), которыми руководил знаменитый театральный режиссер Всеволод Мейерхольд.
Один из современников писал о ней в тот период: «Зинаида Николаевна Райх, бывшая жена Сергея Есенина, пришла в мастерские Мейерхольда в кожаной куртке, стриженая — молодая женщина эпохи военного коммунизма… Эпоха формировала новый лик женщины, и Зинаида Николаевна, как истая женщина, примеряла его на себя. Она была красива, заметна, умна, деятельна, честолюбива и скоро заняла видное положение в штабе Мейерхольда и, главное, в его жизни».
Александр Гладков, будущий драматург, а тогда помощник Мейерхольда, вспоминал: «Вскоре в запутанных кривых переулках между Тверской и Большой Никитской можно было встретить тесно прижавшихся друг к другу и накрытых одной шинелью мужчину и женщину. Он знаменит, немолод, утомлен и болен. Она пережила тяжелую драму разрыва с мужем и вела полунищенское существование с двумя маленькими детьми».
В 1922 году Зинаида Райх стала женой Мейерхольда и вселилась в большую его квартиру на Новинском бульваре. Потом туда переехали из Орла и ее родители и дети — Татьяна и Константин.
Отношения Есенина и Зинаиды Николаевны на этом отнюдь не оборвались. Более того, они стали еще более сложными. К ним присовокупились терзания Есенина по поводу детей. Об этом свидетельствуют проникнутые горечью строчки из стихотворения «Письмо от матери», датированном декабрем 1924 года:
Но ты детей По свету растерял, Свою жену Легко отдал другому.Характерный эпизод, говоривший о душевных терзаниях Есенина, густо замешанных на подогретых вином чувствах, оставил в своих воспоминаниях театральный художник Василий Командерков.
«Как-то я засиделся, — писал он, — в «Стойле Пегаса» с Сергеем Есениным и Вадимом Шершеневичем. Сидели долго, выпито было достаточно. Выйдя поздно ночью, Сергей Александрович сказал, что он хочет повидать своих детей, особенно Костю. Уговоры и доводы Вадима, что уже поздно, не помогли. Вадим пошел домой, а мы направились на Новинский бульвар, где дети жили вместе с матерью Зинаидой Николаевной и Всеволодом Эмильевичем. Поднялись по знакомой крутой лестнице, позвонили, ответа нет. Тогда Сергей Александрович стал стучать, на стук открылась дверь, и через цепочку показался Всеволод Эмильевич. На вопрос «В чем дело?» Сергей Александрович со слезами на глазах стал просить его показать детей. Всеволод Эмильевич говорил, что они давно спят, что ведь ночь, и захлопнул дверь. Я стал уговаривать Сергея Александровича уйти, но это не помогло. И снова стук в дверь. Наконец, дверь отворили. Зинаида Николаевна и Всеволод Эмильевич держали на руках спящих детей. Сергей Александрович, плача, их расцеловал и тихо покинул квартиру. Мы до самого утра сидели на скамейке Новинского бульвара. Сергей Александрович говорил, что очень любит своих детей и задавал вопросы, как так могло случиться, что дети не с ним?»
Дальнейшая судьба Зинаиды Райх сложилась счастливо, но закончилась трагически. Став женой великого режиссера, имя которого не сходило с уст театральной Москвы и который возглавлял тогда Театральный отдел Наркомпроса, Райх решила, что она станет актрисой. Эту искру надежды раздувал в ней Мейерхольд. Ему было тогда уже под пятьдесят, он был влюблен в свою молодую жену и искренне верил в то, что из нее получится великая актриса.
Но пока что в спектакле по пьесе бельгийского драматурга Кроммелинка «Великодушный рогоносец», постановка которого в театре Мейерхольда стала крупным событием в театральной жизни Москвы, Зинаида Райх на сцену не выходила — она вместе с другими студийцами вращала вручную мельничные колеса, задуманные режиссером.
Мариенгоф рассказывал в своих воспоминаниях, как Мейерхольд однажды спросил его:
— Как ты думаешь, Анатолий, она будет знаменитой актрисой?
— Кто?
— Зиночка.
Мариенгоф вытаращил глаза:
— Почему актрисой, а не изобретателем электрической лампочки?
«Тогда, по наивности, — писал Мариенгоф, — я еще воображал: для того, чтобы стать знаменитой актрисой, надо иметь талант, страсть к сцене, где-то чему-то учиться. А потом лет пять говорить на сцене: «Кушать подано!»
Мейерхольд вскинул свой сиранодебержераковский нос:
— Талант? Ха! Ерунда!
И ткнул себя пальцем в грудь, что означало: «Надо иметь мужем Всеволода Мейерхольда! Вот что надо иметь. Понял? И все!»
Далее Мариенгоф продолжает:
«Хорошей актрисой Зинаида Райх, разумеется, не стала, но знаменитой — бесспорно. Свое черное дело быстро сделали: во-первых, гений Мейерхольда; во-вторых, ее собственный алчный зад; в-третьих, искусная портниха, резко разделившая этот зад на две могучие половинки, и, наконец, многочисленные ругательные статейки. Ведь славу-то не хвалебные создают!»
В ругательных статейках особенно изощрялись имажинистские друзья Есенина. В одной рецензии Вадим Шершеневич ядовито писал: «Конечно, очень плохо играла Зинаида Райх. Это было ясно всем, кроме Мейерхольда. Муж, как известно, всегда узнает последним».
О быте семьи Мейерхольда-Райх оставила свои воспоминания дочь Зинаиды Райх и Есенина Татьяна.
«Внутренняя лестница вела из нашей квартиры в нижний этаж, где располагались и театральное училище, и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами наша квартира заполнялась десятками людей, и начиналась считка или репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах — каждая минута ее была чем-то заполнена.
…Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: «Новинский бульвар тридцать два, дом бывший Плевако». В свое время и наш дом, и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала «Вечерняя Москва», и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты — из одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек».
Татьяна Сергеевна вспоминала и о редких посещениях отца: «Глаза одновременно и веселые, и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел».
Надо заметить, что в отношениях с людьми Зинаида Райх раскрывалась очень по-разному. Она была доброй по натуре и охотно помогала людям. Так она спасла от ареста жену Андрея Белого, посылала посылки сосланному в Енисейск драматургу Николаю Эрдману, чья пьеса «Мандат» с огромным успехом шла в 20-е годы в театре Мейерхольда.
И в то же время в театре она вела себя как деспот в юбке. Но то была извечная атмосфера театра, без которой никогда не мог и не может обойтись никакой театр, — атмосфера ревности и зависти, интриг и подсиживания. Так, Райх путем долгих интриг заставила уйти из театра замечательную актрису Бабанову, видя в ней — и совершенно справедливо — весьма сильную соперницу.
Ночью 28 декабря 1925 года в квартире Мейерхольда раздался телефонный звонок. Звонивший сообщил, что в Ленинграде, в номере гостиницы «Англетер», повесился поэт Сергей Есенин. Зинаида Николаевна услышала фамилию Есенин и вырвала трубку из рук мужа.
— Я еду к нему, — твердо сказала она Мейерхольду.
— Зиночка, подумай…
— Я еду.
— Я с тобой.
Из Ленинграда Зинаида Николаевна вернулась тем же поездом, в котором везли гроб с телом Есенина. Что с ней происходило на похоронах, не поддается описанию. Она рыдала, кричала. Ее горе усугубилось тем, что мать Есенина, стоя у гроба сына, бросила в лицо Зинаиде Райх:
— Ты виновата!
Невозможно догадаться и даже предположить, что хотела сказать этим Татьяна Федоровна.
Сын Есенина и Зинаиды Николаевны Константин оставил такие воспоминания о душевном состоянии матери в эти дни:
«Мать лежала в спальне, почти утратив способность реального восприятия. Мейерхольд размеренным шагом ходил между спальней и ванной, носил воду в кувшинах, мокрые полотенца. Мать раза два выбегала к нам, порывисто обнимала и говорила, что мы теперь сироты. Но в детстве смерть близких воспринимается своеобразно. Верят на слово тому, что человека больше не увидят, но как это может быть, еще не осознают. Это вне детского понимания. Так и мы с сестрой. Помню, что тоже плакали, но, наверное, из-за того, что плакала мама».
Трагический финал нависал и над семьей Мейерхольда и Зинаиды Райх.
В 1938 году прогремел первый гром — любимое детище Мейерхольда, театр его имени, был закрыт. А 20 июня 1939 года Мейерхольд был арестован по обвинению в шпионаже в пользу иностранных разведок.
Его подвергали самым изощренным пыткам и издевательствам.
Он был еще жив, когда в ночь с 14 на 15 июля 1939 года Зинаида Николаевна Райх была зверски убита в их с Мейерхольдом квартире в Брюсовском переулке. Следователи вынесли заключение, что убийство было совершено «с целью ограбления». Однако ее сын Константин с полной уверенностью писал, что «ограбления не было, было одно убийство».
Вот характерная деталь, которая многое говорит об инициаторах и организаторах убийства. Уже в октябре в квартиру Мейерхольда и Зинаиды Райх вселились сотрудники НКВД — личный шофер Берии и одна из его секретарш.
Глава VI ГОДЫ РАСЦВЕТА И ВСТРЕЧ С НОВЫМИ ЖЕНЩИНАМИ.
Говорят, что на творческом пути каждого художника бывают периоды, когда он, что называется, «плодоносит». Ярким примером тому служит Болдинская осень Пушкина. Для Есенина таким периодом «плодоношения» стали эти годы — 1920–1921. Он тогда много печатался в журналах и газетах, издал сборник своих стихотворений.
В марте 1920 года он выпустил в издательстве «Московская трудовая артель художников слова» книгу «Ключи Марии», философско-эстетическое эссе, очень важное для понимания литературной позиции Есенина и во многом предвосхитившее теоретические разработки имажинистов. Как отмечал Николай Асеев, «Есениным еще в 1920 году издана декларация поэтического пути, в которой он остро и выпукло характеризует себя как поэта».
В том же месяце и в том же издательстве вышел поэтический сборник Есенина «Голубень».
В Харькове, куда он с Мариенгофом поехал во второй половине марта, Есенину удалось издать поэтический сборник «Харчевня зорь», куда вошли «Кобыльи корабли» Есенина, «Встреча» Мариенгофа и поэма Хлебникова. «Стихи были напечатаны на такой бумаге, — вспоминал Л. Повицкий, — что селедки бы обиделись, если бы вздумали завертывать их в такую бумагу. Но и это считалось успехом в то нелегкое время».
В том же 1920 году Есенин продолжает активную издательскую деятельность — выпускает книгу своих стихов «Трерядница», сборник «Плавильня слов», еще ряд книг, в том числе книгу Ширяевца «Золотой грудок».
Вообще за эти два года — 1920 и 1921 — имажинисты, в основном стараниями Есенина, выпустили около тридцати книг. Главной трудностью оставалось добывание бумаги. Как вспоминал Мариенгоф, Есенин ходил из одного учреждения в другое, обещая их сотрудникам, что если они дадут бумагу имажинистам, то Ленин наградит их медалью.
Устраивая издание книг имажинистов, руководя книжной лавкой (Есенин очень гордился ею — «Это моя лавка, — говаривал он, — я открыл ее»), он увлекался практической стороной этой деятельности. Рюрик Ивнев, увидев Есенина в этом качестве в конце 1920 года, рассказывал впоследствии:
«Он был слишком занят собой, своим бизнесом, своими планами… Передо мной стоял сильный, деловой человек, уверенный в себе, внешне не изменившийся, но внутренне — совершенно другой… В те времена жизнь была тяжелой для всех… На фоне этой нищеты роскошные костюмы и рассчитанный дендизм выглядели неуместными и абсурдными. Конечно, это, вероятно, было чисто наигранным, но он любил демонстрировать свои прекрасные костюмы, необычные ботинки, купленные бог знает где…»
В те годы его переполняла жизненная энергия. Некоторые современники говорили, что эти годы — 1920 и 1921 — были самыми плодотворными в жизни Есенина. Действительно, он в эти годы много и талантливо писал, и слава его все росла.
Однако у этого процветания были и свои теневые стороны, которые дали о себе знать впоследствии. Его брак с Зинаидой Райх разрушился, и Есенин стал вести бродячий образ жизни. После смерти Есенина Петр Орешин говорил, что хулиганство Есенина произрастало из его бездомности. «Последние пять лет у него не было даже своей комнаты, и он искал убежище у своих друзей. Сказать по правде, Есенин был плохим гражданином. Среди нас он был скорее гостем, нежели гражданином, и, возможно, поэтому он не мог наладить свою личную жизнь».
В 1919 и 1920 годах Есенин жил в Москве по самым разным адресам. Мариенгоф вспоминал: «Случилось так, что весной 1919 года Есенин и я оказались без какой бы то ни было комнаты. Мы ночевали у друзей, мужчин и женщин, в непонятно за кем числящихся номерах в гостинице «Европа», в поезде нашего приятеля Малабуха, в номере Георгия Устинова в гостинице «Люкс», короче говоря, где только могли найти приют».
В марте 1920 года Есенин и Мариенгоф отправились в Харьков, который тогда был столицей Украины. Там они остановились в доме давнего приятеля Есенина Льва Повицкого. В доме жило пять или шесть юных девиц. Было бы странно, если бы приезд московских поэтов остался незамеченным.
«Есенин был тогда в расцвете своих творческих сил и душевного здоровья, — писал Повицкий. — Как и в Туле, Есенин целые вечера проводил в разговорах и спорах, читал свои стихи, шутил и развлекался от всего сердца. Девушки откровенно обожали его, они были счастливы и гордились тем, что он живет с ними под одной крышей. Есенин пленился одной из девушек, и между ними возникла длительная и нежная дружба. Строгие черты ее библейского лица производили смягчающее действие на «чувственную бурю», которой он поддавался слишком часто, и Есенин вел себя по отношению к ней как благородный рыцарь. Она, вероятно, была единственной девушкой, которая не стала женщиной в его руках».
Ее звали Евгения Лившиц. О характере отношения Есенина к ней свидетельствует письмо, отправленное Есениным 8 июня 1920 года из Москвы:
«Милая, милая Женя! Сердечно Вам благодарен за письмо, которое меня очень тронуло. Мне казалось, что этот маленький харьковский эпизод уже вылетел из Вашей головы.
В Москве я сейчас чувствую себя одиноко. Мариенгоф по приезде моем из Рязани уехал в Пензу и пока еще не возвращался. Приглашает меня ехать в Ташкент, чтобы отдохнуть хоть немного, да не знаю, как выберусь, ведь я куда, куда только не собирался и с Вами даже уславливался встретиться в Крыму… Дело в том, как я управляюсь с моим издательством. Я думал уже все кончил с ним, но вдруг пришлось печатать спешно еще пять книг, на это нужно время, и вот я осужден бродить пока здесь по московским нудным бульварам из типографии в типографию и опять в типографию.
…Ну, как Вы живете? Что делаете?..
Конечно, всего, что хотелось бы сказать Вам, не скажешь в письме, милая Женя! Все-таки лучше, когда видишь человека, лучше говорить с ним устами, глазами и вообще всем существом, чем выводить эти ограничивающие буквы.
Желаю Вам всего хорошего. Вырасти большой, выйти замуж и всего-всего, чего Вы хотите.
С. Есенин».
Еще одно письмо той же Евгении Лившиц. Оно было опубликовано только в 1962 году по вполне понятным причинам, явствующим из текста письма.
«Ехали мы из Тихорецкой на Пятигорск, вдруг слышим крики, выглядываем в окно, и что же? Видим, за паровозом что есть силы скачет маленький жеребенок. Так скачет, что нам сразу стало ясно, что он почему-то вздумал обогнать его. Бежал он очень долго, но под конец стал уставать и на какой-то станции его поймали. Эпизод для кого-нибудь незначительный, а для меня он говорит очень много. Конь стальной победил коня живого. И этот маленький жеребенок был для меня наглядным дорогим вымирающим образом деревни и ликом Махно. Она и он в революции нашей страшно походят на этого жеребенка тягательством живой силы с железной.
Простите, милая, еще раз за то, что беспокою Вас. Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Святой Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений. Конечно, кому откроется, тот увидит тогда эти покрытые уже плесенью мосты, но ведь всегда бывает жаль, что если выстроен дом, а в нем не живут, челнок выдолблен, а в нем не плавают».
Трудно переоценить значение этого письма для определения политических настроений Есенина в начале 20-х годов.
Из этого письма совершенно недвусмысленно явствует, что в том, приснопамятном 1920 году Есенин больше симпатизировал анархисту батьке Махно, чем казарменному раю большевиков. Это настроение не было для него чем-то новым — он всегда ожидал от революции какой–то мистической сути и всеобщей вольности. К 20-му году Есенину стало совершенно очевидно, что он «поставил не на ту лошадь». Не будет никакого крестьянского рая, не будет памятника корове, не будет места Инонии. Вместо этого утверждается власть железная, держащаяся на штыках и расстрелах.
Этим настроениям способствовала поездка Есенина в Константиново после возвращения из Харькова. В уже упоминавшемся письме Евгении Лившиц есть такие грустные слова: «Дома мне, несмотря на то, что я не был там три года, очень не понравилось, причин очень много, но о них в письмах теперь говорить неудобно».
Здесь весьма уместно подчеркнуть, что в отличие от многих советских поэтов, прославлявших революционное насилие (Маяковский с его «Ваше слово, товарищ маузер», даже нежнейший Багрицкий, написавший о Дзержинском: «Если он скажет «убей» — убей!»), Есенин сознательно отделял себя от тех, кто именем революции осуществляет террор. Недаром он написал:
Не злодей я и не грабил лесом, Не расстреливал несчастных по темницам. Я всего лишь уличный повеса, Улыбающийся встречным лицам.Обращает на себя внимание признание поэта в этом письме, что в стране строится совершенно не тот социализм, о котором он мечтал, и сравнение этого социализма с островом Святой Елены, ставшим тюрьмой для Наполеона, — тюрьмой на открытом воздухе.
Следует отметить, что в эти годы Есенин изменился не только внутренне, но и внешне. Поэт-футурист Крученых описывал Есенина в конце 1920 года в следующих словах:
«Внешность Есенина в то время весьма показательна. Он совершенно утратил сходство с его фотографиями 1914–1916 годов. Девичья мягкость его овального лица полностью исчезла. Его крепко сжатые челюсти торчали под острым углом. Губы сжаты с выражением упрямства и горечи. Глаза запавшие. Волосы падают на лоб — но не так, как прежде, нет больше мягких кудрей, они в беспорядке. И вообще его лицо утратило выражение наивной радости и удивления».
В дни трезвости Есенин вел себя спокойно и очаровательно, — приветствовал друзей крепким рукопожатием, нередко и поцелуем. Когда же выпивал, становился ожесточенным, заносчивым, нетерпимым, жаловался на судьбу, болезненно воспринимал отношение к нему окружающих. По мере того как разрушалась его нервная система, появлялись следы мании преследования. Его убежденность в том, что он первый поэт России, принимала порой болезненные формы. О его нападках на Маяковского говорилось выше. Теперь он стал набрасываться на Бориса Пастернака. Однажды в конце 1920 или в начале 1921 года Рюрик Ивнев стал в кафе «Домино» невольным свидетелем стычки Есенина с Борисом Пастернаком.
— Ваши стихи косноязычны, — выкрикивал Есенин. — Их никто не может понять. Народ никогда не признает вас!
Пастернак ответил ему подчеркнуто вежливо, что нужно быть очень осторожным, употребляя слово «народ». На что Есенин возразил:
— Я знаю, что наши потомки скажут: «Пастернак? Поэт? Никогда не слышали о нем, хотя мы знаем и любим овощ под названием пастернак».
Люди, знавшие Есенина в те годы, отмечали, что он очень одинокий человек, хотя у него не было недостатка в собутыльниках и женщинах, обожавших его. Пролетарский поэт Кириллов задавался вопросом: «Были ли у него настоящие друзья? Сомневаюсь, Есенину необыкновенно везло с литературным успехом. Его слава росла и крепла с каждым годом. Никто не отрицал его таланта. Вряд ли он нуждался в дружеской и сильной руке рядом… У него были поклонники, покровители и просто льстецы, и, быть может, поэтому около него не было настоящих друзей».
Мариенгоф, человек наиболее близкий к Есенину в те годы, отмечал, видимо не без основания: «Главное в Есенине — страх одиночества». По утверждению Мариенгофа, Есенин, который никогда не любил, хотел от каждого теплоты и признания.
Он обладал чисто детским чувством юмора, любовью ко всему необычному — и все это, вместе с его скандалами, было продиктовано стремлением убежать от скуки и серой повседневности. Его внешность денди с тщательно ухоженными кудрями, кое в чем способствовала его славе и привлекательности. Однако в глубине души постоянно копилась неудовлетворенность окружавшей его жизнью.
Именно этим и объясняется его нежелание надолго связывать себя с какой-либо женщиной, отсюда и происходит его стремление, высказываемое им не раз, смешать все на свете — небо и землю, человека, животное и дерево, здесь причина того, что он живет вечным скитальцем.
С этой точки зрения становится понятным его стремление играть какую-то роль, шокировать людей, производить на них впечатление. Есенин очень точно передал это в прекрасных стихотворных строчках:
И не нужно мне лучшей удали, Лишь забыться и слушать пургу, Оттого, что без этих чудачеств Я прожить на земле не могу.Он выступал в обличье крестьянина из детских красочных книжек, в образе пророка, денди, лучшего поэта, последнего поэта деревни, мужа знаменитых женщин. И все это было не только ребячеством или проявлением тщеславия, а врожденным отвращением ко всему прозаическому в жизни.
Год 1920-й примечателен еще и тем, что именно в этом году Есенин познакомился с двумя девушками, которые вошли в его жизнь — каждая по своему, но каждая сыграла в ней далеко не последнюю роль. Это были Галина Бениславская и Надежда Вольпин.
Галина Бениславская была девушка неординарная. Необычной была и ее биография, предшествовавшая встрече с Есениным. Впрочем, в ту эпоху — войн и революций — подобные биографии не были такой уж редкостью.
Ее отцом был обрусевший француз, больше о нем в источниках ничего не говорится. Видимо, он не оказал никакого влияния на детство и юность девочки. У матери-грузинки очень рано проявились признаки психического заболевания, и Галя росла в семье тетки, чей муж, Артур Казимирович Бениславский, удочерил Галю. Он любил девочку и заботился о ней. В мае 1917 года Галя вступает в партию большевиков, и сразу же у нее возникают разногласия с приемными родителями по политическим вопросам. Она уезжает в Харьков, где поступает на естественный факультет университета. Однако долго учиться ей не пришлось — Харьков заняли белые, и Галя ушла из города, чтобы присоединиться к Красной армии. Но белые ее схватили, и ей грозил расстрел. К счастью, совершенно случайно в штабе белых Галю увидел ее приемный отец Артур Казимирович Бениславский, который объяснил в контрразведке, что она его дочь, и ее отпустили. Бениславский не одобрял Галиных политических пристрастий, но тем не менее помог ей выбраться из Харькова, снабдив удостоверением сестры милосердия Добровольческой армии. Когда Галя перешла линию фронта и оказалась в расположении частей Красной армии, ее арестовали по подозрению в том, что она шпионка, и ей снова грозил расстрел. Ей опять несказанно повезло — удалось связаться с отцом ее подруги, под чьим влиянием она и вступила в партию большевиков. Тот из Москвы дал телеграмму, заверяя, что она преданный революции человек.
Можно предположить, что от матери Галя унаследовала не самое лучшее психическое здоровье, а угроза двух расстрелов и испытания, через которые она прошла, вряд ли укрепили ее душевное состояние.
В Москве отец подруги, спасший Галю от расправы ЧК, рекомендовал ее Крыленко, служившему в той же организации. Там Галя Бениславская проработала до 1923 года, когда перешла в газету «Беднота» секретарем редакции. Так что в то время, когда Галя Бениславская познакомилась с Есениным, она работала в ЧК, что, кстати сказать, помогало ей выручать Есенина из милиции, куда он не раз попадал по причине пьяных скандалов.
Внешность Гали Бениславской хорошо описала ее соперница, молоденькая тогда поэтесса Надежда Вольпин. Галя была среднего роста, нескладная, с темными косами, с зелеными в очень густых ресницах глазами под широкой чертой бровей, тоже очень густых и чуть не сросшихся на переносье. Лицо взволнованное, умное.
Она была девушкой образованной, современной, ходила на поэтические вечера. На одном из таких вечеров в Политехническом музее она заметила Есенина. Даже не столько его самого, сколько то, что он с Мариенгоф пришли в цилиндрах. «Есенину, — вспоминала впоследствии Бениславская, — цилиндр как корове седло. Сам небольшого роста, на голове высокий цилиндр — комичная кинематографическая фигура».
В другой раз она увидела его в Большом зале Консерватории, где устраивался «Суд над имажинистами».
«Холодно и нетоплено, — вспоминала Галя Бениславская. — Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят, переругиваются из-за мест». Галя ощутила на себе чей-то любопытный взгляд. «Нахал какой-то, мальчишка, поэтишка какой-нибудь», — подумала Галя. А потом на сцену вышел тот самый мальчишка, короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову, начинает читать:
Плюйся, ветер, охапками листьев, — Я такой же, как ты, хулиган.О том, какое впечатление произвело на Бениславскую чтение стихов Есениным, лучше всего рассказала она в своих воспоминаниях:
«Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали… Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще».
А он тоже обратил внимание на эту девушку. «Он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий, так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону».
Бениславская сама еще не осознает того, что с ней произошло. Ей кажется, что это влияние его стихов. «Эти полторы недели, — пишет Галя Бениславская в своих воспоминаниях, — прошли под гипнозом его стихов».
Вряд ли она могла объективно оценивать свое душевное состояние. Скорее можно предположить, что сердечный жар, проснувшийся в ней при поверхностном — пока что — общении с Есениным, она принимает за восхищение его стихами, пытается обмануть себя.
А на самом деле она просто влюбилась — вот так, с ходу, не зная его, практически даже не будучи знакомой с ним. Ее заворожила его красота, его молодецкая удаль и — конечно — его поэтический талант.
Галя Бениславская была девушкой неглупой, самокритичной, и она понимала, что недостаточно красива, чтобы завлечь такого красавца, как Сергей Есенин. Но какой-то внутренний голос подсказывал ей, что она может быть ему полезна, и таким путем сможет завоевать его.
В своих воспоминаниях она пишет, что Есенин в ту пору очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Больше всего ему хотелось знать, что пишут в заграничной прессе о нем и об имажинизме вообще. Галя использовала свое служебное положение и просматривала кипы газет в информационном отделе ВЧК.
Наконец настал тот день — или, скорее, ночь, — о которой так мечтала Галя Бениславская. «С того дня, — пишет она, — в «Стойле» у меня щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль — все же это была сказка. Все же это было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь».
Вспоминает Галя Бениславская и первый ласковый день после зимы. Вдруг повсюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Они стоят у дверей книжной лавки в Камергерском переулке — Есенин, Мариенгоф, Бениславская и ее подруга Яна. «Неожиданно, радостно и как будто с мистическим изумлением Сергей Александрович, глядя в мои глаза, обращается к Анатолию Борисовичу: «Толя, посмотри, — зеленые. Зеленые глаза!» Но через день его уже не было в Москве — он все-таки уехал в Туркестан, куда давно собирался и никак не мог собраться. Правда, где-то в глубине души Галя знала, что теперь уже запомнилась ему.
«С тех пор пошли длинной вереницей радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими встречами — от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он».
А впереди были годы — правда, считанные годы — счастья и горя, надежд и разочарований. Но об этом разговор еще впереди.
А пока следует перейти к другому роману Есенина, который развивался параллельно, в то же время, когда складывались близкие отношения с Галей Бениславской. Речь идет о молодой поэтессе Надежде Вольпин.
Она была ровесница века — в 1920 году, когда она приехала в Москву из Могилева завоевывать столицу своими стихами, ей исполнилось 20 лет. Она была начинающей поэтессой — и неплохой. На одном из ее первых выступлений с чтением своих стихов в «Литературном особняке» ее слушал такой уважаемый метр, как Андрей Белый. Надя Вольпин ожидала от него разноса, а он подошел к ней, поцеловал руку и сказал:
— Спасибо. Такого пятистопного ямба я не слышал и у зрелых наших поэтов.
Первую суровую критику своих стихов Надежда Вольпин услышала от Вячеслава Иванова, когда держала вступительный экзамен в Литературную студию, впоследствии преобразованную в Литературный институт. Но тем не менее ее приняли, и началось ее московское житье-бытье. Она стала членом Союза поэтов и начала более или менее регулярно захаживать в кафе поэтов «Домино».
Там она впервые увидела Сергея Есенина. Он сидел за столиком, устроитель поэтического вечера подошел к нему и стал уговаривать выступить, упирая на то, что его имя фигурирует на афише. Последовал довольно резкий ответ:
— А меня вы спрашивали? Так и Пушкина можно вставить в программу.
Тогда Надя Вольпин, с трудом преодолев смущение, подошла к золотоволосому завсегдатаю «Домино» и спросила:
— Вы Сергей Есенин? Прошу вас от имени моих друзей… и от себя. Мы вас никогда не слышали, а ведь читаем и знаем наизусть.
Есенин встал и учтиво поклонился.
— Для вас — с удовольствием!
И вышел на эстраду.
Чтение Есениным своих стихов произвело на Надежду Вольпин такое неизгладимое впечатление, что и через 60 лет, в глубокой старости, она в своих воспоминаниях «Свидание с другом» воспроизвела эту сцену.
«Есенин вышел читать. Поднимаясь на эстраду, он держал руки сцепленными за спиной, но уже на втором стихе выбрасывал правую руку — ладонью вверх — и то и дело сжимал кулак и отводил локоть, как будто бы что-то вытягивая из зала — не любовь ли слушателей? А голос высокий и чуть приглушенно звонкий и очень сильный. Подача стиха, по-актерски смысловая, достаточно выдерживала ритм. И, конечно, ни намека на подвывание, частое в чтении иных поэтов (даже у Пастернака). Такое чтение не могло сразу же не овладеть залом…
Вот так оно и завязалось, наше знакомство».
Они довольно часто сталкивались в кафе «Домино», перебрасывались несколькими фразами.
Как-то однажды Наденька спросила Есенина:
— Почему пригорюнились?
А он ответил:
— Любимая меня бросила. И увела с собой ребенка!
В том, что касалось его детей, Есенин сознательно — или случайно — путал.
Месяца через два после той брошенной фразы о ребенке он сказал Надежде вскользь:
— У меня трое детей.
Но потом почему-то горячо отрицал это:
— Детей у меня двое!
— Да вы же сами сказали мне, что трое!
— Сказал? Я? Не мог я вам этого сказать! Двое!
Зачем ему понадобилось это вранье, Наденька понять не могла.
Теперь Есенин частенько после вечеров в Союзе поэтов провожал Наденьку Вольпин домой во Всеволожский переулок, где она снимала комнату.
Усиленное внимание Есенина к молоденькой поэтессе не осталось не замеченным в московских литературных кругах. Как-то Наташа Кугушева, бывшая княжна, сказала:
— Ну, вот, Надя, ты теперь сдружилась с Есениным. Какой он вблизи?
— Знаешь, — ответила Вольпин, — он очень умен!
Кугушева возмутилась:
— Умен? Есенин — сама поэзия, само чувство, а ты о его уме. Умен! Точно о каком-нибудь способном юристе… Как можно!
— И можно, и нужно! Вернее было бы сказать о нем «мудрый». Но ведь ты спросила, что нового я в нем разглядела. Так вот: у него большой, обширный ум. И очень самостоятельный.
«Не одной Кугушевой, — вспоминала Надежда Вольпин, — многим думалось, что в Сергее Есенине стихия поэзии должна захлестнуть то, что обычно зовется умом. Но он не был бы поэтом, если бы его стихи не были просветлены трепетной мыслью. Не дышали бы мыслью».
Следующее воспоминание Надежды Вольпин относится все к тому же двадцатому году. Она работала теперь в военном госпитале, расположенном в Камергерском переулке напротив Художественного театра. В тот вечер, едва выйдя из госпиталя, она увидела караулившего ее Есенина. В его лице и во всей осанке чувствовалась радостная взволнованность. И нетерпение.
— Вот и вы наконец! Я вам приготовил свою новую книжку.
— О, спасибо! А я ее уже успела купить!
Сказала и тут же осеклась, глупо-то как. Он же ей сюрприз готовил.
Лицо у Есенина сразу же угасло.
— Но разве вы не хотите, чтобы я вам ее надписал? Я вас провожу, позволите?
— Конечно.
К тому времени Вольпин переехала на другую квартиру, в Хлебном переулке. Есенин присел к столу и на своей новой книге (это была «Трерядница») написал: «Надежде Вольпин, с надеждой. Сергей Есенин». Что ж, подумала Наденька, пожалуй, лестно, если его «надежда» относится к творческому росту. Но поэт имел в виду совсем другое.
Вспоминает Надежда Давыдовна и другой эпизод — мелкий, смешной, но по-своему примечательный. Она обедала в «Кафе поэтов», вошел Есенин и подсел к ней за столик. На нем была соломенная шляпа с плоским верхом и низкой тульей.
— А не к лицу вам эта шляпа, — заметила Наденька.
Есенин, ни слова не говоря, каблуком пробил в шляпе дыру и, размахнувшись, выпустил свое канотье из середины зала, где они сидели, прямо в раскрытое окно.
Вспоминает Надежда Вольпин и такой любопытный разговор.
Есенин с тоской спросил у нее:
— Почему все так меня ненавидят?
У нее захолонуло в груди.
— Кто «все»?
— Да хоть эти молодые поэты, что вертятся вокруг вас.
— Поэты? Что вы? Все они очень вас любят. Даже влюблены, как в какую-нибудь певицу.
Наденька не продумала это утешение. Однако она заметила, как жадно Есенин ловит ее слова. И хочет, и боится ей поверить. А у нее, хотя она еще не прочитала ни строчки из трудов по психиатрии, уже тогда, летом 1920-го, возникла мысль, что в Есенине притаилась какая-то душевная болезнь.
«Нет уж, — подумала тогда Надежда Вольпин, — лучше пусть Нарциссом смотрится в зеркало на свои ржаные волосы, любовно их расчесывая, чем эта въевшаяся в душу мысль, будто все вокруг ненавидят его!»
«В сознании Есенина, — вспоминала она, — окружающие резко делились на друзей и врагов. «Враги» — это некое смутное подозрение. «Друзья» — всегда нечто вполне конкретное, существующее во плоти и крови, хотя порой в их честную рать Есенин зачислял и таких, кто не слишком был ему предан и едва заслуживал именоваться хотя бы приятелем. Сейчас Есенин не так уж знаменит, но с ростом шумной известности — еще отнюдь не славы! — удельный вес этого последнего разряда «друзей» сильно возрастет. Помню, в начале лета двадцатого года, в дни, когда Есенин проживал в Гранатном переулке, он, встречаясь со мной, сообщил, весь лучась от счастья, что к нему едет друг («Понимаете, друг, настоящий друг! Я вас с ним познакомлю»). Он это говорил в страстной уверенности, что и я должна задохнуться от счастья, потому что познакомлюсь с его, Есенина, другом! А я и в самом деле до счастья рада — не из-за приезда еще неизвестного мне друга, но из-за твердой веры Сергея, что я всей душой разделяю его радость».
Любопытный эпизод рассказывает Надежда Давыдовна в своей книге воспоминаний «Свиданье с другом».
«Проходя под аркой, ловлю в зеркале проводивший меня черный взгляд поэтессы Кати Э. В нем такая жгучая ревность и злоба, что на секунду мне стало страшно. Кажется, женщина рада бы убить меня взглядом! Но страх сразу оттеснила радостная мысль: ревность ее не напрасна, и у Сергея под «холодком» («я с холодком», говорит он о себе) все же теплится ко мне живое чувство.
Мне двадцать, Кате, я думала, двадцать три. Она повыше меня, темные волосы и глаза, плакатно красивые, с правильными чертами лица, полна, но статна. И на диво легкая и плавная походка. У такой павы отбить любимого, пожалуй, лестно для юной девчонки (по годам я не так уж юна — мне двадцать лет, но по опыту любовному еще совсем дитя)».
Через несколько дней Надежда Вольпин выходила из Союза поэтов и столкнулась с Катей Э. Та решительно и требовательно подошла к Есенину. Он извинился перед Наденькой, пообещал завтра все объяснить и усадил Катю Э. в пролетку.
«Обиделась ли я? — вспоминает Вольпин. — Нет! Я уже знаю, что той не двадцать три, а тридцать два. И в своем девичьем неведении воображаю, что к зрелой женщине мне нечего ревновать Сергея. Тем более, что она… лишь предшественница. Я, точно девочка-подросток, полагаю, что настоящее чувство, одухотворенное, возможно только у молодых, с Катей же Сергея может связывать только то, что зовется физической близостью».
Следует заметить, что Надя Вольпин была девушка не простая, — у нее имелись свои мысли и представления о том, что такое любовь. Это явствует из приводимого ею в воспоминаниях разговора с Иваном Грузиновым, другом Есенина, человеком в высшей степени добрым и отзывчивым. Опекал он и Наденьку Вольпин, ценил ее поэтический талант, заботился о ней, устраивал ее выступления по всевозможным клубам, военным училищам, особенно, если гонорар там платили хлебом.
Однажды летним вечером Грузинов встретил Надю Вольпин в «Кафе поэтов» и предложил ей посидеть в его обществе.
— Есть разговор, — сказал он и спросил в лоб: — Надя, я вижу, вы полюбили Есенина.
Она молчала, ждала, что последует за этими словами.
— Забудьте, вырвите из души. Ведь ничего не выйдет.
Надя усмехнулась:
— Но ведь уже вышло.
Грузинов в ужасе выкатил на нее глаза:
— А Сергей уверяет, что…
— … что я не сдаюсь? Да, верно. Я не хочу «полного сближения». Но понимаете… Я себя безлюбым уродом считала. А тут полюбила, да как! На жизнь и смерть!
Она напомнила Грузинову строки Гете: «Какое счастье — быть любимой. А любить, о, боги! Какое счастье! «Гете… Уж на что он знал толк в любви, а ведь это значит, что любить — большее счастье, чем быть любимым. Ну, а Есенин… И Наденька делает вывод: «Он вроде завидует силе моего чувства… И правда: я не так воюю за встречную любовь, как берегу в себе неугасимый огонь».
Наденька Вольпин не то чтобы ревновала Есенина к его прошлому, но ее живо интересовало, кого имел в виду Сергей Александрович, когда любил повторять — «Я с холодком», а однажды добавил:
— Не скрою, было, было. В прошлом. Сильно любил. Но с тех пор уже никогда. И больше полюбить уже не смогу.
А Наденька не утерпела и выпалила:
— Кашину! Ее?
На ревнивую догадку ее навела «Зеленая прическа» с посвящением Лидии Кашиной.
— Нет, что вы! Нет! — небрежно бросил Есенин.
«Слишком небрежно», — отметила Надя Вольпин про себя.
В другой раз она сказала:
— Знаю, кого вы любили: жену! Зинаиду Райх!
Последовало рьяное отрицание. Она ему не поверила. И в своих воспоминаниях «Свиданье с другом» рассказала о том, как все годы дружбы и близости с ним не сомневалась, что мучительную любовь к жене, любовь-ненависть Есенин далеко не изжил. Не верила она и в поэтическую похвальбу:
Свою жену легко отдал другому!
Да и как она могла ему верить, когда он порой выдумывал про себя всякие небылицы.
Чего стоила, например, история, которую он рассказывал Наденьке о том, как он, молодой поэт, попавший во время Первой мировой войны солдатом в армию, сидит на задворках дворца в Царском Селе на «черной лестнице» с великой княжной Анастасией, читает ей стихи, они целуются. Потом Есенин признается великой княжне, что отчаянно проголодался. И Анастасия бежит на кухню, раздобывает там горшочек сметаны, но стесняется попросить вторую ложку, и вот они едят сметану одной ложкой поочередно.
«Выдумка? — писала Н. Вольпин. — Если и выдумка, то в сознании поэта она давно превратилась в действительность. В правду мечты. И мечте не помешало, что в то время Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. И не замутила эту идиллию память о дальнейшей судьбе всего дома Романовых».
А как поверить в его «холодок» в отношениях с женщинами, когда он то и дело атакует Наденьку, добиваясь физической близости с ней? На это намекает довольно прозрачно такая многозначительная фраза в ее воспоминаниях: «Мы в моей комнатке в Хлебном. Смирно — после отбитой атаки (курсив мой. — Б. Г.) — сидим рядышком на тахте».
Однако, отказывая Есенину, она преклоняется перед его поэтическим даром. О том, как воспринимала Наденька Вольпин Сергея Есенина, красноречиво говорит такая запись в ее воспоминаниях. Она рассказывает, как они втроем — она, Есенин и Мариенгоф — летом двадцатого года сидели на скамеечке перед памятником Пушкину на Тверском бульваре.
Мариенгоф, отбросив свою обычную напускную надменность, обращается к Наденьке:
— Ну как, теперь вы его раскусили? Поняли, что такое Сергей Есенин?
Надежда Вольпин отвечает ему:
— Этого никогда до конца ни вы не поймете, Анатолий Борисович, ни я. Он много нас сложнее. Вот вы для меня весь как на ладони, да и я для вас… Мы с вами против него как бы только двумерны. А Сергей… Думаете, он старше вас на два года, меня на четыре с лишком? Нет, он старше нас на много веков.
— Как это?
— Нашей с вами почве — культурной почве — от силы полтораста лет, наши корни в девятнадцатом веке. А его вскормила Русь, и древняя, и новая. Мы с вами россияне, он — русский.
А их отношения — сложные, запутанные — продолжаются. Когда Есенин вернулся из Харькова, а у нее в то время гостила сестра, он стеснялся заходить к Наденьке, но, проводив до дома, не спешил проститься. Она живет на четвертом этаже, и они медленно поднимаются по пологой лестнице. На третьем этаже они усаживаются на широком низком подоконнике и ведут нескончаемый разговор. Уже много вечеров подряд.
Наденька горячо исповедуется — и упорно сопротивляется ласкам.
— Говори, говори, — произносит Есенин. — Мне радостно слушать, когда тебя вот-вот прорвет.
Она думает: еще бы! Ведь она говорит о нем. Не только о своей любви — о нем! И вдруг с удивлением видит на глазах Есенина слезы.
— Вы сердитесь на меня? — спрашивает она. — Больше никогда и не заглянете?
— Нет, почему же. Может быть, так и лучше…
И, помолчав, добавляет:
— В неутоленности тоже есть счастье.
И опять новый натиск. На этот раз в книжной лавке имажинистов. Лавка заперта, но дрова в печурке не прогорели. Они сидят вдвоем у огня, Есенин читает ей свои стихи, требует, чтобы и она прочитала что-нибудь свое, новое.
«Бурная атака, — вспоминает Надежда Вольпин, — с ума он сошел, прямо перед незанавешенной витриной. Хрупкая с виду, я куда сильней, чем кажусь. Натиск отбит. Есенин смотрит пристыженным и грустным взглядом. И вдруг заговорил — в первый раз при мне — о неодолимой, безысходной тоске».
Наденька уверяет его, что пустота, на которую он жалуется, от того, что он слишком выложился в стихах — ведь написал так много, с такой полной отдачей.
— Полюбить бы по-настоящему! Или тифом, что ли, заболеть?
«Полюбить бы, — пишет Надежда Вольпин, — это, я понимаю, мне в укор. А про тиф… Врачи тогда говорили, что тиф (сыпной) несет обновление не только тканям тела, но и строю души».
Когда у Есенина вышла очередная книга стихов, он подарил ее Наденьке с такой многозначительной дарственной надписью: «Надежде Вольпин с надеждой, что она не будет больше надеждой».
А тем временем у Наденьки Вольпин обнаружилась новая — вернее, старая — соперница. На каком-то поэтическом вечере она видит на сцене стайку девушек, радостных и гордых от чести называться друзьями поэта, — Бениславскую с подругами и какую-то новую фигуру. Надя спрашивает про нее у поэтессы Сусанны Мар. Та объясняет:
— Совсем молоденькая. Из Харькова. Отчаянно влюблена в Есенина и, заметь, очень ему нравится. Но не сдается. Ее зовут Женя Лившиц.
Вблизи харьковчанка оказалась стройной худощавой девушкой со строгим и очень изящно выточенным лицом, восточного, пожалуй, склада. Глаза темные и грустные. Стихи слушает жадно.
В дальнейшем Наденька будет встречать ее довольно часто, то на вечерах в Политехническом и в Доме печати, то в книжной лавке имажинистов. Однажды Надя Вольпин увидела их в книжной лавке. Они стояли по разные стороны прилавка, Женя спиной к витрине, Есенин — на полном свету. Взгляд Есенина затоплен в черную глубину влюбленных и робких девичьих глаз. Что читает девушка в завораживающих глазах поэта? Ответное чувство? Нет, скорее обещание нежности, но не более. Ее девичья гордость требует более высокой цены, которой не получает.
Наконец, свершилось. Наденька Вольпин у Есенина в Богословском переулке. Крепость сдалась. Рад ли Есенин? Он только смущенно произносит:
— Девушка.
И сразу, на одном дыхании:
— Как же вы стихи писали?
«Если первый возглас, — писала Вольпин, — я приняла с недоверием (да неужели весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной?), то вопрос о стихах показался мне столь искренним, сколь неожиданным и… смешным.
И еще сказал мне Есенин в тот вечер своей запоздалой победы:
— Только каждый сам за себя отвечает!
— Точно я позволю другому отвечать за меня! — был мой невеселый ответ.
При этом, однако, подумалось:
«Выходит, все же признаешь в душе свою ответственность — и прячешься от нее?»
Но этого я ждала наперед».
Примечателен и такой эпизод, который описывает Надежда Вольпин. Время действия — двадцать первый год, лето, жарища. Место действия — кафе имажинистов «Стойло Пегаса». Наденька сидит в комнате за кухней и проверяет, хорошо ли она помнит свои новые стихи, которые собирается читать сегодня с эстрады. Здесь ее и обнаруживает Есенин. Говорит со смехом:
— Оказывается, наши виолончелист и таперша — муж и жена! Смешно, правда? Музыкант женат на музыкантше! И, словно прикинув что-то в уме, добавляет: — Поэт женат на поэтессе. Смешно!
— Разве? Впрочем, Гумилева раздражало, что его Аннушка «тоже пишет стихи». На том они с Ахматовой и разошлись.
Наденька поражена этим открытием: неужели Есенин примеривается к мысли жениться на ней?
Чушь! Она считала, что для брака у нее слишком неуживчивый характер.
«Это было, — вспоминает Надежда Вольпин, — в полосу нашего очередного разрыва: очередной и неожиданный шаг к примирению.
А через несколько дней здесь же, за кухней, Сергей вдруг сказал мне — без всякой связи с темой разговора:
— Вам нужно, чтобы я вас через всю жизнь пронес — как Лауру!
Бог ты мой, как Лауру! Я, кажется, согласилась бы на самое короткое, но полное счастье — без всякого нарочитого мучительства. И с обиды, что ли, не спешу ухватиться за этот его своеобразный подступ к примирению в нашей изрядно затянувшейся размолвке.
Так оно шло у нас всегда: повод к ссоре выискиваю я, первый шаг к примирению делает Сергей (ему проще, знает: сколько бы я ни ерепенилась, я люблю неизбывно)».
Оба эти разговора — о двух музыкантах и о Лауре — вспомнятся Наденьке Вольпин при другой их беседе, месяца через два, в комнате Есенина и Мариенгофа в Богословском переулке.
— Никогда мне не лжешь? — спрашивает Есенин. — Нет, лжешь! Говоришь, что я тебе дороже всего на свете, что любишь меня больше жизни? Нет, больше всего на свете ты любишь свои стихи! Ведь ты ради меня не откажешься от поэзии?
Ей стало смешно. Разве она когда-либо говорила, что «любит больше жизни»? Это он сам себе говорит — знает сам, без ее уверений.
Она взвесила в уме и ответила:
— Люблю тебя больше всего на свете, больше жизни и даже больше своих стихов. Но стихи люблю больше, чем счастье с тобой. Вот так!
Есенин вздохнул:
— Что ж, это, пожалуй, правда…
Весьма любопытно то, как отзывается Надежда Вольпин о своей сопернице Гале Бениславской.
Галя, как пишет Вольпин, с некоторых пор приходит в «Стойло Пегаса» не одна, а с какой-нибудь подругой. К ним часто подсаживается Есенин, болтает с ними. Однако Есенин ни разу не пошел провожать Галю. Надо думать, что Наденька непременно заметила бы, что ее кумир всерьез ухаживает за другой. И все же Есенин, как всегда, непостоянен.
Осенью имажинисты затеяли у себя в кафе нечто вроде костюмированного бала.
Вольпин отметила про себя, что Есенин почти весь вечер просидел за столиком с Галей Бениславской и ее подругами. На Гале было некое подобие кокошника. Она казалась необыкновенно хорошенькой и вся светилась счастьем. Даже глаза — как и у Наденьки зеленые, но в более густых ресницах — как будто посветлели, стали совсем изумрудными и были точно прикованы к Есенину. «Сейчас здесь празднуется желанная победа, — сказала себе Надя Вольпин. — Ею, не им!»
Прошло около полугода, Надя Вольпин и Есенин сидели на антресолях в книжной лавке и в разговоре коснулись Бениславской.
— Да что вы, — удивился Есенин. — К Гале ревнуете? Между нами ничего нет, только дружба! Было, все было, но в прошлом, а теперь только дружба!
— Вот потому и ревную! — парировала Надя. Она прекрасно знала, когда это произошло: карнавал, изумрудные, сияющие счастьем глаза.
— Понимаете, — продолжал Есенин, — мне нравится разлагать ее веру. Марксистскую. Она ведь ух какая большевичка!.. Упорная! Заядлая! Она там работает! В ЧК.
В действительности Бениславская работала уже в газете «Беднота», но, по-видимому, ее связи с всемогущей ЧК не оборвались. Во всяком случае, она старается убедить Есенина в том, что в ее силах защитить его от милиции.
Если Есенин пытался «разлагать ее веру», то Бениславская стремилась обратить его в свою, привить ему большевистские убеждения.
Надо сказать, что и Есенин ревновал Надю. Не как женщину — она ему таких поводов не давала. Его самолюбие болезненно ранило то внимание, которое поэты старшего поколения оказывали молодой поэтессе Надежде Вольпин.
Она вспоминает осень двадцать первого года. Она сидит с Мандельштамом в «Кафе поэтов». Входит Есенин и садится за соседний столик. Мандельштам увлеченно рассказывает Наде то ли про Петрарку, то ли про Данте (она не запомнила). Надя жадно его слушает. Еще бы, он и повидал, и знает много такого, чего она не знает и не видывала. А сонеты Петрарки он переводил с подлинника.
Есенину эта ситуация явно не нравится, он подходит к их столику и бросает Мандельштаму в лицо:
— А вы, Осип Эмильевич, пишете пла-а-а-хие стихи!
Мандельштам распетушился, хотел было вскочить, но переборол себя и усидел на месте.
Не прошло и недели с этого эпизода, как Есенин в разговоре с Надей Вольпин сказал ей:
— Если судить по большому счету, чьи стихи действительно прекрасны, так это стихи Мандельштама.
Скорее всего, он к тому времени уже забыл о своей выходке, но это лишь подчеркивает отношение Есенина к женщинам: стоит кому-либо обратить внимание на «его даму», и он выходит из себя.
На всю жизнь запомнился Наде Вольпин вечер со скульптором Коненковым. Она вышла из-за стола немного освежиться, умыть лицо ледяной водой. Есенин перехватил ее на кухне, тянется приласкать. И вдруг у него вырвалось:
— Мы так редко вместе. В этом только твоя вина… Да и боюсь я тебя, Надя! Я могу раскачаться к тебе большою страстью.
Надя потом много раз думала: почему он боится? И чего? Боится стать рабом своей страсти? Нет, она была бы взаимной, счастливой. Вот счастья-то он и боялся! «Глупого счастья с белыми окнами в сад».
Надя Вольпин делает открытие, которое в некоторой степени проливает свет на метания Есенина между женщинами, действительно любившими его. Есенин строит свою жизнь по поэтическим канонам. «Глупое счастье» заранее отвергнуто, изгоняется из поэзии — и из жизни. Он не позволит себе «раскачаться большою (да еще счастливой!) страстью.
А на самом деле на Есенина надвигался шквал, который сильно изменит всю его жизнь.
Глава VII «БУЙСТВО ГЛАЗ И ПОЛОВОДЬЕ ЧУВСТВ»
В 1921 году Москву взбудоражила новость: приезжает Айседора Дункан.
Новость повторяли на все лады, о Дункан писали газеты, ее называли «великой», «непревзойденной», о ней говорили и хорошее, и плохое, но все сходились на одном: она — королева танца.
Она действительно покорила своим искусством Европу и Америку. Она была богата — по слухам, даже сказочно богата, ведь не зря она побывала замужем за самим Зингером — владельцем фабрик швейных машинок. Вспоминали и другого мужа Дункан — знаменитого в те времена режиссера, который ставил «Гамлета» на сцене Художественного театра. При этом горестно покачивали головами — от Крэга у Дункан было двое детей, но они погибли в автокатастрофе.
Одни говорили, что она красива, другие — что ослепительна. Некоторые разногласия порождал ее возраст, но даже по самым благожелательным подсчетам ей было уже под сорок. И все равно она танцевала божественно — без традиционных балетных аксессуаров, в одном белом хитоне и босиком.
Все задавали себе один и тот же вопрос: зачем ее несет из богатой Америки и сытой Европы в Россию, в грязь, в дикость?
Ничего загадочного в решении Дункан приехать в Советскую Россию не было. Просто она оказалась одной из той довольно многочисленной плеяды западных интеллектуалов, писателей, художников, деятелей театра, которым опостылел сытый американский и европейский бездуховный образ жизни и которые увидели в русской революции — или только хотели увидеть — освежающую бурю, поверили в то, что на диких просторах России возникает новое светлое будущее.
В этом плане очень о многом говорят слова Айседоры Дункан в ее книге воспоминаний:
«По пути в Россию я чувствовала то, что должна испытывать душа, уходящая после смерти в другой мир, я думала, что навсегда расстаюсь с европейским укладом жизни. Я видела, что идеальное государство, каким оно представлялось Платону, Карлу Марксу и Ленину, чудом осуществилось на земле. Со всем жаром существа, разочаровавшегося в попытках претворить в жизнь в Европе свои художественные видения, я готовилась вступить в идеальное государство коммунизма».
В свое время в Европе Айседора Дункан не раз пыталась создать школу танца для детей. Это была ее мечта, ее видение счастливого развития человека. Еще в 1906 году она писала: «Со временем я намерена создать театр, открыть школу, в которой 100 маленьких девочек изучали бы мое искусство и впоследствии самостоятельно совершенствовались».
Обратите внимание на «мое искусство». Ее превозносили на все лады, и она окончательно утвердилась в своей исключительности.
Однако на Западе она так и не нашла богатых людей, которые заинтересовались бы ее идеями и вложили бы в нее деньги. Тогда ее мысли обратились к России. Она не раз, начиная с 1904 года, бывала в России, и эта страна нравилась ей своим гостеприимством, умением русской публики чутко воспринимать ее искусство танца, откликаться на ее творческие идеи.
Достаточно вспомнить слова великого Станиславского: «После первого вечера я не пропускал уже ни одного концерта Дункан. Потребность видеть ее часто диктовалась изнутри артистическим чувством, близко родственным ее искусству».
Русскую революцию Дункан встретила восторженно. «Тот день, когда пришла весть о революции в России, — писала она в книге «Моя жизнь», — наполнил всех любителей свободы надеждой и радостью… В ночь русской революции я танцевала с дикой, неистовой радостью. Сердце мое рвалось в груди за тех, кто сейчас дождался освобождения, а раньше подвергался страданиям и пыткам и умирал за дело человечества».
И вот теперь она обратила свои надежды к Москве. Весной 1921 года она получила телеграмму от наркома просвещения Луначарского: «Русское правительство единственное, которое может понять вас. Приезжайте к нам. Мы создадим вашу школу».
Дункан ответила Луначарскому письмом: «Я никогда не искала денег за мою работу. Я хочу получить студию, дом для меня и моих учениц, простую еду, простые туники и возможность сделать мою работу как можно лучше. Я устала от буржуазного коммерческого искусства. Очень грустно, что я никогда не могла отдать свое творчество людям, для которых оно существует. А я вместо этого вынуждена была продавать свое творчество по пять долларов за место… Я хочу танцевать для масс, для рабочих людей, которые нуждаются в моем искусстве и у которых никогда не было денег, чтобы прийти и увидеть меня. Я хочу танцевать для них бесплатно… Если вы принимаете меня на этих условиях, я приеду и буду работать для будущего Русской Революции и для ее детей».
Получив такой ответ, Луначарский телеграфировал Дункан в Париж: «Приезжайте в Москву. Мы дадим вам школу и тысячу детей. Вы сможете осуществить ваши идеи в большом масштабе».
Друзья пытались отговорить Айседору от поездки в «эту варварскую страну», но она заявила журналистам: «Я намерена провести ближайшие десять лет в России».
В искренности Дункан сомневаться не приходится, но здоровый скепсис нашептывает, что не все так просто, что, скорее всего, ее благородный жест был продиктован определенными сомнениями — она знала, что ее успех в Америке и Европе продлится недолго. В последнее время сборы с ее концертов заметно снизились, и это не могло не беспокоить практичную Айседору.
Так или иначе, но летом 1921 года Айседора Дункан появилась в Москве. Здесь ей предстояло встретить свою судьбу, свою последнюю любовь и свою беду — русского поэта Сергея Есенина.
Слышал ли что-нибудь об Айседоре Дункан Сергей Есенин? Конечно, слышал. Не мог не слышать. Слишком громкое это было имя. Но никогда раньше он ее не видел, а потому не мог знать, насколько она красива, насколько по-женски привлекательна.
Важно было другое — ореол славы, магия известности, которая всегда зачаровывала Есенина.
Мариенгоф оставил яркое и точное описание преддверия встречи Есенина с Айседорой Дункан. Они с Есениным сидели в саду «Эрмитаж», когда к ним подошел их друг художник Жорж Якулов. Он вообще был близок к имажинистам и даже подписывал их манифесты. Мариенгоф пишет: «На нем был фиолетовый френч из старых занавесок. Он бьет по желтым крагам тоненькой тросточкой. Шикарный мужчина. С этой же тросточкой, в белых перчатках он водил свою роту в атаку на немцев. А потом на оранжевых ленточках звенел георгиевскими крестами».
Якулов загадочно посмотрел на них, прищурив глаз, похожий на маслину:
— А хотите с Изадорой[1] Дункан познакомлю?
Есенин даже привскочил со скамьи:
— Где она? Где?
— Здесь… кхе-кхе… замечательная женщина.
Есенин, ухватил Якулова за рукав:
— Веди!
И они понеслись от Зеркального театра к Зимнему, от Зимнего в Летний, от Летнего к оперетте, от оперетты обратно в парк, шаркая глазами по скамейкам.
Изадоры Дункан не было.
— Черт дери… кхе-кхе… нет… ушла… черт дери.
— Она здесь, Жорж, здесь.
И снова от Зеркального к Зимнему, от Зимнего к оперетте в Летний сад.
Мариенгоф сказал:
— Ты бы, Сережа, ноздрей след понюхал.
— И понюхаю!
Дункан нигде не было. Есенин молчал и досадовал.
И дальше Мариенгоф по прошествии многих лет пишет очень точные слова:
«Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видел в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажем более, губительную роль».
Айседора Дункан, конечно, и слыхом не слыхивала о русском поэте Сергее Есенине, не могла и гадать, что встретит в Москве златокудрого синеглазого красавца, который окажется ее судьбой.
Некоторые исследователи высказывали предположение, что стремление Дункан ехать в Москву было вызвано не только желанием открыть там грандиозную балетную школу. Может быть.
Биограф Есенина Маквей утверждает, что помимо артистических причин у Дункан были и другие подспудные надежды — она надеялась найти в большевистской России любовника, который скрасит осень ее жизни. Ее взгляды на замужество были не менее революционными, чем ее художнические и политические убеждения.
Айседора происходила из семьи, в крови которой смешались шотландские и ирландские корни. Впрочем, семьей это можно назвать только с некоторой натяжкой: отец покинул мать-ирландку, и она вместе с детьми постоянно кочевала из одного дома в другой. Впоследствии Айседора утверждала, что на танцы, которые она создала, ее вдохновило бурное, свободное от всяких ограничений детство, «Главным в моем детстве, — вспоминала она, — был постоянный дух бунтарства против убожества той жизни, которой мы жили… Моя мать совершенно не беспокоилась о материальных благах и приучила нас с презрением относиться к владению домами, мебелью, любой собственностью».
Развод родителей оставил своеобразный отпечаток на юной Изадоре — она стала ярой противницей брака. «Я решила тогда, что всю свою жизнь буду сражаться против брака и за эмансипацию женщин, за право каждой женщины иметь ребенка, как ей захочется, за ее достоинство».
Весной 1902 года в Будапеште она влюбилась в Ошкара Береги, актера, игравшего роль Ромео. Всю свою жизнь Айседора хранила память о молодом венгре с божественным лицом и фигурой, который «…превратил непорочную нимфу, какой я была, в разнузданную и ничего не боящуюся вакханку… Мои груди, до той поры еле заметные, разбухли и поражали меня очаровательным ощущением. Мои бедра, которые напоминали мальчишеские, начали иначе двигаться, и всем своим существом я ощущала страшное желание, потребность… Ах, юность, весна, Будапешт и Ромео!»
Потом в Бейруте Айседора вновь влюбилась и почувствовала, что ее душа «… похожа на поле битвы, где Аполлон, Дионис, Христос, Ницше и Рихард Вагнер оспаривают власть… Я уехала из Бейрута, но я увезла в своей крови мощный яд. Я слышала зов сирен».
В декабре 1904 года в Берлине Айседора встретила знаменитого театрального режиссера англичанина Гордона Крэга, которого она считала гением театра. Ее письма к Крэгу, написанные в период 1904–1907 годов, когда они были любовниками, раскрывают ее характер — характер женщины, готовой учиться, трудиться изо всех сил, честной и преданной. Крэг, напротив, предстает личностью противоречивой, надменной, предельно эгоцентричной и зачастую несправедливой.
Тем не менее Гордон Крэг был человеком неординарным — Айседора более десяти лет оставалась под обаянием его личности. В 1906 году она родила от него дочь.
О том, чтобы создать семью, не могло быть и речи. Крэг не ощущал себя в ответе за судьбу своей дочери. А Айседора по-прежнему отрицала брачные узы. «Я была против брака всем моим существом. Я верила тогда и верю сейчас, — писала она в книге мемуаров «Моя жизнь», — это глупый и порабощающий обычай, — ведущий — особенно в среде художников — к разводам, к абсурдным и вульгарным судебным разбирательствам».
О Крэге и Дункан можно было бы сказать, что они созданы друг для друга, и тем не менее их любовь приводила к жестоким ссорам и долгим разлукам. Айседора без устали металась по Европе, зарабатывая, но и тратя напропалую деньги, а Крэг был поглощен своей идеей создать новый театр.
Они дарили друг другу вдохновение, муки и бесконечную любовь, они действительно не могли жить вместе, но и не могли жить порознь.
Крэг, выдающийся режиссер, подлинный художник, оставил впечатляющую запись о танце Айседоры Дункан:
«Я никогда не забуду, когда я в первый раз увидел, как она выходит на пустую сцену, чтобы танцевать. Это было в 1904 году.
Она вышла из-за кулис, которые были не выше, чем она сама, прошла к пианисту, сидевшему за огромным роялем спиной к залу. Он только что закончил играть короткую прелюдию Шопена. Она остановилась у рояля, прислушиваясь к последним звукам. Она стояла неподвижно. Можно было сосчитать до пяти, даже до восьми, потом снова зазвучал Шопен, вторая прелюдия или этюд, звуки лились негромко, а она все стояла. Потом она сделала шаг назад и в сторону, опять зазвучала музыка, и она начала двигаться. Просто двигаться — без пируэтов или каких-то других фигур, которые мы ожидали увидеть и без которых не обошлись бы Тальони или Фанни Эйслер. Она разговаривала с нами на своем собственном языке — понимаете? На своем собственном языке — вы уловили? — не повторяя ни одного из мастеров балета. Она двигалась так, как никто другой до нее не двигался. Танец кончился, и она опять замерла. Она не кланялась, не улыбалась — ничего похожего!
Откуда мы знаем, что она говорила с нами на своем собственном языке? Мы это понимали, потому что видели, как плавно движется ее голова, ее руки, как ступают ее ноги, как движется вся она. Мы могли сказать одно: она отдавала воздуху то, что мы жаждали услышать, и теперь мы это слышали, и это вызывало у нас необычайный восторг, а я… я сидел неподвижно, лишившись дара речи».
Весной 1909 года Айседора Дункан встретила миллионера Париса Зингера. Она стала жить на его роскошной яхте, перестала носить короткие туники и перешла на роскошные туалеты.
10 мая 1910 года она родила Парису Зингеру сына, однако по-прежнему отказывалась выйти за него замуж. Менее чем через три года в жизни Айседоры Дункан произошла страшная трагедия — в результате автомобильной аварии ее дети погибли — машина упала в Сену и дети утонули.
Последствия трагедии были для Айседоры ужасны. Как свидетельствует ее приятельница Мэйбл Додж, «она стала все дальше и дальше отходить от реальности — или от того, что большинство людей считают реальностью. В своей книге она называет это судьбой — черной судьбой, но судьба это была или нет, ее разум сдвинулся… Это была пытка, что бы она ни делала — спала ли, или что-нибудь еще, — лучшими часами ее жизни остались часы работы, танца, хотя она изо всех сил старалась быть счастливой. Любовники — любовники и вино — ничто не могло утолить эту жажду, этот голод».
Но Дункан и не скрывает своего отношения к любовным удовольствиям:
«Я особенно отвергаю мнение многих женщин, что после сорока достойная жизнь исключает занятия любовью. Какая это ошибка!»
В другом месте своих воспоминаний она еще более откровенна:
«Какая глупость вечно петь только о любви, связанной с весной. Краски осени гораздо богаче, разнообразнее, и радость, приносимая осенью, в тысячу раз мощнее, ужаснее, прекраснее… Когда-то я была застенчивой девушкой, потом агрессивной вакханкой, а теперь я обволакиваю своего любовника, как море накрывает смелого пловца, поглощает, затягивает в водоворот, окутывает волнами облака и огня».
Незадолго до конца своей жизни Айседора уже довольно спокойно констатировала:
«Часто, когда люди спрашивают меня о моей морали, я отвечаю, что считаю себя исключительно моральной личностью, потому что во всех моих отношениях с мужчинами я делала только такие движения, которые мне казались прекрасными…
Люди спрашивают меня, считаю ли я занятия любовью искусством, и я отвечаю, что не только к любви, но и ко всякой стороне жизни нужно относиться как к искусству. Мы уже вышли из примитивного дикарства, и все проявления нашей жизни должны формироваться через культуру и перевоплощение интуиции и инстинкта в искусство».
Вот с таким эмоциональным и физическим багажом летом 1921 года Айседора Дункан приехала в Москву.
Любопытно, что встреча Дункан с Есениным произошла 3 октября 1921 года — в день рождения Сергея Есенина. Считать их встречу подарком судьбы — не нам судить. Ему в тот день исполнилось 26 лет, Айседоре Дункан было уже 42 года. Разница в 16 лет — не так уж мало. Выше уже говорилось о том, что Есенина большей частью влекло к женщинам старше его, но такого возрастного разрыва еще не было.
Импресарио Дункан Илья Шнейдер вспоминал, как ему на одной из московских улиц встретился художник Жорж Якулов и сказал, что сегодня у него в студии небольшая вечеринка, и предложил приехать и привезти Дункан. «Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов», — сказал Якулов. Айседора, когда Шнейдер рассказал ей об этом приглашении, сразу же согласилась. Чувствовала ли она, что идет навстречу своей судьбе?
Мастерская Жоржа Якулова помещалась на самом верхнем этаже дома № 10 по Большой Садовой. В этом тоже можно было бы усмотреть происки судьбы — ведь это был тот самый дом, в котором впоследствии жил Михаил Афанасьевич Булгаков и который он изобразил в романе «Мастер и Маргарита», разместив там «нехорошую квартиру» с обитающей в ней нечистой силой.
Но во времена Якулова это была студия свободного художника: картины, афиши, фигурки восточных божков, на полу — персидский ковер, окно от пола до потолка и мебель, состоящая из нескольких стульев, мольберта и табуреток с красками. Вычурной формы узкий стол с крышкой из фанеры, изготовленный по эскизу самого Якулова. Над столом длинное зеркало в светлой резной раме по его же эскизу. Справа занавес, арка, за ней небольшая комната, в ней секретер, диван, два мягких кресла и шкаф с рулонами бумаги.
Появление Дункан в студии Якулова вызвало минутную паузу изумления, а потом начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы «Дункан!»
Якулов сиял. Он пригласил всех к столу, но Айседора от ужина отказалась и устроилась в маленькой комнате. Окруженная поклонниками, она возлежала на кушетке и принимала их восхищение как должное.
Илья Шнейдер вспоминает, как его чуть не сбил с ног какой-то человек в светло-сером костюме.
Есенин ворвался в студию с криком:
— Где Дункан? Где Дункан?
Перед ним полулежала рослая, статная женщина с отличной, как в то время говорили, «сладострастной» фигурой, с очень красивым, классическим лицом. На ней был красный, мягкими складками льющийся халат. Красные волосы блестели медью, большое тело двигалось легко и мягко. На Есенина смотрели глаза, похожие на блюдца из синего фарфора, маленький нежный рот улыбался.
Есенин едва не одним прыжком пересек большую студию и ворвался в ту комнату, где находилась Дункан. Он упал на колени около кушетки и принялся целовать Айседоре руки. А она погрузила пальцы в его шелковые волосы и начала ерошить их, приговаривая при этом:
— Золотая голова!
Этим она повергла всех собравшихся в полное изумление, так как было известно, что Дункан не знает ни единого слова по-русски. Потом она крепко поцеловала Есенина в губы.
Мариенгоф вспоминал: «И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:
— Ангел!
Поцеловала еще раз и сказала:
— Черт!»
Последние слова особенно загадочны. То, что Дункан назвала Есенина ангелом, понять еще можно — в его лице, несмотря на некоторые следы, оставленные беспорядочной жизнью и пьянством, было что-то ангельское. Но откуда «Черт»? Или чуткое восприятие Айседоры ощутило ауру зла, затаившуюся в Есенине?
Что же произошло в эти минуты между этими двумя людьми, между мужчиной и женщиной? Понять душевное состояние Дункан нетрудно — она ехала в Россию в надежде встретить там нового любовника и, увидев златокудрого молодого красавца, тут же влюбилась в него.
Есенин? Конечно, он уже загодя был в восхищении от Дункан, если можно так выразиться, он был влюблен в ее славу, но когда он увидел воочию античную богиню, в нем вспыхнула страсть. Да, да, не любовь, а именно страсть — «половодье чувств».
Для всех было загадкой, как они умудряются понимать друг друга — Айседора не говорила по-русски, а Есенин не знал ни одного европейского языка. И тем не менее между ними установилось полное взаимопонимание.
Позднее в тот вечер Дункан сказала сопровождавшему ее Илье Шнейдеру:
— Он читал мне свои стихи, я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал гений.
За полночь участники вечеринки начали расходиться. Шнейдер спросил Айседору, не собирается ли она домой. Дункан с видимой неохотой поднялась. Есенин неотступно следовал за ней. Когда они вышли на Садовую, было уже совсем светло. Им повезло — мимо проезжала свободная пролетка. Айседора поднялась в нее, будто в экипаж, запряженный шестерней цугом. Есенин сел рядом с ней. Шнейдеру не оставалось ничего другого, как примоститься на облучке, спиной к извозчику.
Так они поехали по Садовой, уже освещой лучами солнца. За Смоленским бульваром извозчик свернул и выехал на Пречистенку. Лошадка неторопливо перебирала копытами, но Дункан и Есенину это было совершенно безразлично. Они держали друг друга за руки и казались вполне счастливыми. Они даже не обращались к Шнейдеру с просьбой что-то переводить им.
Извозчик дремал, а его лошаденка уже в который раз объезжала вокруг церкви, попавшейся им на пути.
Первым очнулся Шнейдер и тронул извозчика за плечо.
— Эй, отец! Ты что, венчаешь нас, что-ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь…
Есенин встрепенулся и, узнавав чем дело, радостно рассмеялся.
— Повенчал! — раскачивался он от хохота, ударяя себя по колену и поглядывая искрящимися глазами на Айседору.
Она пожелала узнать, что произошло, и когда Шнейдер объяснил ей, она со счастливой улыбкой протянула:
— Свадьба.
Пролетка остановилась у особняка с колоннами. Есенин и Дункан молча посмотрели друг на друга, держась за руки, поднялись по ступенькам и вошли в дверь.
С этой ночи Есенин поселился в особняке, который советское правительство предоставило Дункан и ее школе на Пречистенке.
Уже на следующий вечер они вместе принимали гостей. Это были главным образом приятели Есенина.
Анатолий Мариенгоф описывал этот вечер:
«На другой вечер мы были у Дункан.
Она танцевала нам танго «Апаш».
Апашом был Изадора Дункан, а женщиной — шарф.
Страшный и прекрасный танец.
Узкое и розовое тело шарфа извивалось в ее руках. Она ломала ему хребет судорожными пальцами. Беспощадно и трагически свисала круглая шелковая голова ткани.
Дункан кончала танец, распластав на ковре судорожно вытянувшийся труп своего призрачного партнера».
Воспоминания о доме Дункан оставил и Иван Старцев:
«В квартире Дункан всегда царил полумрак, создаваемый драпировками. Поражало отсутствие женщин. Дункан всегда оставалась единственной женщиной среди окружавшей ее богемы. При всей солидности своего возраста она сумела сохранить внешнее обаяние».
Стиль отношений Есенина и Айседоры Дункан установился сразу же после того, как они сошлись. Она — стареющая женщина, до безумия влюбленная в своего молодого, красивого и талантливого любовника. Все это довольно точно подметил Мариенгоф, который писал: «Есенин был ее повелителем, ее господином. Она, как собака, целовала руку, которую он заносил для удара, и глаза, в которых чаще чем любовь, горела ненависть к ней».
Она не только не стеснялась своей любви к Есенину, но всячески ее выставляла напоказ. Иван Старцев вспоминал: «Одетая в полупрозрачную шелковую тунику, она ласково бросала каждому, кто, сопровождая Есенина, приезжал к ней в гости, обе руки и, смущаясь незнанием русского языка, с трудом говорила:
— Есенин ты друг? Ты тоже друг? Изадора любит Есенина!»
Что же касается самого Есенина, то его ария в этой любовной драме была гораздо многосложнее.
Страсть не любовь, она быстро проходит. И когда Мариенгоф писал о его глазах, «в которых чаще, чем любовь, горела ненависть к ней», то есть известные основания подозревать, что ненависть к Изадоре служила только отражением его глубокого отвращения к самому себе — положение, в котором он оказался, не украшало его в собственных глазах. Можно предположить, что он возненавидел себя за то, что продал свое право первородства за чечевичную похлебку. Несомненно, в его связи с Айседорой Дункан присутствовал налет меркантилизма. Его завораживали намеки на капиталы Дункан в Европе и Америке, на роскошные дома и виллы, которыми она якобы там владела. Манила его и перспектива поехать вместе с ней за границу, «Мир посмотреть и себя показать».
Мариенгоф, который недолюбливал Дункан, как, впрочем, и всех женщин, с которыми у Есенина возникали любовные отношения — он ревновал к ним своего друга, — написал довольно жестко, но, надо полагать, правдиво о Есенине в этой ситуации:
«Есенин влюбился не в Изадору Дункан, а в ее славу, в ее всемирную славу. И он женился на ее славе, а не на ней — не на этой стареющей, отяжелевшей, но все еще прекрасной женщине с крашеными волосами. Он испытывал удовольствие, гуляя под руку с этой всемирной знаменитостью по московским улицам, появляясь с нею в «Кафе поэтов», на концертах, на театральных премьерах, слыша позади себя многоголосый шепот: «Дункан-Есенин, Есенин-Дункан».
Словом, связь Есенина с Дункан была не совсем обычной и далеко не однозначной. Конечно, еще теплились угольки страсти, осталась привязанность, временами вспыхивала нежность. Эту двойственность в его поведении по отношению к Айседоре замечали и окружающие.
Уже цитировавшийся выше Иван Старцев в своих воспоминаниях «Мои встречи с Есениным» отмечал: «Есенин свои чувства к Изадоре выражал различно: то казался донельзя влюбленным, не оставляя ее ни на минуту при людях, то наедине он подчас обращался с ней тиранически грубо, вплоть до побоев и обзывания самыми площадными словами. В такие моменты Изадора бывала особенно терпелива и нежна с ним, стараясь всяческими способами его успокоить».
Любопытный и характерный эпизод приводит Георгий Иванов в своих прелестных, хотя и не вполне достоверных мемуарах:
«На банкете в ее честь Изадора поцеловала Есенина в губы. Поэт, который был к этому моменту уже пьян, оттолкнул ее, а когда она снова поцеловала его, ударил ее по лицу. Изадора начала всхлипывать, Есенин принялся утешать ее, кончилось это тем, что она нацарапала бриллиантом в своем кольце на оконном стекле: «Есенин хулиган, Есенин ангел!».
Ирма, приемная дочь Айседоры и ее верная помощница, видела в Есенине скорее дьявола, нежели ангела. Сам Есенин, видимо, поддерживал в ней это убеждение, поддразнивая ее. Он, например, подарил ей московское издание своей драматической поэмы «Пугачев» с дарственной надписью: «Ирме от дьявола. С. Есенин».
Сама Айседора Дункан писала в одном из писем: «Каждый раз, когда ко мне приходит новая любовь в виде демона, или ангела, или просто мужчины, я верю, что он тот единственный, кого я ждала всю жизнь, и что эта любовь будет последней в моей жизни».
Здесь следует подчеркнуть — и это очень существенно, — что к чисто женской любви Дункан к Есенину примешивалось материнское чувство. Есенин чем-то напоминал ей утонувшего сына Патрика. Позднее она скажет своей приятельнице Мари Дести: «Я не перенесу, если упадет хоть один золотой волосок с его головы. Неужели ты не видишь совпадения? Он так похож на маленького Патрика. Если бы Патрику было суждено вырасти, он выглядел бы точно так же. Неужели я позволю, чтобы его кто-нибудь обидел?»
Любопытную жанровую сценку, очень точно характеризующую быт и отношения Есенина и Дункан в тот период, оставил нам в своих воспоминаниях искусствовед Бабенчиков, сблизившийся тогда с Есениным и бывавший в особняке на Пречистенке:
«Поднявшись по широкой мраморной лестнице и отворив массивную дверь, я очутился в просторном холодном вестибюле. Есенин вышел ко мне, кутаясь в какой-то пестрый халат. Меня поразило его болезненно-испитое лицо, припухшие веки глаз, хриплый голос, которым он меня спросил:
— Чудно? — И тут же прибавил: — Пойдем, я тебя еще не так удивлю.
Сказав это, Есенин ввел меня в комнату, огромную, как зал. Посредине ее стоял письменный стол, а на нем среди книг, рукописей и портретов Дункан высилась деревянная голова самого Есенина работы Коненкова. Рядом со столом помещалась покрытая ковром тахта. Все это было в полном беспорядке, точно после какого-то разгрома.
Есенин, видя мое невольное замешательство, еще больше возликовал:
— Садись, видишь, как я живу — по-царски! А там, — он указал на дверь, — Дункан. Прихорашивается. Скоро выйдет.
…Вошла Дункан. Я ее видел раньше очень давно и только издали, на эстраде, во время ее гастролей в Петербурге. Сейчас передо мной стояла довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся — увы, без особенного успеха — все еще выглядеть молодой. Одета она была во что-то прозрачное, переливающееся, как и халат Есенина, всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясистость склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела такой же искусственной и нелепой, как нелепа была и крикливо обставлена комната, скорее походившая на номер гостиницы, чем на жилище поэта.
…Дункан говорила вяло, лениво цедя слова, о совершенно различных вещах. О том, что какой это ужас, что она пятнадцать минут не целовала Есенина, что ей нравится Москва, но она не любит снега и еще что-то, все в том же кокетливо-наивном тоне стареющей актрисы. Говоря, она полулежала на широкой тахте, усталая, разморенная заботами прошедшего дня и, как мне показалось, чем-то расстроенная.
Есенин тоже был не в духе. Он сидел в кресле, медленно тянул вино из высокого бокала и упорно молчал, не то с усмешкой, не то с раздражением слушая болтовню Айседоры».
В воспоминаниях Бабенчикова явственно проступает замеченная и другими тема двойственности отношения Есенина к Дункан:
«Вообще с Дункан, как я имел возможность не раз убедиться, он бывал резок. Говорил о ней в раздраженном тоне, зло, колюче: «Пристала. Липнет, как патока». И вдруг тут же неожиданно, наперекор сказанному вставлял: «А знаешь, она баба добрая. Чудная только какая-то. Не пойму ее».
А Айседора, когда он отталкивал ее, в восторге восклицала: «Это Россия… это настоящая Россия… Есенин крепкий, очень крепкий!», а его грубые выходки по отношению к ней объясняла лаконично: «Русская любовь!»
Айседора старалась выучить некоторые русские фразы, чтобы произносить их Есенину. В своем блокноте она выводила: «Моя последняя любовь», «Я обожаю землю, по которой ты ходишь». А Есенин учил ничего не подозревающую утонченную танцовщицу русским площадным ругательствам, похабщине.
Мариенгоф замечает: «Платон проводил четкое различие между личностью любящей и личностью любимой. Одна из толстовских персонажей говорит: «Я поцеловала его, и он подставил мне щеку». Изадора была личностью любящей. Есенин подставлял ей щеку, и она целовала его».
О двойственности отношения Есенина к Дункан говорили и другие их знакомые. Иван Старцев, например, отмечает, что Есенин и Айседора были связаны узами «взаимной нежности и привязанности», и тут же добавляет, что Есенин порой вел себя «как тиран», даже бил ее и обзывал грубыми до неприличия именами.
В том же ключе оценивал отношения Есенина и Дункан поэт Сергей Городецкий. Он ссылался на «глубокую взаимную любовь», но далее утверждал: «Конечно, Есенин был отчасти влюблен в Изадору, а отчасти в ее славу, он любил Изадору, насколько он вообще был способен любить. В общем, можно сказать, что эта сфера жизни значила для него очень мало. Женщины не играли в его жизни такой роли, как, скажем, в жизни Блока».
В одном вопросе Дункан оказывала на Есенина дурное влияние: он и так был не прочь выпить и по поводу, и без повода, а она способствовала этому. Она любила шампанское, коньяк и водку. Ее антрепренер Сол Юрок отмечал, что меры она не знала, как, впрочем, во всем. За завтраком она пила портвейн, обедала с виски и шампанским.
Мариенгоф утверждал: «До того, как он встретил Изадору Дункан, Есенин не выпивал больше или чаще, чем все мы. Он любил выпить в хорошей компании — этакое удовольствие время от времени, но не больше». Другие поэты-имажинисты в своих воспоминаниях упирают именно на это обстоятельство. Конечно, есть иные свидетельства, и, скорее всего, имажинисты не были объективными свидетелями — они обвиняли Дункан во всех бедах Есенина и едновременно защищали собственную репутацию. Тем не менее известно, что Мариенгоф и Шершеневич, провозглашавшие в своих стихах разгул страстей, в поседневной жизни были людьми трезвыми и уравновешенными.
Следует отметить, что тема пьянства в поэзии Есенина вообще не возникала до 1921 года. В стихотворениях «Хулиган» и «Исповедь хулигана» нет и намека на приверженность поэта к алкоголю. Тем не менее Есенин начал слишком часто тянуться к чарке в 1920–1921 годах. Его встреча с Айседорой Дункан если и послужила стимулом, ускорившим у поэта тягу к вину, то далеко не самым главным. Некоторые из друзей Есенина и его родственники склонны видеть в Дункан разрушающее начало в его жизни — отчасти потому, что с ней он стал больше пить, а отчасти потому, что им было удобнее выставить Айседору как воплощение пагубного иностранного влияния на поэта и снять с него вину.
Имело место и противоположное мнение — приемная дочь Айседоры Ирма обвиняла Есенина в том, что он приучил Дункан к крепким напиткам. Ирма писала: «Если не считать аперитив–другой перед едой, да и то от случая к случаю, никто из девушек, в том числе и сама Изадора, не пил ничего крепкого. Только когда ей перевалило за сорок, когда она вышла замуж за этого русского, под его дурным влиянием она привыкла к крепким напиткам».
В течение какого-то времени особняк Дункан на Пречистенке стал центром пирушек имажинистов. Ее дом вечно был полон представителями русской богемы — поэтами, художниками, скульпторами вроде Коненкова, музыкантами, дирижерами.
Мари Дести так описывала эти сборища: «День за днем, ночь за ночью дом заполняла эта дикая сумасшедшая банда писателей, художников, артистов… Это были избалованные дети большевиков… Они же по любому поводу поносили правительство и вообще вели себя так, словно они на Монмартре. Они называли себя скандалистами и вели себя соответственно. Они шумно напивались каждую ночь, и им в голову не приходило ложиться спать до рассвета».
В канун Рождества Есенин, не предупредив Дункан, отправился со своим другом Иваном Старцевым в мастерскую Сергея Коненкова. Они оставались там целых три дня, выпивая и наслаждаясь обществом замечательного скульптора. А Айседора места себе не находила от беспокойства. Она заехала к Старцеву и оставила ему записку. Ей мерещился Есенин с перерезанным горлом на грязном полу какого-нибудь притона. Записка кончалась весьма примечательными словами: «Не думайте, что я пишу, как влюбленная школьница, нет — мною движет привязанность и материнская забота».
В других случаях Айседора сопровождала своего партнера. Как писала Мари Дести на основании слов самой Дункан: «Они часто отправлялись навестить одного из самых великих скульпторов современности Коненкова… Здесь Сергей чувствовал себя счастливым. Здесь он часами читал стихи, в то время как Коненков продолжал свою работу. Потом Коненков выставлял водку, черный хлеб и колбасу, и начинался пир. Это были, наверное, самые счастливые дни жизни Изадоры».
5 октября 1921 года народный суд города Орла вынес решение о расторжении брака Сергея Есенина с Зинаидой Райх. Неминуемо вставал вопрос о женитьбе на Айседоре Дункан. К тому же они собирались за границу и знали, что, если не будут состоять в законном браке, им придется столкнуться со сложностями и даже неприятностями. Все помнили печальную историю поездки Горького с Андреевой в Америку, где их отказывались пустить в отели из-за того, что они не были обвенчаны.
Бракосочетание Есенина и Дункан стало для них обоих событием примечательным. Айседора вспоминала, как перед поездкой в Россию в 1921 году она пошла в Лондоне к гадалке и та ей сказала: «Вас ждет дальняя дорога. Много странного и необычного всретится вам на пути, будут и неприятности, но в конце вы выйдете замуж…»
«При слове «замуж», — говорила Айседора, — я прервала ее взрывом смеха. Я, которая всегда была против замужества? Я не выйду замуж. Гадалка сказала: «Поживем — увидим».
Судя по воспоминаниям Мариенгофа, Дункан была очень возбуждена предстоящим браком.
«Свадьба! Свадьба! — весело щебетала она. — Присылайте нам поздравления!.. Мы будем принимать подарки! Блюда, соусницы, сковородки!.. Первый раз в жизни у Изадоры законный муж».
Мариенгоф спросил ее, а как насчет Зингера? И Гордона Крэга? Но Изадора закричала: «Нет! Нет! Сережа первый муж Изадоры. Теперь Изадора будет толстой русской женой».
Она соглашалась быть «толстой русской женой», но годков себе при этом хотела поубавить. Накануне того дня, когда они должны были регистрировать брак, Дункан смущенно подошла к Шнейдеру, держа в руках свой французский паспорт.
— Не можете ли вы тут немножко исправить? — еще более смущаясь, попросила она.
Шнейдер не понял. Тогда она пальчиком показала строку, где был указан год ее рождения.
— Это для Есенина, — застенчиво сказала она. — Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но они тут написаны… и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки… Ему, может быть, будет неприятно. Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.
Шнейдер исправил ей год рождения.
Ощущал ли Есенин разницу в возрасте? Мариенгоф, как уже выше говорилось — не самый объективный свидетель, пишет, что, когда Изадора ела и пила, Есенин «смотрел на нее с нескрываемой ненавистью, на эту женщину, покрасневшую от водки и старательно жующую уже, наверное, искусственными зубами».
Мариенгоф утверждал, что Есенин не любил оставаться наедине с Дункан: «Ему было легче поцеловать эту пятидесятилетнюю женщину, когда он бывал пьян… Он ложился в их широкую брачную постель из карельской березы в состоянии опьянения».
Однако были свидетельства и подлинной любви Есенина к Дункан.
Представляют интерес воспоминания Бабенчикова. Бабенчиков как–то в разговоре напрямик сказал Есенину, что его близость с Айседорой Дункан выглядит удивительно и даже сомнительно. В ответ со стороны Есенина последовал «целый ряд теплых и почти умиленных слов об этой женщине. Ему хотелось защитить ее от всякой иронии. В его голосе звучали и восхищение и нечто похожее на жалость. Его еще очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном.
— Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег. Знаешь, она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала…»
И опять в разговорах с Бабенчиковым Есенин возвращался к более общей теме — к своим отношениям с женщинами вообще. «С женщинами, говорил он, ему трудно было оставаться подолгу. Он разочаровывался постоянно и любил периоды, когда удавалось жить «без них», но зато когда чувственная волна со всеми ее обманами захлестывала его на время, то опять-таки по–старому — «без удержу». Обо всем этом говорил он попросту, по-мужски, и смеясь, но без грусти и беспокойства».
Рюрик Ивнев тоже бывал не раз у Есенина и Дункан в их «гнездышке» на Пречистенке. Впоследствии он вспоминал: «Чуткость Айседоры была изумительной. Она могла улавливать безошибочно все оттенки настроения собеседника, и не только мимолетные, но и все или почти все, что таилось в душе… Это хорошо понимал Есенин, он в ту пору не раз во время общего разговора хитро подмигивал мне и шептал, указывая глазами на Изадору:
— Она все понимает, все, ее не проведешь».
Свою драматическую поэму «Пугачев», когда она вышла отдельным изданием, Есенин подарил Дункан с дарственной надписью: «За все, за все тебя благодарю». Если учесть сказанное им же «ее не проведешь», надпись звучит очень красноречиво.
Анна Никритина, актриса Камерного театра, на которой незадолго до того женился Мариенгоф, вспоминала:
«Дункан была удивительной, интеллигентной женщиной! Она прекрасно понимала, что для Сережи она представляла страстное увлечение и ничего больше и что его подлинная жизнь лежит где-то отдельно. Когда бы они ни приходили к нам, она усаживалась на нашу разломанную тахту и говорила. «Вот это нечто настоящее, здесь настоящая любовь!»
Она очень хотела подарить мне подвенечную фату и говорила: «Для женщины очень важно быть последней любовью, а не первой».
Она явно ощущала, что я последняя любовь Мариенгофа. И в то же самое время она понимала, что самое главное для них (Мариенгофа и Есенина) их творчество, а не женщины…»
Нельзя обойти молчанием и то, как повели себя любившие его и близкие с ним женщины, когда в его жизнь ворвалась Айседора Дункан.
Надежда Вольпин писала в своих мемуарах:
«Декабрь двадцать первого года. Как и все вокруг, я наслышана об этой бурной и мгновенно возникшей связи: стареющая всемирно прославленная танцовщица и молодой русский, советский поэт, еще не так уж знаменитый, но очень известный, недавно ходивший в «крестьянствующих», а сегодня предъявивший права на всенародное признание. Изадора (буду звать ее, как она сама себя звала) громогласно провозглашает свое сочувствие русской и чуть ли не мировой революции. (Не слишком ли дешевое? Но по-своему искреннее.) Добряк Анатолий Васильевич (Луначарский) наобещал ей в Стране Советов такое, что был невластен дать… Артистка не сразу осознала, как обманута ее наивная доверчивость. Но вот среди всех ее горестей — счастье, поздняя и как будто взаимная любовь.
…В страстную искреннюю любовь Изадоры я поверила безоглядно. А в чувство к ней Есенина? Сильное сексуальное влечение? — да, возможно. Но любовью его не назовешь. К тому же мне, как и многим, оно казалось далеко не бескорыстным. Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой–дурачком, покоряющим заморскую царицу. Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж: увядающая, но готовая воскреснуть слава, и мнимые огромные богатства Дункан (он получает о них изрядно перевранный отчет!) и эти чуть не ежевечерние банкеты на Пречистенке для всей театрально-литературной братии… море разливанное вина… И шумные романы в ее недавнем прошлом. И мужественно переносимая гибель (насильственная, если верить молве) двух ее детей. Если и живет в нем чувство к этой стареющей женщине, по-своему великолепной, то очень уж опосредствованное… И еще добавлю: не последним здесь было и то, что Есенин ценил в Дункан яркую, сильную личность.
…С такими представлениями, с такими думами вошла я в тот зимний вечер в «Стойло Пегаса». Уже с порога увидела ее. Женщина красивая, величественная одиноко сидела в левом углу, в «ложе имажинистов». Видно, что рост у нее немалый. На длинной полной шее (нет, не лебяжьей — скорее башня колокольни), как на колокольне луковка купола, подана зрителю маленькая, в ореоле медных волос голова. Мелкие правильные черты лица если что и выражают, то разве что недовольство и растерянность.
…На деле ей сорок четыре. Выглядит она отнюдь не моложе своих лет. По личному ее (и деловому) счету ей тридцать восемь — и публика щедро отпускает ей все сорок восемь!.. Ну, молодись на тридцать пять! Так нет же: Изадора рисует себе наивные губки бантиком, строит личико юной семнадцатилетней девчушки! И от этих ее потуг поблекшие в страстях и горестях тускло-голубые глаза кажутся совсем уж старушечьими…»
Язвительные интонации в воспоминаниях Надежды Вольпин можно понять и простить — в ней говорила ревность к более удачливой сопернице.
Тем же чувством продиктованы и слова в дневнике другой влюбленной в Есенина молодой женщины — Гали Бениславской. Эта запись помечена 1 января 1922 года — вскоре после того, как вспыхнул роман Есенина с Айседорой Дункан.
«Хотела бы знать, какой лгун сказал, что можно быть не ревнивым! Ей-Богу, хотела бы посмотреть на этого идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подавать вида, больше того, — можно разыгрывать счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая, можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки, если любишь так по-настоящему, — нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Иначе значит — мало любишь. Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не чувствовать боли от этого сознания. Я знаю одно — глупости и выходок не сделаю, а что тону и, захлебываясь, хочу выпутаться, это для меня ясно совсем. И если бы кроме меня была еще, это ничего… И все же буду любить, буду кроткой и преданной, несмотря ни на какие страданья и унижения».
Галя Бениславская искала утешение в связях с другими мужчинами. И даже весьма хитроумно обосновывала и оправдывала свое поведение. Она старалась доказать самой себе, что таким путем она защищает свою любовь к Есенину. «И не вина Есенина, — писала она, — если я среди окружающих не вижу людей, все мне скучны, он тут ни при чем. Я вспоминаю, когда я «изменяла» ему с И., и мне ужасно смешно. Разве можно изменить человеку, которого «любишь больше, чем себя». И я «изменяла» с горькой злобой на Есенина и малейшее движение чувственности старалась раздуть в себе, правда, к этому примешивалось любопытство».
«А как же мне поделить себя? — пишет Галя далее в своем дневнике. — Еще при сознании, что Айседора, именно она, а не я, предназначена ему, и я — для него — нечто случайное».
Она уговаривает себя потерпеть, убеждает, что надо ждать и счастливые дни непременно вернутся. «Знаю, уверена, что если ждать терпеливо — дождусь, но не могу ждать, боюсь, панически боюсь, не хватит сил ждать. Нечем заполнить долгие зимние вечера, нечем оживить серые осенние дни. Все где-то потеряла летом, когда на солнышке грелась, ничего про запас не оставила».
Тем временем пошли слухи о том, что Дункан увозит Есенина в Европу, и они больно ударили по сердцу Гали Бениславской. Тем более, что в Москве поговаривали, будто Есенин иикогда не вернется в Россию. Какие черные слова ложатся на страницы ее дневника: «Быть может, больше не увижу его до отъезда — а может — никогда? И никогда он не узнает, что не было ничего, чего бы я не сделала для него, никогда не оглянется на меня, так бесцельно и мимоходом сломанную им. А я не могу оторвать взгляда от горизонта, скрывшего его. И все же мне до боли радостна эта обреченность, и ни на что я ее не променяла бы».
И вот рубеж. «Завтра уезжает с ней. «Надолго», как сказал Мариенгоф. Хотела спросить: «И всерьез?» Очевидно, да. И я все пути потеряла — беречь и хранить для себя, помня его, его одного?»
Несколько иначе восприняла весть о предстоящем отъезде Есенина в Европу Надежда Вольпин. В их последнем перед его отъездом разговоре она почувствовала, что его и манит, и втайне страшит предстоящая поездка.
У Есенина вырвались тогда такие слова:
— Нужно ли? Сам не знаю…
А за этим последовала смиренная просьба:
— Будешь меня ждать? Знаю, будешь!
«Почти просьба и заповедь.
Хотя на этот раз он не посмел, как при сборах в Персию, прямо сказать: «Жди».
А я в мыслях вдвойне осудила тогда Сергея за эту его попытку «оставить меня за собой ожидающую, чтобы и после продолжить мучительство». Мне чудится: с меня с живой кожа содрана — а он еще и солью норовит посыпать…
И с болью вдруг подумала: не меня он терзает … а самого себя!
К осуждению прибавилась горькая жалость».
Предстоящий отъезд Есенина в Европу вызвал в литературной Москве множество толков. Были и злые языки, которые приравнивали путешествие за границу к бегству, пророчили, что поэт насовсем оставит родную землю.
Есенин думал иначе. Бабенчиков спросил его:
— Навсегда?
Он махнул рукой и грустно улыбнулся.
— Разве я где могу…
Глава VIII «Я ЕДУ ЗАВОЕВЫВАТЬ ЕВРОПУ»
Итак, вопрос о поездке в Европу был решен окончательно.
Дункан подписала со своим антрепренером Солом Юроком контракт на выступления в крупнейших концертных залах Германии, Франции, Италии и Соединенных Штатов. Она всем сообщала, что едет со своим новым мужем Сергеем Есениным.
Однако Есенин вовсе не собирался путешествовать в качестве мужа своей знаменитой супруги. Им владели иные честолюбивые замыслы. Он намеревался покорить Европу и Америку своей поэзией. Перед отъездом он говорил Мариенгофу: «В конце концов я еду за границу не для того, чтобы бесцельно шляться по Лондону и Парижу, а для того, чтобы завоевать…
— Кого завоевать, Сережа? — спросил Мариенгоф.
— Европу! Понимаешь? Прежде всего я должен завоевать Европу… а потом…»
Шершеневич говорил, что Есенин считал, будто Россия слишком мала для его славы — перед отъездом за границу он заявил: «Я еду на Запад, чтобы показать Западу, что такое русский поэт…»
Идея завоевания Запада своей поэзией давно владела умами поэтов-имажинистов. Еще в сентябре 1921 года Есенин и Мариенгоф выпустили воинственный манифест, в котором, в частности, писали: «Мы категорически отрицаем какую-либо зависимость от формальных достижений Запада, и мы не только не собираемся признавать их превосходство в какой-либо мере, а мы упорно готовим большое наступление на старую культуру Европы».
Вероятно, это наступление имел в виду Есенин, когда 17 марта 1921 года писал Луначарскому с просьбой помочь ему получить разрешение на поездку в Берлин на три месяца, для того чтобы издать там свои книги и книги близкой к нему группы поэтов.
Такое разрешение было получено 3 апреля .
Интрига усложнялась тем, что Ивнев и Мариенгоф собирались выехать за границу вместе с Есениным. Можно себе представить, в какое раздражение они пришли, узнав, что Есенин и Дункан едут без них. Их естественное недовольство нашло свое выражение в отрицательном отношении к этой поездке. Рюрик Ивнев заметил: «Несмотря на мое глубокое уважение к Изадоре Дункан, я убежден, что поездка в Европу будет фатальной для Есенина». А Мариенгоф отозвался еще более кратко и более выразительно: «Будь она проклята!».
Так или иначе, но 10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан оказались в кабине шестиместного пассажирского самолета «Фокке», совершавшего первый коммерческий рейс из Москвы в Кенигсберг. 17 мая они уже были в Берлине, где поселились в роскошном отеле «Адлон».
В те первые годы после русской революции Берлин представлял собой пеструю и довольно необычную картину. «Город являл собой настоящий салат из русской аристократии — более или менее подлинной — разорившиеся купцы, озлобленные и бездельничающие белогвардейцы, авантюристы, интеллектуалы, писатели, художники, музыканты, актеры», — писал один очевидец. Николай Набоков — однофамилец знаменитого ныне писателя — в своих «Мемуарах русского космополита» вспоминал, что в Берлине были «русские газеты, русские театры, русские школы и церкви, русские кабаре и библиотеки, русские литературные клубы, русские спекулянты, занимающиеся обменом валют, русские книжные лавки, русские художественные галереи, бакалейные лавки, магазины, где продавали фальшивые или настоящие изделия Фаберже и поддельные иконы».
Вот в эту мешанину из русской эмиграции и окунулся Есенин с первых же дней их пребывания в Берлине. Впрочем, приездом из Советской России всемирно известной танцовщицы Дункан с молодым мужем русским поэтом Сергеем Есениным, который пользуется в Москве не самой доброй славой, заинтересовались не только русские газеты. «Акулы пера» тех времен осаждали пару. Айседора в толпе репортеров чувствовала себя как рыба в воде, а вот Есенин ощущал себя, надо полагать, неуютно.
Репортер газеты «Накануне» подметил любопытную деталь:
«О чем бы вы ни спрашивали ее — о жизни в Москве, о революционных массах, об искусстве, о голоде, — разговор неизбежно возвращался к Есенину.
— Я так люблю Россию… — начинала она, а эпилог был обязательно один и тот же — Я люблю Есенина».
Можно не сомневаться, ревнивый к чужой славе вообще, Есенин был недоволен. Он завидовал известности Айседоры, и ему было неприятно, что газетчики видят в нем только молодого, к тому же не первого мужа знаменитой Дункан.
«Справедливость» следовало восстановить, и Есенин не замедлил на следующий же день после приезда устроить громкий скандал в берлинском Доме искусств на встрече с русской эмиграцией.
Его описание оставил репортер эмигрантской газеты «Накануне».
Вечер уже шел к концу. Алексей Толстой дочитывал свои превосходные воспоминания о Гумилеве. И вдруг зал заволновался, прошел шумок: «Приехал Есенин!» Он вошел с дерзким выражением лица. Вслед за ним появилась Дункан. Улыбаясь, села. Высокая, спокойная, такая чужая здесь — в клубах эмигрантского дыма.
Кто-то выкрикнул: «Интернационал!» Начался шум, свистки.
Есенин вскочил на стул и стал читать. Как писал репортер, он читал стихи «на исконную русскую тему — о скитальческой озорной душе. А тем, кто свистел, он крикнул:
— Все равно не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот и свистну — тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет.
Есенин и дальше продолжал эпатировать публику, заявив:
— В России, где теперь трудно достать бумагу, я писал свои стихи вместе с Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал их вслух на бульварах. Лучшие поклонники поэзии — это проститутки и бандиты. Мы с ними большие друзья. Коммунисты не любят нас из-за некоторого непонимания».
В эти дни на Курфюрстендам произошла встреча: Есенин шел с Айседорой и навстречу им двигалась поэтесса Наталья Крандиевская, жена Алексея Толстого, со своим пятилетним сыном Никитой.
На Есенине был смокинг, на затылке — цилиндр, в петлице — хризантема. И то, и другое, и третье, отметила Крандиевская, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по мостовой парчовый подол. Ветер вздымал лилово-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.
Есенин не сразу узнал Крандиевскую. Узнав, подбежал, схватил ее за руку и крикнул:
— Ух, ты… Вот встреча! Сидора, смотри кто…
— Кто это? — спросила по–французски Айседора. Она еле скользнула взглядом по Крандиевской и остановила свои сиреневые глаза на Никите, которого мать вела за руку.
Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на Никиту и постепенно расширенные атропином зрачки ширились все больше, наливаясь слезами.
— Сидора! — тормошил ее Есенин. — Сидора, что ты?
— О! — простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты. — О, о! — и опустилась на колени перед ним прямо на тротуар.
Крандиевская поняла все. Она попыталась поднять Айседору. Есенин помогал ей. Айседора встала и, отстранившись от Есенина и закрыв голову шарфом, пошла по улице, не оборачиваясь, не видя перед собой никого — как написала впоследствии Крандиевская — фигура из трагедий Софокла. Растерянный Есенин бежал за ней в своем глупом цилиндре.
— Сидора, — кричал он, — подожди! Сидора, что случилось?
Крандиевская знала трагедию Айседоры, знала о гибели ее детей. Дункан нашла в маленьком Никите сходство со своим погибшим сыном.
В тот год в Берлине жил Горький, и он попросил Толстого позвать его «на Есенина».
— Интересует меня этот человек, — объяснил он.
Крандиевская устроила в квартире, которую они с Алексеем Николаевичем снимали на Курфюрстендам, завтрак, на который были приглашены Дункан, Есенин и Горький.
Крандиевскую, как хозяйку, смущали три обстоятельства. Первое — чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита. Второе, что ее беспокоило, — это то, что разговор Горького с Есениным не клеился. Есенин робел. Горький присматривался к нему. В–третьих, ей внушал опасения сам хозяин дома, то и дело подливавший Айседоре в стакан водку (рюмок она для этого напитка не признавала).
Айседора пришла на завтрак в многочисленных шарфах пепельных тонов с огромным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя.
Она вскоре охмелела, предлагала всем пить за русскую революцию, чокалась с Горьким. Он хмурился, поглаживая усы, потом наклонился к хозяйке дома и тихо сказал:
— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал — удачную премьеру. Это она зря. — Помолчал и добавил: — А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.
После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть свои последние стихи. Тот любезно согласился. Горькому стихи понравились.
Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину своих шарфов, оставив два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват.
Потом поехали на двух машинах в Луна-парк. Айседора положила голову Есенину на плечо, тянулась к нему губами и лепетала, путая французские слова с русскими:
— Скажи мне «сука», скажи мне «стерва».
— Любит, чтобы я ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин, — нравится ей. И когда бью, нравится. Чудачка!
— А вы бьете? — спросила Крандиевская.
— Она сама дерется, — засмеялся Есенин уклончиво.
Воспоминания об этом дне оставил и Горький. Его зоркий взгляд все подмечал и оценивал.
«От кудрявого игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд его скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то вдруг неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им».
Не обошел вниманием Горький и танец Айседоры. Можно по-разному относиться к пролетарскому писателю, но в точности, образности и проницательности ему нельзя отказать.
«У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.
Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая к груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.
Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно.
…Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:
Излюбили тебя, измызгали…
…И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит.
Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И вновь мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно слова:
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
…Дорогая, я плачу,
Прости… прости…»
Примечательно, что Горький был не единственным, кто связывал эти стихи с Айседорой. Мариенгоф писал, что Есенин признавался его жене Никритиной: «Видишь, Мартышон, — она дочь дьявола, она иностранка!.. Мои стихи для нее тарабарщина… Я вижу это по ее глазам… Она не понимает ни слова по–русски, танцорка!»
Мариенгоф утверждает даже, что он и в жизни часто повторял: «Пей со мной, проклятая сука, пей со мной!» — и что эта обиходная фраза без изменения перешла в стихотворение.
Другой мемуарист вспоминал, как Есенин в Берлине крикнул Айседоре: «Ты сука», на что она ему ответила: «А ты кобель».
Примечателен вопрос, который Есенин задал Горькому в тот день в Луна-парке.
«Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и торопливо:
— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?
Вопрос был уместен как нельзя более — Луна-парк забавно живет и без Шиллера».
Пребывание в Берлине не пошло Есенину на пользу. С одной стороны, некоторый успех налицо: ему удалось напечатать в русской эмигрантской прессе несколько прекрасных стихотворений, заключить контракты на издание сборников своих стихов. Но есть и обратная сторона медали: его затягивает берлинская богема, друзья Дункан. Он пытается работать хотя бы по утрам, но неутомимая Айседора мешает ему, подбивает на развлечения, на пьянство. Есенин не может вырваться из круговорота кутежей, потом втягивается, сам собирает вокруг себя собутыльников.
И опять-таки умная и наблюдательная Наталья Крандиевская верно оценивает ту атмосферу, которая царила в семье Есенина—Дункан.
«Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлон» на Унтер ден Линден. — Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз тем количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения.
Отношение Дункан ко всему русскому было странно восторженным. Порой казалось: эта пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?
Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства».
Между прочим, любопытно проследить, с каких разных точек зрения в начале 20–х годов российские поэты смотрели на западную цивилизацию, на западную культуру. Урбанист Маяковский, например, попав в Европу, а потом и в Америку, чувствовал себя там как рыба в воде. А вот «последний поэт деревни» Сергей Есенин всем своим существом ощущал враждебность этого мира его понятиям, его пристрастиям.
Примером может служить письмо Есенина Шнейдеру из Висбадена 21 июня:
«Берлинская атмосфера меня издергала вконец. Сейчас от распущенности нервов еле волочу ноги…
Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся. Но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер[2]. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем не стесняясь у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно внутри, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может. Все зашло в тупик…
О берлинских друзьях я мог бы сообщить очень занимательное (особенно о некоторых доносах во французскую полицию, чтобы я не попал в Париж), но все это после. Сейчас жаль нервов…
Изадора вышла за меня замуж второй раз, и теперь она уже не Дункан–Есенина, а просто Есенина».
«Вышла замуж второй раз» — это не шутка Есенина. В Германии советский брак был признан недействительным, и им пришлось вторично сыграть свадьбу. Жаль, не осталось свидетельств, было ли на ней весело. А вот в том, что Айседора стала Есениной, он ошибался — она могла изменить в паспорте фамилию, но все равно оставалась Айседорой Дункан, всемирно известной танцовщицей. А он для Запада оставался всего лишь мужем знаменитой Дункан, хотя и успел уже приобрести некоторую известность своими выходками в Берлине.
Очередной скандал не заставил себя долго ждать.
Крандиевская вспоминала, как однажды ночью ворвался Кусиков (поэт-имажинист, прилипший в Берлине к Есенину), попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.
— Окопались в пансиончике на Уландштрассе, — сказал он весело. — Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы, смотрите, не выдавайте нас.
Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстердама. На четвертую ночь она ворвалась с хлыстом в руке, как амазонка, в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Там все спали, один только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них, в тесноте буфетов, на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры .
Увидев ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром. Айседора носилась по комнате в красном хитоне, как демон разрушения… Она бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.
— Немедленно покиньте этот бордель, — сказала она по-французски, — и следуйте за мной.
Есенин молча надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и пошел за ней. Кусиков остался в заложниках, чтобы подписать пансионный счет.
Счет прислали через два дня Айседоре в отель «Адлон». На нем стояла умопомрачительная цифра.
Упорядоченность, благополучие в жизни немцев приводили Есенина в бешенство. Он не мог мириться с бездуховностью их существования, его тошнило от их сытости, от их довольства жизнью, будоражила тоска по бесшабашной молодости, по друзьям.
Своему хорошему знакомому, издателю Сахарову Есенин писал из Дюссельдорфа:
«Что сказать мне вам об этом ужаснейшем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Кроме фокстрота здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде Господин доллар, а на искусство начихать — самое высшее мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно.
…Пусть мы нищие, пусть у нас голод, холод и людоедство, зато у нас есть душа, которую здесь за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину.
Конечно, кой-где нас знают, кой-где есть стихи, переведенные, мои и Толькины, но на кой все это, когда их никто не читает?»
Из Остенда Есенин писал Мариенгофу:
«Милый мой, самый близкий, родной и хороший! Так хочется мне из этой кошмарной Европы обратно в Россию, к прежнему молодому нашему хулиганству и всему нашему задору. Здесь такая тоска, такая бездарнейшая «северянинщина» жизни, что просто хочется послать это все к энтой матери.
…В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха. Мой цилиндр и сшитое берлинским портным манто привело всех в бешенство. Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно».
Илья Эренбург не согласился с позицией Есенина: «Он промчался по Европе и Америке, не замечая ничего… Конечно, на Западе был не только фокстрот, а проходили демонстрации с пролитием крови, был и голод, и Пикассо, и Ромен Роллан, и много всего другого».
Но то был «проевропейский Эстет» Эренбурга, а для Есенина западная культура до сих пор была пустым звуком, и, конечно, он испытал сильное потрясение, когда столкнулся с ней лицом к лицу. Его неприятие европейской цивилизации в значительной степени проистекало от желания найти какую-то опору для самозащиты.
Такую опору Есенин находил в отрицании всего инородного. На экземпляре книги «Ключи Марии», подаренном поэту Евгению Соколову, он написал: «Я люблю Россию. Прости меня, но в этом вопросе я шовинист».
В его любви к России, которую он так прокламировал, были элементы узкого национализма. Еще в 1921 году он говорил Ивану Розанову: «Мои лирические стихи живы одной великой любовью — любовью к моей родине. Ощущение родины — основное в моем творчестве».
Розанов по этому поводу сделал один вывод, часто цитируемый: «Я думаю, что три любви двигали и вдохновляли его: любовь к славе, к стихам и к родине. Ради этих трех привязанностей он готов был пожертвовать всем остальным».
Последние слова особенно примечательны — обостренный патриотизм Есенина питал именно это неприятие культуры других стран и народов.
Любопытный штрих — Есенин, которого в Берлине все не интересовало, попросил Николая Набокова повести его и его «Кобылу» или «Суку» в клуб педерастов. «Мейерхольд говорил мне, — обронил он, — что они занимаются содомией прямо на сцене».
В полумраке клуба Набоков заметил грубо раскрашенных педерастов в коротких рубашках и белых передничках, с розовыми лентами в своих париках. Они ходили с подносами, присаживаясь к столикам. Есенин, попивая шампанское с водкой, рассматривал педерастов изумленными глазами. «Было видно, что Есенин пьян, он вел себя все более шумно и буйно». Когда граф Кесслер, сидевший за соседним столиком, стал его разглядывать, Есенин закричал: «Скажи ему, чтобы он перестал смотреть на меня влюбленными глазами, а не то я ему врежу!»
Набоков, который сам тоже немало выпил, запомнил еще «красное разгневанное лицо Изадоры, когда она пыталась ударить Есенина по голове бутылкой водки».
В Берлине на Есенина все чаще наваливались приступы депрессии. Как свидетельствуют некоторые очевидцы, временами Айседора обнаруживала, что ей трудно справиться с Есениным, поскольку он впадал в типично русскую меланхолию. Очень часто он влезал на подоконник и угрожал выброситься на тротуар. Ее это только лишний раз убеждало, что он действительно обладает артистическим темпераментом, и, опасаясь, что он испытывает одиночество без своих соотечественников, она наняла двух весьма нуждающихся поэтов на должность секретарей с довольно высоким жалованьем.
Мари Дести пишет: «Одно из первых дел, которые сделала Изадора в Берлине, это она открыла Есенину неограниченный кредит у портных. Результат был несколько неожиданным — она обнаружила, что он заказал себе столько костюмов, сколько ни один человек не износит за всю свою жизнь. Тем не менее она сказала: «Он такой ребенок, и он вырос в нужде. Я не могу упрекать его за это».
Есенин с головой окунулся в прелести цивилизации. Он каждый день требовал ванну, шампуни, одеколон, пудру, духи.
Дункан и Есенин выглядели весьма забавно, когда общались друг с другом большей частью знаками. Однако постепенно они создали некое подобие примитивнейшего языка, который понимали они одни, но который выручал их в любых случаях.
В Берлине отношения между Есениным и Дункан становились все более напряженными. Ссоры и скандалы участились. Одним из свидетельств этого стало появление Айседоры в Берлинском доме искусств с черным пластырем на глазу, прикрывавшим синяк, полученный от ее благоверного.
Илья Эренбург, время от времени встречавшийся с Есениным и Дункан в ту пору, отмечал, что Дункан изо всех сил старалась помочь Есенину. По словам Эренбурга, «она не только обладала большим талантом, но и человечностью, нежностью и тактом, но он был бродягой-цыганом, который больше всего боялся постоянства сердца».
В другом случае Эренбург писал: «Есенин провел в Берлине несколько месяцев, изнывая и скандаля. Его неизменно сопровождал поэт-имажинист Кусиков, который играл на гитаре и заявлял: «Люди говорят обо мне, что я негодяй, что я хитрый и злой черкес». Они пьянствовали и пели. Изадора тщетно пыталась утихомирить Есенина, но одна такая сцена следовала за другой… Есенин в отчаянии бил посуду».
Недовольство Есенина окружающей его обстановкой было вызвано еще и тем, что он не знал немецкого языка и не пытался его выучить (равно как позднее было с французским, итальянским и английским). Это усугублялось и его ревностью к славе Айседоры — публика уделяла ей гораздо больше внимания, чем ему, несмотря даже на его скандалы.
После берлинских запоев Есенин чувствовал себя совсем плохо, и Айседора решила увезти его в Висбаден, известный бальнеологический курорт, чтобы поэт там отдохнул, пришел немного в себя, подлечился.
Именно там, в Висбадене, врач, обследовавший Есенина, дал заключение, что здоровье его серьезно пошатнулось, пациент должен хотя бы на два, а лучше три месяца бросить пить, иначе у мадам Дункан будет на руках законченный маньяк. Есенин, который только что пережил нервный срыв и страдал от неврита, обещал выполнить предписания врача.
Через некоторое время, а именно 13 июля, Есенин писал Илье Шнейдеру из Брюсселя: «Если бы вы видели меня сейчас, вы, наверное, не поверили бы своим глазам. Скоро месяц, как я уже не пью. Дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению, но теперь и это кончилось».
В Висбадене Айседора наняла переводчицу — молодую полячку Лолу Кинель. В отеле «Роз» , где остановилась Дункан, Лола Кинель впервые увидела танцовщицу, изящно раскинувшуюся на кушетке.
«Через некоторое время, — вспоминала Лола Кинель, — из соседней спальни вышел молодой человек в белой шелковой пижаме. Он выглядел как русский танцовщик из американского водевиля: бледно-золотые кудрявые волосы, наивные голубые глаза, весьма сильное мускулистое тело… Это был Есенин. Позднее я обнаружила, что он не всегда наивен. Он был застенчив, и подозрителен, и инстинктивно умен. К тому же он был очень впечатлителен, просто как ребенок, весь искрученный и полный комплексов — крестьянин и поэт в одном лице».
Кинель писала, что поняла тогда, почему у Есенина лицо землистого цвета и синеватые губы и почему он часто бывает так напряжен. «Он пил несколько лет, пил тяжело, как пьет большинство русских, и эта неожиданная остановка в пьянстве должна была сильно сказаться на его нервах».
И вообще в семействе Есенина-Дункан далеко не все было безоблачно. Лола Кинель вспоминала об одном вроде бы незначительном, но довольно характерном эпизоде, случившемся в Дюссельдорфе.
Дело было на третий день после того, как Лола поступила на службу к Дункан. В три часа ночи в номер, расположенный рядом с номером Айседоры, раздался стук в дверь. Лола проснулась и спросила:
— Кто там?
— Это я, Изадора. Впусти меня.
Лола вылезла из постели и открыла дверь. Дункан ворвалась в номер, глянула на Лолу, потом на ее постель и наконец выдавила из себя:
— Есенин исчез.
— Вы в этом уверены? — спросила Лола.
— Он ушел, — ответила танцовщица. — Я нигде не могу найти его.
— Может быть, он в туалете?
— Нет, — презрительно отозвалась Дункан. — Я там смотрела.
Она вышла так же поспешно, как и появилась. Лола схватила свое кимоно и последовала за Айседорой, потому что волнение Дункан передалось и ей.
Дункан быстрыми шагами пересекла холл до маленькой спальни, где спала ее горничная Жанна. Айседора постучала в дверь и, как только дверь открылась, ворвалась в комнату, оглядела постель и сказала по-французски:
— Месье исчез.
— У меня его нет, — пробормотала испуганная Жанна.
Айседора резко повернулась на каблуках и вышла из комнаты. Лола и Жанна последовали за ней. Все трое остановились в большом салоне Дункан и стали совещаться. Айседора стояла на том, чтобы немедленно сообщить портье и объявить розыск. Лола, сама не зная почему, не соглашалась. Вдруг ей пришла в голову неожиданная мысль — она вышла на середину салона и громко сказала по-русски:
— Сергей Александрович! Где вы?
— Здесь я, — отозвался Есенин.
Они бросились на звук его голоса и обнаружили, что за тяжелой портьерой на узком балкончике стоял Есенин. Он, оказывается, вышел подышать воздухом.
Все разошлись по своим комнатам, и уже когда Лола ложилась спать, она задумалась: почему Айседора искала Есенина в ее постели? А потом в постели Жанны? И тут ее осенило — Дункан ревнует Есенина и подозревает, что он может залезть в постель к кому-нибудь из молодых женщин.
Впрочем, Есенин тоже ревновал Айседору, но он ревновал к ее прошлому.
Лола Кинель вспомнила, что среди одиннадцати чемоданов, которые Дункан возила с собой, был один, в котором хранилась любовная переписка, ее любимые книги, бесконечное число фотографий, программы ее концертов, вырезки из газет с восторженными отзывами о ее выступлениях. Короче говоря, это был архив великой актрисы и женщины. Или великой куртизанки, как подумала Лола, когда по просьбе Дункан занялась разборкой этого чемодана. Лоле Дункан действительно представлялась величайшей куртизанкой их времени во всем величии этого слова.
«Там было множество фотографий мужчин, — вспоминала Лола, — умных мужчин, старых мужчин, мужчин среднего возраста, молодых мужчин. Прекрасных мужчин. Я никогда в жизни не видела столько великолепных портретов, столько впечатляющих лиц. Одно из них до сих пор преследует меня. Это был молодой человек. Я сунула его в альбом лицом вниз. Я поступила так после того, как однажды Есенин вошел в комнату, увидел все эти фотографии и побледнел, белки его глаз налились кровью — явное свидетельство того, что он раздражен».
Тем временем путешествие по Европе продолжалось. Они побывали в Бельгии, потом добрались до Парижа. Там Айседора и Сергей провели в Париже два месяца, выезжали в Италию.
В Бельгии Дункан дала представления в «Ле Монне», большом оперном зале. Все три концерта прошли с огромным успехом. Критики писали, что год, проведенный ею в России, омолодил ее, она сбросила двадцать фунтов и выглядела на двадцать лет моложе. Айседора в шутку отвечала, что во всем виноваты трудности с едой в России.
Лола Кинель оставила описание одного из этих концертов. Оно представляет интерес не как мнение изощренного критика-театроведа, а как непосредственное восприятие простого зрителя.
«Я работала с Изадорой и Есениным целый месяц, прежде чем увидела, как она танцует. Это произошло в Брюсселе, где у нее был ангажемент на три концерта. Должна признаться, что по мере того, как день представления приближался, мое возбуждение и любопытство усиливались странным страхом. Изадора уже женщина средних лет и довольно полная, и хотя неповторимая грация отличала каждое ее движение и поражала мое воображение, я боялась, что меня постигнет разочарование, когда я увижу ее танец… Кроме того, у нее было так мало времени на приготовления к представлению. Я работала у нее всего несколько недель и ни разу не видела, чтобы она ограничивала себя в еде или вообще занималась тем, чем обычно занимаются танцоры, когда готовятся к спектаклям…
Зал был переполнен, и в нем царила напряженная атмосфера, как всегда, когда зрители ожидают чего-то особенного.
Занавес раздвинулся, и открылась пустая сцена, если не считать возвышения в дальнем углу, где сидел пианист. Сцена была окутана знаменитыми синими занавесями Изадоры…
Когда затих неизбежный гул голосов, пианист начал играть. В противоположном краю кулис занавеси раздвинулись и появилась Изадора…
Здесь я подступаю к самой трудной части моей книги, ибо кому под силу описывать магию ее танца? Я помню только, как меня охватило очарование, которое можно сравнить только с религиозным экстазом. Все мои страхи улетучились, как будто их и не было…
Если кто-нибудь попросит меня описать ее танцы, я затруднюсь сделать это. Каждый танец представлял собой маленькую законченную композицию, полную чувства и значения. Не было ни одного лишнего жеста или движения: как все гении, она достигала максимального эффекта при минимальных усилиях. В ее танце не было ничего, что можно было бы назвать «хорошеньким» или «вычурным», каждая линия отличалась благородной простотой и великолепием. В конечном счете я даже затрудняюсь назвать это танцем, хотя движения ее переходили от медленных жестов до высоких прыжков, но не было среди них ничего такого, что можно было бы назвать шагом. Одно движение вытекало из другого с такой же естественностью, как листья вырастают из дерева, и каждый танец был единой прекрасной плавной линией, магическим течением движений, каждое из которых являло собой композицию, достойную резца великого скульптора.
К тому же каждый танец не был заявлен, все они имели глубокое значение. Они, похоже, раскрывали все чувства, с которыми человек или человечество вообще проходят через жизнь. Они были универсальны. Например, была одна прелюдия Шопена, в которой Изадора просто ходила из одного конца сцены в другой. Как описать эту дюжину шагов, составлявших одну непрерывную линию? Их можно было назвать «Отчаяние, Смерть и Воскресение» или «Страдание и Радость». Начинался этот танец с плавных движений, темп то снижался до полного покоя, то обретал внутреннюю силу, медленно доходя до вершины. Был в ее репертуаре и знаменитый шубертовский «Музыкальный момент», где все прекрасные чувства материнства, казалось, нашли воплощение в нескольких простых, незабываемых движениях. Может ли кто-нибудь забыть непередаваемую грацию ее прекрасных рук, которыми она как бы укачивала ребенка и которые так давно были пустыми? А потом были вальсы Брамса, особенно потрясающим был один, когда Изадора представляла Богиню радости, рассыпая цветы вокруг себя… Могу поклясться, что видела на сцене детей, хотя я и знала, что их там нет и быть не может… Там танцевала и улыбалась Изадора, наклоняясь радостно вправо и влево… Это была чистая магия».
Там же, в Брюсселе, Лоле Кинель довелось услышать, как Есенин читает свои стихи и какова сила его воздействия на слушателей.
«В Брюсселе я впервые услышала чтение Есенина на публике. До этого он читал вслух некоторые свои стихи, обычно одну или две строчки, когда мы готовили тексты первого большого тома его стихов, издававшегося в Берлине. Думаю, что он читал их мне, чтобы проверить реакцию на эти строки. Он остро взглядывал на меня, изучая мое лицо. Он редко верил тому, что люди говорили ему, и у него был свой способ «выяснять». Его глаза сужались, превращались в синие щели, он наблюдал, задавая наивные вопросы и притворяясь глупеньким… Он читал хорошо, варьируя свой голос, интонацию, часто меняя акцент…
Но в Брюсселе я ощутила в полной мере, насколько он великолепен. Это было после последнего выступления Изадоры, мы устроили небольшую вечеринку в отеле. Там присутствовала сестра Изадоры Элизабет, приехавшая со своим другом из Берлина, менеджер Исайя, пианист, несколько друзей, Есенин и я.
Изадора, одетая в одну из своих греческих туник, полулежала на кушетке. Она выглядела молодой и очень красивой. Это был приятный, веселый ужин, все были в хорошем настроении. Даже Есенин, который не мог принять участие в общем разговоре, был весел и улыбался.
После ужина он по просьбе Изадоры согласился читать стихи. Он ушел в дальний угол комнаты, повернулся к нам лицом и начал читать. Он выбрал отрывки из драматической поэмы «Пугачев». Эта поэма считается самым крупным произведением Есенина и действительно представляет собой законченную драму в восьми сценах.
Я тут же подпала под очарование этих стихов; голос Есенина, южно–русского крестьянина, мягкий, слегка протяжный, звучал с необычайной широтой регистра, от нежного журчания до невообразимо диких, хриплых выкриков. Есенин был Пугачевым, пытанным казаком… поначалу много страдавшим, терпеливым, обманутым, а потом диким, хитрым, раздраженным, страшным в гневе и жажде свободы и мести… а в конце, когда его предали, робким и жалким… Есенин-Пугачев жаловался в напевном шепоте, кричал, плевался и богохулил, его тело содрогалось в едином ритме со стихами, пока не стало казаться, что вся комната вибрирует вместе с взрывами его чувств, потом, потерпев поражение, он падал… он плакал…
Мы все сидели молча… Долгое время никто из нас не мог поднять руки, чтобы зааплодировать, потом тишина была нарушена взрывом восторга… Я единственная из всех присутствующих знала русский язык и могла услышать музыку его слов, но все почувствовали силу его эмоций и были потрясены».
27 июля Есенин и Дункан прибыли в Париж. Там они провели всего несколько дней и выехали в Италию. Из Венеции Есенин написал письмо сестре Екатерине, явно указывающее на развивающуюся в его мозгу манию преследования: «Язык держи за зубами на все исключительно, на все, когда тебя будут выпытывать, отвечай «не знаю». Помимо гимназии ты должна проходить школу жизни, и помни, что люди не всегда есть хорошие.
Думаю, что ты не дура и поймешь, о чем я говорю.
Обо мне, о семье, о жизни семьи, о всем и о всем, что очень интересно знать моим врагам, — отмалчивайся».
Откуда возникла эта параноидальная мысль о врагах, представить трудно. Наверное, это все-таки одно из первых проявлений психического заболевания. Там же, в Италии, у Есенина состоялся примечательный разговор с одной дамой, Нелли Павловой, разговор, о котором она оставила запись.
«… Я помню то чувство, с которым я посетила этих двух людей в Риме, в одном из самых дорогостоящих отелей в этом городе.
Изадора была все еще прекрасна, все еще высокая и гибкая, в эту осень ее жизни, рядом с ней Есенин с мечтательными голубыми глазами, думающий о бедном, но справедливом мире… Я спросила его, обрел ли он наконец счастье в своей жизни. Он ответил на своем родном языке, слегка отвернувшись, словно желая избежать нежного и огорченного взгляда Изадоры. «Счастье — это гладкое слово в тени наших мечтаний… Когда я смотрю на этот мир с его тиранией, я предпочитаю залить свои глаза вином, только чтобы не видеть его рокового лица».
14 августа Изадора и Есенин опять были в Венеции. Лола Кинель рассказывала в своих мемуарах об одном вечере, когда они катались на гондоле, а Есенин предавался воспоминаниям:
«… Ночь была прекрасна, небо усыпано звездами, вода в лагуне напоминала огромную сверкающую черную простыню.
Изадора сидела в одиночестве под бархатным балдахином, очень спокойная — с той очаровательной грацией, которая заставляла думать о ней, как об ожившей прекрасной статуе. В сумраке можно было видеть изгиб ее белой полной шеи, обе руки покоились на борту гондолы. Все остальное скрывалось в тени.
Мы с Есениным сидели на корме, и он рассказывал мне о своей жизни — рассказывал очень просто и отстраненно, как если бы он говорил о ком-то постороннем. Тишина венецианской ночи была такой полной, что далекая песня гондольера и всплески волн, казалось, только подчеркивали эту тишину. Голос Есенина звучал почти как шепот, журчащий шепот, рассказывающий невероятные, волшебные сказки.
Он рассказывал о детстве бедного, босоногого крестьянского мальчика — о своем детстве … о прекрасных лицах и о самом прекрасном лице, какое он когда-либо видел, лице молодой монашки из русского монастыря, лице, которое было простодушным и чистым… о женщинах, о монастырях, о словах, которые живут, и о других, умерших, о языке простых людей, крестьян, странников, воров, который всегда жив, о многих других вещах…
Говорил он тихо, глаза были мечтательны, и виделось в нем нечто заставляющее думать, что у него душа ребенка, таинственным образом мудрого и удивительно нежного.
По дороге домой Есенин и я пели русские народные песни, и гондольер, несколько удивленный тем, что мы составили ему конкуренцию, от всей души аплодировал нам. Некоторое время спустя Есенин, будучи все еще в разговорчивом настроении, снова заговорил о России. Но теперь это был другой Есенин. Тот человек, поэт, выглядевший простым и наивным и каким-то образом мудрым, которого я знала только час или два, исчез. Рядом со мною был обычный известный мне Есенин: вежливый, необщительный, изображающий из себя дурачка, но замкнутый, с хитринкой в уголках глаз».
Как это ни прискорбно, но приходится признать, что двуликость Есенина действительно время от времени вылезала наружу, и очевидцы это подмечали. Так, например, вопреки всем проклятиям, которые Есенин обрушивал на западную цивилизацию за ее бездуховность, как он ни возмущался тем, что в Европе интересуются только фокстротом, а книг никто не читает, он весьма ревниво относился к переводу и изданию своих книг на Западе. Он прекрасно понимал, в частности, что появление его стихов в переводе на английский язык означает выход его, русского поэта, на мировую арену.
Когда вся компания жила в Венеции в самом фешенебельном отеле на Лидо, Есенин попросил Лолу Кинель перевести некоторые из его стихотворений на английский язык. Кинель нехотя согласилась, хотя объясняла поэту, что переводить его стихи на другие языки — занятие бесперспективное, поскольку они слишком национальны по духу и по форме. Тем не менее, уступая настойчивым просьбам Есенина, Лола Кинель согласилась попробовать.
«На следующий день, — вспоминала Лола Кинель, — я принесла перевод одного стихотворения Есенина в комнату Изадоры и прочитала им вслух. Есенин жадно, с профессиональным интересом следил за лицом Изадоры, а она со всей добротой и деликатностью, на которые была так способна, улыбалась и всячески показывала, что довольна. Иногда она пыталась помочь мне, так как ее английский был лучше и свободнее, чем мой, и она в своей жизни прочитала гораздо больше стихов, чем я. Я передавала стихотворение чистой прозой, а она пыталась внести в этот перевод какой-то ритм. И как всегда, она старалась скрыть свое разочарование. Когда дело касалось его поэзии, Есенин был чрезвычайно чувствителен, а причинить ему боль было все равно, что ударить ребенка…
Однажды я спросила Есенина, почему он так заинтересован в переводе его стихотворений на английский язык.
— Неужели вы не понимаете, — отозвался он, удивляясь моему вопросу, — сколько миллионов людей узнают про меня, если мои стихи появятся на английском языке? Сколько людей могут прочитать меня на русском языке? Двадцать миллионов, может быть, тридцать… Наши крестьяне поголовно безграмотны. А на английском языке?
Он развел руками, глаза его блестели…»
Лола Кинель вернула поэта на землю своим замечанием:
— Я думаю, что пусть лучше только малая часть человечества прочитает ваши стихи в оригинале, чем весь мир узнает их в переводах. Перевод никогда не передаст их очарование и никогда не будет столь же прекрасным.
Когда Есенин услышал эти слова, его лицо осунулось и стало серым. По признанию Лолы Кинель, она чувствовала себя убийцей.
Однажды в эти дни Лола Кинель записала примечательный разговор поэта с танцовщицей.
«За время пребывания в России Изадора выучила несколько слов по-русски. Она придумала свой собственный причудливый язык, искаженный, наивный, ломаный, но по-своему очаровательный. Этого языка было достаточно для повседневного общения с Есениным. Однако для каких-либо серьезных разговоров этого исковерканного русского языка оказывалось явно недостаточно. Тогда они призывали меня для устного перевода.
Однажды у них зашел разговор об искусстве. Есенин сказал:
— Танцовщица никогда не станет великой, потому что ее слава не живет во времени. Она умирает вместе с танцовщицей.
— Нет, — не согласилась Изадора. — Танцовщица, если она великая, может дать людям нечто, что они пронесут с собой всю жизнь. Они ее никогда не забудут, ее искусство изменило их, хотя они могут об этом и не догадываться.
— А когда эти люди уйдут, Изадора? Люди, которые видели ее? Танцовщики как актеры: одно поколение помнит их, следующее поколение читало о них, а третье уже ничего не знает.
Я переводила, Изадора слушала внимательно и с симпатией, как всегда, когда она слушала Есенина. Он медленно встал, прижался к стене, раскинув руки, — такая у него была привычка, когда он говорил, — нежно посмотрел на нее и сказал:
— Ты только танцовщица. Люди могут приходить и восхищаться тобой — даже плакать. Но после того, как ты умрешь, никто тебя не вспомнит. За несколько лет твоя слава растает… Нет Изадоры!
Все это он говорил по-русски, предоставляя мне переводить, но последние два слова он произнес с английской интонацией, бросив их в лицо Изадоре, сопровождая их очень выразительным, насмешливым движением рук, словно он бросал останки Изадоры на все четыре ветра…
— А поэт живет, — продолжал он, улыбаясь. — Я, Есенин, оставлю после себя стихи. И они будут жить. Такие стихи, какие я пишу, будут жить вечно.
За насмешливым, поддразнивающим тоном скрывалось нечто крайне жестокое. Когда я перевела то, что он сказал, на лицо Изадоры набежала тень. Потом она неожиданно обернулась ко мне и очень серьезно сказала:
— Скажи ему, что он не прав. Скажи, что он ошибается. Я дарю людям прекрасное. Когда я танцую, я вкладываю всю свою душу. И это прекрасное не умирает. Оно где-то живет. — Неожиданно ее глаза подернулись слезами, и она добавила на своем коверканном русском языке: — Красота не умирает.
А Есенин, уже вполне удовлетворенный эффектом своих слов — иногда его охватывало болезненное желание уязвить Изадору или унизить ее, — стал сама нежность. Характерным жестом он притянул кудрявую голову Изадоры к себе и похлопал ее по спине, шутливо сказав:
— Эх, Дункан…
Изадора улыбнулась. Все было забыто».
Вскоре после этого Есенин прочитал вслух несколько стихотворений Пушкина. Потом он заметил:
— Ты знаешь, большевики запретили использовать слово «Бог» в печати.
— Большевики правы. Бога нет. Все это старые глупости, — ответила с запинкой Дункан по-русски.
Есенин ухмыльнулся и с насмешливой иронией, словно разговаривая с ребенком, который тужится казаться умным и взрослым, сказал:
— Эх, Изадора! Ведь все от Бога. Поэзия и даже твои танцы.
— Нет, нет, — настаивала Дункан уже по-английски. — Скажи ему, что мои боги красота и любовь. Других не существует. Откуда ты знаешь, что Бог есть? Греки знали это давным-давно. Люди придумали себе богов, чтобы утешать себя. А их нет. Нет ничего за пределами наших знаний. Мы их только изобретаем или воображаем. Ад находится здесь, на земле. И рай тоже.
Она выпрямилась, похожая на кариатиду, прекрасная, блистательная и устрашающая. Неожиданно она вытянула руку и, показывая на постель, сказала по-русски, с огромной силой в голосе:
— Вот Бог.
Ее рука медленно опустилась. Она повернулась и вышла на балкон. Есенин сидел в кресле, бледный, молчаливый, совершенно уничтоженный.
С сожалением приходится признать, что Есенин бывал способен в отношении Дункан на ни чем не вызванную жестокость. Один мемуарист писал, что иногда Есенин наносил ей очень болезненный удар: он язвительно и с пренебрежением говорил о ее вечном трауре по погибшим детям. Однажды Есенин позволил себе такую резкость в Венеции. Мемуарист объяснял это ревностью, которую тот испытывал, когда сравнивал ее прошлую жизнь со своей. Есенин был уверен, как не раз говорил он Айседоре, что он единственный гений в России. Ее искусство, как и ее прошлое, — это то, что он хочет подчинить своей поэзии и своей жизни.
Другой современник рассказывал (правда, с чужих слов) об эпизоде, имевшем место в Берлине.
Однажды Есенин вернулся в отель и застал свою жену плачущей над альбомом с фотографиями ее детей. Он грубо вырвал альбом из ее рук и швырнул его в горящий камин с пьяным криком:
— Ты тратишь слишком много времени, думая об этих … детях!
А в Венеции тем временем атмосфера накалялась. Супружеская пара Есенин-Дункан обычно проводила свое время в пляжном домике рядом с отелем, где они жили. Сохранились фотографии, сделанные, как предполагают, в августе 1922 года. На них запечатлен Есенин в свободно сидящей на нем светлой пижаме и несколько пополневшая Дункан. На одной из фотографий видно, как Айседора крепко держит Есенина за руку. Как собственница. А у Есенина нервы напряжены до предела — он с трудом удерживает себя от запоя. Любовь Айседоры, нежная и добрая, тоже несколько раздражала его постоянным посягательством на его свободу.
Однажды Есенин заявил, что хочет отправиться на прогулку, на что Дункан немедленно объявила, что либо она сама, либо горничная Жанна, либо Лола Кинель будут сопровождать его. Есенин сердито отозвался:
— Я иду один. Я хочу побыть один. Я просто хочу погулять один.
Айседора воскликнула:
— Я не пущу его одного. Он может убежать. Такое уже было в Москве. А тут кругом женщины!
В комнате воцарилось молчание, потом Есенин неожиданно упал в кресло и очень спокойно обратился к Лоле Кинель:
— Скажите ей, что я никуда не иду.
Дункан всхлипнула, Есенин бросился на постель лицом вниз, а она принялась целовать его голые пятки. Кинель предпочла ретироваться.
А на следующий день Есенин запил после более двух месяцев воздержания. Они нашли его в пляжном домике. Есенин сидел, перед ним стояла бутылка шампанского, лицо у него было серым и опухшим.
После этого Есенин сбежал из отеля. Айседора вместе с Лолой Кинель отправились на поиски, предварительно осушив бутылку шампанского.
«Прошел час, второй, — вспоминала Кинель, — Изадора время от времени становилась разговорчивой. Вино привело ее в мечтательное настроение. Она начала с юмором и иронией рассказывать о своих любовниках, о странностях судьбы, которая посылала ей в любовники только эксцентричных мужчин. Она обсуждала со мной наилучший способ самоубийства — поскольку именно это она решила совершить, если мы найдем Есенина мертвым. При этом она хрустела подсоленным миндалем».
Когда они вернулись на пляж отеля, Дункан, растянувшись на песке, сказала:
— Нет, я не думаю, что мне следует кончать жизнь самоубийством, мои ноги все еще прекрасны.
А Есенин тем временем благополучно вернулся в их номер в отеле, после того как хорошо выспался под кустом в саду. При этом он снова стал настаивать на своем желании прогуляться одному.
Пребывание Есенина и Дункан в Италии подходило к концу. Сергей Александрович, надеясь обрести в Париже большую свободу, попросил Лолу Кинель перевести Айседоре его требования.
— Когда мы приедем в Париж, я хочу иметь собственный ключ от дома. Я хочу приходить и уходить, когда мне заблагорассудится, и хочу гулять один, если мне так нравится. Никаких приказов. Я не болен, и я не ребенок. Скажите ей это. Я желаю иметь абсолютную свободу — даже других женщин, если захочу. Я не собираюсь сидеть взаперти в отеле, как невольник. Если я не могу делать то, что хочу, я уеду. Я могу здесь сесть на пароход до Одессы. Я хочу обратно в Россию. Будет интересно познакомиться с этими француженками… Я так много слышал о них.
Это последнее замечание было высказано тоном капризного ребенка, который ужасно хочет попробовать новое пирожное, о котором уже слышал.
Вот тут-то Лола Кинель взорвалась и бросила Есенину в лицо:
— А вы порядочная сволочь!
Накануне вечером она не отправила две телеграммы, сочиненные пьяным поэтом двум своим литературным друзьям — одному в Москву, другому в Берлин — с призывом немедленно приехать.
На следующий вечер Дункан и Есенин решили выехать в Берлин — без Лолы Кинель. Айседора объяснила ей, что Есенин теперь ненавидит ее и не доверяет.
После работы у Дункан и Есенина, которая продолжалась два месяца, обычная жизнь показалась ей серой.
Зная русский язык, Лола могла понимать Есенина гораздо лучше, чем Мари Дести или Ирма Дункан. «Путешествуя вместе с Изадорой и Есениным, — писала она впоследствии, — я имела больше возможностей видеть подробности их жизни, потому что я была не только секретарем, но и переводчицей, постоянным посредником между ними, поскольку эти два человека не могли разговаривать друг с другом непосредственно. Изадора не знала русского языка, а ее муж Сергей Есенин говорил только по-русски. Поэтому я должна была переводить все на свете, начиная со споров о Боге и кончая тем, как мужчины и женщины в разных странах спят друг с другом».
Если Есенин хотел прикоснуться к прошлому Дункан, то Париж как нельзя лучше подходил для этого. Париж занимал особое место в сердце Айседоры. Здесь она выступила в 1900 году, когда ей было всего двадцать три года, здесь она встретила миллионера Париса Зингера и открыла школы в Нейли и Бельвью. Здесь же утонули ее дети. К концу жизни Париж стал ее любимым домом.
Есенин в Париже тоже чувствовал себя уютнее, чем в Берлине. Впоследствии, в 1924 году, он говорил:
— Сначала я жил в Берлине и очень тосковал там… Париж это совсем другое дело. Жизнь в Париже веселее и дружественнее. Ты идешь по бульварам, и все улыбаются тебе, как будто ты им самый старый друг.
Однако — и это типично для него — он утверждал, что деревья в Париже унылые, поля слишком аккуратные и чистенькие, земля ничем не пахнет, а людям, если они и вежливы, не хватает «русской души».
Довольно мрачную картину жизни Есенина с Дункан во Франции нарисовал Сисли Хадльстон в своей книге «Литературная и общественная жизнь богемы в Париже»: «Они приехали в Париж. Брак явно был несчастливым. Поскольку ничто в жизни Изадоры Дункан не могло оставаться тайным, поскольку она представала перед публикой в самом разном настроении, то любое обстоятельство, любой неприятный эпизод, который мы видели или о котором нам рассказывали, оказывался непередаваемо грустным. Беды ее семейной жизни становились предметом пересудов всего Парижа — ссоры в отелях, уходы Есенина, сцены в ресторанах… Есенин вел себя отвратительно…
В Париже я видел его элегантно одетым, но отсутствие воспитания в нем проявлялось в грубости поведения, в хриплом голосе. Его чувство юмора было неопределенным и мрачным. Его съедало отчаяние, и это отчаяние быстро захватывало Изадору, которая страстно его любила, но при этом была уверена, что их союз проклят и приведет к трагической развязке».
Отчаяние и неизбежность трагического конца ощущал и бельгийский писатель Франц Хеленс, который в то время работал вместе со своей русской женой над переводом на французский язык стихотворений Есенина. Хеленс рассказывал о своих встречах с Айседорой и Сергеем в Париже.
«Я видел их почти каждый день, иногда в маленьком доме Изадоры на Рю де ла Помп, а иногда в отеле «Крийон»… Если в «Крийоне» Есенин вел себя как человек светский, ничем не выделяясь в этом обществе, столь мало пригодном для него, то в интимной обстановке маленького дома он чувствовал себя больше в своей тарелке, выглядел более естественным, более приятным…
Я думаю, что не было другой женщины в мире, которая бы лучше Изадоры понимала свою материнскую роль, когда везла Есенина в Европу и выходила за него замуж. Это был возвышенный акт, ибо он для нее означал жертву и предвещал горе. Она не питала иллюзий, понимая, что время мучительного счастья будет коротким; что они будут жить в обстановке драматической неуверенности; что рано или поздно этот дикий парень, такой ей нужный, соберется с силами и разрушит — скорее всего грубо — любовное попечительство, отказаться от которого она не в силах. Дело в том, что Изадора страстно любила поэта. Я видел, что эта любовь, даже в самом ее начале, граничила с отчаянием.
Помню вечер, когда мне открылась драма этих двух существ и подлинный характер Есенина.
Я приехал, когда они еще сидели за столом, и нашел их в состоянии странного и мрачного юмора. Они почти не разговаривали со мной. Они прижимались друг к другу, как два молодых любовника, и ничто не говорило о ссоре. Спустя несколько минут Изадора сказала мне, что прислуга отравляет им жизнь, что вчера вечером случилась непереносимая для нее сцена, чрезвычайно расстроившая ее. Она нервничала больше обычного… Есенин вбил себе в голову, что ее надо напоить. У него не было дурных намерений, совсем наоборот. Он себе именно так успокаивал свои нервы. Он вкрадчиво, мягко поднимал бокал к губам своей жены. Когда влияние алкоголя дало себя знать, я прочитал в чертах лица танцовщицы отчаяние, которое она обычно умела скрывать под личиной спокойствия и улыбки.
В тот вечер я понял, что эти два человеческих существа, несмотря на все различия между ними, никогда не разойдутся без трагедии».
А впереди Есенина и Айседору Дункан ждало еще одно тяжелое испытание — поездка по Америке.
Глава IX «МОЕ ВАТЕРЛОО»
Именно так образно назвал свое путешествие в Америку Сергей Есенин в разговоре с Анатолием Мариенгофом по возвращении в Москву. Он ехал в Соединенные Штаты, полный надежд, что молодая страна Америка в отличии от одряхлевшей Европы примет его, русского поэта, поймет и оценит по достоинству.
Перед тем как подняться на борт океанского лайнера «Париж», Есенин с Дункан подготовили совместное заявление, исполненное оптимизма.
Это заявление вызвало интерес американской прессы. Газеты широко цитировали из него такой абзац:
«Мы направляемся в Америку с одной-единственной целью — рассказать о русском самосознании и трудиться над тем, чтобы сблизить две наши великие страны. Никакой политики, никакой пропаганды. Более всего мы хотим подчеркнуть тот факт, что есть только две страны — Россия и Америка. Быть может, искусство станет посредником для утверждения русско-американской дружбы».
Другие американские газеты выделили из заявления Дункан и Есенина другую часть, и она действительно имела принципиальное значение: «В нашем путешествии мы пересекли всю Европу. В Берлине, Париже и Лондоне мы не нашли ничего кроме музеев, смерти и разочарования. Америка — наша последняя и самая большая надежда».
Это предощущение Есенин подтвердил, уже вернувшись из Америки в Россию. В очерке «Железный Миргород», опубликованном в августе — сентябре в газете «Известия», он писал:
«Я объездил все государства Европы и почти все штаты Северной Америки. Зрение мое переломилось, особенно после Америки. Перед Америкой мне Европа показалась старинной усадьбой».
Более всего на Сергея Есенина произвели впечатление американские масштабы. На лайнере «Париж» он был прежде всего потрясен размерами корабельного ресторана, который «площадью немного побольше нашего Большого театра… Я шел через громадные залы специальных библиотек, шел через комнаты для отдыха, где играют в карты, прошел через танцевальный зал, и минут через пять, через огромнейший коридор, спутник подвел меня к нашей кабине. Я осмотрел коридор, где разложили наш большой багаж, приблизительно в 20 чемоданов, осмотрел столовую, свою комнату, две ванные комнаты и, сев на софу, громко расхохотался. Мне страшно показался смешным и нелепым тот мир, в котором я жил раньше».
А дальше в очерке «Железный Миргород» следует абзац, который наши квасные «патриоты» старательно избегают цитировать: «Вспомнил, — пишет Есенин, — про «дым Отечества», про нашу деревню, где чуть ли не у каждого мужика в избе спит телок на соломе или свинья с поросятами, вспомнил после германских и бельгийских дорог наши непролазные дороги и стал ругать всех цепляющихся за «Русь», как за грязь и вшивость. С этого момента я разлюбил нищую Россию».
Плавание через Атлантику заняло шесть дней, и 1 октября 1922 года пароход миновал статую Свободы и вошел в гавань Нью-Йорка.
«Моим глазам, — писал Есенин, — предстал Нью-Йорк.
Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке! Разве можно выразить эту железную и гранитную мощь словами? Это поэма без слов… Здания, заслонявшие горизонт, почти упираются в небо. Над этим всем проходят громадные железобетонные арки. Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает».
Так случилось, что Америка встретила русского поэта Есенина, впервые ступающего на американскую землю, и великую танцовщицу Айседору Дункан, родившуюся в этой стране, совсем не радушно.
Иммиграционные власти, подозревая, что Дункан и Есенин прибыли в Соединенные Штаты в качестве большевистских агентов и пропагандистов, не разрешили им сойти на берег в нью-йоркской гавани. Такая настороженность была понятна в свете антикоммунистической истерии, охватившей Америку в те годы.
Супружеская чета вынуждена была провести ночь на борту «Парижа», где вечером их атаковали журналисты. Айседора Дункан зачитала им заготовленное заранее заявление:
«Мы являемся представителями молодой России. Мы не замешаны ни в какие политические дела. Мы трудимся только на ниве искусства. Мы верим в то, что душа России и душа Америки поймут друг друга».
Газета «Нью-Йорк таймс» отмечала: «Мисс Дункан была явно раздражена позицией иммиграционного инспектора и откровенно заявила об этом репортерам в своей роскошной каюте на прогулочной палубе лайнера «Париж». Она полулежала на софе, изящно обняв левой рукой за шею своего мужа, светлые волосы которого были сильно напудрены».
Несмотря на гнев Айседоры по поводу задержания, отмечала «Нью-Йорк геральд», «ее муж Сергей Есенин, молодой русский поэт со светлыми волосами, явно был склонен рассматривать этот инцидент как довольно банальный и подлежащий быстрому урегулированию… Гибкий, атлетически сложенный, с широкими плечами и тонкой талией, он разговаривал с Дункан главным образом через ее секретаря. Есенин выглядит моложе своих 27 лет. В простом сером твидовом костюме он ничем не отличается от заурядного американского бизнесмена. Хотя он не говорит по-английски, он склонился над своей супругой и с улыбкой одобрял все, что она говорила репортерам. Оба они выглядели искренне влюбленными и не старались скрывать это.
…Изадора заявила, что считает своего мужа величайшим из живущих русских поэтов, который входит в группу имажинистов. Она показала журналистам томик его стихов, переведенных на французский язык.
…Молодой русский поражен панорамой небоскребов Манхеттена и сказал, что будет писать о них. Он говорит, что предпочитает сочинять стихи «о бродягах и попрошайках», но он не похож на них. Он сказал также, что его обожают бандиты и попрошайки, собаки, коровы и другие домашние животные. В прессе его называли меланхоличным, но он, похоже, самый веселый большевик, который когда-либо пересекал Атлантику».
Во время интервью Дункан не преминула рассказать, как она встретила Есенина:
«Это было единение душ, и началось оно во сне, когда ее душа воспарила и встретила его душу».
На следующий день их привезли на Эллис-Айленд, где американские власти держат иммигрантов до принятия решения, впустить их в страну или отправить обратно… На пути туда они проплыли мимо статуи Свободы, Есенин помахал ей рукой и сказал по-русски (по словам его пресс-агента): «Я обожаю тебя, старуха, хотя обстоятельства сейчас не позволяют мне прокричать тебе это».
Допрос Дункан и Есенина на Эллис-Айленде продолжался два часа, после чего им разрешили высадиться на американский берег.
А демократическая Америка уже выражала свой протест.
Подруга Айседоры певица Анна Фицью опубликовала письмо главному редактору «Нью-Йорк таймс», в котором писала:
«Уважаемый сэр! Изадора Дункан на Эллис–Айленде! Боги могут смеяться! Изадора Дункан, которой школа классического танца обязана своим возникновением, причислена к рангу опасных иммигрантов!.. Все, кто знает мисс Дункан, знают, что она художник, весьма мало интересующийся социальными и экономическими проблемами, ее муж такой же художник, как и она».
Вся эта история с иммиграционными властями и допросом на острове Эллис имела для Дункан и Есенина свою положительную сторону — они получили большую рекламу. Газета «Нью-Йорк трибюн» именно так прокомментировала это обстоятельство:
«У Америки есть привычка выставлять себя наихудшим образом, когда иностранец или даже ее гражданин приплывает к ее берегам.
…Вашингтон не знает, почему она и ее крепенький славянский муж задержаны на острове Эллис. По–видимому, этого не знают и иммиграционные власти.
Хотя это был печальный опыт лично для мисс Дункан или, правильнее сказать, миссис Есенин, вряд ли он вызвал слезы на глазах ее пресс-агента.
Дело в том, что эти неблагоприятные события повлекли за собой появление этих самоварников на первых полосах газет, без чего их приезд вообще не был бы замечен».
Нью-йоркские журналисты в своих репортажах уделили основное внимание одежде Дункан и Есенина. Газеты сообщали, что Айседора Дункан одета весьма ярко. Она появилась перед представителями прессы «в полуварварском костюме русской танцовщицы, включая раскрашенные сапожки из мягкой желтой кожи, и с яркими рыжими волосами».
Вот и другой репортаж: «Мадам Дункан спустилась с борта лайнера в белой мягкой фетровой шляпе, из-под которой на плечи падала волна рыжих волос. Обута она в сапоги до колен из мягкой красной кожи, отделанной зеленой эмалью. На ней был жакет и юбка синей шерсти с индейской бахромой». Еще одна газета сообщала своим читателям, а главное — читательницам, что «на мисс Дункан была белая круглая фетровая шляпа с узкой черной лентой, бордового цвета шелковое платье и сапожки из красной кожи».
По возвращении в Москву Есенин хвастался друзьям и собутыльникам, что, когда они спустились по трапу, их встречала целая толпа репортеров и фотографов. Более 20 газет, утверждал он, немедленно опубликовали обширные репортажи и фотографии. «В этих материалах, — отмечал Есенин, — мало говорилось об Айседоре Дункан и о том, что я поэт, а больше всего внимания было уделено моим высоким ботинкам и тому, что я атлетически сложен и что я безусловно мог бы стать лучшим спортсменом Америки».
Действительно, газета «Нью-Йорк уорлд», к примеру, писала: «Вошел муж мадам Дункан. Он говорит по-французски, выглядит мальчишкой, который был бы отличным полузащитником в любой футбольной команде, ростом он около 5 футов 10 дюймов, русые, хорошо подстриженные волосы, широкие плечи, узкие бедра и ноги, которые могут пробежать сотню ярдов за десять секунд».
Газетные репортажи, несмотря на всю их банальность, позволяют судить — хотя бы поверхностно — о физическом и душевном состоянии Есенина, когда они с Айседорой высадились на американской земле. Все газетчики отмечали, что он спокоен, независим, ироничен и очень привязан к своей жене. Есенин показался нью-йоркским репортерам молодым и веселым, не было и намека на то, что он пьет или плохо себя чувствует.
А вот следующие четыре месяца повлекли за собой разительные перемены в психике Есенина. Если с июня по начало декабря он держал себя в руках, то после этого «свадебное путешествие Есенина и Дункан, — как писал Ходасевич, — обернулось хулиганским турне по Америке, гнусной одиссеей, полной злоключений и провалов».
Мари Дести вспоминала: «Во время поездки Изадоры по Америке душевное расстройство Есенина начало проявляться в полную силу. Он обнаружил, что Америка встретила его не так, как он ожидал, и он винил в этом Изадору, оскорбляя ее и ее страну по каждому поводу. Газеты сообщали о множестве скандалов, иногда сгущая краски, но в них было достаточно правды, чтобы сделать жизнь почти невыносимой».
Для такого полного неприятия Америки Есениным было несколько причин. Он совершенно не знал английского языка и по свойственной ему подозрительности постоянно воображал, что все вокруг смеются над ним. Айседора впоследствии вспоминала: «И это накладывалось на его гордость! С его-то нездоровым тщеславием! Он немедленно становился яростным, как демон».
Есенин взял себе за привычку неожиданно исчезать с приемов, а когда они с Айседорой оставались вдвоем, он хватал ее за горло и кричал: «Правду! Правду! Говори мне всю правду! Что эти американские подонки говорили обо мне? " Дункан, задыхаясь, объясняла ему, что о нем говорили только хорошее, однако он не верил ей. «Это было так ужасно! — сокрушалась Дункан. — Такое несчастье!»
Есенину мнилось, что окружающие воспринимают его как экзотическую редкость и как проходимца, который женился на Айседоре ради ее славы и ее денег.
Намерение Есенина покорить Америку своими стихами натолкнулось на непреодолимый языковой барьер, и разочарование его было колоссальным.
Воздушный танец Дункан являлся интернациональным языком, стихи же Есенина писались на не понятном никому русском языке. Его надежда завоевать всемирную славу рухнула. Вот это и было его Ватерлоо.
Америка его отвергла, и Есенин обратил свое раздражение в другом направлении. Он стал остро ревновать к славе Айседоры и уверился (или притворялся, что уверился) в том, что Америка вообще не воспринимает искусство.
Довольно точно охарактеризовал создавшуюся ситуацию Анатолий Мариенгоф:
«Есенин был невероятно гордым и тщеславным, он считал себя первым поэтом России. Но у него не было европейского имени. А у Изадоры Дункан оно было. Во время их поездки по Европе и Америке он уверился в том, что его воспринимают как «молодого мужа знаменитой Дункан». Надо сказать, что никчемные журналисты, особенно за океаном, не слишком щадили его чувства. А тут еще нездоровая подозрительность Есенина! Он прочитывал эти слова «молодой муж» в каждом взгляде и слышал в каждом слове. А слова эти звучали на английском, французском, немецком языках — подозрительные, таинственные, враждебные. Он не знал ни одного языка. И их поездка превратилась для него в долгое мученье, пытку, оскорбление. Он сломался. Это многое объясняет».
Мариенгофу вторил американский менеджер Айседоры Дункан Сол Юрок:
«В Москве, вообще повсюду в России, он выступал как великий Есенин, новый Пушкин. Даже сама Изадора преклонялась перед его бессмертным даром. Однако в Берлине, в Париже, повсюду в Америке — кто когда–нибудь слышал о Есенине? Везде звучало только Изадора, Изадора, одна Изадора… И этому самовлюбленному человеку, испорченному обожанием русских, за границей не хватало обожания, и ему это было тем более горько, что по мере того, как они уезжали все дальше от Москвы, слава Дункан возрастала. Он страшно завидовал Изадоре, его ревность доходила до того, что он вообще отрицал ее искусство».
По-видимому, не добившись славы стихотворной, Есенин решил привлечь к себе внимание Америки испытанным способом — шумными скандалами.
В отличие от громких эскапад имажинистов в Москве, скандалы, которые Есенин устраивал в Америке, были более отчаянными, более безнадежными. В Москве он мог вызывать возмущение публики, но потом эти же люди слушали, как он читал свои стихи, и восхищались.
В Америке он оказался как бы в безвоздушном пространстве, его скандалы становились самоцелью, теряли всякий смысл.
Уже после своего возвращения в Россию Есенин говорил своему другу Льву Повицкому: «Да, я устраивал скандалы. Мне это было необходимо. Мне это было нужно, чтобы создать себе известность и чтобы они меня запомнили. Ты думаешь, я читал им свои стихи? Читать стихи американцам? В их глазах я стал бы просто посмешищем. А вот когда я сдергивал со стола скатерть со всеми блюдами и тарелками на пол или свистел в театре, или мешал уличному движению — это они могли понять. Если я так поступаю, значит, я миллионер. Отсюда уважение, слава — все для меня! Теперь они помнят меня больше, чем Дункан».
Тогдашний заведующий славянским отделом Публичной библиотеки в Нью-Йорке Авраам Ярмолинский писал о пребывании Есенина и Дункан в Соединенных Штатах:
«Есенин объездил ряд городов в восточных и центральных штатах, сопровождая Айседору в ее турне. Иногда она выводила его на сцену и произносила экспромтом коротенькую речь, в которой он назывался «вторым Пушкиным»! Если верить газетной заметке, на ее первом выступлении (в Карнеги-холле) Есенин был в высоких сапогах, русской рубашке, и шея его была обмотана длиннейшим шарфом. Но вряд ли роль «мужа своей жены» была по душе Есенину. К тому же во время поездки по Америке ему почти не с кем было перемолвиться словом. Как известно, с женой у него буквально не было общего языка. Это, может быть, тоже способствовало злоупотреблению им спиртными напитками».
Алкоголь, конечно, играл не последнюю роль в поведении Есенина в Америке. Не следует забывать, что Есенин и Дункан попали в Соединенные Штаты вскоре после того, как там был принят «сухой закон», и им приходилось довольствоваться чудовищным самогоном, который, по словам Айседоры, мог убить слона. Это питье отнюдь не способствовало улучшению здоровья Есенина.
На этом фоне и начались выступления Айседоры Дункан в Соединенных Штатах.
Первый ее концерт состоялся 7 октября в огромном зале Карнеги-холл в Нью-Йорке.
Эпизод с задержанием знаменитой танцовщицы на острове Эллис, широко преподнесенный американской прессой, подстегнул любопытство публики — зал был полон.
Программа состояла из произведений Чайковского — Шестая (Патетическая) симфония, Марш славянки. И хотя некоторые знатоки утверждали, что Дункан уже не в состоянии танцевать на прежнем уровне, ее выступление увенчалось успехом. Пресса откликнулась на ее концерт благожелательными откликами.
Достаточно, привести в качестве примера отзыв критика газеты «Нью-Йорк трибюн» под заголовком «Танцы мисс Дункан обладают необыкновенной прелестью».
«Вместо греческой девушки, — писал критик, — скачущей под свирель или играющей с мячом, зрителям явилась эпохальная фигура, олицетворяющая собой Россию.
Каждой своей позой, каждым жестом, каждым эмоциональным аккордом, находящим отражение в ее лице, мисс Дункан воспроизводит надежды, опасения, разочарования и страдания русского народа…
Потрясает ее интерпретация Марша славянки, в котором она воплотила трагедию рабства. Появляясь перед зрителями с руками, закованными в кандалы, со спиной, согнувшейся под игом тирании, она в конце концов разрывает путы титаническим усилием и несется в буйном танце победившей свободы…
В конце представления она обратилась к аудитории с речью. Она отозвалась о своем муже, как об «Уолте Уитмене России».
— Я протянула руку России, — сказала она, — и я призываю вас сделать то же самое. Я призываю вас полюбить Россию, потому что Россия обладает всем, чего нет в Америке, а Америка обладает всем, чего нет в России. Тот день, когда Россия и Америка поймут друг друга, ознаменует собой рассвет новой эпохи в истории человечества».
Спустя четыре дня после первого концерта Изадора Дункан выступила в том же Карнеги-холле с вагнеровской программой. Одна из газет писала: «Мисс Дункан исполнила танец на музыку «Полета валькирий», Похоронного марша Зигфрида, из «Гибели богов», из «Тристана и Изольды» и на тему прелюдии и вакхического танца из «Тангейзера».
Сцена Карнеги-холла была временно переделена в своих пропорциях длинными занавесями, которые освещались ярко–синим и бледно–голубым светом. На этом фоне мисс Дункан с рыжими волосами, одетая в прозрачную греческую тунику исполняла свою интерпретацию этой музыки под аплодисменты восторженной публики».
Следует отметить, что успеху танцев Айседоры Дункан в значительной степени мешали ее политические речи. В конце каждого концерта она не могла удержаться от того, чтобы не обратиться к аудитории с короткими пламенными речами, в которых она прославляла революционную Россию, призывала к установлению дружбы между американским и русским народами.
Антрепренер Дункан Сол Юрок спустя четверть века вспоминал об этом периоде американской политической истории:
«Волна реакции на разговоры о войне, о Вильсоне, о либерализме принимала угрожающие масштабы. Это был год, когда красный цвет воспринимался как символ зла, назвать человека большевиком означало проклясть его бессмертную душу, а его бренное тело отправить в тюрьму. Подозрительность и недоверие к Советскому Союзу и сейчас еще являются силой, с которой приходится считаться. В 1922 году это была не подозрительность, а откровенный, безрассудный ужас, это было не недоверие, а ненависть».
Революционные выкрики Айседоры вместе с ее прозрачными одеяниями вызывали протесты пуритански и антибольшевистски настроенных жителей ряда американских городов. Конфликт разразился в Бостоне. Два концерта, которые Дункан дала в этом городе, известном своим ханжеством и политическим консерватизмом, оказались началом провала всех ее дальнейших гастролей. Отклики прессы были уничтожающими. Сообщение из Бостона от 22 октября гласило: «Дункан в ярко-красном шарфе заявляет, что она красная. Многие бостонцы покинули представление, будучи шокированы ее обнаженным телом». В сообщении подчеркивалось, что Айседора Дункан танцевала «в прозрачном одеянии, которое не оставляло никакой пищи для воображения».
Одна из газет писала: «Воодушевленная своей речью и раздраженная флегматичностью и холодностью зрителей, она размахивала над головой красным шелковым шарфом и кричала:
— Он красный! Я тоже красная! Это цвет жизни и мужества. Вы когда-то были отважными. Не позволяйте приручить вас!»
Бостонцы упрекали Дункан в том, что она сорвала с себя красную тунику и размахивала ею над головой, как знаменем, оставшись в чем мать родила. Сол Юрок — правда, с чужих слов — говорил, что Айседора всего лишь разорвала свою тунику и обнажила одну грудь с криком: «Вот красота! "
Возмездие последовало немедленно. Сообщение из Бостона от 23 октября гласило: «Этот город последний, который видел мисс Дункан на сцене, если мэр Кэрли выполнит свои намерения. Побуждаемый широко распространившейся критикой ее последнего выступления в Симфони-холле, мэр полон решимости запретить танцовщице появляться на бостонской сцене… Бостон все еще обсуждает два представления, которые мисс Дункан дала в Симфони–холле. Многие зрители на обоих концертах, шокированные ее прозрачными одеждами и бунтарскими речами, покидали зал».
Следующей остановкой в турне Дункан по Соединенным Штатам был Чикаго. Конечно, первым делом репортеры засыпали Айседору вопросами о происшедшем в Бостоне. Дункан сказала им:
«Я не обнажалась и не кричала: «Я красная!» «Я красная!» Я не могла сорвать с себя тунику, потому что она закреплена у меня на плечах и вокруг бедер эластичными лентами».
Сол Юрок дал телеграмму Дункан, настаивая на том, чтобы она больше не произносила речей под занавес. Та немедленно заявила своим зрителям: «Мой менеджер сказал мне, что, если я буду произносить речи, мое турне кончится. Очень хорошо, турне кончилось. Я вернусь в Москву, где есть водка, музыка, поэзия и танцы… Да, и Свобода!»
Американское турне Айседоры Дункан и Сергея Есенина подходило к концу . Можно было подводить итоги. А итоги были нерадостные, — как в материальном, так и в духовном отношении. Это отчетливо видно из письма Есенина Анатолию Мариенгофу из Нью-Йорка от 12 ноября 1922 года.
«Милый мой Толя! — писал Есенин. — Как рад я, что ты со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься.
Изадора прекраснейшая женщина, но врет не хуже Ваньки, все ее банки и замки, о которых она пела нам в России, — вздор. Сидим без копеечки, ждем, когда соберем на дорогу и обратно в Москву.
Лучше всего, что я видел в этом мире, это все-таки Москва…
О себе скажу (хотя ты все думаешь, что я говорю для потомства): что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь».
В результате американского турне здоровье Есенина сильно пошатнулось. Неожиданно всплывает версия о наследственной эпилепсии. Вениамин Левин, посетивший Есенина и Дункан в нью-йоркском отеле, застал поэта в постели больного. Он описал свое посещение следующими словами:
«Есенин выглядел более бледным, чем обычно, он был со мной очень вежлив и задумчив. Он сказал мне, что у него был эпилептический припадок. Никогда раньше я об этом не слышал. А теперь он рассказал мне, что унаследовал эпилепсию от деда. Его деда однажды выпороли на конюшне, и с ним стали случаться эпилептические припадки, передавшиеся его внуку».
Намек на эпилепсию содержится и в письме Есенина, которое не воспроизводилось в русских изданиях. Есенин писал своему знакомому Мани-Лейбу: «Перед вечером у меня был новый припадок. Сегодня я лежу разбитый как морально, так и физически. Сиделка провела у моей постели всю ночь. Приходил доктор и сделал мне укол морфия… У меня та же болезнь, какой болели Эдгар По и Мюссе. Эдгар По во время таких припадков разбивал все в доме». К этому необходимо добавить, что врач в Париже в 1923 году тоже поставил Есенину диагноз: эпилепсия.
Помимо эпилептических припадков у Есенина к концу пребывания в Америке появилось еще одно недомогание, но уже психического порядка: он стал все чаще поговаривать о самоубийстве. Сол Юрок вспоминал: «Он говорил в Нью-Йорке о самоубийстве. Здание небоскреба Вулворт-билдинг манило его броситься вниз, говорил он, держа в руке рукопись последнего своего стихотворения. Но, подумав, он решил, что может упасть на случайного прохожего или на ребенка в коляске. Ему бы этого не хотелось».
Мари Дести вспоминала, что Есенин в ту пору часто размахивал револьвером и угрожал им Айседоре.
Макс Мерц, директор зальцбургской школы, где училась Елизавета Дункан, встретил Айседору в Нью-Йорке и так описал эту встречу:
«Я увидел ее в квартире одного нашего общего знакомого, когда она сбежала от своего разбушевавшегося мужа после того, как он с ней жестоко обращался. Она была смертельно напугана, как затравленное животное. Я старался успокоить ее и сказал, что она не должна позволять так с ней обращаться, на что она ответила со своей характерной мягкой улыбкой: «Вы знаете, Есенин — крестьянин, а у русского крестьянина есть обычай по субботам напиваться и бить свою жену!» И она тут же начала восхвалять поэтический гений своего мужа, в котором была совершенно уверена».
Последние месяцы пребывания Дункан и Есенина в Америке были ознаменованы для поэта новыми скандалами и ссорами с супругой. В Мемфисе, например, они в очередной раз повздорили. Сол Юрок вспоминал: «Только однажды, насколько я знаю, Изадора пыталась усмирить его. Как-то раз она, Есенин и Владимир Ветлугин поехали из Мемфиса в пригородный ресторанчик, где они поужинали и выпили немало дрянного самогонного виски. Есенин, как обычно, стал неуправляемым, началась бурная ссора, и в конце концов Изадора и Ветлугин взяли единственное остановившееся там такси и уехали в город, оставив поэта сидящим под деревом в обеденном костюме под проливным дождем. Он вернулся в Мемфис пешком, утопая в лужи по щиколотку, и добрался до отеля только утром, весь в грязи».
Еще более неприятный инцидент произошел в конце января 1923 года в Нью-Йорке, в Бронксе, когда Есенина пригласили в дом к русско-еврейскому поэту Мани-Лейбу на встречу с поэтами. Он приехал туда пьяный, позволил себе несколько раз выкрикнуть «жиды», что вызвало настоящий скандал, ударил Айседору и в конце концов его уволокли оттуда силой.
Надо сказать, что это довольно загадочная история. Никогда до сих пор Есенин не проявлял себя антисемитом. Наоборот, как упоминалось выше, он с ненавистью произносил слово «русофил». Что на него нашло, сейчас трудно судить, к тому же случай буквально единичный.
На следующий день Есенин отправил Мани-Лейбу письмо с извинениями. Он просил прощения и ссылался на эпилепсию. «Вечером, — писал он, — у меня был еще один припадок… Душа моя неповинна в том, что произошло. Я проснулся утром в слезах, мой добрый Мани-Лейб! Я прошу вас проявить ко мне хотя бы жалость».
Что касается эпилепсии, то исследователи ссылаются на строчки в стихотворении «Ты прохладой меня не мучай…»:
Одержимый тяжелой падучей, Я душой стал, как желтый скелет.Есть и другие подтверждения версии об эпилепсии. В 1923 году Есенин после жуткого скандала был доставлен в полицию, где зафиксировали, что он «подвержен эпилептическому припадку, поскольку слишком много выпил».
Лейб Фейнберг подтверждает: «Да, Есенин был эпилептиком. Я был свидетелем нескольких его эпилептических припадков в Москве, Берлине и Нью-Йорке».
Лев Повицкий писал: «Да, Есенин был болен», но позднее объяснял, что он имел в виду не эпилепсию, а шизофрению. Авраам Ярмолинский тоже утверждал, что не видел припадков у Есенина, и высказывал предположение, что Есенин притворялся эпилептиком, чтобы иметь оправдание своему поведению, и что аура «священной болезни» импонировала ему.
А Рюрик Ивнев, напротив, отметал всякие предположения об эпилепсии Есенина. Он утверждал: «То, что американские газеты писали о Есенине, полная чушь. Есенин никогда не был эпилептиком, и у него не было и намека на эту болезнь. Я не знаю, почему этим газетам (я думаю, что не всем, а только некоторым) понадобился такой миф, тем более, что это никак не умаляло человеческое достоинство. Достаточно вспомнить Достоевского».
Путешествие Есенина и Айседоры Дункан по Америке завершилось. Оно обернулось для знаменитой танцовщицы провалом, если и не сокрушительным, то более чем ощутимым. Виноваты, естественно, по мнению Дункан, были американцы и враждебно настроенная пресса.
«Америка не ценит искусства, — говорила Дункан в одном из последних своих интервью, данных ею на борту лайнера «Джордж Вашингтон», — какая нация позволит обезображивать природу от одного края страны до другого чудовищными рекламными щитами. Рекламные щиты — вот подлинное американское искусство — искусство продавать, вместо того чтобы наслаждаться прекрасным».
Дункан жаловалась, что во время своего пребывания в Америке она подвергалась дискриминации. Началось это с того, что, когда они с Есениным должны были сойти на берег в Нью-Йорке, чиновники иммиграционной службы отправили их на Эллис-Айленд, тюрьму для иммигрантов, проходящих проверку на политическую благонадежность. И хотя их оттуда быстро выпустили, газеты раздули это обстоятельство и создали Дункан репутацию опасного радикала.
Она обвиняла американскую прессу, и в частности херстовские газеты, в том, что они обрекли ее гастрольную поездку по Америке на полный провал.
— Да, я революционерка, — заявила она на борту «Джорджа Вашингтона», — все подлинные художники — революционеры, но это не означает, что я большевичка. Мой муж тоже не большевик. А все время нашего пребывания здесь мы находились под наблюдением.
Дункан с негодованием говорила о репортерах, которые, вместо того чтобы спрашивать ее об искусстве танца, интересовались лишь тем, что она думает о свободе любви или о коллективной собственности.
На следующий день после отплытия «Джорджа Вашингтона» нью-йоркские газеты писали, что прощальные слова Дункан были полны горечи — она осталась недовольна Америкой вообще, а особенно самогонным виски, которое они здесь вынуждены были пить.
— Я лучше буду жить в России, — заявила она, — есть черный хлеб и пить водку, чем жить в Соединенных Штатах в лучших отелях.
Она упрекнула утренние газеты, вышедшие в тот день, что они ни словом не обмолвились о ее прощальном концерте накануне вечером в Лексингтон Опера Хаус. А между тем зал приветствовал ее стоя и пел «Интернационал».
— Пошли, Сергей, — бросила она мужу. — За нами наверняка следят даже сейчас. Пойдем в нашу каюту. Она наша, хотя мы и вынуждены были влезть в долги, чтобы оплатить ее.
Здесь надо сказать о том, что вскоре после отъезда Дункан и Есенина департамент труда США лишил Айседору Дункан американского гражданства.
Конечно, были в Америке и разумные люди, порицавшие это решение и вообще травлю, которой подверглась Дункан в Соединенных Штатах. Так, например, писатель Макс Истмен, редактор влиятельных журналов социалистической направленности, писал:
«Множество глупых американцев — почти вся глупая Америка — воображают, что они посмеялись над Дункан. Они ошибаются. Наоборот: она посмеялась над ними.
Она не только замечательная танцовщица, у нее есть разум и моральная сила…
Ее изгнали из Америки, и причина здесь не только в том, что она замужем за иностранцем. Это должно было произойти непременно. Америка никогда раньше не видела женщину-гения и не знала, что с нею делать. И тем не менее Изадора до мозга костей своих американка.
Америка сражается против американизма — это и есть Изадора. Если Америка одержит победу над собой — над своей мелочной скаредностью, над своим ханжеским лицемерием, — если Америка одержит такую победу, Изадора Дункан будет изваяна в бронзе и статуя ее будет стоять у ворот храма Человечества. Она будет стоять там, охваченная нетерпением с приподнятым коленом и напряженно распростертыми руками, как в Военном марше или в танце скифской воительницы, которая прикрыта своим мужеством, как броней, и сражается за утверждение жизни в Америке».
Характерно, что, описывая отплытие Дункан и Есенина, газеты не уделили, по существу, никакого внимания Есенину — он для них был только белокурым поэтом, буйным мужем буйной танцовщицы. Когда они приехали в Нью-Йорк в начале октября, Есенин произвел на репортеров впечатление своей мальчишеской внешностью, атлетическим сложением, веселостью.
Теперь, после четырех месяцев пребывания в Америке, Есенин сильно изменился. Изадора была весьма обеспокоена душевным и физическим состоянием мужа. Самогонное виски в больших количествах отнюдь не улучшило его здоровье.
Переход через Атлантику на «Джордже Вашингтоне» только усугубил болезнь Есенина. За все дни плавания он ни разу не был трезвым, тем более, что добыть спиртное на борту лайнера не составляло никакого труда.
Несколько забегая вперед, можно привести воспоминания поэта Всеволода Рождественского о встрече с Есениным в Ленинграде после его возвращения из поездки:
«Только когда он подвинулся ближе к свету, стало ясно, как разительно он изменился за эти годы. На нас глядело опухшее, сильно припудренное лицо, глаза были мутноваты и грустны. Меня поразили тяжелые есенинские веки и две глубоко прорезанные складки около рта.
Выражение горькой усталости не покидало Есенина ни на минуту, даже когда он смеялся или оживленно рассказывал о своих заграничных странствиях.
В пылу разговора он вытащил из кармана свежую коробку папирос и попытался разрезать бандероль острием ногтя. Руки его настолько заметно дрожали, что кому-то из присутствующих пришлось прийти ему на помощь».
Какой болезненный удар был нанесен по самолюбию Есенина и по его воспаленному самомнению, показывает то, что, уже вернувшись в Россию, когда Америка осталась далеко за океаном, он все еще жалуется на американцев, которые не воздали должного его таланту поэта. В этом плане характерен разговор Есенина с Всеволодом Рождественским в Ленинграде о том, как его с Айседорой приняли в Нью-Йорке.
«Америку я так и не успел увидеть. Остановились в отеле. Выхожу на улицу. Темно, тесно, неба почти не видно. Народ спешит куда-то, и никому до тебя дела нет — даже обидно. Я дальше соседнего угла и не ходил. Думаю — заблудишься тут к дьяволу и кто тебя потом найдет? Один раз вижу — на углу газетчик, и на каждой газете моя физиономия! У меня даже сердце екнуло. Вот это слава! Через океан дошло.
Купил я у него добрый десяток газет, мчусь домой, соображаю — надо дать тому, другому послать. И прошу кого-то перевести подпись под портретом. Мне и переводят:
«Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный талант которой…» и т.д. и т.п.
Злость меня такая взяла, что я эту газету на мелкие клочки изорвал и долго потом успокоиться не мог. Вот тебе и слава! В тот вечер спустился я в ресторан и крепко, помнится, запил. Пью и плачу. Очень уж мне назад, домой, хочется».
Пожалуй, самый главный и самый трезвый итог своего путешествия на Запад он подвел в разговоре с Чернявским.
Чернявский вспоминал, что Есенин очень путано отзывался о Западе. Есенин был вроде бы рад, что он не принял Европу и она не приняла его… Но более всего его растревожила Америка. У него было ощущение зависти, смешанное с ненавистью по отношению к Америке. Он не скрывал, что его возвращение домой было бегством от Запада и от любви.
Так бесславно началось и кончилось «завоевание» Есениным Америки, полным провалом, «моим Ватерлоо», как образно сформулировал это он сам.
Глава X ПРЕДДВЕРИЕ РАЗРЫВА
11 февраля 1923 года лайнер «Джордж Вашингтон», на котором плыли из Америки в Европу Дункан и Есенин, пришвартовался во французском порту Шербуре. Они тут же выехали в Париж, где остановились в отеле «Крийон».
О настроениях, владевших Есениным в эти дни, ярко свидетельствует письмо Есенина от 7 февраля с борта «Джорджа Вашингтона» Александру (Сандро) Кусикову, обретавшемуся в Берлине. В этом письме чрезвычайно важно не только восприятие Есениным Америки, но и его размышления о том, что ждет его в России:
«Дорогой Сандро!
Пишу тебе с парохода, на котором возвращаюсь в Париж. Путешествую вместе с Изадорой. Ветлугин остался в Америке.
Об Америке расскажу тебе позднее. Это самая устрашающая гадость…
Сандро, Сандро! Я полон страстным, непереносимым ожиданием. Здесь я чувствую себя иностранцем и совершенно чужим, но когда я вспоминаю Россию и вспоминаю, что меня там ожидает, у меня пропадает желание возвращаться. Если бы я был один, если бы у меня не было сестер, я бы бросил все и уехал куда-нибудь в Африку или в какое-нибудь такое же место. Меня тошнит от мысли о том, что я, законный сын России, оказываюсь пасынком в моей родной стране. Я сыт по горло покровительственным отношением ко мне со стороны тех, кто у власти, и еще больше меня тошнит от того, что я должен вилять хвостом перед ними. Этого я не могу перенести! От этого можно воззвать о помощи или взять нож и выйти на большую дорогу…
Послушай, дорогой друг! Ты знаешь, раньше в Москве, когда мы приходили к ним, они не предлагали нам стул, чтобы присесть. А теперь, теперь мной овладевает уныние. Я перестаю понимать революцию, которой я принадлежу. Я могу видеть только одно — что это не Февраль и не Октябрь… Напиши мне что-нибудь хорошенькое, теплое и веселое, как друг. Ты сам можешь видеть, как я сквернословлю. Это означает, что я чувствую себя плохо.
Твой Сергей»[3]
С этими словами перекликаются строки из драматической поэмы «Страна негодяев», которая писалась примерно в то же время. Свои мысли и свои чувства Есенин вложил в уста героя поэмы Номаха (Махно), но можно не сомневаться, что поэт высказывал свое сокровенное:
На конях И без коней, Скачут и идут закостенелые бандиты. Это все такие же Разуверившиеся, как я… . . . . . . . . . . . . . . . . А когда-то, когда-то… Веселым парнем, До костей весь пропахший Степной травой, Я пришел в этот город с пустыми руками, Но зато с полным сердцем И не пустой головой. Я верил… я горел… Я шел с революцией, Я думал, что братство не мечта и не сон, Что все во единое море сольются, Все сонмы народов, И рас, и племен.Здесь уместно вспомнить четверостишие из стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут…», четверостишие, которое Есенин в наборном экземпляре вычеркнул, опасаясь, надо полагать, цензуры:
Жалко им, что Октябрь суровый Обманул их в своей пурге. И уж удалью точится новый Крепко спрятанный нож в сапоге.Однако пора вернуться к взаимоотношениям Есенина и Айседоры Дункан. Они становились все более напряженными. Назревал разрыв.
На борту «Джорджа Вашингтона» Айседора избегала показываться на людях, чтобы не демонстрировать синяк под глазом, который Есенин посадил ей на прощальном ужине в Нью-Йорке. Еще до прибытия в Шербур она дала телеграмму в Лондон своей подруге Мари Дести. Та была женщиной легкомысленной, любила посмеяться и ничего в жизни не принимала всерьез, поэтому одно ее присутствие действовало на Айседору успокаивающе. Мари Дести немедленно примчалась в Париж, где Дункан сразу же предупредила ее: «Не пытайся в чем-нибудь разобраться. Я все объясню тебе позднее. Но что бы я ни считала, забудь, что я великая актриса. Я просто милая, интеллигентная женщина, которая высоко ценит великого гения Сергея Есенина. Он настоящий художник, он великий поэт».
В Париже Дункан, как всегда, окружили репортеры, которым она заявила:
— Я потеряла четыре месяца своей жизни на эту поездку в Америку. Это было сплошное мученье. С моим мужем в Америке обращались хуже, чем в России. Американцы хуже, чем стая волков. Один друг вынужден был дать нам денег, чтобы мы могли уехать из Нью-Йорка в Париж. Америка была основана шайкой бандитов, авантюристов, пуритан и первопроходцев. Сейчас там всем верховодят бандиты. Американцы пойдут на все ради денег. Они продадут свои души, своих матерей или отцов. Америка больше не моя страна.
Несмотря на безденежье, Айседора и Есенин поселились в самом дорогом отеле Парижа «Крийон». Мари Дести заняла соседний номер.
У Есенина с собой был маленький атташе-кейс, который он никогда не выпускал из рук. Разве только во время сна. Мари Дести высказала предположение, что Сергей хранит там деньги. Айседора высмеяла ее:
— Дорогая, у нас нет ни пенни. Последние две недели нам нечем было платить за номер в отеле и за еду. Мне-то это все равно, но мне становится дурно от одной мысли, что у Сергея останется такое отвратительное впечатление от Америки. Это потрясение для художника. Понимаешь, он абсолютно ничего не знает о деньгах…
В Париже Есенин сорвался уже на следующий день. Мари Дести описывала их первый совместный ужин в отеле «Крийон»:
«Сергей читал некоторые свои стихотворения и выглядел как молодой бог, сошедший с Олимпа, оживший персонаж с картин Донателло, танцующий фавн. Он ни секунды не был в покое, прыгал в экстазе туда и сюда, то и дело бросался на колени перед Изадорой, клал свою кудрявую голову на ее колени, как маленький ребенок, а она любовно гладила его волосы».
Однако вскоре Есенин исчез. Дункан объяснила Дести:
— Когда он пьет, он становится сумасшедшим, теряет голову и убеждает себя, что я его злейший враг. Я ни в коей мере не возражаю против его пьянства. Я удивляюсь, как можно не пить в этой ужасной жизни…
Когда Мари Дести спросила у Айседоры, как она может терпеть выходки Сергея, та сказала:
— Мари, дорогая, я не могу объяснить это. И это заняло бы слишком много времени. В его поведении есть что-то, что мне нравится, нечто глубокое, нечто, уходящее в глубь моей жизни…
Она опять вспомнила о том, что Сергей так напоминает ей ее погибшего сына Патрика.
— Нет, — продолжала она, — ты должна помочь мне спасти его, увезти его в Россию. Там он придет в себя. Он гений, он великий поэт, а они знают, как обращаться со своими художниками.
Когда Есенин вернулся в отель в полубезумном состоянии, Айседора и Мари Дести сбежали из «Крийона». А Есенин стал крушить мебель, его забрали в полицейский участок, где его освидетельствовал врач и поставил диагноз: эпилепсия. В четыре часа ночи Айседора и Мари Дести вернулись полуживые в отель и увидели учиненный Есениным погром. Дункан пришла в ужас, представив, какой счет ей выставят.
После некоторых колебаний она решилась вскрыть кейс, который Есенин в последнее время не выпускал из рук. Каково же было ее удивление, когда оказалось, что кейс набит американскими деньгами, мелкими купюрами, даже серебряными монетами, всего на сумму в две тысячи долларов. Айседора стала уверять Мари Дести, что Есенин наверняка не понимал цену денег.
У него никогда не было ни гроша, и, видя, как я швыряю деньги на ветер, в нем сработала его крестьянская хитрость, и он бессознательно захотел сохранить хотя бы малую часть. Скорее всего, они предназначались для тех, кто особенно нуждается на его родине.
Оплатив из сбереженных Есениным денег счет за убытки, причиненные его погромом, Айседора и Мари Дести поспешили выехать из «Крийона» и поселились в отеле «Резервуар» в Версале. Там Дункан слегла с высокой температурой. Приехал врач, до этого он еще раз осмотрел Есенина и спросил у Айседоры, не будет ли она возражать, если ее мужа поместят в клинику. Полиция, сказал он, отпустит Есенина только при том условии, что он немедленно покинет страну. Айседора и Дести пересчитали последние деньги — их как раз хватало на два билета до Берлина — для Есенина и горничной, которая должна была за ним приглядывать. Все время между тем часом, когда горничная покинула отель, и девятью часами, когда должен был отойти поезд на Берлин, Айседора пребывала в ужасе — а вдруг он не уедет?
Есенин забрал с собой все свои чемоданы, включая и атташе-кейс, денег у него было ровно столько, чтобы оплатить билет до Берлина.
Окружающие понимали, что неуравновешенность Есенина подходит к опасной черте. Такие же опасения высказывала и Ирма Дункан. «Возвращение в Париж, в Европу, — писала она, — оказалось слишком тяжким для Есенина. Он попытался утопить свои воспоминания об Америке — в вине, вернее в водке. Но алкоголь, поглощаемый с широким славянским размахом, не приносил забвения, а, наоборот, пробуждал в нем демонов».
О том, что происходило в те дни в Париже между Дункан и Есениным, достаточно красноречиво рассказал писатель и критик Евгений Лундберг, оказавшийся в Париже:
«Беседа с Есениным, — записывал он, — о «тоске». Он пьет и мечется.
Чтение «Пугачева» у проф. Ключникова. — Есенин лицом к стене, хрипло читает; лицо нарочито искажено.
Спокойное самодовольство Дункан. Французские парламентарии. Подчеркнутое уважение к Дункан. Есенин же для них — нечто вроде юного дикаря, вывезенного прихотливой принцессой.
У меня — вспышка ненависти к Дункан, к иностранцам, к корректным хозяевам.
Я тяну Есенина за рукав. Мы выходим в другую комнату и садимся в углу. Он полупьян. Мне тошно и страшно. Машина западной культуры и русское талантливое беспутство.
Разговор рвется.
— Мне скверно, — говорит Есенин.
Я и сам вижу, что скверно.
Дункан мешает нам разговаривать. Я слышу невероятный на фоне парижских смокингов и украшенного цветами стола диалог:
— Ты сука, — говорит Есенин.
— А ты — кобель, — отвечает Дункан.
Она ревнует — ко всякому и ко всякой. Она не отпускает его от себя ни на шаг. Есенин прогоняет ее — взглядом…
Минуту спустя Дункан ласково отвлекает его от меня. Он уже беззлобен. Тих и кроток — да, печально кроток. Я ухожу».
Примерно в таких же тонах характеризует взаимоотношения Есенина и Дункан приятель Есенина Валентин Вольпин:
«Совместная жизнь Есенина и Дункан сложилась неудачно для них обоих. Здесь сказались разница в культуре и жизненных навыках, противоречивость взглядов на искусство. По-видимому, имело немаловажное значение и то обстоятельство, что супруги объяснялись друг с другом главным образом мимически, жестами, так как Дункан почти не научилась говорить по-русски, а Есенин не мог и не хотел объясняться ни на каком другом языке, кроме русского.
Кочевой образ жизни без своего угла, богемность, космополитичность Дункан, не имевшей родины, оторванность от родины Есенина — все это обостряло их отношения. Есенин очень тосковал за границей, скучал по Москве, презирал уклад западной жизни, мало писал и много пил, как пила, впрочем, и Айседора Дункан, за много лет артистической жизни привыкшая начинать свой день с коньяка и заканчивать его на рассвете шампанским.
Есенина пугало творческое, как ему казалось, бессилие, ему нужно было окружение родной стороны, его тянуло домой, к друзьям. Дункан все оттягивала возвращение в Москву, связанная многочисленными контрактами. Между ними учащались недоразумения, переходившие в ссоры, назревал острый конфликт».
Отъезд Есенина в Берлин был вызван не только требованием парижской полиции. Корень всего происшедшего был гораздо глубже. Некоторый свет на эти события — опять же весьма противоречивый — проливают интервью, которые давали в эти дни и Есенин, и Дункан.
Одна из газет поместила интервью с Айседорой под крупным заголовком: «Он сломался». Она согласилась побеседовать с корреспондентом «Интернэшнл ньюс сервис», который сообщил своим читателям: «Розы отцвели, и Сергей Есенин, муженек безудержной гениальной танцовщицы, уезжает по ее настоянию в Москву после последнего всплеска его темперамента, когда он разгромил их апартаменты в отеле «Крийон» и шокировал тем самым почтенных клиентов.
Айседора, возбужденно жестикулируя, облегчила свою душу корреспонденту «Интернэшнл ньюс сервис». Появившееся в газете интервью стоит того, чтобы привести его почти полностью:
«— Я никогда не верила в брак, а сейчас я верю в него меньше, чем когда-либо, — заявила она. — Я вышла замуж за Сергея только для того, чтобы он мог получить паспорт для поездки в Америку. Он гений, а брак между художниками невозможен.
— Сергей обожает землю, по которой я хожу, — с вызовом продолжала она. — Во время приступов безумия он может убить меня — но тогда он любит меня еще сильнее. Четыре месяца я работала с Сергеем. Он самый прелестный парень на свете, но он жертва судьбы — как все гении, он сломлен, — я оставила всякую надежду на возможность вылечить его от этого проявляющегося время от времени безумия.
Она отрицает, что они поссорились.
Вы, американцы, народ жестокий. Вы превращаете все в шутку. Это трагедия. То, что мы поссорились, это полная ложь. Сергей заболел и страдает от припадков, о которых никому не рассказывает, а они действуют на тонкую натуру поэта. Он вернулся после того, как трижды был ранен на фронте, контуженный, только для того, чтобы еще больше страдать во время революции.
Он видел, как умирают его друзья, и два года жил в комнате, где температура была пять градусов ниже нуля. Все его друзья знали, что он подвержен жестоким нервным припадкам.
Все поэты таковы, но это не мешает ему быть поразительным гением и прекрасным человеком.
Вчера я увидела, что наступает приступ, и пошла за доктором.
Когда я вернулась, комната была разгромлена.
Вот тогда я и подумала, что для него будет лучше вернуться в Россию.
Их нельзя пересаживать на другую почву
Вы знаете, есть русские, которых нельзя пересаживать на другую почву. В этом была трагедия Нижинского. Такой же и Сергей.
Сергей ничуть не озабочен.
— Я еду в Россию, чтобы повидать двух моих детей от бывшей жены, — объявил он, улыбаясь. — Я не видел их с тех пор, как Изадора увезла меня из моей родной России. Я очень соскучился по ним. Я еду в Москву, чтобы обнять моих детей. Я ведь отец.
— Да, Изадора отправляет меня домой. Но моя жена, скажу вам по секрету, присоединится ко мне в Москве. Я ее знаю. Сейчас она сердита на меня, но это пройдет».
Надо ли говорить, что в этом интервью Есенина правды не больше, чем в ответах Дункан корреспондентам.
Айседора Дункан, защищая репутацию Есенина и — отчасти — свою, адресовала в редакцию «Нью-Йорк геральд трибюн» опровержение, утверждая, что никакой ссоры между ней и Есениным не было и в помине.
Она вновь ссылалась на вымышленную контузию, которую Есенин якобы получил на фронте, где он никогда и не был. Она призывала пожалеть его, писала, что он с восемнадцати лет «знал только ужасы войны, революции и голода», и утверждала, что он заслуживает «слез сочувствия, а не насмешек».
И — что в высшей степени характерно для ее материнского к нему отношения — она взывает не к женам, а к матерям: «Я думаю, что матери согласятся со мной».
Айседора косвенно признает ненормальность психического состояния Есенина. «Горький сказал мне, — пишет она, — что со времен Гоголя и Пушкина у нас не было такого великого поэта, как Есенин».
И за этими словами следует ожидаемый ею горький финал: Увы, Гоголь умер сумасшедшим, Пушкин был убит, не дожив до старости. Судьба поэтов в России отмечена трагедией».
А сам Есенин в Берлине утверждал нечто совершенно противоположное.
Агентство «Спешиал кейбл диспач» отправило в газету «Нью-Йорк уорлд» такое сообщение:
«Берлин, 17 февраля. Сергей Есенин, муж Айседоры Дункан, остановившийся в Берлине на пути в Россию, выплеснул поток русской искренности и открытости. Молодому поэту надоел его брак, надоели жены, Америка и все на свете кроме искусства, найти которое можно только в Москве.
Когда разговор зашел о его темпераментной жене, его нападки стали еще более резкими и у него вырвались такие слова:
«Я не буду жить с ней даже за все деньги, какие есть в Америке. Как только я приеду в Москву, я подам на развод. Я был дураком. Я женился на Дункан ради ее денег и возможности попутешествовать. Но удовольствия от путешествия я не получил. Я обнаружил, что Америка — страна, где не уважают искусство, где господствует один тупой материализм. Американцы думают, что они замечательный народ, потому что они богаты, но я предпочитаю бедность в России».
Это интервью появилось в одной из берлинских газет под заголовком: «Я лучше буду жить в Сибири, чем останусь мужем Дункан».
Есенин говорил, что он счастлив наконец освободиться от своей жены и что он не хочет видеть ее больше никогда в жизни. «Если она поедет вслед за мной в Москву, — воскликнул он, — я сбегу в Сибирь. Россия велика, и я всегда найду место, где эта ужасная женщина не достанет меня».
Есенин рассказывал, что их семейное счастье было очень коротким. Они начали беспрерывно ссориться уже во время медового месяца. «У меня есть талант, — говорил он, — и у ней тоже. Но она всегда отказывалась признавать мою индивидуальность и всегда хотела командовать мною. Она хотела иметь в моем лице раба…»
В интервью описывались их ссоры: «Она била его и царапала ему лицо, но он давал ей отпор, и случалось так, что Дункан не могла несколько дней показываться на людях».
«Ссоры между нами были только эпизодами, решающим был духовный конфликт, в котором мы оба ощущали себя».
«Для Есенина, — утверждала газета, — развод не является главным. Он рассматривает его как формальность. Более всего он хочет остаться один без жены, которую он до неправдоподобия боится».
— Это был ад, который я терпел шесть месяцев. Но настал момент, когда мое терпение кончилось. Я сбежал, и теперь я чувствую себя хорошо в первый раз со дня нашей свадьбы, ощущаю себя свободным человеком, который ни от кого не зависит.
Спустя несколько дней Есенин дал еще одно интервью, в котором обвинял Дункан в приверженности к алкоголю: «Я безумно люблю Изадору, но она так много пьет, что я не мог больше терпеть этого».
Найти хоть какую-то логику, хоть какую-то последовательность в отношениях этих двух людей, когда-то любивших друг друга, невозможно. Все противоречиво, зыбко, одни слова отрицают другие, только вчера высказанные. Любовь и ненависть переплетаются в каком-то фантасмагорическом клубке. Как примирить проклятья, которые Есенин сыпал в адрес Айседоры, с его мольбами приехать к нему в Берлин. А об этом свидетельствует Мари Дести, когда вспоминает о первых днях после отъезда Есенина в Берлин:
«Изадора все еще была прикована к постели лихорадкой, и ее нельзя было оставлять одну ни на секунду ни днем, ни ночью. Ее непрерывно бомбардировали телеграммами из Берлина от Сергея и его друзей, в которых говорилось, что он наверняка покончит самоубийством, если Изадора не вернется к нему. Таких телеграмм в день приносили пять или шесть. От этих телеграмм температура у Изадоры только подскакивала».
Долго так продолжаться не могло. Она решила ехать в Берлин. Мари Дести она сказала:
— Мари, дорогая, если ты действительно мне друг, найди способ отвезти меня к Сергею, или я умру. Я не могу жить без него. Мне все равно, что он натворил. Я люблю его, и он любит меня. Одна мысль о том, что с ним случится беда, сводит меня с ума. Узнай, где мы можем нанять машину до Берлина.
Они заняли у кого-то денег и отправились в «одно из самых странных путешествий», во время которого Дункан вела себя как сумасшедшая.
Когда они уже ехали по Германии, Айседора объявила: «У меня предчувствие, что Есенин умирает, что он застрелился».
Они несколько раз меняли автомобили — в Страсбурге, Байрейте и Лейпциге. Мари Дести отмечала: «Изадора всегда была в восторге от путешествий на машине или в самолете. Быстрая езда была ей так же необходима, как воздух. Она жила только тогда, когда мчалась куда-то как сумасшедшая, останавливаясь только, чтобы перекусить и выпить. Обычно она довольствовалась ростбифом, салатом и шампанским». Безумное путешествие подошло к концу, и в десять часов вечера они въехали в Берлин. Мари Дести так описывала встречу Есенина и Дункан:
«Когда мы подъехали к подъезду отеля «Адлон» в Берлине, Есенин одним прыжком оказался в нашей машине, перемахнув через радиатор, мотор, через голову шофера, прямо в объятия Изадоры. Так они и замерли, держа друг друга в руках, а в это время друг поэта, которого я никогда ранее не видела, вскочил в машину с другой стороны, бурно приветствовал меня, сжимая мне руку и целуя в обе щеки, выкрикивая при этом какие-то стихотворные строчки из поэмы, которую они с Есениным сочинили.
…Да, это был Есенин, во плоти, его золотые волосы развевались при свете электрических ламп. Прыгая к нам в машину, он сорвал с себя шляпу и отшвырнул ее — дорогостоящий, но прекрасный жест. Зачем ему головной убор? Его любовь, его дорогая, его Изадора с ним, к черту шляпу.
В этом не было ничего экзальтированного — просто двум влюбленным не было никакого дела до окружающих…»
Управляющий отелем «Адлон», видимо, наслышанный об эскападах Есенина в парижском «Крийоне», вежливо, но твердо отказался предоставить им номер. Наконец они нашли пристанище в «Палас отеле», где их поселили в «королевских апартаментах».
Айседора решила в честь воссоединения закатить пир. Есенин пригласил своих берлинских друзей и знакомых. Айседоре вздумалось устроить чисто русское празднество, только с русскими блюдами и выпивкой. Заказали изысканную русскую закуску, пели задушевные русские песни под балалайку, водка лилась рекой.
Мари Дести оставила весьма красочное описание этого вечера:
«Изадора вышла из своей комнаты, прекрасная, как радуга, такой красивой я ее больше не видела. Разве только в день ее смерти. Есенин упал перед ней на колени, слезы катились по его лицу. Он называл ее тысячью нежных любовных имен. Вся компания тоже опустилась на колени перед Изадорой, целуя ей руки.
Сергей был доволен — раз они кланялись Изадоре, значит, склонялись и перед ним, перед их поэтом, их Есениным, их Сергеем…
Кое-кто из гостей уже начал сползать со стульев на пол, когда Есенин вскочил и начал читать одну из своих поэм. Его чтение подействовало на слушателей как электрический шок. Он взобрался на стол, и, хотя я в то время не понимала ни слова по-русски, меня тоже захватила сила и пафос его голоса, его выразительность.
Потом Изадора и Есенин плясали русские танцы, а все остальные хлопали в такт в ладоши».
Неожиданно между Дункан и Есениным вспыхнула ссора. Есенин в бешенстве стал крушить все, что попадалось под руку, оскорблять Айседору и Мари.
«Трое или четверо из его друзей, — вспоминала Мари, — пытались утихомирить Есенина. С таким же успехом они могли пытаться остановить океанские волны. Трудно было поверить, что в этом молодом человеке во время припадка проявится такая сила.
Я впоследствии видела немало таких сцен. Они все начинались одинаково. Он сидел, ел, совершенно нормально разговаривал, и вдруг, без всякой видимой причины его лицо смертельно бледнело, зрачки его синих глаз начинали расширяться, пока глаза становились похожими на черные угли, на которые страшно было смотреть. Иногда, если мы успевали и нам доставало храбрости, можно было попросить его спеть и предупредить этим кризис. Обычно он в таких случаях успокаивался, но ненадолго…
В ту ночь Есенин проворно запер все двери и ключи положил себе в карман. После этого он стал метаться по салону, как мяч или багаж на судне во время шторма. Управляющий отелем и служащие тщетно пытались открыть двери. Никто из присутствующих не пытался уйти, а Изадора и Сергей, тихие, как ягнята, отправились в свою комнату. На следующее утро принесли вежливую записку от управляющего отелем, в которой он напоминал, что номер снят и оплачен до полудня, и он просит к двенадцати часам освободить его».
Дункан, Есенин и Мари Дести отправились на долгую автомобильную прогулку, а потом переехали в другой отель. Вечером у них опять собрались молодые русские поэты, опять на столе была хорошая русская закуска, опять рекой текла водка. В середине ужина Есенин начал петь, потом схватил Айседору и пустился с ней в пляс. Затем неожиданно отстранил ее, сказав, что так танцевать могут только русские. Он вытащил на середину комнаты одного из молодых поэтов, и они стали плясать в присядку, подпрыгивая чуть ли не до потолка.
Айседора шепнула Мари, что она излечит Есенина от этих глупостей, и принялась ругать его, используя все оскорбительные слова, какие она знала в русском языке, потом перешла на животных, обзывая его свиньей, собакой, коровой. Поначалу ее брань, произносимая с забавным акцентом, развеселила всех, и даже Есенин стал хохотать. Он вскочил на стол, схватил Айседору на руки и принялся страстно целовать ее глаза, волосы, руки и даже ноги.
Тем временем шампанское лилось рекой. У Есенина начался один из его обычных припадков, даже его лучшие друзья были напуганы… Он схватил скатерть и сдернул ее со стола, разбрасывая по всей комнате закуски и посуду. Потом он несколько протрезвел, а гости принялись собирать тарелки и рюмки и наводить хоть какой-то порядок на столе.
Айседора, желая успокоить Есенина, сама стала бить посуду, сначала спокойно, но затем впала в истерику и крушила все, что попадало под руку.
Мари Дести вспоминала: «Опять прибежал управляющий отелем и служащие. Сергей с хитростью лунатика сразу притих и стал требовать, чтобы вызвали врача… Я подумала, что он хочет, чтобы его отправили в клинику, как это было в Париже. Появился доктор и, несмотря на все мои протесты, сделал Изадоре укол, от которого она почувствовала себя совсем плохо. Я предложила врачу сделать такой же укол Есенину, но этот хитрец вел себя совершенно спокойно в присутствии врача.
Есенин в течение ночи несколько раз будил Изадору, и я не могла помешать ему, разве только если бы я убила его, что я, наверное, и должна была сделать… Он просидел со своими друзьями всю ночь, распевая протяжные крестьянские песни».
А в восемь часов утра Есенин, «жалобно всхлипывая», рассказал Мари на своем ломаном английском языке, что Дункан «ушла, ушла навсегда, скорее всего, она покончила жизнь самоубийством».
Управляющий отелем сообщил Мари, что Дункан покинула отель в шесть утра. Мари Дести записала: «Я чувствовала, что должна заставить Изадору бросить Сергея, даже если он покончит с собой, а иначе он наверняка убьет ее. Но я боялась, что она никогда не оставит его».
Чуть позднее горничная принесла Мари тайную записку от Айседоры. Мари схватила такси и помчалась в Потсдам, где нашла Дункан, «сидящей в известном ресторане».
«После ланча, — сообщает Мари, — мы отправились на поиски отеля. Изадора с трудом передвигала ноги и была в полубессознательном состоянии. Возможно, все еще действовал тот укол. Она спросила меня про Сергея и рассказала, что он наговорил ей уйму чудовищных грубостей о ее детях. Он может делать все, что хочет, и говорить все, что ему взбредет в голову, но касаться раны в ее сердце, это уж слишком…
Я умоляла Изадору вернуться вместе со мной в Париж и начать серьезно работать. Или же она должна немедленно вернуться в Россию и заняться там своей школой. Но она должна бросить Сергея. Она ответила, что это все равно, что предать больного ребенка, и она никогда, никогда не пойдет на это. Она увезет Есенина на его родину…
Она приняла ванну и немного поспала. Часам к девяти она уже не могла больше терпеть и позвонила Сергею. Он так каялся, что вновь полностью завладел ее сердцем. Она сказала ему, чтобы он взял машину, двух друзей и весь их багаж. Портье будет сопровождать их со счетом отеля, который она тотчас же оплатит».
После оплаты счета денег у Дункан практически не осталось.
«Состоялся семейный совет, — продолжает Мари Дести, — и Изадора решила, что мы все едем в Россию. Но перед этим необходимо было вернуться в Париж, чтобы сдать в аренду или продать дом на Рю де ла Памп и мебель, сложить все туалеты Изадоры и ее книги, чтобы увезти их в Москву, где она собирается обосноваться до конца своей жизни и где она, несмотря на все трудности, будет заниматься своей школой танца, а Сергей будет писать свои замечательные стихи. Мечты. Прекрасные мечты».
Роман Гуль, который видел Есенина в Берлине в мае 1922 года, вновь встретился с ним после поездки Есенина по Америке. Он увидел Есенина, когда тот читал свой цикл стихотворений «Москва кабацкая». Есенин был одет в черный смокинг и лакированные туфли. «Лицо его выглядело ужасно из-за густого слоя лиловой пудры, — вспоминал Гуль. — Это лицо, когда-то в молодости такое красивое, теперь казалось больным, мертвенным. Его золотые волосы и темно-синие глаза, казалось, принадлежали другому лицу, затерявшемуся где-то в Рязани. Когда Есенин кончил читать, он слабо улыбнулся, взял стакан и выпил его залпом, как будто там была вода. Описать это невозможно. В том, как он взял стакан и выпил его и поставил обратно, было что-то обреченное, виделся конец Есенина».
Есенин и Гуль вышли из берлинского Клуба авиаторов. Есенин уже несколько протрезвел и говорил:
— Ты знаешь, я ничего не люблю. Ничего… Я люблю только моих детей. Я люблю их. Моя дочка — прелесть, блондинка. Она топает ножками и кричит: «Я Есенина!» Такая замечательная дочка… Я должен был вернуться в Россию к моим детям, а я вместо этого сбежал… Я очень люблю Россию. И я люблю мою мать. И люблю революцию. Я очень люблю революцию…
Скорее всего, эти слова были продиктованы тяжелым похмельем. Как известно, о своих детях Есенин вспоминал крайне редко. А что касается его любви к революции, то есть все основания больше доверять цитированному выше его письму Кусикову с борта лайнера «Джордж Вашингтон».
В книге мемуаров Мари Дести есть особая глава — «Наше полное приключений возвращение в Париж». Это путешествие заслуживает упоминания, поскольку накладывает еще несколько красок на картину отношений Есенина и Дункан в тот драматический период их совместной жизни перед окончательным разрывом.
Они приехали на машине в Лейпциг, переночевали там, а на следующий день к вечеру добрались до Веймара.
После очередного ужасного вечернего скандала и трений, вызванных пропажей денег Сергея, которые Мари Дести тайно конфисковала, справедливо считая, что они принадлежат Изадоре, они посетили дома Гете и Листа.
«Должна признать, что Сергей в этот день был на высоте, — пишет Дести. — Ему все нравилось, и я уверена, что среди русских шел очень интересный разговор. Изадора сидела, удовлетворенно улыбаясь, довольная тем, что ее дрянной мальчишка Сергей счастлив. Такая любовь, какую она испытывала к «мальчишке» двадцати семи лет от роду, остается за гранью понимания».
15 апреля Дункан и Есенин добрались до Парижа. Здесь возникли некоторые сложности с ночлегом. Владельцы отелей знали дурную репутацию Есенина как скандалиста, который обожает крушить мебель и бить зеркала, и отказывались предоставить им номер. А у них было туго с деньгами. Наконец, Дункан одолжила у кого-то деньги и они въехали в роскошный номер в отеле «Карлтон».
На следующий день управляющий отелем, человек, по-видимому, плохо осведомленный, пригласил их на праздничный ужин. Все шло прекрасно, пока Айседора не начала танцевать танго, с профессиональным танцором. Есенин пришел в ярость, потребовал еще шампанского и устроил грандиозный скандал.
После этого он схватил свое пальто и шляпу, и ушел, успев взять взаймы какую-то сумму у консьержа.
За этим последовал разгром, напоминавший, по словам Мари Дести, штурм Парижа. Никакой полк, писала одна газета, не может учинить такой шум, какой может учинить один сумасшедший русский поэт, когда он в ударе.
Есенин вернулся домой в поисках денег, но Дункан успела предупредить консьержа, чтобы он ничего Есенину не давал. Это разбудило в душе Есенина сонм демонов. Он сокрушил все, что попадало ему под руку в своей комнате, потом он вытащил все туалеты Айседоры из гардероба, разорвал их на клочки и разбросал по комнате. Потом он пытался взломать дверь в комнату, где скрывались Изадора и Мари Дести.
Потом Есенин уехал из отеля, Айседора и Мари тоже. Утром, вернувшись, они нашли Есенина в углу за кушеткой в салоне. Он спал. Выяснилось, что он отправился в русский ночной ресторан, заявился туда без денег и стал оскорблять хозяев ресторана. Но бывшие генералы царской армии знали, как писала Мари Дести, как обращаться с пьяным русским крестьянином. Они отобрали у него часы и костюм, сняли с него ботинки и били по подошвам. Потом они вышвырнули его в канаву. Таксист, который привез Есенина в этот ресторан, подобрал его и водворил назад в отель.
Этот эпизод доставил немало радости просмаковавшей его русской эмигрантской прессе.
Здесь уместно подчеркнуть одну немаловажную деталь: во время пьяных загулов Есенин начинает бить зеркала. В отеле «Крийон» в середине февраля он разбил все зеркала. В мае 1923 года он метнул канделябр в зеркало, которое разлетелось на мелкие кусочки. Явление это отнюдь не случайное. Психоаналитики утверждают, что битье зеркал является проявлением стремления к самоуничтожению. Сначала больной уничтожает свое изображение в зеркале…
Однажды, уже незадолго до смерти, один знакомый застал его «посреди комнаты всхлипывающим над осколками зеркала, которое он разбил». Эта трагическая ситуация нашла свое отражение в последних строках поэмы «Черный человек»:
Черный человек! Ты прескверный гость. Эта слава давно Про тебя разносится. Я взбешен, разъярен, И летит моя трость Прямо к морде его, В переносицу… . . . . . . . . . . . . . …Месяц умер, Синеет в окошко рассвет. Ах ты, ночь! Что ты, ночь, наковеркала? Я в цилиндре стою. Никого со мной нет. Я один… И разбитое зеркало…Все чаще у Есенина возникает мотив самоубийства. Весной 1923 года он пишет Мариенгофу из Парижа…
«Господи, даже повеситься можно от такого одиночества».
Конечно, эти слова можно было бы отнести за счет расхожего речевого штампа: «повеситься впору». Но под пером Есенина и в его устах они обретают иное, пророческое, трагическое звучание.
Сьюэлл Стоукс приводил рассказ Дункан:
«Что за абсурдная идея, — говорила она, — считать, что чем больше человек говорит о самоубийстве, тем меньше шансов, что он действительно покончит с собой. Есенин всегда угрожал, что расстанется с этой жизнью. Однажды, когда я в Париже устраивала ужин для нескольких друзей, он попытался повеситься. Когда моих гостей пригласили в столовую, они увидели Есенина, свешивающегося с люстры. Но он был жив. Так что они только посмеялись. Они говорили мне, что весьма глупо с моей стороны так волноваться, поскольку он хотел только напугать меня».
Если считать этот рассказ достоверным, то это первая зафиксированная попытка Есенина покончить с собой, хотя были слухи, что в Нью–Йорке он хотел покончить жизнь самоубийством и в Берлине угрожал тем же.
После того как он в конце мая в Париже бил зеркала, Дункан решила уложить его в клинику «Мезон де Санте», чтобы его там подлечили. После того как Есенин прошел в этой клинике курс лечения и был выписан, она окончательно решила продать свою мебель на Рю де ла Памп, дом сдать в долгосрочную аренду и ехать в Москву.
Один из знакомых Есенина по тем временам Виктор Серов вспоминал о своем разговоре с Айседорой. Она сказала: «Да, я совершила ужасную ошибку, вывезя Есенина из России… Он не может жить вне России. Здесь, в Париже, у него нет никого из друзей — я имею в виду русских. Он хочет вернуться домой, в Россию, ему одиноко, бесконечно одиноко».
Все понимали, что пришла пора — даже необходимость — Есенину возвращаться в Россию.
Глава XI ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО СЫНА
Когда поезд пересек границу между Польшей и Россией и остановился на первой приграничной станции, Есенин выскочил из вагона, упал на колени и принялся, обливаясь слезами, целовать землю.
Он отсутствовал пятнадцать месяцев! И вот теперь он наконец дома, на земле, по которой он так истосковался!
В Москве на вокзале их встречали Ирма Дункан и ее муж, импресарио Айседоры Илья Шнейдер. В своих мемуарах «Встречи с Есениным» Шнейдер так описал эту встречу:
«Есенин и Дункан, веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки: «Вот я привезла этого ребенка на его родину, но у меня нет более ничего общего с ним…»
В несколько иной тональности описывала эту встречу Ирма Дункан. Она писала:
«Когда Изадора вылезла из поезда, она выглядела утомленной и обеспокоенной. Она действительно была рада, что наконец-то добралась до завершения очень тяжелой поездки; она привезла своего поэта, как и обещала сама себе, в страну, которой он принадлежал.
А предмет ее заботы с трудом спустился по ступенькам, он явно был не в себе, то ли под влиянием всепоглощающего эмоционального волнения по поводу того, что он вернулся в Россию, то ли сказывалась бесконечная водка, которую он вливал в себя с того момента, как поезд пересек границу. В припадке ярости он успел разбить оконные стекла в купе».
Бесчисленные чемоданы, сундуки и сумки были отправлены в особняк Дункан на Пречистенке, туда же отправились и хозяева багажа.
Однако покоя в доме, семейной гармонии уже не было и никогда не будет.
Есенин в течение шести с лишним месяцев — все время их заграничного турне по Европе и Америке — был привязан к Дункан не столько сердечными чувствами, сколько узами материальной зависимости от нее. Теперь, оказавшись в родной Москве, в родной стихии богемной литературной жизни столицы, он радовался вновь обретенной свободе.
Уже через несколько дней, проведенных вместе на Пречистенке, между супругами вспыхнула новая ссора, и Есенин исчез из дома.
В середине августа Айседора вместе с Ирмой уехала на Кавказ, где у нее были запланированы концерты и где она собиралась отдохнуть и подлечиться. Можно сказать, что на этом их совместная супружеская жизнь оборвалась.
Айседора, женщина неглупая, наверное, понимала, что ее великий роман с молодым русским поэтом кончился. И тем не менее не могла отказаться от надежды снова встретиться со своим златокудрым ангелом и восстановить с ним любовные отношения. Она начала бомбардировать Есенина телеграммами.
Из Кисловодска: «Москва Пречистенка 20 Есенину Дорогой очень горюю без тебя Надеюсь ты скоро сюда приедешь Я люблю тебя навсегда Изадора». Вскоре после телеграммы еще одна — на этот раз в Богословский переулок, куда Есенин уже успел переехать в свою старую комнату. «Петровка Богословский 3 Мариенгофу и Есенину В понедельник уезжаю в Тифлис Приезжай туда Телеграфируй день приезда гостиницу Ориент Я люблю тебя до конца моей жизни Изадора».
Есенин ответил ей вежливой телеграммой: «Я часто вспоминаю тебя со всей благодарностью к тебе Я желаю тебе успехов и успехов и чтобы ты пила меньше». Ни намека на желание встретиться, на стремление вернуть ей свою любовь.
Вот с кем Есенин хотел немедленно встретиться, так это со своим давним другом Анатолием Мариенгофом, который находился в то время в Батуме. Из Москвы туда немедленно полетела телеграмма: «Я приехал Приезжай Есенин». Мариенгоф немедленно помчался в Москву.
Мариенгофа, конечно, очень волновало, как выглядит его друг после столь длительного отсутствия. При первой же встрече Мариенгоф отметил хороший европейский костюм Есенина, его легкую походку и прекрасные золотые кудри. «Вот только глаза… Я не мог понять их… странно, но это были не его глаза».
Есенин стал читать стихи, написанные им за границей. Мариенгоф сказал:
— «Москва кабацкая» — прекрасно. Такой лирической силы и такого трагизма у тебя еще в стихах не было… Умудрился форму цыганского романса возвысить до большого, очень большого искусства. А «Черный человек» плохо… совсем плохо… Никуда не годится.
— А Горький плакал… Я ему «Черного человека» читал… плакал слезами…
Странно, что Мариенгоф не понял всей потрясающей силы «Черного человека». А ведь трагический настрой Есенина он ощущал. Мариенгоф писал: «После 1923 года, т.е. после его возвращения из свадебной поездки за границу, весь смысл его существования, я думаю, сводился к формуле: «Плевать на жизнь!»
Мариенгоф отметил для себя еще одну перемену, происшедшую с его другом после поездки в Европу и Америку: «Есенин уехал с Пречистенки — отчасти сломленный. А из этого фатального свадебного путешествия (будь она проклята, эта свадебная поездка) он вернулся в Москву в 1923 году — совершенно сломленным».
«В другом случае Мариенгоф писал: «Есенин вернулся из поездки за границу другим Есениным. Какая-то непроницаемая тьма окутывала его слабое сознание».
Подобное же ощущение вынес из встречи с Есениным Иван Старцев: «Выглядел он ужасно. Разговаривал бессвязно, мысли его перескакивали с одного предмета на другой, фразы оставались незаконченными. Он казался мысленно отсутствующим. Внешне он выглядел европейским денди, менял костюмы по нескольку раз в день».
В разговорах с друзьями Есенин делился своими впечатлениями от заграницы. Он говорил: «В Венеции неплохая архитектура… только там все воняет!.. А в Нью-Йорке мне больше всего понравилась обезьяна, живущая у одного банкира… В Париже я сидел в ресторане, подходит официант и говорит: «Вы, Есенин, соизволили зайти сюда поесть, а мы, гвардейские офицеры, бегаем здесь с салфетками через руку». «Вы лакеи? — спрашиваю. «Да! Лакеи!» «Тогда принесите мне шампанского и перестаньте болтать!» Вот так это произошло… Я устроил перевод твоих стихов… опубликовал свою книгу на французском… но это бессмысленно… поэзия там никому не нужна… Что же касается Изадоры — то адью!»
Вечер с Мариенгофом закончился в каком-то богемном кабаке. Есенин напился, ругался, бил посуду, опрокидывал столики, рвал и разбрасывал десятирублевые купюры. Потом его отвезли домой в бессознательном состоянии, смертельно бледного, с пеной у рта.
Мариенгоф оставил нам следующий комментарий: «Таким оказался этот день — день нашей первой встречи… Я припоминал поэму о «черном человеке». И мне стало страшно».
Такое же впечатление сложилось и у другого поэта-имажиниста Вадима Шершеневича: «Когда Сережа вернулся в Россию, внешне чрезвычайно довольный своим сверхмодным европеизмом, Москва показалась ему такой же, как проклятый им Нью-Йорк. Я помню, как навестил его на тихой Пречистенке, и когда мы шли по дорожке, Сережа схватил меня за руку и спросил: «Неужели ты не слышишь, как растут небоскребы? Здесь то же самое, что и в Америке, проклятой и убийственной». И он потчевал Москву алкоголем, как и в Америке».
Шершеневич приводил слова Есенина, брошенные им после возвращения из-за границы: «Я чувствую, что во мне осталось мало русского… Я не стал частью Запада, но отдалился от Москвы… Я хочу Америку, но я не принимаю ту Америку, какую я видел…»
Пролетарский поэт Николай Полетаев тоже отметил, как изменился Есенин внешне: «Это был не тот Есенин: лицо было опухшее, дряблое, его движения утратили свою силу и гибкость. Было видно, что он много пьет».
Точно так же был поражен переменой в Есенине писатель Георгий Устинов. «Он вернулся, — писал Устинов о Есенине, — совершенно иным, еще более раздавленным и еще более буйным.
Было все более тяжело видеть его. Он становился невыносимым, это был совершенно другой Есенин — не тот, которого я знал в 1919 году с его живым, ищущим умом, с его метафизическими идеями — это был новый человек, совершенно неожиданно постаревший, который долгое время мучительно искал что-то и ничего не нашел. Его знакомство с европейской культурой углубило трещину в личности Есенина, а она и так имела заметную тенденцию расширяться и углубляться».
Любопытные воспоминания о Есенине, только что вернувшемся из-за границы, оставил ленинградский поэт Всеволод Рождественский. Он рассказывал об их совместной с Есениным поездке в Детское Село[4]. «Обоих нас охватили давние царскосельские воспоминания. Мы вернулись к годам нашей литературной юности, припоминали прежних товарищей, первые успехи и неудачи. Есенин оживился, но ненадолго. Глубокая задумчивость опять охватила его. Лицо посерело, словно от непреодолимой усталости.
За ним вообще после возвращения стали замечаться некоторые странности. Он быстро переходил от взрывов веселья к самой черной меланхолии, бывал непривычно замкнут и недоверчив. Сколько раз говорил он, что жизнь опережает его и что он боится оказаться лишним, остаться где-то в стороне. Он ясно понимал трагичность своего положения, но с каким-то непонятным упорством держался за старые иллюзии и с некоторым вызовом подчеркивал иногда свои пристрастия к старой — дедовской и отцовской — деревне, хотя и считал себя «самым яростным попутчиком Советской страны».
Тягостным было для него и то, что, несмотря на всю свою славу, он чувствовал себя бесконечно одиноким. Из чувства гордости он никому не позволил бы жалеть себя, но со свойственной ему чуткостью не мог не понимать, что именно такое отношение все чаще и чаще встречает на своем пути».
Примерно к этому же времени относится и разрыв Есенина с Клюевым.
В середине октября Есенин получил письмо от Клюева, жалостливое, приторно-сладкое: «Умираю с голоду, болен. Хочу посмотреть еще раз своего Сереженьку, чтобы спокойней умереть».
Подруга Гали Бениславской Анна Назарова рассказывала: «Сергей Александрович взволнованно и с большой любовью говорил, какой Клюев чудный, хороший, как он его любит. Решено, что поедет и привезет его в Москву».
Есенин попросил Назарову на время, пока Клюев будет в Москве, уступить ему свою комнату. Она согласилась.
Далее Назарова вспоминает: «Через неделю, может быть меньше, вернулся с Клюевым. В первый момент, когда Клюев вошел в комнату и я увидела его сытое, самодовольное и какое-то нагло-услужливое лицо, что-то упало у меня внутри. По рассказам Сергея Александровича не таким представляла и любила Клюева. Но это был один момент. Тут же отогнала. И обе мы, и я, и Галя, радушно и приветливо поздоровались с Клюевым».
Анне Назаровой вторит Галя Бениславская:
« В четверг приехал Сергей Александрович с Клюевым.
Отвратительным оказался он. Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обусловленные всем этим: лицемерие и хитрость — вот сущность этого, когда-то крупного поэта».
В какой-то мере в отношении Клюева прозрел и Есенин. Анна Назарова вспоминала примечательные, полные глубокого смысла слова Есенина, произнесенные им после ухода Клюева:
— Какой он хороший! Хороший… но чужой… Ушел я от него. Нечем связаться. Учитель он был мой, а я его перерос!
Завершение этой встречи ученика со своим бывшим учителем совсем уже смахивало на площадный фарс. Описание этого финала оставил Анатолий Мариенгоф.
«Клюев раскрывал пастырские объятия перед меньшими своими братьями по слову, троекратно целовал в губы, называл Есенина Сереженькой и даже меня ласково гладил по колену, приговаривая: «Олень! Олень!»
Есенин к Клюеву был ласков и льстив. Рассказывал о «Россиянах»[5], обмозговывал, как из «старшего брата» вытесать подпорочку для своей «диктатуры», как «Миколаем» смирить Клычкова и Орешина.
А Клюев вздыхал:
— Вот, Сереженька, в лапоточки скоро обуюсь… последние штиблетишки, Сереженька, развалились!
Есенин заказал для Клюева шевровые сапоги.
А вечером в «Стойле» допытывал:
— Ну как же насчет «Россиян», Николай?
— А я кумекаю — ты, Сереженька, голова… тебе красный угол.
— Ты скажи им — Сергею-то Клычкову и Петру, что, мол, «Есенина диктатура».
— Скажу, Сереженька, скажу…
Сапоги делались целую неделю.
Клюев корил Есенина:
— Чего Изадору-то бросил… хорошая баба… Богатая… Вот бы мне ее… плюшевую бы шляпу купил с ямкой и сюртук, Сереженька, из поповского сукна себе справил…
— Справим, Николай, справим! Только бы вот «Россияне»…
А когда шевровые сапоги были готовы, Клюев увязал их в котомочку и в ту же ночь, втихомолку, не простившись ни с кем, уехал из Москвы».
Ощущение одиночества у Есенина усиливалось. А впереди уже маячил разрыв с Мариенгофом. К тому же умер близкий друг и собрат по перу Ширяевец. Поэт Кириллов вспоминал:
«Вскоре после смерти Ширяевца я сидел с Есениным в одном из московских ресторанов. С нами был еще поэт В. Казин. Есенин был печален. Говорил о своей болезни, о том, что он устал жить и что, вероятно, он уже ничего не создаст значительного.
— Чувство смерти преследует меня. Часто ночью, во время бессонницы, я ощущаю ее близость… Это очень страшно. Тогда я встаю с кровати, открываю свет и начинаю быстро ходить по комнате, читая книгу. Таким образом рассеиваешься…
Затем Есенин прочитал два варианта стихотворения на смерть Ширяевца. В этот вечер мы долго не расставались».
Эти щемящие строки невозможно не процитировать:
Мы теперь уходим понемногу В ту страну, где тишь и благодать. Может быть, и скоро мне в дорогу Бренные пожитки собирать. Милые березовые чащи! Ты земля! И вы, равнин пески! Перед этим сонмом уходящих Я не в силах скрыть своей тоски. Слишком я любил на этом свете Все, что душу облекает в плоть. Мир осинам, что, раскинув ветви, Загляделись в розовую водь. Много дум я в тишине продумал, Много песен про себя сложил, И на этой на земле угрюмой Счастлив тем, что я дышал и жил. Счастлив тем, что целовал я женщин, Мял цветы, валялся на траве И зверье, как братьев наших меньших, Никогда не бил по голове.Состояние здоровья Есенина заметно ухудшалось. В декабре 1923 года его чуть ли не силой уложили в санаторий для нервнобольных на Большой Полянке. Лежавший рядом с ним в санатории Ф. Гущин вспоминал:
«Впервые Есенина в санатории на Б. Полянке я увидел в прекрасно отутюженном сером костюме. Это был статный блондин со светло–голубыми глазами. Больше всего в нем подкупали его необычайная скромность и простота и умение сказать ласковое и доброе слово любому больному. В обстановке тихого санатория трудно было поверить, чтобы Есенин мог когда-либо терять спокойствие, нарушать общественный порядок».
Через некоторое время Есенина вновь пытаются подлечить, на этот раз в Шереметьевской больнице (сейчас Институт имени Склифосовского). Оттуда его перевели в Кремлевскую больницу. Там его навестила писательница Софья Виноградская. Она оставила довольно впечатляющую запись об этом посещении и о разговорах, которые там велись.
«Есенин рассказывал про Шереметьевскую больницу, где ему полюбился какой-то беспризорник, хорошо распевавший песни, потом Есенин стал стихи читать. Последним он прочитал стихотворение «Годы молодые с забубенной славой».
Он не читал, он хрипел, рвался изо всех сил с больничной койки, к которой он был словно пригвожден, и бил жесткую кровать забинтованной рукой. Перед нами был не поэт, читающий стихи, а человек, который рассказывал жуткую правду своей жизни, который кричал о своих муках.
Ошеломленные, подавленные, мы слушали его хрип, скрежет зубов, неистовые удары рукой по кровати.
Он кончил, в изнеможении опустился на подушки, провел рукой по лицу, по волосам и сказал:
— Это стихотворение маленькое, нестоящее оно.
Мы высказали наше мнение.
— Значит, оно не плохое? — спросил он.
Такие вопросы он задавал по поводу самых прекрасных его стихотворений. И спрашивал он искренне. Он действительно не знал, хорошо или плохо то, что он написал.
Больше того, не понимал, не чувствовал, до чего хорошо то, что он написал. Лишь после того, как Качалов прочитал ему его стихи, он сказал:
— А я и не знал, что у меня такие хорошие стихи.
…Стихи свои он любил, дорожил ими, пока писал. Когда стихотворение бывало уже написано и напечатано, оно для него чужое было.
— Не мое это уже, чужое уже, когда написано.
Когда ему говорили, что он должен быть счастливейшим в мире человеком, так как пишет прекраснейшие в мире стихи, он отвечал:
— Но мне-то что с того? Что мне остается? Вот вырву из себя, напишу, оно и ушло от меня, и я остался ни с чем. Ведь при мне ничего не осталось.
Говорил он это зло, с каким-то остервенением. Он чувствовал себя мучеником своих же стихов… Он злился на то, что все свои мысли, все свои чувства выливал в стихах, не оставляя тем самым ничего для себя.
Не писать он не мог. А в промежутках между писанием он хворал, пил. Вне стихов ему было скучно. Они словно высасывали из него все соки».
Между тем состояние здоровья Есенина отнюдь не улучшалось. В медицинском заключении психиатрической клиники отмечалось, что он «страдает серьезным нервным и психическим заболеванием, выражающемся в серьезных приступах психического расстройства, в навязчивых идеях и отклонениях».
Еще раньше, 8 февраля 1924 года, Галя Бениславская писала Есенину, умоляя его прекратить пьяные эскапады, которые «хуже любой формы поноса»: «В конце концов, вы страдаете психическим расстройством, а это гораздо страшнее и отвратительнее расстройства желудка».
А 6 апреля она пишет Есенину длинное, очень серьезное письмо, умоляя его оценить ее преданность, признаваясь, что находится «на грани» из-за бесполезности всех ее усилий помочь ему. Она подчеркивает, что Есенин теперь «совершенно одинок», что он ничего вокруг не видит и не слышит.
«Вы сейчас какой-то ненастоящий. Вы постоянно как бы отсутствуете. Вы полностью ушли в себя, замкнув в себе вашу душу, ваш опыт, ваши чувства. Вы видите других людей только постольку, поскольку замечаете у них отклик на ваш самоанализ. Посмотрите, как вы безразличны по отношению ко всему, что не совпадает с вашими взглядами… Это проявление болезни и, без сомнения, связано с вашим общим состоянием. Что-то в вас в настоящее время атрофировалось, и вы отделили себя от всего остального мира… Вы, как безумный, идете по жизни, не видя никого и ничего… Если вы хотите выздороветь, поработайте немного над собой… Вы, без сомнения, слабы настолько, насколько вы себе внушаете. Не прячьтесь за безнадежностью вашего положения. Это глупость! "
В этот период обострившейся депрессии стали вылезать наружу его антибольшевистские настроения, он стал острее ощущать противоречия строящегося нового общества. В апреле он поехал в Ленинград. Иван Аксенов вспоминал, как Есенин там говорил ему: «Мы живем в неустойчивом мире, и я ничего не понимаю в нем». Когда Есенина спросили, ездит ли он к себе на родину в деревню, он ответил: «Мне больно навещать их. Отец все сидит под деревом, а я ощущаю всю трагедию, обрушившуюся на Россию».
Теперь, особенно когда он бывал пьян, а пьян он бывал слишком часто, его неприятие «большевистского рая» прорывалось наружу особенно бурно. И об этом свидетельствовали не только такие эмигранты, как Ходасевич и Георгий Иванов, но и пролетарский писатель Иван Евдокимов. С сожалением приходится признать, что Есенин, видимо, памятуя, что многие вожди большевиков были евреями, позволял себе антисемитские высказывания. И если эпизод в квартире Мани-Лейба в Нью-Йорке можно было считать случайностью, то теперь такие высказывания стали у пьяного Есенина делом обычным.
Уже упоминавшийся Иван Евдокимов, в ту пору часто общавшийся с Есениным, вспоминал:
«В пьяном виде он был заносчив, груб, он ругался, кричал и распускал слюни, размахивая руками, и очень много курил. Он производил болезненное, неприятное, отталкивающее впечатление. Он постоянно кого-то ругал, часто писателей и поэтов и даже крестьян, о которых отзывался в самых чудовищных выражениях. Он позволял себе иронические реплики в адрес советской власти, антисемитские высказывания, произнося с горечью и отвращением слово «жид!»
Владимир Чернявский вспоминал, как после шестилетнего перерыва встретил в 1924 году в Ленинграде Есенина. Чернявский тогда сказал Есенину, что тот должен меньше пить, на что Есенин ответил:
— Я ничего не могу с этим поделать, как вы этого не понимаете, я не могу бросить пить. Если я не буду пить, как я смогу переносить все это?
«Чем больше он пил, — писал Чернявский, — тем мрачнее и с большей горечью говорил о современности, о том, что «они творят», что они обманули его… В этом потоке обвинений и требований прорывался непонятный национализм и ненависть к евреям… он говорил о будущей революции, в которой он, Есенин, не своими стихами, а собственными руками будет бить, бить… Кого? Он сам не мог ответить на этот вопрос».
В июне Есенин вновь поехал в Ленинград. Здесь он повстречал нескольких людей из своего петроградского прошлого, в частности, Иванова–Разумника. Этот умный человек отозвался о «болезни» Есенина в следующих словах: «Эта болезнь явилась результатом невозможности писать и дышать в удушающей атмосфере советского рая. Я знаю это из разговора с Есениным, когда он навестил меня летом 1924 года в Царском Селе».
Эти убеждения Есенина отчетливо видны (хотя они и несколько закамуфлированы) в его автобиографии 1924 года: «Сейчас я отрицаю всякие школы. Считаю, что поэт и не может держаться определенной какой-то школы. Это его связывает по рукам и ногам. Только свободный художник может принести свободное слово».
Совершенно очевидно, что, говоря о свободе художника от всяческих школ, Есенин имел в виду в первую очередь его свободу от давления власти. Американский журналист Уолтер Дюранти встретился с Есениным и Дункан в кафе имажинистов (это было еще до их окончательного разрыва):
«Однажды вечером я сидел с Изадорой Дункан в «Стойле Пегаса», где поэты устраивали вечеринку. Это сводилось к тому, что они один за другим поднимались на маленькую эстраду в конце зала и читали свои стихи. Похоже, что для поэтов это был самый идеальный вечер. Есенин сидел там, более пьяный и более агрессивный, чем обычно, и когда он оставил нас перед тем, как пришел его черед выступать, я не мог удержаться, чтобы не спросить у Изадоры, почему она вышла замуж именно за него. Ее этот вопрос не обидел. «Сегодня он не в лучшей форме, бедный Сережа, — признала она, — но есть одно обстоятельство, и мне хотелось бы, чтобы вы о нем знали. Все дело в том, что этот парень гений. Все мои любовники были гении. Это единственное, на чем я настаиваю». Мысленно я поднял брови, но не стал с ней спорить. Спустя минуту или две Есенин, пошатываясь, подошел к эстраде, чтобы занять на ней свое место. Кафе было переполнено всевозможными посетителями, поэты и их девушки разговаривали в полный голос, у меня за спиной две проститутки с Тверской улицы шумно торговались с прижимистым клиентом, в углу около входной двери двое пьяных лениво бранились с извозчиком, который требовал, чтобы они заплатили, если хотят, чтобы он ожидал их неопределенное время.
Есенин начал читать одну из своих поэм — «Черный человек». Поначалу голос его звучал низко и хрипло, но постепенно музыка стихов завладела им, и голос загремел с полной силой.
Поэма была сырой и грубоватой, но полной жизненной силы и правды. В ней описывалось состояние пьяницы, находящегося на грани белой горячки, которому чудится лицо негра, ухмыляющегося ему. Лицо это не злобное, но оно повсюду — заглядывает ему через плечо в зеркало, когда он бреется, лежит рядом с ним на подушке, выглядывает между туфель по утрам, когда поэт встает и одевается.
Я знал историю этой поэмы. Лицо негра было лицом Клода Маккэя, негритянского поэта, который приезжал в Москву за год или больше до этого и подружился с Есениным. Есенин был тогда очень близок к белой горячке, и его стихи казались правдивыми, они выражали то, что он чувствовал и знал.
Когда его голос повысился, в кафе воцарилась полная тишина. Строчка за строчкой завладевали сознанием этой шумной толпы и заставляли их цепенеть от ужаса. Это было страшно — слушать агонию душевного калеки, а Есенин заставлял их ощущать этот ужас. Победа эмоций, передающихся от художника к публике.
Когда он кончил читать, наступила полная тишина. Все присутствующие — извозчики, спекулянты, проститутки, поэты, пьяницы — все сидели не двигаясь, с побледневшими лицами, открытыми ртами и глазами, полными муки. Тогда Изадора, которую ничто не могло смутить, спокойно сказала мне:
— Вы все еще думаете, что в моем маленьком крестьянине нет гениальности?»
Есенин и Дункан в августе 1923 года пробыли вместе всего несколько дней. Окончательный разрыв был неминуем после того, как они вместе съездили в село Литвиново поблизости от Москвы, где отдыхали дети, учившиеся в школе Дункан.
Едва они вернулись в Москву, как Есенин исчез. Исчез на три дня. Айседора каждое утро твердила: «С ним что-то случилось. Его ранили. Он попал в аварию. Он лежит где-нибудь больной». И каждый вечер после тревожного дня ожидания и надежд она говорила: «Так больше продолжаться не может. Это конец!»
Прождав три дня, Айседора приняла решение уехать куда-нибудь из Москвы. Лето кончалось, и ей хотелось немного отдохнуть. Она вышла и купила два билета — себе и Ирме — на поезд, уходивший в тот же день вечером на Кавказ. Она решила, что эпизод с Есениным в ее жизни завершен, и, успокоившись, стала паковать чемоданы.
Илья Шнейдер утверждал, что инициатором поездки была Ирма. Айседора смиренно согласилась уехать в Кисловодск.
— Тебе с избытком хватило отвратительных сцен в Европе и Америке, — заявила Ирма. — Ты серьезно больна, и тебе необходимо лечиться на водах.
Ирма настояла и на том, чтобы вскрыть чемоданы Есенина, несмотря на колебания Айседоры. Самый большой из чемоданов был вскрыт, и в нем обнаружилось множество предметов из парикмахерских — коробки с дорогим мылом, бутылочки с лавровишневой водой, лосьоны, бриллиантин, тюбики с зубной пастой и кремом для бритья, пузырьки с одеколоном и духами, пачки лезвий для безопасных бритв. Это были, конечно, подарки, заготовленные для родственников и друзей Есенина.
Не успели они открыть остальные чемоданы, как в комнату ворвался Есенин. Разъяренный тем, что они роются в его вещах, он немедленно соорудил из бумаги пакет и уложил в него несколько рубашек и туалетных принадлежностей.
Айседора преградила ему дорогу и, твердо глядя ему в лицо, чего она никогда раньше не позволяла себе, заявила ему на своем ломаном русском языке, что если он уйдет не сказав ей, куда направляется и сколько времени будет отсутствовать, то это конец их отношений. Она не в силах еще три дня волноваться за него. В любом случае вечером она уезжает из Москвы.
Шнейдер описывал эту сцену фактического расставания несколько иначе. «Айседора, — пишет он, — была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений». Но Есенин, как известно, был человеком непредсказуемым. Он приехал на Пречистенку и в вестибюле встретил Шнейдера. Он, по словам мужа Ирмы, выглядел взволнованным.
— Айседора уезжает, — сообщил ему Шнейдер.
— Куда? — нервно встрепенулся Есенин.
— Совсем… от вас.
— Куда она хочет ехать?
— В Кисловодск.
— Я хочу к ней.
— Идемте.
Дункан сидела на полукруглом диване, спиной к вошедшим, и не слышала, как они вошли в комнату. Есенин тихо подошел сзади и, наклонившись над ней, прошептал:
— Я тебя очень люблю, Изадора… очень люблю.
Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск через три дня вместе со Шнейдером. Дункан предъявила ему жесткое требование — ночевать эти три ночи на Пречистенке. Есенин обещал.
Вечером, еще до того, как Южный экспресс отошел от платформы Казанского вокзала, Есенин появился у вагона. Он был трезв и улыбался. Он узнал, с какого вокзала отправляется поезд, и приехал попрощаться. Растроганная его появлением Айседора пыталась уговорить мужа уехать вместе с ней. Она убеждала его, что он нуждается в отдыхе.
Однако Есенин не дал себя уговорить. Он пообещал присоединиться к ней позднее, возможно, в Крыму. Они нежно прощались вплоть до той минуты, когда прозвучал последний звонок. Айседора долго еще махала своим шарфом вслед уходящему Есенину.
Ни в какой Кисловодск Есенин, конечно, не поехал. В Москве его держали литературные дела, в частности, он загорелся идеей создать свой журнал и серьезно надеялся на то, что советское правительство даст деньги на его издание.
Дункан он писал:
«Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу. Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе. С Пречистенки я съехал сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом. Дела мои блестящи, мне дают сейчас большие средства на издательство. Желаю успеха и здоровья, и поменьше пить. Любящий С. Есенин».
На самом деле о покупке новой квартиры не могло быть и речи. Просто Есенин переехал в Богословский переулок к Мариенгофу. А что касается пожелания Айседоре меньше пить, то это звучит очень трогательно, если учесть, что Есенин — увы! — уже стал алкоголиком.
В эти дни конца лета 1923 года произошла встреча, которой Есенин не придал никакого значения — голова была занята другим. А между тем женщина, с которой его познакомила на Тверской Анна Никритина, жена Анатолия Мариенгофа, сыграла впоследствии в его жизни весьма значительную роль. Это была очень красивая, статная молодая женщина, а он не обратил тогда на нее особого внимания.
Никритина работала тогда в Камерном театре. С ней была ее приятельница, тоже актриса Камерного театра Августа Миклашевская.
Миклашевская потом вспоминала:
«Мы встретили поэта на Тверской улице. Он шел быстро, бледный, сосредоточенный. Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в Кремль». У него были красивые волосы, пышные, золотые… На меня он почти не взглянул».
Здесь очень важны слова Есенина: «Вызывают в Кремль».
Действительно, Есенин был тогда приглашен в Кремль ко второму (после Ленина, который был уже тяжело болен, но формально оставался председателем Совнаркома и вождем большевистской партии) человеку в России — Троцкому. Встречу эту организовал Яков Блюмкин, бывший левый эсер, убивший в 1918 году немецкого посла Мирбаха, а теперь работавший в ЧК. Малообразованный и малограмотный Блюмкин тянулся (как и многие видные сотрудники ЧК) к литературе, к поэтам, частенько захаживал в «Стойло Пегаса» и очень гордился своим знакомством с Есениным.
Здесь следует сказать несколько слов о Троцком. В девяностые годы проявилась тенденция не только реабилитировать Троцкого, но и превозносить его, противопоставляя Сталину. В действительности Троцкий был таким же кровавым палачом, как и Сталин, — по его приказам в годы Гражданской войны были расстреляны тысячи людей. Но в своем отношении к Есенину Троцкий оказался единственным из вождей большевистской партии, который постарался всерьез разобраться в вопросе о месте Есенина в поэзии и проявил к нему известное внимание.
В своей книге «Литература и революция» Троцкий относил Есенина к числу литературных попутчиков революции, чье искусство «более или менее органично связано с революцией, хотя это не искусство революции». Троцкий там же характеризовал Клюева, как орнаментального, статичного, «антигородского» поэта, который мечтает о богатом крестьянском царстве, и задавал вопрос, каким будет дальнейший путь Клюева: к революции или от нее? И отвечал: вероятно, от революции. Клюев слишком увяз в прошлом.
И сразу же после размышлений о Клюеве Троцкий обращался к Есенину:
«Есенин (и вся группа имажинистов — Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков) стоят где-то на перепутье между направлениями Клюева и Маяковского. Корни Есенина в деревне, но они не такие глубокие, как у Клюева… Есенин не только моложе, но и более гибок и пластичен, более открыт для влияний и возможностей… Есенин хвастается тем, что устраивает скандалы и что он вообще хулиган. По общему признанию, его скандалы, даже чисто литературные («Исповедь хулигана») никого не пугают. Тем не менее не подлежит сомнению, что Есенин отражает предреволюционное и революционное настроение сельской молодежи, которую подтолкнуло к скандалам и безрассудству разваливающееся устройство деревни».
Далее Троцкий утверждал, что имажинизм ослабляет динамизм Есенина. «В любом случае имажинизм не является той литературной школой, от которой можно ожидать каких-либо серьезных достижений».
Троцкий определял есенинского «Пугачева» как «сентиментальную романтику». «Не без внимательного прочтения этой романтической поэмы один из вождей большевистской партии высказал мнение, что «Пугачев» — это с головы до ног сам Есенин: он хочет выглядеть ужасным, но не может… Если имажинизм, который вряд ли имеет право на существование, полностью себя исчерпал, то тем не менее у Есенина все впереди».
Есенин формально еще не порвал с имажинизмом, но в очерке «Железный Миргород» он фактически согласился с Троцким и написал, что имажинизм «иссякаем».
Есть все основания полагать, что Троцкий произвел на Есенина очень сильное и весьма положительное впечатление. По свидетельству Мариенгофа, который сопровождал Есенина в походе в Кремль на встречу с Троцким, поэт подарил Троцкому экземпляр первого номера имажинистского журнала «Гостиница для путешествующих в прекрасном», который вышел в Москве в конце 1922 года. Разговор в Кремле шел о создании нового журнала, но никакого реального результата их беседа не принесла.
Судить о впечатлении, которое Троцкий произвел на Есенина, можно хотя бы по словам известного в те годы литература Олега Леонидова, который в 1926 году писал: «Л. Д. Троцкий следил за творчеством Есенина с большим интересом. Он беседовал с поэтом несколько раз, стараясь приободрить его. После таких разговоров с Троцким Есенин уходил оттуда спокойным, довольным, мечтая стать «государственным» национальным поэтом и отчасти посмеиваясь, а отчасти серьезно называл себя государственной собственностью».
Василий Наседкин, в ту пору много общавшийся с Есениным, рассказывал: «Есенин рассматривал Троцкого как идеальный законченный тип человека».
Троцкий импонировал Есенину и тем, что он не разделял линию большинства руководства большевистской партии на ужесточение контроля над литературой. Он вполне разделял точку зрения Воронского, главного редактора журнала «Красная новь», что «попутчиков» не следует давить. В 1923 году Троцкий писал:
«Мы верим в то, что товарищ Воронский осуществляет — в соответствии с партийными указаниями — главную литературно-критическую работу… Мы прекрасно знаем политическую ограниченность, неустойчивость и ненадежность попутчиков. Но если мы отбросим Пильняка, «Серапионовых братьев» и Всеволода Иванова, Тихонова и Полонскую, Маяковского, Есенина — что у нас на самом деле останется помимо неоплаченных еще обещаний будущей пролетарской литературы? Область искусства не является той, где партия должна командовать».
После своего возвращения из-за границы Есенин стал реально ощущать поддержку Воронского, бывшего ставленником Троцкого. Он навестил Воронского в редакции «Красной нови». Воронского поразила европеизированность поэта, в частности, его напудренные щеки, но он отметил и двойственность Есенина, который выглядел простым, меланхоличным, очаровательным русским парнем с неясной улыбкой. «Уходя, — вспоминал Воронский, — Есенин сказал мне: «Мы будем работать вместе и будем друзьями. Но имейте в виду: я знаю, что вы коммунист. Я тоже на стороне Советской власти, но я люблю Россию по-своему. Я не позволю, чтобы мне затыкали рот, и не буду плясать под чью-то дудку». Он произнес эти слова с улыбкой, на половину шутливо, наполовину серьезно».
В 1923 году, когда Есенин стал постоянным автором «Красной нови», Воронский, который в то время подвергался жестокой критике со стороны догматической части «пролетарских» писателей, выступил в защиту попутчиков. Он писал: «Следует признать, что многие попутчики не сильны по части коммунизма — поэтому они и являются попутчиками. Но они — в плане художественном — представляют собой самый мощный фланг современной литературы». Среди попутчиков Воронский выделял Маяковского, Есенина, Пастернака, Бабеля и Горького.
Однако пора от дел поэтических и политических вернуться к проблемам любовным, к женщинам, которые любили Есенина и были разочарованы его отъездом в Европу и Америку в свадебное путешествие с Айседорой Дункан.
Прежде всего следует сказать о Галине Артуровне Бениславской, которая любила Есенина пылкой и самоотверженной любовью, готова была на любое самопожертвование, на все — ради него. Как она была счастлива, когда Есенин переспал с ней! Для нее женитьба Есенина на Айседоре Дункан была тяжелейшим ударом.
По дневнику Гали Бениславской можно проследить приметы ее борьбы с собой, со своей ревностью.
1 января 1922 года Галя записывает в своем дневнике: «Хотела бы знать, какой лгун сказал, что можно быть не ревнивым! Ей-богу, хотела бы я посмотреть на этого идиота! Вот ерунда! Можно великолепно владеть, управлять собой, можно не подавать вида, больше того — можно разыгрывать счастливую, когда чувствуешь на самом деле, что ты — вторая; можно, наконец, даже себя обманывать, но все-таки, если любишь так по-настоящему — нельзя быть спокойной, когда любимый видит, чувствует другую. Иначе значит — мало любишь. Нельзя спокойно знать, что он кого-то предпочитает тебе, и не чувствовать боли от этого сознания… И все же буду кроткой и преданной, несмотря ни на какие страдания и унижения».
Спустя месяц, 31 января, она исповедуется в дневнике: «Знаю, буду любить еще и еще, не один раз загорится кровь, но так, так я никогда не буду любить, всем существом, ничего не оставив для себя, а все отдавая. И никогда не пожалею, что так было, хотя чаще было больно, чем хорошо, но «радость — страдание — одно». И все же было хорошо, было счастье; за него я благодарна».
А рядом ревность — на этот раз к прошлой сопернице, давно ушедшей из его жизни, и злые, несправедливые слова в ее адрес: «Была З. Н, но она ей-богу, внешне не лучше «жабы»… Не ожидала: что угодно, но не такая». Смешно, что ревность к Зинаиде Райх у Бениславской замешана вдобавок на ее большевистском фанатизме: «И в нее так влюбиться, что не видеть революцию?! Надо же!»
Пришла весна, и Галя Бениславская испытывает еще большее волнение. 21 марта она записывает в дневнике: «В четверг начался очередной приступ тоски, а на следующий день я все боролась, вспоминая, что было ведь очень хорошо — чего же больше? А с другой стороны тошнота при мысли, что он там… со своей новой женой и день, и ночь…»
Она обращается в дневнике к своей ближайшей подруге Анне, рассказывает, как ушла в лес на лыжах, как блестел снег под солнцем и как ей было хорошо. «Я вдруг почувствовала это радостное предвесеннее оживление и сама ожила. Ничего не хотелось, только жить вместе с лесом и подглядывать его движения, шорохи… И вдруг — неожиданная мысль о… Я испугалась, думала, будет больно, захочу увидеть. Нет, захотелось только, чтобы где-нибудь он смог сейчас увидеть все это. Я знаю, это его примиряет, успокаивает — «и в душе, и в долине — прохлада», он тогда задумчивый, кроткий, хороший. «Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль». И вместе с тем поняла, что смешно досадовать из-за Дункан, ведь я понимаю, что именно она может взять его, и против этого ничего не поделаешь».
Природа ее успокаивала, приносила иллюзию мира в ее душу.
«Вот я поняла, что в жизни не один Есенин, что его можно и надо любить, но любить именно бескорыстно, не жадной любовью, требующей чего-то от него, а так, как вот любишь этот лес, не требуя, чтобы лес жил, сообразуясь со мной, или он всегда был там, где я».
Но избавиться от всепоглощающего чувства любви Галя Бениславская не могла. Прошел месяц, и 8 апреля 1922 года она записывает в своем дневнике: «Так любить, так беззаветно и безудержно любить? Да разве так бывает? А ведь люблю и не могу иначе; это сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было умереть — не колеблясь, а если бы при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнулся, узнав про меня, смерть стала бы радостью».
И через четыре дня: «Айседора — это другой берег реки, моста, и переправы к нам обратно нет. И все же, куда бы я ни пошла — от него не уйти… Айседора, именно она, а не я, предназначена ему, но я для него — нечто случайное… И что бы мне ни говорили про старость, дряблость и пр., я же знаю, что именно она, а не другая, должна была взять, именно взять его. (Его можно взять, но отдаться ему нельзя — он брать по-настоящему не умеет, он может только отдавать себя.)
Последние слова говорят о том, что Бениславская была женщиной умной и эмоционально чуткой, она осознала, что Есенин в любви фигура пассивная, женщины «берут» его, а он лишь поддается им.
Бениславская уже знает, что Есенин с Айседорой Дункан уезжают за границу. Это вызывает у нее чувство тревоги, беспокойства за столь любимого ею человека.
Мироощущение Бениславской становится все более трагическим. Все чаще в своем дневнике она говорит о смерти. Даже странно видеть в одном человеке два столь противоречивых начала — она деловая женщина, активный член партии большевиков, умелый и пробивной организатор, — а рядом уживается рефлектирующая личность, всецело поглощенная своей единственной любовью и то и дело возвращающаяся мыслями к смерти. Она словно предчувствует свой трагический конец.
17 апреля 1922 года она записывает в своем дневнике: «Уедет. Надолго ли? Как и кем вернется? Все растратив или наоборот? А вдруг, как та береза, будет с выжженной сердцевиной, вдруг? А как молния сожжет внутри, только кору оставит? Ведь она сберечь не сумеет? Не может огонь охранять дерево. Быть может, мы его навсегда уже проводили, не сумели сберечь?»
22 апреля Бениславская отмечает в дневнике: «Уехал. Вернее, улетел с Айседорой. Сначала первые два дня было легче, как зуб вырвали — болела только ранка, а не зуб. Но, видимо, зуб очень больной — ранка не заживает и, наоборот, началось воспаление — боюсь, гангрена… Сильнее, чем смерть, любовь? Есть потери не меньшие и не менее непоправимые, чем смерть. Страшно писать об этом, но это так: смерть Есенина была бы легче для меня. Я была бы вольна в своих действиях. Я не знала бы этого мучения — жить, когда есть только воля к смерти…»
Галя мысленно ставит себя рядом с Дункан и понимает всю дистанцию, разделяющую их:
«Если внешне Есенин и будет около, то ведь после Дункан — все пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность,— я ничто после нее (с его точки зрения, конечно). Я могла бы быть после Лидии Кашиной, Зинаиды Николаевны, но не после нее. Здесь я теряю».
Вновь и вновь возвращается Бениславская памятью к тому, что было между ней и Есениным. И вот что примечательно — и так характерно для любовных отношений Есенина с женщинами, любившими его, — они всегда выступали инициаторами любовной игры. Он же был только ее пассивным участником.
3 июня 1922 года Галя записывает в своем дневнике: «Думала опять о нем. Не отогнать мыслей. Вспомнила, что все была «игра». Мы, как дети, искренне увлеклись игрой (оба: и я, и он), но его позвала мама, он игру бросил, а я — одна, и некого позвать, чтобы доиграть. Но все же игру затеяла я, а не он».
И вновь, и вновь Бениславская подчеркивает свою готовность к самоотречению ради своей любви к Есенину.
«Буду беречь себя, — пишет она в дневнике, — всегда готовая, если понадобится, прийти по первому его зову, по первому его желанию перечеркнуть все прожитое и все чаемое впереди, перечеркнуть одним размахом, без колебания, без сожаления».
Когда Галя Бениславская записывала эти слова, она еще не знала, какие душевные переживания готовит ей судьба. Впереди будет счастье обладания (хотя бы кажущегося) любимым человеком, и горечь от нанесенного им оскорбления, самого тяжелого оскорбления, какое может нанести мужчина женщине, которая его беззаветно любит, и утрата — смерть Есенина, — и страшное решение, принятое Галей Бениславской ровно через год после того, как Есенин ушел из жизни.
Анатолий Мариенгоф, который, как можно было заметить из предыдущего повествования, ревновал своего друга к близким ему женщинам и отзывался о них, как правило, довольно злобно, о Гале Бениславской написал неожиданно тепло:
«После возвращения Есенина из-за границы Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой… Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви. Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя и не получая».
Бениславская действительно стала для Есенина нянькой и доверенным лицом в его делах, особенно денежных. Тем более, что, уйдя с Пречистенки, Есенин оказался фактически без крыши над головой. Вещи свои он перевез в Богословский переулок в квартиру Мариенгофа, но в этой квартире уже обосновалась Анна Никритина, вышедшая замуж за Мариенгофа, и Есенин чувствовал, что стесняет их.
Но дело было не только в житейских неудобствах. Главным оказался его разрыв с Мариенгофом. Рюрик Ивнев свидетельствовал: «Мне кажется, что Есенин, изъездив Европу и Америку, начал задыхаться в узком кругу имажинизма. Имажинизм в ту пору не был уже трибуной, с которой его было бы слышно на всю Россию… Свое недовольство имажинизмом он вдруг перенес на Мариенгофа. Он стал различать как бы два имажинизма. Один — одиозный, мариенгофский, с которым он «будет бороться», а другой — свой, есенинский, который он «признавал» и от которого не отходил».
Иван Старцев вспоминал: «После разрыва с Мариенгофом он не пожелал оставаться в общей квартире и перекочевал ко мне на Оружейный. Приходил только ночевать».
И произошло то, что, по всей видимости, должно было произойти. Он поселился у Гали Бениславской в ее маленькой квартирке, где было две комнатушки.
В сентябре 1923 года Есенин констатирует в письме Мариенгофу: «Галя моя жена».
Сама Галя Бениславская в своих воспоминаниях описывала происшедшее следующим образом:
«После заграницы Сергей Александрович почувствовал в моем отношении к нему что-то такое, чего не было в отношении к нему друзей, что для меня есть ценности выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда и представлял не иначе, как: «Вот, познакомьтесь, это большой человек!» Или: «Она — настоящая» и т.п. Поразило его то, что мое личное отношение к нему не мешало быть другом; первое я всегда умела спрятать, подчинить второму. И поверил мне совсем…
Это был период, когда Сергей Александрович был на краю гибели, когда он сам говорил, что теперь уже ничто не поможет, и когда он тут же просил помочь ему выкарабкаться из этого состояния и помочь покончить с Дункан…
Я стала спрашивать о Дункан: какая она, кто и т.д. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил о своем отношении к ней:
— Была страсть и большая страсть. Целый год это продолжалось. А потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь… Боже мой, какой же я был слепой?! Где были мои глаза? Это верно, всегда так слепнут…
Когда я сказала, что, быть может, он, сам того не понимая, любит Изадору и, быть может, от того так мучается, что ему в таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и отчетливо сказал:
— Нет, это вовсе не так. Там для меня конец. К Дункан уже ничего нет, и не может быть. — Повторил опять: — Да, страсть была, но все прошло. Пусто, понимаете, все пусто.
Я рассказала ему все мои сомнения.
— Галя, поймите ж, что я вам верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасать оттуда надо, а не толкать меня обратно».
Айседора не могла примириться со своим поражением. Стареющая женщина изо всех сил старалась удержать около себя молодого мужа.
Она продолжала засыпать Есенина телеграммами.
Из Тифлиса на Богословский переулок полетела весьма многозначительная телеграмма: «Поздравляю тебя с этим самым счастливым днем[6]. Хочу, чтобы этот день чаще повторялся. Люблю тебя. Изадора».
Кавказское турне Дункан закончилось в Батуме, где она прожила несколько дней в доме молодого грузинского поэта, где еще несколько молодых поэтов с горящими глазами избрали ее «своей Музой».
Ирма Дункан вспоминала: «Хотя эти батумские поэты были красивы, внимательны и обворожительны, они не могли надеяться на то, чтобы вытеснить из ее сознания мысль о другом поэте. Есенин всегда присутствовал. С того дня, как мы попрощались на Казанском вокзале, она написала ему множество писем и завалила его телеграммами, не получая от него никакого ответа. Так что, несмотря на всю компанию батумских поэтов, она распрощалась о ними и села на пароход, отплывающий в Ялту на Крымском полуострове. Она надеялась на то, что Есенину будет легче добраться туда, чем на Кавказ, — был прямой поезд из Москвы в Севастополь. Из Ялты она дала своему непутевому мужу телеграммку, предлагая ему присоединиться к нам в Ялте. Вот тогда-то она и получила известную телеграмму за подписью Бениславской».
Телеграмма Бениславской — это действительно презанятная штучка, но о ней мы расскажем чуть позже, а пока вернемся к Айседоре.
Далее Ирма Дункан сообщает: «После нескольких дней, проведенных в Ялте, Изадора вернулась в Москву. Там она старалась увидеть своего неуправляемого поэта. Однако его нигде не удавалось найти — ни на старой квартире, ни в кафе на Тверской. Никто из друзей не знал, что с ним, а если они и знали, то были достаточно осторожны и ничего не открывали Изадоре».
Но все-таки их встреча состоялась. Вот свидетельство той же Ирмы Дункан: «Прошло некоторое время, пока Есенин появился на Пречистенке. Однако он был в таком состоянии и учинил такой скандал, что его друг, секретарь Дункановской школы[7], вывел его из дома, а позднее направил ему письмо, в котором, в частности, писал:
«Не думаешь ли ты, это дурной вкус устраивать крик в комнате Изадоры в присутствии других людей, что ты любишь другую женщину и еще двух обрюхатил? Что подумают люди о тебе, услышав такой разговор? Единственная вина Изадоры заключается в том, что она была слишком добра к тебе. Ты же вел себя как свинья. Сколько раз ты твердил мне, как сильно ты любишь Изадору, однако первое, что ты сделал, вернувшись в Москву, ты нанес ей оскорбление, опубликовав стихотворение, адресованное другой женщине…
Ты повсюду кричишь, что Изадора упрятала тебя в сумасшедший дом. Я видел счет, из которого явствует, что ты находился в первоклассном санатории. Ты ведь не думаешь, что в сумасшедшем доме тебе позволили бы уходить, когда тебе заблагорассудится? Это санаторий, который стоил Изадоре кучу денег, спас тебя от полиции и высылки из страны.
Ты на Пляс д'Опера ударил французского полицейского. Если бы не влияние и связи Изадоры, ты оказался бы в тюрьме на долгие месяцы. Изадора повсюду защищала тебя, я видел, какие замечательные статьи она писала в твою защиту. Ради тебя она лишилась своего американского паспорта, с какими жертвами и ужасными трудностями она вывозила тебя во Францию, Италию и Америку. А ты в своей собственной стране отплатил ей самым подлым образом. Я прекрасно знаю, что Изадора сделала для тебя, но я не вижу, что дала ей твоя так называемая «любовь». Возвращаясь от тебя, я испытывал только стыд и ложь, а после вчерашнего скандала единственное, что я могу тебе сказать, так это что я не хочу тебя больше видеть».
Спустя несколько дней, когда Дункан сидела в своей гостиной с несколькими посетителями, Есенин явился опять, требуя свой бюст, который Коненков гениально изваял из большого куска дерева. Он громко и настойчиво требовал, чтобы ему отдали его бюст, и в конце концов, пьяный, ворвался в комнату. Бюст стоял наверху серванта со всякими побрякушками в углу гостиной. Айседора отказалась отдать ему скульптуру и попросила его прийти к ней в другой раз. Тогда Есенин потащил в угол стул и на подкашивающихся ногах влез на него. Он добрался до бюста дрожащими руками и схватил его, но тот оказался слишком тяжел для него. Есенин пошатнулся и рухнул на пол вверх тормашками, прижимая к груди свое деревянное изображение. Затем он молча поднялся на ноги и выбежал из комнаты, чтобы скитаться по московским улицам и забыть столь желанный бюст в какой-нибудь канаве.
«Так Изадора, — вспоминала Ирма, — в последний раз видела своего поэта и мужа Сергея Есенина».
Несколько иное описание последней встречи Айседоры Дункан и Сергея Есенина оставила Мари Дести, хотя ее слова не вызывают особого доверия. Она, естественно, была рада тому, что Айседора и Есенин расстались, и нарисовала совершенно душераздирающую картину их последнего свидания.
«Какое грустное и неблагодарное занятие для чувствительной женщины, — писала Мари Дести, — пытаться спасти этого безумного пьяницу. Но Изадора никогда не сердилась на него. Когда он возвращался домой, ему надо было только опуститься у ее ног, и она прижимала к груди его кудрявую голову и успокаивала его…
Когда Изадора бывала одна, она часами сидела над большим альбомом с фотографиями ее детей. С этим альбомом она никогда не расставалась и очень редко показывала его кому-нибудь. Однажды вечером Сергей пришел домой неожиданно и застал Изадору в слезах над альбомом с ее дорогими утраченными детьми. В припадке ярости он вырвал альбом из ее рук и, прежде чем она успела остановить его, швырнул его в горящий камин. Изадора пыталась вытащить альбом из огня, но он со всей силой безумца держал ее, издеваясь над ее детьми. В конце концов она потеряла сознание и упала.
Это был последний раз, когда Изадора видела Есенина».
Под занавес этой фантасмагорической истории страсти и любви, отторжения и притяжения, следует сказать и о жизни Айседоры Дункан после того, как она рассталась с Есениным, и о ее трагическом конце.
В начале 1924 года она съездила на Украину, в Киев и Харьков. Гастроли прошли очень успешно. Она вернулась в апреле, сбросив тридцать фунтов веса и выглядела так прекрасно, как не выглядела никогда после своего приезда в Россию в 1921 году.
А вот дальше последовал провал за провалом. Она отправилась в турне по Волге и Туркестану. Она выступала в Самаре, Оренбурге, Самарканде, Ташкенте, Екатеринбурге, Вятке.
В письмах к Ирме она жаловалась: «Это турне оказалось нескончаемой катастрофой». В другом письме Ирме она сообщала: «Это турне — один провал за другим». «Этот город (Екатеринбург) ближе к аду, чем какой-либо другой, какой я в своей жизни видела». «Волга и Туркестан — это те местности, которых надо избегать». «Мои волосы стали совершенно седыми из-за отсутствия шампуня с хной». «Я практически кончилась».
В середине августа Дункан вернулась в Москву, а в начале сентября она провела цикл прощальных концертов в помещении Камерного театра.
Последнее выступление Айседоры состоялось 28 сентября. Ирма Дункан вспоминала: «Когда мы остались одни, огорченные ее воспоминаниями о прошлом и ее предстоящим отъездом, она призналась мне, что часто думает о самоубийстве. «Если бы я знала, как это сделать, чтобы не было очень больно, я бы не колебалась».
На следующий день, 29 сентября, советские власти организовали специальный, незапланированный ранее спектакль в Большом театре танцевальной студии Айседоры Дункан. На этом представлении присутствовали вожди большевистской партии, приглашены были четыре тысячи пионеров и школьников. И снова у нее возродились надежды, что советское правительство сделает что-нибудь для ее школы. Но все надежды, как и все предыдущие посулы большевиков, оказались несбыточными.
30 сентября, Айседора попрощалась с Ирмой и другими друзьями и взошла на борт самолета, вылетавшего в Кенигсберг. В мае 1922 года она вылетела из Москвы в заграничную поездку вместе с Сергеем Есениным. Теперь же она летела одна, чтобы никогда больше не ступать на русскую землю.
Тем самым закрылась русская глава в жизни Айседоры Дункан. Началась новая эра — эра разочарований и несчастий, когда ее друзья не могли уже протянуть ей руку помощи, эра скитаний с одного места на другое ночлегов в отвратительных грязных студиях и унылых дешевых номерах в отелях, эры, когда она даже время от времени голодала.
Из Берлина она писала Ирме: «Я на грани того, чтобы покончить жизнь самоубийством… Газеты откровенно враждебны и ведут себя по отношению ко мне так, словно я приехала сюда на большевистские деньги заниматься большевистской пропагандой, что является просто грязной шуткой».
Эмигрантская русская газета «Дни», издававшаяся в Берлине, так описывала последнее появление Айседоры Дункан в немецкой столице.
«На сегодняшний день танцы Айседоры Дункан напоминают осенние листья, прекрасные в своем увядании, утратившие свои краски, поблескивающие в сумерках, предвещающих ночь, листья, которые навсегда отдалились от их радостной, зеленой юности. Для тех, кто видел ее в те дни, когда она смело открывала новые горизонты, сейчас она только прекрасное напоминание о ее прошлом».
Внешне она не очень изменилась. Ее поразительные руки и «говорящие пальцы» остались прежними. Так же, как ее бурные переходы от радости к отчаянию, от раздавленного раба к ликующей человеческой личности. Даже ее удивительное пластичное тело кажется таким же, каким оно было. Но она больше не завораживает зрителей своими порывами. Ее силы убывают.
— Мне трудно танцевать, — сказала она, когда вечер кончился. — Сердце болит».
Очень горькое описание Айседоры Дункан оставил Джордж Сельдес, увидевший Айседору в Берлине в конце 1924 года:
«Она лежала, большая, с затуманенными глазами, не совсем трезвая, в дешевом номере второразрядного берлинского отеля, из которого она не может выехать, так как у нее нет денег, чтобы заплатить по счету.
— Я вишу на конце веревки, — сказала она. — Я не могу поехать во Францию, чтобы продать там мой дом — французы говорят, что я большевичка, и не дают мне визы. Я готова продать любовные письма, адресованные мне, — это все, что у меня осталось, — у меня их не меньше тысячи.
Она сдвинула свое пухлое тело, завязала кушак на красном, греческого стиля халате, бесформенно свисавшем с ее плеч, сунула ноги в сандалии и открыла секретер. Волосы ее были пепельного цвета, а в ее когда-то прекрасных глазах светился только пьяный блеск».
Закат этой выдающейся женщины и танцовщицы был горек и трагичен. Она, привыкшая за всю свою жизнь к тому, что вокруг нее толпятся мужья, любовники, поклонники, оказалась в полном одиночестве. Более того, она, купавшаяся всегда в деньгах и тратившая их широко и без счета, ступила на грань нищеты. И главное — она жила с ощущением, что о ее огромном таланте все забыли. Наверное, не раз вспоминала она резкие слова Есенина, предрекавшего ей, что ее искусство живо, только пока она может каждый раз доказывать это зрителям, а потом оно умрет вместе с ней.
Впереди ее ждал тяжелый удар — весть о смерти Сергея Есенина. Ее стала посещать мысль о самоубийстве. Она написала Шнейдеру письмо: «Смерть Есенина потрясла меня, но я столько плакала, что часто думаю о том, чтобы последовать его примеру, но только иначе — я пойду в море».
Спустя некоторое время она попыталась в Ницце осуществить этот замысел — зашла далеко в море. Ее спасли.
В парижские газеты она телеграфировала следующее заявление:
«Трагическая смерть Есенина причинила мне глубочайшую боль. У него были молодость, красота, гениальность. Неудовлетворенный всеми этими дарами, его отважный дух искал невозможного. Он уничтожил свое молодое и прекрасное тело, но дух его будет жить в душе русского народа и в душе всех, любящих поэзию. Протестую против легкомысленных высказываний, опубликованных американской прессой в Париже. Между Есениным и мной никогда не было ссор, и мы никогда не были разведены. Я оплакиваю его смерть с болью и отчаянием».
Интересно, верила ли Дункан хоть в одно слово, написанное ею — о том, что никогда не было ссор, или с холодным цинизмом хотела обмануть общественное мнение? (Вполне возможно, что и верила — женщинам свойственно верить в химеры.)
Как это ни парадоксально звучит, но Айседора Дункан, вроде всеми забытая, заставила — правда невольно — еще раз, последний, напомнить о себе газетам всего мира.
Судьбе было угодно распорядиться так, чтобы обставить гибель Дункан с такой же яркой театральностью, какая сопровождала ее всю жизнь. Она жила тогда в Ницце — это был уже 1927 год — и решила прокатиться на открытой гоночной машине — она всегда обожала быструю езду. Садясь в машину, она закинула на плечи конец красной шали, на которой была выткана желтая птица, махнула на прощание рукой и, улыбаясь, произнесла последние в ее жизни сакраментальные слова:
— Прощайте, мои друзья! Я еду к славе!
Непонятно, чем можно объяснить ее последние слова — прозрением или чистым совпадением?
Машина рванула с места, шаль развязалась, конец ее попал на колесо и моментально накрутился на него. Рывок был столь сильным, что Айседоре переломило позвоночник и разорвало сонную артерию.
Так не стало великой женщины, сыгравшей столь значительную роль в жизни Сергея Есенина.
Глава XII «ИМЯ ТВОЕ ЗВЕНИТ, СЛОВНО АВГУСТОВСКАЯ ПРОХЛАДА»
Однажды Сергей Есенин сидел в квартире у Мариенгофа и у них зашел разговор о стихах про любовь.
— А у меня, — сказал Есенин, — стихов про любовь нету. Все про кобыл да телят. А про любовь — хоть шаром покати.
— За чем же дело стало? — спросил Мариенгоф.
— Для этого влюбиться надо. Да вот не знаю, в кого.
Мариенгоф знал, что Есенин никогда не писал ничего, к чему бы не подталкивала его жизнь. И стал подзадоривать Сергея:
— В городе, черт подери, два миллиона юбок, а влюбиться человеку не в кого! Хоть с фонарем в полдень ищи.
«На его поэтово счастье, — вспоминал Мариенгоф, — минут через двадцать Никритина вернулась к обеду вместе со своей приятельницей Гутей Миклашевской, первой красавицей Камерного театра. Крупная, статная. Античная, сказал бы я. Вроде Айседоры, но лет на двадцать моложе. Волосы цвета воробьиного крыла».
Августа Миклашевская действительно была очень красивой женщиной. Об этом в один голос твердили все, знавшие ее. Она, по всей видимости, была и незаурядной актрисой. Конечно, ее затмевала своим блеском несравненная Алиса Коонен, но достаточно вспомнить, что именно Миклашевская играла вперемежку с Алисой Коонен главные женские роли в репертуаре Камерного театра. Между прочим, примечательно, что она, как и большинство женщин Есенина, была старше его — правда, ненамного — на четыре года, — но все-таки старше.
Анатолий Мариенгоф, не склонный к комплиментам, писал о ней: «У Августы Леонидовны Миклашевской действительно была «глаз осенняя усталость» и «волос стеклянный дым». Я привык утверждать, что привык любоваться уродливой красотой. Но Миклашевская, Гутя Миклашевская, была прекрасна своей красотой. Такая красивая! Высокая, гибкая, с твердым и отчасти холодным выражением лица и глаза! глаза! Цвета ореха, прекрасные в своей славянской грусти. Я даже сказал бы: в отсутствии счастья. Их любовь была чистой, поэтичной, с букетами белых роз, с романтикой… придуманной ради новой лирической темы. В этом парадокс Есенина: выдуманная любовь, выдуманная биография, выдуманная жизнь. Могут спросить: почему? Ответ один: чтобы его стихи не были выдуманными. Все, все — делалось ради стихов».
Мариенгофу вторил Рюрик Ивнев, который ставил вообще под сомнение способность Есенина любить по-настоящему, утверждал, что Есенин «часто изобретал новую любовь — как это было с актрисой М., которой он ежедневно посылал цветы, и в то же время признавался своим друзьям, что она ему надоела».
Действительно, в это же время — осенью 1924 года — Есенин встречается с молодой поэтессой Надеждой Вольпин, которая в конце концов забеременела от него. И живет у Гали Бениславской, объявляя ее своей женой.
И тем не менее судьба мгновенно высекла искру — уже через несколько дней Есенин читал друзьям новое стихотворение:
Заметался пожар голубой, Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь - как запущенный сад, Был на женщин и зелие падкий. Разонравилось пить и плясать И терять свою жизнь без оглядки. Мне бы только смотреть на тебя, Видеть глаз злато-карий омут, И чтоб, прошлое не любя, Ты уйти не смогла к другому. Поступь нежная, легкий стан, Если б знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, Как умеет он быть покорным. Я б навеки забыл кабаки И стихи бы писать забросил, Только б тонко касаться руки И волос твоих цветом в осень. Я б навеки пошел за тобой Хоть в свои, хоть в чужие дали… В первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить.И словно плотину прорвало. Они с Августой Миклашевской встречались почти каждый день. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли.
Стояла ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья.
— Я с вами как гимназист, — тихо, с удивлением говорил ей Есенин и улыбался.
С ней он действительно становился другим — нежным, заботливым, деликатным. Миклашевская писала в своих воспоминаниях: «Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость».
В один из вечеров Есенин повез Миклашевскую в мастерскую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Есенин, как вспоминала Миклашевская, был счастлив, что вернулся в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья. Уверял, что все, даже небо и луна другие, не такие, как у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.
И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве!
Как-то раз они всей компанией сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» — Есенин, Миклашевская, Мариенгоф и Никритина. Есенин сидел притихший, задумчивый.
— Я буду писать вам стихи, — сказал он тихо Миклашевской.
Мариенгоф грубовато рассмеялся:
— Такие же похабные, как Дункан?
— Нет, ей я буду писать нежные.
Вскоре подоспел выход номера журнала «Красная новь», в котором было напечатано стихотворение «Заметался пожар голубой…» Есенин хотел подарить Миклашевской экземпляр журнала и назначил ей свидание в кафе. Миклашевская задержалась в театре и опоздала на целый час. Когда она пришла в кафе, Есенин впервые при ней оказался нетрезвым. Он встал и торжественно вручил Августе журнал.
На их беду, люди, сидевшие за соседним столиком и наблюдавшие эту сцену, стали отпускать какие-то насмешливые и даже оскорбительные реплики. Есенин вскочил, начался скандал. Человек в кожаной куртке выхватил наган.
Есенин с каждым выкриком все больше пьянел. Это был первый есенинский дебош в присутствии Миклашевской. Она растерялась, не знала, что делать, испугалась за него.
К счастью, неожиданно появилась сестра Есенина Катя, уже привыкшая к подобным сценам, она предложила Августе взять Есенина под руки и увести из кафе. Он смотрел им в глаза и пьяно улыбался.
Дома они уложили Сергея в постель, он тут же заснул, а Августа сидела рядом с ним и плакала.
Вошел Мариенгоф и грубо сказал:
— Эх, вы, гимназистка, вообразили, что сможете его переделать! Это ему не нужно! От вас он все равно побежит к проститутке.
Немудрено, что есенинский друг Анатолий Мариенгоф не понравился Августе Миклашевской и что она его невзлюбила. Она не могла понять, что объединяет этих двух людей, таких разных, таких непохожих.
Не нравились ей и многие другие «друзья» Есенина, которые постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Они знали, что это больное место Есенина, и норовили причинить ему боль.
«Их устраивали легендарные скандалы Есенина, — вспоминала Миклашевская. — Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы. Трезвый Есенин был им не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили, и все на его деньги».
Особенное отвращение вызывал у Миклашевской «самый маститый друг Есенина Клюев», который как раз тогда приехал в Москву. Надо отдать должное молодой актрисе Миклашевской — она сразу же раскусила Клюева, высветила его, как рентгеном. В своих воспоминаниях Августа описала свою первую встречу с ним:
«Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал нам навстречу, весь какой-то напомаженный, елейный. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них, как непонятна и дружба с Мариенгофом. Такие они оба были ненастоящие».
И оба они почему-то покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо глубже, умнее их. Клюев опять говорил, что стихи Сергея сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Есенина, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорились до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи с Миклашевской Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан.
Накал чувств между Есениным и Миклашевской начал понемногу остывать. Августа писала: «Мы встречались с Есениным все реже и реже. Чаще всего встречались в кафе. Каждое новое стихотворение он тихо читал мне».
Можно с уверенностью сказать, что в числе стихотворений, читанных Есениным Миклашевской и обращенных непосредственно к ней, в те осенние дни было и вот это, обладающее глубоким внутренним смыслом:
Дорогая, сядем рядом, Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом Слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, Эта прядь волос белесых - Все явилось, как спасенье Беспокойного повесы.Третьего октября в день рождения Есенина Миклашевская зашла к Никритиной. Они все вместе — вместе с Есениным — должны были идти в кафе, где предстояло отмечать этот знаменательный день. Однако выяснилось, что еще накануне Есенин пропал и его нигде не могут найти. Наконец, Шершеневич привез его. Сестра Сергея Катя увела его, не показывая собравшимся.
Через некоторое время, вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи, Есенин вышел в широком цилиндре, в каком ходил Пушкин.
Вышел и сконфузился.
Взял Миклашевскую под руку и тихо спросил:
— Это очень смешно? Хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим.
«И было в нем столько милого, — вспоминала Миклашевская, — детского, столько нежной любви к Пушкину».
В кафе за большим длинным столом собралось много друзей, как настоящих, так и мнимых.
Августе очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и она предложила всем, кто хочет поздравить Есенина, чокаться не с ним, а с ней.
— Пить вместо Сергея буду я, — объявила Августа.
Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину, который остался трезвым и охотно помогал Августе незаметно выливать вино.
Судя по всему, Августа Миклашевская была женщиной доброй и хорошо воспитанной. Во всяком случае, она в своих воспоминаниях не сводила, как это принято у женщин, счеты со своими соперницами, а писала о них очень доброжелательно.
О существовании Гали Бениславской Августа была вполне осведомлена. Мариенгоф при ней насмешливо говорил, что Галя «спасает русскую литературу».
Августа писала, что Галя красивая и умная, и что, когда читаешь у Есенина в стихотворении «Шаганэ, ты моя Шаганэ» строчки:
Там, на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне…то видишь Галю Бениславскую.
С большой симпатией Миклашевская набросала словесный портрет Гали: «Темные две косы, смотрит внимательно умными глазами, немного исподлобья.
Почти всегда сдержанная, закрытая улыбка.
Сколько у нее было любви, силы, умения казаться спокойной. Она находила в себе силу устраняться и сейчас же появляться, если с Есениным стряслась какая-нибудь беда».
Очень доброжелательно Миклашевская написала и о своей единственной встрече с Айседорой Дункан. Она вместе с Никритиной, Мариенгофом, артистом Камерного театра Соколовым встречала Новый год у актрисы Лизы Александровой. Позвонила Дункан, звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза объяснила, что она не одна, а приехать к ним Айседора не захочет, потому что у них Миклашевская. Дункан сразу же объявила, что обязательно приедет — хочет познакомиться с Миклашевской.
«Я впервые, — пишет Миклашевская, — увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, золотые сандалии и кружевные чулки, на голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах — не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то театральный король».
Она вдруг сорвала с себя чалму и швырнула ее в угол со словами:
— Произвела впечатление на Миклашевскую — теперь можно бросить.
После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться — так она была обаятельна.
«Уже давно пора было идти домой, — вспоминала Миклашевская, — но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая.
— Я не хочу уходить, — говорила она, — мне некуда уходить… У меня никого нет… Я одна…»
Только очень тонко чувствующая и очень доброжелательная женщина могла так тепло написать о своей бывшей сопернице.
Есенин все реже появлялся у Миклашевской.
Однажды он, проезжая на извозчике, увидел на улице Августу Леонидовну, соскочил с пролетки и подбежал в ней.
— Прожил с вами уже всю нашу жизнь, — сказал он печально. — Написал последнее стихотворение…
И стал тихо, как всегда, читать:
Вечер черные брови насопил. Чьи-то кони стоят у двора. Не вчера ли я молодость пропил? Разлюбил ли тебя не вчера? Не храпи, запоздалая тройка! Наша жизнь пронеслась без следа. Может, завтра больничная койка Успокоит меня навсегда. Может, завтра совсем по-другому Я уйду, исцеленный навек, Слушать песни дождей и черемух, Чем здоровый живет человек. Позабуду я мрачные силы, Что терзали меня, губя, Облик ласковый! Облик милый! Лишь одну не забуду тебя. Пусть я буду любить другую, Но и с нею, с любимой, с другой, Расскажу про тебя, дорогую, Что когда-то я звал дорогой. Расскажу, как текла былая Наша жизнь, что былой не была… Голова ль ты моя удалая, До чего ж ты меня довела.Он прочитал Августе это стихотворение и грустно повторил:
Наша жизнь, что былой не была…
Это было похоже на прощание.
Через некоторое время Есенин прислал Миклашевской экземпляр сборника «Москва кабацкая» с автографом: «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, выраженными здесь». В сборнике были напечатаны семь стихотворений, объединенных в цикл «Любовь хулигана» с посвящением Миклашевской.
Их встречи происходили все реже и носили все более нервический характер.
Так случилось и 3 октября 1924 года. Миклашевскую разбудили в восемь утра — пришел Есенин. Он стоял перед ней бледный, похудевший.
— Сегодня день моего рождения. Вспомнил этот день прошлого года и пришел к вам… поздравить. Меня посылают в Италию. Поедемте со мной. Я поеду, если вы поедете.
Вид у него был измученный, больной. Голос — хриплый.
Они шли по улице и выглядели совершенно нелепо. У него на затылке цилиндр (очевидно, по случаю дня рождения), на одной руке лайковая перчатка. Августа с непокрытой головой, в пальто, накинутом поверх халата, и в туфлях на босу ногу. Однако Есенин перехитрил Миклашевскую — довел до цветочного магазина, купил огромную корзину хризантем и отвез домой.
Августа Леонидовна вспоминала еще об одной встрече — одной из последних. Есенин заехал за ней и повез куда-то на окраину Москвы, в чей-то дом с низким потолком и небольшими окнами. Посреди комнаты стоял стол, на нем самовар. Есенин стал около стола и начал читать свою последнюю поэму «Черный человек».
Августа вспоминала: «Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто черный человек находился здесь, в комнате».
А дальше в мемуарах Миклашевской следует горькое признание:
«Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала, что виновата и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему. Он тянулся к нам. С ним было трудно, и мы отходили в сторону, оставляя его одного».
Впрочем, объективная и честная женщина Августа Миклашевская сама поправляла себя и напоминала о Гале Бениславской, о ее бескорыстной, самоотверженной любви к Есенину.
Августа Леонидовна приводит такой примечательный эпизод. Как-то вечером к ней завалился Есенин с поэтом Иваном Приблудным, который тут же плюхнулся на диван и захрапел.
А Есенин был очень возбужден и пытался разбудить Приблудного:
— Как ты можешь спать, когда у нее такая бледность?
Рассказывая об этом вечере, Августа приводит такую характерную деталь: Есенин то и дело подбегал к двери и неожиданно распахивал ее — ему все время мерещилось, что кто-то подслушивает его под дверью.
Миклашевская позвонила Гале Бениславской и попросила ее приехать. Галя не заставила себя долго ждать.
Есенин понимал, что Бениславская приехала забирать его, и разволновался еще больше. Он старался сделать Гале больно, задеть ее самое ранимое место.
— Я знаю, — говорил он, — ты мне лучший друг, но ты мне не нужна.
Галя все так же сдержанно улыбалась, она, в свою очередь, знала его уязвимые места.
— Сергей Александрович, — сказала она, — вы сейчас очень некрасивый.
Есенин сразу затих, подошел к зеркалу и стал причесываться.
Галя помогла ему надеть шубу и увезла его.
«Каждый раз, — писала Августа Леонидовна, — встречаясь с Галей, я восхищалась ее внутренней силой, душевной красотой. Поражала ее огромная любовь к Есенину, которая могла так много вынести, если это было нужно ему».
В последний раз Августа Миклашевская видела Есенина в ноябре 1925 года. Ее сын болел, она сидела возле его кроватки и читала ему вслух. В комнату вошел Есенин и, увидев эту мизансцену, тихонько подошел и прошептал:
— Я не буду мешать.
Сел в кресло и долго молчал, не шевелясь, потом встал и подошел к ней.
— Это все — что мне нужно, — загадочно произнес он шепотом и пошел к дверям.
Взялся за ручку двери и задержался.
— Я ложусь в больницу, — сказал он. — Приходите ко мне.
Миклашевская ни разу не навестила Есенина в больнице — не хотела сталкиваться там с Софьей Андреевной Толстой. А потом врач, лечивший Есенина, сказал ей, что к Сергею Александровичу никто не приходил.
А все дело было в том, что, когда Есенин женился на Софье Андреевне Толстой, Галя Бениславская, оскорбленная в своих лучших чувствах, устранилась и уехала из Москвы.
Глава XIII КАВКАЗСКАЯ ИНТЕРМЕДИЯ
Кавказ издавна волновал воображение Есенина. Ведь с Кавказом были связаны самые славные имена русской поэзии — Грибоедова, Пушкина, Лермонтова. Есенину, который всем своим существом ощущал себя наследником и продолжателем великих русских поэтов, казалось крайне важным и в этом последовать их примеру — поехать на Кавказ.
А тут еще и повод подвернулся — знакомство с Петром Чагиным и приглашение от него приехать в Баку, а оттуда, быть может, совершить и путешествие в Персию. Проехать теми дорогами, по которым стучали колеса кибитки Пушкина, когда он ехал в Арзрум, представить себе то место, где Пушкин на дороге встретил телегу с гробом Грибоедова. От одной этой мысли мороз по коже пробегал. А сколько прекрасных стихотворений родилось здесь! Нет, он должен припасть к камням этого замечательного края, прикоснуться мыслями к этому источнику вдохновения, который питал творчество его великих предшественников.
Чего стоит, например, стихотворение:
На холмах Грузии лежит ночная мгла, Шумит Арагва предо мной. Мне грустно и светло, печаль моя светла; Печаль моя полна тобою…Да за такие строчки душу можно дьяволу продать!
Не случайно в первом же стихотворении, написанном на Кавказе, Есенин обращается к теням своих великих поэтических предков:
…Здесь Пушкин в чувственном огне Слагал душой своей опальной: «Не пой, красавица, при мне Ты песен Грузии печальной». И Лермонтов, тоску леча, Нам рассказал про Азамата, Как он за лошадь Казбича Давал сестру заместо злата. …И Грибоедов здесь зарыт Как наша дань персидской хмари, В подножии большой горы Он спит под плач зурны и тари.А далее Есенин естественно и легко перекидывает мостик к своим личным переживаниям и думам, которые повлекли его на Кавказ:
А ныне я в твою безгладь Пришел, не ведая причины: Родной ли прах здесь обрыдать Иль подсмотреть свой час кончины! Мне все равно! Я полон дум О них, ушедших и великих. Их исцелял гортанный шум Твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов И от друзей сюда бежали, Чтоб только слышать звон шагов Да видеть с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед Бежал, навек простясь с богемой, Зане созрел во мне поэт С большой эпическою темой.И вот так, без всякой видимой причины, Есенин в начале сентября сорвался из Москвы и уехал в Баку. Кроме всего прочего, этот отъезд был безусловно вызван беспокойством и бездомностью, которые уже начинали тяготить Есенина. И, как прямо заявлял Есенин в процитированном стихотворении, им двигало желание распроститься с богемой.
Баку ошеломил поэта буйством красок, многоязычным клекотом, запахом нефти, «черного золота». Этот запах, казалось, пропитывал здесь все.
Чагин встретил Есенина со всем возможным гостеприимством, вплоть до того, что местная милиция получила указание в случае каких-либо пьяных скандалов препровождать поэта Есенина домой, не возбуждая никакого дела.
Имел место в Баку и один несерьезный инцидент, который тем не менее мог иметь печальные последствия. Друг Есенина Николай Вержбицкий, журналист, работавший на Кавказе, так описывал этот случай:
«В Баку Есенин в гостинице «Новая Европа» встретил своего московского знакомого Ильина[8], назначенного военным инспектором в Закавказье.
Сперва их встреча протекала вполне миролюбиво, но вдруг инспектор начал бешено ревновать поэта к своей жене. Дошло до того, что он стал угрожать Есенину револьвером. Этот совершенно неуравновешенный человек легко мог исполнить свою угрозу, что и послужило поводом для первого кратковременного отъезда поэта в Тифлис в конце сентября 1924 года.
В Тифлисе Есенин окунулся в атмосферу самого теплого дружелюбия. Грузинские поэты встретили его с распростертыми объятиями. Он подружился с замечательными поэтами, входившими в группу «Голубые роги» — Тицианом Табидзе, Паоло Яшвили, Георгием Леонидзе. Сначала он жил в гостинице «Ориент», а потом переехал в дом к Вержбицкому на Коджорской улице. Здесь было тихо, спокойно, никто его не беспокоил. Улица круто изгибалась по склону горы. Сверху на нее сбегали узкие тропки, а еще выше вилось и петляло среди скал шоссе, по которому ездили в дачную местность под названием Коджори.
От дома Вержбицкого открывался сказочный вид на город. По утрам Тифлис бывал окутан голубоватой дымкой, а по вечерам являл собой россыпь огней, казался звездным небом, опрокинутым навзничь.
Есенину очень понравился Тифлис, понравился неторопливый, даже ленивый ритм жизни, понравился песенный фон города, понравились застолья в тифлисских духанах с вкусной и острой грузинской кухней, с прекрасными виноградными винами, с высокопарными витиеватыми тостами.
Ему здесь хорошо работалось. Приятным было и внимание, с которым относилась к нему местная партийная печать. Газета «Заря Востока» охотно печатала его стихи и поэмы.
Однако московские литературные новости по-прежнему волновали Есенина. 17 сентября он писал сестре Екатерине: «Узнай, чем кончилось дело Воронского. Будет очень неприятно, если парни из «На посту» съедят его. Это будет означать: бить в барабаны и закрывать лавочку. Ведь это совершенно невозможно писать, следуя заданной линии. Это доведет кого угодно до слез… Вардин очень добр и внимателен ко мне. Он чудесный, простой и чуткий человек. Все, что он делает в литературе, он делает как честный коммунист. Одна беда — он любит коммунизм больше, чем литературу.
Есенин настойчиво добивается возможности поехать в Тегеран, хотя сам пишет Бениславской из Тифлиса: «Зачем черт несет — не знаю».
21 декабря он пишет Анне Берзинь, приглашая ее приехать и провести с ним недельку в Константинополе или Тегеране.
Здесь в наше повествование врывается Анна Берзинь, о которой необходимо рассказать поподробнее.
Анна Абрамовна Берзинь, в ту пору сотрудница Госиздата, была близка к Есенину, много занималась публикацией его стихотворений, изданием его книг.
История взаимоотношений Есенина и Анны Берзинь далеко не ясна. В нашем распоряжении слишком мало прямых свидетельств, есть только косвенные. Из прямых свидетельств самым важным является запись самой Анны Абрамовны в ее «Воспоминаниях о Есенине»:
«Надо точно припомнить, как началась влюбленность в него, как постепенно, утрачивая нежность, радость, она перешла в другое, более сильное чувство…
В мою жизнь прочно вошла вся прозаическая и тяжелая изнаночная сторона жизни Сергея Александровича. О ней надо подробно и просто рассказать так, чтобы стало ясно, как из женщины, увлеченной молодым поэтом, быстро минуя влюбленность, стала товарищем и опекуном, на долю которого досталось много нерадостных минут, особенно в последние годы жизни Сергея Александровича».
Итак, еще одна опекунша-нянька-секретарша. Впрочем, не будем строить пустые догадки. Если между ними что-то и было, особого следа в жизни и творчестве Есенина она не оставила. Зато она много и успешно занималась его издательскими делами. Это видно из их переписки.
12 октября Есенин пишет Анне Берзинь: «Я вас настоятельно просил приехать. Было бы очень хорошо, и на неделю могли бы поехать в Константинополь или Тегеран. Погода там изумительная и такие замечательные шали, каких вы никогда в Москве не увидите.
Милая Анна Абрамовна, как с книгой? Издайте ее так, как я послал ее Гале».
29 октября он пишет Гале Бениславской: «Если Анна Абрамовна не бросила мысли о Собрании, то издайте по берлинскому тому с включением «Москвы кабацкой» по порядку и «Рябинового костра».
Тогда же на адрес Анны Берзинь уходит телеграмма: «Привет любовь и прочее Есенин».
Примерно в эти же дни он пишет Гале Бениславской: «Мне важно, чтобы Вы собрали и подготовили к изданию мой том так, как я говорил с Анной Абрамовной».
Так и стояла рядом с ним до конца его дней эта милая женщина, сумевшая преодолеть свою любовь и обрести иную радость, почти материнскую, в опеке над этим взрослым ребенком, таким талантливым и таким беспутным.
Впрочем, в пьянстве намечался некий просвет. 20 октября Есенин пишет из Тифлиса Маргарите Лившиц: «Живу скучно. Сейчас не пью из-за грудной жабы. Пока не пройдет, и не буду. В общем, у меня к этому делу охладел интерес. По-видимому, я в самом деле перебесился».
Через два дня он отправляет письмо Гале Бениславской: «Мне кажется, я приеду не очень скоро. Не скоро потому, что делать мне в Москве нечего. По кабакам ходить надоело. Несколько времени поживу в Тегеране, а потом поеду в Батум или в Баку… Живу дьявольски скучно. Пишите хоть вы мне чаще. Одно утешение нашел себе — играть в бильярд. Проигрываю все время».
Из поездки в Тегеран ничего не вышло. Но Есенина не оставляло желание побывать на настоящем Востоке. На этот раз мысли его обратились в сторону Константинополя.
Николай Вержбицкий вспоминал:
«В начале декабря 1924 года мы с Есениным отправились в Батум.
До этого поэт настойчиво просил меня достать документы на право поездки в Константинополь. Кто-то ему сказал, что такое разрешение, заменяющее заграничный паспорт, уже выдавалось некоторым журналистам. А свое намерение съездить в Турцию Есенин объяснял сильным желанием повидать «настоящий Восток» (по-видимому, это было новым вариантом его старого замысла посетить одну из стран Ближнего Востока, подогретого чтением персидских лириков и уже осуществляемым циклом «Персидские мотивы»). Один из членов закавказского правительства, большой поклонник Есенина, дал письмо к начальнику Батумского порта с просьбой посадить нас на какой-нибудь торговый советский пароход в качестве матросов с маршрутом Батум — Константинополь — Батум».
В Батуме Есенина ожидал его давнишний друг Лев Повицкий. 12 декабря поэт писал Гале Бениславской, что он «очень болен» и тоскует по Москве. После нескольких дней, проведенных в гостинице, Есенин переехал в тихий домик Повицкого на берегу моря. Батум Есенину понравился — ему нравился медлительный, чисто восточный ритм жизни, батумцы любили часами сидеть в тенистых уголках в кофейнях, потягивая густой турецкий кофе и покуривая крепкие турецкие сигареты. Нравилась пышная тропическая зелень — стройные пальмы, пышные кусты олеандра. Нравились и женщины, пышнотелые, с волоокими глазами.
Повицкий вспоминал, что Есенин в Батуме опять начал тяжело пить. «За обедом он выпивал обычно бутылку коньяку, это была его обычная норма за обедом. К еде он почти не притрагивался».
Повицкий предложил ему такой распорядок дня: он запирал Есенина в его комнате до двух часов дня. В это время Повицкий возвращался домой, и они вместе обедали. После этого Есенин был волен делать все, что ему вздумается. Но по утрам он мог сосредоточиться на работе.
В Батуме стояла мягкая теплая погода, и тем не менее поэт скучал, его томило подспудное беспокойство. Порой он выкидывал номера — чистил туфельки женщинам на улице, однажды заявился пьяный на литературный вечер, где «судили» поэтов-футуристов, и стал оскорблять собравшихся.
Настроение, владевшее им, Есенин очень точно отразил в стихотворении «Батум»:
Корабли плывут В Константинополь. Поезда уходят на Москву. От людского шума ль Иль от скопа ль Каждый день я чувствую Тоску. Далеко я, Далеко заброшен, Даже ближе Кажется луна. Пригоршиями водяных горошин Плещет черноморская Волна. Каждый день Я прихожу на пристань, Провожаю всех, Кого не жаль, И гляжу все тягостней И пристальней В очарованную даль.То ли по причине установленного Повицким режима, то ли по какой-либо другой вдохновение не покидает Есенина. Это видно из его писем Гале Бениславской.
17 декабря он писал ей:
«Работается и пишется мне дьявольски хорошо. До весны я могу и не приехать. Меня тянут в Сухум, Эривань, Трапезунд и Тегеран, потом опять в Баку.
На столе у меня лежит черновик новой хорошей поэмы «Цветы». Это, пожалуй, лучше всего, что я написал. Прислать не могу, потому что лень переписывать.
Лева запирает меня на ключ и до 3 часов никого не пускает. Страшно мешают работать».
А за несколько дней до этого он сообщает Чагину:
«Работаю и скоро пришлю вам поэму, по-моему, лучше всего, что написал».[9]
20 декабря он пишет Бениславской: «Делайте все так, как найдете сами. Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра. Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия… Путь мой, конечно, сейчас извилист. Но это прорыв, вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей.
…Я скоро завалю вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко. Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и успокоился».
Что именно увидел Есенин в Батуме, от чего он успокоился, осталось тайной. Можно предположить, и не без основания, что речь шла о женщинах.
В уже цитированном выше письме Бениславской от 20 декабря Есенин пишет:
«Мне скучно здесь без Вас, без Шуры и Кати, без друзей. Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу. Вечерами с Левой ходим в театр или ресторан. Он меня приучил пить чай, и мы с ним вдвоем выпиваем только 2 бутылки вина в день. За обедом и за ужином. Жизнь тихая, келейная.
…Днем, когда солнышко, я оживаю. Хожу смотреть, как плавают медузы. Провожаю отъезжающие в Константинополь пароходы и думаю о Босфоре. Увлечений нет. Один. Один. Хотя за мной тут бабы гоняются. Как же? Поэт ведь! Да еще известный. Все это смешно и глупо».
Тем не менее, несмотря на заверения поэта, вопрос о женщинах весьма волновал московских поклонниц Есенина. Он даже вынужден был оправдываться в письме Анне Берзинь, во второй половине декабря он писал:
«С чего это распустили слух, что я женился? Вот курьез! Это было совсем смешно. (Один раз в ресторане я встретил знакомых тифлисцев.) Я сидел просто с приятелями. Когда меня спросили, что это за женщина, я ответил: моя жена. Нравится? Да у тебя губа не дура. Вот только и было, а на самом деле сидела просто надоедливая девчонка — мне и Повицкому, с которой мы даже не встречаемся теперь».
Есенин оправдывался не зря — можно не сомневаться, что речь шла об очередном увлечении Есенина — батумской девушке, которую он прозвал «мисс Ол». Лев Повицкий писал о ней, что ей было 18 лет и внешностью она напоминала гимназистку старых времен. Она была девушкой начитанной, любила литературу, следовательно, к Есенину относилась восторженно.
«Вскоре, — писал Повицкий, — они стали интимными друзьями и Есенин заговорил о женитьбе».
Девушка очень хотела стать женой Есенина, но Повицкий узнал от местных жителей, что «мисс Ол» и ее родственники «замешаны в контрабандной торговле с Турцией, а возможно, и в делах похуже». Повицкий незамедлил предостеречь Есенина, и тот, не раздумывая, порвал с ней окончательно.
Есенин вспомнил о «мисс Ол» в письме Вержбицкому из Батума от 26 января 1925 года:
«Завел новый роман, — писал он, — а женщину с кошкой не вижу второй месяц. Послал ее к черту. Да и вообще с женитьбой я просто дурака валял. Я в эти оглобли не коренник. Лучше так, сбоку, пристяжным. И простору больше, и хомут не трет, и кнут реже достает».
Быть может, дело было не в том, что сообщил ему Повицкий, а разрыву с «мисс Ол» прежде всего способствовало то, что в середине декабря Есенин познакомился с батумской школьной учительницей армянкой Шаганэ Нерсесовной Тальян. О характере их отношений ничего доподлинно не известно, но уже дня через два после их знакомства Есенин написал стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ» — честь, которой удостаивались весьма немногие женщины.
Стихотворение это заслуживает того, чтобы процитировать его полностью:
Шаганэ ты моя, Шаганэ! Потому, что я с севера, что ли, Я готов рассказать тебе поле, Про волнистую рожь при луне. Шаганэ ты моя, Шаганэ. Потому что я с севера, что ли, Что луна там огромней в сто раз, Как бы ни был красив Шираз, Он не лучше рязанских раздолий. Потому, что я с севера, что ли. Я готов рассказать тебе поле, Эти волосы взял я у ржи, Если хочешь, на палец вяжи — Я нисколько не чувствую боли. Я готов рассказать тебе поле. Про волнистую рожь при луне По кудрям ты моим догадайся. Дорогая, шути, улыбайся, Не буди только память во мне Про волнистую рожь при луне. Шаганэ, ты моя Шаганэ! Там, на севере, девушка тоже, На тебя она страшно похожа, Может, думает обо мне… Шаганэ ты, моя Шаганэ.Есенин вспоминал Шаганэ и в других стихотворениях, вошедших в цикл «Персидские мотивы». Ее имя фигурирует в стихотворении «Ты сказала, что Саади целовал лишь только в грудь…»:
Я б порезал розы эти, Ведь одна отрада мне — Чтобы не было на свете Лучше милой Шаганэ.Конечно, ей же, Шаганэ Тальян, посвящено и знаменитое стихотворение:
Никогда я не был на Босфоре, Ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, Полыхающее голубым огнем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Я сюда приехал не от скуки — Ты меня, незримая, звала. И меня твои лебяжьи руки Обвивали, словно два крыла. Я давно ищу в судьбе покоя, И хоть прошлой жизни не кляну, Расскажи мне что-нибудь такое Про твою веселую страну. Заглуши в душе тоску тальянки, Напои дыханьем свежих чар, Чтобы я о дальней северянке Не вздыхал, не думал, не скучал.И в стихотворении «В Хороссане есть такие двери…» Есенин снова обращается к Шаганэ, называя ее именем Шага:
Ни к чему в любви моей отвага. И зачем? Кому мне песни петь? Если стала неревнивой Шага, Коль дверей не смог я отпереть, Ни к чему в любви моей отвага.Потом ее имя появляется в «Голубой родине Фирдуси…» и, наконец, в одном из стихотворений, завершающих цикл «Персидские мотивы», Есенин в последний раз упоминает Шаганэ:
…Я не знаю, как мне жизнь прожить: Догореть ли в ласках милой Шаги Иль под старость трепетно тужить О прошедшей песенной отваге?Можно смело утверждать, что мало кто из женщин Есенина оставил в его поэзии такой заметный след, как эта никому не известная бакинская учительница Шаганэ Тальян. Увы, большего мы о ней не знаем.
Во второй половине февраля 1925 года Есенин вернулся в Тифлис, пообщался со своими грузинскими друзьями-поэтами. Потом заехал в Баку, откуда послал Гале Бениславской телеграмму:
«Выходите в воскресенье встречать несите шубу и денег. Сергей»
1 марта Есенин был уже в Москве.
Глава XIV ГАЛЯ БЕНИСЛАВСКАЯ
Для Гали Бениславской ее звездный час пробил, когда Есенин порвал с Айседорой Дункан и ушел из особняка на Пречистенке.
Разрыв оказался делом не простым, а весьма сложным и затяжным. В драматическом финале, в которым завершилась их связь, переплелись элементы подлинной трагедии и фарса.
Анатолий Мариенгоф в «Романе без вранья» не без иронии изобразил довольно характерную жанровую сценку.
Есенин в первые дни после возвращения из-за границы сплошь и рядом прибегал в Богословский переулок с маленьким сверточком в руках.
— Окончательно! — выпаливал он. — Так ей и сказал: Изадора, адью.
В сверточке Есенин приносил свое имущество: две-три рубашки, пару кальсон, носки.
Мариенгоф и Никритина улыбались.
Есенин выглядел решительным и твердым, разговаривал железным голосом.
Однако часа через два после прихода Сергея с Пречистенки прибывал швейцар с письмом. Есенин писал лаконичный и непреклонный ответ. Еще через час в Богословском переулке появлялся секретарь Дункан Илья Ильич Шнейдер. А к вечеру приезжала и сама Дункан.
У нее, как вспоминал Мариенгоф, были по-детски припухшие губки и на голубых фаянсовых блюдечках глаз сверкали соленые капельки слез.
Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, обнимала его ногу и, рассыпав по его коленям красную медь своих волос, взывала:
— Ангел!
Есенин грубо отталкивал ее ботинком.
— Пошла ты к…— и хлестал отборной бранью.
Тогда она улыбалась еще нежнее и еще нежнее произносила:
— Сергей Александрович, «лублю» тебя.
Кончалось все одним и тем же — собирался сверточек с движимым имуществом Есенина.
Настал день, когда этот больной и мучительный нарыв лопнул — Есенин окончательно ушел от Дункан. Мариенгофу он объявил:
— А с Изадорой — адью.
— «Давай мое белье»?
— Нет, адью безвозвратно… я русский… а она… не могу… знаешь, когда границу переехал — плакал… землю целовал… как рязанская баба…
Надо было решать квартирный вопрос. В Богословском переулке его всегда рады были приютить, но деликатный Есенин остро ощущал, что он там лишний, что он стесняет хозяев — Никритина родила сына, у них стало тесно.
К тому же к этому времени относится и разрыв с Мариенгофом. Поводом для ссоры послужило какое-то недоразумение с финансовыми расчетами по «Стойлу Пегаса» и книжной лавке на Большой Никитской.
На какое-то время Есенин нашел приют у Ивана Старцева в Оружейном переулке, устроив из квартиры что-то вроде ночлежки — днем он где-то пропадал. Так долго продолжаться не могло.
И вот тут-то Есенин вспомнил о Гале Бениславской.
Подруга Бениславской Анна Назарова вспоминала:
«Есенин страшно мучился, не имея постоянного пристанища. На Богословском — комната нужна была Мариенгофу и Колобову. На Никитской[10] — в одной комнатушке жили я и Галя. Он то ночевал у нас, то на Богословском, то где-нибудь еще, как бездомная собака, скитаясь и не имея возможности ни спокойно работать, ни спокойно жить. Его сестра тоже ютилась где-то в Замоскворечье. Из деревни должна была приехать вторая сестра».
Положение у Есенина было безвыходное, и в конце сентября 1923 года он окончательно переехал в квартирку Гали Бениславской в доме «Правды» в Брюсовском переулке. Более того, он сообщает всем, что она его супруга, конечно, только де-факто, так как их брак не был никак оформлен. В письме Мариенгофу в сентябре 1923 года он объявляет: «Галя моя жена».
Ему нужна была именно такая жена-рабыня, какую он нашел в Гале Бениславской. Конечно, в силу своего характера он не мог ни в малейшей мере соответствовать любви Гали. В отношениях с ней, как, впрочем, и с многими другими, он оставался эгоистом, был невнимателен, пренебрегал ею. Это видно из записок, которые он ей посылал:
«Галя, милая! Простите за все неуклюжество. С. Есенин».
«Галя, милая! Заходил. К сожалению, не мог ждать. За вчерашнее обещание извиняюсь: дулся в карты, домой пришел утром. В общем, скучно… Приду завтра».
«Галя, милая! Простите, что обманул. Дня я еще не видел, какой он есть. Думаю, что не смогу поехать с Вами. Немного разбит настроением физически. Есенин».
А Галя Бениславская со всей присущей ей энергией впряглась в колесницу есенинских дел. А сводились эти дела к двум вопросам — публикации стихов Есенина и выколачиванию гонораров за них.
Хлопот с этими делами было хоть отбавляй. Есенин при всей своей крестьянской закваске был по части денег человеком до предела безалаберным. Он не привык считать деньги, как только они у него заводились, он поил и кормил целые компании своих собутыльников. А с деньгами было туговато.
Галя Бениславская вспоминала: «В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался… Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему бы отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла»… По редакциям ходить устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было».
Конечно, Галя Бениславская в своих воспоминаниях несколько преувеличивает денежные затруднения Есенина, подчеркивая тем самым свою роль в поддержании материального благополучия поэта. Но ее заслуги и без того были немалыми, так как трудности, конечно, не были надуманными, и Бениславская проявляла себя цепкой хранительницей его интересов. В своих воспоминаниях она приводит некоторые примеры своей деятельности на этом неблагодарном поприще.
Есенин продал Госиздату собрание своих сочинений и готов уже был согласиться на шесть тысяч рублей вместо обещанных десяти, если бы не вмешалась Бениславская. Такая же история была с «Анной Снегиной». Бениславская договорилась с частным издателем Берлиным, и тот заверил ее, что выплатит Есенину тысячу рублей. Но когда Берлин пришел на квартиру Бениславской, он стал предлагать Есенину всего шестьсот рублей, и тот, «робко, неуверенно и смущенно» готов был поддаться на уговоры. Пришлось Бениславской вмешаться и выколотить из издателя обещанную тысячу целковых.
А Есенин, проводив Берлина, стал благодарить Галю.
— Спасибо, вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите — не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя, я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Поэтому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривать с редакциями и издателями.
Уехав на Кавказ, Есенин заваливает Бениславскую поручениями — отнести стихи в ту или иную редакцию, проследить, как будет напечатано. Их переписка целиком состоит из заданий, которыми Есенин забрасывает Бениславскую, и ее отчетов о проделанной ею работе.
К примеру, 20 декабря 1924 года он пишет Бениславской: «Персидские мотивы» это у меня целая книга в 20 стихотворений. Посылаю Вам еще 2. Отдайте все это в журнал «Звезда Востока». Просите 2 рубля за строчку. Не дадут, берите 1 рубль.
Печатайте все, что угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная — я сам.
«Письмо к женщине» отдайте в «Звезду» — тоже 2 рубля строчка. На днях пришлю «Цветы» и «Письмо к деду» — суйте во все журналы».
Бениславская послушно выполняла все поручения Есенина, получая от этого удовлетворение и радость. Ее грело сознание того, что она ему нужна.
Кроме секретарских обязанностей Бениславская взяла на себя и функции няньки. Когда Есенин оказывался в запое и пропадал на несколько дней, она отправлялась в рейд по московским кабакам и пивным в поисках его, находила, привозила домой, отмывала, отчищала.
Когда говорят о бескорыстии Гали Бениславской, то надо внести некую поправку. У Гали была своя корысть, не меркантильная, нет, корысть высшего порядка. Став фактической женой Есенина, она тут же стала предъявлять на него свои права. Она хотела быть для него единственной. Он должен был принадлежать только ей. Она не хотела терпеть никого рядом с ним.
Но Есенин не мог никому принадлежать. У него была одна-единственная подлинная возлюбленная — его поэзия.
Впрочем, истины ради надо напомнить, что была еще одна затаенная страсть — тщеславие. Достаточно вспомнить историю его влюбленности в Айседору Дункан, когда все близкие ему люди понимали, что он влюбился не столько в женщину по имени Айседора Дункан, сколько в ее всемирную славу. Впрочем, эта пагубная страсть — тщеславие — еще даст себя знать на излете его жизни.
Писательница Софья Виноградская, друг Есенина, была свидетельницей поистине подвижнического служения Гали Бениславской Есенину. «С невиданной самоотверженностью, с редким самопожертвованием посвятила она себя ему. В ней он нашел редкое сочетание жены, любящего друга, родного человека, сестры, матери. Без устали, без упрека, без ропота, забыв о себе, словно выполняя долг, несла она тяжкую ношу забот о Есенине, всей его жизни — от печатания его стихов, раздобывания денег, забот о здоровье, больницах, охраны его от назойливых кабацких «друзей» до розысков его ночами в милиции. Этого редкого и, нужно сказать, единственного настоящего друга Есенин недостаточно ценил. Он часто твердил: «Галя мне друг, Галя мне единственный друг». Но еще чаще забывал это».
При всех своих достоинствах Галя Бениславская оставалась женщиной, женщиной до мозга костей. Она ревновала Есенина к Дункан и боялась, что та пересилит ее и какими-нибудь ухищрениями заставит Сергея вернуться.
Кроме того, Галя Бениславская, как всякая женщина, не могла забыть, как она унижалась на страницах своего дневника, признавая превосходство Дункан. Теперь пришла пора отыграться.
Тем более, что Айседора сама дала повод. Вопреки словам, сказанным ею на перроне Белорусского вокзала, что она больше ничего общего с Есениным не хочет иметь, она не собиралась сдаваться. Уехав на Кавказ, она хорошо помнила, что, провожая ее на вокзале, Есенин пообещал приехать к ней на курорт, и она надеялась вернуть себе любимого мужа.
Галя Бениславская в своих воспоминаниях следующим образом излагала сложившуюся ситуацию:
«После заграницы Дункан уехала на юг. Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. (Мы-то знаем из воспоминаний Шнейдера, что действительно обещал.) Факт тот, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может, трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму: «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. Есенин».
Галя Бениславская могла торжествовать, но, как женщина умная и хитрая, прекрасно понимавшая извилины женского сердца, она хотела закрепить свою победу и не оставить сопернице никакой надежды. Она дала понять Есенину, что сочиненный им текст телеграммы ее не устраивает. Она запротестовала против слов «люблю тебя», уверяла его, что если уж кончать, то лучше не упоминать о любви. В результате ее нажима телеграмма Айседоре ушла в редакции, которая ее удовлетворяла. Текст гласил: «Я люблю другую. Женат и счастлив. Есенин».
Однако Бениславской этого показалось мало. После долгого самоуничижения она явно испытывала потребность в самоутверждении. Помимо телеграммы Есенина Галя послала и свою телеграмму, текст которой должен был раздавить соперницу. Галя написала: «Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. Бениславская».
Но Айседора Дункан тоже не была овечкой, она ответила уничижительной телеграммой Есенину: «Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги Бениславской. Пишет, что писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. Изадора».
Есенин немало веселился, получив эту телеграмму. Как писала Бениславская, он был доволен, что телеграмма Гали произвела такой эффект и вывела Дункан из себя настолько, что она стала ругаться. Для Есенина уже давно было ясно, что его роман с Дункан завершился окончательно и бесповоротно.
Но при этом нельзя забывать, что Есенин панически боялся того дня, когда Айседора вернется в Москву, приходил в ужас от одной мысли о скандалах, которые она наверняка будет учинять. Ему хотелось скрыться, уехать куда-нибудь, только бы не встречаться с ней. Уезжая из Москвы в Ленинград, куда его позвало жалостливое письмо Клюева, Есенин поручил Гале Бениславской забрать все его вещи с Богословского переулка и перевезти их на ее квартиру, с тем чтобы они не попали в руки Айседоры и ему не пришлось бы с ней встречаться.
Литературные дела Есенина складывались по-разному. С Кавказа он привез поэму «Анна Снегина» и много новых стихотворений. Друг Есенина и будущий муж его сестры Екатерины Василий Наседкин свидетельствовал:
«Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой. В такие часы мы, по домашнему уговору, его оставляли одного, предварительно сняв трубку с телефона.
Своим литературным друзьям он охотнее всего читал тогда эту поэму. Было видно, что она нравилась ему больше, чем другие стихи».
Именно «Анна Снегина» стала поводом для разногласий между Есениным и литераторами из группы «Перевал». Конфликт был незначительный, но он свидетельствовал о том, насколько утвердился Есенин в собственном мнении о себе и о своем месте в русской поэзии.
Наседкин предложил Есенину прочитать поэму на заседании группы «Перевал». В 1925 году это было его первое публичное выступление в Москве.
Просторная комната в писательском Доме Герцена на Тверском бульваре была набита битком. Кроме перевальцев «на Есенина» зашло немало членов Московской ассоциации пролетарских писателей, людей из группы «Кузница».
Случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Литераторы отзывались о ней с холодком. Кто-то предложил устроить обсуждение поэмы. Есенин от обсуждения категорически отказался.
— Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня.
Есенин ушел с этого сборища несколько расстроенным, пряча свое недовольство за обычным бесшабашным видом. Перед тем как уйти, он спросил у Воронского, нравится ли ему поэма.
— Да, нравится, — ответил тот.
Он не покривил душой.
С Воронским Есенин вновь встретился в Баку, куда он уехал вскоре из Москвы. На Воронского эта встреча произвела очень тяжелое впечатление.
«Море скалилось, — вспоминал Воронский, — показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает».
На загородной бакинской даче Воронский стал свидетелем очередного пьяного скандала Есенина. Того увели в отдельную комнату, и когда Воронский вошел туда, он застал Есенина в слезах.
— У меня ничего не осталось, — сказал поэт. — Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.
Он плакал более часа.
Воронский в связи с этой встречей вспоминал из последних стихов Есенина:
Пусть вся жизнь за песню продана.
Между тем издательские дела Есенина благодаря усилиям Бениславской шли довольно успешно. В апреле 1925 года Галя удачно провела переговоры с Ленинградским отделением Госиздата о выпуске Собрания сочинений Есенина.
В начале июня Есенин поехал к себе на родину в село Константиново на свадьбу своего двоюродного брата. Вопреки ожиданиям пребывания в родных краях не пошло ему на пользу.
Василий Наседкин, сопровождавший Есенина, писал: «До этой поездки я, как и все, знавшие Есенина, считал его относительно здоровым человеком. Однако, оказавшись в деревне, Сергей Александрович стал совершенно неуправляемым. Его капризы приняли болезненные формы.
Сам он заявлял, что страдает, видя «застойность крестьянской жизни, равнодушие и жадность».
Атюнин следующим образом описывал этот последний визит Есенина в Константиново: «В деревне он начал беспрерывно пить и скандалить, он разбил окна и пытался избить свою мать». Он распевал похабные частушки и плакал, уверял всех, что конец его близок.
Отношения Есенина с Галей Бениславской тоже становились все более натянутыми. Ее преданность и готовность на самопожертвование подвергались испытаниям. И порой очень суровым.
Есенин зачастую бывал с ней груб, его неблагодарность принимала чудовищные формы, он оскорблял ее женское достоинство.
Какой горечью пронизаны строчки в ее дневнике: «Сергей понимал себя и только. Не посмотрел, а как же я должна реагировать, когда он приводил ее сюда и при мне все это происходило, потом, когда я чинила после них кровать[11]. Всегдашнее — «я как женщина ему не нравлюсь».
И Галя Бениславская все это терпела. Правда, искала иногда отдушину в мимолетных любовных связях с другими мужчинами. После упоминания о Рите Галя пишет в своем дневнике: «И после всего этого я должна быть верна ему? Зачем? Чего ради беречь себя? Так, чтобы это льстило ему? Я очень рада встрече с Л. (речь идет о Льве Повицком, друге Есенина, у которого поэт гостил в Харькове в 1920 году, а в 1924 году жил у него в Батуме), это единственный, кто дал мне почувствовать радость, и не только физически, радость быть любимой, ведь Покровский — это только самообман, мне нужен был самообман, я внушала себе и всем, что я должна скрывать от Сергея. Я могла давать волю с Покровским, и только Лев был настоящим. Мне и сейчас дорого то безрассудство, но это все равно».
Дневник Гали Бениславской полон горьких раздумий и болезненных сомнений. Она с редкой для женщины чуткостью анализирует свои отношения с Есениным. «Не знаю, чего захочу, — записывает она в дневнике, — ведь главным капиталом — с моей беззаветностью, с моим бескорыстием — я оказалась банкротом. Я думаю, что мне (этот) может дать радость. Оказалось лишь сожаление о напрасно растраченных силах, сознание, что это никому не нужно было, раз на это так наплевали, тем более, что не знаю, стоил ли Сергей того богатства, которое я так безрассудно затратила. Ведь с тем зарядом, который был во мне, и без всяких усилий получала от жизни больше того, что хотела. Сколько же я могла получить и одновременно с этим дать другим, если бы не отдала почти все до последней капли для Сергея. Ведь все мне давалось легко, без тяжелых и упорных раздумий о том, как бы добиться. А Сергею вряд ли нужна была я. Я думала, ему нужен настоящий друг, человек, а не собутыльник. Человек, который для себя ничего не должен требовать от Сергея (в материальном плане, конечно). Думала, что Сергей умеет ценить и дорожить этим. И никогда не предполагала, что благодаря этому Сергей перестанет считаться со мной и ноги на стол положит».
Так оно и произошло. В начале марта 1925 года Сергей Александрович Есенин познакомился с Софьей Андреевной Толстой, внучкой великого писателя, и им овладела мысль жениться на ней.
Подобные тщеславные идеи овладевали Есениным не в первый раз. Анатолий Мариенгоф вспоминал, как на заре их молодости они втроем (Есенин, Мариенгоф и Коненков) поехали кататься на автомобиле. Коненков предложил заехать за молодыми Шаляпиными (Федор Иванович был тогда уже за границей). Есенин от этого предложения пришел в восторг.
Они заехали в дом Шаляпиных и взяли с собой в машину дочку Шаляпина Ирину — некрасивую веснушчатую девочку. Есенин всю дорогу говорил ей ласковые слова и нежно смотрел на нее.
Когда они с Мариенгофом вечером вернулись домой, Есенин сел к Анатолию на кровать, обнял его за шею и прошептал на ухо:
— Слушай, Толя, а ведь как бы здорово получилось: Есенин и Шаляпина. А? Жениться, что ли?
Вот и на этот раз ему пришло в голову объединить фамилии Есенина и Толстой.
Истории отношений Сергея Есенина и Софьи Андреевны Толстой будет посвящена особая глава, а здесь речь идет о Гале Бениславской. То, что Есенин решит жениться на Толстой, станет для нее тяжелым ударом. Причем сделал он это в предельно оскорбительной форме. 21 марта Есенин написал Гале лаконичную записку: «Милая Галя! Вы мне близки как друг, но я Вас нисколько не люблю как женщину. С. Есенин». Более тяжкого оскорбления женщине нанести невозможно.
А в середине июня он порвал отношения с Галей и переехал от нее к Наседкину.
Бениславская в своем дневнике писала: «Сергей — хам. При всем его богатстве — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-либо простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него».
Галя пытается проанализировать все происшедшее разобраться в их странной и болезненной связи. «Думала, — пишет она в дневнике, — что для него есть вещи ценнее ночлежек и гонорара. А теперь усомнилась».
А происходит действительно нечто не совсем понятное.
«Трезвый он не заходит, забывает. Напьется — сейчас же. С ночевкой. В чем дело? Или у пьяного прорывается? Или ему хочется видеть меня, а трезвому не хватает смелости? Или оттого, что Толстая противна, у пьяного нет сил ехать к ней, а ночевать где-нибудь надо? Вернее всего, даже не задумываются над этим. Не хочется к Толстой, ну а сюда просто, как домой, привык, что не ругаю пьяного и т.д.»
Бениславская беспощадна как к Есенину, так и к самой себе. Упреки, которые она не может бросить ему в лицо, она записывает в дневник:
«Главное было в нем, как в личности — я думала, что он хороший (в моем понимании этого слова), но жизнь показала, что ни одного «за» нет и, наоборот, тысячи «против» этого. Иногда я думаю, что он мещанин и карьерист, причем удача у него так тесно переплелась с неудачей, что сразу и не разберешь, насколько он неудачлив. Строил себе красивую «фигуру» (по Пушкину), и все вышло так убийственно некрасиво — хулиганство и озорство вылились в безобразность, скотские скандалы, за которыми следует трусливое ходатайство о заступничестве к Луначарскому (два года назад Сергей не подал ему руки), белая горячка т.п.
Поехал в мировое путешествие с Дункан — теперь его знают там и пишут во французских и немецких газетах о том, что «спутник танцовщицы теперь медленно спивается в Москве».
Особенно болезненная тема для Гали Бениславской — Софья Андреевна Толстая, на которой женился Есенин. В ее словах просвечивает откровенная женская ревность к удачливой сопернице. «Наконец, погнался за именем Толстой — все его жалеют и презирают: не любит, а женился. Ради чего же, спрашивается у всех вопрос, и для меня эта женитьба открыла глаза: если она гонится за именем, быть может, того не подозревая, то они ведь квиты. Если бы в ней чувствовалась одаренность, то это можно иначе толковать. Но даже она сама говорит, что, будь она не Толстая, ее никто не заметил бы даже. Сергей говорит, что жалеет ее. Но почему жалеет? Только из-за фамилии. Не пожалел же он меня. Не пожалел же Вольпин, Риту и других, о которых я не знаю. Он сам себя обрекает на несчастья и неудачу. Ведь есть кроме него люди, и они понимают механизм его добывания славы и известности. А как много он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал бы только талантом, а не этими способами. Ведь он такая же блядь, как француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и пр. Спать с женщиной, противной ему физически, из-за фамилии и квартиры — это не фунт изюму. Я на это никогда не смогла бы пойти. Я не знаю, быть может, это вино вытравило в нем всякий намек на чувство порядочности».
Пером Гали Бениславской движет ревность, чувство обиды на Есенина и желание свести с ним счеты. Но в конечном счете она имеет право и ревновать, и обижаться.
«Ну да всяк сам свою судьбу заслуживает. Так же, как и я своей дуростью и глупым самопожертвованием заслужила. И я знаю, отчего у меня злость на него — от того, что я обманулась в нем, идеализировала, его игру в благородство приняла за чистую монету, а за фальшивую монету я отдала все во мне хорошее и ценное. И поэтому я сейчас не могу успокоиться, мне хочется до конца вывести Сергея на чистую воду со всей его трусостью и после этого отпустить его с миром».
Разрыв с Есениным дался Гале Бениславской нелегко. Она тяжело переживала, лечилась от нервного расстройства, на время уезжала из Москвы.
Видимо, и Есенин понимал, что он теряет в лице Гали Бениславской. Мариенгоф свидетельствовал, что, выйдя из ее комнаты после их разрыва, Есенин сказал себе вслух: «Ну, теперь уж меня никто не любит, раз Галя не любит». Возможно, так оно и было.
Гали Бениславской не было в Москве, когда на ее адрес в Брюсовский переулок пришла страшная телеграмма из Ленинграда от Вольфа Эрлиха о смерти Есенина. Не было ее и на похоронах.
Анна Берзинь вспоминала: «После похорон и поминок все легли спать, и вдруг звонок в дверь. Я встала и открыла дверь. Передо мной стояла Галина Артуровна Бениславская.
— Как же вы его похоронили, а мне даже телеграмму не дали, — были ее первые, очень грустные слова.
Упрек был законным. Как можно было забыть ее, верную и трогательную подругу Сергея Есенина».
Жизнь Гали Бениславской после самоубийства Есенина уже не могла наладиться. Сумбурная запись в ее дневнике полна отчаянием и говорит о многом: «Сергунь, все это была смертная тоска, оттого и был такой, оттого так больно мне. И такая же смертная тоска по нем у меня. Все и все ерунда, тому, кто видел его по-настоящему — никого не увидеть, никого не любить. А жизнь однобокая — тоже ерунда».
И, наконец, последние мысли, которые она доверяет дневнику. Роковое решение уже неизбежно.
«Вот мне уже наплевать. И ничего не надо, даже писать хочется, но не очень.
…Лучше смерть, нежели горестная жизнь или постоянно продолжающаяся болезнь… Ну, отсрочила на месяц, на полтора, а считала, что лучше смерть, нежели…»
В декабре 1926 года в годовщину смерти Есенина Галина Артуровна Бениславская покончила с собой на могиле поэта на Ваганьковском кладбище в Москве, оставив записку: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое…»
Глава XV НАДЕЖДА ВОЛЬПИН
Август 1923 года Наденька Вольпин провела в городе Дмитрове, неподалеку от Москвы. Она впервые оказалась в маленьком уездном городке. Немощеные улицы были покрыты слоем жирной черной грязи, в которой ноги увязали по щиколотку, из-за чего приходилось ходить босиком.
Все равно было приятно отрешиться от московской суеты, окунуться в дремотное бездействие русской провинции.
Весточки из Москвы от приятельниц она получала и знала, что Есенин вернулся из-за границы и расстался с Айседорой Дункан. Однако Надя сознательно оттягивала свое возвращение в Москву и неизбежную встречу с Сергеем Есениным — она твердо решила не возобновлять эту мучительную связь.
Тем не менее числа около двадцатого августа она вернулась в Москву в свою комнату на Волхонке. Не успела она, как говорится, порог перешагнуть, как на нее набросилась ее подруга поэтесса Сусанна Мар.
— Где ты пропадала? — засыпала ее вопросами Сусанна. — Есенин мне прохода не дает: куда вы подевали Надю Вольпин? Просто требует и с меня, и со всех. Мартышка (таково было прозвище Анны Никритиной) уже пристраивает к нему свою подругу Августу Миклашевскую. Актриса из Камерного. Писаная красавица.
Избежать встречи с Есениным было невозможно — орбиты, по которым они вращались, постоянно пересекались.
Действительно, дня через два в какой-то редакции Надя Вольпин совершенно случайно столкнулась с Есениным. Он тут же принялся ее уговаривать отправиться вместе с ним обедать в «Стойло Пегаса». И быстро уговорил. К ним присоединились и Мариенгоф с Анной Никритиной и еще какие-то приятели Есенина.
Мариенгоф окинул Надю Вольпин критическим взором.
— А вы располнели, — бросил он.
— Вот и хорошо: мне мягче будет, — усмехнулся Есенин, с вызовом глянув на Никритину, и по-хозяйски обнял Наденьку за талию.
Ее покоробило от циничных слов Есенина, от его самонадеянного тона. Она понимала, что тем самым Есенин поддразнивает Мариенгофа и Никритину. Наденька знает, что она действительно чуточку пополнела — когда Есенин уехал за границу, она была серьезно больна — шел процесс в легких, но к его возвращению процесс вроде бы приостановился, и Вольпин слегка располнела.
А в «Стойле Пегаса» развернулось широкое застолье. Есенин пил только вино и придирчиво следил за тем, чтобы тарелка Наденьки не оставалась пустой.
Есенин был в тот вечер необычно разговорчив, но рассказывал он вовсе не о Европе и Америке, а вспоминал родную Рязанщину, расхваливал свою мать, описывал, какая она была красавица.
Заговорили о поэзии. Есенин горячо подхватил эту животрепещущую тему:
— Кто не любит стихи, — провозглашал он, — вовсе чужд им, тот для меня не человек. Попросту не существует!
Есенина попросили почитать что-нибудь свое. Он охотно согласился. Среди стихов, которые он читал, оказалось одно из числа посвященных Августе Миклашевской. Разговор, естественно, перекинулся на нее. Кто-то сказал:
— Говорят, на редкость хороша?
Другой голос перебил:
— Давненько уже говорят. Надолго ли хватит разговору?
На что Есенин с усмешкой отозвался:
— Хватит… года на четыре.
Надежду Вольпин задело пренебрежительное отношение к представительнице слабого пола, о которой была уже наслышана, и она выпалила:
— Что на весь пяток не раскошелитесь?
Опять чей-то голос:
— Не упустите, Сергей Александрович, если женщина видная, она всегда капризна. А эта уж очень, как я слышал, хороша.
Есенин поморщился и бросил (не в угоду ли Наденьке Вольпин):
— Только не в спальне!
Наденька уже настолько разъярилась, так в ней взыграла женская солидарность, что она готова была дать Есенину пощечину. А вскоре ей пришлось обижаться уже не за Августу Миклашевскую, а за себя.
Кто-то из сидевших за столом перевел разговор на Надю Вольпин:
— На что они вам, записные красавицы? Ведь вот рядом с вами девушка — уж куда милей. Прямо персик!
Есенин тут же оживился, и в голосе его прозвучали нежность и сожаление:
— Этот персик я раздавил!
Раздраженная Вольпин парировала:
— Раздавить персик недолго, а вы зубами косточку разгрызите!
Есенин крепко обнял ее и сказал:
— И всегда-то она такая ершистая!
А дальше он и вовсе разоткровенничался, не чувствуя, видимо, всего цинизма своих слов:
— Вот лишил девушку невинности и не могу изжить нежность к ней.
А еще через несколько фраз добавил:
— Она очень хорошо защищается!
У Наденьки не хватило сил и решимости на то, чтобы встать и уйти. Потом они вышли из «Стойла Пегаса», по традиции посидели недолго у памятника Пушкину на Тверском бульваре, заглянули в какое-то кафе, выпили по чашечке черного кофе. Есенин неожиданно начал выяснять отношения, причем перешел на «ты»:
— Я знаю, — сказал он, — ты не была мне верна.
Надя пресекла эту фамильярность:
— Вы мне не дали права на верность.
Есенин рассмеялся.
Потихонечку они добрели до Волхонки и оказались в Надиной комнате. И тут все зароки, которые давала себе Надежда Вольпин, рухнули, и они оказались в постели.
Утром, уходя, Есенин сказал серьезно:
— Расти большая.
Как-то в сентябре Есенин с Надей Вольпин шли по Тверской и встретили Галю Бениславскую. Есенин подхватил и ее, и они втроем зашли в кафе Филиппова. Есенин стал жаловаться на боли в правом подреберье.
— Врач, — сказал он — грозит гибелью, если не брошу пить!
Наденька со своим остреньким язычком не удержалась от глупой шутки:
— Белая горячка все-таки почтенней, чем аппендицит. Приличней загнуться с перепоя, чем с пережора.
Бениславская набросилась на Надю:
— Вот такие, как вы, его и спаивают.
Есенин расхохотался. А Вольпин удивилась, она знала, что Галя Бениславская всячески старается очернить ее в глазах Есенина, но не подозревала, что та таит в себе столько злобы. Сама она Есенина ни к одной женщине не ревновала. Она была девушка умная и давно раскусила Есенина — поняла, что он по-настоящему женщин не любит, он «безлюбый Нарцисс» — любит себя одного.
Той же осенью Есенин затащил Вольпин в какую-то поэтическую компанию. Его попросили почитать стихи. Он охотно согласился. Читал из «Москвы кабацкой», потом из нового цикла «Любовь хулигана». При этом подчеркнул:
— Посвящается Августе Миклашевской.
Поэт Сергей Клычков сердито заметил:
— Пушкин любил Волконскую десять лет, прежде чем посвятил ей стихи. Ты же и десяти недель не знаком с женщиной, а уже, извольте, посвящаем ей чуть ли не книгу стихов.
Есенин, как ни странно, начал оправдываться:
— Да разве это к Миклашевской? Это к женщине вообще. Русский поэт — к русской женщине.
И добавил, искоса глянув на Наденьку:
— Вольпин знает.
А Надя с вызовом бросила:
— Нет, Вольпин не знает. Ничего Вольпин не знает.
Она лукавила, на самом деле она знала многое. Чуть позже Надежда Вольпин напишет в своих воспоминаниях:
«Любовь хулигана»… В жизни-то хулигана нет, есть лишь поза хулигана в стихах. Нет и его любви — есть жажда полюбить. Ты сказал: «Стихи не к Миклашевской, они к русской женщине вообще, и в частности, знаешь сама, к тебе». Нет, неправда. На стихах отпечаталось и что-то от облика твоей красавицы, даже ее имя обыграно.
Это все останется в моих думах, но в них я тебе никогда не признаюсь, мой бедный друг!»
В октябре того же двадцать третьего года в «Стойле Пегаса» произошел многозначительный разговор. К столику, где сидела Вольпин, подошел Иван Грузинов, давно друживший и с ней, и с Есениным. За его спиной маячила фигура пьяного Есенина. Грузинов стал просить Вольпин:
— Надя, очень прошу вас, очень: уведите его к себе. Прямо сейчас.
— Ко мне? — удивилась Вольпин. — Насовсем? Или на эту, что ли, ночь? Как вы можете о таком просить?
— Поймите, — говорил Грузинов, — тяжело ему с Галей! Она же…
— Знаю, любит насмерть женской любовью, а играет в чистую дружбу. Почему же ко мне? Со мною ему легче, что ли?
— Эх, — вздохнул Грузинов, — сами себе не хотите счастья!
Но в счастье с любимым Наденька Вольпин не верила — ни для себя, ни для него.
А Грузинов продолжал:
— Уведите его к себе и держите крепче. Не себя, так его пожалейте!
Но Наденька не могла увести к себе Есенина. Во-первых, в ее доме шел ремонт и ее переселили в чуланчик, где было так холодно, что вода в кувшине замерзала. А во-вторых, и, это главное, она уже знала, что будет ребенок и ей, чтобы благополучно доносить его, нужно беречься. Но пока это было тайной для всех.
К ним подошел Есенин и тоже попросил Надю увезти его к себе. Она и ему отказала. Тогда Грузинов подумал и предложил Есенину отвести его к Клычкову.
— К Клычкову? — взревел Есенин. — Не пойду! Он русофил!
Он выговорил слово «русофил» брезгливо, как ругательство.
«Больно было думать, — вспоминала Вольпин, — об этом вечере, что Сергей скитается бездомным и некуда ему приткнуться, если не к Гале Бениславской, с которой, видно, ему и впрямь тяжело».
А Есенин стоял, прислонившись к стене, и вдруг разразился длинной хлесткой руганью.
Вольпин была неприятно поражена, раньше он позволял себе распускать язык при ней. И она убежала, простившись только с Грузиновым. Тот смотрел ей вслед с осуждением и, конечно, он был прав. Не должна была она бросать Сергея, растерянного, бесприютного. Это было как предательство.
На следующий день они опять столкнулись в «Стойле Пегаса».
Есенин сказал ей:
— Я, кажется, нес несусветное. Очень был пьян. Не сердитесь.
Не успели они сесть за столик, как к ним подвалили «друзья» Есенина и стали уговаривать его перейти к ним и выпить вместе с ними. Есенин разозлился и отрезал:
— Не пойду. Вечно куда-то тащат… Дайте мне посидеть с моей женой!
Когда Есенин отошел улаживать что-то со счетом за ужин, к Вольпин подошла поэтесса Адалис и сказала:
— Я не в первый раз наблюдаю: у Есенина удивительное лицо, когда он рядом с тобой! Успокоенное и счастливое. Нет, правда! — Она повращала своими прекрасными, продолговатыми, голубыми в прозелень глазами, как будто выписанными на белоснежной эмали, и добавила: — Лицо блудного сына, вернувшегося к отцу.
Поздней осенью они ехали куда-то на пролетке. Было морозно. Есенин сидел задумчивый, погруженный в свои мысли.
— Почему у нас с вами с самого начала не задалось? — вдруг спросил он. — Наперекос пошло. Это была ваша вина. Забрали себе в голову, что я вас совсем не люблю! А я любил вас… По-своему!
«Видно, уж слишком по-своему», — подумалось Наденьке, но вслух она сказала:
— Наоборот. Я всегда это знала. Будь иначе, уж как-нибудь нашла бы в себе силы начисто оборвать нашу связь. Если не иначе, то вместе с жизнью.
Однажды у них зашел разговор о заграничных скитаниях Есенина.
— Расскажите, — попросила Вольпин, — как и почему вы там перебили зеркала в парижской гостинице?
Есенин стал уверять Наденьку, что бил не он, а Дункан.
— Приревновала, ну и вошла в раж. На шум прибежала администрация. Я, как джентльмен, взял вину на себя.
Надя подумала, что это похоже на правду, может быть, того требовали деловые соображения. Как ни крути, главой фирмы «Всемирно известная танцовщица и ее молодой русский муж» была она, а не он.
Воспользовавшись случаем, она попутно спросила у Есенина, считает ли он Айседору Дункан крупной величиной в искусстве?
Есенин отвечал на этот непростой для него вопрос охотно и обстоятельно. У Нади мелькнула мысль, что, видимо, он давно все продумал.
— Поначалу, — сказал он, — искренне считал. Но потом, когда увидел танец другой тамошней плясуньи (имени он не назвал), недавно вошедшей в славу, я понял что почем. Дункан в танце себя не выражает. Все у нее держится на побочном: отказ от тапочек балетных — босоножка, мол; отказ от трико — любуйтесь естественной наготой. А сам танец у нее не свое выражает, он только иллюстрация к музыке, картинка. Ну, а та, новая, — ее танец выражает свое, сокровенное: музыка же только поставлена на службу.
В ноябре Есенин, встретив Надежду Вольпин, сообщил ей, что ложится в больницу — где-то в Замоскворечье — «то ли Пятницкая, то ли Полянка. Ну, Галя будет знать». Он взял с Наденьки слово, что она навестит его там. «Адрес возьмите у Гали».
Однако Галя и здесь не упустила возможности продемонстрировать свое верховенство — она самая близкая, самая доверенная — и не захотела сообщать Вольпин адрес больницы и даже не передала Есенину письмо от Нади.
Незадолго до того как Есенин лег в больницу, Надя Вольпин сообщила ему, что беременна от него и собирается рожать. Эта новость отнюдь не порадовала Есенина. У него уже было трое детей, но все они жили отдельно от него, и он с ними практически не общался.
Наденька ясно дала понять, что не рассчитывает воспользоваться положением и выйти за него замуж. Она сказала Есенину, что вряд ли возможно совмещать две такие разные задачи: растить здорового ребенка и отваживать отца от вина. И вот теперь, когда Есенину надо было ложиться на лечение, она стала допытываться, не слишком ли угнетает его мысль о будущем ребенке. И добавила:
— Если так, то ребенка не будет.
Есенин принялся с жаром уверять, что дело совсем не в нем, что его беспокоит будущее Наденьки. Если он ее отговаривает рожать, то только потому, что думает о ней, — вряд ли она представляет себе, насколько ребенок осложнит ее жизнь. На том и расстались.
Когда Вольпин во второй раз навестила Есенина в больнице, она застала там Галю Бениславскую с целой стайкой ее подруг и его поклонниц. Есенин принимал их не в палате, а в вестибюле под лестницей.
На этот раз он был с Наденькой почти груб. Возможно, тем самым он хотел угодить Гале.
— Вам сколько лет исполнилось? Двадцать восемь?
— Расщедрились! Хватит с меня и двадцати четырех.
Надя понимала подоплеку этого разговора — Есенин убеждал самого себя, что Наденька достаточно взрослая и он за нее не в ответе.
— Ну, да! — насмешливо произнес Есенин. — Вы еще скажете, девочка! Мы же с вами целый век знакомы. Когда встретились?
— Осенью девятнадцатого.
— Вот тогда вам было двадцать три.
— Было девятнадцать. Мои годы просто считать: в двадцатом — двадцать. В двадцать четвертом, в феврале, будет двадцать четыре.
— Все-то она девочка. А уж давно в возрасте!
— Дались вам мои годы. Свои не забывайте.
Через несколько дней Есенин заявился в промерзшую Надину комнату на Волхонке и вытащил ее из дома в какое-то кафе в полуподвале в переулке между Тверской и Дмитровкой. Есенина сразу же перетянула к себе за столик компания актеров, где его принялась обольщать грузноватая, игриво-кокетливая, уже немолодая, но еще красивая женщина. Есенину явно льстило ее внимание.
А к Вольпин подсел невесть откуда взявшийся Иван Грузинов и стал просить Наденьку не оставлять здесь Есенина одного.
— Кроме вас, тут никого из друзей.
Грузинов объяснил, что живет не дома и позже двенадцати возвращаться не может. Тем более с пьяным Есениным.
Когда Грузинов ушел, его сменил какой-то американец, который пришел в восторг от того, что Надя знает английский язык. Он стал уговаривать Надежду вспомнить о женской гордости и уйти, бросив Есенина, который привел ее, а сам ухаживает за другой.
Вольпин начала объяснять американцу, что Есенин великий русский поэт, который гибнет на глазах у друзей, и потому сейчас не до личных обид. Есенин заметил внимание американца к Наде и грубо схватил ее за руку, выкрикнув: «Моя!»
Актерская компания постепенно редела, и Надя начала уговаривать Есенина, что и им пора. Но Есенин вдруг вспомнил, что обещал Гале Бениславской, которая больна и ничего весь день не ела, принести ужин. После некоторого ожидания им принесли пакет с какой-то снедью, и они выбрались на улицу. Надя надеялась, что на морозе Есенин хоть немного протрезвеет, но его развезло еще больше, он не стоял на ногах, а у Вольпин не хватало сил поддержать его.
Наконец, они добрались до Брюсовского переулка, дверь им открыла сама больная и, увидев Вольпин, удивилась:
— Вы?
Не ожидала наивная ревнивица, что Надя приведет Есенина к ней, а не к себе.
Есенин пытался удержать Надю:
— Мы же не поговорили… о главном.
— Успеем. Я не завтра уезжаю.
А «главное» заключалось в том, что Вольпин твердо решила сохранить ребенка и переехать в Ленинград. Есенин же уговаривал Надю прервать беременность.
— Зря вы все-таки это затеяли, — говорил он. — Я хотел попросить Бениславскую, чтобы она поговорила с вами.
— Что ж! — отозвалась Надя. — Я б направила ее для объяснений к Сусанне Мар.
— Понимаете, — продолжал настаивать Есенин, — у меня трое детей. Трое!
— Так и останется трое, — твердо сказала Вольпин. — Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжаю.
Надежда хотела иметь ребенка, чтобы верней хватило сил на разлуку. Окончательную разлуку!
За несколько дней до отъезда Вольпин узнала, что друзья Есенина подыскивают ему сильную подругу, которая могла бы удержать его от пьянства. Подходящей кандидатурой считалась Анна Абрамовна Берзинь, редактор Госиздата. Но о ней разговор впереди.
Надежда Вольпин действительно переехала в Ленинград, где 12 мая 1924 года родила сына и нарекла его Александром.
В Ленинграде Надежда подружилась с друзьями Есенина, особенно с Александром Михайловичем Сахаровым и его женой Анной Ивановной. В их квартире она снова встретила Есенина в один из его очередных приездов в Ленинград. В столовой Сахаровых собрались поэты, чтобы послушать, как Есенин читает свои новые стихи. Там она впервые услышала «Письмо к матери». Дальнейший разговор оказался весьма примечателен — он бросал некий отсвет на детство Сергея Есенина и на то, почему он искал в женщинах, любивших его, материнской ласки и заботы, которых он был лишен в детстве.
В тот вечер, прочитав «Письмо к матери», Есенин стал говорить о своей бабушке Наталье Евтеевне Титовой, которая заменила маленькому Сереже мать. Есенин объяснил, что в «Письме к матери» он и внутренне и внешне обрисовал не мать, а бабушку. Это она выходила на дорогу в старомодном ветхом шушуне встречать внука, прибегав-шего за десятки верст из школы.
14 апреля 1924 года в Ленинграде состоялся авторский вечер Есенина в Зале Лассаля в бывшем здании Городской думы. Есенин вытащил на этот вечер и Надежду Вольпин.
Начало оказалось не совсем удачным. Зал был уже полон, а Есенин все еще не появлялся. Публика начала роптать, стучать ногами. Наконец, за кулисами возник Есенин, но в весьма непрезентабельном виде. Его быстренько умыли, причесали, повязали галстук, и он, как будто протрезвевший, вышел на эстраду.
Есенин начал вечер не с чтения стихов, а со вступительного слова. Надежда Вольпин в своих воспоминаниях признает, что говорил он несколько бессвязно: о том, что страна на новом пути, что вершится большое и небывалое, а вот он, Сергей Есенин, встал на распутье и не знает, чего требует от него поэтический долг, чего ждет Родина от своего поэта.
— Понимаете, — повторял он, — я растерян, вот именно, растерян.
Потом он наконец начал читать стихи, и успех был ошеломительным.
Организатор вечера Романовский вспоминал:
«Минут через десять мы вместе с Есениным вышли через служебный вход. Стоило нам лишь приотворить дверь и показаться на пороге, как нас встретил оглушительный шум и визг. У служебного входа поджидала Есенина толпа восторженных слушателей, главным образом девиц. Они дружно ринулись на поэта, подняли его на руки и понесли. Одну из поклонниц осенила «светлая» мысль — она стала расшнуровывать один из ботинков Есенина, желая, видимо, унести с собой шнурок в качестве сувенира. Ее пример вдохновил другую почитательницу таланта Есенина, она решила снять с поэта галстук, воспользовавшись его беспомощным состоянием на руках у поклонников и поклонниц. Энергичная девица ухватилась за нижний конец галстука и сильно потянула его к себе. В результате возникла удавная петля. Есенин стал задыхаться, лицо его побагровело. Я закричал на эту поклонницу, приказал ей немедленно отпустить галстук. Но она не обратила на мои слова ни малейшего внимания. Тогда я, испугавшись, как бы она совсем не удавила поэта, резко и сильно ударил ее по руке, она вскрикнула и выпустила галстук. Вот так донесли на руках Есенина до гостиницы. Поклонники хотели внести его в номер, но швейцар и служащие гостиницы заставили их разойтись».
На следующий день Есенин писал Гале Бениславской: «Вечер прошел изумительно. Меня чуть не разорвали».
В этот предпоследний приезд в Ленинград он просил жену Сахарова Анну Ивановну дать ему адрес Надежды Вольпин. Анна Ивановна отказалась, отговариваясь тем, что должна сначала спросить разрешения у Наденьки. «А то он придет, а вы его с лестницы спустите. А я бы на вашем месте спустила».
Есенин не только принял как должное, что Надя «спустит его с лестницы», но даже стал рассказывать, что она именно так и поступила. И сам в конце концов поверил в свою выдумку. Поверил тем легче, что еще в августе двадцать четвертого года, когда ее сыну было всего четыре месяца, Надя вместе с няней шла по Гагаринской улице и увидела, что навстречу им идет Есенин. Надежда приказала няньке перейти на другую сторону улицы — она не захотела показывать сына отцу при случайной встрече. Отсюда родилась сплетня, что Надежда не позволила Есенину даже посмотреть на ребенка.
Она, конечно, разрешила Анне Ивановне Сахаровой дать Есенину ее адрес, но в его последний приезд в Ленинград они разминулись — Надежда уехала на Рождество на две недели с сыном в Москву.
Александр Михайлович Сахаров рассказал Наденьке, что в тот свой приезд в Ленинград Есенин ходил на Мойку с мыслью утопиться, но хмурая осенняя река показалась ему холодной и неприютной — не успокоит такая могила! И отказался от замысла, отложил…
— Сами знаете, — сказал Александр Михайлович, — он уже раз пробовал такое, вену себе вскрывал…
— Тогда, в двадцать четвертом году? — спросила Надежда. — Та черная повязка на руке?
— Ну да! — подтвердил Сахаров. — А вы поверили, что он стекло подвальное продавил? Ясно же было: аккуратненько вену перерезал. Нигде, ни на руке, ни на одном пальце, ни царапины. Да как вы могли поверить?
Надя Вольпин гнала от себя тогда эту страшную догадку. Ведь черную повязку на руке Есенина она увидела в канун родов.
Как прощальный привет от Есенина прозвучал для Нади рассказ некоего Коли, тот был мужем подруги Анны Ивановны и ходил в «друзьях» у Есенина. Он рассказал ей, как огорчился Сергей Александрович, когда Сахарова отказалась дать ему адрес Надежды. Они с Есениным пили потом целый день, а Есенин все повторял:
— Как же низко я пал, если Надя Вольпин… она любила меня больше всех… И Надя спустила меня с лестницы!
Та случайная встреча в Ленинграде на Гагаринской улице оказалась для Надежды Вольпин последней — больше она Сергея Есенина, отца своего сына, не видела.
Глава XVI СОФЬЯ АНДРЕЕВНА ТОЛСТАЯ — ЛИТЕРАТУРНО-ДИНАСТИЧЕСКИЙ БРАК
Встреча Сергея Есенина с Софьей Андреевной Толстой произошла случайно. Их никто преднамеренно не собирался знакомить. Была обычная вечеринка по случаю дня рождения Гали Бениславской. На ней присутствовал знакомый Есенина, популярный в те годы писатель Борис Пильняк. Вот он-то и привел на вечеринку свою любовницу, о существовании которой все знали — Софью Андреевну Толстую, внучку Льва Николаевича Толстого. Это случилось 5 марта 1925 года.
Софья Андреевна — ей тогда было двадцать пять лет — была женщина высокая, представительная. Красавицей ее назвать никак было нельзя. Слишком уж она походила на своего деда. «Не хватало, — как говорил Анатолий Мариенгоф, — лысины и седой бороды».
Но ее окружала аура имени — на Есенина этот отсвет великой славы действовал как гипноз. Тогда же у него родилась банальная и не новая мысль: жениться на Софье Андреевне, соединить свое имя с именем Толстого. А Софья Андреевна, как не раз уже бывало с женщинами, влюбилась в него с первого взгляда, влюбилась без памяти. И — как случалось почти со всеми женщинами, любившими Есенина, — в ее любви к нему превалировало материнское чувство. Мать Софьи Андреевны утверждала в одном письме: «Ее любовь к нему совершенно очевидно была безграничной, и, как она часто говорила, в ее любви было много материнского, как к больному ребенку».
Друзья Есенина отнеслись к перспективе его женитьбы на Софье Андреевне по-разному. Оно и понятно. Кое-кто считал ее женщиной неинтересной, пресной, а потому брак поэта с ней казался им в высшей степени странным и совершенно ему не нужным. Но были и такие, кто ценил Софью Андреевну довольно высоко и возлагал на эту женитьбу Есенина большие надежды.
Писатель Юрий Либединский, друживший в ту пору с Есениным, писал: «В облике этой девушки, в округлости ее лица и пронзительно умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее светлых глазах. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя».
Ленинградский писатель Н. Никитин писал о Софье Андреевне столь же проникновенно и уважительно. Он называл ее «замечательным человеком» и далее продолжал: «С. А. Толстая была истинная внучка своего деда. Даже обличьем поразительно напоминала Льва Николаевича. Она была человеком широким, вдумчивым, серьезным, иногда противоречивым, умела пошутить, всегда с толстовской мягкостью и остротой разбиралась в людях». Никитин писал, что ему было понятно, что привлекло Есенина «уже довольно уставшего от своей мятежной и бесшабашной жизни к Софье Андреевне. Это были действительно уже иные дни, иной период его биографии».
Никитин отмечал, что «встреча с замечательным человеком С. А. Толстой была для Есенина не «проходным» явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелегкой. Вообще это последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан.
И тем не менее Есенин какое-то время колебался, жениться ли ему на Софье Андреевне.
Либединский вспоминал: «Сергей и сам заговаривал об этом, но по своей манере придавал этому разговору шуточный характер, вслух прикидывая: каково это будет, если он женится на внучке Льва Николаевича Толстого! Но что-то очень серьезное чувствовалось за этими как будто бы шуточными речами».
Но были и серьезные разговоры, даже драматичные. Либединский рассказывал, как у одной его знакомой устроили «мальчишник» по поводу предстоящей женитьбы Есенина. Сергей то веселился, то задумывался. Потом взял гитару и запел:
Есть одна хорошая песня у соловушки — Песня панихидная по моей головушке.Есенин вдруг ушел в другую комнату, а когда Либединский, которому хозяйка сказала, что Есенин просит его зайти, заглянул туда, то увидел, что Есенин сидит на краю кровати и плачет.
— Ну, чего ты? — спросил его Либединский.
— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.
— Ну почему не выйдет? Если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись.
— Нельзя, — возразил Есенин очень серьезно. — Ведь ты подумай, его самого внучка! Ведь это так и должно быть, что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и должно быть!
В голосе его, как писал Либединский, слышалась гордость и какой-то крестьянский разумный расчет.
Очень впечатлительную картину запечатлела Анна Берзинь, картину, которая многое проясняет в отношениях Есенина и С. А. Толстой.
Как-то в один из ненастных летних вечеров ей позвонил Есенин и пьяным голосом попросил ее приехать немедленно к Бениславской в Брюсовский переулок.
Анне Абрамовне не хотелось идти — было уже поздно, да и нетрезвый голос Есенина не располагал к визиту. Она наотрез отказалась.
Через несколько минут Сергей Александрович снова позвонил и стал просить прийти. Как всегда, будучи в таком состоянии, начал прикидываться, что его обижают.
— Я за тобой приползу, — сказал он. — Пойми, что я жених и тут моя невеста.
— Какая невеста? — спросила удивленная Берзинь, встревоженная новой его выдумкой.
— Толстая Софья Андреевна, — торжествующим голосом возвестил Есенин.
Анна Абрамовна не знала тогда, что внучку Толстого зовут как и бабушку, и, смеясь, спросила:
— А Льва Николаевича там нет?
Трубку взяла Галя Бениславская и пояснила, что действительно у них в гостях Софья Андреевна Толстая, попросила прийти.
Уже поднимаясь в лифте в квартиру Бениславской, Берзинь услышала оглушающий рев баянов. Оказалось, что Есенин пригласил из театра Мейерхольда знаменитое трио баянистов и они заполняли маленькую комнату своей музыкой.
За столом сидели Бениславская, Вася Наседкин, Борис Андреевич Пильняк, какая-то женщина, оказавшаяся Толстой, сестры Есенина Шура и Катя. Сам он пьяный, суетливый, улыбающийся, как падший ангел, восседал на диване и с торжеством смотрел на Берзинь.
Шура и Катя пели под музыку баянов, Есенин тоже пел, но время от времени умолкал, бессильно откидываясь на спинку дивана, потом опять выпрямлялся и опять пел. Лицо у него было бледное, он то и дело закусывал губы.
Анна Абрамовна повернулась к Софье Андреевне и напрямик спросила ее:
— Вы действительно собираетесь за него замуж?
Софья Андреевна сидела очень спокойная, не обращая внимания на царящий в комнате шум и гам.
— Да, у нас вопрос решен, — ответила она, глядя прямо в глаза Берзинь.
— Вы же видите, — сказала Анна Абрамовна, — он совсем невменяемый. Разве ему время жениться, его в больницу надо положить. Лечить его надо.
— Я уверена, — отозвалась Софья Андреевна, — что мне удастся удержать его от пьянства.
— Вы давно его знаете? — спросила Берзинь.
— А разве это играет какую-нибудь роль? — недоуменно ответила Толстая. — Разве надо обязательно долго знать человека, чтобы полюбить его?
— Полюбить, — протянула Анна Абрамовна. — Ладно полюбить, а вот выйти замуж — это другое дело.
Толстая слегка пожала плечами, встала и подошла к откинувшемуся на спинку дивана Есенину и нежно провела рукой по его лбу. Он, не открывая глаз, отстранил ее руку, зло посмотрел на нее и неожиданно выпалил:
— Блядь, — и добавил совсем уж нецензурную ругань.
Толстая спокойно отошла от него и села на свое место как ни в чем не бывало.
— Вот видите, — настаивала Берзинь, — разве можно за него замуж идти, когда он невесту материт?
На что Софья Андреевна спокойно ответила:
— Он очень пьян и не понимает, что делает.
— А он редко бывает трезвым, — старалась внушить ей Берзинь, что выходить за него замуж нельзя.
— Ничего, он бросит пить, — уверенно заявила Толстая, и чувствовалось, что она действительно в это верит.
Бениславская, уже знающая Есенина до тонкостей, налила ему стакан водки, чтобы он выпил и заснул, и больше не безобразничал и не ругался. Так оно и случилось — Есенин откинулся на спинку дивана и заснул мертвым сном.
Берзинь предложила всем расходиться по домам и сказала Пильняку:
— Вы проводите Софью Андреевну, ведь уже поздно.
У Пильняка за стеклами очков поблескивали хитрые и насмешливые глаза. Он наклонился к уху Анны Абрамовны и достаточно громко, чтобы слышала Толстая, сказал:
— Я пойду провожать вас, а ее пусть кто угодно провожает. Я целованных и чужих любовниц не провожаю…
Когда Галя Бениславская вышла в коридор проводить гостей, Берзинь отвела ее в сторонку и спросила:
— В чем дело, Галя? Я ничего не понимаю.
У Гали на лице застыла жалкая улыбка.
— Чего ж тут не понимать? Сергей собирается жениться. Он же сказал тебе об этом.
— Ты же знаешь, что Сергей болен, какая тут свадьба.
Бениславская устало махнула рукой, в глазах ее боль и мука.
— Пусть женится, не отговаривай, может быть, она поможет, и он перестанет пить.
По дороге Пильняк рассказал Берзинь, что Толстая жила с ним, а теперь выходит замуж за Сергея. Берзинь не хотелось говорить с ним на эту тему.
Тем не менее она записала в своих воспоминаниях:
«Зачем это делает Сергей — понять нельзя. Явно, что он ее не любит и не пылает страстью, иначе он прожужжал бы все уши, рассказывая о своем увлечении. Впрочем, он говорит об этом только тогда, когда пьян, но я третьего дня видела его пьяным, он ничего не говорил о своей женитьбе».
Далее в воспоминании Анны Абрамовны Берзинь следует эпизод совсем уже из области черного юмора.
Ей позвонил Есенин и сказал, что хочет прийти с Соней, так как он вчера, кажется, плохо держал себя. Голос у него был трезвый, и Анна Абрамовна согласилась встретиться с ним.
Он пришел с Софьей Андреевной и Юрием Либединским, но Сергей успел где-то хватить на ходу вина — лицо было белое, будто измазанное мелом, и как и всегда в таком состоянии, он прикусывал губы.
Потом он увел Анну Абрамовну в другую комнату и попросил, чтобы туда пришел и Юра Либединский.
С испуганным и напряженным лицом он проговорил:
— Я поднял ей подол, а у нее ноги волосатые… Я закрыл и сказал: «Пусть Пильняк, я не хочу». Я не могу жениться.
Все это он говорил достаточно громко. Либединский покраснел и поплотнее прикрыл дверь.
А Есенин продолжал жаловаться:
— Я человек честный, раз дал слово, то я его сдержу. Но пойми меня, нельзя же так. Волосы хоть сбрила бы.
И он тут же перешел на то, как будет справлять свадьбу, перечислял, кого позовет, а кого не позовет, и все повторял, как это здорово выйдет:
— Сергей Есенин и Толстая, внучка Льва Николаевича… Вот…
На другой день Анне Берзинь позвонила Софья Андреевна и пожаловалась, что Сергей опять запил и пьет безобразно, скандалит, уходит из дома.
К Есенину, оказывается, повадился какой-то пройдоха музыкант, приходил на лестницу и играл на скрипке под дверью, пока Сергей не брал его под руку и не вел в кабак.
В те дни Берзинь приходилось вытаскивать Есенина из ресторана «Ампир», где он, допившись до бесчувствия, колотил вдребезги посуду, зеркала, опрокидывал столы и стулья.
Перед Берзинь в ресторане «Ампир» предстало страшное зрелище. Среди битой посуды ничком, плотно сжав губы, лежал Сергей Есенин. Анна Абрамовна сообразила, что он все понимает, но прикидывается, будто потерял сознание. Она нагнулась и сказала:
— Сережа, поедем домой.
Он не вставал, а ей противно было до него дотронуться, он весь был в блевотине.
— Сережа, — позвала она его еще раз, — если ты не пойдешь, я уйду и тебя заберут в милицию.
Он шевельнулся, потом приподнялся и открыл глаза. Берзинь помогла ему встать и увела из ресторана.
Анна Берзинь писала в своих воспоминаниях, что ей было совсем не стыдно возиться с пьяным Сережей, она очень хорошо понимала, что он очень болен, и знала, что ему надо лечь в больницу и лежать там долго, очень долго, чтобы прийти в себя.
Перспектива женитьбы на Софье Андреевне Толстой одновременно привлекала Есенина и пугала. Вольфу Эрлиху он говорил:
— Почему такой человек, как я, должен жениться? С чем я остался в этой жизни? Слава? Мой бог, я не ребенок, ты ведь знаешь! Поэзия? Возможно… Но нет! Она тоже покинула меня… Счастье — это дерьмо! Его нет. А что касается моей личной жизни!.. Я пожертвовал ею ради того, что больше не существует… Где моя жизнь? Где мои дети?
Тем не менее 16 июня Есенин написал сестре Кате: «Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым».
На новое местожительство, в квартиру Софьи Андреевны в Померанцевом переулке на Остоженке он переезжал нерешительно, словно сомневался, правильно ли он поступает. Квартира была удобная, очень упорядоченная, где было все необходимое для серьезного и тихого писательского труда. Квартира была заставлена старинной громоздкой мебелью, взгляд везде натыкался на портреты родителей, обстановка выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, выходили на север, в них никогда не бывало солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое его пристанище, видимо, начинало тяготить Есенина.
В глаза бросалось вопиющее несоответствие неуемного и порой буйного Есенина с этой упорядоченной интеллигентной квартирой. Он казался там чем-то чужеродным и неуместным.
Кое-кто из друзей, правда, возлагал большие надежды на такую смену обстановки, в которой оказался Есенин.
Сотрудник Госиздата и друг Есенина Иван Евдокимов вспоминал:
«Наблюдая в этот месяц Есенина, — а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме (был он в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней, — я сохранил воспоминания о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне думалось, что женится он по-настоящему, перебесился — дальше может начаться крепкая и яркая жизнь».
Но надеждам не суждено было осуществиться. Тревожные симптомы были налицо.
Юрий Либединский, бывавший в гостях у Есенина в Померанцевом переулке, рассказывал, как он однажды спросил у Есенина, как ему живется. Тот ответил:
— Скучно. Борода надоела.
— Какая борода?
— То есть как это какая? Раз — борода, — он показал на большой портрет Льва Николаевича, — два — борода, — он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем. — Три — борода, — он показал на копию с известного портрета Репина. — Вот там, с велосипедом, — это четыре бороды, верхом — пять… А здесь сколько? — Он подвел Либединского к стене, где под стеклом было несколько фотографий Льва Толстого. — Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — закончил он с какой-то яростью.
Есенин сам понимал, что новая семейная жизнь не складывается. Уже в июне или в июле он писал Вержбицкому:
«Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться, семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ!
…С новой семьей вряд ли что получится, слишком все здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолке, что для живых людей места не остается. И это душит меня».
Развязка не заставила себя долго ждать — Есенин сорвался и запил.
Как–то утром Анне Абрамовне Берзинь позвонила Софья Андреевна и попросила срочно приехать.
— Есенин громит квартиру, — сказала она.
Берзинь помчалась на вырочку и пришла в ужас: перед ней предстало Мамаево побоище. В столовой было перебито все, что можно было перебить, вплоть до люстры. А на груде черепков и осколков лежал пьяный и грязный Есенин.
И опять Анне Берзинь пришлось долго его уговаривать, чтобы он встал, прошел в ванную, переменил белье и костюм. В конце концов он ее послушался, Берзинь поразила его бледность. Он и раньше никогда не отличался румянцем, но теперь он был мертвенно–бледен.
Пока он приводил себя в порядок, нянька Толстых убирала столовую. Собственно, вся уборка заключалась в том, что вымели черепки и осколки и переменили скатерть. В висевших на стенах портретах и фотографиях Льва Николаевича все стекла были разбиты вдребезги. Оказывается, Есенин норовил чем-нибудь тяжелым угодить в портрет и кричал при этом:
— Надоела мне борода, уберите бороду!
Софья Андреевна захотела зайти к Есенину и, хотя Берзинь отговаривала ее, настояла на своем. Вдруг из столовой раздался крик, все побежали туда и застали такую картину: Есенин лежал на кушетке, а Софья Андреевна стояла, закрыв лицо руками, оно было в крови. Есенин перебил ей переносицу.
Пришлось для нее вызывать врача. Она, кажется, уже понимала, что Есенин очень тяжело болен.
О характере отношений между Сергеем и Софьей Андреевной достаточно красноречиво говорит подборка записок и телеграмм, которыми они обменивались:
«Сергей, мой дорогой, приезжай скорее. Я очень хочу видеть тебя, очень. Ужасно грустно. Твоя Соня».
Есенин пишет ей:
«Не знаю, что сказать тебе. Ты меня больше не увидишь. Без всяких причин. Я люблю тебя, люблю».
Софья Андреевна шлет записку:
«Будь здоров, мой дорогой. Все мои мысли всегда с тобой. Люблю. С.»
«Чувствую себя хорошо, — отвечает Есенин. — Скоро увижу тебя. Люблю. Сергей».
Записка от С. А. Толстой:
«Сергей, мой дорогой, я не хотела будить тебя. Зайди ко мне на работу или позвони. Ради Бога, помни, что ты мне обещал, иначе я буду волноваться. Целую тебя. Соня».
«Соня, прости меня за то, что оскорбил тебя. Ты сама виновата… Позвоню. Сергей».
В июне Есенин неожиданно сорвался и уехал в Константиново. Не обошлось без надрыва. Вольфу Эрлиху он кричал:
— Слушай, кацо! Я хочу домой! Понимаешь? Домой хочу! Отправь меня, пожалуйста, в Константиново! Ради бога, отправь!»
На вокзале Есенин торопливо пишет письма:
— Вот это — отдай Соне. Я ей все объясню. А это Анне Абрамовне. Да скажи, что я ей очень верю, совсем верю, но слушаться ее не могу. Никого я не могу слушаться. Понимаешь?
Поездка в Константиново оказалась весьма краткой — уже через три дня Есенин вернулся в Москву.
В эти месяцы Есенина неотступно преследовала мысль о смерти.
«Его тянуло к балконам, к окнам, — вспоминал Вольф Эрлих. — Он стоял у открытого окна и смотрел вниз. Я подошел и тронул его за плечо.
— Сергей, не смотри так долго вниз. Это нехорошо!
Он повернул ко мне свое мертвенно–бледное лицо:
— Ах, кацо! Как все надоело!»
Его терзало чувство невыносимого одиночества в ранние часы — однажды он разбудил Эрлиха в три часа утра, и они вдвоем отправились гулять по Москве. В пять утра Есенин сказал:
— Слушай… Я обреченный человек… Я очень болен… И самое главное — труслив. Я очень несчастлив. У меня нет никого в жизни. Все меня предали. Понимаешь? Все! Но дело не в этом… Слушай… Никогда не жалей меня! Никогда не жалей меня, кацо! Если я когда-нибудь замечу… Я убью тебя! Понимаешь? Если ты когда-нибудь захочешь написать обо мне, то напиши: «Он жил только ради своего искусства и только с ним прошел по жизни».
В июле Есенин написал довольно много стихотворений. Вольф Эрлих так вспоминал об этом периоде:
«Если он ничего не писал неделю, он начинал сходить с ума от страха. Есенин, который однажды не писал ничего два года, боялся трехдневного молчания. Есенин, обладавший даром импровизации, теперь тратил несколько часов на то, чтобы написать шестнадцать строчек, треть из которых можно было обнаружить в его старых стихах. Есенин, который помнил наизусть все, что он написал за десять лет, читал свои последние стихотворения только по рукописи. Ему не нравились эти стихи…
Однажды утром он сказал:
— У меня нет соперников, и поэтому я не могу работать.
В середине дня он стал жаловаться:
— Я утратил свой дар.
В четыре часа дня выпил стакан рябиновой водки и свалился в постель без сознания».
В конце июля Есенин и Толстая уехали из Москвы в Баку.
Казалось бы, радоваться надо этой почти свадебной поездке в город, который он так полюбил. И тем не менее по дороге, в Ростове-на Дону, он делает стихотворную приписку к открытке, которую Софья Андреевна отправила в Ульяновск Вольфу Эрлиху:
Милый Вова! Здорово! У меня неплохая «жись», Но если ты не женился, То не женись. С. Есенин.Пусть это была шутка, но в ней был серьезный подтекст, особенно если вспомнить многочисленные предупреждения Есенина Эрлиху не жениться. Он говорил:
— Господи, какой дурак! Ну и дурак! А? Ты на меня, дурья голова, не смотри! Мне лет-то сколько! Жизнь-то моя какая! А тебе что? Ты мой совет запомнил: холостая жизнь для поэта все равно что мармелад! И стихи идут, и все идет! Женишься — света Божьего не увидишь! Вот что!
В Баку Есенина и Толстую увезли в дачную местность Мардакяны и поселили в бывшем загородном дворце хана. Чагин обещал Есенину создать для него «иллюзию Персии» и постарался это осуществить. Там был большой сад, фонтаны и всевозможные восточные лабиринты, переходы и прочие декорации в том же духе.
В тишине Мардакян Есенин написал несколько стихотворений, включая заключительные стихи цикла «Персидские мотивы», в их числе и известное стихотворение о мученической доле поэта, о его роковом предназначении:
Быть поэтом — это значит то же, Если правды жизни не нарушить, Рубцевать себя по нежной коже, Кровью чувств ласкать чужие души. Быть поэтом — значит петь раздолье, Чтобы было для тебя известней. Соловей поет — ему не больно, У него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого — Жалкая, смешная побрякушка. Миру нужно песенное слово Петь по-свойски, даже как лягушка. …Магомет перехитрил в коране, Запрещая крепкие напитки, Потому поэт не перестанет Пить вино, когда идет на пытки.«В это время, — утверждала Софья Толстая, — Есенин, чувствовал себя совершенно больным. Опять возникли подозрения, что у него туберкулез. Он кашлял, похудел, был грустен и задумчив».
Анне Берзинь Есенин писал из Баку: «Живу в Мардакянах, но тянет дальше. Куда — сам не знаю. Если очутюсь где-нибудь около Байкала, не удивляйтесь…»
Жена Чагина описала жизнь в Мардакянах: «Петр Иванович днем работал, приезжал на дачу только к вечеру. А мы с Толстой развлекали Сергея Александровича, отвлекали его от кутежей. Он очень любил сидеть наверху бассейна или лежал на ковре и мечтал, а зачастую писал стихи, а потом читал их нам. Часто его приглашали в близлежащие дома отдыха почитать стихи, и он никому не отказывал, охотно шел, читал, беседовал с людьми. Были также на даче теннисная и крокетная площадки, где тоже охотно Сергей Александрович коротал время. Ездили и на пляж. Вечерами собирались дачники в комнате, где стояло пианино. Софья Андреевна играла — пели, танцевали и, конечно, Сергей Александрович читал стихи».
Встречался Есенин в Баку и с Воронским. Отношения их были непростые. Воронский не мог не припомнить, как при первой их встрече в Москве Есенин сказал ему: «Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю, вы коммунист. Я тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет».
Воронский был действительно одним из немногих друзей Есенина, который понимал всю глубину человеческой и поэтической трагедии Есенина, печатал охотно его стихи в журнале «Красная новь», пока был там главным редактором, писал о творчестве Есенина серьезные статьи.
В Баку Воронский приехал вместе с Фрунзе. Тот взял его к себе в свиту, как земляка и революционного соратника. Здесь на товарищеском ужине Воронский познакомил Есенина с Фрунзе и с Сергеем Мироновичем Кировым. Есенин подробно расспрашивал Воронского о боевых годах Фрунзе. Чагину Есенин признался тогда, что лелеет мечту написать эпическую вещь о гражданской войне.
И все-таки тоска не оставляла Есенина и в Баку, в голове его теснились грустные мыли о своей прожитой жизни.
«Как-то в сентябре 1925 года, — вспоминал Чагин, — на даче, перед отъездом Есенина в Москву, я увидел его грустно склонившим свою золотую голову над желобом, через который текла в водоем, сверкая на южном солнце, чистая прозрачная вода.
— Смотри, до чего ржавый желоб! — воскликнул он. И, приблизившись вплотную ко мне, добавил: — Вот такой же проржавевший желоб и я. А ведь через меня течет вода почище этой родниковой. Как бы сказал Пушкин — кастальская! Да, да, и все–таки мы с этим желобом ржавые.
Есенин собирался поехать из Баку в Тифлис и Абас-Туман, курортное местечко в Грузии, где были целебные грязи. Увы, не получилось — его позвало в Москву письмо Евдокимова (сотрудника Госиздата), в котором тот писал Есенину, что надо разработать четкий состав планируемого «Собрания стихотворений», что по его оригиналам набирать сборник совершенно невозможно. Софья Андреевна рассказывала, что это письмо сильно встревожило Есенина и послужило поводом уехать из наскучившего ему Баку, отменив назначенную поездку в Тифлис и Абас-Туман.
В начале сентября Есенин вместе с Софьей Андреевной уехал из Баку.
Однако в дороге произошел неприятный инцидент. В поезде Есенин запил и, возвращаясь из вагона-ресторана в свой вагон — это было между Тулой и Серпуховым, — пытался вломиться в купе дипломатического курьера Адольфа Роги. Рога предупредил его о недопустимости подобных действий. В ответ Есенин, как писал в своей докладной записке Рога, «обрушил на него поток самой грязной ругани и угрожал набить ему морду». Всем окружающим было ясно, что поэт очень пьян. Ехавший в том же вагоне доктор Левин, член Моссовета, согласился освидетельствовать состояние Есенина, но тот не дал врачу подойти к нему близко, обозвав жидовской мордой.
По докладной Роги было возбуждено уголовное дело, и над Есениным нависла угроза судебного разбирательства.
На помощь пришел народный комиссар просвещения Луначарский, который обратился к народному судье Липкину с письмом, в котором объяснял, что Есенин человек больной, он пьет и в пьяном виде не отвечает за свои поступки. Конечно, его близкие будут следить за тем, чтобы подобные инциденты не повторялись. При этом Луначарский указывал на то, что из этого случая не следует раздувать скандальный судебный процесс над ведущим советским поэтом. Нарком просил судью Липкина, если это возможно, прекратить судебное преследование Есенина.
К Луначарскому присоединился Илья Вардин, видный деятель РАПа, который сообщил народному судье, что поэт Есенин в настоящее время проходит обследование в Кремлевской больнице, а в ближайшие дни его положат на лечение в одну из клиник.
«Я целиком подписываюсь, — писал Вардин, — под мнением А. В. Луначарского и со своей стороны подчеркиваю, что антисоветские круги, прежде всего эмигрантские, используют процесс над Есениным в своих собственных политических целях».
6 сентября Есенин с Толстой вернулись в Москву, а 18 сентября они оформили свой брак. Есенин пошел на этот шаг, хотя его отношения с Софьей Андреевной были очень изменчивы. Он был в то время — и это выглядело совершенно очевидным в глазах близких — тяжело больным человеком. Но при этом он категорически отказывался ложиться в клинику и лечиться и продолжал пьянствовать в обществе случайных приятелей и прихлебателей. Он по-прежнему много писал, но тематика его стихов все более сужалась. Им овладела убежденность, что все потеряно и никогда не вернется. В новых стихах играла гармонь и поэт вопрошал:
И березы в белом плачут по лесам. Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?13 сентября он продиктовал четыре стихотворения, посвященные его сестре Шуре. Есенин очень гордился своей четырнадцатилетней сестрой, в одном стихотворении он даже выразил надежду: «повторяешь ты юность мою». Александра Есенина вспоминала, как в один из сентябрьских дней 1925 года Сергей предложил Шуре и Софье Андреевне покататься на извозчике. День был теплый, тихий. «Настроение у нас, — писала Александра, — было очень хорошее, и приятно было ехать легкой рысью и любоваться городом.
Лишь только мы отъехали от дома, как мое внимание привлекли кошки. Уж очень много их попадалось на глаза. Столько кошек мне никогда не приходилось видеть раньше, и я сказала об этом Сергею. Сначала он только улыбнулся и продолжал спокойно сидеть, погруженный в какие-то раздумья, но потом вдруг громко рассмеялся — тоже стал замечать кошек. Мое открытие показалось ему забавным, и он тотчас же превратил его в игру, предложив считать всех кошек, попадающихся нам на пути…
Когда мы доехали до Театральной площади, Сергей предложил зайти пообедать. И вот я в первый раз в жизни в ресторане. Швейцары, ковры, зеркала, сверкающие люстры — все это поразило и ошеломило меня. Я увидела себя в огромном зеркале — и оторопела: показалась такой маленькой, неуклюжей. Одета по-деревенски и покрыта, хоть и красивым, но деревенским платком. Но со мной Соня и Сергей. Они вели себя просто и свободно. И, уцепившись за них, я пошла к столику. За столом Сергей, видя мое ощущение, все время улыбался и, чтобы окончательно смутить меня, проговорил: «Смотри, какая ты красивая, как все на тебя смотрят».
А на следующий день Сергей написал и посвятил мне стихи «Ах, как много на свете кошек…» и «Я красивых таких не видел…»
Есенинские стихотворения той поры поражают своей простотой и ясностью. Наседкин вспоминал: «В последние месяцы своей жизни Есенин был исключительно прост. Он мало говорил и произносил только обрывки фраз. Он часами сидел в задумчивости… Весь 1925 год и особенно сейчас очень привлекала простота его отношений с людьми, простота речи и одежды, простота в стихах».
Таким же простым было и бракосочетание его с Софьей Андреевной Толстой. На нем присутствовали только его сестры, Наседкин и двоюродный брат Сергея Илья Есенин. Вечером они выпили немного вина и потом играли в буриме.
На следующий день Есенин написал стихотворение «Эх, вы сани! А кони, кони!..» Это было первое стихотворение из целого цикла, где фигурировал зимний пейзаж. Место осеннего увядания заменяет холод зимы — снегопады, катание на санках — воспоминания его детства и отрочества.
Похоже, что он был не в силах писать о своем душевном состоянии, которое тогда владело им, и искал убежища в воспоминаниях.
В стихотворении «Синий туман. Снеговое раздолье…» Есенин пишет:
Сердцу приятно с тихою болью Что-нибудь вспомнить из ранних лет. …Вспомнил я дедушку, вспомнил я бабку. Вспомнил кладбищенский рыхлый снег.Во время своего последнего публичного выступления Есенин не мог закончить чтение этого стихотворения из-за того, что его душили слезы, и потребовалось какое-то время, чтобы он пришел в себя и дочитал последние восемь строчек.
Софья Андреевна очень надеялась, что составление и редактирование «Собрания стихотворений» увлечет Есенина и уведет его от пьянок с приятелями. Ее надежды оказались напрасными.
Редактор Госиздата Евдокимов, готовивший рукопись к набору, вспоминал:
«Поэт пил, скандалил. Краснея потухавшими глазами, он мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти — и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима.
Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней. Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения.
Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с ней.
И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:
— Ты думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?
А потом сразу серчал:
— Что же ты переписала? Где же то, что, понимаешь, я недавно написал? Ах, ты!..
И так мешались грубость и ласка все время.
…Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений».
В минуты просветления Есенин позволял себе пошутить над своим пристрастием к выпивке. 16 октября он в письме Анне Берзинь жаловался на финансовые затруднения: «Мое положение хуже, чем у поросенка, готового на убой… Денег нет ни копейки. Нет даже на то, чтобы купить билет в кино или дать Шурке на трамвай… Полжизни за 100 рублей. Ваш Сергей Есенин.
Р. S. Не употребляйте алкоголь. Он очень вредит здоровью и процветанию. Я всегда знал это, поэтому и проповедую. С. Е.»
Однако состояние поэта вызывало самые серьезные опасения. Сохранилось письмо отца Сергея Александровича сыну, написанное 18 октября:
«Дорогой Сережа, пожалей себя ради нас и твоих сестер, все наши надежды только на тебя, ты все еще молодой годами, ты должен жить долго на земле, у тебя есть мозги и знаменитый талант… Нет ничего, чего бы тебе не хватало. Зачем ты губишь себя, чего тебе не хватает… дорогой Сережа! Я слезно прошу тебя покончить с этой злой пьянкой».
Анатолий Мариенгоф писал об этом периоде жизни Есенина:
«В последние месяцы своего ужасного существования Есенин был личностью не более одного часа в день, а иногда и того меньше. Его сознание начинало меркнуть после первого стакана утром. А за этим первым стаканом неизбежно следовал второй, потом третий, четвертый, пятый… И так каждый день, каждую ночь… Он писал свои замечательные стихи 1925 года именно в тот час, когда сохранял человеческий облик. Он писал их, ничего не черкая, и тем не менее они безукоризненны по форме».
Однажды в эти месяцы Есенин сказал Наседкину: «Я ищу свою погибель. Я устал от всего».
Что мог Наседкин на это сказать? «Мне тогда казалось, что Есенин утратил веру в себя. Стараясь приободрить его, я посоветовал ему на какое-то время перестать писать, начать лечиться против запоев, поискать новые темы. Есенин молчал».
К концу сентября у Есенина начались галлюцинации. Усилилась мания преследования.
Близкие люди — сестра Екатерина, ее муж Наседкин и Анна Берзинь — составили «заговор» с целью заставить больного поэта лечь в клинику лечиться. Привлекли к «заговору» Воронского. Однако Есенин и слушать не хотел о лечении. В октябре пьяный поэт исповедовался Евдокимову: «Евдокимыч, я не хочу ехать за границу. Они хотят услать меня в Германию для лечения! Это отвратительно! Я не хочу! Какого черта я должен подчиняться им! Эти немцы!.. Все стараются уговорить меня уехать за границу для лечения — включая Берзинь и Воронского. Они не понимают, что мне там станет хуже. Ох, Евдокимыч, только ты знаешь, как я люблю Россию!»
Наседкин свидетельствовал: «Его неделя делилась на две половины, трезвую и пьяную… Иногда он припоминал обиды двух– или трехлетней давности. Его старые знакомые стали сторониться его, а на их месте появились представители богемы, попрошайки, ищущие, где бы выпить за чужой счет. На первый взгляд Есенин, когда бывал трезвым, мало походил на больного. Только внимательно приглядевшись, я замечал, что он очень устал. Его нервы реагировали болезненно на самые простые вещи, руки дрожали, веки воспалены. Хотя бывали дни, когда эти следы перенапряжения и внутренней болезни исчезали».
Будучи трезвым, Есенин читал, писал и не принимал никаких гостей. «90% его встреч с друзьями, — вспоминал Евдокимов, — падали на дни запоев и проходили в ресторанах, пивных, в чужих квартирах и всяких случайных местах, но никогда не в обычном человеческом окружении. В его общении с людьми одно было очевидно — он дружил и поддерживал отношения только с теми, кто громогласно объявлял себя поклонниками его таланта».
В октябре 1925 года Есенин написал краткую автобиографию для «Собрания стихотворений», но, как и все его автобиографии, она была очень фрагментарна и не вполне точна. Есенин сам чувствовал это. В декабре он сообщает Евдокимову: «В первом томе должна быть автобиография. Выброси все, что я там написал о себе. Это все вранье, вранье!.. Я любил, целовал, выпивал… нет, не в этом дело… не в этом дело… Мне все надоело, Евдокимыч, все надоело!»
В конце ноября Есенин провел несколько дней в Ленинграде. В одну промозглую осеннюю ночь он ходил без шляпы вдоль Невы, дрожа от холода. Он объяснил, почему поступил так: «Я хотел утопиться в Неве».
Однажды ночью, напившись, Есенин и Сахаров заснули в одной кровати. Ночью Сахаров проснулся от того, что Есенин пытался задушить его. «Есенин, — вспоминал Сахаров, — дрожал как в лихорадке и все время спрашивал, словно самого себя: «Кто ты? Кто?» На следующее утро Есенин разбил зеркало, при этом заливаясь слезами».
Поэту Садофьеву Есенин сказал, явно имея в виду Толстую: «Я живу с человеком, которого ненавижу». Но уже через несколько минут он добавляет: «Я давным–давно был бы трупом, но человек, с которым я живу, удерживает меня от смерти».
Примерно тогда же Есениным овладела странная идея. Он поделился ею с Грузиновым, попросил того написать некролог и объяснил смысл столь экстравагантного замысла: «Я скроюсь. Преданные друзья организуют мои похороны. В газетах и журналах будут напечатаны статьи обо мне. Потом я объявлюсь. Скрываться я буду неделю или две, чтобы журналы имели время напечатать статьи обо мне. А потом я объявлюсь. Мы увидим, что они напишут обо мне! Мы узнаем, кто мне друг, а кто враг!»
Перед тем как лечь в клинику, Есенин решил повидать двух людей: Августу миклашевскую и Анатолия Мариенгофа. У Августы он довольно долго просидел молча, глядя на актрису и ее сына, потом сказал, что это все, что ему было нужно, и попросил навестить его в клинике.
С Мариенгофом дело обстояло посложнее — надо было идти на мировую. Шершеневич вспоминал: «Перед тем, как он лег в клинику, Есенин пришел к Мариенгофу и сказал: «Я пришел, чтобы помириться с тобой» и добавил:«Ладно, Толя, когда ты будешь писать обо мне, не пиши плохо». Можно ли было ожидать от Сережи с его упрямством, что он прийдет первым ради примирения, если это не было накануне его смерти?»
26 ноября 1925 года Есенин лег в психиатрическую клинику Первого московского университета. Его тщательно обследовали и 5 декабря записали в истории болезни заключение, в котором фигурировали белая горячка и галлюцинации. В остальном его физическое состояние было удовлетворительным.
Писатель Олег Леонидов, видевший Есенина в те дни, был поражен его веселым настроением и желанием работать, но в то же время заметил, что поэт «с навязчивостью говорил о смерти, об окружающих его больных, которые одержимы идеей самоубийства, о девушках, пытающихся повеситься на собственных косах, о тех, кто крадет лезвия «Жиллет», чтобы вскрыть себе вены… И он сказал, что скоро умрет».
27 ноября Есенин писал Чагину: «Опять лег. Зачем — не знаю, но, вероятно, и никто не знает… Все это нужно мне, может быть, только для того, чтобы избавиться кое от каких скандалов». (Есенин имел в виду угрозу судебного преследования из-за скандала с дипкурьером Рогой в поезде).
6 декабря он отправляет записку Евдокимову: «Лечусь вовсю. Скучно только дъявольски, но терплю потому, что чувствую, что лечиться надо».
Между тем именно там, в клинике, в голове Есенина зрело чрезвычайно важное решение. Он решает начать новую жизнь — в Ленинграде. 7 ноября он посылает в Ленинград Эрлиху телеграмму: «Найди немедленно две-три комнаты 20 числах переезжаю жить Ленинград».
И дело тут не только в переезде из одного города в другой — Есенин решил развестись с Софьей Андреевной Толстой. Тогда же он посылает ей из клиники записку, тоже свидетельствующую о его намерении развестись: «Соня, переведи комнату на твое имя. Ты знаешь, я уезжаю, и поэтому нецелесообразно платить лишние деньги».
О том, какие мысли одолевали в эти дни Есенина, можно судить по его разговору с Наседкиным, который навестил его в клинике. Наседкин писал: «Есенин решил уехать в Ленинград. Впереди была новая жизнь. Об этом он больше всего говорил. В Ленинграде он, вероятно, женится, но только на простой и чистой девушке. Через Ионова он наладит свой двухнедельный журнал, будет его редактировать. А весной, возможно, поедет за границу, чтобы повидаться с Горьким».
Едва выйдя из клиники, Есенин явился в Госиздат к Евдокимову.
«Скоро в глубине длинного госиздатовского коридора, — вспоминал Евдокимов, — показался Есенин. — Пальто было нараспашку, бобровая шапка высоко сдвинута на лоб, на шее густой, черного шелка шарф с красными маками на концах, веселые глаза, улыбка, качающаяся грациозная походка.
— Евдокимыч, я вышел из клиники. Еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают мне. Я развелся с Соней… с Софьей Андреевной. Поздно, поздно, Евдокимыч! Надо было раньше!»
Однако просветление, связанное с улучшившимся в клинике здоровьем и лучезарными надеждами на новую жизнь, длилось недолго.
На следующий день вечером Грузинов и Сахаров столкнулись с Есениным у входа в клуб писателей. Есенина сопровождал Кусиков. Есенин был пьян и упрекал их в том, что они не навещали его в клинике.
Грузинов и Сахаров завели его в пустую комнату и уложили на диван. Когда Грузинов через некоторое время вернулся, Есенин лежал навзничь на ковре между столом и диваном.
Поэт Евгений Сокол оставил воспоминания о том, как он провел с Есениным дни 22 и 23 декабря. Есенин опять перебрал, и они вышли из Дома Герцена после учиненного им скандала. Часов в 11 вечера он выпил вина и стал жаловаться.
— Это не моя вина. Они сознательно провоцировали меня, они преследуют меня… Они завидуют мне. Подонки… Я писатель. Я известный поэт, а кто такие они? Что они написали? Что-нибудь собственное они написали? Они живут за счет моих строчек! Они пьют мою кровь, и при этом они хотят управлять мною.
По дороге домой Есенин много говорил о своем будущем, рисовал радужные картины, заявил, что отправится в длительное путешествие — спустится по Волге до Каспийского моря, потом в Баку, на Кавказ и в Крым, а осенью вернется в Ленинград. О Толстой он сказал:
— Она чужая. Мы с ней совершенно чужие.
На следующий день Есенин был в Госиздате, чтобы получить деньги. Евдокимову сказал, показывая черный шелковый шарф с красными маками:
— Это подарок от Изадоры… Дункан. О, как эта старуха любила меня! Если бы я написал ей сейчас, она примчалась бы, порвав всякие контракты, все на свете… Есть такие дураки… Будь они прокляты! Которые говорят, что Есенин кончился! Но я еще буду писать… Буду писать… К черту все!
Спустя два часа Наседкин оказался свидетелем того, как Есенин приехал на квартиру Софьи Толстой. Он был пьян и настроен враждебно: «Он говорил Шуре абсурдные вещи. Он был вне себя. Багаж его был готов. Все его вещи вплоть до самых мелочей были уложены в чемоданы. Перед тем, как уехать (он ни с кем не прощался), Есенин дал мне чек на 750 рублей — он не взял деньги в банке и уехал без копейки. Просил меня перевести их в Ленинград на следующий день».
Что толкнуло Есенина на переезд в Ленинград? Уезжая из Москвы 23 декабря, он полностью рвал со своим прошлым — попрощался с детьми, забрал с собой почти все свои рукописи и бумаги.
Дурной знак заключался в том, что Есенин тяжело запил сразу же, как только вышел из клиники. Тем не менее он уверял друзей, что он планирует начать работать в Ленинграде.
Шершеневич так отозвался об этом отъезде: «Мы не понимали его стези, не понимали, что трагедия достигла своего финала… Он уехал в этот город, чтобы закончить свою жизнь там, где он начинал свою поэтическую деятельность, свою поэтическую жизнь, подобно слону, который перед смертью возвращается к тому озеру, где родился».
Эпилог СМЕРТЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ
Утром 24 декабря Есенин приехал в Ленинград. Первым делом он направился к Вольфу Эрлиху, но не застал того дома. Он оставил у Эрлиха в комнате свои чемоданы и записку: «Вова, я приехал. Жду тебя в ресторане Михайлова или Федорова. Сергей».
Эрлих, вернувшись домой, обнаружил записку и отправился в ресторан, который оказался закрыт. Но там его уже поджидал извозчик, присланный за другом Есениным, который уже был в гостинице «Англетер» — он отправился туда повидаться со своим старинным приятелем Георгием Устиновым.
Как вспоминала жена Устинова Елизавета, Есенин ворвался в их номер в «Англетере» в десять часов утра и пригласил их в номер 5, который он снял, чтобы выпить шампанского и отпраздновать его приезд.
В своем номере Есенин рассказал им, что уехал из Москвы навсегда, что в Ленинграде он начнет новую жизнь, бросит начисто пить, что он раз и навсегда порвал со всеми своими близкими, что не вернется к своей жене. Одним словом, он намеревался начать совершенно новую жизнь. «Он был, — вспоминала Елизавета Устинова, — в исключительно приподнятом настроении».
Есенин с Устиновыми выпили шампанского, и Сергей хотел послать еще за бутылкой, но Устинов запротестовал, ссылаясь на то, что ему надо на работу в «Красную газету». Появился Эрлих. Есенин с Елизаветой Устиновой отправились за покупками на предстоящее Рождество — купили гуся, разных закусок, вина, коньяку и шампанского. Когда они вернулись в «Англетер», Есенин по словам Устиновой, предавался воспоминаниям и говорил о своем будущем. Он заявил, что хотел бы жить вместе с Устиновыми. Естественно, последовали обещания бросить пить, работать и начать новую жизнь.
В тот вечер Есенин не был сильно пьян, но он раз десять принимался читать разные варианты «Черного человека», словно, как вспоминал Устинов, «он хотел внушить нам что-то, подчеркнуть что-то».
На следующее утро Есенин разбудил Эрлиха, который оставался ночевать в его номере, и предложил ехать к Клюеву. Эрлих с трудом уговорил его дождаться, пока рассветет. Есенин лежал на кровати и через окно, выходившее на Исакиевскую площадь, любовался рассветом.
— Смотри, синий свет, свет такой синий.
Потом они поехали к Клюеву, подняли того с постели. Пока Клюев одевался, Есенин объяснил Эрлиху:
— Понимаешь, я его люблю! Это мой учитель.
В номере в «Англетере» Есенин читал Клюеву свои новые стихи.
Клюев слушал, сложив рука на животе, посматривая на Есенина из-под своих мохнатых мужицких бровей.
— Ну как, Николай? — спросил Есенин.
— Хорошие стихи, Сережа, очень хорошие стихи. Вот если бы все эти стихи собрать в одну книжечку и издать ее с золотым обрезом, она была бы настольной книгой у всех нежных барышень.
Есенин долго сидел молча, мрачно насупившись. Расстался с Клюевым сдержанно, но звал его обязательно прийти вечером. Клюев обещался, но не пришел.
Есениным явно овладевал страх перед одиночеством. Он утром постучался в двери к Устиновым, но, очевидно, слишком рано, и они его не услышали. А днем он настойчиво просил, чтобы его пускали к Устиновым, даже если он придет ни свет ни заря.
Мания преследования тоже не оставляла Есенина. Он запретил портье пускать к нему кого бы то ни было, а Устиновым объяснил, что ему так надо, чтобы из Москвы не могли за ним следить.
Примечательный разговор произошел между ним и Елизаветой Устиновой:
— Сережа, — спросила Елизавета, — зачем ты пьешь? Ведь раньше меньше пил?
— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!
— А твое творчество?
— Скучное творчество! Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское вот веселит, бодрит. Всех тогда люблю и… себя! Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь «божья дудка».
Устинова попросила объяснить, что он имеет в виду.
— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же.
Наутро четвертого дня пребывания Есенина в Ленинграде он пожаловался Устиновой:
— Тетя Лиза, послушай! Это же безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи — и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!
Он засучил рукав, показал руку — порез.
Есенин вырвал из блокнота листок со стихотворением, сложил его вчетверо и сунул Эрлиху в карман.
— Это тебе! Я еще тебе не писал ведь?
Эрлих хотел прочитать, но Есенин остановил его:
— Нет, ты подожди! Останешься один — прочитаешь. Не к спеху ведь!
Случилось так, что в тот день Эрлиха отвлекли другие дела и заботы и он не прочитал подаренные ему Есениным стихи.
Если бы он вытащил блокнотный лист из кармана, его бы потрясли скорбные строчки:
До свиданья, друг мой, до свиданья. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставанье Обещает встречу впереди. До свиданья, друг мой, без руки, без слова, Не грусти и не печаль бровей, — В этой жизни умирать не ново, Но и жить, конечно, не новей.Прочитай друзья Есенина своевременно это стихотворение, они, конечно, не оставили бы его в ту ночь одного. Но Георгий Устинов справедливо заметил: «Ну, а что на следующую ночь? Он был не ребенок, чтобы его провожали в туалет. Он сам не позволил бы этого…»
И далее Устинов высказывал такое предположение: «Не был ли Есенин убежден, что эти стихи все мы прочитали, но не обратили на них никакого внимания и предоставили ему возможность сотворить с собой все, что он захотел? Для сверхчувствительного и подозрительного Есенина это мог быть тяжелый удар. Это означает, что никто меня не любит! Это значит, что я никому не нужен!»
Воспоминания Устинова пронизаны горечью:
«Весь самый последний день Есенина был для меня мучительно тяжел. Наедине с ним было нестерпимо оставаться, но и как-то нельзя было оставить его одного, чтобы не нанести обиды. Я пришел к нему днем. Есенин спал при спущенных шторах. Увидев меня, он поднялся с кушетки, пересел ко мне на колени, как мальчик, и долго сидел так, обняв меня одной рукой за шею. Он жаловался на неудачно складывающуюся жизнь. Он был совершенно трезв.
Потом в комнату пришли. Есенин пересел на стул, читал стихи и опять «Черного человека». Тяжесть не проходила, а как-то усиливалась до того, что уже трудно было ее переносить… Под каким-то предлогом я ушел к себе».
Интересные детали оставил Воронский:
«Есенин, без сомнения, страдал от мании преследования. Он боялся одиночества. И еще одно обстоятельство: люди говорят — и это подтверждается, —что перед своей смертью в гостинице «Англетер» он боялся оставаться один в своей комнате. Вечерами и ночами, перед тем как уйти в свою комнату, он подолгу сидел один в вестибюле. Но лучше об атом не думать, потому что кто знает, что лежало за этой есенинской манией преследования и что это была за болезнь».
Утром 28 декабря Устинова постучала в номер Есенина, ей никто не ответил, тогда она попросила управляющего гостиницей открыть дверь запасным ключом. Это оказалось делом нелегким, так как дверь была заперта изнутри и ключ торчал в замке.
Когда они наконец вошли в номер, то увидели Есенина, висевшего в петле в оконном проеме на трубе центрального отопления.
В ночь с 29 на 30 декабря гроб с телом Есенина прибыл поездом в Москву. Несколько тысяч человек шли за катафалком от вокзала до Дома печати на Никитском бульваре. На доме висел большой плакат со словами «Здесь лежит тело великого русского национального поэта Сергея Есенина».
Всю ночь с 30 на 31 декабря поток людей с обнаженными головами шел через зал Дома печати, чтобы проститься со своим любимым поэтом. 31 декабря состоялись похороны, процессия останавливалась у памятника Пушкину, у Дома Герцена на Тверском бульваре, у Камерного театра, пока не дошла до Ваганьковского кладбища.
Поэт Сергей Городецкий вспоминал, что в тот момент, когда гроб опускали в могилу, в мертвой тишине раздался чей-то звонкий женский голос:
— Прощай, моя сказка…
Notes
1
В богемных кругах именно так было принято произносить имя Дункан. Так же и она сама называла себя. Мы сохраним этот вариант в цитатах из мемуаров и писем того времени.
(обратно)2
Освальд Шпенглер (1880–1936) — философ и историк, автор книги «Закат Европы».
(обратно)3
Это письмо до сих пор не публиковалось на русском языке.
(обратно)4
Так назывался г. Пушкин в 1918–1937 гг.
(обратно)5
Предполагаемый к изданию альманах.
(обратно)6
Дункан имеет в виду день рождения Есенина и день их первой встречи.
(обратно)7
То есть Илья Шнейдер.
(обратно)8
Партийный псевдоним, на самом деле это был Яков Блюмкин.
(обратно)9
Речь идет о поэме «Анна Снегина».
(обратно)10
На самом деле в Брюсовском переулке.
(обратно)11
По-видимому, речь идет о Маргарите Лившиц.
(обратно)


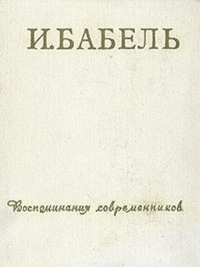

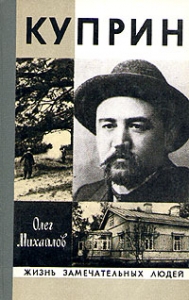

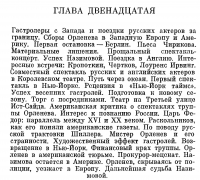

Комментарии к книге «Женщины, которые любили Есенина», Борис Тимофеевич Грибанов
Всего 0 комментариев