Василий Ершов Летные дневники. Часть 2
1985. УСТАЛОСТЬ.
8.07.1985. Что такое середина лета для летчика?
Работа, работа, каторжный труд, бессонные солнечные ночи, задержки, нервотрепка из-за сбоев, неразберихи, отсутствия машин и топлива, – и за всем этим – тысячи и тысячи людей, перемещенных в пространстве и времени, ошалелых и счастливых.
Надо заглянуть в глаза сходящим с трапа пассажирам – и оправдаются резь в глазах, и мокрая спина, и гудящие ноги…
Встречаем сотый или тысячный рассвет в полете. Проводница вошла в кабину, любуется восходящей на бледном горизонте Венерой, ахает и восторгается. Ахай, ахай, какие твои годы…
А у меня гудят, ревут, места себе не находят бедные мои ноги. Вроде и не топтался, вроде и поспал, ну, полежал перед вылетом, а вот в полете, на эшелоне, не могу их пристроить. Снял башмаки, засунул горящие ступни между педалями, поближе к патрубку обдува, – вроде полегче. Нет, ноют, ломят, крутят опять. Между педалями тесно, пальцы упираются в пучки проводов. Да, конструктор не рассчитывал, что пилоту в полете хочется вытянуть ноги и поднять их чуть повыше.
Правильно, нечего с больными ногами летать. Приходится терпеть, и только экипаж удивляется, чего это командир вертится в кресле, не находит себе места…
Вчера пригнал мне в Краснодар машину Слава Солодун. Зная, что там топлива нет, залил, сколько мог, в Оренбурге, привез нам 13 тонн. Но в АДП ничтоже сумняшеся решили направить нас на дозаправку в Грозный, и я принял эту лишнюю посадку как должное, решив поберечь нервы и не выспоривать топливо до Оренбурга.
Так он пошел, уговорил их, доказал, что дешевле добавить нам 6 тонн и отправить по расписанию, чем давать 8 тонн до Грозного (если бы, конечно, он не привез 7 лишних тонн с собой). Пробил, убедил, добился, пришел и мне сказал. И теплое чувство шевельнулось во мне. И неловко, что я оказался рохлей, и благодарность к нему, моему учителю.
Сколько, помню, обижался я в свое время втайне на него, за педантизм и мелочные придирки, – все ушло, растаяло как дым, и осталась лишь чистая благодарность.
А сейчас уже Валера Кабанов спрашивает меня, какие замечания по его полетам со мной (он скоро будет вводиться, и я даю ему летать полностью, без ненужной подстраховки). И я вспоминаю, как при моих посадках Слава поднимал руки от штурвала демонстративно – что ты же, мол, сам сажаешь, а я – руки, вот они! И я так же делаю Валере. И так же педантично требую в мелочах. При вводе нет допусков – только на «шесть», строгие параметры. Может, когда и он помянет добрым словом.
13.07. Снова катастрофа. Ту-154 упал с эшелона 11100. Командир только и успел передать, что самолет беспорядочно вращается. 174 пассажира и экипаж погибли.
И снова вопросы, вопросы…
Сваливание? Была умеренная болтанка. Но при сваливании срабатывает АУАСП, выдается световая и звуковая сигнализация выхода на закритические углы атаки; да и действия по выводу из сваливания просты, если вовремя.
Бросок из-за ложного сигнала в канале управляемости АБСУ? Отказы АБСУ были и у нас – из-за попадания жидкости на блоки, расположенные как раз под передним туалетом. Умные конструкторы заложили бомбу еще в проекте.
Но все же можно было бороться, выключив РА-56 и продольную управляемость, останутся одни бустера, можно лететь.
Разрушение самолета? Скорее всего, да. Оторвался элерон, закрылок, – столкновение? Летают шары-зонды, мы позавчера сами видели; и если ветер с юга – а дело было 300 км южнее Кзыл-Орды, в Кызылкумах, – то вполне могло что-то залететь из-за границы, да еще 23 часа по Москве, самая ночь.
Самолет падал, и 3 минуты засветка на локаторе диспетчера была, но экипаж не отвечал, скорее всего, погибли при перегрузках на вращении. А такое вращение вероятнее всего, когда отваливается крыло.
Но если что-то отрывается, слышен удар, а экипаж доложил только о вращении.
Диверсия? Попали в грозовое облако? Сбили?
Короче, вариантов много, а 184 человека погибли. А ясны только несколько катастроф.
Омск – тут диспетчер виноват.
Норильск – автомат тяги.
Починок – экипаж не смог запустить двигатели в полете.
Но и то, две последние – это вина и машины, и экипажа.
Алма-Ата. На взлете упал Ту-154. Свалили на сдвиг ветра. Но ветер должен был быть на высоте 100 м – попутный 20 м/сек, чтобы упасть. Ну, ладно там горы рядом, можно предположить и такое.
Фальков упал – там бортинженер помог, хотя… никто бы на его месте не справился.
А кто помог этим ребятам из Карши?
На моей памяти на нашем, самом массовом самолете погибло около 700 человек.
Не надо, конечно, брать в голову. Все это – случайности, совпадения и недоработки. А так самолет хорош.
Я и не беру в голову. Я на нем летаю.
20.07. Хорош самолет, но летом, если только температура на высоте чуть выше стандартной, – не летит.
Вчера скребли высоту от Сочей до Минвод, причем, из-за засветок над Пицундой пришлось 10 минут набирать высоту над приводом; успели набрать 5000 м, – так вот, до Минвод еле наскребли 10100. На высоте 9 км температура за бортом была -22, а должна быть около -50. И мы скреблись по 3 м/сек, как на Ил-18, я все поглядывал на АУАСП – и, к своему удивлению, не видел ни большего на той же скорости угла атаки, ни уменьшения запаса по сваливанию. Запас был 5 градусов на эшелоне. Странно, ведь при такой аномальной температуре за бортом запас должен бы уменьшиться, потому что близок был практический потолок.
Это навевает мысли. Если при отклонении температуры на высоте к плюсам от стандарта АУАСП не предупреждает пилота о близком сваливании, то…
Во всяком случае, нам через день запретили летать выше 11100 – до особого указания.
Из разговоров в штурманской. Верить ли указателю углов атаки? Какова скорость сваливания по прибору на эшелоне? Около 350, ну, даже 400. Можно ли, будучи в здравом уме, сразу потерять скорость с 530 – как минимум на этой высоте – до 400? Даже в болтанку? Вряд ли.
Если нам талдычили, что выкатыванию на посадке способствует система устойчивости-управляемости, СУУ, уменьшающая отклонение рулей пилотом, если угловая скорость велика, то, если сваливание все же произошло, не мешают ли демпфера выводу из штопора? Пилот дает ногу полностью на вывод, но как только установившаяся скорость вращения начинает уменьшаться, демпфера уменьшают отклонение рулей, чтобы сохранить «заданный» параметр – угловую скорость вращения. Таков принцип их работы или не таков? Сохранить что? – нулевую угловую скорость или «заданную», установившуюся? По идее – угловую. Или нулевую? Надо лезть в учебник.
Летчик-испытатель Попов говорил, что на испытаниях наш самолет вывели из штопора только с помощью противоштопорного парашюта. Он с трудом входит в штопор, но и с трудом выходит.
Такие вот разговоры. Но увереннее всего говорят: столкнулся или сбили.
Черт возьми. Мы летаем на этих самолетах всю жизнь, и каждый раз, садясь в кресло, я должен быть уверен, что долечу, довезу людей и сам останусь жив. А самолеты падают. Что же нас держит?
Привычка. Не берем в голову. Это – не со мной. Уж я-то справлюсь. Случись чего – легкая и безболезненная смерть, это не так страшно. Вот наши аргументы.
Туркмены всю жизнь летают в условиях высоких температур, а случай такой – первый.
Нет, скорее всего, какой-нибудь красноармеец ошибся… Случаи ведь были. Ту-104 под Красноярском. Ил-18 под Казанью. Ту-16 и Ан-24 на Дальнем Востоке.
Тогда мы ничего не узнаем, а будут нам пудрить мозги насчет устойчивости и управляемости на больших высотах.
Вот типичный механизм принятия мер. Провести занятия по этой самой устойчивости, по действиям при сваливании и пр. Надо быть полным идиотом, чтобы верить в пользу подобных занятий и в их самую суть, – о чем там и говорить. И в возможность охватить всех в самый пиковый период, когда на базе нет никого. И в то, что эти занятия будут проведены не формально.
Конечно, комэски плюнули, записали каждому экипажу занятия в тот день, когда он был на базе, да и все. Ну, два слова-то по теме сказали. Видимость работы. Один упал, а все страдают.
Запретить летать везде – и на крайнем Севере, и на юге, – выше 11100. Запретить! Цурюк!!!
Цурюкнуть проще всего. И на трассах стала нервотрепка и толкотня. Но летать-то надо. Вот диспетчеры и пилоты и идут на нарушения, сокращают интервалы, берут на себя ответственность. Короче, как на Руси принято, когда начальство вводит путаницу, мужик плюнет, выматерится – и начинает надеяться только на здравый смысл и свою хватку.
В грозу теперь шаримся, как на Ил-18. Но с нашим слабеньким локатором да со способностью как никто притягивать молнии – нечего там делать. Надеемся только на авось, а уж если припечет, будем возвращаться.
Вот они, меры, принятые, чтобы не допустить падения самолета по подобным (еще не расследованным) причинам.
Я уж не говорю, что опять вернулись к поканальным проверкам АБСУ перед каждым полетом. Под роспись! Главное – роспись. Ну, мы и расписываемся, а летаем, как летали. Я сто росписей поставлю, потому что, если что случится, отвечать буду перед самим богом.
Месяц прошел напряженно. Каждый день полеты; было два выходных: 13-го и 15-го. За 20 дней налетал 70 часов. Общее качество полетов ниже обычного – гоним вал. Нет уже утонченных посадок, все больше 1.25 – 1,3; грубее становится пилотирование, грубее ощущения. Это закон жизни: когда аврал, не до тонкостей. А сейчас самый аврал.
Валере летать даю, но что-то шероховато у него на прямой. Много внимания отнимает тангаж, гоняет он триммер туда-сюда, теряет директорную стрелку, теряет створ, дергает газы. Зато автоматически кричит свои пункты контрольной карты, по-моему, даже не глядя. Низко подводит над торцом и, естественно, высоко выравнивает. Посадки на 5, но ой как далеки они еще от истинно отличных. Широки параметры пятерки, и пока он летает на уровне проверяющего высокого ранга: вроде и на пять, не придерешься, а у нас спины мокрые. Я ему спуску не даю, а он самолюбив, принимает молча.
Ничего, браток, тяжело в учении… Ведь, в конце концов, научится, будет летать, как дышать, поймет, что это – только способ выполнения задачи. Главное в летной работе – задачу выполнить, а пилотирование, так выстраданное в пору учебы, лишь поможет в этом деле.
Вчера в «Правде» тиснули статейку о мужестве летчиков. Дела-то: выключили один двигатель по признакам отказа и сели. Уря. И диспетчер их виртуозно заводил. Ох уж эти писаки.
27.07. Двадцать лет назад я выполнил первый самостоятельный полет на Як-18А. Двух десятков лет мне за глаза хватило, чтобы расстаться с романтикой полетов и вполне серьезно настроиться на пенсию. Каторжная работа без выходных, гниение в гостиницах, вечные тревоги…
А когда же жить? Все больше и больше появляется соблазна в обыкновенной, растительной, дачной жизни, без особых забот.
Вчера после ночи поспал пару часов, вскочил на мопед – и на дачу. Там уже Надя, и мы вполне счастливы. Сегодня с утра опять в седло – и на вылет, на сколько – неизвестно; может, и по расписанию сбегаем в Москву с разворотом. А может, опять пару суток погнием в вонючей гостинице, на телефоне верхом.
Такую работу можно выдержать месяца два, но – зная, что будет отпуск и все компенсируется. И если бы это был аврал и надо было героически преодолевать, грудью бросаться, то вполне можно вытерпеть и даже увидеть в этом какую-то романтику.
Но это – будни. И так будет всегда, и будет еще хуже. И отпуск будет лишь осенью…
Все. Сорвали с места телефоном, перегонять машину из Северного в Емельяново, бегу…
28.07. Итак, позвонил в ПДСП. Под наш рейс машины не было, но в Северном стояла готовая после формы, некому перегнать. У меня экипаж весь на телефонах верхом, и Михаил с машиной. Собрались и поехали перегонять себе под рейс. Против обыкновения, машина действительно была готова, и мы сумели перегнать и вылететь почти по расписанию, с задержкой 30 минут.
Естественно, если это надо им, то и два трапа, и пожарная машина, и пассажиров сажают одновременно с заправкой (как исключение – разрешается), и тети Маши с уборкой и питанием, – все успели. Это когда надо им. А когда надо нам, то весь в мыле.
Пришли в АДП, прошли по новой санчасть, чтобы лететь по новому заданию, как будто мы и не перегоняли машину (это чтобы хватило рабочего времени), подписали, пришли на самолет – нас уже ждут, трап отогнать, и все.
Вот так бы и всегда летать.
Рейс был не простой. На обратном пути из Москвы надо было залететь в Оренбург и вывезти оттуда пассажиров с краснодарского рейса (сломался самолет). Времени и на Москву-то с разворотом в обрез, а тут еще третья посадка. О том, что она уже четвертая в этот день, будет знать только старое задание на перегонку.
Короче, все успели. Везде шли нам навстречу, лишь бы обернулись. Налетали 9.10, записали летное время 9.00, а рабочего времени вышло с 16.00 местного до 8.00 утра. Шестнадцать часов, четыре посадки. Втиснули все это в прокрустово ложе наших норм, вышло 13 часов рабочего времени. Час с лишним выкинули «на обед»; перелет в это задание не вошел… вот и норма.
Конечно, ночью спать хочется, но я напялил кислородную маску и подышал минут 15, немного помогло. Но все же клевал носом от Новосибирска и очнулся только перед входом свою зону; Красноярск давал туман 900.
Зло взяло, что придется уходить на запасной и 10 часов отдыхать, а пассажирам мучиться в вокзале. Сон прошел, но мысли были вялы. Я отдал управление второму пилоту, а сам щелкал радиостанцией, искал погоду запасных.
Не снижаясь, вышли на привод; туман давали так же, 900, хуже минимума; я поговорил со стартом, сделали контрольный замер: 900 с курсом 288 и 500 со 108.
Плюнул, дал команду поворачивать на Томск – там хоть есть топливо и гостиница, а в Абакане ни того, ни другого нет.
Дошли до Ачинска, и – есть бог на небе – нам предложили вернуться: дымка 1100. Топлива в баках оставалось еще 10 тонн, хватило бы дважды до Томска, и мы вернулись.
Заходил Валера, я взял управление с ВПР. И правда, кругом молоко, и полосу я увидел с высоты метров 90. Огни в утренней дымке почему-то не были видны; увидел белые знаки, зацепился за ось. Трудно в тумане определять крены визуально, поэтому чуть доворачивал туда-сюда, но Валера четко следил по приборам до самой земли. Помощь его, правда, не понадобилась, я справился и сел как всегда. В момент посадки старт дал минимум: 1000 метров. За нами успели сесть еще два борта, и снова закрылось.
Вот из-за возврата мы и накрутили 9.10, но записали 9.00, а то ни в какие ворота не лезет.
Через час, в автобусе, возбуждение после захода прошло, и я задремал.
Итак, за июль 89 часов, два выходных. Устал. Никаких восторгов. Когда труд превращается в давящую необходимость, романтика пропадает. Но людям нужна не романтика, а мое умение. Слава богу, оно остается при мне, устал ли, не устал, – но дело свое делаю. Столько людей за лето перевез – этого мне достаточно. Иногда говорят спасибо.
Дорогие мои пассажиры, сегодня-то уж точно все зависело от моего умения. Отдыхайте себе спокойно, все позади. У вас в памяти лишь перипетии сидения в Оренбурге и долгая, тягомотная дорога. А у меня – свое.
Из разговоров в штурманской. Каршинские ребята потеряли скорость, срабатывал АУАСП. Запомпажировали двигатели, может, из-за болтанки; это усугубило положение: скорость быстро упала. А экипаж полторы минуты занимался чем-то, настолько, видимо, важным для них, что машина свалилась, и, выходит так, что чуть не на хвост, что ли. Хотя должна валиться на нос. Скорее всего, это плоский штопор.
Вроде бы Солодун в Ташкенте или сам разговаривал, или слышал чей-то разговор с Туполевым, и тот развел руками, говоря, что машина-то, мол, скоростная…
Как же тогда ее испытывали? Вот второй случай, а первый, на управляемость, – с Шилаком.
3.08. Налетал в июле 89 часов. Последние три дня отдыхали: вылетали свое до упора, ставить в план нельзя: полная продленная саннорма.
Напряженные полеты дают себя знать в отряде. Юра Ч. нарулил в Емельяново на фонарь, за что лишен талона. Что – за ним и раньше наблюдалось? Юра старый волк, командиром на «Ту» лет шесть уже.
Всем известный своей пунктуальностью, хороший, аккуратный бортинженер Ч., проверяя лампы и табло, ошибочно разрядил противопожарную систему в отсек ВСУ. Кнопки рядом. Хваленая приборная доска.
У Марка Б. молодой бортинженер при облете после смены двигателя на высоте резко проверил приемистость – помпаж. Вырезали обоим талоны.
У Сереги А. на днях предпосылка. Уже готовились снижаться с эшелона в Алма-Ате, как вдруг его бортинжнер, старый, опытный волк, случайно зацепил тумблер разгерметизации. В результате всем дало по ушам, в салоне вой, экстренное снижение.
У каршинских ребят командир перед своим последним полетом ходил по АДП и сам себя спрашивал: лететь или не лететь? Двадцать часов на ногах…
На нашем сложном самолете психологические и нервные перегрузки недопустимы: мы летом на пределе.
Валера Кабанов был на профсоюзной конференции ОАО. Обсуждались вопросы нашей работы, быта. Так вот, по министерству мы на последнем месте по регулярности и по налету на списочный самолет. Нет надежд на улучшение обстановки, особенно насчет обслуживания на земле. Нет ангара, а значит, люди будут героически на морозе преодолевать трудности. Плюнут и побегут.
В общем, лучше не будет. Все начальство управления разбежалось с тонущего корабля. Даже Садыков ушел рядовым на Ил-62.
И все это – в связи с переходом в новый аэропорт.
А нам, летчикам, несмотря ни на что, надо возить людей. Люди не знают о наших проблемах, люди нам верят.
А летное начальство жмет. Указания, указания, порой противоречивые, порой безграмотные.
А мы нервничаем. Экипаж КВС А. во Владивостоке не смог отдохнуть за сутки: заели комары в гостинице. В санчасти командир психанул, пожаловался. На жалобу отреагировали просто: отстранили от полета на 12 часов и заставили отдыхать в той же гостинице. А где же еще. Задержка самолета, а дома машин не хватает.
Командир отряда приказал по прилету домой отдыхать 12 часов, а потом приходить в АДП на «свободную охоту» – на любой свободный рейс.
Командир предприятия запретил нам отпуска, даже по путевкам. А сам улетел в отпуск в Сочи.
Я уже втянулся. Сплю, где и как придется, из-за комаров не психую, а тщательно заделываю туалетной бумагой щели в окнах, зашиваю сетку и сплю себе спокойно. Насколько можно спать спокойно в сотне метров от аэровокзала и автостанции, с их динамиками, орущими круглые сутки, с гулом моторов от запускающихся самолетов и вечно снующих под окном машин, во влажной духоте, на мокрых простынях, под непрерывные трели телефона у дежурной, на прогибающихся до пола панцирных сетках ископаемых коек.
Все свободное время – на даче. Там тишина, покой, физический труд, творчество, воздух, ягода. Отдушина.
Надя, молодец, понимает и всячески старается снять мое напряжение, без излишнего сюсюканья. Вот истинная подруга, настоящая жена пилота!
На днях сосед по даче Юра К., бывший пилот, нынче работающий в расшифровке, сказал, что и я попался.
Дело было так. Мы с Володей Щербицким вылетели из Москвы друг за другом с интервалом 5 минут. Он пошел центром, а я севером. И мы их догнали и сошлись на кругу. Интервал был 6 км, и я, решив отстать, заранее выпустил шасси и механизацию и подвесил машину на минимальной скорости, рассчитывая успеть за ним так, чтобы он освободил ВПП к моменту моего решения о посадке на ВПР.
Но по некоторым причинам план не удался, и по команде диспетчера мы с 900 м ушли на второй круг, допустив ошибку. Сначала я дал команду убрать закрылки до 28 на скорости 270, что допустимо. Но по РЛЭ сначала надо убрать шасси. Я подумал и убрал их, а потом и закрылки. Выполнил круг и сел как обычно.
Но к этому не придрались.
Криминал оказался в том, что, убирал закрылки в крене. И еще что-то по скоростям. В крене на «Ту», в отличие от Ил-18, убирать можно. А начальник расшифровки новый, этого не знал. Ну, а по скоростям – я потом опросил экипаж, и никто ничего не заметил. Устали?
Юра, молодец, уговорил пленку мою спрятать под сукно: мол, один талон у человека, да и устал он, жена что-то рассказывала; да ты сам летчик бывший, понимаешь, войди в положение… и т.п. Уговорил. Ну, спасибо.
Но выводы делаю. Нарушил РЛЭ – раз. Не заметил того, что заметила расшифровка, – два. Надо отработать уход на второй круг – три. (У нас шесть вариантов ухода в зависимости от различных факторов, и везде разные скорости).
И четвертое: начинаю спекулировать единственным талоном. Вот меня уже и пожалели.
Надя молодец. Разговор был при ней. Она сказала только: Вася, да успокойся, плюнь, не бери в голову. И правда, я плюнул и забыл. Было – было. Вызовут – выпорют. И все.
Да мне день отдыха на даче дороже переживаний, что меня выпорют.
Но, «Чикалов!» Не давай себе спуску! Низьзя!
Вчера в Чите гонял тангаж на глиссаде, допустил уменьшение скорости на 10 км/час – в штиль. Записал умеренную болтанку. Но – нарушаю. Чувствую, реакция не та. Перестал обращать внимание на мелочи. Грязь. Правда, посадки удаются.
Выруливая на полосу, забыли запросить разрешение у старта. Опомнился перед самой полосой.
Столько забот у командира: не забыть, предусмотреть, потревожиться, решить, исправить, проконтролировать, нажать, уговорить… Ну и притереть же машину…
Сложная работа; ну да сам выбирал. В войну тоже было тяжело, а дело делали. Так что надо продержаться до середины сентября, полтора месяца. И повнимательнее. А там – отпуск.
Черт возьми. Летчики-испытатели, представители МАПа, сам Туполев, наконец, – все в голос твердят нам: да что вы так боитесь этих расшифровок? Вы – пилоты, мы вам даем инструмент – работайте свободно, раскованно; а ваш ё… министр вас задолбал заэкономился, загнал на черт-те какие эшелоны, что уже падаете, за каждую шероховатость стружку снимает, до эталона доводит. Разве на нервах сделаешь эталон?
На что мы им отвечаем: Э…! И еще раз: э…!
Так что же – нас уже так задолбали, что и в жизни ничего хорошего нет? Ерунда. Работа красивая, и сегодня, взлетев в Чите, наблюдая, как земля тонет в утренней дымке, а самолет, пробивая многочисленные разноцветные слои облаков, скользит над верхней кромкой, отбрасывая на нее тень в радужном кольце, – вот глядя на эту красоту, я и подумал: нет, шалишь, это тебе не в офисе клерком сидеть. Тут истинная красота. Тут природа, машина и человек, и ничего лишнего нет. Надо только здраво относиться к мелочам жизни. Главное – дело у нас красивое.
Вот только уставать я стал от него.
12.08. Слетал в Сочи, поплавал в море. Короткий отдых, но помогает. Дали пару выходных – обшил два фронтона на даче. Устал физически, но отдохнул душой. Ничего, курочка по зернышку скребет…
Вчера слетал в Краснодар. Жара… Удались посадки в жару на короткие полосы. Задавался целью: посадка точно у знаков с целью экономии тормозов. Горячая бетонка держит, не дает садиться машине, а выражается это в неадекватной реакции самолета на определенную порцию руля. Приходится досаживать чуть от себя.
Три посадки мне удались вполне. Но чтобы сесть у знаков, приходится нарушать: прижимать под глиссаду на полторы-две точки по ПКП. Торец проходишь на 5 м ниже, выравниваешь ниже и придерживаешь посильнее у самой земли. Если все совпадет и унюхаешь высоту конца выравнивания, то затаивай дыхание и жди самой мягкой посадки.
В Куйбышеве на днях пришлось досаживать силой и грубовато. Взмыла чуть: не учел, что полоса держит.
В Краснодаре 33 жары и комары. Сетку я заделал хорошо, но в камере после ремонта воняло краской, духота, и пришлось спать с открытой дверью в коридор. Налетавший ветерок обдувал наши мокрые тела, и так мы перемучились ночь, едва поспав час перед утром, искусанные налетевшими из коридора комарами и мухами.
С утра я ушел на Кубань и там отдохнул от ночной жары в прохладной чистой воде и подремал немного под южным солнцем – вот предполетный отдых.
На обратном пути от Омска стало засасывать, и я бессовестно дремал, краем глаза изредка поглядывая на приборы. От Новосибирска до Кемерова (220 км) провалился на 15 минут в мертвый сон. Ноги ревели, и я едва дождался снижения. Валера зашел хорошо, все было отлично, и вдруг с высоты 100 м машина пошла вправо; хорошо, что я всегда начеку: еле успел выхватить и исправить курс, отдал опять, и он сел без замечаний.
Что такое у него с курсом на прямой? Ведь накажет судьба. Вот такие отклонения наша машина не прощает.
Чем ближе к земле, тем напряженнее внимание, тем точнее и мельче движения, – но это уже шлифовка установившихся параметров. А тут – уклонение до 30 метров перед ВПР – предельное! И потом – беспомощное шараханье к оси, естественно, переход через ось, синусоида, раскачка и посадка сбоку оси.
Кстати, в Куйбышеве на днях Валера и сел на четверть ширины полосы левее оси: исправлял возникшее на высоте 60 м боковое уклонение и не устранил боковое перемещение самолета из-за неподобранного курса – всего-то на один градус. Я все это видел, условия были идеальные, и я дал ему возможность убедиться, к чему приводят такие ошибки. Он с трудом понял. С трудом: он не видит этот один градус или же не придает ему значения. До поры до времени… Это не тот самолет.
Но пока он летает со мной, буду долбать его, но научу. Заем. Пусть проклинает, но так летать нельзя. Остальное все хорошо, но это «остальное» – лишь преамбула. На прямой нет мелочей. Уклониться после ВПР – смазать весь заход, все насмарку. В конце концов, должен же быть у пилота глазомер: зацепился за ось – держи ее.
Мишка все мечтает уйти на пенсию в марте. Он уйдет. Меряя все рублем, уйдет. Достроит дачу, там у него огород, сад, в городе у него тоже огород, машина, гараж есть, сам местный, связи есть, физически здоров, как буйвол, не брезгует шабашкой и сейчас; отношения с людьми – через «литряк». Езда и нервотрепка ему надоели – уйдет. Уйдет и будет жить не хуже.
А как я?
Летать я, несмотря ни на что, люблю. Возможности для профессионального роста рядовым линейным пилотом есть, сколько угодно. Как в старой книге, как в любимой женщине, – так и в любимой работе: перечитывая, открываешь все новые для себя страницы.
И устал от работы, но это – временно, это летние перегрузки. Даже втянулся уже. За июль получил чистыми 780 р. Где еще можно меньше работать, а получать столько же? Нет, деньги даром не дают.
Но не деньги большие мне нужны. Не было бы необходимости летать по 90 часов, я бы летал по 50 – мечта любого летчика, особенно на Ту-154. При таком налете и нагрузка равномерна, и не тупеешь, как сейчас. Только это несбыточная мечта.
Жалко, что жизнь проходит. Урывками видишь семью. Урывками спишь с женой, и то, только когда чувствуешь себя хорошо. Урывками все: дача, машина, театр, отдых, – вся жизнь.
А полеты? Полеты, полеты, полеты – это и есть жизнь.
Что я буду вспоминать потом? Дачу, отдых, театр? Поездки за грибами?
Нет. Полеты я буду вспоминать.
И ведь семья удалась. Урывками, урывками, а дочь уже невеста, дома все есть, а главное – мы остались людьми. Ну, я не пью. Это очень важно, конечно, но главное – оставаться во всем человеком, с душой. Надя и Оксана меня любят, я их тоже, и мы счастливы.
Как уйти? Как бросить работу, полеты? Надя боится, что я опущусь, забичую. При всех наших с нею разногласиях во взглядах, она очень ценит во мне духовное начало, видя в нем основу и семьи, и гармонии, и пример для дочери, и главный стержень, вокруг которого сосредоточена вся наша жизнь. Опустись я, запей, стань равнодушным – все.
А мне не скучно жить. Не пропадем. Я и без полетов останусь человеком, но… лучше летать. И мы уже привыкли, что периодически меня не бывает дома. Да и я привык, а то скучно одно и то же. Другое дело, я не позволю себе скучать в безделье.
Буду писать, ведь есть о чем.
16.08. Опять ЧП. Заблудился К., в районе Красноярска. Штурман не ввел поправку при переводе курсовой системы и, получается, взял курс на 50 градусов больше. Сплошные нарушения НПП: снижение без связи, ниже безопасной высоты, пока не сработала сигнализация опасного сближения с землей; беспорядочные действия, растерянность, непременное стремление найти землю… Чуть не нашли, короче. Летали лишних 55 минут.
Здесь, на земле, уже считали их погибшими. Спасло то, что старый бортинженер перезаправил машину на 3 тонны, и когда они сели, остаток был чуть больше двух тонн.
Случайно остались живы. Ночью где сядешь?
17.08. Ну вот, наконец-то представилась возможность обстоятельно описать последние события. Отсидел ночь в резерве, утром предложили остаться: через пару часов рейс на Запорожье, гнать туда, а обратно – пассажирами. А у нас же сегодня вечером запланирован Иркутск: налету 2.25, а день пропал. Так лучше за тот же день пол-Запорожья урвать, 6 часов.
Погнались за журавлем в небе. Аникеенко нам машину под рейс пригнал, 384-ю; а на посадке диспетчер старта услышал хлопок, раскрутили; теперь машину осматривают, рейс перенесли на 17.00, наш Иркутск отдали Агафонову, а мне Медведев дал указание добивать Запорожье до конца.
Завтрашний выходной пропал. Но… се ля ви.
Зато нашел пустую камеру с приличным столом, можно писать, и, видимо, долго.
О командире К. Опытный, старый пилот, долго был командиром методической эскадрильи в УТО. Года полтора назад, когда его подчиненный пилот-инструктор УТО Лукич разложил во Владике самолет, его сняли, и он перешел к нам в отряд рядовым, вместе с тем же Лукичом.
Наверно, летая много лет проверяющими, и тот, и другой в чем-то подрастеряли навыки, привыкли надеяться, что проверяемый-то экипаж дело свое знает и не подведет. А тут жизнь и тому, и другому устроила экзамен.
Ну, о Лукиче разговор уже был.
В экипаже у К. летает штурманом Ш. Он пришел к нам из летнабов, и, видимо, привычка цепляться за землю осталась у него до сих пор. Да еще самоуверен и настырен. Были случаи, чуть не до драки с командиром доходило, вырывал управление автопилотом и чуть ли не штурвал. Отказывались от него.
А К. – склеротик. До анекдотов. Ехал как-то на вылет, решил перед вылетом зайти в эскадрилью. Сделал там свои дела… сел на автобус и поехал домой. На полпути опомнился, что на вылет же… выскочил, стал голосовать; хорошо, ребята на машине подобрали, успел, без задержки.
А то в Киеве: прилетел туда с экипажем в качестве проверяющего, а утром в умывальнике увидел члена экипажа и спрашивает: «А вы когда прилетели?»
В Домодедове на предполетной подготовке надо было срочно бежать в АДП, что-то улаживать, так бросился не в дверь, а в шкаф…
Хороший человек, но несобранный. Хороший был проверяющий: не мешал. Синекура.
А в этот раз они летели из Москвы. Набрали продуктов, мяса. Уже вошли в зону Енисейска, скоро снижаться, переводить курсовую систему на меридиан аэродрома посадки.
Селиванов рассказывал, что вроде бы Красноярск через Енисейск запросил их, готовы ли тут же, сразу после посадки, выполнить рейс обратно на Москву: нет экипажей, а у них рабочего времени должно хватить…
Ясное дело, в экипаже начались дебаты. Мясо надо домой везти, куда ж его денешь. Вот, видимо, и забыли про курсовую. А тут уже пора снижаться.
Курс был взят на Горевое, естественно, с ошибкой на 50 градусов. Но Енисейск передал борт Красноярску, не видя (или не взглянув) ни засветки на локаторе, ни пеленга.
Красноярск, так же не глядя, принял и дал снижение до 6 тысяч. Ну, а раз снижались не в ту сторону, на 6000 УКВ связь прекратилась из-за большой дальности.
Первое, если пропала связь при снижении: проверить на второй станции. Проверить через борты. Уж если через борты-то есть, а диспетчер не видит, КВС должен забеспокоиться.
Ну, ладно, ночь, бортов мало. Связи на обеих УКВ нет. Связаться по дальней, по «Микрону» Пока шель-шевель, пока найдешь частоту, пока настроится, прогреется, – да есть же РСБН, дает азимут и дальность, место дает! Привода ночью врут, но «Михаил»… Он если и врет по азимуту, так до 10 градусов, а по дальности – или показывает точно, или горит «Дальность автономно». Три аэропорта с «Михаилом»: Енисейск, Красноярск, Кемерово. Не веришь одному – проверь по другому, третьему, сравни места на карте.
Каждую минуту – 15 км, 15 км, 15 км… Самолет летит, надо шевелиться. Стоило глянуть на «бычий глаз» - магнитный компас на фонаре, на ИКУ, на КМ-5, – и сразу все стало бы ясно: расхождение в курсах!
Но это ясно дома, в кровати. А там дело к панике. Нет связи, а скоро Горевое. Радиокомпас крутится, может, уже прошли? По расчету пора поворачивать вправо. Связи нет.
Действия при потере связи? Прослушать на всех каналах, на частоте ДПРМ по радиокомпасу, вызывать по связной… Три радиостанции же не могут сразу отказать, если все остальное работает. Не снижаясь, на последнем заданном эшелоне следовать на привод аэродрома посадки. Только АРК тот привод не берет.
Они снижались. Это уже ошибка командира.
Вышли по расчету штурмана на привод, АРК так и крутит; пытались выполнить заход по схеме – в облаках и без связи…
Сработала сирена ССОС – земля близко! Немедленно набор с максимальной скороподъемностью! Еще памятна катастрофа Ту-134 в Алма-Ате, когда самолет зацепил за гору, чуть выйдя за пределы схемы захода.
Набрали 5100. Поняли, что заблудились.
Действия при потере ориентировки? Включить сигнал бедствия, набрать высоту, перейти на 121,5 – уж на этой частоте все дежурят.
Нет, молча стали виражить, снижаться опять. Увидели землю в разрывах: уже светало. Увидели воду, думали, Енисей. Бортинженер сказал: да это же озеро Белое! Штурман его отматерил, но сам к этому времени скумекал кое-что и, втихаря, видимо, согласовал курсовую. Дал курс 60 – правильный, на Красноярск. Опять сработала ССОС. Набрали 1800 и пошли на Емельяново. На Балахтон вышли уже по АРК, и дальше сели с прямой на 108.
Диспетчеры Емельянова и Северного переговаривались между собой: шутка ли – потерялся самолет, пахнет катастрофой. И тут, наконец, по связной КВ-станции вышел на связь второй пилот. Но как ты определишь, где он летит, не зная места, а из-за малой высоты на диспетчерском локаторе их не видно. Использовали ли они свой бортовой локатор, я не знаю.
Короче, диспетчеры стартов повылезли на крыши вышек и слушали ушами, и услышали, что где-то крутится. Ожидали, что вот-вот упадет, без топлива. Но, к счастью, нарисовался с курсом 108 и благополучно сел.
Как мог самолет, с тремя работающими радиостанциями, с исправным оборудованием, с РСБН, локатором, двумя радиокомпасами, с НВУ и шестью указателями курса, – заблудиться вблизи аэродрома и потерять связь? Что делали на нем специалисты первого класса?
Уму вполне постижимо: элементарная профессиональная несостоятельность. А ну-ка: сразу два особых случая в одном полете!
Комиссия из Москвы уже прилетела, приказ готовится. Отлетались. Разве что спасший их бортинженер Вена Грязнухин отскочит… если не копнут, откуда взялось лишнее топливо. Но вряд ли копнут. Спишут на неточность топливомеров. Он их если не спас, то хоть натолкнул на путь истинный, да и топлива прихватил втихаря, по старой бортмеханицкой привычке, памятуя, что топливо – это не перегрузка.
Поэтому мы и оставляем друг другу заначку. Москва не смотрит, что нам запретили высоко летать и расход стал больше. Топлива выдает 31,5 т и ни килограмма больше; им главное – загрузка. Поэтому Аникеенко, прилетев в Москву с остатком 7 т, записал 6, а тонну подарил экипажу К. Мы все так делаем. Вот – не подарок судьбы, а забота товарища о ближнем. Жить-то надо, и К. с пассажирами остался жив.
Мы с Мишкой за курсовой системой следим строго. Случаи были, и я всегда за то, чтобы перевод курсовой был заметным этапом перед снижением. И по технологии 2-й пилот при этом сличает ИКУ с КИ-13. Мы об этом забыли, ну а теперь я сам буду следить.
Мне пришлось блудить пару раз. На Ан-2 как-то заблудился в трех соснах, летя на Лосиноборск, и хорошо помню состояние при этом. Уже начал было набирать высоту, стал в спираль, да Брагин летел навстречу из Айдары, спросил, чего это я кручусь над Лосиноборском, и я от стыда опомнился и определился, что нахожусь на трассе.
А на Ил-18 летели однажды в Якутск через Ербогачен-Мирный, я был еще вторым пилотом, Голенищенко командир; штурман наш выполнял второй самостоятельный полет. Отказала курсовая система. Я все по локатору искал Вилюйское водохранилище, не мог найти. Мирный нас по локатору заметил, дал место, еще спросил, не через Киренск ли мы идем. Мы не поверили: оказалось, идем по киренской трассе, гораздо восточнее ербогаченской. Короче, совместными усилиями определились, использовали все средства и, уклонившись на 190 км, все же вышли на Мирный по киренской трассе, и диспетчер отпустил нас с миром дальше на Якутск, за что ему и сейчас большое спасибо. И никто об этом случае до сих пор не знает, а так я вряд ли летал бы на «Ту».
В Японии катастрофа. Разгерметизировался, потерял управление и упал Боинг-747. Погибло 520 человек; четверо чудом остались живы, бортпроводница даже разговаривает. Оторвался хвост. Самолет этот хорошо приложили 7 лет назад, повредили хвост, сделали ремонт; вот он, бедный, летал, летал, и не выдержал. Сперва деформировался, треснул фюзеляж, вот и разгерметизация, а потом стало клинить тяги управления. Вторых пилотов в этой авиакомпании убрали в целях экономии на коротких рейсах, вот бедный капитан сам и рули тягал, и решение принимал, и связь вел, и команды отдавал, да так и боролся до конца. И бортинженер с ним.
Мы все братья по профессии. И у них не сладко, и у нас. Но о нас пишут в газетах, только когда мы мужественно преодолеем препятствия, созданные нами же. А когда мы погибаем, виноват экипаж.
Вот ташкентский экипаж. Прилетели в Карши пассажирами. Толкались на ногах долго, рабочее время до смерти составило 21 час. Уже, говорят, арестовали врача, комэску и командира отряда. Все знают, как это – лететь пассажирами, а потом гнать рейс.
Ясное дело, может, и дремали. Но нам вешают лапшу на уши, что потеряли скорость, свалились, растерялись, выключились, температура на высоте, болтанка и пр.
Болтанка была, с перегрузкой 1,3, это ерунда. Приборная скорость резко упала, как если бы кто дунул сзади или взорвалось что за хвостом. Вот от чего могли остановиться двигатели, а не от болтанки. Но… могло быть, и что дал взлетный режим резко, а на той высоте нельзя, вот двигатели и запомпажировали.
Факт, что падал не на нос, а вроде как на хвост. Почему? Должен при сваливании падать на нос. Значит, рули повреждены, оперение? Короче, что-то темнят.
19.08. Лечу в Сочи. Машины пока нет, резерв выехал из Емельянова в Северный перегонять 417-ю. Вот жду, как они приступят к предполетной подготовке, так мы выедем.
Сегодня полистал РЛЭ: сваливание с чистым крылом наступает на 290, АУАСП срабатывает на 330 (для веса 86 т); ну, у каршинцев-то вес был поболе. Они свалились на скорости 400 с лишним. Медведев запретил нам в наборе снижать скорость менее 480. Запас почти в 200 км/час! Я сто раз летал на 420, и запас по сваливанию был. Это – шараханье, как бы чего не вышло, и неверие в машину. Обрубаются ее потенциальные возможности. И так ведь потолок снизили на 1000 м, возможности набора ограничили, скорость на посадке увеличили… Так хорошая ли это машина, если, вдобавок, и жрет она больше всех?
21.08. Слетали в Сочи. Туда нормально, с задержкой на пару часов. Обратно нас отправили через Краснодар-Уфу-Норильск. Есть такой рейс, с четырьмя посадками.
Семья норильчан потеряла в накопителе билеты. Долго их мурыжили, билетов нет, надо снимать с рейса, баба ревет, дети ревут, мужик за сердце хватается.
Взял я их без билетов, уговорил дежурную. Тут и билеты нашлись; короче, задержка получилась.
Тут лету до Краснодара 30 минут, горы, грозы, самолеты, а тут пассажиру этому плохо, давай скорую к трапу вызывать, два баллона кислорода на него стравили. Оказалось, у мужика инфаркт, сняли его в Краснодаре, а семья полетела дальше, а куда деваться. Они там ему не помогут.
Скомканный полет получился. Я все отвлекался то на пассажира, то на засветки, то на ритуал предпосадочной подготовки.
Так задержка потом и висела весь рейс, и мы все подсчитывали, хватит ли рабочего времени.
В Норильске задержали нас еще на полчаса: разбирались с грузом проводник и склад. Ну, Норильск не был бы Норильском, если бы не задержал: у них меньше двух часов самолет сроду не стоял.
Дома урезали 5 минут последнего полета, выбросили полтора часа на обед, и с продленным мною – с согласия экипажа, естественно, – временем работы 13 часов получилось 7,05 налету при фактическом рабочем времени 14.30.
Домой приехал в 4 утра, поспал 7 часов, а вечером уже стоим в плане 102-м рейсом на Москву. Успел смотаться на дачу, собрать урожай, полить, нарезать цветов – и домой.
Позвонил в ПДСП за 3 часа. Сказали связаться с АДП: рейс мой совмещают с норильским, а кто полетит – решит АДП. Телефон в АДП – только из АДП Северного. Я предупредил ребят по телефону и помчался в Северный. Удалось связаться с АДП Емельяново: рейс у меня забрали, а мне – в профилакторий, т.к. у них улетели все резервы. Я запротестовал и предложил сидеть дома на телефоне, а мне, если что, пусть позвонят. Но там, в АДП, сидит мальчик – ни рыба ни мясо, он промямлил, чтобы я связался с Медведевым.
Полчаса я рвал диск телефона, но не смог связаться ни с отрядом, ни с ПДСП, которая обычно заваривает всю кашу. Плюнул, поехал домой, оттуда с первого звонка связался с ПДСП. Мое предложение о домашнем резерве отвергли, мотивируя очень логично: «Стану я еще звонить вам».
Пришлось ехать. Собрал ребят, приехали, заведомо зная, что будет, как недавно, когда из резерва пришлось поддежуривать Запорожье: просидели тогда день, а вечером пришел резерв и чуть не выхватил у нас из-под носа Хабаровск вместо Ил-62. Пришлось срочно качать права – и все-таки мы высидели Хабаровск и слетали.
Так и сегодня. Сначала предложили нам додежурить до ночного резерва. Додежурили. Теперь предлагают Хабаровск, но с задержкой, пока на час. Это, вполне возможно, – до утра. А мы без выходных с 9-го, 12 дней. Утром ожидается туман – как раз к нашему предполагаемому возвращению, так что возможна посадка в Абакане. Ночной Хабаровск с разворотом и тремя посадками – это тяжело. Вечером-то поспали часок, теперь не уснешь, а если надо?
23.08. Вчера таки слетали в Хабаровск. Ребята меня свозили, а я бессовестно дремал всю ночь. Но какая там дрема – краем глаза все же косил на приборы, а наушники так и не снимал. Трепало весь полет, болтанка противная; спасибо Васину, что запретил летать выше облаков, вот и болтались по верхней кромке.
Прием пищи в болтанку выглядит так. На колени кладешь полотенце и ставишь поднос, на нем – в еще меньших подносиках, или корытцах, – пища и кофе; обычно еще и девчата готовят бульон, так что две чашки с каленой жидкостью болтаются на подносе, болтающемся на коленках, которые болтаются по кабине, трясущейся с частотой примерно три качка в секунду, – длинная оглобля фюзеляжа именно с такой частотой гасит толчки от болтанки.
Хватаешь обе чашки в руки и, балансируя, ждешь, когда утихнет тряска, чтобы хоть одну поставить на секунду и освободить руку. Молниеносно зубами разрывается пакет с кофе, так же вскрывается сахар; все это с промежутками перемешивается и сразу отпивается большим глотком. Теперь можно эту чашку поставить на поднос, уже не так боясь, что расплещется.
Теперь бульон. С ним сложнее, потому что он горячее и покрыт обманчивым на вид слоем растопленного жира. Кто хватал каленый бульон, тот знает, что под жиром кипяток… но уже поздно: нёбо облезет.
Сыплешь соль, мешаешь вилкой, языком эту вилку пробуешь. Если слишком горячо, выход есть. Сыплешь ложкой в бульон рис. Если есть яйцо, режешь его – и туда же. Все это – в непрерывной тряске. Чашка переполняется, температура ее снижается; надо хватать и, обжигаясь, глотать, пока уровень не понизится настолько, что можно поставить. Да там уже почти каша.
Если болтанка сильная, то не знаешь, за что вперед хвататься, и пьешь попеременно из обеих чашек – а, черт с ним, все равно там все смешается.
Потом уже спокойно можно есть курицу. А запивается все фруктовой водой или соком.
Это нормальное, полноценное, здоровое, в основном, ночное, питание летчика. И всегда, когда ест командир, начинается болтанка, по закону подлости.
Валера посадил оба раза мягко, но… ему, видимо, не хватает внимания, или же он тратит много сил на снижение с эшелона вручную, да еще накладывается усталость, да рейс тяжелый. Короче, на прямой он уже заторможен, а на выравнивании и выдерживании скован и не видит кренов.
Попробуем снижаться с эшелона в автомате.
Если бы я вводил его в строй, да с левого сиденья, да с рулением и торможениями, то… больше четверки никак нельзя поставить, а ведь он со мной самостоятельно налетал уже часов 150.
Взлетает, правда, отлично, пилотирует отлично, а на посадке вот такие казусы.
Правда, и самолет же сложен, черт бы его не взял. Но надо доводить дело до конца.
Самому уже хочется полетать вволю, но я сам связал себя этим обязательством: доводить второго пилота до кондиции. Или у меня такие уж высокие требования?
Как же тогда летает Солодун, если и пять лет назад он уже был прекрасным командиром и инструктором, а ведь он и сейчас все время работает над собой. Это уже мастерство на грани искусства. И нет конца совершенствованию. Даже я по сравнению с тем же Валерой гораздо больше вижу, чувствую, понимаю, – а ведь он практически готовый командир, чуть только руку набить с левого сиденья. Все мы растем постепенно, было бы желание.
30.08. Вот, плакал, что уже полетать хочется самому, а тут как раз представилась возможность. Проверял меня Рульков в Одессу и обратно, семь посадок – по горло налетался.
Туда – три посадки днем, все безукоризненны, точно на знаки сажал, берег тормоза. Обычно мы садимся с перелетом, метров 400-600, но случай в Горьком отбил у меня охоту перелетать.
Нормативы предусматривают посадку на 5 – от знаков и плюс 150 м. Вот я и поставил себе задачу: сажать точно на знаки.
В Одессе заходил в автомате, но после посадки спина почему-то была мокрая. Пришли в профилакторий, и я сразу завалился спать и проспал 11 часов. Утром смотались на Привоз за помидорами и снова прилегли перед обедом на минутку – проспали еще четыре часа.
Рейс нам шел с задержкой: в Ульяновске нет топлива, и они садились на дозаправку в Казани. Так что мы заранее настроились на четыре посадки.
Я успокаивал себя тем, что утром дома туман, как раз ко времени нашей посадки, а тут нам рейс пришел позже на два часа, да мы, перелетая куда-нибудь на дозаправку, потеряем еще два часа, так что прилетим уже к обеду, туман рассеется. А то пришлось бы отдыхом экипажа задержаться на 10 часов где-нибудь на запасном в Кемерово, или еще хуже – в Абакане, валяться в самолете на креслах (там нет летной гостиницы, а бортов нападает много – повернуться негде).
В Днепре заправили побольше, чтобы из Ульяновска хватило перелететь в Казань на дозаправку. Но в АДП нам сказали, что уже и Казань отказывается заправлять. Но все же решили направить нас в Казань.
Разговор вел Рульков, сразу на высоких тонах, правда, потом извинялся. Ну чем виноват диспетчер, и так уже взвинченный ожиданием скандала с очередным экипажем? Он стрелочник, как и мы.
А тут в Казани гроза. Я предложил не терять времени и лететь в Куйбышев: там ДСУ, там разберутся и заправят. Решили лететь.
На подлете к Ульяновску договорились транзитных пассажиров не высаживать: заправки не будет, так пусть себе спят. Высадили ульяновских, засадили красноярских – через сорок минут мы взлетели.
Обычно стоянка длится полтора часа. Для заправки надо высадить пассажиров – из условий их безопасности. А посадка обязательно через досмотр. Волна международного терроризма на авиатранспорте хлестнула и по нам: уже лет десять как вооружают экипажи и производят длительный, утомительный и унизительный досмотр пассажиров и ручной клади. Хотя существует сто способов террористам достичь своей цели, обходя досмотр.
Часто в промежуточном порту недосчитываются пассажира. И если он летел с багажом, надо перетряхнуть весь багаж и снять его чемодан: а вдруг там бомба!
Так что мы не очень любим промежуточные посадки, и каждую возможность не высаживать пассажиров используем.
Куйбышев отказался дать второй трап и пожарную машину (в этом случае разрешается не высаживать людей при заправке), да и проводницы сказали, что пассажиры выпили всю воду, детишек много, надо высадить людей, чтобы не мучились. И попросили меня заказать воду для пассажиров.
Куйбышев никогда не блистал организованностью и в нашем сознании прочно занимает одно из первых мест по беспорядку. Никому не в радость садиться в Куйбышеве вне расписания.
Но, к нашему счастью, как раз все рейсы разлетелись, и мы были первыми из нескольких севших на дозаправку бортов. Заправка подошла сразу.
В АДП, против обыкновения, не толкалось болтающих между собой и по телефону баб, а сидела одна сонная девушка, которой хотелось только одного: спать; а тут мы со своими заботами.
На мою просьбу о воде она дала мне телефон цеха питания. Трубку сняла дремучая тетя Маша, которая со всем сознанием возложенной на нее огромной ответственности гавкнула, что есть комплектовка, что без комплектовки ничего нельзя, и чтобы я позвонил в комплектовку, а она знать ничего не знает.
Девушка из АДП посоветовала мне сходить в перевозки. Там дали команду в пресловутую комплектовку, я еще раз позвонил в цех питания, и та же тетя Маша с неповторимым апломбом информировала меня, что машина, если освободится, будет минут через сорок, а на мое робкое замечание, что рейсов же нет, все вроде бы улетели, оборвала, что, мол, много вы там понимаете, машины все обслуживают рейсы. Вот так.
Пришлось позвонить в ПДСП. Там, к счастью, сидел мужик деловой, спросил, заправили ли нас, пообещал нажать на цех питания и, видимо, хорошо нажал, потому что простояли мы всего полтора часа.
И синоптики не болтали между собой, а сидела всего одна. Но с тяжелым вздохом разыскала она и бросила нам погоду, и с таким видом, будто делает нам великое одолжение, отрываясь от мировых проблем – ведь не по расписанию прибыли! – допечатала наши прогнозы в бланк.
Короче, мы всем мешаем работать. Как бы было хорошо, если бы не было в аэрофлоте летчиков. Как бы работалось!
Домой долетели без приключений, только хотелось спать. Кузьма Григорьевич, согнувшись в немыслимой позе над штурвалом, храпел во всю мочь, а я с тоскливой завистью за ним наблюдал. Михаил временами закрывал глаза, тоже задремывал, и я следил за курсом, иногда оглядываясь и на пульт бортинженера.
Потом Рульков вздрогнул, выпрямился, открыл глаза, строго оглядел нас, для виду что-то подкрутил, что-то включил, еще раз покосился на нас: видите – не сплю, работаю, – и снова закрыл глаза.
Но все же он таки вышел покурить в туалет, и я немедленно провалился в такой необходимый сон: пять минут, – но без них, с четырьмя-то посадками, ну никак не обойтись. И помогло.
Все четыре посадки назад – в автомате. Весь полет на автопилоте. Два раза в момент касания возникали крены, и я едва успевал среагировать, но – успевал.
Зашел в эскадрилью на всякий случай, глянуть план. Помощница по штабной работе Нина колдовала над пулькой. Глянул – у меня через день стоит Иркутск. А ведь мы уже выполнили продленную саннорму: 87 часов. На мой протест Нина уверенно бросила: слетаешь. Это меня взбесило: посторонний человек, бумажная крыса командует пилотом, толкает на нарушение. Я предупредил, что летать в этом месяце не буду. Если завтра поставит в план – не полечу; если будет задержка, пусть ее повесят на того, кто поставил в план вылетавший саннорму экипаж.
Мы устали. Честно отпахали лето, за три месяца 250 часов. Уже при этом налете год идет за два. Пора в отпуск.
31.08. Нина все же поставила нас в план. Я наказал дежурному написать против моей фамилии, что экипаж вылетал продленку, чтобы в АДП знали и заранее готовили другой экипаж. И хоть и хочется, чтобы задержку повесили на Нину, но так нельзя. Я всю ночь ворочался, а утром позвонил в ПДСП, чтобы еще раз предупредить. Там ни о чем не подозревали и удивились, как это – ставят в план небоеспособный экипаж.
К счастью, там был зам. ком. ОАО по летной Яша Конышев; он было попытался меня уговорить, что, мол, некому летать, перенесем налет на тот месяц… известная песня. Но я твердо отказался, мотивируя тем, что не могу рисковать единственным талоном, да и вообще нарушать не могу. И он меня отпустил. Да и куда он денется.
В пиковый месяц август весь план трещит, а потом летит к чертям. Любой показавшийся на горизонте свободный экипаж хватают – и в резерв. Я так уже пару раз попадался. И мне прекрасно знакома обстановка в АДП, ПДСП и отрядах. Тут закон один: можешь удрать, хочешь отдохнуть, – плюй на все. Другого дурака найдут, заткнут дырку. Кругом тришкин кафтан.
Причина ясна. Самолетов исправных нет, а неисправные некому чинить. План большой, а топлива по Союзу не хватает. Туманы эти в августе, задержки, задержки…
И пилотов не хватает: не переучивают из-за отсутствия ромбика; вновь введенных командиров мурыжат, не подписывают приказ по этой же причине. И в эскадрильях вынуждены заранее планировать по 90 часов на экипаж, без выходных. Кто сумел себе заранее добыть, выбить ограничение по медицине – счастлив: отлетав свои 70 часов, он недельку отдыхает.
Я всей душой за выполнение плана. Но… что-то не так в датском королевстве.
1.09. Я всей душой за выполнение плана. Но то, что у нас творится, уже даже штурмовщиной не назовешь. Это полный хаос.
Около одиннадцати вечера звонит Медведев, интересуется, боеспособен ли мой экипаж, и чтобы я по возможности созвонился со всеми: не прикрыто много рейсов из-за задержек, возможно, ночью придется лететь, несмотря на то, что сегодня мы в плане на Владивосток. Какой там план!
Я понимаю обстановку. В вокзалах тысячи людей, наивно полагавших в свое время, что к концу августа улететь так же легко, как в январе. Эти люди сидят сутками, и уже на четвереньках успели бы доползти, да немалые деньги уплачены вперед…
Людей этих, с детишками, жалко. Из года в год это повторяется, и из года в год все хуже с топливом, с самолетами, с обслугой, с порядком. Наше местное руководство ночует на производстве, домой не идет – разгребает эту кучу малу. Медведеву уже ночь в день, раз поднимает экипаж буквально из постели.
Конечно, надо проявлять сознательность, лезть из шкуры, нарушать отдых, с угрозой безопасности, – но вывозить людей.
С другой стороны: куда их черти несут? Сто раз писали в газетах, чтобы старались пораньше улетать из курортных зон, чтобы равномернее была нагрузка на аэрофлот.
Ну, вылезем мы из шкуры, вывезем, дадим план. На следующий год нам спустят от достигнутого, плюс рост: нельзя же топтаться на месте. И опять мы будем лезть из шкуры, недосыпать, гнить в гостиницах, тянуть план. За ту же зарплату.
Что сейчас, война? Не лучше ли оглянуться, да на следующий год план уменьшить, сократить рейсы, подогнать землю, снизить темп этой бешеной гонки на месте?
Да кто ж это позволит.
На мой звонок Мишка послал Медведева подальше и заявил, что устал с заготовкой огурцов и лететь не может.
Валера, помявшись, сказал, что лучше бы завтра… Видно, уже злоупотребил.
Короче, я сказал Медведеву, что экипаж не готов. Да и самому не улыбалось ехать на ночь глядя, уработавшись за день (а повкалывать пришлось), толкаться всю ночь в АДП или в коридоре переполненной гостиницы, на раскладушке. А утром еще и домой отправят.
В конце концов, угроблю свое здоровье ни за что, из-за головотяпства чинуш, бюрократов, там, наверху, и ни одна собака через год не вспомнит, как надрывался ради их премиальных.
Вот наглядный пример, как бытие определяет сознание коммуниста.
Но у нас работа такая, что отнюдь не на амбразуру кидаться. Мое здоровье – мой рабочий инструмент. Нет его – и я не летчик, никто, бич.
И я отказался, сказав Медведеву, что экипаж не готов.
2.09. Упал Фальков, разлетелся его двигатель – и после катастрофы организованы мероприятия. В частности, бортинженеров в полете обязали замерять виброскорость ротора по какой-то новой методике. Это не мое дело, но если до катастрофы мы следили лишь, чтобы виброскорость не превышала параметры РЛЭ, то сейчас, по новой методике, слишком часто она стала выходить за пределы.
Приходится ставить машину, и новая забота свалилась на инженерно-технический состав: замерять, проверять, регулировать, вплоть до снятия двигателя. И это при том, что у нас ИТС и так не хватает.
И, несмотря на новую методику, армяне сделали вынужденную посадку по причине разрушения двигателя. Новая методика замера виброскорости двигатель не спасла.
У армян на высоте 80 метров командир (!) заметил падение оборотов и дал команду выключить двигатель. Бортинженер запротестовал, не видя признаков отказа. Начались дебаты; двигатель между тем разрушался. Вмешался пилот-инструктор; после неоднократных команд двигатель все-таки выключили, набрали высоту круга и – деловые люди! – зная, что магнитофон записал их дебаты и это грозит им неприятностями, стали «вырабатывать топливо», сделали два или три круга, пока предыдущие записи стерлись (записываются последние полчаса или около того), да, видимо, и после посадки не торопились выключать магнитофон, для гарантии. И в результате – получили ордена; в прессе все было надлежащим образом освещено (причем, как я заметил, в братских республиках если что случается, то ордена получают очень оперативно, а русский парень, что посадил зимой Як-40 на озеро без топлива… тишина). И вот вам герои – армянские соколы.
Так вот, я все думаю, дают ли пользу такие вот мероприятия после катастроф, или же вред? Объективно, может, и польза, а у нас, конкретно, вред. Мы как летали, так и летаем, но опять-таки: все меньше самолетов исправных, все больше задержек и мучения людей.
После катастрофы Шилака мы стали следить за рулем высоты и скоростью на глиссаде, и на многое при этом открылись глаза – тут польза очевидна. Да еще узаконили заход с закрылками на 28 – хоть из соображений центровки, но самолету все равно, из каких соображений, главное – можно.
После вынужденной посадки Кости Гурецкого из-за отказа в наборе трех двигателей сделали то, что и дурак должен был изначально предусмотреть: двигатели не запустишь, пока не включишь насосы и автомат расхода топлива. В этом ведь была причина останова двигателей: расходный бак оказался без подпитки топливом из основных баков из-за неработающих (не включенных) насосов подкачки-перекачки. Это была прямая промашка КБ. Да и сигнализация критического остатка топлива в баке на всех самолетах есть, а у нас ее не было!
И только когда у Гурецкого в Ташкенте бортинженер забыл при запуске включить насосы, и на высоте 9600 двигатели заглохли без топлива из-за полной выработки из расходного бака, и экипаж падал ночью, уже не надеясь на спасение, но тянул в сторону Чимкента, и молодец Валера Сорокин правильно рассчитал курс, и вел связь, и подсказывал командиру, и сумел-таки вывести машину на Чимкент, а бортинженер все-таки сумел в темноте и страхе опомниться, определить причину, подкачать топливо и запустить один двигатель на высоте всего полтора километра до земли, и командир сумел благополучно посадить машину на одном двигателе, – вот только тогда в туполевском КБ прозрели, что надо-таки ставить блокировку и сигнализацию.
Поставили. Но теперь при чтении контрольной карты командир обязан оглядываться и подтверждать, что перед запуском насосы таки включены. Хотя блокировка действует, и без насосов запуска не произойдет.
Спрашивается, зачем? Был недолет, теперь перелет. Недобдевали, теперь перебдеваем. Зато Гурецкий вписал новые страницы в РЛЭ, и мы долбим главу «Отказ трех двигателей в полете», которая нам вряд ли пригодится, и мучаемся на тренажере.
Что-то придумают после каршинской катастрофы?
Вот и день рождения прошел. Сижу во Владивостоке; до странности легко, по расписанию добрались. Час пик позади. Новый месяц начался; у всех впереди саннорма, и Медведев с Конышевым первую ночь спят спокойно. Через пару дней начнут отменять рейсы, все пойдет на убыль, появятся свободные самолеты, у техников станет хватать времени довести их до ума. Все плавно войдет в колею, и мы уйдем в отпуска, честно отдубасив лето.
День прошел, самолет нам идет по расписанию, и мы легли поспать перед полетом. Владивосток есть Владивосток: та же духота, те же комары, тот же шум на привокзальной площади. Мучились-мучились, вроде бы даже задремали, но тут динамики громко объявили, что начинается уборка привокзальной площади, владельцам машин срочно их убрать. Закружили под окнами, загрохотали две автометлы: туда-сюда, туда-сюда…
Гул машин, духота, изредка противный зуд комара, шлепки… Вертится экипаж, шуршит простынями, скрипят койки. Не спят ребята.
Через два часа подъем. Чем лежать и мучиться, пошел я в комнату отдыха; тут сидит под единственной лампочкой человек, читает. Он мне не мешает, и мы рядом, каждый занят своим делом.
Что в моей жизни эти два часа. Столько я недоспал уже на этой работе, что спокойно сижу себе и без нервов использую время хоть с каким-то толком. Прилетим домой, дома тихо, до обеда никто не побеспокоит, телефон и звонок отключу…
Это хорошо тому рассуждать, у кого отдельная квартира с отдельной спальней. А у кого коммуналка или общага, малые дети носятся?
Те времена, когда летчиков называли сталинскими соколами, давно миновали. Тогда их уважали больше, чем теперь, летали они, в основном, днем, а ночами спали в благоустроенных квартирах.
Сейчас нас слишком много расплодилось. Профессия наша становится массовой, а работа… что ж, у многих теперь работа требует предварительного отдыха. Вон и в газетах пишут, как влияет на производительность труда утренняя нервотрепка в троллейбусе. Подсчитаны и убытки.
А мы – что ж, мы очень здоровые, специально отобранные, тренированные люди. Мы выдержим. Нам за это большие деньги платят. Вот на них-то нам и надо строить себе отдельные кооперативные квартиры, чтобы спокойно отдыхать, да машины, чтобы, значит, не нервничать перед вылетом в троллейбусе.
Наша летная медицина… Она призвана следить за здоровьем летного состава, индивидуально подходить к каждому, знать всех, бороться за нас, чтобы конечный результат работы соответствовал девизу: сохранить здоровье летчика – сохранить миллионы государству!
Это теоретически. А практически – синекура.
Врач летного отряда. Посторонний человек, которого никогда нет на месте. Я не знаю случая, чтобы врач дрался с начальством за пилота. Врач себе молчит, летом регулярно отдыхает на курорте, по путевке; а пилоту предлагают: зимой – Теберду, горный курорт, на 12 дней. Это реалии.
Как мы проходим годовую комиссию, это тема отдельного разговора. Роли здесь распределены четко, и все расставлено по местам.
Летчики – просители. Они трясутся. Они вытерпят все, лишь бы допустили летать.
Врачи – господа. Мэтры. Они могут раздеть человека и уйти на сорок минут гулять. Им некогда. В одиннадцать утра у них чай. Это ритуал: собираются заранее, несут в определенный раз и навсегда глазной кабинет свои варенья, чашки. А ты сидишь, как собака, и смотришь на них преданными глазами.
Кто их контролирует, кто с них спрашивает? Какая у них ответственность? Какие они врачи? Они – эксперты, то есть, люди, определяющие соответствие параметров. Один бог знает, какие они врачи, но то, что лечить людей они не могут, знает весь аэрофлот. И под этими словами подпишется каждый летчик, кто раз в три месяца расписывается в графе «Жалоб нет».
Жалоб нет, и не будет. Попробуй, пожалуйся.
Все они обычно – жены тех же летчиков, погрязшие в сплетнях. Вечно враждующие группировки, склоки, зависть, подозрения… Слишком осторожно приходится с ними контактировать, подбирать слова.
А жить и летать надо. И, как собаки на тряпке у порога, сидим мы перед кабинетом и смотрим преданными глазами, как господа врачи идут пить свой чай.
4.09. Несколько слов о предполетном медосмотре. Что греха таить – иногда некоторые из нас идут на него с трепетом в душе. Поэтому им можно заказать. Заказывают без зазрения совести, называют место, где добыть, цены знают. А мы – от них узнаем. И это же не одному летчику заказывают, а многим и часто.
Вообще, работники аэропорта заказывают летчикам и бортпроводницам много и бессовестно. Помню, с ныне покойным Шевелем экипаж возил из Ташкента по полторы тонны фруктов. Бортпроводники возили вишню из Симферополя десятками ведер, заказывали электрокару – довезти из профилактория до самолета. Все – нужным людям.
Сколько я ни летаю, а всю жизнь домой везу два места: портфель и сумочку. Либо один портфель. Сейчас Ташкент ограничил вывоз десятью килограммами. Ровно столько приказом министра разрешается летчику провезти с собой. А пассажиру – двадцать.
Приказ приказом, а жить надо. Если я летаю в Ташкент один раз в месяц, то, в зависимости от сезона, везу оттуда портфель помидор и ящик винограда, да еще пару дынь в сетке. Это килограмм тридцать. А хочется еще же и арбуз…
Какой, к черту, приказ, если у нас в Сибири не растет виноград. Даешь взятку на проходной, даешь водителю служебного автобуса, чтобы довез фрукты до самолета. Ну а что делать.
Надо строить магазины прямо в порту, специально для летчиков. И чтоб там было все необходимое, чтобы не носились как угорелые верблюды по городу, а потом без задних ног шли на вылет.
Но это маниловские мечты. Проще запретить. Цурюк! Десять кило, и все.
А врачу везти надо? Пока пьем – надо. А диспетчеру как отказать? И командиру? И товарищу, который в отпуске? Вот и возим. А тут приказ, видите ли. Но приказы издают в Москве, а там 150 грамм мяса полчаса в магазине вилкой ковыряют. Им не понять, что нам в глубинке тоже хочется мяса.
Когда я пишу о сидящих там, в Москве, – зло пишу, – я не углубляюсь в дебри, что, мол, они-то все понимают, но им или удобно так, или инерция держит, или – не до таких мелочей, или же понимают, что надо бы, но не сдвинешь, и что жалко нас, да уж, видно, судьба…
Им на нас – насрать. Сами-то правдами и неправдами выбрались в столицу – пусть и другие попробуют, авось и им удастся устроиться на тепленькое местечко и ковырять вилкой московское мясо.
Ну, и мне наплевать, что они там обо мне думают.
Когда я рву диск телефона и в бога и в душу матерю сам не знаю кого, я думаю: семьдесят лет Советской власти, сорок лет после войны, двадцать лет я уже летаю, а дозвониться на работу – проблема. Кого материть-то?
Собираясь два раза в год в кучу – на занятия к ОЗН и ВЛН, – мы на партсобраниях жуем и жуем: телефон, телефон… Что можем мы, летчики, требовать еще от руководства? Да ничего. Где ты еще найдешь столь высокооплачиваемую работу? Чтобы зимой ничего не делать, а деньги получать, да еще и пенсия льготная. Старики привыкли, молодежь рвет налет на пенсию, все молчат или ворчат в кулуарах. Записные борцы обличают с трибуны. Результат – ноль.
А с другой стороны: уйду я на пенсию, и что я буду вспоминать – телефон? По телефону буду я тосковать, телефон будет сниться мне ночами? Или коробки с помидорами?
Как часто мелочи заслоняют от нас главное, чем живем.
Вчера ночью взлетали в Чите. Вес был восемьдесят тонн, прохладно, и чтобы не греть двигатели перед взлетом восемь минут, я решил взлетать на номинале, а в случае нужды – добавить до взлетного, как разрешено РЛЭ.
Взлетал Валера. Оторвались где положено, и я спокойно констатировал, что номинала вполне хватает. Дальше холмы и уборка закрылков на высоте 315 м; мы спокойно набирали эту высоту, правда, по 5 м/сек, но для номинала это нормально.
Но, видимо, на высоте ветерок был чуть попутный, да номинал; все сложилось так, что угол набора, вероятно, был чуть меньше обычного. Вдруг хрипло заорала сирена ССОС: горушки набегали под нас слишком быстро, а высота была еще маловата. Закрылки уже убирались, и Валера нервно и осторожно драл машину вверх на минимальной скорости, избегая возможной просадки. Сирена все орала, и хотя я в бледных сумерках наступающего рассвета уже смутно видел проносящиеся под нами лесистые вершины холмов, особо не угрожающие полету, но внутренне ежился. И не добавишь до взлетного – расшифруют, будет неприятность. Уж пожалел, что не на взлетном режиме взлетали. И все из-за экономии одной минуты.
Нет уж, на будущее: Чита – только на взлетном.
Сегодня летим в Сочи через Норильск. Дурацкий рейс с четырьмя посадками, собачья вахта. Небось, проверяющие этим рейсом не летают, а Медведев вообще согласился, чтобы отряд выполнял этот рейс, исключительно для плана.
Ну а мы, рядовые, выдержим. Вылет в час ночи, последняя посадка – через 13 часов. И двое суток на море.
Есть один очень важный моральный аспект, который отличает летную профессию от других. Мне кажется, трудно отыскать другую такую работу, на которой можно трудиться только отлично, с полной отдачей, не отвлекаясь, и где вообще отвлечение во время процесса считается кощунством и вариантом самоубийства.
У нас сколько угодно и хороших, и плохих: врачей, учителей, директоров, официантов, токарей, химиков, ученых, комбайнеров, строителей, настройщиков пианино, солдат, артистов, шоферов, – список этот бесконечен.
Но нет плохих пилотов. Они или убиваются, или сами уходят. Это аномалия – плохой летчик.
6.09. У меня пропал сон. Сплю по-птичьи, легкая дрема, урывками, а заставить себя спать перед вылетом не могу. Зато в полете проваливаюсь. Это уже серьезная усталость.
Пошел к врачу летного отряда, пока с неофициальной просьбой: посодействовать, чтобы отправили в отпуск пораньше, можно хоть сейчас же, потому что не могу отдыхать перед полетом. Вроде бы пообещала поговорить с Медведевым. Кирьян вышел из отпуска и напланировал мне 17 дней без выходных – и налету-то 46 часов; с 20-го отпуск. Но я боюсь, что не дотяну и где-то что-то нарушу из-за невнимательности и усталости. Эти несчастные Норильски и Иркутски вполне можно распихать между отдыхавшими летом экипажами (такие счастливчики есть).
Когда я узнавал план накануне, дежурный мне сказал (я с трудом разобрал из-за плохой слышимости), что в 20.40 Сочи через Норильск. Я этим рейсом туда не летал еще, правда, недавно возвращался им обратно из Сочи, и не знаю расписания. Была мысль, что, может, какой дополнительный рейс, что изменения в расписании, – но магическое «Норильск» подействовало сильнее всего, и я стал готовиться. Но поспать днем так и не смог, просто не мог уснуть. Угрюмо встал и с ощущением уже предварительной усталости от предстоящего четырехпосадочного ночного рейса пошел в комнату Оксаны и присоединился к общей беседе в семейном кругу.
За три с половиной часа позвонил в ПДСП, назвался, сказал, что лечу через Норильск. Там запарка, сразу сказали: не выезжать, нет самолетов.
После серии телефонных переговоров с экипажем (кого уже дома не было, уехал; к кому не дозвонился – дурацкая наша связь)выяснилось, что задержку дали до 5 утра Москвы – по-нашему 9. Счастливый, лег я спать с законной женой и проспал 6 часов.
Утром, не дозвонившись до ПДСП, мы с Михаилом поехали в Северный на автобус и там в очереди встретили Зальцмана, собирающегося… в Сочи через Норильск!
Я помчался на проходную, позвонил в АДП Емельяново… оказывается, я стоял на Сочи абаканским рейсом, а Зальцман – норильским. К счастью, абаканский задерживался до 7 московского. А так бы сорвал рейс.
Вот тебе и внимательно вник в тонкости расписания, поверил дежурному. И не докажешь потом.
Потолкались в штурманской до 9 часов. К этому времени пришел Саша Бреславский – на Сочи через Куйбышев. Но машину нашли только мне. Норильск был закрыт туманом; короче, вылетел я только в 10 московского, 2 часа дня у нас.
Бреславского перенесли на завтра, а мне досадили его пассажиров, сняв предварительно всех куйбышевских. Это меня насторожило; я по всем каналам стал узнавать, не решили ли нас послать из Абакана напрямую на Сочи, прикидывать, пройдет ли загрузка, разрешат ли увеличить вес до 100 тонн и т.п. Но оказалось, ложная тревога, куйбышевских отправят другим рейсом. Потом в Куйбышеве нас догнала 195-я – подсадили московский рейс с нашими пассажирами.
Перепрыгнуть в Абакан за полчаса – дело привычное, но на заходе мы неправильно выставили посадочный курс и едва справились, когда автопилот взбрыкнул и стал разворачивать не в ту сторону. Такое вот у меня нынче внимание.
В Куйбышеве Валера сел с перегрузкой 1,4. Ловил-ловил ось, вроде бы поймал, но потерял тангаж, подошел низко к торцу, выровнял выше, тянул, тянул, да и упал, даже чуть с козликом. Я промолчал: и на старуху бывает проруха. По-моему, прибор чуть соврал, перегрузка была, ну, может, 1,3.
Весь полет до Сочи я то спал, то читал. В Сочи сел точно на знаки, даже, пожалуй, метров 5-10 до знаков, но там, с вечным попутно-боковым ветром, перелет – непозволительная роскошь. И грубовато: прибор тоже показал 1,4. Силой присадил.
В Сочи сидит Игорь Гагальчи, уже 3 дня, под норильский рейс. Пусть улетает первым рейсом, а мы посидим: дома нас ожидает ростовский рейс с трехсуточным сидением – лето кончилось, рейсы реже. Лучше уж посидеть здесь. Правда, дождь, но хоть выспимся, а кто желает, может нырять в отвратительно-теплое море.
7.09. Добрались домой. Сидения не получилось: два борта пришли с интервалом в час. Но я успел на пляже покататься в пене прибоя, даже рискнул сигануть через трехметровые волны подальше, отмыть грязь.
В Куйбышеве заходил в автомате. С ВПР потащило чуть влево, исправил, метров с 30 заметил, что иду строго по продолженной глиссаде, – а как же с посадкой точно на знаки? Плавно прижал, догнал вертикальную до 5 м/сек, но торец прошел все равно на 15 м, ось поймал; помня о вертикальной, во избежание просадки заранее потянул на себя… а она не идет, нос тяжелый; хватанул… и выхватил чуть не на 5 метрах. Скорость-то была, досадил мягко, но… какие там знаки. «Чикалов…»
А Валера дома корячился, терял высоту на кругу, и над полосой рыскал туда-сюда вокруг оси, как охотничий пес, – но поймал. Подвесил ее, а когда стала приближаться земля, среагировал поздно, но все же среагировал – посадил 1,3. Машина нам пришла та же, и мы убедились, что акселерометр таки чуть завышает перегрузку.
Нина переиграла нам Ростов на Одессу, и сегодня мы стоим на 5.55. А сели в 2.15. Я сказал «адью» в АДП, пусть ищут резерв. Сегодня суббота, мы надеемся, что коррективов в план уже не будет и мы отдохнем Телефоны не выключаем, но договорились звонить друг другу особо, так, чтобы по характеру звонка знать, что это свои. Первый гудок вызова – кладем трубку. Там насторожатся: если через 20 секунд последует второй звонок, то это свои. А если серия звонков, трубку берет жена, а я – «на даче».
Машин нет, в АДП бедлам, ругань, пилоты взбеленились. План летит к чертям, сплошь толкают на нарушения, на горный аэродром заставляют лететь непровезенный экипаж и т.п. Ну, еще неделька, и схлынет. Но неделька хорошая.
9.09. Отдохнули денек. Сегодня понедельник, я поехал в отряд. Был разговор с Кирьяном, отпуска он не дает, раньше 20-го и не жди, а то и позже. При враче летного отряда заявляет, что если я за лето устал, то лучше мне уволиться на пенсию.
Врач промымрила, что ему, мол (это мне), надо бы отдохнуть… «Принципиальная» реплика. Тогда он предложил: я летать не буду, но до 20-го обязан каждый день являться на работу и сидеть от звонка до звонка. А с 20-го – в отпуск. Ну, с дурака что возьмешь.
Дождался Медведева, опять они поговорили с Кирьяном, зашел я, когда Кирьян вышел, и Медведев попросил меня продержаться до понедельника. Я согласился. Подписал он мне отпуск с 16-го, теперь душа спокойна. Дотяну недельку. Полтора месяца отпуска впереди.
Но – пара Кирьян с Ниной, ох и пара! Господа, через губу не плюнут. Мы у них как крепостные. Жрать будут теперь меня потихоньку.
Сил нет терпеть такую работу. Конечно, может, с врачом я поторопился, но Медведев прекрасно все понимает: не я один у него такой.
А обстановка в отряде все еще сложная.
10.09. Кирьян мне вчера предъявил претензию, что я не поинтересовался судьбой одесского рейса, а его перенесли на 14 часов, и нашелся порядочный, сознательный экипаж, ждал в гостинице и полетел, а я вот думаю только о себе, и т.д., и т.п.
Это, значит, лететь из ночи в ночь – нормально. А я считаю, что так работать – ненормально. Зачем так планировать, чтобы к моменту прилета из рейса экипаж уже стоял в плане на другой рейс? Зачем экипаж должен заботиться о судьбе этого рейса, в то время как он должен отдыхать после предыдущего? Зачем превращать ночь в день? Страна дураков.
Ну ладно. Мой экипаж настолько нужен сейчас отряду, что мне отпуска не дают и командир отряда просит дотянуть, поработать еще неделю. Я соглашаюсь. Звоню в план, ожидая, что на завтра стою в рейс – пусть самый неудобный, пакостный, ранний вылет… А мы как раз дома собирались отметить – пусть позже – мой день рождения, пока хоть один выходной…
В плане я был. На разбор эскадрильи, в зале УТО. Приезжаем утром в УТО. Три человека: мой экипаж (Валера Кабанов в резерве) и бортинженер-инструктор. Итого, четверо, больше ни души. Разбор не состоялся.
Итак, уже три дня мы не у дел. Да и план-то на сентябрь, оказывается, всего 60 часов на экипаж. Так ли уж мы нужны? Ну, посмотрим, куда поставят на завтра.
Если Кирьян не поставит в план, я пойду к Медведеву и заложу комэску. Это же прямое издевательство и самодурство. Мы не виноваты, что командир эскадрильи не способен планировать работу и отдых экипажей, из-за чего мы работаем на износ и несем реальные издержки. Понадобится – напишу официальный рапорт. Я в его эскадрилью не просился, с удовольствием уйду.
Но вообще-то собачье отношение к людям. Не тянешь – проваливай. Только деньги и держат. Да еще чуть теплится огонек под спудом обид и пинков…
На заводах с рабочими нянчатся. Двадцать пять лет отработал – на руках носят: ветеран, ордена-медали, грамоты, доска почета, путевки, наставничество, – да куда там. У нас же год за два – по полста и более лет стажа набегает, а все как собака на грязной тряпке у порога, виляешь хвостом: ах, пожалуйста, дайте отпуск, ах, нет ли случайно оставшейся путевочки… Ордена… Хрен в рот, а не ордена.
Ну, был бы я разгильдяй, нарушитель. А то же на хорошем счету, да и требую-то свое, законное.
Я уж не говорю о графике отпусков. Пишешь одно, семья рассчитывает, а Кирьян, одним росчерком, – как ему удобнее. Сам-то за лето дважды в отпуске был. И демагогически удивляется: два месяца – и уже устал? Не мужской-де это разговор.
Ему хорошо рассуждать, летая 25 часов в месяц: три Благовещенска с разворотом, днем, по расписанию (единственный рейс, которым летает амурское обкомовское начальство).
Дождался плана на завтра. Свободен. Мишка летит с Пушкаревым в Алма-Ату, а мы с бортинженером свободны. Вот так мы нужны отряду, что даже в отпуск уйти не моги. Вот для чего упрашивал меня Медведев продержаться недельку. Ну что ж, я вечерком ему позвоню. Кирьян копает под себя.
11.09. Позвонил Медведеву, он пообещал разобраться. Утром позвонил мой штурман: оказывается, в Алма-Ату он не летит, ошибка вышла, но у Пушкарева штурман улетел по путевке, и Мишка до конца месяца будет летать с ним. Разбор нам Нина напланировала тоже ошибочно. Ну, два сапога пара.
Медведев на мой вопрос, нужен ли я отряду, ответил, что, конечно, нужен, и если Кирьян меня не использует, то он сам найдет, где меня использовать.
Утром съездил за зарплатой; в эскадрилью не зашел, берегя нервы. Сейчас жду план на завтра.
Вчера зашел ко мне по делу Станислав Иванович. Как мой экипаж отдали Лукичу, так они с ним и летают. На мой вопрос, как летается, Стас со вздохом ответил: «Тяжело летать с инспектором, такой… законник».
Я бы с удовольствием вернулся в прежнюю эскадрилью к Селиванову. Там хоть и Вовик М. палки в колеса вставляет, но обстановка человеческая. Но как теперь бросить свой новый экипаж? Правда, Михаил уйдет, Кабанов введется, один Валера Копылов останется.
А Стаса с Пашей мне Лукич теперь не отдаст: с ними надежно.
Вот дурак беззубый, не смог тогда отгрызться от замполита. «Улучшил породу…» Сам стал числиться в разгильдяях, в неугодных. Отдал хороший экипаж…
12.09. В нашей прессе развернулась кампания шельмования американских авиационных фирм, в частности, фирмы «Боинг». Причем, как раз в годовщину инцидента с южнокорейским «Боингом», сбитым над Сахалином два года назад.
Газеты постоянно, мелкими, булавочными уколами, муссируют все мало-мальски опасные ситуации, в которые (как и все другие) постоянно попадают эти «Боинги».
То отказал двигатель, то загорелся, то вынужденная посадка, то катастрофа. Читатель должен твердо запомнить, что «Боинги» – плохие, ненадежные самолеты, а так как их покупает и летает на них весь буржуйский мир, то налицо засилье американских монополий.
Я убежден в засилье этих самых монополий, но меня коробит от околоавиационных аргументов.
Не те ли газеты целый год втолковывали нам и всему миру, что «Боинг» – исключительно надежный самолет, крупнейший с мире и потому обладающий особо надежным и точным, с многократным резервированием, навигационным оборудованием. Иначе, мол, как он мог заблудиться, уклониться на нашу территорию на 500 миль. Шпиён. Тут рука ЦРУ, а самолет – ни при чем, он очень, очень, ну очень надежный, отличный самолет «Боинг!»
Нечистоплотный прием. Раз на нас весь мир ополчился, что сбили мирный самолет с пассажирами, то давай шельмовать и их, и ихние самолеты, и те монополии. Плохие у них самолеты, плохие, ненадежные, опасные, горят, падают, разваливаются в воздухе, а весь мир ну просто вынужден их покупать и летать на них.
Читатель не должен знать всю правду: этих «Боингов» летает по миру во много раз больше, чем хваленых советских самолетов, всех вместе взятых.
Но пепел Шилака, и Фалькова, и алмаатинцев, и каршинцев, пепел многих погибших на наших, хваленых, надежных, ну почти что самых лучших самолетах, – стучит в мое сердце.
Мы, летчики, все летаем в одной стихии. И мне одинаково больно и за наших погибших людей, и за погибших у них. Трагедия всегда трагедия, и нечего мешать сюда политику. Тем более, когда рыло в пуху. Мне стыдно, когда стечение обстоятельств в извечной борьбе человека со стихией становится аргументом в политическом споре. Нельзя смешивать чистое Небо и грязную политику.
Мало того, у них ведь наши катастрофы освещаются так же, как и их катастрофы у нас. А у нас о катастрофах на наших самолетах – две строчки. Все хорошо, прекрасная маркиза. Вот – гласность. Мы сами, летчики, не знаем точно, что же все-таки произошло у Фалькова, в Алма-Ате, в Карши. А нам же летать.
Позвонил вчера в план: отдыхаю. Значит, не нужен я сейчас отряду, а весь сыр-бор разгорелся из-за самодурства Кирьяна. Вполне возможно, он в последний день перед отпуском засунет меня в трехдневный рейс. Слетаю, куда я денусь, но надо уходить из этой эскадрильи. Будем считать, что эксперимент замполита по «улучшению породы» во 2-й АЭ не удался. Скорее, наоборот: я из передовых сам попал в худшие.
Ну ладно. Пять дней не летаю. Сон плохой, верчусь, но все же в режим втягиваюсь. Правда, ослабленный организм мгновенно среагировал на похолодание: прицепился насморк, редчайшее для меня явление. Ничего, впереди еще полтора месяца отпуска, оклемаюсь.
16.09. Так и не трогали меня. Неделю просидел дома, убедился, что без меня вполне обойдутся. Вперед наука.
Вечером с трудом засыпаю, но, в принципе, сон уже восстановился. Ох, как я себя люблю, как пекусь о своем здоровье!
Нет худа без добра. Сегодня первый день отпуска, а я практически в форме, отдохнул за недельку в полном безделье, если не считать вчерашнего дня: весело и шустро убирали картошку. Лег спать и подумал: боже мой – вот она, жизнь-то, вот чему надо радоваться. Живу, дышу, как все, свобода, покой. И целых полтора месяца впереди. Я их честно заработал, и жаль только, что наши порядки таковы, что униженно выпрашивая свое, кровное, становишься почему-то нехорошим.
Ну да хорошим у нас можно быть, только усердно подставляя шею под любое ярмо и безотказно влача любую тяжесть, бессовестно наваливаемую в и так уже нелегкий воз. Это называется ставить общественное выше личного.
Отдыхай, Вася!
30.09. Две недели пролетели как миг. Стоит золотая осень, стоит долго: уже листопад, в разгаре, а погода звенит, и земля отдыхает после урожая.
Просидел под машиной в гараже. Ездил за грибами. Сложил Вите Колтыгину печь с камином. Работаю на даче. Ни дня не приседал, устал физически. В душе покой. Еще целый месяц впереди.
Летать не хочется. И думать о работе не хочется. Я уже настроен на пенсию. Но два года надо еще протянуть, пока Оксана кончит школу и поступит в институт. И уедем куда-нибудь на юг, купим домик…
Хорошо класть печи. Творчество. Приятно, когда по кирпичику за два дня складывается человеку тепло и радость. И дом из сарая превращается в уютное гнездо. Спокойная, несуетная работа.
И это – все?
14.10. На даче. Окончен трудовой день. В камине неспешно тлеет полено, потрескивает, а я нежусь в тепле, тем более что на улице сыплет снежок. Все, осень кончилась.
Ночами вдруг просыпаюсь, мучают мысли о предстоящем выходе на работу. А не хочется. Еще две недели впереди.
На работе куча новостей. Пришло новое НПП, изучают. Зачеты к ОЗН принимают у экипажа в кабинете командира ЛО. Ну, правильно: я и не ходил на занятия, предполагая, что зачеты все равно придется сдавать.
Но главная новость приятно ошеломила. Правда, ошеломить приятно трудно, но… сняли моего разлюбезного Кирьяна. Конечно, не моими молитвами пришло к нему возмездие, но и не без моего участия: вырезанный талон мой тоже сыграл свою роль, и отец-командир пострадал из-за меня, разгильдяя. Но и за множество своих грехов он пострадал тоже. И Нина схлопотала выговор: тоже есть за что.
Вкушаю новое для меня чувство: мести, не мести, – но справедливого возмездия. Чувство приятное.
У меня никогда не было врагов, ко всем я относился ровно и доброжелательно. Но за этот год пришлось потрепать нервы и с Кирьяном, и с Ниной, – и поделом им. Устроить в эскадрилье каторгу буквально всем: ни тебе отдыха, ни рейс попросить; ответ все один: не нравится – ищи другую работу. Ну, пусть ищет теперь сам.
Ввелись практически четыре молодых командира. Отправили документы, но Москва вернула: без высшего образования – пусть летают вторыми. Теперь у нас вторых – пруд пруди, а командиров нехватка. Опять без выходных, без проходных; каждый полет с новым вторым.
Мишке отпуска так и не дали. И печку я ему не сложил, а уже снег на дворе.
Угас камин. Дотлевают последние угольки… Тихо вокруг, только издали доносит ветром шум проходящего поезда. Ноют руки, приятная усталость размягчила тело, так спокойно, хорошо…
Завтра снова за молоток. Отдыхай себе, Вася.
22.10. Последние сухие и ясные деньки, с заморозками по утрам; через неделю ляжет снег.
Убивался на даче: к морозам довел до ума мансарду; теперь в любой мороз я на мансарде разжигаю буржуйку – и через полчаса можно работать.
Два дня клали с Мишкой печь у него на даче. Я добился, чтобы он подготовил качественный раствор, и такая работа у нас пошла – одно удовольствие. Оба довольны, у обоих гора с плеч, и Мишка поил меня вчера коньяком и, нажравшись, орал романсы, с крестьянской простотой обтесав и выкинув из них самые тонкие нюансы, но зато – во все горло.
Осталась неделька отпуска. Месяц вкалывал не разгибаясь, похудел. Зато сна мне хватает 7 часов. Еще бы месячишко так отдохнуть…
24.10. Когда взлетаешь в сырой, пасмурный день и самолет тяжело вползает в мокрую вату облаков, кажется, что весь мир хмур и ненастен и что весь путь предстоит ползти в неуютной сырой массе, то и дело швыряющей в стекло горсти мелких и противных капель. Поневоле заглядываешь в локатор: не скрывает ли этот тягучий и бесконечный кисель притаившуюся грозу.
И когда в кабине вдруг начинает резко светлеть, так, что больно уже глазам, и самолет начинает подпрыгивать, и голубые пятна пробивают серый цвет редеющих туч, – вот тогда вспоминаешь, что есть на белом свете солнышко, что есть и сам белый-белый свет; вот тогда судорожно хлопаешь себя по карманам: где очки? Но и сразу же другая мысль: по верхней кромке обледенение должно быть обязательно. И еще мысль: где-то здесь дежурят… с топорами… Как бы его сразу осмотреться и оценить обстановку насчет гроз.
Секунды – и вылетаешь в огненное море света, и верхушки взволнованной облачности, сыпанув напоследок по стеклам дымчатым слоем ледяных кристалликов, уходят вниз, а кругом – ясное, огненно-голубое, яркое, бьющее по глазам, много его, все заливает…
Уходят вниз, на глазах замедляя сумасшедший бег, волны застывшего облачного моря. Потом вдруг опять приближаются снизу, тянутся, убыстряют бег, несутся, мелькают под крылом, вот-вот зацепим… Вот несется черная гора, прямо в лицо… дух захватывает.
Но все в моих руках: одно легкое движение штурвалом – перелетаем и гору, и еще целые хребты, и все проваливается, теперь уже насовсем.
Легкий лед растаял; две-три наковальни стоят, но в стороне; путь свободен, и совсем другое настроение. А те, кто остался внизу, на земле, и не подозревают, какое сегодня яркое солнце, какое просторное и широкое небо…
28.10. Ничего, Вася, скоро и неоднократно испытаешь ты это опять. Завтра на работу.
Очередная новость. Бугаев запретил набор высоты и снижение на автопилоте. Ему в кабинете показалось, что летчики дисквалифицируются, не крутя руками штурвал. Видимо, где-то что-то произошло, связанное с автопилотом, – и весь аэрофлот должен страдать.
Ну, правильно. Он же не летает с тремя-четырьмя посадками ночью, когда надо силы беречь.
Ну да бог с ним, с маршалом нашим профсоюзным. Жизнь свое возьмет. Покрутим немного руками, а там… забудется, успокоится, главное, лишь бы расшифровщики не придрались. А там и отменят.
Глупо. Я всю жизнь использую автопилот, а обделенным себя не чувствую. Нет, неумно так рубить, сплеча. Это шаг назад.
30.10. Вчера вышел на работу. Ожидается на днях приказ о назначении нового комэски, а Кирьяна – пилотом-инструктором. Он формально числится еще командиром, но фактически устранился от всех дел. Меня спросил, как я отдохнул, как набрался сил. Вроде без нажима спросил, и я спокойно ответил, что отдохнул и набрался. Но мы прекрасно понимаем друг друга.
На Нину все волокут, и назревает с ней серьезный разговор, имеющий целью ткнуть ее носом в должностную инструкцию и поставить на место.
Все те инциденты между нами, которым я придаю так много значения и которые пьют так много моей кровушки, – для моих начальников лишь эпизоды, уже забытые; их в день бывает десяток: народу много, у всех проблемы.
Значит, надо быть более наглым, требовать свое и показывать зубы, не стесняясь никого. Я огрызаться не умею, но жизнь учит.
И, главное, задавить укоры совести. Я ни в чем ни перед кем не виноват, наоборот, прав только я, и надо добиваться своего, рвать когтями. И не брать ничего в голову. Работа работой, а здоровье дороже всего. Исповедуя такие взгляды, я только-только скромно подтянусь к общему уровню.
Да только как не брать…
Почему-то в мозгу плотно утвердился мой срок: 86 и 87 годы – и все. Двадцать лет полетаю, и достаточно. Мне будет сорок три года – половина жизни. И начну жизнь сначала, но уже по собственному желанию: режим, независимость, спорт, минимальные запросы, книги, природа…
Но это не значит, что надо работать спустя рукава и дотягивать до срока. Я отнюдь не утратил интереса к своей профессии. Тот критический взгляд, что в последнее время обострился во мне, не должен мешать главному. Хоть и много формализма в работе, хоть и будет его еще больше, летать я все равно буду с удовольствием. Сам процесс полета, слияния с машиной, борьбы со стихией, остается тем же, и даже, чем старше становлюсь, тем больше обостряется ощущение полнокровной жизни.
А уходить надо по той причине, что на противоположной чаше весов постепенно накапливается груз тех отрицательных моментов, устранить которые в течение ближайших лет невозможно. Это и внережимная работа, и еда ночью, а сон днем, и нарушение работы желудочно-кишечного тракта; это и все больший уклон к всеобщей «академизации» летного состава, когда всерьез, с трибуны, заявляется, что командиром самолета первого класса человек без диплома просто не имеет права быть; и давящий страх, что случись что с самолетом – по моей ли или не моей вине, – заставят платить, опишут имущество, и потеряю все, что нажил…
На все это уходит нервная энергия, так необходимая непосредственно в полете. И я думаю, если к этому прибавить эгоистическую жалость к столь любимому себе, которого разрушает этот образ жизни, – то меня хватит лишь на пару лет. Доводы разума, что необходимо изменить жизнь коренным образом, возобладают.
Ведь и вправду, с такими нервами я продержусь еще несколько лет, но уже – буквально на нервах, а потом сорвусь. Если спишут, то уже останется лишь догнивать. Обычно наш брат на пенсии долго не живет: отдав все авиации, ничего не оставишь для себя, одна водка, да воспоминания.
Значит, не надо отдавать все авиации. Я всегда был сторонником умеренности во всем. И ведь впереди, в принципе, еще половина жизни, свободной от забот, мелочной суеты, риска и стрессов.
Правильно написал в газете один свежий пенсионер: да я и жизнь-то увидел лишь на пенсии – и как же она хороша!
Сегодня разбор объединенного отряда. Обычно с такого разбора уходишь с тягостным чувством, потому что либо там кого-нибудь порют, так, что шерсть летит, либо рисуют мрачные перспективы. За 10 лет в большой авиации я сделал для себя определенный вывод: с результатами таких разборов лучше знакомиться потом, чтобы получить голимую информацию, избегая эмоционального стресса.
Приехал за 10 минут до начала: зал полон, мест нет, и сотня человек толкается у входа. Тут же немедленно развернулся и уехал домой. Не стоять же, в конце концов, в углу, три часа.
Вообще, в последний год у меня резко снизилась общественная активность. Не хочу бывать на разборах, занятиях, семинарах, собраниях. Не вижу в них проку: одна видимость деятельности, напрасный перевод времени в дугу.
Зато усилилась внутренняя работа, обострился критический взгляд на жизнь, жжет потребность если не изменить что-то, то хоть увидеть пути.
Только что закончилась эпопея с подготовкой отряда к полетам в осенне-зимний период. Это постоянное формальное мероприятие, долженствующее показать вышестоящему начальству, что весь личный состав охвачен, очищен, напичкан, отрегулирован и смазан к зиме.
А я себе разгильдяй. Я в это время просто отдыхал. Не был на занятиях, на конференции, не сдавал зачеты, только индивидуальное задание за два часа написал, а главное – не попал в приказ. Не могу летать. Теперь со мной надо проводить занятия, принимать зачеты; и вот хожу ежедневно в отряд, готовлюсь индивидуально. Потом пассажиром полечу на тренажер. И в результате во мне что-то изменится таким образом, что я стану к полетам готов.
А вот то, главное, что действительно жизненно важно, – что мне дают старого склеротика-штурмана, за которым глаз да глаз нужен всегда, – это мелочи. Ершов справится. Да и то: не хотел в отпуске, как все, на занятия прийти, картину испортил, парадность, – получай себе штурмана, уж какой есть, и благодари, что вообще дали: их не хватает.
Я не в силах изменить этот порядок, значит, надо принимать его как есть, приспосабливаться. И по возможности избегать формальных мероприятий.
Пришли молодые вторые пилоты. Дали бы мне одного, я б его доводил потихоньку до ума, вот и был бы стимул.
Валеру от ввода отстранили из-за отсутствия диплома. Для второго пилота он летает прекрасно. А это вообще молодые ребята, только и полетали вторыми на Ил-18, желание летать у них больше. Поговорить, что ли, в эскадрилье. Ну, утрясется с начальством, поговорю.
Недавно на разборе с Ковалевым был беспрецедентный случай. Он как-то полетел в Москву, а Домодедово закрылось. Он хотел сесть во Внуково, но там тоже погодка была уже на пределе, и диспетчер порекомендовал ему уйти в Калинин, на военный аэродром.
Валере бы сесть во Внуково, да и все, но раз диспетчер рекомендует, а в Калинине погода хорошая… Короче, ушли они в Калинин, а там же военные, никто Ковалева не ждал: ни связи, ни радиосредств, ни огней на полосе… Красная армия отдыхает. А топливо на пределе.
Хорошо, у Валерия Ивановича штурман толковый: быстро пересчитал все, привязался к шереметьевскому РСБН, настроил НВУ и вывел машину ориентировочно на центр ВПП в Калинине. Стали строить маневр, давай кричать в эфир; докричались, им ответили, развели дебаты, а надо ж садиться: топлива на 20 минут.
Короче, строили маневр без радиосредств, одновременно прикидывая возможность сесть в сумерках в поле. Как потом рассказывал Валера, у него от напряжения схватило живот, чуть не обгадился. Смех смехом, а решался вопрос о жизни и смерти; и полторы сотни душ за спиной…
Кое-как красноармейцы включили средства, благо, штурман завел машину подальше да пониже; вышли в створ. Увидели, наконец, полосу и сели, буквально на соплях, матеря в эфир товарища полковника, который все не разрешал посадку, пока не увидел самолет, повисший над ближним приводом.
Дело раскрутили, полетели звезды, к папахам попришивали уши, а Валеру, как водится, сперва потаскали, постращали, а потом вроде как вышел приказ о поощрении.
Скоро сказка сказывается… Прошло лето, Валера уже успел схлопотать ни за что выговор, весь в обиде, что, мол, как несправедливо наказать, так моментально, а как наградить…
Выговор он получил буквально «за горло». Стоял он на Львов, а тут вдруг понадобился экипаж на Тбилиси. Туда мало кто провезен; вот и резервный экипаж, не имея провозки, отказался лететь. Валерий Иванович провезен везде, но на указание дежурного командира изменить задание и лететь на Тбилиси, резонно возмутился. Дежурил командир не его эскадрильи, а изменить задание может лишь тот, кто его подписал: командир летного отряда или вышестоящий начальник. Пока искали начальника, Ковалев, ругаясь с дежурным командиром, подписал решение на вылет и ушел на Львов. Тем временем подоспело указание старшего начальника отправить Ковалева на Тбилиси.
Не так-то просто взять и мигом перенастроиться с Львова на Тбилиси, как будто экипаж – бездушный винтик. В спешке и запарке можно наделать ошибок: не тот сборник в БАИ захватить, допустим, или еще что, – а обвинят ведь тебя, а не кого другого.
Ковалев все равно отказался, и тогда его вообще отстранили от полета, а рейс его выполнил резервный экипаж.
Отцы-командиры ругались тогда в кабинете у Медведева, уточняя права дежурного командира, я сам слышал в открытую дверь, но лейтмотивом разговора было все-таки то, что рядовой – и отказался, да еще и носом тыкал начальника в закон!
Короче, нашли формальную зацепку и для науки выпороли.
И тут этот разбор. И Медведев, после того выговора, торжественно собирается вручить Ковалеву за посадку в Калинине именные часы: мол, я казню, я и милую.
А Ковалев встал и на всю катушку оттянул наше начальство вдоль и поперек, сверху донизу. А потом всенародно отказался от ценного подарка. И Медведев так и остался с протянутой рукой…
В общем-то, эта демонстрация хорошо чесанула по нашему бюрократическому подходу к людям.
Я бы вряд ли решился на такое. Правда, я сам не присутствовал, передаю со слов коллег. Но – силен Ковалев. Он мужик горластый, скандальный, но способен на поступок.
Вышел приказ по Карши. Упирают на высокую температуру: на 16, 5 градуса выше стандарта. Это тьфу.
Свалились они в горизонтальном полете на автопилоте, причем, «по невыясненной причине» убрали газы, потеряли скорость и, в конце концов, свалились в плоский штопор.
Виноваты, оказывается, КБ Туполева и ГосНИИ ГА: безосновательно разрешили летать с большим весом на больших высотах.
Основание-то было. Надо ж было внести свой вклад в эффективность полетов. 139 взрослых и 53 ребенка разного возраста…
Штурман эскадрильи, в которой работал погибший экипаж, говорил, что все склоняются к мысли, что экипаж уснул. А потом что-то произошло, и спасение было лишь в одном: штурвал полностью от себя и взлетный режим, – и, потеряв тысячи две-три (а не 650 метров, как гласит РЛЭ), может быть, и вышли бы.
Короче, полетные веса на потолке снова уменьшат, и прилично. А насчет 16,5 градусов – летали мы тысячу раз…
31.10. Сдал зачеты, 3-го лечу пассажиром на тренажер.
Пришло изменение в РЛЭ. Полностью переработан раздел «Посадка». То, что я предлагал три года назад, наконец-то обрело силу: интерцепторы выпускать в момент касания, а насчет кнопки – разрешили и включение реверса в момент касания (при этом автоматически выпускаются внутренние интерцепторы, и кнопка не нужна). Ну, правильно, жизнь подтвердила.
Но рекомендации… Следуя РЛЭ, надо самолет плюхать с вертикальной скоростью 0,5-1 м/сек. Задницей бы о бетон с такой вертикальной…
Зато расчет точный. Ну, да, слава богу, хоть отменили дурацкий заход по продолженной глиссаде. Ничего, мы уж как-нибудь посадим и в расчетное место полосы… и помягче.
Много внимания в РЛЭ уделено тому, как ставить ноги на педали. Ну да педали у нас, и правда, на уровне мировых колхозных стандартов; некоторые пилоты и тормозят нечаянно раньше времени, случайно придавив педаль чуть сильнее.
Есть рекомендации, что если уж самолет потащило вбок с заносом (это ж как надо его крутануть перед приземлением!) и полностью отклоненные педали не дают эффекта, – отключить управление передней ногой.
Это – то же самое, как если бы неопытного шофера занесло на льду, а он руля крутил бы до упора, когда колеса идут уже поперек хода. Так вот, при отключении управления передние колеса у нас сами установятся по ходу – хоть мешать не будут. Это ладно.
Но потом, когда каким-то чудом пилоту удастся восстановить управляемость машины и вывести ее параллельно оси полосы, в чем я, впрочем, очень сомневаюсь (и что за асы умеют это делать, да еще рекомендуют другим?), – так вот, после этой экстремальной ситуации рекомендуется тут же опять включить управление передней ногой. Правда, оговаривается: при нейтральных педалях.
Сомневаюсь, чтобы пилот, пусть даже опытный, попав в такой оборот, с мокрой спиной, с колотящимся сердцем – пронесло? не пронесло? – смог проконтролировать, нейтрально ли он держит педали трясущимися ногами. Надо же еще и тормозить – полоса-то кончается, а известно, как неравномерно на гололеде хватают наши тормоза слева и справа: ноги никогда не нейтрально, помогаешь рулем и передней ногой.
Короче, выкинет ведь с полосы к едрене фене, с этой рекомендацией.
Мы с Кузьмой Григорьевичем только переглянулись. Нет уж, дудки, что-что, а ногу отключать не стоит. Шерсть кой-чему не защита. Лучше перед торцом не допускать отклонений, чтоб не занесло на пробеге.
Но зато, правда, все внимание уделено главному: самолет должен двигаться параллельно оси ВПП. Я за это ратовал всегда и рад, что этот основополагающий фактор безопасности на посадке наконец-то занял в РЛЭ достойное место.
Вчера утрясали вопрос, как мне с экипажем слетать на тренажер. По идее об этом должна болеть голова у начальства, а мое дело – позвонить в план и явиться на регистрацию, а билеты мне передадут.
Но сейчас зима, и если я сам не позабочусь, то и буду сидеть: план маленький, народу много, не к спеху. Да и начальство косо посмотрит, что, мол, Ершову все до лампочки.
Поэтому я взял это дело на себя. Сбегал, выписал требование, настоял, чтобы экипажу, который нас будет везти, дали указание уступить нам очередь на тренажере: им сидеть три дня, а нам добираться пассажирами назад. Отлетать – и в тот же день через Москву рвануть домой, чтобы не застрять на праздники в дороге. Удивительно, но мою позицию ретиво отстаивал Кирьян.
Все это так, но нет паспортов членов экипажа, и мне в кассе отказались выдать билеты. А годовых служебных, которые должны быть в штабе и выдаваться экипажу в подобном случае, нет, все разлетелись. С годовым билетом проще: пришел на регистрацию, предъявил билет; есть места – в кассе быстро выписывают бумажные, и в путь. Но сейчас рейсы забиты, мест нет, да и хотелось бы лететь сидя, а на стоя, как это сплошь и рядом бывает. Летим ведь – есть места, нет мест, – летим…
И вот сегодня (уже утро 1.11.) придется ехать в штаб и выяснять этот вопрос, выбивать все же годовые билеты, чтобы не дергать экипаж из-за паспортов.
Съездил. Никому ничего не надо. Были годовые билеты, но по ним в Ташкент, на тренажер же, улетели Александровы.
Ну что ж, отметим в плане, чтобы экипаж явился за 2 часа до вылета на регистрацию с паспортами: будут ли места или нет – улетим.
Собачья система: тебе надо – ты и добивайся, а не хочешь – сиди. А не нравится – уходи.
Простоял минут сорок в очереди на автобус: у них, видите ли, обед. Хорошо, что тепло оделся, – и то, замерз.
Вот такие маленькие гирьки, а все ложатся на другую чашу весов…
Топлива снова нигде нет.
Ограничили на нашей ВПП предельный коэффициент сцепления: 0,35 вместо 0,3, и ветер боковой на 4 м/сек меньше – это из-за отсутствия подготовленных боковых полос безопасности.
Запретили взлет и посадку в сильном ливневом дожде: видите ли, сопротивление возрастает и т.п.
Ограничили минимум в снегопаде: 1000 м на посадку, 600 на взлет. Зачем тогда эти тренировки на понижение минимума?
Короче, кругом жмут, а нам летать и принимать решения.
И погоды начались отвратительные. Пока сажают пассажиров, снег облепляет самолет; пока удалят снег и обольют «гамырой», заряд подойдет, будем ждать минимума на взлет; пока будем ждать погоду, снег снова налипнет, будем снова ждать очереди на облив…
Сколько раз бывало: сажают пассажиров, считают, пересчитывают, а ты сидишь как на иголках и все поглядываешь то на трап, то на туман, на глазах уплотняющийся и закрывающий фонари, то снова на трап… Материшь службу перевозок открытым текстом, а рабочее время идет, рушатся планы, перестраиваешь себя на новое решение. Ох, гибок пилот, ох, приспособляем!
2.11. Я вчера возмутился, что трачу личное время на билеты, а Нина мне сказала: кто же виноват, что у нас такой порядок. Начальник штаба сказал, что чтобы забронировать нам место по телефону в ЦАВС – это ж целая эпопея. Надо подать рапорт командиру предприятия, исписать кучу бумаг, ехать договариваться в агентство, – и это все из-за того, что раз в год экипажу приходится слетать стоя.
Стану ли я трепать нервы, убивать дни, свой отдых и здоровье, добиваясь решения проблемы? Нет, я слетаю стоя. И не раз, а четыре раза в год. Промучаюсь ночь туда, ночь обратно, и все. А посвятить жизнь борьбе за то, чтобы другие исполняли свои обязанности, – да лучше головой об стенку. Я своей семье в агентстве билеты в отпуск брал, так два дня болел.
Значит, что же – позиция стороннего наблюдателя?
Большинство так и живет. Себе дороже искать справедливости, добиваться порядка. Иди, иди себе. Пош-шел на….!
Но ведь все планы в нашей великой стране рассчитаны на то, что если все мы возьмемся дружно…
Каждый должен честно работать на своем месте. Чем виноват тот же Кирьян, та же Нина, что в их инструкциях нет указаний добывать нам билеты на тренажер? Я на себя не могу добыть, а им что, больше надо – на всех-то добывать? Кто виноват в том, что летаем десять лет, а своего тренажера в отряде все нет?
Мы на разборах сигнализируем. На каком этапе наши сигналы, предложения ложатся под сукно? Но двадцать лет не могут наладить отрядный телефон, и секретарь парткома на собрании разводит руками.
Так уж лучше я молча долетаю свои два года и сохраню силы начать жизнь сначала. Какой резон списываться по здоровью, угробив его в бесполезных нервотрепках, в то время как мое дело – летать.
Я жить хочу, я еще не стар, еще есть какое-то здоровье, интересы, стремления, еще не очерствел душой. Нет, большая часть жизни в авиации прожита. Хоть и есть что вспомнить… но готовиться надо к жизни на земле, сохранить здоровье. А на мое место уже пришли: стоят за спиной два вторых пилота-академика, с компьютером в кармане, с активной-активной жизненной позицией и с очень высоким уровнем притязаний.
Мне бы только научить летать хоть одного. Потому что, в конце концов, между выбиванием билетов, стоянием в очередях на автобус, войной с тетями Машами, есть еще и главное наше пилотское дело – летать.
И вот выходит, глядя со стороны, что шагаю-то я не в ногу. И не туда. И позиция не та. В то время как вся страна… с небывалым подъемом… тра-та-та!!!
Почему так?
Почему я выкладываюсь в полете весь, без остатка, числюсь на хорошем счету, активный общественник… а позиция не та? Ну был бы лентяй, сачок, равнодушный, пьяница, хапуга, – а то ведь нет, наоборот, люблю полеты, доброжелателен к людям, не пью, не гребу под себя, не рву изо рта. Должен бы первый подхватить знамя перестройки – и вперед, в бой с недостатками! А я боком-боком – и в кусты.
Интересно, хирург так же должен бегать выбивать инструменты, донорскую кровь, койку своему больному? Или шахтер – шланги к своему агрегату? И шофер – запчасти, учитель – учебники, продавец – товар, диспетчер на ГЭС – воду? И сейчас, под новые лозунги, так и кинется в Саяны с ломом и лопатой, долбить лед, чтоб тот скорее таял и вода закрутила турбину?
А у нас, выходит, так. И сторонний ли я наблюдатель, когда наивно полагаю, что все это – не мое собачье дело, а мое дело – пришел в самолет, а там меня только и ждут, чтобы откатить трап. И мне ли добиваться, чтоб так было? Или тысячам других исполнителей, каждый из которых лишь должен честно трудиться на своем месте?
5.11. Слетали на тренажер, и, надо сказать, нам всю дорогу чертовски везло.
Протолкавшись пару часов на ногах и уже собравшись уезжать домой из-за отсутствия мест, все же выстояли до последнего, чтобы совесть была чиста, – и нашлись места.
В Ростове с ночевкой устроились легко, а утром ростовчане не пришли на тренажер, и мы отлетали вместо них.
Через два часа первым же рейсом улетели в Москву, во Внуково в магазине набрали продуктов и, сделав морду лопатой, влезли в автобус впереди полутысячной очереди.
В Домодедово, хоть и не было мест, первым же рейсом улетели с нашим экипажем, пробравшись на самолет зайцами (правда, в самолете оказалось тридцать свободных мест). И в семь утра сегодня уже были дома.
Я считаю все это великим везением. И хоть две ночи не спали, натолкались прилично на ногах, но все же цель – формальная отметка в задании на полет, что мы прошли тренировку на тренажере, – была достигнута.
На тренажере мы сделали три захода на посадку с пожаром двигателя, стандартным разворотом. Все три раза не попали на полосу: гонялись за тангажом. Уже и распределили обязанности: я захожу, а Валера следит только за тангажом и скоростью, – все бесполезно. Тангаж отнимал все внимание – и мое, и его.
Раз вывалились из облаков на 60 м: деревья неслись под крылом, все было в туманной дымке; я мучительно искал на горизонте полосу, таская штурвальную колонку туда-сюда, а машина то вскакивала в облако, то вываливалась и ныряла к самым верхушкам деревьев. Я судорожно выхватывал ее, краем глаза пытаясь поймать тангаж по прибору, но вариометр скакал по десять метров вверх и вниз. Легкие движения штурвалом вызывали сумасшедшие скачки авиагоризонта, и в конце концов мы упали в лес и покатили прямо по деревьям.
Инструктор уже дал нам просто взлететь, выполнить стандартный и сесть с обратным курсом, но из-за тангажа мы все равно не справились и упали за полосой.
Зло взяло: столько суеты – и ради чего?
На разборе инструктор предложил нам посмотреть, как он сам слетает и справится.
Милый ты мой, подумал я, ты же сроду не летал на Ту-154, ты и не представляешь, каково почувствовать эту машину в полете. Зато освоил тренажер.
Как много в нашей жизни людей, умеющих прекрасно создавать видимость – и убежденных даже, что все это и есть самая реальная жизнь, – но беспомощных, коснись до дела.
Итак, ради создания видимости, что экипаж прошел подготовку на тренажере, отработал ситуации, уточнил все нюансы подготовки к полетам зимой – и теперь безусловно готов, может летать и справится, – ради этой видимости мы и переводили время в дугу на вокзалах, в автобусах, самолетах, гостиницах.
В прошлом году Кирьян отправил нас на тренажер как раз под 7 ноября. Зная, что перед праздником из Ростова не улететь, все забито, не желая мучиться, мы договорились с экипажем, поставили литр водки, передали презент тренажерщикам, и ребята слетали без нас, отлетали сами, уговорили инструктора тренажера и привезли нам задания на тренировку с той же формальной отметкой. И нас допустили к полетам, и мы спокойно отлетали зиму, а как – я уже описал.
Мы, конечно, в Ростове сделали замечания по тангажу, но, судя по реакции инструкторов, им глубоко плевать на механику; теорию же они спрашивают строго.
Но от такого пилотирования мне как пилоту мало проку. Был бы тренажер наш собственный, можно было бы еще добиваться.
Но и возможности наших отечественных тренажеров – на уровне мировых колхозных стандартов. И у экипажей к ним отношение соответствующее. А в министерстве думают иначе. Если вообще думают.
Кому нужна эта видимость работы?
12.11. Событие. КВС Валентин А. выкатился в Норильске на концевую полосу. Ему дали взлетный курс 194, потом переиграли на 14, потому что был попутный ветер 5 м/сек; он психанул, дал газу чуть не взлетный режим и помчался на 14. За 600 метров до конца полосы начал тормозить и, на сухой полосе, в мороз -30, выкатился на 170 метров, порезал колеса.
Перед этим рейсом он просился отдохнуть, устал, вымотался. Но ему сказали: слетаешь. Вот, слетал.
Это, скорее всего, нервный срыв, но у нас в психологию не вдаются, а тупо пытаются добиться, почему он, разгильдяй, негодник и пр., – вот почему он рулил быстро, почему плохо тормозил и т.п.
Потому что перед Норильском он толкался в АДП, несколько часов на ногах, нервничал, может, с женой поругался накануне. Кому это надо. Надо знать, почему выкатился, а при чем здесь жена?
У нас в отряде слишком много предпосылок к летным происшествиям, поэтому командование собрало сегодня отцов-командиров и нас, сирых, командиров воздушных судов. И провело интимную беседу в узком кругу: из управления был лишь начальник ЛШО, но он наш, доморощенный, свой.
Пять часов мы всухомятку жевали безопасность, причем, Яша Конышев пытался направить разговор в русло того, как мы, командиры, плохо обеспечиваем пресловутую безопасность, а мы, командиры, наоборот, все упирали на квартирные условия, планирование, транспорт, телефон, на жен, детей и пр.
Нам были розданы анкеты, где мы должны были высказать свои соображения о том, как мы понимаем безопасность полетов, что, по нашему мнению, можно сделать у нас в отряде, какие руководящие документы надо бы изменить; коснулись и производительности, и просто оставили место для предложений.
Я изложил свои взгляды на двадцати строчках, мелким почерком. Но что это изменит. Может, хоть телефон наладят?
Все наши беды – сверху. Лично от нас зависит лишь точность параметров полета – с этим мы справляемся. Мы вполне обучены. Но как много валится на нас сверху. Информация, еще информация, страх, порка, запугивание, зачеты, занятия, бумаги, бумаги, еще бумаги, подписи, росписи, – тысячи! И все это мешает, выводит, дергает, треплет нервы, – и большей частью влияет, ох как влияет на безопасность.
Это точно, как я пришел на кардиограмму – уже запуганный, испереживавшийся, что она не идет, уже на взводе, с пульсом, – а медсестра уложила меня, прилепила присоски и орет:
– А ну, не волнуйся! Говорят тебе, успокойся! Ты почему волнуешься? Будешь волноваться – не пойдет кардиограмма, спишут! Так и знай!
Вот так нас «успокаивают». А потом удивляются, что на пилота так влияет разговор с женой.
Жевали Валеру Ковалева. Ему пришло-таки звание «Отличник Аэрофлота», а он, в обиде, обещал, что и от звания откажется, написал рапорт, что наказали несправедливо. И вот Конышев должен собрать материалы для ответа, в том числе и наше, рядовых командиров, мнение.
Мнение наше, в общем, одинаковое. Ковалев, хоть и способен на эпатажный поступок, но его до такого поступка довели. Тоже срыв.
Начальству же нашему – срыв, не срыв, – а пришел на работу – выполняй.
Вот этот взгляд начальства сквозь личность рядового летчика – самый весомый камень в ту, другую чашу весов.
А Юре Белавину, штурману Ковалева в том злополучном полете на Москву-Калинин, вручили вполне им заслуженный в сложной обстановке знак «Отличник Аэрофлота».
Вчера вернулись из Москвы. Разговелись после отпуска. По закону подлости сразу нас взяло за шиворот и швырнуло в самый водоворот.
Запросили дома запуск – нам передали, что у нас в слитом три дня назад масле только что обнаружили какую-то медь и надо менять машину.
Протолкались три часа на ногах, заменили, перегрузили, поехали.
Взлетел я нормально, хотя некоторая скованность и чувствовалась, но все было в ТУ. Проверял меня Рульков, не лез.
Снижались в Москве вручную, это немного связывало, правда, заход был с курсом 317, с кругом, и я вполне освоился; но не получилась связка: «третий – шасси – закрылки – газ».
Третий выполнял на скорости 400, на малом газе; скорость падала, до 390, но медленно; я дал команду выпустить шасси, но Кузьма Григорьевич не спешил, все убеждался, что без крена (хотя никто не запрещает выпускать в крене, но среди стариков бытует антинаучное мнение, что тогда поток может сломать створки… невежество). Пока он убеждался и выпускал, скорость стала падать энергичнее; я использовал все хитрости, чтобы, не добавляя режим, поддержать ее: потерял припасенные на этот случай 20 метров высоты, потом еще 20, – но уже было около 350; я дал команду «Закрылки 28», но Кузьма Григорьевич не торопился: еще горели красные лампочки промежуточного положения шасси, и загудела бы сирена.
Выматерившись про себя, я сунул газы; тут лампочки погасли, и Рульков, наконец, выпустил закрылки. Чтобы добрать потерянные 20 метров и занять высоту 400, я дал машине вспухнуть, теряя скорость; добавил еще газу, а тут уже подошло начало четвертого, и все внимание ушло на директорную стрелку.
Скомканный этап и потеря скорости – вот, пожалуй, одно нарушение за весь полет. Краем глаза видел, что запас по сваливанию по АУАСП доходил до полутора градусов. Это допустимо, но явно грязновато. Специалист…
Посадка была хорошая, 1,2, по оси, чуть с перелетом (Рульков любит повышенную скорость на глиссаде). Сразу стал тормозить, но почувствовал, что местами гололедик: автоматы юза подергивали.
Сзади, как всегда, висел борт, пришлось подсуетиться и поскорее освободить полосу. Рулить в Домодедове, по гололеду, извращаясь по перемычкам рулежек за машиной сопровождения, – не самое приятное дело.
Назад взлетали вечером; шел мокрый снег, и мы уже предвидели, что можем и застрять.
Застряли на три часа: была пересмена, и два РП передавали-принимали полосы, потом их чистили; ветерок менялся, сцепление слабое… Короче, выжгли полтонны топлива работой ВСУ, а его и так не густо: Москва заправкой не балует.
Потом была очередь на запуск. Заплакали Ил-62-е, что им на Камчатку, во Владик, а время кончается, – выплакали. А нас, сирых, выпустили только через 40 минут.
В полете диспетчеры предлагали нам эшелоны выше 11100 (есть уже разрешение – правда, с ограничением веса), но до Красноярска еще не дошло, мы не расписывались; отказались. Как бы чего не вышло.
Вся Сибирь закрылась туманами, Красноярск тоже; сели в Кемерово. Там завал: Ил-86 и четыре «Тушки». Мест в гостинице нет, валялись на креслах в самолете. Потом три часа на ногах: пробивал посадку пассажиров, пока в Красноярске медленно улучшалось. Как дали 1300 м, мы взлетели. На подлете дали 1000, потом 900, и мы собрались в Абакан. Но замерили еще раз, «получше», дали 1000, и я зашел в автомате. Было, и правда, 80/1000, но сел я уверенно и мягко, как и в Кемерово: где-то 1,1.
Так что разговелся. Как и не ходил в отпуск.
Вчера был разбор отряда. Пороли Валентина А., пороли по старой, испытанной схеме: «Почему нарушил? Почему выкатился?»
Да потому, что летает. Кто не летает, тот не нарушает. Ждем вот приказ о снятии его, старого командира, во вторые пилоты.
Я рулю быстро. Но предусмотрительно. И притормаживать начинаю за версту. Уроки Шевеля…
Не думаю, чтобы Валентин рулил хуже нас всех; скорее всего, он зевнул. Зевнул торец полосы, приняв за него торец трехсотметровой бетонной концевой полосы безопасности. Ночью я и дома иной раз тоже издали путаю огни, но приучен притормаживать далеко заранее.
По расшифровке магнитофона они и вообще молчали-молчали, а потом вроде как вопрос, удивленный такой: мы что – выкатились? Значит, никакой тревоги и не было. Просто зевнули. Но вот это-то и непростительно командиру. И счастье-то, что убытку – всего пять порезанных покрышек, даже не лопнули камеры, да еще сбитый фонарь.
Тем и сложна наша работа. Он спокойно зевнул торец; я спокойно пропустил под крыло бетоноукладчик, Шура Ш. спокойно свернул на непригодную рулежку…
Надо все время быть начеку, в напряжении. А не хватает сил – ищи другую работу.
Сегодня началась эпопея на Владивосток. Из Северного я не дозвонился до АДП, но по городскому связался с ПДСП, Все есть, но чистят полосу.
А боялся я за топливо. Осипов вчера нас обрадовал, что топлива – на один день работы, что по Союзу 30 портов без топлива, 11 на ограничении, и что лучше до конца года не будет, да и после – тоже не будет. И вообще – лучше не будет. Когда такое говорит с высокой трибуны зам. начальника управления, то как-то иначе начинаешь воспринимать Основные направления… которые до 2000 года, – особенно в части, касающейся именно твоего вклада. Руки опускаются.
Сидим в гостинице, кое-как нашли места, все врозь; я – в однокомнатном нумере, ребята – кто где. Тараканы путешествуют по мне. Поговаривают и о клопах. Профилакторий закрыли. Начальник оного, промучившись полгода и устав биться головой о стену, сменял полученную здесь квартиру на город и уволился. И сестра-хозяйка тож. И еще двое. Некому работать.
Воды в аэропорту нет. Поэтому нечем развести реагент, чтобы полить полосу и расквасить на ней лед. Но шевелятся: из Северного идут машины, помогут чистить.
От нечего делать пошли в эскадрилью. Беседовали с командиром АЭ, штурманом ЛО, – проводили предварительную подготовку к полетам на равнинные аэродромы.
Центровка нашего лайнера, после многочисленных изменений, как я уяснил, составляет: на взлете, для веса 100 т – 23-27 процентов; для 98 т – 22 процента; на посадке – 21. Стоит ли запоминать: завтра придут новые изменения. Сами отцы-командиры уже запутались в изменениях к нашему РЛЭ. А нам – надо знать. Но все меньше и меньше хочется лезть в эти дебри, да и зачем? Цифры эти – сами по себе, центровщик считает; а мы знаем, как загружать практически, чтобы было удобно пилотировать. В полете руль высоты покажет центровку.
16.11. Проспали мы до 4-х утра, но это не сон был, а легкая дрема: ходьба, стук дверей, бесцеремонное орание теть Маш в коридоре постоянно капали на мозги. Но все же это не в самолете на креслах, где в бок постоянно давит пистолет, а по ногам ползет струя холодного воздуха от дверей, стучат клапаны заправки и грохочут под полом загружаемые ящики.
Пассажиры уже сидели в самолете, и мы быстро взлетели, развернулись в низких облаках и легли на курс навстречу восходящей Венере.
Самолет попался кривой; я повозился с триммированием, пока автопилот приладился выдерживать курс.
Пока мы перекусили чем бог послал, заалел восток, совсем заглушив поднявшуюся Венеру.
В разрывах облаков показался черный Байкал, и не успел я пролистать газету, как уже вошли в зону Читы. Экипаж работал слаженно, и мне осталось лишь дождаться, пока все подготовятся к снижению и отдать необходимые команды. Поистине, в полете только и отдыхаем.
Зашел, сел, правда, чуть грубовато: пытался выполнить все так, как рекомендуют. Ну, что ж, и так, конечно, можно летать.
Зашли в вокзал, купили в киоске книг, чтобы было что читать на два дня во Владивостоке. Я приобрел повести и рассказы Льва Толстого и давно приглянувшуюся мне книгу Филоненко «Хлебопашец» – о Терентии Семеновиче Мальцеве, которому как раз исполнилось 90 лет. Так и читал ее весь полет до Владивостока – благо, погода была ясная и условия полета простые.
Ребята работали хорошо, и я только контролировал путевой угол на поворотных пунктах.
На снижении начались вводные. Циркуляр плохо давал погоду. Контроль плохо слышал: как оказалось, там натаскивали стажера, а разобраться в нашей связи непосвященному и неопытному нелегко.
Километры летели, а штурман все не мог сделать расчет: мы не знали погоды, условий, посадочного курса и на какую полосу.
Кое-как добились погоды от диспетчера, но он никак не мог уяснить, что нам же нужна полоса: правая? левая? – чтобы настроить КУРС-МП на ее маяк. Привода тоже барахлили.
В конце концов, все узнали, настроили, быстро прочитали карту, попутно по команде снизились до 8600 – на автопилоте, по старой привычке (расшифруют – выпорют), – и тут где-то рядом повис попутный борт. Стажер запурхался, как нас развести; в результате мы потеряли время, и пришлось снижаться, догоняя глиссаду.
Все еще было поправимо, несмотря даже на попутный ветерок, который потребовал еще большего увеличения вертикальной скорости.
Круг дал нам разрешение заходить на новую полосу, предупредив, что садиться надо с перелетиком: на полосе камешки. Какой перелет может быть на самолете первого класса. Я решил садиться по продолженной глиссаде, чтобы перелететь метров 600-700, на оценку три, но – в ТУ.
Метров с семисот земля переиграла, не захотела рисковать, и нам дали посадку на левую полосу. Был сильный ветер, болтанка, я корячился, но дал команду перестроить частоты, помня уроки Абакана. Ничего у них не работало, заходил и сел я визуально, контролируя глиссаду по удалению. Сел хорошо.
Захотелось есть, т.к. в Чите тоже не было воды и нам не дали питания на полет. Прямо наваждение какое-то с водой.
Выспались, отдохнули, еще выспались, еще отдохнули; я с удовольствием сходил пешочком свои шесть километров в Артем, по хорошей погоде; потом поел, почитал, поспал, дождался информации, что самолет вылетел по расписанию, уложил экипаж, а сам пишу. Самое лучшее время и место для этого – здесь, перед вылетом.
Купил в Артеме книгу для школьников о профориентации. Интересно, что психологи относят работу летчика (как, кстати, и продавца) не к сфере техники, а к сфере знаковых систем, т.е. операторской деятельности. Правильно, но не совсем. Если, конечно, контроль по приборам считать работой. Но руки-то нам еще нужны пока. Правда, сам автор тоже говорит, что это утверждение спорно.
Вообще говоря, книга умная.
О Мальцеве книга хорошая, и я не требую от автора художественных высот, да и он сам, видимо, не задавался такой целью. Но характер выписан хорошо.
Мне в Мальцеве импонируют любознательность и осмысление бытия, трудолюбие, верность делу, аскетизм, целеустремленность, истовость, смелость, творческое начало.
18.11. Из Владивостока вылетели по расписанию. По прогнозам везде был туман, и я долго перебирал варианты принятия решения на вылет, заправил лишние две тонны, зная, что топливо в таких условиях почему-то может понадобиться, несмотря на то что, по рекомендациям кабинетных ученых, каждая лишняя тонна топлива это 80 кг перерасхода в час. Это – при прочих равных, стерильных, кабинетных условиях.
Но у меня условия были конкретные.
В Чите решил сесть по своей методике. До ближнего привода шел строго по глиссаде, подбирая время от времени режим в зависимости от изменения ветра по высотам. Метров с сорока-тридцати сдернул один процент, прижал вертикальную и плавно подлез под глиссаду на одну точку по прибору. Сразу вышло так, что иду строго в торец полосы, как оно и надо бы делать везде. С двадцати метров плавно стал уменьшать угол, не глядя уже на приборы, но зная, что вошел в стандартную глиссаду в пределах двух с половиной-трех градусов. Скорость была, чуть с запасом. С десяти метров убрал еще один процент двигателям и еще вдвое уменьшил вертикальную. Замелькали знаки, зашипел особым звуком воздух у земли, и мне осталось лишь дождаться доклада штурмана «Два метра», предупредить рост угла тангажа, а проще – чуть прижать нос к земле – и замереть. Уже так сядешь на пять, но, выждав две секунды, пока погаснет лишняя скорость, я чуть добрал.
Это «чуть» и определяет мягкую, как вздох, посадку. Остальное – дело техники.
В Красноярске ожидали холодный фронт. Еще во Владивостоке прилетевший экипаж предупредил нас, что дома тепло, слякоть. Значит, теплый сектор, а за ним неизбежно придет фронт.
Одного взгляда на карту у синоптиков хватило, чтобы уяснить картину. Глубокий, ярко выраженный циклон с центром севернее Красноярска; самые густые изобары, а значит, самые сильные ветра, – от Новосибирска к Иркутску; фронт прошел уже Кемерово. Перед фронтом ветра юго-западные, за фронтом переходят на северо-западные.
Когда строили наш аэропорт, то без мозгов. Заложили полосу 288, когда основные направление сильных ветров, с осадками, ухудшающими видимость и коэффициент сцепления, – как раз 210. Вот Северный – там полоса заложена правильно: 222.
Ну, да у нас много умников поработало, сделав основным курс 108, поставив туда ОВИ, в то время как ОВИ-то нужнее на действительно основном курсе 288.
Ох как много у нас в жизни делается наоборот, с курсом 108. Или, как испокон веков говаривали наши пилоты, «с курсом 42». В Северном заход с этим курсом ракообразный: с гор, по крутой глиссаде, через город, привода друг от друга через 12 км, перед торцом проходит шоссе. Так и вошло в поговорку: если что несуразное, то это «с курсом 42».
Пролетали мы два года в новом аэропорту, худо-бедно справлялись. Этой же осенью, после того, как в ЦК КПСС оценили работу Аэрофлота неудовлетворительно, начались указания «с курсом 42».
Умники из ГосНИИ ГА постигли, что, оказывается, в дождь все не так. И сопротивление-то увеличивается, и вес самолета тоже, и подъемная сила падает, и вообще летать нельзя. Тут же нам «порекомендовали»; в сильных ливневых осадках, когда видимость менее 1000 м, взлетать и садиться запрещается. А раньше было можно.
Весомый, ох, весомый вклад в повышение безопасности полетов. А на запросы с мест, в каких же осадках запрещается, какая-то умная головушка разъяснила: независимо от фракционного состояния. Дождь ли, снег ли, все равно.
И ОВИ не использовать: видите ли, дворники наши не обеспечивают видимость огней на полосе.
Я летал во всяких условиях, и не семи же пядей во лбу, – но бог миловал, ливень особо уж так не мешал. И режимы держал те же, и не чувствовал, что, оказывается, машина тяжелее и сопротивление больше. Нет, не тяжелее и не больше. И это дает мне право усомниться, как сомневается и весь летающий аэрофлот.
Может, где-то в тропиках… Но только не в средней полосе России. И уж точно – не в снегопаде.
А миллионы народные пущены на ветер одним росчерком пера. Это сколько же возвратов и задержек добавится!
Зато – меры приняты.
Не отстали и наши местные власти: тоже надо же внести свой вклад, да и обтекатель себе на задницу не помешает. Начальник управления ограничил на нашей полосе коэффициент сцепления до 0,35 и боковую составляющую ветра уменьшил на 3 м/сек. Нет боковых полос безопасности. А куда ж вы смотрели, принимая в эксплуатацию новый аэропорт?
Короче, я из Читы принял решение не вылетать, потому что боковой ветер в Красноярске хоть и проходил по РЛЭ, да не вписывался в новое указание.
И множество бортов ушло на запасные, и сидели в Братске, Кемерово, Абакане, Енисейске. Валялись на креслах в салонах экипажи, стояли в вокзалах сотни пассажиров.
Трудности роста.
А нам повезло. Мы спали в гостинице, только в туалете из-за отсутствия воды было неуютно, приходилось приспосабливаться.
Утром выспались, позвонили, расшевелились, кое-как закончили посадку пассажиров. Ветер дома к тому времени подвернул: пошли вторичные фронты, улучшился коэффициент сцепления (все же чистили полосу)… но началась метель. Лететь еще было можно, но желательно скорее, чтобы не замело снегом полосу.
На исполнительном старте к нам на связь вышел одессит, вылетающий из Читы во Владивосток. Оказывается, в суете нам забросили несколько мест его багажа. Плюнули, вернулись; правда, нам сделали все быстро, перекидали багаж, и через 20 минут мы взлетели.
На подходе ухудшилась видимость, до 1100 м, и повернул и усилился ветер. Обещали болтанку, я принял решение садиться с закрылками на 28. Валера крутил до третьего разворота, я отдыхал. Заряды были с видимостью 500, но на полосе давали 3000 и ветерок под 60 градусов, 9 метров, сцепление 0,6.
Знаю я этот ветерок… Трепало, у земли начало подбрасывать, но сбереженных сил хватило, и я сумел подвести на метр, замереть, и сам удивился, как в страшной болтанке, именно в нужное время и в нужном месте, машина прилипла к полосе, пересекаемой косыми полосами поземка.
В АДП нервно курил инспектор, допытываясь, не с «Ила» ли мы, а то Ил-62 чуть не зацепил крылом бетон на посадке, так его болтало. Зато «Тушки», по его словам, все садились хорошо.
Ну что ж, нам нынче больше повезло, чем «Илу».
21.11. Час дозванивался и так и не дозвонился в план; добрые люди сообщили: стоим завтра в 6 утра местного на Абакан-Домодедово, обратно – пассажирами. И еще неизвестно, кто погонит из Абакана на Москву: мы или абаканцы. Скорее всего, абаканцы.
На этот рейс почему-то нет проверяющего. А вот на регулярнейший Благовещенск я еще в жизни сам не летал.
Но надо уточнить.
Бился-бился над телефоном, в план так и не дозвонился, стал обзванивать ребят. Оказывается, стоим через Абакан на Москву дополнительным рейсом, больше никакой информации. Слухи о возврате пассажирами не подтвердились.
По приезде в порт выяснилось: рейс туристический, через Абакан-Свердловск. И обратно так же, через три дня.
Когда можно сделать Москву с разворотом, ночью, заработав за ночь 70 рублей, это одно, а когда с шестью посадками, при наших-то погодах, да за трое суток, да явно не ночью, а половину днем, а получить за это еще и на червонец меньше, – это уже совсем другое. Здесь проверяющему делать нечего.
Лег спать в гостиницу, т.е. приехал на ранний вылет поздно вечером. опять крутился на неудобной койке; при свете фонаря за окном видны были ползающие по стенам сытые, как желуди, тараканы. Только задремал, как вдруг всего передернуло: ползет, гад, по пальцу…
Уснул под утро, через час разбудили на вылет. Вот с таким предполетным отдыхом пришел на самолет; там как всегда неувязки, задержали на 40 минут.
Дул порывистый боковой ветер. Взлетал я, на пустой машине: для балласту бросили в передний багажник тонну груза и посадили одного пассажира. В ведомости была записана загрузка 8600 кг. Это чтобы товарищ экономист успокоилась: рейс производительный.
Порочна же наша система… Ну да мне, после бессонной ночи, грузи хоть дерьмо, только плотнее закрой, чтобы не воняло. А уж воздух возить нам не впервой.
Но из-за предельно задней центровки управляемость машины была чрезмерной, а вот устойчивость оставляла желать много лучшего; тут же допустил кучу нарушений: крен завалил до 35, скорость при уборке закрылков выскочила за 360; я пялил штурвал на себя, доведя перегрузку до 1,5… правда, болтало хорошо.
Самолет был кривой, курс ушел, и я всердцах загнал было триммеры в самые углы, потом долго искал нейтраль, балансировал самолет и сам себя стыдился. Чикалов…
Пока шель-шевель, пора снижаться. Я забыл указание и снижался на автопилоте, плюнув на все: а – семь бед, один ответ. Привычное горькое чувство кандалов. На хрена мне, пилоту, такая работа, когда, прежде чем шевельнуть рычагом, надо задавить установившийся стереотип действий, перестроиться, – потому что так надо дяде.
До Васюгана я подремал, взбодрился. Лететь пришлось через Пермь, потому что в Свердловске и Челябинске не было горючего. Снизили рано, пришлось болтаться на малой высоте, напрасно выжигая топливо; сели с остатком 5500. Погода была серенькая, и, зайдя в АДП, я в журнале отзывов о работе посадочных систем увидел, что предыдущий экипаж садился в условиях, близких к минимуму. Мелькнула мысль: с паршивой овцы хоть шерсти клок; я тут же пошел на метео и наврал, что низкая облачность, и получил заход по минимуму. А то подсчитают мои заходы, и если за год не наберу три штуки, повысят минимум.
Я уже говорил, что иногда и в более простых условиях заходишь с мокрой спиной, а другой раз дают минимум при погоде миллион на миллион. Как я летаю, я и так знаю, поэтому совесть моя чиста, а три захода в этом году есть.
В Москве садился Валера: разговелся, наконец, и он. Москва подсунула вводную: срочно сменила полосу, старую продували змей-горынычами, а нам пришлось перестраивать привода и курсо-глиссадную на новую. На четвертом развороте нам внезапно предложили заход на старую полосу, мы согласились и успели перестроиться, но пришлось лишний раз все проверить и прочитать карту, отвлекаясь от контроля выполнения 4-го по приборам.
Ну, а так бы ушли на второй круг и даром сожгли полторы тонны топлива.
Обычно с туристами экипаж сидит субботу и воскресенье; но это же Москва: у нас тут колесо, и мы тайно надеялись, что поставят в очередь, как это обычно делается. Так и вышло: стали в колесо, сэкономив сутки, а туристов вывезут другие.
Назад я летел очень спокойно, отоспавшись в домодедовском профилактории, чистом и тихом. Ночь прошла незаметно: читал, подсчитывал данные по строительству дома, поглядывая периодически, где мы и как мы. Заходил Валера, немного рыскал, но сел мягко. Очень спокойный полет.
Сегодня вечером опять в Москву, 102-м рейсом.
В ста метрах через дорогу от нашего профилактория, в лесу, отгороженном от мира заборами, шлагбаумами и запрещающими надписями, стоит приземистое здание, где я никогда не был. Там тепло, там – холлы, бильярд, бары, буфеты, сауна, ковры, финская мебель, цветные телевизоры, прямой телефон с городом.
В ста метрах напротив – наш профилакторий, предназначенный для отдыха экипажей перед вылетом. Там холодно, нет воды, негде поесть, туалеты загажены, отравленный воздух, сквозняки, мухи, тараканы бегают по щелястым стенам, клопы пьют кровь по ночам, неудобная, разбитая мебель, солдатские койки, нет постельного белья, а то, что есть, – сырое, двери не прилегают, шаги в коридоре сотрясают койки в камерах.
То приземистое здание – вроде бы «депутатская комната», хотя зал для депутатов есть в вокзале, и ни один депутат в лесной депутатской не был. Кто там был и для кого эта роскошь, я не знаю. Здание себе стоит; за всем этим великолепием следят люди, получают где-то зарплату.
Те же, кто там изредка весело проводит время, с высокой трибуны заявляют нам: лучше не будет, и не ждите.
Когда не будет погоды для вылета, мы будем ожидать в ста метрах друг от друга: я – в клоповнике, а кто-то – в сауне. Потом я, глотнув в буфете жидкого кофейного напитка, прибегу на самолет, согреюсь там и, может быть, буду докладывать сытому, распаренному человеку, что мой экипаж к его полету готов. И повезу его через ночь и непогоду, глотая слюну в ожидании, когда же мне принесут кусок синей аэрофлотской курицы.
Конечно, если бы он вместо своей сауны сходил бы в общественный туалет на привокзальной площади – это недалеко ведь, метров триста, – да попытался бы отправить естественные надобности (это, заверяю, нелегко!), – вот тогда, может быть… Но фантазии не хватает.
28.11. Слетали мы в Москву, с картинками, но слетали. Писать об этом не хочется. Справились.
Обратно летели по расписанию. Когда все в порядке, работать легко и приятно. И взлетел спокойно, и эшелон набрал, и спать не хотелось, и поужинал по-человечески, и заход на посадку рассчитал спокойно, и посадка удалась.
Бортинженер мой до меня летал с Петуховым, очень хвалит его, считает непревзойденным асом и жалеет, что собачья работа вынудила того бросить все и уйти на пенсию в расцвете мастерства.
Так вот, Петухов убирал газ на эшелоне и добавлял его лишь после довыпуска закрылков перед входом в глиссаду. Это искусство.
Я вчера попробовал подойти к кругу чуть повыше, третий выполнил на 700, выпустил шасси и закрылки, но многого не учел, да и штурман тоже: боковой ветер на кругу, боковое удаление, место третьего разворота, – короче, рано-таки потеряли высоту, и пришлось идти три километра на газу, все равно как проверяющему высокого ранга.
Ну да возможностей сколько угодно; будем шлифовать.
Сегодня в ночь лечу в Киев. Утром пришли из Москвы, чуть поспал, с трудом заставил себя проснуться и полчаса лежал, не в силах отодрать чугунную голову от подушки. Но вставать надо, иначе, если доспать до конца, вечером не уснешь перед новым вылетом, – а которая ночь подряд…
Чувствуя противную дрожь во всем теле и привычное легкое жжение в груди, как всегда после утреннего сна, заставил себя пройтись по морозцу в гараж. Немного отошел.
Сейчас посижу еще часок и попытаюсь вздремнуть перед ночным полетом. А назад лететь тоже ночью: отдых 12 часов в Киеве придется на день.
2.12. В 1967 году нас, вторых пилотов Ан-2, пришло в Енисейск восемь человек. Сейчас, через восемнадцать лет, осталось летать двое: Володя Расков и я.
Остальные – кто замерз на охоте, кто умер от водки, кого из-за водки сняли с летной работы, кто сам ушел, понимая, что вот-вот выгонят.
Отчего пьют пилоты? Молодежь – от мальчишества и больших для пацана денег, стремясь подражать более опытным, кумирам, подражать по-мальчишески, во всем.
Кто постарше, пьют с устатку. Устаток есть, подтверждаю. Втягиваются в стереотип: работа, устаток, расслабка. Такова жизнь.
Расслабка преследует цель: снять напряжение и выплеснуть накопившиеся эмоции. Посторонний нашей специфики не поймет, и пьют в своей компании. После второго стопаря начинают летать, начинается разбор.
Ну а как быть непьющему? Да белой вороной, как и везде. А вот куда девать эмоции и как снимать напряжение? Спорт с нашей работой несовместим, хотя бы из-за внережимной работы, а разовые «оздоровительные» кампании, вроде кроссов в День бегуна, даже безусловно вредны.
Дачи и сады летному составу как-то противопоказаны из-за неумелых рук, не приспособленных ни к чему, кроме штурвала и карандаша.
Да и сама работа как-то способствует лени, развращает: за две недели ценой нечеловеческого напряжения рванул саннорму – и гуляй, Вася! И никто не моги трогать: летчик отдыхает!
Где еще найдешь такую работу – свободную, не от звонка до звонка… а от взлета – и до крайней в этом бесконечном рейсе посадки. По принципу: работать – до упаду, отдыхать – до соплей. Вот и развивается эдакая лень: танцы-манцы мы не понимаем, а вот как до дела дойдет – тут мы себя и покажем.
Работа над собой требует режима, это школьное правило. Демагог, конечно, заявит, что для работы над собой можно всегда найти время. Но, судя по количеству пьющих в Расее, жизнь диктует свое, и над собой работает не так уж и много людей.
Летчику нужно заложить основы работы над собой еще в школе, в училище, в малой авиации. Но нужен принцип: в авиацию – только волевых людей. Если человек, стремясь к цели, еще в школе поставит задачу: режим, воздержание, спорт, закалка, – то, что делает из мальчика настоящего мужчину, – то никакие соблазны в будущем не собьют его с пути.
Весь вопрос в жизненных приоритетах: что в жизни главное? Уж во всяком случае, не низменные удовольствия, легко дающиеся и обволакивающие ложным сознанием своей «мужественности».
Авиации нужна духовность. То самое чистое золото души, о котором писал еще Куприн. Духовность – нравственная опора летчика в воздухе.
Духовность требует постоянной работы над собой, отказа от низменных, обжорских, плотских удовольствий, таких неважных для настоящей жизни, не играющих в ней решающей роли.
Но не к подвигу должен быть готов пилот, а к тяжелым испытаниям, и кто же знает, как ему выпадут они: сразу кучей или мелкими, нудными каплями. И что тяжелее: взрывное спринтерское напряжение или смертельная усталость стайера.
Мы с Володей еще летаем, остальных в авиации уже нет. Прослеживается четкая мысль: те не летают, кто пристрастился к низменному, растительному, расслабляющему, пресыщающему, бездуховному.
Ну а я – что, духовный? Так любимый собою я?
Очень опасно возвыситься в мыслях над людьми, это неизбежно указывает на однобокость и, в конечном счете, на деградацию личности.
Но в плюсах своих и минусах надо разбираться, по возможности, объективно, чтобы безнадзорные плюсы в гордыне не стали минусами.
Все же летаю. Духовное начало, конечно же, поддерживает мастерство на должном уровне, и есть задел. Не позволяю себе расслабляться.
Но какой ценой… Ценой здоровья.
Пей водку!
В одну телегу впрячь не можно… И предложения периодически расслабляться, снимать стресс, но оставаться при этом тем же, – это несбыточная и опасная мечта. Не останешься, покатишься.
И так ведь снимаю. Дача, строительство, машина, семья, писанина моя, книги, музыка, – не слишком ли идеально для рядового пилота?
Многие удивляются мне, даже иногда вроде примера приводят.
Инородное тело…
Но ведь столько недостатков! Не мужик, нет характера, – одно это все перечеркивает. Слишком терпим, бездеятелен, не способен на поступок. Жалко себя.
Так любимый собою я…
Ну, а Мишка – уж мужик так мужик. Он-то, чуть где что, – «на фиг мне это надо!» «Оно мне надо?» «Мне…» «Я чихал…» «Я…»
«Так любимый собою я» и из него прет – такой знакомый.
Чувствую, за последние годы во мне выросло и окрепло эгоистическое начало. «Так любимый собою я» заявляет все чаще: да пошли вы все к… оставьте меня в покое. Мое «Я» становится безразличным.
Чем это лучше чьего-то утопленного в водке «Я?»
Жизнь стала жестче, жесточе, люди замыкаются. Людям до лампочки все, кроме, конечно, так любимого собою «Я».
Раньше, бывало, выходишь из самолета, пассажиры иной раз и спасибо скажут, ну, хоть старушки. А сейчас нет. Так, видимо, и надо: каждый делает свое дело, ему за это деньги платят.
Так почему же я, дурак, выходя из автобуса, говорю водителю спасибо за его труд? И экипажу после полета?
Это школа Солодуна, а я ее верный последователь.
Какие мелочи.
Это лирическое отступление. А тема-то о летном долголетии.
Занину, Рулькову и Скотникову так же тяжело работать, как и мне, даже еще тяжелее от старости. Но они работают, молча тянут лямку. Может, деньги, может, привычка, может, страх оказаться за бортом. Романтика их давно окаменела, но они тянут – по тридцать пять лет. Это – цельность, которой мне никогда не хватало ни в чем. Это – верность Делу, которой мне у них надо учиться.
Вчера испытал болезненное чувство противоречия. С одной стороны: как же прекрасна моя профессия! С другой стороны, как тяжелый вал, накатывается, вытесняет романтику ком неурядиц, непорядка и безысходности происходящего, – и хочется бросить, уйти, убежать с такой работы!
Слетал в Киев с туристами, на три дня, с самолетом. По расписанию, с топливом (в Уфе все же свой нефтеперегонный завод), с легко выполнимыми сложными заходами, с прекрасными, в одно неуловимое касание, посадками, с ощущением полноты мастерства и расцвета сил.
Но это исключение. Топлива опять нет. Дома не жил неделю, из ночи в ночь, и сегодня утром, прилетев наконец домой, читаю в плане: ночной резерв. Как издевательство незамужней нашей Нины, забывшей, что такое супружеская постель.
Вот это – безвозвратно уходит, это реалии нашей жизни. Но – за это нам деньги платят.
Какими деньгами я потом окуплю то, что нельзя оставлять на старость, как тормоза – на конец пробега или налет – на конец месяца?
Первым делом, первым делом – самолеты, ну а это… это – как-нибудь… потом.
Летчики рано стареют, но об этом не принято писать в книгах. Или уж, и вправду, отдать авиации всю жизнь без остатка?
Не нравится – уходи. Будешь спать с женой каждую ночь, пока еще молод. Или не каждую, если денег будет мало? Вот дилемма, вот выбор.
3.12. Топлива нет. Рейсы переносятся, пассажиров отпускают домой, экипажи висят на телефонах, некоторые по 2-3 дня; многие сидят в рейсах из-за неприбытия самолетов. Нет топлива.
Экипажей не хватает. Поэтому меня и воткнули в этот резерв, где я благополучно проспал целую ночь.
В АДП задерганные телефонными звонками диспетчеры матерят всех и вся. Меня опять хотели поставить в ночь, на перенесенный Ташкент, да, к счастью, у моего штурмана кончилась годовая медкомиссия, а то бы точно еще пару ночей болтался.
Веселая злость… Летное долголетие…
5.12. Пригнали из ремонта самолет, разложенный в свое время Лукичом. Как новенький. Платит ли Лукич за него или нет, никто не знает, а спрашивать бестактно.
Отменили, слава богу, ограничения по боковому ветру и коэффициенту сцепления, введенные в Красноярском аэропорту начальником управления. Зима, мороз; сбоку укатали плотный снег – вот тебе и временные БПБ. Что ж, все к лучшему; мы вздохнули свободно. Было бы еще топливо…
Через три недели у меня годовая комиссия. Надо начинать готовиться.
6.12. Стою на завтра вечером на Москву, но на рейс не выезжать: нет топлива, узнавать по телефону в АДП. У попа была собака…
Так и на кусок хлеба не налетаешь. Ну, зато дома отдохну… верхом на телефоне. А у кого телефона нет – пусть в тридцатиградусный мороз с ветерком попытается дозвониться из автомата.
7.12. Топлива нет. Рейсы переносят на сутки. Скорее всего, и мой перенесут на завтра. В Москве сидят по два-три дня: из Красноярска никак не вырвутся им рейсы из-за топлива. Летят к черту все планы: и производственные, и личные. А это ж не лето – зима.
«Литературка» в статье об авторе – «человеке со стороны», т. е. о писателе непрофессиональном, толкует о плюсах и минусах этого нового, но завоевавшего прочные позиции литературного явления, когда книги пишут врачи, шахтеры, моряки и пр.
А я себе и думаю: профессиональный литератор судит о поползновениях литературных дилетантов так же, как и я бы, к примеру, судил о тонкостях полетов дельтапланеристов, а шахтер, скажем, о рытье колодцев в сельской местности.
Мне интереснее другое: а как судит читатель? Что ему важнее – соблюдение автором литературных канонов, правил и нюансов или то, что за сердце берет?
И еще. Читаю ту же «Литературку», и страх берет: какие глыбы знания, какие тонкости, какие нюансы, какие соотношения, пропорции, акценты и прочие сугубо литературоведческие кроссворды и лабиринты мысли…
Но я отдаю себе отчет и в том, что и по моей профессии написаны кучи учебников, налиты моря воды, разобрано на атомы и электроны, – а я, профессионал, летаю себе, используя едва ли десятую часть всей этой теории, написанной же специально для меня, летчика, написанной со святой, алмазной уверенностью, что это не только поможет мне летать, а и вообще – единственная светлая дорога в потемках летного невежества, и что не выполни я сотую долю этих рекомендаций… немедленно убьюсь.
8.12. Как ни странно, рейс мой, единственный в этот день, отправили по расписанию, потому что литерный. Кого, распаренного, я вез, не знаю, он мне не представился, но дома их провожали с черных «Волг», тащили бегом в самолет ящики, чемоданы. А в Москве уж они сами перли все это на горбу: для Москвы они – шерсть, никто не встречал.
Только запросили буксировку, как закрылся Омск, где мы планировали подсесть на дозаправку. Пришлось задержаться на час, подготовиться на Тюмень, дозаправить еще 4 тонны, не высаживая пассажиров.
Ни до нас, ни после никто в этот день не вылетел. Говорят, поздно ночью подвезли топливо и отправили несколько Ил-62, и все.
Летели мы с приличной загрузкой, а я совсем забыл, что еще в прошлом году экипажи на разборах предупреждали, что на 352-й тяжелый нос. Давно я на ней не летал, а тут попалась.
По всем графикам и здравому смыслу загрузка была распределена правильно, а вот при заходе на посадку руль высоты угрожающе задрался вверх и торчал на верхней границе зеленого сектора, недвусмысленно предупреждая, что на выравнивании запаса руля почти не будет. Вот так же было и у Шилака.
Пришлось на заходе в Тюмени держать скорость на глиссаде побольше, тем более что был сильный боковик слева.
Четвертый разворот нам скомкал безграмотный диспетчер круга: мы отставали от попутного «Туполенка», заход за ним. Сами держали нормальную дистанцию, но диспетчер начал нас водить туда-сюда, задавать курсы, а потом, не контролируя, еще и попытался оттянуть. Но как он нам ни мешал, мы ребята грамотные, заранее себя обезопасили, отстали, и пока до полосы было еще далеко, сумели исправить плоды его руководства.
Руль торчал где-то в пределах 10 градусов, на верхнем пределе, но скорость и так была уже 280, и мне пришлось значительно дольше придерживать машину над бетоном, потом интуитивно чуть добрал и сел мягко, в метре слева от оси. Сцепление давали 0,62, но, судя по торможению, там было не более 0,32. Я краем глаза следил за манометрами, стрелки которых при полностью обжатых тормозах судорожно прыгали, сигнализируя об активной работе автоматов юза. После заруливания спине стало тепло.
Не высаживая, заправились и погнали на Москву. Заходил Валера, был сдвиг ветра, но он справился, правда, с 30 метров я положил руки на штурвал, и газ до малого плавно убирал тоже я. Нас подбросило в процессе выдерживания и чуть снесло по ветру вбок, метров на 4-5, но Валера сел хорошо. Уж тут торможение было прекрасное, а давали те же 0,6.
Сейчас сидим в Москве, нас тут много, а машины не идут, топлива снова дома нет, выпускают по чайной ложке три раза в день, с дозаправкой в промежуточных портах.
Из-за этого топлива все планирование смешалось. Засылают экипажи пассажирами в Москву, а из Москвы тоже улетают пассажирами. Отправляют нас на Абакан, а куда делись отсюда абаканцы, неизвестно.
Дома разморозили гостиницу, в нумерах до -3, резервные экипажи спят одевшись, как на войне. Подозреваю, что это вымораживают тараканов. А напротив – депутатская, с сауной…
Ну да нам за это деньги платят, а не нравится – уматывай.
Витя Мисак с дрожью в голосе повествовал, что за сорок лет жизни это была самая кошмарная ночь, несравнимая даже с полетами и ночевками на Северном полюсе, где, по его словам, рай против нашего профилактория. Шелест и треск дохлых тараканов на полу…
10.12. Вытолкнула нас Москва, заведомо зная, что в Челябинске нет топлива, рейсом на Абакан, а стоявших тут же у окна абаканцев направили на Красноярск. И абаканцы промолчали, что в Челябинске нет топлива, и молча схватили наш спокойный прямой рейс, хотя из Красноярска им потом придется добираться пассажирами. А нам нечего делать, подписали и полетели на Челябинск, где нас встретили отнюдь не с распростертыми объятиями. Топлива таки нет.
Пошли в гостиницу, а пассажиры, уже сутки протолкавшиеся в домодедовском, битком забитом вокзале, в ожидании, пока из Сибири прорвется самолет, пошли теперь осваивать челябинский вокзал.
Таких дураков, как мы, оказалось предостаточно, и пришлось пошустрее забить место в нумерах, оттерев плечом ближнего.
Ночь, вернее, остаток ночи, провертелись в духоте узенькой и до одури натопленной клетушки, а утром дождались своей очереди на заправку, и нас выпинали на Павлодар.
Для сталинского сокола все равно, куда лететь; полетели. Непривычно как-то – днем; летаем все больше ночами.
Павлодар нас принял, правда, пришлось подождать, пока заправят рейсовые самолеты.
Абакан ожидал туман, и мы взлетели, моля бога, чтобы он этот Абакан прикрыл: запасной-то Красноярск…
Бог внял мольбам. Уже было мы затеяли дебаты с Абаканом, кому перегонять машину в Красноярск, как дали видимость 300 метров, потом 100… и мы благополучно сели в родном Емельянове.
Посадки все хорошие, а заходы в Павлодаре и Красноярске были корявые: отказ КУРС-МП, причем, подлый, без бленкеров; система уводила в сторону на полтора-два километра, и спасибо диспетчеру в Павлодаре, что вовремя нас насторожил. Ну, штурман-то был начеку и контролировал по ОСП, но сначала мы так и не поняли. Будь погода сложнее, пока разбирались бы, мы бы не вышли, и пришлось бы уходить на второй круг.
Сегодня на разборе было доложено, что у меня перерасход 6 тонн. Претензий ко мне нет: полетай с пятью-то посадками.
Кирьян сидел в Ростове 8 дней: дважды отменяли рейс из-за топлива. Альянов сидел неделю в Сочи по той же причине.
Подошел сегодня ко мне замполит по вопросу моей агитаторской бездеятельности. Я ему прямо сказал: видите, какие настроения? Что мне говорить? Как отвечать на неизбежные вопросы людей? Он призвал меня не поддаваться настроениям и не уходить от вопросов. Тогда – за что агитировать?
Короче, договорились, что буду продолжать изучение партийных документов, т.е. мероприятия для галочки. О чем, наверное, и Горбачев мечтает.
Участились случаи нарушения экипажами РЛЭ, много расшифровок по мелочам. Нервотрепка на земле порождает наплевательство в воздухе.
12.12. Норильский рейс никто не любит. Там чуть не полгода набирается дней с нелетной погодой. Поэтому, узнав план, с вечера начинаешь тревожиться.
Первое – как добраться на ранний вылет. Если ночевать дома, то надо либо заказывать такси, либо идти пешком, либо надеяться на единственный служебный троллейбус в 4.50.
Я лично предпочитаю в хорошую погоду встать в 4.15 и пройтись час по ночному городу. Подходишь как раз к автобусу. Еще час – и на работе.
Но предварительно надо позвонить в ПДСП, есть ли машина, готовится ли рейс, есть ли топливо. И на метео желательно бы позвонить, но только в Северный, т.к. у нас в Емельяново связи с городом у синоптиков еще нет.
В наших конкретных условиях, когда гостиница разморожена, заезжать в нее на ранний вылет нет смысла. Валера Кабанов рискнул – и провел кошмарную ночь.
А я не позвонил синоптикам. Прошелся пешочком, разогрелся, сел в прохладный автобус и дорогой слегка замерз.
Рейс готовился, но в Норильске был боковой ветер, чуть превышающий норму для коэффициента сцепления 0,35. Анализировать норильскую погоду надо тщательно, и мы, летая туда двадцать лет, изучили все нюансы.
Судя по видимости 8 км, силе ветра 10 м/сек и синоптической карте, можно предположить, что там просто ветер. Никакого снегопада нет, температура -10, просто метет. Значит, полоса заснежена и закатана давно, и если норильчанам надо, они ее будут чистить, чтобы довести сцепление хотя бы до 0,4. Прогноз обещал тот же боковой ветер до 15 м/сек.
Дал я задержку на три часа. Потолкались в штурманской, ожидая, пока откроется штаб: получить зарплату. Я все не мог отогреться.
Получили деньги, пришли в гостиницу, там холодно, но нашлось несколько номеров относительно теплых, из одного из них как раз подняли на вылет экипаж, и мы тут же упали в еще относительно теплые постели, одевшись, под два одеяла; правда, по одному тут же забрала дежурная – для поселяемых в ледяные камеры наших же бедных пассажиров.
Часа через полтора я, наконец, чуть согрелся и уснул, но тут же подняли к телефону. В Норильске начало улучшаться, и мы пошли в АДП. Я заказал разговор с Норильском, из которого выяснилось, что там чистят полосу и просят воздержаться от вылета на два часа. Пришлось толкаться в штурманской.
Потом пришла погода с коэффициентом 0,45, что нам подходило. Я дал команду сажать людей, но следующая погода пришла снова 0,35; я снова заказал телефон и кое-как, через ПДСУ, выяснилось, что там уже 0,5 и давно пора лететь.
Взлетели в 20.30 местного. Вернулись в час ночи. Спать я лег в четыре утра. Встал в двенадцать.
В Норильске садился на пупок и унюхал точно на знаки. Ветра не было совсем. Полоса сухая, и только на обочинах был древний, от осени до лета не удаляемый лед. Кажется, можно было и не чистить полосу: дождались-таки штиля. Но через час снова поднялся ветер, замело.
Дома садился Валера. Из-за нештатных отклонений (обледенение в облаках, отказ планшета, не вовремя включенные штурманом командные стрелки) он потратил много сил и внимания на четвертый разворот, стал дергаться и терять высоту. На прямой кое-как подобрал курс к ближнему приводу, но упустил глиссаду, пошел выше и на повышенной скорости, которую, впрочем, заметил и прибрал режим.
Короче, наметился явный перелет. Я с интересом следил, как он будет выкарабкиваться. Полоса сухая, три с половиной километра; пусть разок перелетит. Будет наука.
Тут ничего не сделаешь. С тоской считал я проносящиеся под нами в четырех метрах знаки: одни, вторые, третьи, четвертые, пятые… Ну, подвесил, так уж подвесил! Спасала только скорость: самолет все же приближался к земле, но не падал. В конце концов, на последних углах атаки, мы таки сели, мягко, с высоко задранным носом, оставив позади с версту чистого бетона.
Лукич во Владике вот точно так же перелетел и выкатился в болото. Ну, Валере информация к размышлению. Я его не ругал, потому что такие отклонения его достаточно шокировали.
Да и устал же он, практически без нормального предполетного отдыха.
Валера ушел в отпуск: сдает вступительные экзамены в КИИ ГА (для ввода в строй – чтоб хоть числиться в вузе), да годовая комиссия подошла. А моя через две недели.
В Норильске встретил однокашника Борю Б., москвича. Он летает во Внуково 2-м на «Тушке». Летел из Тикси или Анадыря. Поговорили. Чем хороша работа: тесен мир, часто встречаешь знакомых.
Он уже было пару лет назад начал вводиться, летал в Шереметьево с левого сиденья, да где-то под Анкарой уклонились, пришла телега, их расформировали, членов экипажа понизили в классе и разогнали по московским отрядам. А ведь был он в свое время лауреатом премии Ленинского комсомола, лучший молодой командир Ил-18… Сейчас разочарован, как и все мы, подумывает о пенсии. Ругательски ругает министерство за коррупцию и групповщину.
Выруливал мимо, помахали друг другу рукой, и – когда еще встретимся…
13.12. Вчера у кого-то не убралась нога после взлета, летал два с лишним часа, вырабатывал топливо, подробности пока не известны, но сел нормально.
В Енисейске три недели назад пропал самолет Ан-2. Его направили по санзаданию, ночью, в сложнейших метеоусловиях, и он пробился, взял больного, но в Енисейск не вернулся.
Подробности проясняются. Днем они полетели в ту же сторону, вниз по Енисею, рейсом, но вернулись из-за сильного снегопада, не позволяющего вести ориентировку. А вечером поступил вызов по санзаданию, в ту же сторону, и командира удалось уговорить.
Куда он сам лез, только что вернувшись из-за непогоды? Как на него нажали, знает лишь он, потому что решение принимал только он, а остальные все отскочили и теперь всячески открещиваются.
Причиной санзадания был криминальный аборт, выполненный какой-то деревенской матреной. Так на двух полюсах оказались обыкновенная гулящая баба и командир самолета.
С легкостью необыкновенной бросаем мы современную технику по любому поводу, не задумываясь. Мы так богаты, могущественны и гуманны… Вот такая гуманность стоила пяти человеческих жизней – из-за погубленной шестой, едва затеплившейся.
Но экипаж отбросил все сомнения и полетел на помощь. Умирает человек – и помчались, пробились, и везли, в снегопаде, ночью, по приборам, без противообледенительной системы, с мокрыми спинами, и молились… о чем?
Последняя связь у них была с Ил-62: запросили погоду Енисейска, радист им передал, а подтверждения не получил. Что-то произошло.
Скорее всего, нырнули в еще не замерзший Енисей, обледенели. Либо шли на малой высоте, и обрезал двигатель, не успели передать.
Я не ратую за выбор: того спасать, а тот вроде не достоин. Но думайте ж головой, ведь вас, за вашу глупость пострадавших, спасая, гибнут люди. Вместо одной – пять смертей: больная, экипаж, врач и медсестра.
Ведь человек, Командир, принимая решение лететь по погоде хуже минимума, сознательно шел на риск, шел во имя гуманной цели: спасти Человека. И проиграл. Мастерства ли, самообладания или просто везения ему не хватило – мы так и не узнаем.
А ты бы так смог?
Сегодня стою на Ростов. Вчера топлива не было, теперь у нас так бывает через день. Так что, вполне возможно, сегодня и не улетим. Будем звонить. Рейс все равно на трое суток, так лучше уж посидеть дома.
15.12. Однако прилетели в Ростов по расписанию.
Новый второй пилот, Толя Можаров. Летал на Ан-2 и вторым на Ил-18, недавно переучился на «Ту», насильно переучили, в связи с сокращением Ил-18.
В Челябинске я показал, как надо садиться; сразу дал взлетать. Ну, сырое дело еще, ясно, но понравилось, как выдерживает параметры в наборе и на снижении: четко. Дал сесть в Ростове: по директору вполне нормально, чувствуется опыт Ил-18, но выравнивание на трех метрах, пришлось помочь.
Стоит с ним поработать. Так-то бедовый, шустрый, не чужд соблазнам современной жизни, – словом, типичный представитель современной аэрофлотской молодежи. Учится.
Немножко суетился я возле него. Хочется сразу всему научить, это моя слабость. Ну да дело не в позе, а в конечном результате. Пока самолет ему нравится, пусть летает вволю. А то за 60 часов никто не осмелился дать парню штурвал – бывшему пилоту лайнера Ил-18!
16.12. Назад вернулись по расписанию, приятная неожиданность. Правда, я почему-то плохо спал перед вылетом, но это мелочи.
Назад оба полета открутил Толя, и, надо сказать, для начинающего – неплохо. Взлет уже получается, посадки мягкие, но куча нюансов, которые будем устранять.
Дома дал ему выравнивать самостоятельно, с дрожью в сердце, и он, хоть и низковато, но справился и сел точно на ось.
Завтра рано утром в Благовещенск. И новый второй пилот.
21.12. В Благовещенск слетали по расписанию. Второй пилот – Миша Жаворонков, сто лет уже летает у нас.
Туда летал я, сел точно на знаки; сзади висел Як-40, и меня попросили поэнергичней освободить полосу, а я в спешке забыл, что эта машина с ручкой управления передней ногой (мы говорим: «с балдой»), искал причину, почему не могу развернуться на 180, потом опомнился, схватил «балду» и успел освободить вовремя. Жалко было «Як», его и так увели из-за нас чуть не в Китай, а тут я по разгильдяйству чуть не угнал его на второй круг; ну, обошлось.
Обратно садился Миша, ну, посадку совершил, как бывает одна на сто. Я позавидовал. Умеет летать человек, да и то: двенадцать тысяч часов… Этого учить – только портить. Но… нет поплавка, и сидит в вечных вторых. Ну, мудаки…
Следующий рейс был в Ташкент, на тренажер. На этот раз летал с Толей, и что-то у него не получилось на посадке. Ага, вспомнил. Там же КПБ перед зеброй, метров триста, – бетонная, как и в Абакане. Я таких полос не люблю, да и кто их любит: поневоле мостишься не на зебру, а на торец КПБ. Я как-то в Абакане сел до знаков из-за этого (ну, и из-за разгильдяйства тоже), и Толя в Ташкенте мостился упасть до знаков; пришлось подхватить штурвал и сунуть газы, и упали на полосу, в общем… ракообразно.
Оказывается, он в Ташкенте ни разу не был. Может быть, для этого придуманы провозки?
Тренажер отлетали довольно хорошо. Во всяком случае, на полосу я попадал и с тремя отказавшими двигателями, и на одном двигателе, захода три-четыре, все понял, правда, бил машину о полосу. Но это у них там так заложено. Зато пилотирование по ощущениям близко к истине; это не Ростов.
На предварительной беседе с въедливо-язвительно-вежливым бортинженером-инструктором, манерами чем-то напоминающим нашего Лукича, я уяснил для себя вопрос, который, казалось бы, не подвержен сомнениям: работают ли интерцепторы от авторотирующего двигателя. Я сомневался, что нет, не хватит мощности гидронасосов на малых оборотах: все уйдет на бустера.
Оказывается, хватит. Тогда проще. Выходит, я был неправ, упрекая конструкторов за мнимые недоработки по интерцепторам. Хотя, если откажут 1-й и 2-й двигатели, интерцепторы можно будет использовать лишь от насосной станции, как я уже продумал. Но это – худший вариант.
Азарт при заходе с тремя отказавшими двигателями столь велик, что пульс подскакивает почти до 200, но увлекаешься, работаешь творчески, интуиция и расчет раскрепощены, – и какое удовлетворение, когда все же попадаешь на полосу!
Все равно бортинженеры ошибаются. Очень трудно, сложно им работать. А инструктора требуют: скорость, скорость и скорость. Вот это-то и погубило экипаж Фалькова, печальную годовщину гибели которого будем отмечать завтра. Воскресенье, соберется побольше народу, поедем на кладбище.
Нет, не скорость. Иначе зачем бы Руководство разрешало использование горящего, но работающего двигателя в течение минуты на усмотрение командира, если, допустим, один двигатель отказал, а второй горит, и надо уходить от земли.
Нет, не скорость. Слишком многое отдано в одни руки, и тут ошибаться нельзя, автоматизм здесь – помеха.
Контроль, взаимоконтроль обязателен. Для этого нужно иметь время. Пусть горит не десять секунд, а дольше, пусть – сорок, – но это ж не четыре минуты; за это время я успею принять решение, дать команды экипажу и проконтролировать действия бортинженера. Закрыть именно тот пожарный кран. Тот – вот главное. И само погаснет.
Так говорил и конструктор Кузнецов. А пожарная система – просто балласт, символ. Гореть там нечему, если перекрыто топливо. А если не перекрыто – бесполезно тушить.
Десять секунд… Это в кабинете десять секунд хватит, ну, на тренажере… А в полете – мало.
На другой день надо было отлетать бортинженеру-инструктору УТО, прилетевшему с нами проверяющим. Мы снова летали, и… оказывается, гораздо легче на второй день. Может быть, имеет смысл летать на тренажере два дня подряд? Или утром и вечером? А то пока настроишься, наломаешь дров.
Назад летели, набрав в Ташкенте кучу книг, и я бессовестно читал всю дорогу, не забывая, впрочем, поглядывать, скоро ли пересечение трасс.
Правда, на самом взлете попали в грозовой фронт – отголоски циклона, принесшего в Ашхабад пыльную бурю из аравийских пустынь. Неожиданность встретить – в Ташкенте, зимой, – грозовой фронт (паршивый, занюханный, до 6500 метров, но – фронт!) оказалась достаточно серьезной: я заметался между облаками, обходя их визуально с кренами до 30 градусов, пока Женя искал пути по локатору. Высота плясала с 4200 до 4500; прямой коридор был закрыт; пришлось обходить западнее; по высоте нас тоже останавливали; топлива было в обрез, запасной не Абакан, а более дальний Томск, – короче, все против нас.
Но, выбившись сверх облаков, обменявшись горячими репликами и успокоившись, мы сумели затянуть газы и даже еще сэкономили тонну топлива, использовав все возможности полета на большой высоте в кстати подвернувшемся струйном течении.
Пассажирами с нами летел экипаж Гены Верхотурова, пригнавшего накануне в Ташкент машину на мойку. Я не мог не показать, как могу садиться… Сумел. Благодарили.
Сегодня вечером – в резерв. Надо на всякий случай приодеться потеплее.
24.12. Слушаю сонаты Бетховена. Такая глубина и мощь мысли, такой взлет духа, такая красота мелодий и ритмов, такая гармония, такая страсть исполнения… что в сравнении с ним большинство этой поп- и рок-музыки, сотворенной тысячами композиторов за все годы ее существования, есть… музыка поп.
Да, видимо, высокое в музыке отживает. То, что пишут современные – Шостакович ли, Прокофьев, Свиридов, еще Шнитке какой-то, – если не песня, то и не нужно никому, кроме нескольких тысяч «подготовленных слушателей». А остальным «подготавливаться» некогда: надо в очередь за кроссовками бежать.
Да и для «подготовленных»: ни тебе мелодии, ни гармонии, ни красоты. Но это на мой сирый взгляд: я ведь привык напевать мелодии Бизе, Моцарта или Бетховена, которые писали не для «подготовленных», а для всех. Для меня.
Напоешь ли Шостаковича? Может, в высоких мыслях, чувствах, взлетах им и не откажешь, но я их не чувствую за частоколом диссонансов. Видать, таки слаба подготовка. Может, там, и вправду, заключено такое, что несчастным бетховенам с шопенами и не снилось.
Однако же я предпочитаю Бетховена и Шопена.
Бетховен мне и понятен, и доступен, и поразителен, и прекрасен, и вызывает такую гамму чувств, какой не вызывают другие, пусть самые модные, самые современные композиторы. Все они, вместе взятые, перед ним – нищета, ополоски. И даже лучшие их перлы – только блестки в оправе, а он над ними – как громадный, сияющий и непостижимый в своем совершенстве, чистейшей воды брильянт.
Грубо? Но это мое личное, для внутреннего употребления, мнение. Кому что нравится. Если тебе что-то нравится и помогает жить – слава ему!
Я всегда тянулся к классическому в искусстве и литературе. В классике не ошибешься; соприкасаясь с великим, вырабатываешь вкус, приобретаешь иммунитет к пошлятине, к дешевому, сиюминутному, наносному, бездуховному.
«Ритм… век… все быстрей…» Мы устали от скорости и от ритма. Кривая прогресса взмывает все выше, но возможности человека не беспредельны. Ритм, век, все быстрей, – а мы уже живем на резервах, заложенных природой в нас для использования на крайний случай. На крайний! Надолго ли хватит резервов?
Вот откуда массовый эгоизм. Самозащита.
Оксана говорит: папа, молодежь должна прыгать под современный ритм.
Вот именно. Прыгать надо, думать уже некогда.
Поставлю-ка еще раз «Лунную…»
Вчера наспех, на скоростях, помянули погибших ребят и девчат. Из резерва примчались в Северный; автобус на кладбище уже ушел, доехали на такси. Народ от могилы уже расходился, садились в автобусы; родственники убирали со стола, где каждый мог выпить и закусить по русскому обычаю. У нас с собой было: пригубили, занюхали; автобусы тронулись, и мы с Толей, боясь замерзнуть (ноги уже прихватывало), успели запрыгнуть в последний. Женя с Валерой остались: один любит поговорить, другой выпить, бутылка их согреет, доберутся; я же не большой любитель выпивать на кладбище.
Год прошел, но все так же больно видеть не угасшее горе родственников, старушку, целующую портрет погибшего сына, глаза родителей, слушающих рассказ очевидца, вытащившего их дочь, еще теплую, из-под обломков…
Мне эта катастрофа всю жизнь перевернула.
В Ташкенте уточнили последние подробности катастрофы в Карши. Там приведена связь экипажа с землей и переговоры между собой. Приведен график набора высоты, это большая фотосхема.
Ну, что сказать. Мы набираем высоту на одной скорости: 550. И, забравшись на эшелон, тут же ставим режим горизонтального полета, потому что после 9600 число «М» плавно нарастает от 0,8 до 0,83-0,85. Они же набирали на 505, 480, 450, 420, 410, 405… и упали. Углы атаки были 7-8 градусов, когда обычно 4-4,5, ну, 5. И достаточно было легкой болтанки, чтобы они свалились. Это был набор на лезвии бритвы, набор высоты экипажем, проторчавшим, на ногах – не на ногах, но при температуре 45, почти сутки.
Видимо, таки уснули. Вот и все. Опытный командир оказался просто самоубийцей.
А я голову ломал… Откажись он лететь – ну ничего бы не было. И ему бы слова никто не сказал. Но… надо, очень надо было в Ленинград.
Царство небесное.
А у Фалькова формально виноват во всем бортинженер. Он доверился горящим табло и запутался в них, не контролируя по дублирующим приборам, стал делать ошибку за ошибкой, а ситуация была настолько нештатной, что он просто выключился и действовал рефлекторно.
И упрекать его язык не поворачивается. Любой бы запутался в этих шестнадцати горящих табло – моделировали же. Никто не справился. Тем более – мальчишка, только из института.
Все-таки достаточно было минуту, ну, две, ничего не делая, определить, какой же все-таки отказал, а какой все-таки работает, и просто перекрыть нужный пожарный кран.
Ага. А определить, какой двигатель остался с обрубленным управлением, и сам себе гуляет? Такую вводную мог бы осмыслить только опытный бортинженер.
Для этого нужен был налет, тысячи часов в воздухе.
Какие там десять секунд…
Как-то ты сам поведешь себя в такой ситуации? Оцепенеешь, закричишь «мама!» или все же скажешь: «Стоп, ребята! Без паники!»
Когда мне берут кровь из вены, я качусь в обморок. Когда мне промывали пробку в ухе, я от непривычных ощущений тоже катился. Сегодня волею судьбы делал рентген желудка – и тоже отхаживали с нашатырным спиртом.
Так может, пора? Может, уйти непобежденным? Разве ж можно так на все реагировать?
Но это все не то. Тут – собою любимый я, и мне сейчас сделают ваву. А там я – в привычной, ожидаемой обстановке, тренированный на все случаи жизни. Да поколи мне вену десять раз – привыкну и буду спокоен. И рентген: не был бы он по подозрению на опухоль пищевода, я бы не был так накручен заранее и перенес бы как всегда.
28.12. Прошел годовую комиссию за три дня, без особых треволнений. Ни кровь из вены, ни знаменитый палец нашего хирурга («нагнитесь, раздвиньте ягодицы…») особо меня не взволновали: неприятно – и только. Кардиограмму и велосипед одолел без эксцессов… и выходит, что я – один из самых здоровых пилотов. Потому что себя, любимого, берегу, а уж в семье меня лелеют...
Налетал в декабре 44 часа, за год – 517. Годик, конечно, был еще тот. Законный год: год за два…
Вчера слетал в Москву. Нормальный полет, только машина попалась туда – с таким тяжелым носом, что я отдирал ее от полосы, стоя на педалях, долгих три секунды, показавшихся мне неделей. И на эшелоне руль высоты стоял в положении 7 градусов. Пришлось садиться с закрылками на 28. Сел мягко.
Загрузка и центровка были обычные. Лед под полом? Бывает: подтекает из раковины в переднем туалете; потом среди зимы гонят дня на три в Ташкент, и из дренажных дырочек капает, капает, вытаивает. Чуть не тонна воды.
Обратный полет – обычный, рабочий, без особенностей. И – конец года. Отдыхаю, сдаю зачеты на продление пилотского свидетельства – и с новыми силами вперед.
Тяжелым был ноябрь. Декабрь чуть полегче, а за последние дни я даже отдохнул. Когда топливо есть, чего ж не летать.
Впереди Новый год (елку еще не добыл), потом сдам зачеты… Короче, недельку посачкую.
Год прошел, год вопросов и сомнений. Много дал он мне, этот год, но и взял…
1986. ПОСАДКА В СОЧИ.
7.01.1986. Сачкую. Сходил раз в резерв. Отдохнул, отоспался за эти дни. Сдал зачеты, т.е. подсунул на подпись зачетный листок. Читаю книги. Два дня подряд взахлеб читал «Цусиму», явившуюся для меня открытием.
В Северном отрезают часть полосы под автомагистраль к новому мосту. Остается 1500 м полосы для Як-40 и Л-410. Кончаются наши перегонки, попившие вволю кровушки. Но кто и как будет обслуживать самолеты? Гонять ли на форму в ближайшие аэропорты других управлений? Это не слаще, чем перегонки в северный, налетаемся пассажирами, насидимся в гостиницах.
Да еще впившийся в нас Абакан, не имеющий своей базы. Лучшие, исправные самолеты – ему, а нам вечно гнать дефективные на базу из Москвы, где у нас происходит обмен.
Короче, гордиев узел, вернее, аэроузел, затянулся накрепко, и, видимо, чтобы его разрубить, по слухам, скоро прибывают к нам сами Полководец наш, маршал профсоюзный, – на совещание в крайком, как представитель заинтересованного ведомства.
Надо же – порт хоть закрывай: дождались. Ну да снова тришкин кафтан начнут латать… за счет гибкости летных отрядов, естественно. Какая-то прозрачная параллель протягивается с «Цусимой», честное слово.
Конечно, Сам с рядовой массой не встретится, ему незачем. Едва ли он и в Емельяново заедет: обычно такого ранга господа садятся в Северном.
Ну да недолго ждать, закроют Северный – куда вы денетесь, окунетесь и в наши заботы. Прижмет снежок на полосе, с тремя-то снегоуборочными машинами, уйдете пару раз на запасной… Или они и господу богу накажут не резвиться с погодой?
Тут еще вторая, едва наметившаяся параллельная полоса, предназначенная для Як-40, стала проваливаться, и намечаемая скорая эвакуация местных линий в Емельяново отодвигается. Короче, проблем хватает.
Угнали Ан-24 в Китай. Якутский экипаж летел в районе Госграницы. Второй пилот дождался, когда вышел в туалет штурман, сказал бортмеханику, что вроде бы из правого двигателя подбивает масло, и когда тот выскочил в салон, чтобы в иллюминатор посмотреть, закрыл на защелку дверь, приставил командиру к горлу нож и заставил лететь в Китай, где и сели благополучно.
Китайцы встретили их доброжелательно, одарили экипаж и пассажиров меховыми куртками и китайскими термосами и отправили домой. Об этом писали газеты.
Второй пилот, кавказской национальности, снимался как-то с летной работы, потом, по указанию из министерства, был восстановлен, но в отряде он на подозрении. Взглядов своих не скрывал настолько, что командир предприятия запретил ему выдавать оружие. Летать с ним все отказывались, и лишь один командир, кавказской же национальности, согласился… за что и слетал в Китай.
Папахи полетели. Летный состав, как всегда, в неведении.
Это все – по слухам.
Вот тебе и слетанность. Людей надо знать. А тут и знать не надо было, и так видно.
10.01. Вчера слетали в Благовещенск, там от якутов несколько более подробно узнали о личности угонщика. Человек с явно завышенным уровнем претензий и характером, неуживчивым до такой степени, что с ним все отказались летать, и вроде бы, именно на этом основании его снимали с летной работы.
Что-то подозрительно, но это – слухи. Он стал писать во все инстанции, что зажимают права человека, представителя нацменьшинства (он то ли лезгин, то ли осетин), – писал вплоть до ООН. Приказали восстановить его, Васин подписал. Восстановили в том же Якутском ОАО. Он к тому времени кончил академию и поставил ультиматум: раз я соответствую – вводите командиром, иначе «устрою вам». От него в очередной раз отмахнулись: ну кому нужен такой командир. Ну, он и устроил.
Полет в Благовещенск задержался почти на сутки: обледенела полоса, а чистить у нас почти нечем. Потом пошел снег, и улучшилось. По мне бы, снег на полосе прикатать – и будет сцепление лучше, чем на очищенной. В Игарке вон всю жизнь так.
Слетал туда я, разговелся после Нового года; все в норме, сел на знаки, но левее метр от оси.
Назад летел Валера, только что вышедший из отпуска. Хорошо слетал тоже. Так бы и всегда.
Валера в отпуске сдал экзамены в КИИ ГА – требуют для ввода в строй. Значит, скоро посадят на левое кресло.
Упорядочили питание пассажиров с Нового года, то есть, перестали их кормить на рейсах, продолжительностью менее 4-х часов. Рикошетом досталось и нам: ретивые чиновники с недельку не кормили и экипажи, пока их не одернули.
Ну, теперь прощай, бульон. А ведь бульон – единственное горячее блюдо в полете, иной раз, за весь день. Готовили его незаконно, это инициатива девчат, дай им бог здоровья. Заливался водой сотейник с курицей, вода закипала, курица шла пассажирам – горяченькая, а нам – навар. Там от настоящего бульона одно название, но с чесночком, лучком, специями, – все же видимость первого блюда. Маленькая отрада была в полете.
Ну да лучше уже не будет. Лучше уже было.
Очень настойчивые слухи, что и зарплату нам «упорядочат». Обычно, когда что-то упорядочивают, страдает в первую очередь рядовой состав, и еще не было случая, чтобы стали больше платить; обычно – все меньше и меньше.
Сейчас у меня средний заработок (начисление) около 600 рублей, это чистыми 520. Если упорядочат, то на сотню будет меньше. Это припахивает уравниловкой: тете Маше все больше, а нам…
Ну, не будем раньше времени брать в голову.
За разбитый обтекатель АНО я наказан, исходя из убытков (5 руб.), – в сто раз больше. Потерял годовые выплаты за безаварийный налет, выслугу и пр. – уже 500 р., а еще 13-я зарплата впереди. Тысяча точно наберется. Это не в сто, а в двести раз получается.
Ну, ничего, за одного битого двух небитых дают.
Хотелось бы узнать, на какой работе существует такая же адекватность наказания цене протупка.
Правда, по показателям работы я в декабре занял первое место в эскадрилье, но… не рассматривают, раз вырезан талон. А за ноябрь подбросили полсотни премиальных, не знаю, за какие заслуги.
Принял я социалистические обязательства на новый, 1986 год. Одним из пунктов стало: повысить производительность труда на 1,5 процента. Написал от фонаря, а там пусть считают. Сие от меня зависит лишь в той степени, в какой сумею увеличить скорость полета при одновременном уменьшении расхода топлива. Это я умею. Вчера сэкономили тонны три по бумагам. Если отбросить заначку, то фактически – тонны две. И – с полной загрузкой, и при этом пять минут сэкономили против расписания.
Так бы и всегда. Но не всегда унюхаешь ветер или температуру на высоте. Хотя я и это, в общем, умею.
Недавно на разборе летного отряда представитель управления сказал, что в министерстве рекомендуют настраивать летный состав не доверять матчасти. Демагогически мы восклицаем: как же так, и т.п. А в жизни мы и так не в восторге от машин, и следим.
Вообще, в министерстве зашевелились. Заговорили о личностном факторе, о том, что слетанность экипажа – чуть ли не важнее индивидуального профессионального мастерства. А я еще помню, как сцепился при сдаче на класс с министерским апологетом раскрепленного метода. Четырех лет не прошло. Я тогда свой взгляд на слетанность отстоял, убедил экзаменатора.
Анкетируют летный состав – заинтересовались мнением рядового Шульца. Поистине, грядут перемены.
Доверие летчиков к диспетчерской службе падает. Если московским верят на единицу (100 процентов), условно, конечно, то украинским – на 0,6, а в Грузии – и вообще 0,18.
Ну, собрали эти анкетки, сложили в шкаф – кампания проведена… а через два месяца те же грузины заводят в горы Як-40; экипаж кричит: куда вы нас ведете? – дает взлетный режим, переводит в набор… поздно. Врезались в гору.
Вот тут и спохватились, достали эти анкеты и обратили внимание на тот коэффициент доверия, 0,18.
Завертелись колеса, теперь и мы ждем, уже и нам есть анкеты: доверяем ли мы врачу летного отряда, замполиту и другим тетям Машам.
Взялись подсчитывать, а учитываются ли случаи положительные, когда человек оказался на своем месте, предотвратил ЧП. И оказалось, за год по министерству таких случаев около четырех тысяч. А скольких поощрили? Единицы. На разборах только и слышно: предпосылка Ершова, предпосылка того, другого… А о том случае, когда Паша Рыгин нашел незакрытую пробку маслобака и предотвратил отказ двигателя в полете, мы не знаем.
За это представитель управления журил начальство, такова тенденция и в министерстве.
Совсем другая тенденция, когда надо не журить, а пор-роть!
Володю Уккиса уже списали на пенсию (может, тот прерванный взлет сыграл свою роль, повлиял на здоровье), больше года прошло со времени того пожара, а знак «Отличник Аэрофлота» все бродит где-то по конторам.
Командир С. пролетал 35 лет, 20 000 часов; отметили, подарок вручили. В ответном слове он сказал, что главное – не брать ничего в голову, не переживать по мелочам, следить за здоровьем.
Тут же провожали на пенсию Толю Петухова. Он, прощаясь, посоветовал: главное – психологический настрой в экипаже, это сохраняет здоровье.
Михаил мой летает сейчас с этим командиром С. По его словам, за стариком нужен глаз да глаз. Да и объективно: расшифровок на него приходит чуть ли не больше всех, а с него как с гуся вода. Может, и правда, в этом кроется секрет летного долголетия?
А Петухов – отличный пилот, ас, мастер. У него – настрой в экипаже. А С. не хвалят; у него настрой – его настрой. Не поэтому ли рано, в 50 лет, уходит Мастер, а до 60 лет летает ремесленник? Чуть меньше требовать с себя, чуть больше – с других? Сомнительный рецепт.
14.01. К разочарованию работой прибавилось разочарование машиной. Правда, я и сам хорош, но не до такой же степени…
Полетели мы в Сочи на три ночи. Машина попалась нелюбимая всеми, 134-я, с ограничениями, и я еще пошутил, что разгрохать бы ее, все спасибо бы сказали.
В Куйбышеве сел идеально, выдержал все параметры, точно на знаки по оси. Полетели в Сочи.
В Сочи ожидался сдвиг ветра, и почему-то сажали не на длинную полосу, с курсом 60, а на 24, короткую, 2200 м. И передо мной встали вопросы.
Сдвиг ветра обещает болтанку, а значит, скачки скорости. Вес 74 тонны, расчетная скорость на глиссаде 263, предельная по закрылкам на 45 – 280. Определяемый возможностями машины диапазон 17 км/час в болтанку выдержать трудно.
Моя любимая лазейка – закрылки на 28 – в последнее время начальством не уважается, а в свете вырезанного талона будет расценена опять же как самоуверенность. Ох уж, этот «свет…»
Полоса 2200 – с обычным попутным ветром, при ливневом дожде и коэффициенте сцепления 0,5 – не располагает к большой посадочной скорости. Желательно бы поменьше. И сесть надо строго на знаки, тогда остается 1900 метров для пробега.
Заходить с закрылками на 45 означает заведомо выскочить за пределы: трепать-то уж будет, это точно. Заходить на 28 – скорость касания будет на 15 км/час больше, больше и пробег. Но у меня есть реверс до полной остановки, в конце концов.
Главное – не промазать. Риска, в общем, немного: разве что перелечу. Но я уверен в расчете: сяду на знаки, руку набил. Правда, для этого мне необходима свобода со скоростью на глиссаде, чтобы ее скачки не отвлекали от расчета на посадку.
Решило все окончательно сообщение, что не работает курсо-глиссадная система, заход по локатору, контроль по приводам, низкая облачность, сложный заход. В таких условиях неизбежно придется отвлекаться на проклятые ограничения, в то время как все внимание должно быть уделено выдерживанию курса и вертикальной скорости.
Решено: заход с закрылками на 28. Диапазон допустимых скоростей на глиссаде: от 260 до 340.
Снизились, пробили облачность, остался нижний слой. Болтало, подбрасывало. Выпустили закрылки на 28, потом пришлось вручную переложить стабилизатор. Стали снижаться по глиссаде, вернее, по предпосадочной прямой: глиссада-то не работает. Скорость плясала, доходила до 300; я следил за курсом и вертикальной, Толя справа мягко держался. С него помощник пока слабоватый. Женя подсказывал удаление, скорость и высоту. Валера двигал газы по моим командам.
Диспетчер спросил, видим ли полосу. Я тянул секунды: высота подходила к минимуму, а впереди клубком стояло облачко, и я всей душой стремился увидеть, где же за ним полоса.
Пробили облачко: полоса оказалась слева, метров сто; за 6 километров это – на отлично. Моря я не видел: было не до моря. Была полоса, торец ее, была скорость и режим двигателей.
Теперь задача стояла: проскочить полосу сдвига ветра по береговой черте и успокоить колебания машины, соразмерив установку газа с тенденцией скорости, определяющейся с высоты сто метров. Скорость падала с 300 до 290, 285, 280… Я добавил два процента, скорость остановилась на 270, и мы прошли торец.
Машина замерла за сто метров до знаков, я добрал самую малость, и через секунду мы коснулись, абсолютно точно на знаках и строго по оси.
Тут же и выплеснулось напряжение: дело сделано, полоса короткая, ждать нечего. И я бросил переднюю ногу, грубовато бросил, и тут же полностью обжал тормоза, думая только об одном: сцепление, сцепление, коротковата полоса…
Сцепление оказалось в норме, реверс сработал; по моей команде Толя подержал его, я убедился, что тормоза держат хорошо и на скорости 120 дал команду выключить реверс. Остановились, срулили, по восьмой, кажется; впереди еще оставалось метров 700 полосы.
Зарулили на стоянку, не очень красиво, выключились; я, смехом-смехом, все же на всякий случай сказал Валере глянуть переднюю ногу.
Посадка была очень удачная, все оправдалось, спина только была теплая.
Спина потеплела еще больше, когда вошел деловой Валера и доложил, что коснулись серьгой… и еще три колеса снесли на левой ноге.
Вышел, глянул. Серьга, которой передняя нога подвешивается на замок, не просто коснулась траверсы, а врезалась в нее, оставив на краске следы по всей площади, и сама немного деформировалась.
Но главнее были колеса. Заднее правое и левое среднее лопнули и разорвались по дырам, протертым о бетон. Правое среднее снесли до второго корда, но оно вполне держалось. На левой ноге тоже снесли одно колесо до второго корда.
В голове вертелось лишь одно: как же так? Как же так?
Ну, колеса, ладно, тормозил резко, правда, не ожидал на одной ноге. А серьга? По акселерометру зафиксированы были перегрузки 1,4 – 0,6. Посадка была где-то на 1,2.
Удар ногой? Били и посильнее. Нога должна выдерживать такие толчки, она рассчитана на гораздо большие нагрузки. А тут обычная, «рабочая», как у нас говорят, посадка.
Забегали чиновники. Тут стыдно, что экипаж сменный ждет, а я пригнал ему машину и на глазах сломал. Ну, колеса заменят быстро, а вот серьга… Потребуется вывешивать машину на подъемниках, и хорошо, если при уборке шасси нога встанет на замок. Если она не сильно сместилась. Это за нее, за эту самую серьгу, нога подвешивается на замок при уборке. И при ударе о бетон колеса с траверсой пошли вверх, сжимая амортстойку, и сжали ее до упора, и траверса, ударившись о злополучную серьгу, деформировала ее.
Техмоща уже доложила в АДП: снес три колеса на одной ноге, 50 процентов, а это – предпосылка к летному происшествию, это – на отряд, это – талон. А у меня он остался один.
РП уже потащил меня на расправу: оформлять предпосылку. Я в растерянности плелся за ним, не видя никакого выхода. Все. Отлетался.
И тут на сцену вышел Боря К., командир того экипажа, которому мы прилетели на смену.
Руководитель полетов вел меня на заклание, я лихорадочно соображал, как выкрутиться, понимая только одно: сел нормально – а конец летной работе! За вторую предпосылку уже со мной и разговаривать не будут – сунут во вторые пилоты, а я скорее уйду на пенсию, чем такой позор, – и за что?
Руководителя полетов поджимало время: о предпосылке надо доложить в Москву в течение двух часов, и сомнений у него никаких не было.
Я смутно понимал, что спасти меня может лишь решение инженеров: не три, а два колеса. Два на одной ноге – это менее 50 процентов, это допустимо.
Но нужна была решающая гирька на чашу весов. И Боря, осмотрев колеса, – взял на себя. Он заявил, что принимает решение лететь на том злополучном колесе, стертом до второго корда.
Конечно, никому не хотелось предпосылки. Слишком много бумаг писать, нервотрепка, а смена кончается…
Я помчался в АТБ уговаривать человека, принимающего решение. Мой жалкий вид и доводы насчет единственного талона, видимо, возымели действие. Боря был все время рядом, и его уверенный вид, интонация, сам настрой, – о чем, ребята, разговор! – все это тоже сыграло роль.
Короче, с колесами дело уладили; даже пошли нам навстречу и заменили все четыре колеса, расписав два на одну ногу и два на другую. Причем, на каждой ноге разрушение одного и износ одного. Это – в норме, рабочая посадка.
Попутно мы с РП успели съездить на старт, осмотреть полосу. Диспетчер старта подтвердил, что посадка произведена абсолютно точно на знаки, прямо против СДП, на основные ноги, потом на секунду задние колеса вроде как отделились на 10-15 сантиметров; опускание передней ноги быстро, но не сразу же. Нормальная посадка.
На полосе, строго в пяти метрах справа от оси, через четыреста метров после посадочного знака, начались пунктиром следы от разрушенных колес правой стойки.
Команду на расшифровку К3-63, пишущего самую точную перегрузку, уже дали, и через десять минут пришел результат: перегрузка 1,85.
Хоть и глаза на лоб у меня полезли, но это все-таки не грубая посадка (считается, когда более 2-х), значит, и по перегрузке нет предпосылки.
Это было главное. Дальше уже, шель-шевель, а время ушло, и давать предпосылку значило копать себе яму. Да и нечего было давать.
Немного успокоились. РП отстал от меня, на всякий случай подсунув акт, что я не в претензии к состоянию полосы. Подписал я и акт на задержку по замене трех колес. Хотя заменили аж четыре. Но разрушены-то два, а это в норме.
Боря, сделав свое дело, теперь уже стал мешать и трепать нервы. Советы были самые разные. То – дать по червонцу технарям, стукнуть кувалдой по серьге, и он улетит. То – уговорить инженеров, что давление в стойке было ниже нормы. То еще что-то из арсенала вертких по жизни людей, к категории которых я себя отнести не могу. Короче, Боре очень надо было улететь, и дальше уже он был начальник паники, а я успокоился хотя бы насчет того, что предпосылки нет.
Но литряк я Борису поставил: это настоящий мужик, вовремя подставил плечо. Он меня очень поддержал, в самую критическую минуту, взял на себя ответственность, выручил товарища. Без его вмешательства инженеры дали бы предпосылку в Москву – и пошла бы писать губерния. А так и они взяли на себя: списали счесанное колесо как просто изношенное.
Боря воспринял презент как должное и с удовольствием употребил: времени для этого, как потом оказалось, было с лихвой.
Я все ломал голову: в чем причина? И, кажется, дошло.
Отбрасывая напряжение полета и захода, можно отнести причину только на мое разгильдяйство.
Посадка ради посадки, борьба со стихией, мастерство пилота, – нельзя делать из этого самоцель.
Истинное мастерство – в комплексе; меня ведь этому учил Садыков… а я пустил такого пузыря.
Заход с закрылками на 28 – заход с высоко поднятым носом. Ну, моменты там так уравновешиваются. И я всегда бережно опускал ногу после посадки. А тут нервы не выдержали, да и просто не учел я этого, вычеркнул из головы. Бросил ногу… а с какой высоты… Это раз.
Втрое – теперь видно, чем опасна в такой ситуации мягкая посадка. По расшифровке МСРП, мы коснулись полосы с перегрузкой 1,08. Это невесомая посадка, самолет весь дышит, и задние колеса основных стоек шасси отходят иной раз от бетона, как бы пятками машина шевелит, на цыпочках бежит. Вот задние-то, пятки-то, в этот раз у меня и отошли на 15 сантиметров, на какую-то секунду. А я в этот момент ничтоже сумняшеся даванул тормоза. Я ведь выбросил из головы, что на старых машинах нет крана разблокировки тормозов при обжатых стойках, предохраняющего колеса от таких ретивых торможений. Коню понятно, что при опускании заторможенного колеса на скорости 250 – его снесет. Как еще не снесло и на левой ноге – не знаю.
Правда, в тот момент было не до крана разблокировки. Но мастерство-то как раз и заключается в том, чтобы все учесть.
Боря мне прочитал лекцию о пользе «рабочих» посадок. В данном конкретном случае он прав. Но… в общем, это позиция середнячка (не в обиду Боре будь сказано), меня она не устраивает, а что пустил пузыря, в этом виновата не мягкая посадка, а несобранность моя. И хоть житейски проще и надежнее ляпать машину о бетон и с оловянными глазами проходить через салон к выходу, – я все равно стремлюсь к своим критериям.
Можно ли было избежать поломки? Можно. Только придержать ногу, выждать пару секунд и плавненько начать тормозить.
Так кто же виноват? Страх? Нервы? Тогда пора уходить.
Теперь остается вопрос. Почему все-таки коснулась серьга? Ведь 1,85 – допустимая перегрузка, о грубой посадке и речи нет. Меня никто и не обвиняет. А нога должна была выдержать, но почему-то не выдержала.
Ночью ногу гоняли, вывесив самолет на подъемниках: нога на замок не становилась. Прислали из Ростова новую серьгу. Теперь уже и с новой серьгой нога не становится на замок.
Прислали представителя из Красноярска, сейчас и он ничего не может сделать. Сегодня 15-е, если до вечера не получится, надо менять ногу, а это волокита, т.к. нет ни ноги запасной здесь, ни бригады техников, знакомых с этим делом.
Как же так? Сел нормально, к экипажу претензий нет, а самолет сломан. Так меня и спросят в отряде. Что я отвечу?
Пошел в расшифровку. Там усиленно пытались найти хоть какую зацепку, но как назло, все параметры в норме. Скорость пересечения торца 270, касание 263, тангаж +2; через полторы секунды тангаж -4, совпадает по времени с перегрузкой 1,85; курс в момент касания 24, крен на пробеге -1, через шесть секунд после касания скорость 240. Идеальная посадка, только удар передней ногой. Есть колебания перегрузки после касания от 1,3 до 0,75, и далее до 1,85 – за неполные 2 секунды.. Это не может считаться козлом, просто чуть отошли основные стойки, так и диспетчер старта подтверждает. В момент касания руль высоты не добирался вверх, а наоборот, сразу отдан вниз, как и положено, ну, чуть быстрее, чем обычно. Должна была выдержать стойка.
Сейчас еще раз схожу в расшифровку, мне обещали дать графики с собой. Если ремонт надолго, улетаем пассажирами. Приду в отряд с расшифровкой, чтоб сразу разобрались и отпустили с миром. Ну, а если предъявят какие-то обвинения, пошлю всех подальше. Столько нервов истрепал за эти три дня!
Летаешь на этом дерьме, а потом начинается: то виноват, то не виноват, то замеряли давление азота в стойке – 37 атмосфер, а назавтра – 60, то техники ворчат, что все, мол, ясно: расшифровали – командир посадил на переднюю ногу…
Тут Борин экипаж из-за нас лишних три дня проторчал… эх, летом бы… теперь панику раздувает. Тут до отряда не дозвонишься, да и неизвестно, что говорить: ничего конкретного не нашли, самолет сломан, причина неизвестна, вины экипажа нет, хотя перегрузка едва влезла в ТУ. Странно: по акселерометру 1,4, а тут – 1,85. Конечно: жесткий удар железа о железо. Но почему?
Вот и верь этой машине.
21.01. Великое сочинское сидение продолжалось. Специалист бился над регулировкой замка и подгонкой серьги. Ростов настоятельно предлагал бросить всю эту ерунду и менять всю ногу. Москва держала в напряжении: почему машина стоит столько времени? Сочинское начальство метало икру и сочиняло варианты прикрытия тех пузырей, которые испускали инженерно-технические специалисты в процессе возни с машиной.
Так пресловутые 37 атмосфер я отношу только на счет сочинских умельцев. Может, давление в стойке и было меньше нормы, что и явилось причиной касания, но главный инженер их АТБ начал, так это, скользко, объяснять мне, что как назло, из десятка манометров, взяли один, неисправный, и при проверке в метрологии оказалось, что он занижает (а радиограмму в Красноярск о недостаточном давлении уже успели дать), а потом вдруг проверили исправным – и норма.
Подозреваю, это наш, красноярский спец подсуетился, своих технарей прикрывал. А может, сочинские просто в процессе проверки случайно стравили часть азота. Сам видел, как заправляли потом: полчаса бились, полмашины азота благополучно выпустили в атмосферу. Так что с метрологией – сказки. Чтобы скрыть свое неумение, тут же заправили до нормы, придумали историю с манометром, а на следующий день в присутствии экипажа замерили, потом спустили, чтобы, мол, замерить уровень жидкости, а потом снова накачали, чему я был свидетелем, потому и сделал такой вывод.
И, конечно же, инженерам было теперь удобнее валить все на грубое приземление на переднюю ногу.
Я еще раз сходил в расшифровку и убедил сидящих там специалистов, что они же, никогда до этого не летая (инженер-анализатор – бывший электрик), не могут судить о поведении машины за полторы секунды, и надо в справке о расшифровке, прилагаемой к техническому акту, дать только факты, воздерживаясь от выводов.
Поздно вечером, когда все, включая и красноярского представителя, отчаявшись, опустили руки и собрались уходить, чтобы назавтра запросить запасную ногу и бригаду для ее замены, присутствовавший в качестве активного наблюдателя Валера Копылов предложил – в последний раз – подпилить основание серьги на наждаке, «вот здесь». Уговорил; сам взял и подпилил. Поставили серьгу, убрали шасси – и замок закрылся.
Вот это – бортинженер!
Весь следующий день оформляли документацию. Меня не пригласили, а Валера там присутствовал, строго следя, чтобы все было в порядке.
Накануне прилетевший Коля Угрюмов посоветовал мне валить все на сдвиг ветра, и я с утра со штурманом все оформил в задании.
Валера сумел в акте дипломатично упростить причину задержки до скупой фразы: «При посадке в условиях сдвига ветра произошло касание серьгой».
С обеда мы с Женей составили предварительный план полета напрямую на Красноярск. ПДСП очень хотелось отправить нас через Куйбышев, т.к. рейс из Красноярска задерживался из-за непогоды в том же Куйбышеве, обещающем, впрочем, скоро открыться, а пассажиры на Красноярск уже собрались в сочинском вокзале по расписанию. На худой конец, взять хоть одних красноярцев, оставить куйбышевцев – и напрямую.
Поспали, проснулись… что-то не поднимают нас. Оказалось, кругом нет погоды. Через час я добился приемлемых прогнозов Красноярска и Абакана; Куйбышев все так же был закрыт. Пришли в АДП готовиться на Красноярск напрямую, как вдруг пришла радиограмма из Москвы: перегнать пустую машину в Москву под 101-й рейс. Плюнули, подписали на Москву и пошли на самолет.
Стали раскручивать агрегаты – отказал правый авиагоризонт. Час его меняли. Наконец, взлетели.
В Москве сел мягко, полоса была скользкая, долго катились. С нетерпением пришли в АДП: кому же гнать 101-й рейс домой. Оказалось, экипаж уже подняли на вылет, и не кого другого, как Булаха. Ну, не буду же я выпрашивать у командира эскадрильи, чтобы он вернулся в профилакторий, а я погнал его рейс. Доложил ему обо всем, отдал расшифровку, он меня успокоил и улетел.
Седьмые сутки пошли, а мы все не доберемся домой. Днем съездили в город, а потом пришла радиограмма от Медведева вернуться на базу пассажирами. Вечером прислали нам билеты, но без паспортов это просто бумажки, поэтому я договорился с Мишей Ивановым, вписали нас с проводниками к нему в задание с обратной стороны, и улетели практически зайцами.
Дома встретила изнервничавшаяся Надя, которой уже наговорили-наплели всякого.
Вечером позвонил Медведев и минут двадцать выпытывал подробности. Пожурил за заход на 28 и сказал, что заходи я с закрылками на 45 и выйди за ограничения, но отпишись сдвигом ветра, – он и слова бы не сказал. На что я ему ответил, что нарушь я хоть что-нибудь, разговор был бы совсем другой, а так – ну ничегошеньки я не нарушил, а заход с закрылками на 28 не запрещен, и есть пример в РЛЭ, когда разрешен. И он отстал.
Короче, пришел я вчера в отряд, все с сочувствием выспрашивали подробности, а Медведев, видимо, удовлетворившись телефонным разговором, заставил только написать подробную объяснительную записку. При мне он с досадой, видно, уже не в первый раз, объяснял кому-то по телефону, что не может самолет за секунду совершить две посадки.
Короче, он ждет подробную расшифровку, а это будет завтра, так что я свободен, и нет никаких ко мне претензий, если только в расшифровке не найдут какого-нибудь криминала. Только откуда?
Завтра, если, конечно, с расшифровкой все нормально, меня планируют опять в Сочи.
А касания серьгой на исправных машинах бывали и раньше. На 529-й даже запись в бортжурнале есть – как особенность этой машины. Так что вполне возможно: и все в ТУ, и касание. Нога слабая у Ту-154, факт.
25.01. Я сижу и жду решения своей судьбы. Надя за меня переживает. Еще когда я сидел в Сочи, какая-то скотина позвонила ей мужским голосом и сообщила, что я там лежу с инфарктом. Неужели я нажил себе врага? Или же у Нади враг на работе: там все знают, что со мной что-то случилось.
Цели своей враг добился: Надя переживает и, по своему обыкновению, выражает это в пристрастном отношении к моему случаю. Устроила мне дома разбор и все придирается к каждому слову: и там, мол, не так сделал, и там не так сказал, и вообще… И все это – в нелестных для меня выражениях. Она не может позволить мне ощутить, что меня жалеют.
Ну, к этой ее манере я привык давно, а сейчас действует на нервы. Особенно советы: не сидеть, не сидеть сложа руки, а действовать, действовать…
Ага, Боря тоже советовал править серьгу кувалдой.
А действовать-то нечего. Командованию доложил, больше от меня ничего не требуют.
Прошло два дня. Отобрали Сочи, дали Ростов, потом отобрали и Ростов. Вчера утром позвонил из штаба Валера Копылов: опять против меня что-то заваривается. Я примчался: оказывается, на разборе в управлении встал начальник инспекции и доложил, что Ершов совершил грубую посадку, неправильно исправил козла и погнул серьгу. Отстранить и наказать.
А Медведев куда-то задевал мои расшифровки, что в нашем бардаке и немудрено. Прошло уже две недели, машина летает, все пленки стерли, расшифровки потеряли, а тут спохватились, благо, копия в УРАПИ осталась.
Я предложил Медведеву куда-то бежать, чего-то добиваться, как мне в голос рекомендовали в коридоре опытные, умудренные, битые-правленые инструктора и комэски. Но с чем я пойду оправдываться к тому же начальнику инспекции управления, который что-то где-то услышал и тут же махнул дубиной? Со своими эмоциями?
Медведев заказал новую расшифровку. Мы с ним еще поговорили. В процессе разговора выплеснул эмоции. Медведев мне как дважды два нарисовал картину моей посадки и причину происшествия. Причина – «шары на лоб». На «шары» я ткнул его носом в десятки расшифровок, пришедших на наших старых, опытнейших командиров, – пусть он их учит чисто летать, а на меня за все время хоть одна пришла? А насчет «шаров» – да, на нервах летаю. И если будут так их трепать, то могу принести еще ЧП отряду. Так может, не ждать, уйти? Пенсия есть.
Тут он забегал, усадил меня и стал уговаривать, что все мы, мол, на нервах, что и его порют ни за что, и т.п. А насчет захода с закрылками на 28 он издаст приказ, запрещающий такие заходы, кроме случаев, оговоренных в РЛЭ.
Это когда я опять же ткнул его носом, что он приветствует безынициативных пилотов, а кто хоть чуть берет на себя, того и наказывают.
В общем, тон разговора был спокойный, но эмоциональная окраска была.
В конце концов, Медведев сам заинтересован сбросить с отряда навешиваемую задержку, а тем более, предпосылку, как думают в инспекции. Он сам с моими расшифровками пойдет защищать меня. А мне – сидеть и не рыпаться.
Ошибку свою в технике пилотирования я признал. Пусть наказывают. За ошибку, а не за нарушение.
Кстати, на того же начальника инспекции – воз расшифровок, но он – большой начальник. Ему можно ошибаться, а мне нельзя.
А Наде обидно, что две недели прошло, а я не летаю. И никто не разобрался. И по чьей вине.
Ну, это мелочи, это она в первый раз столкнулась. Люди месяцами сидят иной раз. Не надо самолеты ломать.
Я же протестую против этого духа, который вчера самодовольно выразил мне Кирьян: ты и только ты обязан доказать, что ты не верблюд.
Почему – я? Пусть начальник инспекции создает комиссию, пусть она и доказывает. Формально оно так и есть, а житейски – надо править серьгу кувалдой.
Я Медведеву прямо сказал: чего от нас, задолбанных и безынициативных, можно добиться, какой жизненной позиции? Да плевали мы на ваши призывы к экономии, творческому подходу, инициативе снизу. Я вот проявил, ошибся, буду наказан, – и никому нет дела до моей инициативы, она наказуема. Ни один пилот не подошел и не разделил моих предложений, но все как один осудили. Нет в законе – не делай, пожалеешь!
Вот аэрофлотский принцип, дух, буква, вот сама наша застойная суть! На острие прогресса – рутина и застой. Нет такого понятия – инициатива пилота. Это вредное явление. Там, наверху, лучше знают. Когда надо будет – скомандуют. А наше дело – спольнять.
Да, Михаил Сергеевич, сдвиньте-ка! Вам наговорят. И «законы написаны кровью». И «дисциплина и единоначалие». И «все как один». И «единодушно поддерживая». И «внесем свой вклад…»
Медведев прямо сказал: какая инициатива – вот серьгу погнул. Есть малейшее сомнение – уходи на запасной.
Какая тогда, к черту, экономия – непроизводительный налет. А кому нужны мучения пассажиров?
Есть погнутая серьга, пятно на мундир и лишение премиальных, снизу доверху. В конечном счете, все решает рубль, но не государственный, а мои кровные премиальные. «Мне, мое, много…» Вот вам повод для размышления.
Я не летаю потому, что надо на кого-то списать задержку, простой самолета и убытки. АТБ катит бочку на летный отряд. Проще всего было бы, если бы нашли нарушение у пилота. А мне проще было бы, если бы нашли нарушение по технической части.
Но ни с той, ни с другой стороны нарушений нет. Но так же не бывает: самолет вроде исправен, пилот посадил без нарушений, а машина сломана. Кто-то же должен ответить, кто-то же должен быть наказан.
В конце концов, должна же быть названа причина: да, слабая нога, не выдерживает даже посадок с допустимыми перегрузками, и надо либо упрочнять ногу, либо уменьшать допустимые перегрузки, учить летный состав, как теперь беречь ногу.
Но это упрек самому Туполеву, до него высоко, а проще замять это дело путем наказания мнимых виновников и оставить все как есть до следующего случая.
Остается лишь рекомендовать беречь ногу на посадке.
Но найдется ли человек, который в подобном случае своей властью скомандует: «Экипаж не виноват, оставьте его в покое!» Кому это сейчас надо – брать на себя в Аэрофлоте? Вот так то.
Это не «обывательское брюзжание», как говорят некоторые ретивые партейцы. Это – острый угол жизни, а срубить его некому.
Я-то хорош. Ма-астер… Если уж установил себе жесткие критерии, если умнее других хотел быть, – так выдерживай!
Всю ответственность в моральном плане я конечно беру на себя. Но отвечать за серьгу по нашим аэрофлотским канонам не хочу. Формально я не виноват и никогда не признаю себя виноватым.
Спасибо Медведеву, он на будущее своим приказом избавил меня от сомнений насчет закрылков на 28. Буду корячиться на 45.
27.01. Вчера участвовал в штурмовой кампании наведения лоска на тришкин кафтан нашего аэропорта. Пилоты очищали ото льда паперть нашего аэровокзала. Дворников у нас нет, люди не идут сюда работать, а пассажирам скользко на обледеневших ступенях.
Маршал наш должен был прилететь после обеда, и нам пришлось в буквальном смысле повкалывать.
Сегодня стоим на штурманский тренажер, смысл существования которого – научить экипаж самолетовождению без штурмана. Пока все это говорильня, сами инструктора понимают, что толку от этого ни на грош. Но приказ сверху есть, поэтому подчиняемся.
Вечером звонил Женя, мой новый штурман. Он сидел в резерве со Скотниковым, и тот рассказал, что они летали на 134-й в Симферополь и заметили сильную осадку передней ноги, и техники на земле тоже заметили. Короче, записали по прилету замечание. Ну, посмотрим, как отпишутся.
28.01. Сегодня на разборе в 4 АЭ выступал Медведев. Разбирал варианты захода с закрылками на 28. О моем случае в Сочи заявил: грубая посадка с тройным (!) козлом.
Ну что ж, позиция командира летного отряда ясна. Он не только не стремится выручить подчиненного, попавшего в двусмысленную ситуацию, пусть даже по ошибке. Он топит.
Конечно, неприятно, когда мэтр с брезгливой снисходительностью журит тебя и даже вроде как бы жалеет, вызывает на откровенность.
К счастью, я нашел достаточно твердости, чтобы отстоять правоту. И, те не менее, обгадил при народе – вроде бы для пользы дела, чтобы упредить аналогичные ошибки других. И при этом не гнушаясь нечистоплотными аргументами.
Как я понял, это не управление отстранило меня; отстранил меня Медведев, в основном, за инициативу с закрылками, для науки.
Позвонили друзья. Приглашают нас в баню для поднятия духа.
29.01. Баня была великолепна и очень хорошо разрядила. Но утром проснулся от мыслей и час до будильника лежал, перебирая варианты возможного наказания и линию поведения.
Поехал на работу, задумался… и просвистел две лишние остановки. Плюнул, вылез, сел на встречный троллейбус… и опять чуть было не проехал остановку. Такого со мной еще не было.
Вошел в отряд с веселой злостью в душе, готовый к бою с Медведевым.
В эскадрилье замкомэски Попков буднично сказал мне, что меня допустили к полетам, претензий ко мне нет, за посадку с перегрузкой на оценку «три» он объявляет мне устное замечание, а задержка пошла все-таки на меня.
Да черт с ней, с задержкой.
В Сочи со мной поставят инструктора, чтобы научил опускать ногу. Слетаю с инструктором, куда я денусь.
Но почему я не летал полмесяца? По прихоти барина.
Вся злость из меня вышла. Я все-таки оказался прав. Мой принцип восторжествовал, и я не доказывал никому, что я не верблюд.
И хотя Попков и информировал меня, что они долго ломали голову, как меня вытащить, это все демагогия: меня не за что было наказывать. А что, мол, посадка на тройку, значит, надо понижать меня во второй класс, что ли? Тогда и за посадку с перегрузкой больше 1,41 (а такие посадки нередко вытворяют проверяющие высокого ранга) их всех тоже надо понижать в классе.
Хотели было поставить меня завтра на Москву, как раз и Медведев собирался лететь, не знаю, умышленно или нет, – но через несколько минут начальник штаба вошел и сказал, что Медведев распорядился поставить на Москву Доминяка – у него вторая категория. Но у Медведева у самого вторая категория. Не захотел он со мной лететь, да и видеть не захотел. Я ждал-ждал его, чтобы забрать на память расшифровку, не дождался. Хотя вряд ли ему стыдно.
А я на этом инциденте потерял 100 рублей заработка.
30.01. Можно сказать, что я отгулял месяц в отпуске. Налетал 13 часов, остальное время сидел. Нервничал, конечно, но что за жизнь без нервов. Собственно работы пилота, за что мне деньги платят, было три дня. За это я получу минимум три сотни чистыми. Где еще найдешь такую работу?
Правда, неделю не был дома. Ну, на работу в отряд ездил, потерял несколько дней. Но остальное-то время сидел дома, по режиму, читал книги, смотрел телевизор, играл на фортепьянах, слушал музыку и мило беседовал с членами семьи.
Предлагается работа в ВОХРе, в училище: сидеть на вахте. Сутки отдежурил – трое дома, сто шестьдесят рублей, и кормят два раза на работе. Восемь рабочих дней, а ночью можно спать. С пенсией – 280 рублей. И двадцать два выходных, когда сам себе хозяин, ни о чем голова не болит, можно заниматься чем душа пожелает.
Летом бы такой режим…
Но летом будет у меня другой режим. Двадцать шесть дней работать, четыре дня – дома, неполных, один – спать после ночи, другой – спать перед ночью. И ночей пятнадцать вообще не спать. Считая только сон и отдых, не учитывая нервные нагрузки, заработаю чистыми около 700 рублей. И так – три месяца подряд. Где еще найдешь такую работу?
Ну, еще годик-полтора отлетать надо. Отмучить это лето, а следующее – уж посмотрим, может, тем летом уволюсь. Больше летать нет смысла. Это будет ровно двадцать лет полетов.
Подведем итоги двухнедельных раздумий по Сочи. Какие выводы на будущее?
Итак, сложный заход, узкие, слишком узкие рамки; принятие решения. Посадка как самоцель – и на дальнейшее нервов не хватило.
Надо было просто уйти на запасной в Минводы и отсидеться там… до каких пор?
Ну ладно. Можно было начать тормозить со скорости хоть 160. Можно было держать ногу до посинения. Но проклятый настрой – не нарушать – держит в напряжении.
Значит, первый вывод. Раз я всегда сажусь по оси, строго параллельно, то могу включать реверс всегда в момент касания. Ногу держать как можно дольше. Тормозить чисто символически. И твердо помнить: реверс мой до конца. Забыть эти рубежи 130, 120, выключать? не выключать? – это пустая оговорка. Реверс – основной тормоз на Ту-154, и использовать его надо в полную силу.
Конечно, это не догма. Есть варианты, а на сухих полосах вполне может хватить и тормозов, и реверса до скорости 130. Но если чуть полоса мокрая или скользкая – все, реверс до полной остановки. И – отписываться: то ли низким коэффициентом сцепления, то ли короткой полосой; главное – записать. А двигатели – черт с ними, пусть бьются лопатки. Имею право.
С закрылками на 28 ясно. Они, кстати, в данном случае сыграли не такую уж важную роль; здесь сыграли нервы. Мои убеждения насчет захода на 28 не изменились. Но есть запрет – надо выполнять.
Как сказал мне Попков, не дай бог, вышел бы я хоть где за ограничения – все: летал бы уже вторым пилотом.
Мы с Попковым спорили вчера. Он мне на пальцах пытался доказывать что-то насчет стояночного тангажа и посадочного тангажа с закрылками на 45, а я с линейкой в руках доказал ему, что при посадочном тангаже 7 градусов (как он утверждает) передние колеса будут подняты над землей на три метра. Так не бывает.
Открыли «Аэродинамику Ту-154» Лигума, там конкретно: стояночный тангаж – 0. так что в момент касания у меня нога была в 65 см над бетоном, потому что тангаж был 2 градуса.
Короче, Попков сказал, что, как оказалось, передняя нога на 134-й, вообще говоря, не в ТУ, но сейчас уже не докажешь… Была бы зафиксирована предпосылка – тогда другое дело: тогда бы вылетела комиссия и сумела бы доказать, что ни козла, ни грубой посадки, ни приземления на переднюю ногу – то есть, моей вины, – не было. И тогда, мол, на меня бочку бы не катили. И замеряли бы параметры ноги на арестованном самолете в присутствии компетентных лиц.
Я горько усмехнулся: да уж… а как бы я объяснил снесенные колеса? Нет, лучше пусть всю жизнь гнетет меня совесть за повешенную лично на меня задержку – но нет предпосылки.
Больше хладнокровия, поменьше эмоций. Такой хороший самолет – столько возможностей… а я, в узких рамках, нервничаю, ломаю… а половина полосы для пробега так и не использована. Шары на лоб, точно.
Мало летать строго по букве. Это неплохо, что я работаю над собой и чисто летаю. Теперь задача стоит шире: используя чистоту полета, выработать хладнокровный подход к любой сложности в полете. Это гораздо труднее, но иначе нельзя. Надо подходить творчески, как учил Садыков.
«Чикалов летал на четыре, я летаю на шесть» – но без мозгов.
Однако и самоуничижением нечего заниматься. Я умею летать, а без ошибок на такой работе не обойтись. В конечном счете, я победил в этой ситуации. Да и ситуация-то чисто бумажная. Ведь, в конечном счете, виновата-то нога, не выдержала.
Но – таков аэрофлот, да и весь наш век таков.
Ничего, впереди еще полтора года, для работы над собой вполне достаточно времени. Хотя, казалось бы, зачем? Тянись полегоньку.
Но я так не могу, так неинтересно жить. Уходить все же надо в расцвете сил, а не побежденным.
Я вот на днях переживал, как же сложится судьба. Если бы меня несправедливо в чем-то обвинили, ушел бы. Конечно, обидно, но какой смысл, если с позором кинут во вторые? Проболтаться год вторым, чтобы на тебя все пальцами показывали, и затем уволиться? Так уж лучше сразу. Но это вариант от безысходности. А раз судьба повернулась лицом, еще поборемся.
Наказание я бы воспринял с удивлением. Но чего у нас не бывает, поэтому и переживал. Моя борьба была – никакой борьбы. Я не виноват, и бегать не буду. У нас беготней и эмоциями ничего не докажешь: есть объективный контроль, и я в него верил. Но это ожидание попило крови.
По сути дела, командир корабля в сложной ситуации сумел использовать возможности самолета, проявил творческую инициативу и вышел победителем. Но… жидко обгадился на посадке из-за нервов.
А формально: командир проявил глупую и не прописанную в документах инициативу, нагнал этим на себя страху, поддался ему на посадке и поломал самолет.
А житейски – сложились вместе усталость и страх, страх перед рамками и страх за инициативу. Самый худший преступник – вооруженный трус: он от страха стреляет в первого встречного.
Этот трус – я. А вдруг навстречу мне идет злоумышленник? Не успею я – успеет он. Надо бить первому.
Полоса короткая. Сел, некогда ждать. А вдруг выкачусь? Нет уж. Бросаю ногу, жму спусковой крючок… то есть, тормоза.
Так что, если ребята разбираются в психологии, они должны испытывать ко мне презрительную жалость. И поделом. Надо переморгать. Слаб человек. Вот тут Медведев прав: «шары на лоб». Ой, мастер… Кишка тонка.
31.01. Отдых, блаженный отдых… Никуда не надо спешить, ни о чем не надо думать. Ничего не хочется делать. Выжатый лимон.
Спрашивается, от чего это я так устал?
4.02. Слетал вчера в Норильск с Кирьяном. И что же – недаром! Кирьян открыл мне, Чикалову занюханному, нюанс. В момент касания я прилично отдаю штурвал. Он, может, раньше и не замечал за мной, а тут специально следил, ждал: ведь цель полета была – именно установить это.
Факт налицо. И мне пришлось в последующих полетах делать усилие над собой, чтобы не фиксировать момент касания дачей штурвала от себя.
А то замрешь, ждешь мягкого касания, а сам готов предупредить возможное отделение мгновенным уменьшением угла атаки. Так и выработался рефлекс: касание – чуть от себя.
Кирьян считает, что вот это и послужило причиной резкого опускания ноги в Сочи. Я же думаю, что нет, я ее просто бросил, чтобы скорее начать тормозить, просто держать ее не было времени.
Отдача же от себя – это мой способ предупреждения козла, причем, действенный.
Козел возникает обычно у пилотов, стремящихся «подловить» момент касания. Это зачастую нервные люди, им не хватает выдержки выждать эти секунды, и они стараются поймать землю одним махом.
Такой был мой командир на Ил-14 Коля Ш. У него было ограничение: поврежденный на охоте правый глаз имел меньший угол зрения; это мешало определять положение самолета на посадке. Он выравнивал машину одним махом, и высоко. Подождав секунду, понимал, что еще не зацепил землю, а самолет надо снижать. Чуть отдавал от себя, а потом опять подхватывал. Иногда – до трех раз.
Чаще всего, надо отдать ему должное, ловил Коля землю очень мягко. Но один из десяти получался козел, потому что момент подхватывания совпадал с касанием, и сложившиеся вместе разжатие амортстоек и незначительное увеличение тангажа, а значит, угла атаки и подъемной силы, отделяли самолет от земли, и надо было его опять досаживать, но уже, увы, на меньшей скорости и управляемости, и далеко за посадочными знаками.
А подскажешь ему, что, мол, высоковато выровнял, – свирепел и обзывал «проверяющим».
У меня же выработался свой стиль. На Ил-14 я сажал либо по-вороньи, т.е. начинал заранее подбирать, подбирать, подбирать (при этом сознание фиксировало не плавное, а ступенчатое приближение земли) до самого касания; – либо, если надо было сесть точно, на ограниченную площадку, садился на газу: тянул на полуметре, на 30 сантиметрах, до самого знака, а непосредственно перед ним убирал газы и чуть добирал штурвал.
Но в любом случае я всегда чуть фиксировал момент касания отдачей от себя. И на своем летном веку имел всего несколько козликов, из которых настоящим был только пресловутый козел в Чите. Вот там-то уж точно: момент упадания на грешную землю совпал с сотворенным в четыре руки взятием штурвалов на себя.
Никогда и никто ни на Ил-14, ни на Ил-18, не держал ногу после касания, а вот на «Ту» жизнь заставила. Ну что ж, буду держать, беречь ее.
Садились дома, я выровнял корягу 124-ю (как назло попалась, зараза), заставил все же замереть и сознательно зажал штурвал, ожидая касания. Что-то легкое, как вздох… Нет, показалось. Ждал-ждал, вижу, перелет получается. Потом чуть стукнуло, примерно, на 1,2. Жду опускания передней ноги, а его нет. Потом дошло: стукнула передняя нога. Значит, либо посадка на три точки, либо очень мягкая посадка. Валера сзади наблюдал, подтвердил, что такое бывает раз в жизни: сел точно и мягко, аж не вышепчешь, бежали и не чувствовали.
А я говорю, коряга… Ласточка!
Сами полеты требовали большого напряжения, машина все-таки слушалась неважно, валилась, уходила с курса, но все же справился.
Заход дома выполнил так, что газ добавил только перед 4-м разворотом. Но створ ловил с трудом. Нет, все равно, 124-я – нелюбимый наш самолет.
Потом перелетели в Северный, нормально.
Кирьян, какой бы он ни был, имея власть, – в полетах, надо сказать, свой в доску, поддакивает в беседах и снисходителен к мелким ошибкам. Ну, сделал замечание за быстрое руление.
Да, рулю я быстрее, чем хотелось бы проверяющему. Я знаю лишь одного командира, который рулил всегда и во всех обстоятельствах ну очень медленно: Серегу Л. Видимо, его где-то еще на Ли-2 жизнь хорошо проучила, и он зарекся по гроб жизни. Вот с ним рядом сидеть на рулении было невыносимо. Вспоминается «Шахматная новелла» Цвейга. Я бы в сто раз быстрее… я бы…
Может, этот самый «я» и на рулении не замечает нюансов?
Конечно, зимой, в гололед, не очень-то приятно сидеть рядом и слышать, как рулящий пилот допускает иной раз на развороте движение передних колес юзом. Но без юза рулить, да еще на перроне, где газу-то не дашь – выстеклишь окна или перевернешь что, – не получается. Здесь учитываешь и используешь все. И импульс вращения, и степень дачи ноги на гололеде (при этом-то, при пробном движении, и получается юз – как показатель, что хватит давать ногу), и инерцию газовой струи, и массу машины, и снежные валы, и подъем или уклон, и ветер…
Проверяющему, наблюдателю, не так видно и слышно, не так он чувствует поведение машины, реакцию ее на угол отклонения колес, на подтормаживание, на ход угловой скорости за газом, – нюансов и обратных связей тут хватает. Проверяющий идет в хвосте ситуации, его это раздражает, а выражается раздражение командой «потише-потише».
Надо не забывать: юзом идут лишь колеса передней ноги, и, в принципе, хоть не управляй ею совсем, при достаточной даче газа для управления рулением хватает и подтормаживания основных ног шасси. Самолет ведь рулит по принципу трактора: надо вправо – тормоз правый, надо влево – тормоз левый. Так мы рулили на Ил-14.
Но на большой скорости руления импульсы подтормаживания вызовут сильное рысканье по курсу; для удобства введено управление передними колесами, на сухом бетоне оно очень эффективно. Но в Норильске сухого бетона – два месяца в году.
У каждого пилота свои взгляды на руление. Нет единой методики руления; в общих чертах при переучивании, да по словам старших товарищей на практике учимся мы рулить. Но сколько тех минут обучения рулению в сравнении со многими часами опыта, обретаемого каждым на своей шкуре, на своих ошибках.
Так у каждого складывается свой почерк. У одного – в меру его общих знаний, способности к исследованию, осмыслению, тонкости ощущений, смелости. У другого – в меру его осторожности, стремления к стереотипу и определенным рамкам, боязни проникать в неведомое, как бы чего не вышло.
Вот и взгляды на способы руления определяются не оптимальным вариантом, созданным на базе осмысленного изучения опыта (вот чем бы заняться на наших конференциях), а скорее авторитетом и силовым давлением старших по званию.
А так как в жизни нередко продвигаются скорее сторонники осторожного подхода, снисходительно предоставляя возможность набивать шишки «исследователям», то проверяющие высокого ранга требуют рулить по принципу «потише-потише, как бы чего не вышло».
И это – еще один камешек на ту чашу весов.
Спор-то обычно из-за мелочи: на скорости 15 или 10 км/час рулить. Плюнь на все и рули на 5, как Серега Л. Но тогда получается «Шахматная новелла», психологический дискомфорт.
Правда, Валентин А. рулил на скорости 140 и выкатился. Зато теперь на той же полосе 3435 м Кирьян требует рулить «потише-потише» за два километра до торца.
6.08. Ознакомился с приказом. Чем-то он меня не удовлетворил. Да вообще, ничем не удовлетворил. Больно уж несвязно составлен. Приведу его полностью:
ПРИКАЗ №9
О повреждении самолета Ту-154 №85134.
11.01.86 г. Экипаж в составе: КВС Ершов В.В., 2/п Можаров, шт. Гончаров, б/и Копылов, выполнял пассажирский рейс по маршруту Кр-ск-Куйбышев-Сочи.
Заход на посадку в а/п Сочи производился с закрылками, выпущенными на 28 градусов. Создание такой посадочной конфигурации КВС Ершов мотивировал наличием болтанки и прогнозируемым сдвигом ветра на предпосадочной прямой.
Приземление самолета было произведено на скорости 275 км/час, с перегрузкой 1,4 и углом тангажа 4 градуса. После отделения через 1,5 сек самолет приземлился с перегрузкой 1,85 на скорости 265 км/час и вновь отделился. Третье касание с перегрузкой 1,4 на скорости 250 км/час через две секунды после второго.
При проведении послеполетного осмотра было обнаружено разрушение двух пневматиков колес и повреждение серьги подвески передней ноги шасси.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. КВС Ершова В.В. за невыполнение требований РЛЭ пункт 2.2(9)б (посадочная конфигурация) лишить премиального вознаграждения за безаварийный налет в размере 20 процентов.
2. Пилоту-инструктору Рулькову К.Г. строго указать на непрекращающиеся случаи нарушений, допущенные закрепленным за ним летным составом.
3. Запрещаю выполнять заход на посадку и посадку с закрылками, отклоненными на 28 градусов, кроме случаев, предусмотренных РЛЭ.
4. Приказ изучить с личным составом под роспись.
Командир 400 ЛО В.Л. Медведев
Возникает ряд вопросов. Первый: откуда такие странные результаты расшифровки? Совершенно от фонаря. Почему-то утеряны: пленка К3-63, где максимальная перегрузка 1,85; запись на МСРП, где максимальная перегрузка была всего 1,6; та расшифровка, что я отдал Булаху, – уж там-то ясно видно, что никаких повторных отделений от ВПП не было. Откуда посадочный тангаж 4? Откуда скорость касания 275? Как может самолет за три с половиной секунды потерять 25 км/час скорости?
Создается впечатление, что цифры в приказе взяты с потолка. Перегрузка 1,85 – из справки, приложенной к техническому акту еще в Сочи. Но там же указан тангаж 2, а в приказе – 4. А 4 – это высоко поднятый нос! Вот он, заход с закрылками на 28!
Короче, цифры произвольны, тенденциозны и призваны натолкнуть на мысль: именно заход с закрылками на 28 и явился причиной повреждения серьги. Но в приказе связь такой конфигурации с повреждением прямо не указана. Догадайся, мол, сама…
Откуда взялся двойной козел? На той расшифровке, которую я отдал в руки Булаху, а он, уж точно, Медведеву, – никакого второго отделения нет, да и первое сомнительно. Чтобы самолет скакал по полосе быстрее камешка, пущенного плашмя по воде – и это махина с весом 80 тонн – да сам Медведев при мне кому-то доказывал, что этого не может быть.
А теперь вот – может. За уши притянуты два козла. И расшифровка безнадежно потеряна. Или спрятана. И ничего не докажешь.
Приказ «о повреждении самолета», а в приказной части речь идет о «невыполнении требований РЛЭ».
Да, казуист Медведев раскопал-таки пункт. Он гласит: «Посадочная конфигурация определяется только положением шасси и закрылков». И далее: «2.2(9)б. На посадке: закрылки выпущены на 45 при всех работающих двигателях. Закрылки выпущены на 45 или 28 при одном неработающем двигателе».
Таким образом, я нарушил посадочную конфигурацию при всех работающих двигателях.
А ведь я самоуверенно утверждал, что я не нарушил букву. Оказалось, нарушил, плохо знаю Руководство. Да и Медведев почти три недели искал этот пункт 2.2(9)б.
Наказания, тем не менее, мне нет. Есть лишение 20 процентов годовых – это не прописано в КЗОТе, это наши внутренние стимулы. Семьдесят рублей.
Этим мне затыкают рот. Я не наказан. Мне просто не дали пряника. Не буду же я выспоривать себе наказание.
За нарушение РЛЭ при одном талоне положено вырезать второй. Меня пожалели.
Таким образом, делаю вывод. Сама жизнь говорит мне: не высовывайся. Осталось летать год, чего ты добьешься своим упрямством? Выставишь себя на смех, подрыгаешься год и с позором уйдешь, а то еще во вторые пилоты бросят. Второй раз жизнь тычет носом: что бы ни случилось с самолетом, виноват командир. Прав не тот, кто прав, а тот, у кого больше прав. Ты начальник – я дурак. Вы наши отцы – мы ваши дети. Склони шею.
Инициативу глушат и в аэрофлоте, и в других отраслях, потому что она беспокоит. Кто ж рискнет и возьмет на себя – поддержать инициативу?
Есть буква – выполняй, есть сомнение, делать или не делать, – не делай. Всегда вали с себя на другого. Переступи через человека. А не можешь, совесть не позволяет – уходи.
Я свое отработал честно, как мог. Через год начну новую жизнь – жизнь пенсионера, жизнь для себя… в 43 года. Как бы ни решались мировые проблемы, я уже к ним не причастен.
Сейчас мне гораздо интереснее сам эгоистический я. Как наладить подработавшийся организм, особенно нервную систему. Как наладить режим, как забыть всю нервотрепку, отдохнуть несколько лет, а там видно будет, к чему появится интерес. Но уж на трибуну я не полезу.
Прочитал книжку Галлая «Жизнь Арцеулова».
Арцеулов был Мастер, король, думающий, интеллигентный человек. Слава покорителя штопора несла его на гребне. Пролетал 20 лет, был и испытателем, и ледовым разведчиком, и аэрофотосъемщиком, и планеристом. И всегда был среди первых, всегда – уважаем, и понимал свою значительность.
И вдруг – поклеп и отстранение от летной работы. Три года перебивался, потом реабилитирован, можно летать… Но что-то перегорело за эти три года в его душе. И потом, это же 30-е годы; за то время, что он не летал, в авиацию хлынул поток молодых, горластых, дерзких, талантливых комсомольцев. И он, с его авторитетом, опытом, 6-ю тысячами часов налета, в возрасте 45 лет, при здоровье, – уступил дорогу. И не вернулся. Нашел другое призвание – художника.
Он понял, что уже не потянет наравне со всеми, что авиация ушла вперед, и что он теперь будет не только не первым, не вторым, но даже и не средним. А оставаться при ней замшелым легендарным дедом он не захотел.
У нас сейчас застой с матчастью, с землей, с кадрами, но зато прогресс в бюрократизации отрасли. И я этого тоже не выдержу. Пусть новое поколение тянет эту лямку: оно выросло на бюрократических щах. А в аэрофлоте это все началось с 235 отряда и ЦУМВС. Москвичи, те, кто ближе к министерству, сосут себе выгоду и приглядываются, какой бы еще приказик протолкнуть через верных людей, выгодный только им, или в первую очередь им. Мне кажется, каждый второй там – Друбецкой, знакомый со всей закулисной кухней, как рыба в воде. У таких полеты – только средство для достижения своих целей. Вот им – и работать дальше.
Медведев сказал, чтобы я готовился выступить на разборе отряда по своей посадке. А что тут готовиться. Есть приказ, там все сказано, я только повторю эту галиматью. Что толку качать права. Допустили летать – и ладно. Конечно, он будет спрашивать, как я считаю – правильны ли были мои действия и т.п. Нашел дурака. Вы наши отцы – мы ваши дети. Теперь я вообще буду молчать, ну, поддакивать. Да, виноват. Да, нарушил конфигурацию. Да, заход с закрылками на 28 вызвал три козла за три с половиной секунды и деформацию серьги в результате. Да, больше не буду. И пусть он отстанет. Он начальник – я дурак.
12.02. Два разбора подряд: эскадрильный и отрядный. Выступал на обоих. Свои, эскадрильские ребята все как один осудили меня. Да и за что хвалить: сам обгадился и тень на всех бросил.
На отрядном разборе доложил в двух словах. Вопросов почти не было. Медведев журил почти ласково. Все всё понимают.
Почему я так боялся выйти за пределы ограничений? Это глупая упрямая самоуверенность. Мастер, мастер…
Нет, брат, не так все легко дается. И спасибо ребятам, что все как один дали мне понять, что я еще соплив как командир.
Дело не в чистоте полета, а в комплексном использовании всех способностей и умений для достижения одной цели – безопасности полета. Ну, дал мне бог эту чистоту, но я превратил ее в фетиш, в самоцель. А надо еще думать головой.
В частности, Медведев посоветовал мне обратиться к Руководству насчет максимально допустимого посадочного веса в Сочи. Порылся, и вышло, что в тех условиях проходило всего 69 тонн – это с закрылками на 45. А я лез на 28 – с 76 тоннами. Выходит, мы все там всю жизнь нарушаем.
Это теоретически. А практически пробег-то всего 1200-1300 метров.
Я ведь никогда не прикидывал, проходит ли в Сочи вес на посадке, и никто не прикидывал. Раз все летают, значит, дядя думал.
А думать-то надо мне.
Вчера был в райкоме на семинаре пропагандистов. Лекция о некоторых аспектах нашей внутренней и внешней политики. Вещи серьезные. Мы тридцать лет занимались говорильней, а капитализм реконструировал экономику, образование, и теперь диктует нам свою волю. А мы должны за пять лет догнать.
Ага, догнать, – с нашими алкашами, бичами, лентяями, с безграмотными, зажравшимися, некомпетентными и коррумпированными. Сложная задача, за пять лет-то.
А главное, в это все никто не верит, все посмеиваются.
Я говорил и говорю: общество наше тяжело болеет. И уже никто не говорит, что в целом все отлично, а единицы портят картину. Заговорили, заговорили на всех уровнях, серьезно, бия себя в грудь. Где ж вы раньше были.
Я сам – среди равнодушных. Мелкие обиды, усталость, пенсия… На своем месте неудачи одна за другой. А формально – за два месяца я передовик и получаю премию за премией за экономию и производительность. Это за тринадцать-то часов налета в январе, с повреждением самолета. Медведев за это одной рукой снял полсотни премиальных, а другой рукой дал столько же.
Нет, до связи с конечным результатом еще далеко. Все на бумаге, все формально.
23.02. Три года назад обстановка с топливом была такая же, как и сейчас, даже хуже, потому что постоянно гоняли на дозаправку из одного аэропорта в другой. Сейчас эту лавочку прикрыли, т.к. на перелеты топлива перерасходуется значительно больше, и выигрыша никакого. Заставили на местах запасаться топливом или же лучше стало со снабжением – я не знаю. Но хорошо помню сказки, какие рассказывали нам компетентные лица: и о том, что, мол, Аэрофлот раньше времени перешел с бензина на керосин, и Госплан не учел, и железная дорога подводит, и завод где-то встал из-за неисправности, – короче, много всего было выдумано, а теперь вот всерьез заговорили, что иллюзии насчет сибирской нефти лопнули, как мыльный пузырь, месторождения истощаются; нефть требует огромных затрат, она не годится на производство авиационного топлива. Это не в Саудовской Аравии – качать из скважины прямо в танкеры. Да еще с нашей дезорганизацией труда.
Короче, призывают экономить, пока наведут порядок с добычей. А значит, перелеты на дозаправку надо отменить.
А тогда, несколько лет назад, когда нам затыкали рты приказами, а уши – сказками, летчики, которым на местах виднее и больнее всех, пытались своими мерами как-то протестовать и бороться с бессмысленными перелетами. Доходило до саботажа: не указан в задании на полет аэродром, куда гонят на дозаправку, – экипаж идет в гостиницу, а местное начальство, донимаемое мающимися пассажирами, подумает-подумает, да и выдаст недостающие три тонны из своего лимита, чтобы не задерживать рейс.
Мне самому на такой принцип идти не хотелось. Как-то на Ил-18 я уже задержал в Харькове рейс Красноярск-Волгоград-Харьков-Львов из-за нехватки рабочего времени. Рейс длинный, времени в обрез, нас где-то задержали с погрузкой А обстановка в то время была такая, что начальство цеплялось за свое кресло, а значит, за букву, и пилоты были между двух огней: с одной стороны, нельзя нарушать рабочее время, а с другой – пойдут задержки, и всем станет ясно, что надо давать в рейсе экипажу дополнительный день отдыха, и рейс тогда станет долгим и невыгодным.
Вот я и висел так, понимая, что случись какая зацепка – выпорют за нарушение рабочего времени. Ну, там, полчаса-час, это еще терпимо; но у меня уже выходило часа четыре переработки. Я плюнул и остался ночевать в Харькове.
На разборе Левандовский меня похвалил, но похвалил так, что – да, Ершов молодец, задержал рейс, не нарушил приказ о рабочем времени; так вот: чтобы не было таких задержек, будете летать во Львов не два дня, а пять, с отдыхом в Харькове, и по расписанию, – и скажите Василь Василичу спасибо.
Скользкое это дело, когда начальство, из каких-то своих соображений, берет длинный рейс, рейс на пределе рабочего времени, и возлагает его на зыбкое основание: авось летчики справятся – им же тоже не хочется сидеть вдали от дома, – а если часок и прихватят, то посмотрим на это сквозь пальцы… до случая. Так хорошо, так удобно…
А уж случись что – разговор будет о нарушении экипажем руководящих документов: видел? Знал? Почему нарушил? Почему не заночевал? И взгляд уже не сквозь пальцы, а сквозь прицел.
И вот я стал козлом отпущения: так было все хорошо, а Ершов сломал этот порядок, запротестовал, – так пусть теперь всем будет плохо. И причина не в том, что начальство соглашается выполнять такой подлый рейс, заведомо обреченный на задержки, а в том причина, что – Ершов.
Конечно, ребята поняли, что не я, так другой бы затормозил: кому охота брать на себя то, что не берет начальство. Но мне было неприятно.
И вот новый виток спирали, и я рангом выше, КВС Ту-154. И подобный же рейс: Красноярск-Казань-Донецк-Одесса. И Казань особенно допекает с топливом. То ли там хитрый татарин зажимал лимит для своих рейсов, то ли, и правда, с цистернами на железной дороге был завал, – но нас через раз гоняли на дозаправку в Куйбышев. И я, помня уроки Ил-18, хоть и летал этим рейсом, но без особого желания, частенько нарушая рабочее время и уже не особенно заботясь, что вскроется, потому что это было массовое явление. Не я первый, не я последний, а главное – уже заработал к тому времени пенсию и мог огрызаться смелее, да и сама обстановка в аэрофлоте стала другой, когда за такие мелочи уже и не спрашивали.
Где-то под Октябрьские праздники прорвались мы в Одессу, с дозаправкой в Куйбышеве, отдохнули день и вылетели обратно.
В Донецке стали готовиться на Казань; погоды по европейской части были серенькие, как раз такие, что и вылетать вроде можно, и запасных нет. Чтобы можно было взять аэродром запасным, погода на нем по прогнозу должна быть на 50 м по облачности и на 500 м по видимости выше минимума. Так вот, нигде вокруг Казани таких прогнозов не было, а все ближе к минимуму и еще хуже. Одно-распроединственное Шереметьево давало пригодный для московской зоны прогноз 200/2000. Казань тоже ожидала временами метель 500, но при принятии решения на вылет это «временами» не учитывается.
Опытный, битый-правленый Станислав Иванович посоветовал, хоть полет и менее двух часов, прихватить на всякий случай с собой бланк прогнозов по европейской части страны. Обычно мы при полете менее двух часов просто знакомимся с прогнозом на метео и ставим в задание штамп.
Приняли решение: летим на Казань, запасной Шереметьево. Заправились из этого расчета и воспарили.
По закону подлости Казань закрылась метелью перед снижением. Мы ничтоже сумняшеся набрали эшелон 12100 для экономии топлива и потопали на Москву, готовые упасть, где откроется, желательно в привычном Домодедове.
Но уж если не повезет… Короче, Домодедово закрылось, нас нервно запросили об остатке топлива, минимуме командира и запасном. По расчету выходило, над Шереметьевым остаток еще на 40 минут, мы так и передали и шли вперед, рассчитывая тогда уж на хоть Внуково. Внуково закрылось, оставалось действительно, одно Шереметьево, там подходил заряд.
Московская зона паниковала: испорченный телефон уже донес до министерства весть, что в зону вошел борт с остатком на 40 минут, все закрывается и ожидается предпосылка, если не хуже.
У нас лету до Шереметьева было минут 12. Нам срочно расчистили дорогу, дали заход с прямой, левым доворотом. Погодка была еще в пределах минимума, и мы спокойно сели на едва очищенную от свежего снега полосу. Порулили за машинкой между стоянками, и тут повалил густой снег, закрывший видимость. Успели…
Подкатил трап, и в кабину, где мы сидели, еще горяченькие, вошел солидный инспектор. В ходе короткой беседы выяснилось, что мы молодцы. Сыграл роль и прихваченный бланк прогнозов с запасным Шереметьево, и законный остаток три тонны. Инспектор пожелал нам хорошо встретить наступающий праздник и ушел, а мы провели ночь в шикарном – для белых! – профилактории ЦУМВС, отужинав в прекрасной, смахивающей на ресторан, столовой с официантками.
Наутро открылась Казань, и мы благополучно туда перелетели. И тут началось. Топлива нет, лететь на дозаправку в Уфу. Кто-то шепнул пассажирам. Выстоявшие ночь в шереметьевском аэровокзале, рассчитывавшие прибыть к празднику домой, они были уже подготовлены к скандалу и отказались идти на посадку, а пошли по этажам и минаретам нового казанского аэровокзала искать правду.
Мы с экипажем тоже вовсю старались выбить топливо, но татары уперлись, мотивируя тем, что начальство на демонстрации в городе, некому решать этот вопрос.
Потом меня позвали в ПДСП. Пожилой, верткий, тертый-перетертый представитель местного населения, видимо, сменный начальник аэропорта, покатил на меня бочку, что это я настроил пассажиров. Я взбеленился и пригрозил, что уйду в гостиницу. Он информировал, что пассажиры рисуют лозунги интересного содержания и собираются ехать на демонстрацию, что этим заинтересовались уже представители КГБ, будет скандал.
Праздник был против меня. Действительно, решить вопрос с топливом было некому, проще было перелететь в Уфу, где обычно, не высаживая пассажиров, заправляли за час.
Помня уроки Абакана, я успокоил себя, собрал пассажиров, объяснил им ситуацию, извинился за аэрофлот и предложил лететь, дав гарантию, что потеряем в Уфе один час. С Уфой созвонились, получили согласие, вылетели, и точно, простояли там всего час десять.
К вечеру мы были дома и успели, хоть и вдогонку, отметить праздник.
А в Абакане дело было так. Я уж год как летал командиром Ил-18. Тоже было туго с топливом; практически мы тогда впервые столкнулись с такими трудностями – в самый разгар летней навигации. В Красноярске не стало топлива, и нас отправляли на дозаправку то в Енисейск, то в Абакан.
Мы слетали на Благовещенск – через Енисейск. Рейс был – абаканское колесо: Москва-Красноярск-Благовещенск-Абакан-Москва. Смена – в Абакане. Из-за этой дозаправки в Енисейске нам уже не хватало времени долететь до Абакана; пришлось ночевать в Благовещенске.
Утром, перед вылетом на Абакан, нас никто не предупредил, что и в Абакане нет топлива. Мы узнали об этом только при входе в красноярскую зону, когда диспетчер спросил, куда мы, собственно, идем и где собираемся садиться на дозаправку.
Встал вопрос: и правда, где садиться? В задании однозначно указано: Абакан. Согласно руководящим документам, я, молодой командир, принял решение и сел в Абакане, хотя тот упорно сопротивлялся. Но абаканским пассажирам этого не объяснишь. Я благополучно доставил их домой.
Поехали в гостиницу, отдохнули, а наутро весь экипаж вызвал к себе начальник аэропорта. Я зашел в его кабинет, весь отделанный полировкой, одни дверцы кругом. За столом сидело человек шесть, среди них один из управления – заместитель начальника по режиму. Стали меня пытать: из каких это я соображений сел здесь и заставил высокопоставленное благовещенское партейное начальство стоять ночь в вокзале, где в разгар сезона затеяли ремонт и нет даже воды. Стали стыдить и упрекать, что я не понимаю момента, что дошло до ЦК и пр. На что я им ответил, что как коммунист очень хорошо понимаю, что более действенной меры против создавшегося и в Аэрофлоте, и в Абакане положения – не найти. Очень хорошо, что дошло до ЦК. Наконец-то.
Тут мне сказали, что я неправильно понимаю. Но, видимо, перебои с топливом уже прилично допекли нашего брата: я им там кое-чего наговорил. Обстановка накалилась до такой степени, что грозила взрывом.
За бортом стояла редкая для Сибири жара: под 36. В мой самолет сажали пассажиров, чтобы перелететь в Красноярск на дозаправку и продолжить рейс. Экипаж готовился на вылет. А меня колотило в кабинете начальника аэропорта. Бешенство, иного слова не найду, – бешенство и бессилие пилота, которого обвиняют в том, в чем он не виноват, как и его пассажиры. Я не знал, куда деть свои руки, и постепенно терял контроль над собой.
Вот точно так, видимо, чувствовал себя Слава Солодун тогда в Симферополе, когда был готов застрелить бюрократа.
Отрезвил меня взгляд заместителя по режиму, ласково-внимательно следящего за моими руками, суетящимися у пояса, на котором висела кобура с пистолетом. Он первый врубился в ситуацию и стал меня успокаивать и настраивать на предстоящий полет. Не знаю, что ему, бывшему милиционеру, показалось, но он был явно не уверен, что я вполне владею собой и не собираюсь всадить кое-кому пулю в лоб. Это до меня дошло потом.
Я уже и до десяти в уме считал… Но обида слепила, встала комом в горле. То всячески поднимают роль командира корабля, а тут ни за что дерут, как щенка.
Плюнуть бы мне, пойти в санчасть, измерить давление и отказаться от полета… Но жалко было невинных пассажиров, да и самому смертельно хотелось вырваться из этой накаленной обстановки и от этой изнуряющей жары в прохладную Москву.
Невидящими глазами искал я выход, толкался в эти шкафы на стенках; кто-то забежал вперед и отворил мне дверь, успокаивая на ходу.
Ребята через двери все слышали, переживали, да так, что штурман даже служебный портфель с картами и сборниками забыл на трапе; так бы и улетели, да вовремя кто-то с земли заметил, уже когда трап отошел, вовремя подсказал, передали портфель бортмеханику, уже закрывавшему входную дверь.
Короче, улетели мы, и слава богу, что в полете ничего не случилось.
В Москве меня прихватила жесточайшая ангина, это в июле-то; ну, у меня это иногда бывает, на нервной почве.
Кое-как долетели домой; полежал пару дней, подумал-подумал, что как командир я слаб, горлом брать не умею, только нервы треплю, ничего не добьюсь, кроме, разве, инфаркта. Захотелось сбросить ответственность, не думать ни о чем. Была на июль одна разнарядка на переучивание на Ту-154, которого тогда мы все еще чуть побаивались; поговорил я с покойным ныне Шилаком, плюнул и уехал в Ульяновск.
С тех пор не ищу я правды в аэрофлоте и не выплескиваю эмоции. В конфликтной ситуации надо думать не о качании прав, а как бы побыстрей удрать, пассажиров увезти. Пенсия есть, в любой момент могу послать всех на… и уйти.
Поэтому нечего добиваться каких-то прав сидением в гостиницах. Мало я в них насиделся за двадцать лет.
24.02. Стоял позавчера рейсом на Москву. Зимой налету мало, конечно, рассчитывал на этот рейс: туда ночь, назад ночь, сутки в Москве. Но судьба распорядилась иначе.
Судьба была в образе дежурного командира, Селиванова. На Москву два наших рейса: 44-й и 102-й. 44-м стоял Сергеев, из эскадрильи, которую возглавляет Селиванов. Бывшая моя, а теперь чужая эскадрилья. И собирался на Москву 44-м рейсом вместо Ту-154 лететь Ил-62: много скопилось пассажиров. Так что должны были Сергееву рейс отменить.
Но какому же комэске хочется отдать рейс, когда эскадрилья и так еле-еле вытягивает план: каждый час на счету, а тут пропадает 8 часов. И ведь Ил-62 нам потом не возместят. Компенсируем разве что весной, когда из-за односторонней загрузки невыгодно будет гонять полупустым Ил-62: тогда вместо него пошлют нас.
Селиванов мигом сориентировался, уговорил АДП отменить мой, 102-й рейс, а Сергеев полетел своим 44-м в Москву.
Был бы в это время дежурным командиром Булах, он бы сделал наоборот: отменили бы рейс Сергееву, а полетел бы я, и налет бы потеряла эскадрилья Селиванова.
Вот такое мелкое рвачество: премиальные командного состава зависят от плана. А я одним росчерком пера лишился 70 рублей – оплаты за ночную в оба конца Москву. И до конца месяца мне никто ничего не компенсирует. Имею пока всего 14 часов, светит еще Благовещенск в конце месяца.
Зашел я в АДП, меня поставили перед фактом, что рейс мой выполняет Ил-62, а мне предлагается рейс на Норильск, вроде в компенсацию. Должен был туда лететь начальник инспекции управления, самостоятельно, но там метет; он бросил рейс и уехал, теперь надо искать экипаж, заткнуть дыру. Конечно, есть резервный экипаж, но если Норильск откроется и резерв улетит на Норильск – останемся до утра без резерва…
Погода в Норильске была такая: метель, видимость 400, ветер под 40 градусов до 20 м/сек, температура -37, сцепление 0,3.
Нашли дурака. Сидеть сутки, а то и двое, – когда есть законный на этот случай резервный экипаж: он стоял в плане, ребята экипированы на все случаи жизни, в том числе и на Север. А мы в пальтишках. Не надо мне и этих денег.
Я вежливо, но твердо отказался. Норильск – это не подарок, а тяжкая обязанность. Не моя вина, что начальнику расхотелось туда лететь. Я не готов.
Да и обидно стало, что вырвали из зубов кусок пожирнее, а затыкают рот вонючей костью, которую другой выплюнул.
Бог с ним, с четвертаком, зато двое суток отдыхаю дома.
Завтра открывается какой-то там съезд. Как все-таки за год все изменилось в стране. Люди поверили, что настала пора реальных дел. Оно бы и мне вскочить на лихого коня, шашку наголо, – и…
Нет, устал я. Лет десять предстоит меняться психологии сверху. Снизу ничего у нас не сделаешь, в это я верю твердо.
Второй отряд наш, что летает на легкой технике в Северном, написал жалобу в секретариат съезда и, не доверяя почте, отправил с экипажем Ил-62. Жаловаться есть на что. Аэропорт заброшен, ждут сноса, но все откладывается с года на год, все рушится, а ведь там люди работают, молодежь – и никаких перспектив.
Тут же примчался шакал из крайкома, начал лаять на всех, искать зачинщиков. Э – значит, правильно сделали, что послали с экипажем. Без цензуры оно больнее бьет по крайкому. Зашевелились…
Так-то вот добиваться правды снизу. Пока еще наверху не перестроились, ругают за критику.
Ну, лягу я костьми за правду, убью лучшие годы, – и еще неизвестно, как оно обернется.
Каждому поколению надо выстрадать свое. Пусть молодые пробуют. А я стар для этого.
Те, кто летает по 30 лет, летают спокойно. Вечные вторые сильно не нервничают – лишь бы за штурвал держаться. Старые командиры умеют расслабляться.
А я не умею. Правильно сказала наша врач на медкомиссии: у меня слишком тонкая кожа для Аэрофлота. Полезно для самозащиты выработать некоторое равнодушие, чтобы не нажить язву или еще чего похуже. В конце концов, Аэрофлоту пилот нужен, чтобы пилотировать, героически или не героически преодолевая трудности в небе. А земля пусть решает земные проблемы.
Давит в горле. Как понервничаю, так начинает давить, как будто кусок застрял. На рентгене проверил – пищевод в норме. Это все нервы. Нет, надо очень беречь здоровье. Когда давит, и ночь не спишь, думаешь, то как-то не до мировых проблем. Мне же еще только перевалило за сорок. Нет, надо занять пока позицию стороннего наблюдателя, тихонько исполнять свои обязанности, в тех рамках, что требует начальство, и летать себе, пока не спишут.
Сгорает старое, но еще трещит. Очередной треск: итоги недавнего субботника. Говорилось о нем с помпой, месяца два. Приняло участие аж более ста миллионов, в фонд субботника поступило аж двести миллионов рублей…
Ага. Проще и выгоднее было бы просто отслюнявить два рубля с носа.
Я отдал час летного времени – 8 рублей. Подавитесь и отстаньте.
Ох и ударно же трудились – каждый по два рубля не заработал. Да и я, сидя за штурвалом, что-то не проникся ударным духом, а лишь сожалел, что выдрали клок зарплаты, как за год по несколько раз выдирают: то в какой-то фонд мира, то взносы в какие-то несуществующие добровольно-принудительные общества. Никаких эмоций и никакой разницы: субботник это или очередная обдираловка.
Не жалко червонца, жалко идею. Мне бы приятнее было видеть конечный результат, на хорошее конкретное дело первым бы положил, сколько не жалко, как кладу на похороны товарища. Вот и на похороны субботника тоже кинул. Мероприятие с нижайшим КПД.
Прошел слух, что как создали Агропром на базе множества околосельскохозяйственных министерств, так собираются объединить все транспортные министерства в одно. Это было бы здорово. Чтобы был один хозяин и у моряков, и у автомобилистов, и у железнодорожников, и у авиаторов. Это было бы прекрасно, всем на пользу. Но… что-то не верится, слишком смело. Это же все надо перевернуть. Сколько было бы устранено противоречий и неувязок…
25.02. Слетали в Благовещенск, без особых приключений. Садился там Валера, очень старался попасть на ось, попал, но допустил две ошибки. Глиссада там чуть круче обычной, а он убрал газы до 78, потом, не обратив внимания на тенденцию скорости к падению, еще до 74. Над торцом скорость была 260 при весе 75 т.
Я следил лишь за темпом выравнивания, следя, чтобы он не допустил низкого выравнивания и удара колесами. Темп был нормальный, но, когда машина должна была замереть, он то ли отвлекся, то ли просто забыл придержать ее штурвалом: в РЛЭ это называется «предотвратить дальнейшее увеличение угла тангажа». Угол, естественно, чуть возрос, мы чуть взмыли; здесь помог бы запас скорости, а его-то и не было, и хоть Валера и добрал штурвал, машина все же грузно опустилась без скорости, с высоко задранным носом. Перегрузка 1,35, это на пятерку, но… Воронья посадка. Разобрали, понял ошибки, вперед наука.
Назад летел я, заходил дома немножко коряво. Подошли высоковато из-за встречно-попутных «Элок»; пришлось шасси выпускать на высоте 1000 м, еще перед третьим. Однако к четвертому все устроилось; был боковичок до 10 м/сек, под 45 градусов, но посадка удалась. Машина замерла, чуть поддуло, пришлось исправлять и крен, и легкое взмывание, снова замерла, чуть добрал, и легко, мягко покатились. Бережно теперь опускаю ногу.
Весь полет следил за режимом двигателей, затягивал газы, выжимал все из высоты и ветра, – и выжали 4,5 тонны экономии за рейс. Время полета на 5 минут меньше, а экономия значительная, притом, загрузка почти плановая: по 140 человек, да груз, почта, багаж. А главное – хорошая машина.
Нет, при желании – можно экономить.
Завтра снова Москва, не моя, а просто где-то в Одессе застрял Кирьян, это его рейс, и Булах отдал его мне, чтобы было что кушать.
26.02. Когда висишь на высоте двенадцать километров над потерявшейся между облачных громад землей, с ее мелкими обитателями, в маленьких, чуть заметных сверху городишках согнувшимися перед подходящей к дому стеной грозы, невольно гордишься тем, что можешь наблюдать все это сверху, через сполохи розового огня, перекатывающегося глубоко внизу, в серо-синей клубящейся массе туч.
Ну, прямо царь природы: выше гроз, выше туч, выше всей земли, выше ее мелких людишек, с их маленькими страхами, заботами и суетой.
Однако самолет стоит на вершине такой огромной пирамиды, что и не окинешь ни взглядом, ни мыслью. Те самые людишки, которых и не видно, которым не дано увидеть того, что видишь сверху ты, – вот те самые и вознесли тебя сюда. Кто-то добывал руду, кто-то плавил ее в ванне, где душно и дымно, кто-то прокатывал металл, тянул проволоку, обматывал изоляцией, вязал жгуты. Кто-то ткал эту ткань, плавил пластмассу, формовал шины, клепал, варил, паял, собирал. А кто-то еще до этого задумывал, изобретал, пробивал, утрясал, руководил. А кто-то платил им всем деньги, кто-то кормил, воспитывал и учил их детей… Все здесь повязано, все от всех зависит.
И вот – самолет доверен тебе, ты нажал сделанную и отремонтированную кем-то кнопку – и вознесся. А у тебя за спиной сидят те же люди: шахтер и металлург, слесарь и монтажник, токарь, пекарь, врач, бухгалтер, кассир, уборщица.
Ты веришь им всем, их труду, вложенному в твой полет. А они верят тебе, твоему труду, твоим рукам. Все взаимосвязано, все мы нужны друг другу.
Но вот где-то человек недосмотрел, где-то чуть не так сделал, другой его не проконтролировал, третий чуть нарушил технологию, – и пошло, завертелось, покатилось… туда, где все рассчитано на абсолютную надежность.
Если бы у Фалькова за спиной сидели дети того металлурга, что плавил сталь для колеса компрессора, дети того лаборанта, что проверял пробу металла, дети всех тех, кто так или иначе причастен к этой бракованной детали, – если бы эти дети горели на глазах у потрясенных родителей, своими руками сотворивших смерть собственным детям…
Но летели другие, ни в чем не виноватые люди.
А все же мы связаны. И добро, и зло, всегда, хоть рикошетом, хоть эхом, отдаётся и когда-то вернется к его создателям.
Думали ли об этом жители Вознесенки, когда тридцать лет назад мародерствовали в останках упавшего рядом с деревней самолета, кровавыми руками, сдирая кольца и обшаривая карманы изувеченных и разодранных пассажиров?
Какое колесо судьбы повернулось, через какие системы передач прошел заряд зла, чтобы вернуться и ударить – гораздо больнее – по преступному селу? Как так получилось, что краденый заводской спирт, преступным путем постоянно поставляемый вознесенцам, оказался в этот раз метиловым, и сейчас десятки людей, старых и молодых, лежат, парализованные, ослепшие…
Преступная, порочная жизнь привела к трагедии, но кто знает, может, и есть связь прошлого с настоящим.
Может, это Божий суд.
Я верю, что все мы связаны. Мы все зависим друг от друга. И если не хотим зла, надо делать добро.
Не тем надо гордиться, что ты выше других. Кто-то выше тебя в другом. А тем надо гордиться, что тебе доверили быть выше. Так будь.
Copyright: Василий Ершов, 2009
Свидетельство о публикации №1911300508


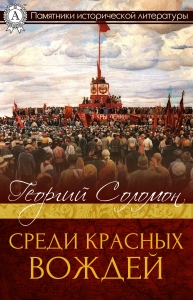


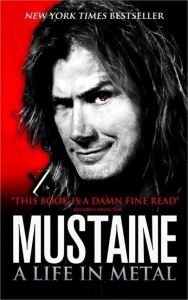



Комментарии к книге «Летные дневники. Часть 2», Василий Васильевич Ершов
Всего 0 комментариев