Дмитрий Сергеевич Мережковский Павел. Августин
I. Павел
I
Первый святой – Павел; в нем первая точка пути от Иисуса к нам. Были, конечно, и до Павла святые – ближайшие к Иисусу ученики; но святость тех – иного порядка, чем Павлова: та – в вечности, в мистерии; эта – во времени, в истории. Лица у тех не совсем человеческие; лицо Павла – совсем: те – небесные, это – земное; те для нас уже почти невидимы, первое видимое – это. Первый, по Воскресении слышимый нами, голос, возвещающий Христа, – голос Павла..[1]
Павел первый святой для нас, но не для себя, по вечному закону святости: чем для других святее, тем грешнее для себя. Цену себе он знает: «Нет у меня ни в чем недостатка против высших Апостолов» (II Кор. 11, 5). – «Слуги Христовы – они? В безумьи говорю: я больше, я гораздо больше» (II Кор. 11, 23).
«Лучше мне умереть, чем уничтожить мою похвалу» (I Кор. 9, 15). Это последнее он говорит уже не «в безумьи». Мы удивлены: слишком это не похоже на то, что мы считаем святым. Но, может быть, и Павел удивился бы, если бы узнал, чем он свят для нас. «Что ты Меня называешь благим (святым)? Никто не благ (свят), кроме одного Бога», – может быть, ответил бы нам и Павел, как Иисус. «Братия», члены Тела Христова – Церкви, святы для Павла все равно, хотя и по-разному, потому что быть в Церкви, в Теле Христовом, и значит для него быть «святым». Очень бы он удивился, если бы узнал, что это для нас уже не так; что «Церковь» может значить: святые не в Церкви и в мире, а только в Церкви; один-два спасшихся на тьму погибающих; звезды во тьме, не внешней, – мира, а внутренней, – самой же Церкви; точки живые в мертвом теле не мира, а самой же Церкви, – страшно сказать, – самого Христа. Очень бы удивился Павел, а может быть, и ужаснулся, если бы узнал, что могут быть такие «святые», что будет и он таким.
«Первый святой»? Нет, «в мир пришел Иисус для того, чтобы спасти грешников, из них же я – первый… Я для того и помилован, чтобы Иисус… показал все долготерпение свое на мне первом» (I Тим. 1, 15–16). – «Братья, я себя не почитаю достигшим (святым)… а только стремлюсь… к почести вышнего звания» – святости (Флп. 3, 13–14).
Слов пустых нет у Павла; не пустое слово и это: «после всех явился и мне (Иисус, по Воскресении), как некоему извергу, ektrómati» (I Кор. 15, 8). Великий святой и великий грешник, «изверг», в одном лице, – может ли это быть и что это значит, – мы не понимаем. Видим только лицо Павла, а сердца его не видим, не знаем, может быть, потому, что самое невидимое в мире, неизвестное для грешных, – сердце святых.
Первый святой – Павел Неизвестный. Им начинается какой-то путь, а за ним, – ряд святых, как бы таинственных вех или сторожевых огней на пути. Чей это путь, откуда и куда он ведет, мы тоже не знаем или не хотим знать. Но если бы мы поняли, что и эти святые для нас такие же все, как Павел, Неизвестные, то, может быть, мы поняли бы и то, куда и для Кого проложен этот единственный путь от Иисуса Неизвестного к нам.
II
Лучше всего мы узнаем о жизни Павла от него самого.
«Я – Иудей, родившийся в Тарсе Киликийском, воспитанный в этом городе (Иерусалиме), при ногах Гамалиила, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как и вы все», – напоминает, не без гордости, Павел Иудеям в Иерусалиме (Д. А. 22, 3), а также Иудеям в Риме: «Я – Израильтянин от семени Авраамова, колена Вениаминова» (Рим. 11, 1). И царю Агриппе узник Павел напоминает: «Жизнь мою, от юности, проводил я, сначала среди народа моего, в Иерусалиме… Я жил фарисеем, по строжайшему, в нашем исповедании, учению» (Д. А. 26, 3–5). «Мы – Иудеи прирожденные (святые), а не из язычников (Эллинов) грешники». – «Я преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи неистовым ревнителем отеческих моих преданий», – скажет он возлюбленным, но неверным и «несмысленным», детям своим, Галатам (2, 11–15; 1, 14); и уже в конце жизни, – Филиппийцам (3, 5–6), тоже детям своим, возлюбленным, но верным и умным: «Я – обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей… по правде Закона, непорочный».
Так утверждая в себе Иудейство, как единственную исходную точку всей своей жизни, Павел только наполовину прав, потому что не одна у него исходная точка, а две, – два лица, две души: эллинская, – явная, дневная, и тайная, ночная, – иудейская. Вся его жизнь – «смертное борение», «агония» этих двух душ; весь день его – Гефсиманская ночь. Сам в нее вошел и вовлек весь мир. Как и чем? Только узнав это, мы узнаем Павла Неизвестного.
III
Родина Павла – столица Римской области Киликии, незапамятно-древний, хеттито-ханаанский город Тарс, отстроенный заново Помпеем, в 63 году до Р. X., на юго-восточном берегу Малой Азии, по узкой цветущей равнине, почти у самого моря, на берегу Кидна-реки, чьи прозрачные воды несут и в знойные долины свежесть горных снегов. Море – к югу, а к северу – снеговые вершины Киликийского Тавра.[2]
Пришлое население Тарса, – купцы, наемники, блудницы, пророки чужеземных божеств, а также великие философы и маленькие риторы, – смешивает, уже со времен Диадохов, древнее Семитство с новым Эллинством.[3]
«Жители Тарса отличались такой любовью к наукам, что превосходили в них Афины и Александрию», – сообщает Страбон.[4] Павел, в Тарсе, недаром надышался с детства эллинским воздухом. Знал, конечно, тогдашний еврейский или, точнее, арамейский школьный язык; но, судя по тому, что выдержки из Ветхого Завета, в Посланиях, никогда не приводит в еврейском подлиннике, а всегда в греческом переводе LXX Толковников, – лучше знает простонародно-всемирный, всеэллинский язык, так называемый koiné, чем арамейский; тот, чужой, будет для него родным, а этот, родной, – чужим.
Здесь только, во всемирном Эллинстве, – вторая для него родина, та самая, где «нет ни Иудея, ни Эллина, ни варвара, ни Скифа, ни раба, ни свободного» (Кол. 3, 11), а есть одно или Один; Кто, – этого он еще не знает в те юные годы, но как жадно хотел бы узнать, как чутко прислушивается к страшному уже для него и блаженному веянью этого нового, всемирного Духа!
IV
Года его рождения мы с точностью не знаем; но, судя по тому, что при первом появлении своем, в 31–32 году, Павел, в «Деяниях Апостолов» (7, 58), назван «юношей», neanias, а в 63 году он сам себя называет «старцем», presbytes (Фил. 1,9), – Павел почти ровесник Иисуса, – только на три, на четыре года моложе Его.[5]
«Савл», Schaul, – имя иудейское, по обрезанию; «Павел», Paulus, – римское, по римскому гражданству.
Два эти имени – как бы внешний знак будущей в нем внутренней двойственности. Сколько бы Павел, уже обратившись, ни убеждал себя, что «нет во Христе ни Иудея, ни Эллина», – он никогда не примирит их в себе, «вечно будет между ними раздираться, не зная, как мы того не знаем, – кто же он сам, настоящий, и кто его двойник, – Савл или Павл, Иудей или Эллин?
Судя по тому, что Павел родился в «римском гражданстве», civitas Romana (Д. А. 22, 28), предки его заслужили или приобрели это почетное, больших денег стоившее звание; или, что вероятнее, приобрел отец: значит, умел разбогатеть, знал толк в делах, был житейски умен и ловок. Эти свойства отца унаследует и приумножит сын, но уже не для себя, а для своего великого дела. Пользоваться будет и римским гражданством, умно отстаивая, в нужных случаях, перед властями, тоже не для себя, а для дела, законные права свои и человеческое достоинство.
V
Так же, как во всех иудейских, старозаветных семьях, где одно и то же ремесло передается из рода в род, научился, должно быть, и Павел ремеслу отца. «Нуждам моим и бывших при мне послужили вот эти руки мои», – скажет братьям Эфесской общины (Д. А. 20, 34). «Делатель шатров», skenopoiós (Д. А. 18, 3), или «обойщик», по-нашему, изготовляет он из длинных полотнищ грубой козьей шерсти, cilicium (названной так по месту, откуда она привозилась, Киликии), те островерхие, черные шатры, какие можно видеть, и в наши дни, в пастушьих кочевьях, на горах Киликийского Тавра.
VI
Павел будет всю жизнь помнить то, чему научился в Тарсе отрок Шаул, не только в стенах иудейской школы при синагоге, но и под открытым небом, на площадях и улицах, в нимфеях и портиках, в банях и на торжищах, а также, вероятно, в открытых всем, манящих и случайного прохожего, в знойные дни, с улицы в свежесть мраморных сеней, великолепных школах-базиликах бродячих эллинских философов и риторов.
В речи к Афинянам о жертвеннике «Неведомому Богу», Agnostó Theó, вспомнит Павел, может быть, ради споривших с ним только что эпикурейских и стоических философов, стих Арата, поэта-стоика (Д. А. 17, 18–28), а в предсмертном письме к Титу (1, 12), о Критской общине, вспомнит стих тамошнего поэта, Эпименида. Зная этих малых, знает, вероятно, и великих, – Гомера, Гезиода, трагиков или, по крайней мере, кое-что слышал о них. Петр, Иаков, Иоанн, – никто из Двенадцати этого не знает и, уж конечно, благовествуя Распятого, о греческих поэтах не вспомнил бы. «Люди неграмотные», aggrammatoi, – скажут иудейские книжники о Двенадцати (Д. А. 4, 13).
Это, конечно, только мельчайшая, едва уловимая, черта в лице Павла, но живая, – в живом: можно и по ней судить о том, как уже страшно далек от тех рыбаков Галилейских рабби Шаул и римский гражданин Павел: как страшно он отделен от, ближайших к Иисусу, учеников, а может быть, и от самого Иисуса, и какой далекий путь к Нему надо будет пройти Савлу. Трещина эта между ними с волосок, но может зазиять пропастью.
Страшно далек Павел от Двенадцати, но чем дальше от них, тем ближе к нам. Им подобного не будет уже никогда никого; Павлу подобен будет весь мир.
VII
Первый иудейский философ, Аристобул Александрийский, истолкователь Пятикнижия, в духе Платона и Аристотеля, кажется, был слишком знаменит в тогдашнем Рассеянии, чтобы Павел мог не знать его или, по крайней мере, о нем. Только одним созвучием имен: «Музей – Моисей» – не пленился бы, конечно, Павел, как Аристобул, и не сделал бы из этого созвучия детски сказочного вывода, будто иудейская мудрость – учительница эллинской, потому что праотец ее, Орфей, – «ученик Музея – Моисея».[6] Но с главным учением Аристобула: «слово Божие не в мертвой букве, а в духе живом», – согласился бы и Павел.[7]
«Книги Премудрости Соломоновой» он также не мог не знать. В книге этой слышатся отзвуки всей эллинской мудрости, от Гераклита до Платона, вместе с отзвуком эллино-египетского тайного Ведения, Гнозиса. Здесь о творении мира говорится так, что это ближе к «Тимею» Платона, чем к «Бытию» Моисея: мир творит вместе с Богом, София, Премудрость Божия, – среднее между миром и Богом, Существо, почти то же, что «Демиург» или «Мировая душа» Платона. И будущее имя Бога-Слова – «Логос» Филона-Иоанна здесь уже произнесено или хотя бы только прошептано.[8] И тайный догмат неопифагорейцев и орфиков о «пресуществовании душ», отразившийся в одном из будущих, главнейших опытов-догматов Павла, – О Предопределении, próthesis praedestinatio, здесь тоже слышится: «в утробе матерней, сгустился я в плоть… и ниспал на землю – родился; «душу имея добрую (в вечности, до рождения), вошел я и в чистое тело» – родился во времени (Прем. Сол. 7, 2–3; 8, 20).[9]
Как бы смутно этого всего ни чувствовал Павел, читая книгу эту, отроком, в Тарсе или, юношей, в Иерусалиме, – он этому не мог не удивиться и глубоко над этим не задуматься.
«Мудрость Божию, Theou Sofia, в тайне сокровенную, en mysterio, мы возвещаем, которую Бог предназначил (предопределил, proórisen) прежде всех веков», – скажет Павел, уже «Апостол язычников» (I Кор. 2, 7–8).
Кажется, Петр будет страшиться и для себя самого этой Павловой «мудрости»; будет остерегать от нее и Церковь: «Брат наш возлюбленный, Павел, по данной ему премудрости… говорит об этом в посланиях своих, в которых есть нечто и непонятное (невразумительное, dysnoetatina), что несведущие и неутвержденные извращают, к собственной своей погибели» (II Петр. 3, 15–16).
Вот где «трещина с волосок» уже зазияет пропастью.
VIII
В эти именно дни Павловой юности, почти в канун тех дней, когда на Иордане, в Вифаваре-Вифании, раздался «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу… идет за мною Сильнейший меня» (Мт. 3, 3; Мрк. 1, 7), – в эти именно дни вспыхнула в Эллинском Рассеянии, так, как еще нигде и никогда, надежда Израиля: «скоро Мессия придет».
В эти же дни ходили по рукам Иудейские Апокалипсисы, где смутно, как тени, мелькали и чередовались два Мессии: торжествующий Царь, «Сын человеческий, грядущий на облаках», bar enach, пророка Даниила (7, 13), и страдающий «раб Господен», ebed jahwe, пророка Исайи (52, 13). Видел ли книги эти отрок Савл или не видел, – во всяком случае, не мог не слышать о тех двух возможных Мессиях, и, только что начал думать (а начал, вероятно, очень рано), не мог не понять, что надо между ними сделать выбор.
«Кто из двух? Кто из двух?» – спрашивал себя, должно быть, и он, как многие, в те дни, и томился, и мучился оттого, что выбора сделать не мог.
IX
В тесной и темной, сильно пахнущей улочке иудейского предместья в Тарсе, огражденного стеною, – как бы города в городе, малого – в большом, – сидя в шатрово-обойной мастерской отца, за ткацким станком, с длинными, черными, однообразно снующими туда и сюда нитями козьего волоса, с однообразно ходившим на цепи и однозвучно стучавшим, тяжелым, из гладкого дерева, чесальным гребнем, отрок Шаул так глубоко задумался, что ничего не видел и не слышал.[10] Тянутся-тянутся, быстро снуют, скрещиваясь, в наклоненной раме станка, длинные, лоснящиеся нити, ослепительно черные, так что в глазах рябит, а в голове еще ослепительней скрещиваются черные мысли: «Кто из двух? кто из двух?»
Вдруг, сам того не желая, противясь тому и страшась, вспомнил, что видел и слышал однажды издали, на великом празднестве главного здешнего бога, Сандона, Ваала-Тарса Киликийского, Геракла Эллинского, – одного в трех лицах.[11] Слышал глухие гулы тимпанов, пронзительные визги флейт, исступленные песни жрецов, и вопли толпы, и треск горящего костра; видел белые клубы дыма с языками красного пламени, лижущего ноги кумира. Знал, что люди сжигают бога, в память того, что он сам себя сжег однажды и вечно сжигает, вольно приносит в жертву себя за все и за всех; умер однажды и умирает всегда, чтобы всех воскресить. – «Бес, а не Бог; губящий, а не спасающий», – думает отрок Шаул или только хочет думать, но не может, потому что не знает наверное и мучается, томится томлением смертным.
Знал, может быть, уже и тогда, что «есть много богов, но у нас (Иудеев) – один Бог Отец» (I Кор. 8, 5–6). Много есть и таких же, как этот Ваал-Тарс, страдающих за людей, и умирающих богов-искупителей: Озирис Египетский, Таммуз Вавилонский, Аттис Фригийский, Митра Персидский, Дионис Эллинский, Адонис-Адонай Ханаанский (этот – самый лживый и страшный из всех, потому что имя его – имя истинного Бога), и сколько еще других, неведомых! «А за ними всеми – бес один», – думает отрок Шаул или только хочет думать, но не может. «Бог или бес? Кто из двух? кто из двух?» – мучается, смертным томлением томится.[12]
«Вот они все, со всех концов мира, туча тучей, как вороны на падаль, слетаются на бедную душу мою!» – думает он, с от вращеньем и ужасом. Закрыл глаза, чтобы не видеть; но черные мысли – черные нити, и под закрытыми веками, скрещиваются еще ослепительней. И рдеют на той черноте, точно кровью наливаются, огненные буквы Исаиина пророчества:
Раб Господен, ebed jahwe… презрен был и умален пред людьми… И мы отвращали от Него лицо свое… и ни во что ставили Его… Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. Казнь мира нашего была на Нем, и ранами Его мы исцелились… Род же Его кто изъяснит? (Ис. 53, 3–8).
X
«Кто изъяснит?» – мучается отрок Савл, смертным томлением томится. А черные мысли – черные нити, все черней, ослепительней. Вдруг огненно-красные буквы на той черноте побелели и вспыхнули таким огромным светом, что поглотили всю черноту. Свет был так ярок, что солнце перед ним померкло бы, как свеча перед солнцем; ярок, но не ослепителен, потому что шел как будто не извне, а изнутри Павла и наполнял его всего, как вода наполняет сосуд. И в свете этом увидел он все, и узнал, что «все хорошо весьма», как в первый день творения, сказал Господь и праведные скажут в последний день мира; понял, что значит: «око того не видело, ухо не слышало, и не приходило то на сердце человека, что приготовил Бог любящим Его» (Ис. 64, 4); понял все, как бы «восхищен был до третьего неба в рай, и слышал там глаголы неизреченные, которых человеку нельзя пересказать» (II Кор. 12, 2–4).
Все это длилось миг – атом времени; если бы дольше продлилось, душа бы не вынесла – уничтожилась.
Вдруг как бы длинное, тонкое жало пронзило все тело его, от темени до пят; лицо исказилось так, как будто кто-то невидимый бил его по лицу, связанного, и он не мог пошевелиться. И, с воплем нечеловеческим, таким, что казалось, не он сам кричит, а кто-то из него, – упал на землю.
«Жало дано мне в плоть, ангел сатаны, бить меня по лицу, hina me kolaphidze, – скажет Павел через много-много лет.
– Трижды молил я Господа, чтобы удалил его от меня. Но (Господь) сказал мне: милости Моей довольно тебе, ибо сила Моя совершается в немощи» (II Кор. 12, 7–9).
Сила Господня уже и тогда совершалась в немощи отрока Савла, но медленно, долго и трудно. Свет, блеснувший в нем, в тот памятный день, за ткацким станком, потух в темной ночи почти так же внезапно, как вспыхнул, и ночь сделалась еще темней. Что узнал тогда, в вещем сне наяву, – забыл, заспал в страшном сне жизни.
«Кто из двух? кто из двух?» – снова мучился, томился томлением смертным. Было с ним то же, что с умирающим от жажды, когда он, увидев во сне, что пьет воду, и проснувшись, жаждет еще неутолимей.
XI
Отроческие годы миновали, наступила юность.
Видя, должно быть, в сыне глубокое, не по летам, благочестие, страсть к наукам и остроту ума, отец Савла решил сделать из него ученого равви, чтобы прибавить доход к доходу, – к шатрово-обойному делу – книжное, и почет к почету, – иудейскую мудрость и святость – к римскому гражданству. С этою целью, вероятно, и послал он его в Иерусалим, к тогдашнему великому учителю Израиля, Гамалиилу Старшему.
Около четырнадцати лет провел юноша Савл «у ног Гамалиила» недаром: к полдню жизни, совершенному левитскому возрасту – тридцати годам, он уже сравнялся с учителем в книжной премудрости, а в пламенной ревности к Закону мог бы его превзойти, если бы дошел до конца по пути, на который вступил; но не дошел – преткнулся о камень соблазна, в самом начале пути.
Странные, чудные слухи о новом великом пророке, Иисусе Назорее, стали доходить в Иерусалим. «Кто он такой? Откуда?» – недоумевали мудрые. – «Не это ли Мессия, сын Давидов?» (Мт. 12, 23), – говорили, пока еще не вслух, а только шепотом, на ухо, глупые – «темный народ, от сохи», am-haarez, – тот, о котором думал, может быть, и мудрый Савл: «Этот народ – невежда в Законе; проклят он» (Ио. 7, 49). – «Разве из Галилеи (языческой тьмы и тени смертной) придет Мессия?» (Ио. 7, 40–42).
Так думал или только хотел бы думать Савл; но, по мере того как слухи росли, он вспоминал, должно быть, все чаще, как искушали его, в Тарсе, «боги-бесы». Понял, что мира душе своей не найдет и здесь, в Иерусалиме, Городе Мира: здесь – даже меньше, чем в Тарсе: оттуда – сюда, как из огня, да в полымя; там была только тень Врага, а здесь – Он сам; те были чужие, далекие, древние, а Этот – сегодняшний, здешний, свой; те возвещали, что Он придет, и вот, пришел. Имя Врага, ложного Мессии, Соблазнителя, Обманщика, – «Иисус Назорей».
XII
Знал ли Павел Иисуса, видел ли Его?[13]
Более чем вероятно, что Савл был в Иерусалиме, в те Пасхальные дни 29–30 года, когда пришел туда Иисус из Галилеи. Чтобы не увидеть Его ни разу, за все эти дни, Савл должен был бы прятаться от Него, не выходить из дому или сделать то, чего не сделал бы ни один благочестивый иудей, – совсем покинуть Иерусалим в эти святейшие дни.
Но если Савл видел Иисуса, то мог ли бы Павел не сказать об этом ни слова или, хуже того, говорить, как будто нарочно, так темно и двусмысленно, чтобы его нельзя было понять, как он это делает, в письмах своих (именно письмах, простейших, задушевнейших, а не в церковно-торжественных «Посланиях», – в письмах, как будто не чернилами писанных, а живым голосом, от сердца к сердцу, сказанных)? Очень вероятно, что немногие только из этих писем – 18 (несомненно и целиком подлинных, 8 или даже 5) – уцелели и дошли до нас. Но и в этих немногих мог ли бы Павел, если бы видел Иисуса, говорить об этом так, как говорит?
«Не видел ли я, eóraka, Иисуса Христа, Господа нашего?» (I Кор. 9, 1). Значит ли это: «видел Воскресшего» или видел «Живого»?
Как понять и другую загадку: если я (в подлиннике: «мы», но и здесь, как большею частью у Павла, «мы» значит «я»), если я и знал, egnokamen, Христа по плоти, то теперь уже не знаю, ouk éti ginóskomen (II Кор. 5, 16)? Значит ли это, что еще до того, как увидел Христа воскресшего и узнал Его «по духу», он уже знал Его, и живого, «по плоти», – плотскими глазами видел; или значит только, что мог бы так узнать – увидеть, но не узнал?[14] И почему ни сам Павел, ни Деяния Апостолов не говорят того, что так естественно было бы сказать, – что он Иисуса «не знал по плоти», – плотскими глазами не видел? Почему Лука этому не удивляется и Павел в этом не признается?
Ключ ко всем этим загадкам, может быть, – Дамасское видение Савла. «Кто Ты?» – спрашивает он Иисуса не потому ли, что еще не знает, что Этот, в новой плоти, воскресший, и Тот, живой, – Один и тот же? И только тогда, когда Господь отвечает ему: «Я – Иисус», – снова, может быть, узнает Его, по лицу и по голосу, как человек узнает человека, уже виденного однажды? На этом-то именно тождестве Узнанного сначала, в действительности меньшей, а потом в «видении», «прозрении» – прорыве в иную действительность, бóльшую, не будет ли основана вся вера Павла во Христа?[15]
Но если даже так, загадка еще не до конца разгадана; остается вопрос: мог ли все-таки Павел о действительно виденном Иисусе говорить так, как он говорит? Кажется, мог, и не только мог, но должен был, – не мог бы говорить иначе. Ясно и прямо, с легким сердцем, люди вообще не говорят о том, что слишком для них больно и страшно, чего они сами себе еще не простили и, может быть, никогда не простят; в чем и от других не хотят, не могут, не должны принять прощения. Так, может быть, и Павел: если бы он действительно «знал Христа по плоти» и не узнал, видел и не увидел, то этого он никогда не простил бы себе и от других прощенья не принял бы.[16]
XIII
Видел вшествие в Иерусалим; слышал: «Осанна Сыну Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» Видел слезы Его; слышал пророчество Иерусалиму, Городу Мира, а может быть, и себе, немирному; «О, если бы и ты, хоть в сей день, узнал, что служит к миру твоему! Но это скрыто от глаз твоих»; слышал и понял притчу о виноградарях, убивших сына господина своего: «придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим» (Лк. 20, 16), и притчу о камне, отвергнутом зодчими и сделавшимся главою угла: «Кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит»; слышал тех, кто говорил Ему: «Бес в Тебе»; и приговор Его сынам Авраама: «Ваш отец – диавол». Был с теми, кто схватил каменья, чтобы побить Его, как «богохульника», за то, что Он сказал: «Я и Отец – одно», и с теми, кто кричал Пилату: «Распни!» и кто распинал Его и ругался над Ним: «Христос, Царь Израилев! Пусть теперь сойдет с креста, чтобы мы видели, и уверуем!» И даже тот последний час, когда еще можно было узнать Его и римский сотник, чужой, узнал: «Истинно человек сей был Сын Божий!» – свой до конца не узнал.[17]
XIV
«Проклят, по слову Закона – Слову Божию, всяк висящий на древе; Иисус, на древе креста повешенный, проклят», – это Павел знал, верил в это, но, может быть, все-таки не так, как хотел бы. В слишком пристально при слишком ярком свете смотрящем глазу реет иногда черная точка, как мушка, мешая смотреть: так Павлу мешала верить едва уловимая точка сомнения. И как это часто бывает с людьми, когда они хотели бы верить больше, чем верят, он доказывал себе самому и другим веру свою делом; тихое сомнение громким делом заглушал – гонением на учеников Иисуса.
«Я гнал их даже до смерти», – скажет он Иудеям, врагам Иисуса (Д. А. 22, 4); «Я думал, что должно мне много действовать против имени Иисуса Назорея, – скажет Римлянам, еще ни врагам, ни друзьям. – Это я и делал в Иерусалиме: получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темницы и, когда убивали их, подавал на то голос. И по всем синагогам многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса… в безмерной против них ярости» (Д. А. 26, 9–11); «Я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее», – скажет братьям своим во Христе (Гал. 1, 15) и Ему самому: «Господи! я верующих в Тебя заключал в темницы и бил в синагогах» (Д. А. 22, 19). «Савл терзал Церковь… и весь дышал… убийством», – по страшному слову Деяний (8, 3; 9, 1).
XV
Но чем больше мучил и убивал учеников Иисуса, доказывая веру свою делом, тем яснее чувствовал, что если и докажет ее, то другим, а не себе. «Проклят! Проклят! Проклят!» – повторял и чувствовал, что не может проклясть до конца, как хотел бы. Черная точка в глазу, – уже начало великой черной ночи – слепоты, все плыла, и росла, и крепла.
Если бы он и не видел никогда, «не знал Христа по плоти», то теперь, в учениках Его, узнавал: в их голосах слышал голос Его; в их лицах видел Его лицо, и, чем яснее видел, тем больше чувствовал, что не смеет поднять на Него глаза и заглянуть Ему прямо в лицо: боится, – чего, этого он сам еще не знал, но уже чувствовал, что если бы только заглянул в лицо Ему прямо, то понял бы, что не он побеждает Врага, а Враг – его, потому что чарует, пленяет его, влечет к Себе неодолимо; понял бы, что он, палач, завидует жертвам своим и, мучая их за Него, жаждет таких же мук для себя.
Было с ним и теперь то же, что некогда в Тарсе: так же умирал от жажды, как тогда; но пил теперь уже не воду, во сне, а наяву – кровь свою из растворенных жил; еще не знал, но уже чувствовал, что, терзая учеников Иисуса, себя терзает и в их крови пьет свою.
Может быть, уже и тогда если бы только прислушался к тихому голосу, тихому веянию, в сердце своем, то услышал бы: «Савл! Савл! что ты гонишь Меня? Трудно тебе идти против рожна».
Если упрямый бык не слушает голоса погонщика, тот колет его острием железной палки – рожна и нудит идти, куда хочет; так Савл не слушался пастушьего голоса, метался, как бешеный бык, на рожон; но острое железо уже входило в сердце его все глубже, чтобы шел, куда хочет пастух.
XVI
Кажется, в суде человеческом над первым за Христа мучеником, диаконом Стефаном, предтечей Павла, совершился Божий суд и над первым за Христа мучителем, Савлом.
«Жестоковыйные! люди с необрезанными (глухими) сердцами и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому… Кого из пророков не гнали ваши отцы? Они убили (всех) возвестивших пришествие Праведника; Его же убийцами и предателями ныне сделались вы», – говорил Стефан, в Синедрионе, судьям своим и палачам. И, смотря на него, видели они лицо его, как лицо Ангела… «И рвались на него сердцами своими и скрежетали зубами». Больше всех, может быть, Савл, но не на Него, а на себя; за что – этого он все еще не знал, но чувствовал теперь уже так, как еще никогда. В ярости был на себя за то, что Стефану завидует, и, зная, на что он идет, хотел бы идти с ним.
«Будучи же исполнен Духа Святого, Стефан поднял глаза к небу и увидел славу Божию и стоящего одесную Бога, Иисуса, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстыя и Сына человеческого“…
Поднял, может быть, глаза к небу и Савл и в первый раз увидел Врага, лицом к лицу, и понял, что побежден.
Судьи же, «с громким воплем затыкая себе уши (чтобы не слышать „богохульника“), кинулись вдруг все на него и, выведя за город, стали побивать его камнями».
Все побивали, кроме Савла: он один стоял вдали. И «свидетели (те, кому должно было, по Закону, бросить первые камни) положили одежды свои у ног его, чтобы он их стерег» (Д. А. 7, 51–60).
Если бы в эту минуту убийцы Стефана оглянулись на Савла, то не узнали бы его; и если бы могли они через это лицо заглянуть в будущее, то побили бы камнями Савла, прежде Стефана.
XVII
Но как бы ясно ни понял он в тот день, что борьба для него кончена – Враг победил; как бы ни хотел остановиться, прекратить гонение на учеников Иисуса, – он этого сделать не мог, как падающий камень остановиться не может.
Взяв письма от первосвященников и членов Синедриона к синагогам в Дамаске, Павел шел туда, «чтобы и тамошних учеников Иисуса привести в оковах в Иерусалим на истязание» (Д. А. 22, 5; 9, 2). Письма эти он взял еще, должно быть, раньше и теперь вынужден был пойти, чтобы не выдать себя.
Восемь дней пути из Иерусалима в Дамаск – самые черные дни в жизни Павла. Все еще, может быть, цеплялся за бывшую веру свою, как утопающий за соломинку; «Проклят! проклят! проклят!» – твердил; но падали уже бессильные проклятия, как стрелы с тетивы надломленного лука. Старая точка опоры под ним уже рухнула, а новой не было, и он висел в пустоте; «как Иуда Висельник», – думал, может быть, с отвращением и ужасом. Знал, конечно, об Иуде: допытался и об этом от учеников Иисуса, как обо всем в жизни Врага, чтобы, все узнав, лучше с Ним бороться. «Предал я кровь неповинную», – сказал Иуда, пошел и удавился (Мт. 27, 4). «Вот бы и мне так», – думал, может быть, Савл в самые черные минуты тех черных дней. «Горе тому человеку, которым предастся Сын человеческий: лучше было бы человеку тому не родиться» (Мк. 14, 21), – не о них ли обоих сказано? Но второму Иуде будет хуже, чем первому. «Если бы тот сорвался с петли и ожил, и понял, что никуда ему не уйти от Врага, любящему – от Любимого, то было бы с ним то же, что со мной сейчас», – думал, может быть, Савл, подходя к Дамаску, на восьмой день пути, в полдень.
Снежного Гермона, как Ветхого деньми, седая глава, – всей Иисусовой жизни вечная спутница, – белела позади Савла; справа от него, синея, как волны, отлогие холмы Горана, двойною цепью уходили вдаль; слева дремуче темнели последние отроги Антиливана, а впереди уже сверкали на солнце белизной сквозь темную зелень садов первые дома городского предместья, где ждали, может быть, палача новые жертвы. Нет, теперь уже сам палач – жертва.
На восемь дней пути, почти непрерывно идущая от Идумеи до Гавлонитиды, пожираемая солнцем пустыня, где воздух от зноя дрожит, мерцает ослепительно, как над пылающим горном, и раскаленные камни жгут ступню сквозь обувь, – кончилась вдруг, и прямо из адского пекла путник вошел под райски-свежие кущи дамасских садов, орошаемых студеными водами множества ручьев, притоков Авана и Фарфара.[18]
Вдруг остановился и как громом пораженный, может быть, с таким же нечеловеческим воплем, как некогда, отроком в Тарсе, за ткацким станком, – упал на землю.
XVIII
Что с ним было, мы не знаем и никогда не узнаем, с внешней, действительно или только мнимо нужной нам, исторической точностью. Может быть, и сам Павел этого не знал с такою точностью или никогда никому не говорил об этом, – по край ней мере, не говорил всего, потому что этого нельзя было никакими словами выразить, так что, если б он и хотел сказать все, то не мог бы. Мы знаем только свидетельство об этом Луки или другого неизвестного творца «Деяний Апостолов», в повествовании о Павле и в воспоминаниях самого Павла, насколько исторически точных, – этого мы тоже не знаем. Но общим признаком правдивейших часто свидетельств, наблюдаемым и в повседневной жизни, – расхождением в мелких, внешних чертах, при согласии в главном, внутреннем (каждый свидетель видит по-своему), – этим общим признаком и подтверждается историческая точность свидетельства Луки, – по крайней мере, в том смысле, что оно идет если не от самого Павла, то от очень близких к нему и хорошо осведомленных лиц, может быть, спутников его и очевидцев того, что с ним было на пути в Дамаск.
Вот эти свидетельства Павла-Луки, насколько возможно согласованные и сведенные в одно.
«Когда я подходил к Дамаску, около полудня, вдруг осиял меня, periéstapsen (внезапно ослепительно, как молния), – великий свет с неба… превосходящий солнечное сияние»… (по другому воспоминанию Павла, в том же свидетельстве Луки, «свет осиял» не только Павла, но и всех, шедших с ним). – «Я упал на землю (или все мы упали), и услышали голос, говоривший мне на еврейском (арамейском) языке: „Савл! Савл! что ты гонишь Меня?“ Я же спросил: „Кто Ты, Господи?“ Он сказал мне: „Я – Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе (тяжко, жестоко, sklerón) идти против рожна“. – „Бывшие же со мною свет видели и устрашились, но голоса… не слышали“ (в повествовании Луки, наоборот: „Слышали голос, а никого“ и, должно быть, ничего, – значит, и света, – „не видели“)… „Господи! что мне делать?“ – сказал я, в трепете и ужасе. Он же отвечал мне: „Встань и иди в Дамаск: там тебе сказано будет, что делать“. – „Савл, – продолжает и дополняет Лука, – встал с земли и, с открытыми глазами, никого не видел („я ослеп, от славы-сияния лучезарного света того“, dóxes tou phótos, – вспоминает сам Павел)… И повели его (спутники) за руку, и привели в Дамаск. И три дня он был слеп, не ел и не пил“, – „некто же Анания, – продолжает Павел, выпуская из повествования Луки два одновременно бывших ему, Павлу, и Анании, странно входящих друг в друга видения, – некто Анания, муж благочестивый… пришел ко мне (местожительство Павла указано Анании с точностью самим Господом, в видении: „на улице Евтийской – Прямой в Иудином доме, Павел Тарсянин“) и, подойдя, сказал мне: „Брат Савл, прозри!“ И я тотчас увидел его («как бы чешуя отпала от глаза его“, – добавляет Лука). И сказал мне Анания: «Бог отцов твоих предызбрал тебя (предопределил, proesxeirisato: здесь уже весь главный, будущий опыт-догмат Павла о Предопределении), предызбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, потому что ты будешь свидетелем Ему перед всеми людьми… Встань же, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Д. А. 9, 1–19, 22, 6–16; 26, 12–18).
Так совершилось осенью 31–32 года, должно быть, на большой военной римской дороге, величайшее, после Рождества и Воскресения, в жизни христианского человечества, всерешающее событие.[19]
XIX
Слишком огромно, и в жизни самого Павла, это событие, чтобы не удивиться, что, вопреки свидетельству Деяний, он говорит о нем, хотя бы и в немногих, дошедших до нас письмах своих, так мало и в таких, почти всегда темных, как бы случайно и мимоходом роняемых намеках. Но если бы мы поняли, что значит совершенная немота Петрова-Маркова о явлениях Иисуса воскресшего, в древнейшем, подлинном конце II Евангелия (Мк. 16, 8): «Побежали они (Галилейские жены) от гроба; трепет объял их и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись», – если б мы поняли, что это значит, то поняли бы, что значит и немота Павла: может быть, и он почти ничего никому не говорит, «потому что боится».
В письмах его – четыре намека на это, но ясен только один. Первый – в той двусмысленной загадке о видении Воскресшего или о встрече с Живым: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» Второй – в почти такой же темной загадке: «Если я и знал (когда-нибудь) Христа по плоти, то теперь уже не знаю». Третий, менее загадочный: «Бог… пожелал открыть во мне, apokalypsai en emoi, Сына Своего» (Гал. 1, 15–16). Только ли «в нем», – в действительности внутренней или также во внешней, – остается загадкой. И, наконец, четвертый, единственный, совершенно ясный намек – в перечне «явлений» Воскресшего («явился», «стал видимым», óphske), по точному Павлову счету, шести (точность эта для него существенна: шесть «явлений», – больше не было и не будет, не может быть, до конца времен). Первое из этих шести явлений – одному из «знаменитейших» трех «столпов» Иерусалимской общины, Верховному Апостолу, Петру; последнее – Павлу: «После же всех явился и мне, как некоему извергу (выкидышу, ektrómati), ибо я наименьший из Апостолов и недостоин называться Апостолом» (I Кор. 15, 1–9). Но и тем уже одним, что он включает это последнее, бывшее ему, явление в перечень всех остальных, он ставит между ними знак равенства, как бы говорит: «Я знаю воскресшего Господа не хуже, чем знают они; и если бы даже тех явлений вовсе не было, то и моего одного было бы достаточно, чтобы верить и исповедывать, что Христос умер, погребен и воскрес в третий день, по Писанию».
Нет никакого сомнения, что ни Петр и никто из ближайших к Иисусу учеников, видевших Его, воскресшего, такого знака равенства не поставили бы, не согласились бы признать, что Павлова «явления» достаточно для веры. Кто же прав, они или Павел? Для себя и для Церкви, правы они. Слишком, в самом деле, глубока и очевидна между их явлениями и Павловым неуравнимая ни в опыте, ни в догмате качественная разница, хотя бы уже потому, что здесь происходит та, для нас непостижимая, нашему опыту недоступная, но для опыта первых учеников действительнейшая, черта разделения, которую называют они и назовет вся Церковь «Вознесением», análepsis, «Восшествием» Сына к Отцу. Раз уже, в смерти-воскресении, ушел Иисус из этого мира в тот, из времени – в вечность, и вот как бы снова уходит, дальше, глубже, в иные миры; переступает за новые черты между ними, как между входящими одна в другую концентрическими сферами. Павел как будто не видит или не хочет видеть этой границы; но первые ученики видят ее слишком хорошо и знают или чувствуют, что Воскресший являлся им еще по сю сторону границы, а Павлу – уже по ту. «Я еще не восшел к Отцу Моему», – этого уже не мог бы сказать Иисус Павлу (Ио. 20, 17). К первым ученикам выходит Он из гроба, а к Павлу нисходит с неба; тем является «на третий день», а Павлу, – через сколько лет, мы не знаем с точностью, но не менее как через полтора года; тем «является», ephanárosen (Ио. 21, 1), все еще в свете земного дня или в сумраке ночи земной, а Павлу – в «славе-сиянии» дня, уже незакатного; тем – все еще в теле, хотя уже ином, чем при жизни, но все еще «непрославленном», или еще не такою новою, лучезарнейшей «славой», как «Сын, сидящий одесную Отца», а Павлу – в теле, уже прославленном так. – «Это Я сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Лк. 24, 39), – этого Савл, на пути в Дамаск, не мог бы услышать из уст Воскресшего и если б захотел это услышать, то ничего не увидел бы. Кажется, это он и сам сознает или чувствует, – иначе не сказал бы: «Если я и знал когда-нибудь Христа, по плоти, то теперь уже не знаю».
Все это и значит качественная разница между теми, первыми, явлениями и этим, последним, так же неуравнима для ближайших к Иисусу, учеников, как и для всей Церкви. Их опыт неповторим: никому, никогда, Иисус воскресший уже не явится так, как являлся им. А опыт Павла будет повторяться в опыте всех великих Святых, без качественной разницы; Иисус будет им являться, до последнего явления своего – Второго Пришествия: «Вот Я с вами во все дни, до скончания века» (Мт. 28, 20). Опыт Павла и есть не что иное, как опыт вечного Пришествия – Присутствия Господня, parousia, во времени, в истории.
Качественно – так, но количественно, по силе и глубине «видения-прозрения», прорыва в иную действительность, опыт Павла, первого святого, превосходит опыты всех будущих святых: Савл увидел, на пути в Дамаск, Иисуса воскресшего так, как никто никогда уже не увидит Его, в истории, во времени, до конца времен. В этом смысле явление, бывшее Савлу, – тоже единственное, неповторимое, первое и последнее. В этом же смысле прав и он, по-своему: знает о Воскресшем если не качественно, то количественно, не меньше того, что знают ближайшие к Иисусу, ученики, «столпы» Церкви; знает, может быть, и то, чего уже или еще не знают они.
XX
Опыт Савла есть опыт не только святых, но и грешников. Господом был призван, «избран», «предопределен» не святой Павел, а грешный Савл.
Больше, чем Павел, никто не сделал и не сделает для Церкви. Но вот, как это ни странно, первый, все для него решающий опыт единоличен – внецерковен.[20] Это он и сам сознает и утверждает как новую силу и правду свою, людям Церкви уже тогда, а может быть, и теперь, еще неизвестную: «Когда Бог благоволил открыть во мне Сына Своего… я не стал… советоваться с плотью и кровью (человеческой) и не пошел в Иерусалим, к Апостолам», – к Церкви (Гал. 1, 16–17). К Церкви Павел не идет потому, что узнанное им от самого Иисуса для него больше того, что он мог бы узнать от Церкви; не это от Церкви, а Церковь от этого.
XXI
Вот где опыт Павла есть опыт не только святых, но и наш. Ведь и мы – такие же грешники, как Савл, с тою лишь разницей, – увы, не в нашу пользу, – что он себя считает «извергом», а мы себя – недурными людьми; такие же и мы, как он, гонители Иисуса Неизвестного, Неузнанного. Чтобы узнать Его, надо и каждому из нас пройти свой путь в Дамаск; увидеть хотя бы искру озарившего Савла «великого Света»; услышать хотя бы отзвук его позвавшего голоса: «Савл! Савл! что ты гонишь Меня?» – и так же, пав на землю, спросить, в трепете и ужасе: «Кто Ты?» – и так же услышать: «Я – Иисус, которого ты гонишь, трудно тебе идти против рожна»; и так же ослепнуть, и так же прозреть.
«Господом назвать Иисуса никто не может иначе, как Духом Святым» (I Кор. 12, 3). Искра Духа, неугасимая, – первая точка святости, теплится, может быть, в самых грешных из нас. Это и для нас, как для Павла, – не от Церкви, а Церковь – от этого.
Всякая душа человеческая в этот первый час второго рождения своего, так же как и в последний смертный, – страшно покинута всеми, страшно свободна, лицом к лицу с вечным Врагом своим или Другом, единственная с Единственным, и никто не поможет ей, никто ее не спасет, кроме Него одного, Единственного.
Вот чем грешный Савл, наш вечный спутник на пути в Дамаск, больше всех Святых, – наш брат.
XXII
Павел, в «Деяниях Апостолов», вспоминая те дни в Дамаске, ничего не говорит о главном, что, казалось бы, должен был тогда испытать, – о радости, – потому ли, что сам еще не знал о ней, как бы вовсе и не чувствовал, не видел ее, от нее же ослепнув, как от внезапного, «великого Света», или потому, что для нее нет слов на языке человеческом: все наши слова о радостях земных так же скудны и скорбны, как сами они.
Павел тогда еще не знал о ней, – узнал потом: все Евангелие для него только о ней, об этой Радости. – «Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь!» (Флп. 4, 4). Только эта радость, единственная, есть конец и начало всех остальных, – то, от чего и к чему они все; только потому и могут быть те, что есть эта.
Ту же радость испытал он, может быть, и отроком, в Тарсе, за ткацким станком, в мастерской отца, когда «восхищен был до третьего неба, в рай»; тот же «великий Свет» осиял его уже и тогда, и вдруг, в этом свете, увидел он все и все оправдал, – узнал, что «все хорошо весьма». – «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца» (II Кор. 4, 6). Бог сказал: «Да будет свет», – новое творение, – «новая тварь во Христе, kainé ktisis» (Гал. 6, 15). Этою «новою тварью», в новом творении, и сделался Павел, после видения на пути в Дамаск.
Но тот свет отроку Савлу блеснул и потух, как молния в ночи, а этот уже никогда не потухнет; то было на миг, а это – на вечность.
Нечто подобное, может быть, испытают воскресшие: так же узнают, что «все хорошо весьма»: ни боли, ни страха, ни смерти, только вечная радость. Главная радость в том, что это так несомненно: не может быть, не будет, а есть. Как бы радость вечного свиданья: «Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ио. 16, 22). Главная радость в том, что сам человек не заслужил ничего, – все получил даром; сам для себя не сделал ничего, – все для него сделал Христос; не он возлюбил Христа, а Христос – его, и на руки взял, и понес, и донес, как потерянную овцу, до вечных пажитей.
Главная радость в том, что человек не спасается, а уже спасен; пропадал, и нашелся; был мертв, и ожил; «извергом» был, и вот святой; пил кровь свою, умирая от жажды, и вот утолил ее так, что не будет жаждать вовек.
«Предопределен», «предызбран», «от утробы матери» (Гал. 1, 15), а может быть, и раньше, от лона Отца – вечности, – вот в чем главная радость Павла, такая новая, неимоверная, ни на что не похожая, что почти никто ее не поймет, и ужасом будет для всех этот глубочайший и несомненнейший опыт-догмат Павла – предопределение, prothesis.
XXIII
Просто и глубоко выразит Лука в «Деяниях Апостолов» все, испытанное Павлом в те Дамасские дни, только одним словом – одним взглядом сквозь тело и душу его: «принял пищи и окреп, enisxysen… и креп все больше и больше» (9, 19, 22).
– «Все могу, – крепок я на все», pánta ishyo, скажет и сам Павел, тем же словом, через много-много лет, почти накануне смерти (Флп. 4, 13), уже «становясь жертвою» (II Тим. 4, 6); скажет о себе, в самом конце пути, то же, что в самом начале сказано о нем.
«Что мне делать!» – спрашивает только что узнанного Господа Савл там же, в самом начале пути, «в трепете и ужасе», поверженный к ногам Его. «Встань», – говорит ему Господь. Это и делает Савл, но не своею силою: встать не мог бы сам, как громом пораженный; только сила Господня подымает его, ставит на ноги и утверждает, «укрепляет». В этой-то крепости, спаянности, скрещенности воли Спасителя с волею спасенного, – тайна Предопределения, – всех радостей радость.
«Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил… а кого предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил», edóxasen, – «осиял» – «обрадовал» (Рим. 8, 29). С этою-то радостью в душе и обойдет Павел «веселыми ногами» весь мир.
XXIV
«Дело свое начал Павел, тотчас после обращения, только что услышал на вопрос свой: «Что мне делать?» – ответ Иисуса: «Встань и стань на ноги твои… Ибо ты – избранный (предопределенный) сосуд Мой… Я пошлю тебя далеко к язычникам… открыть им глаза, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу» (Д. А. 22, 21; 26, 18).
Здесь, уже в самом начале пути, предсказан, «предопределен», конец Павла, – вся его жизнь, от «второго рождения» до смерти, – все, что он сделает.
Кажется, такого дела, сверх сил человеческих, никогда никакой человек не брал на себя. Бóльшая сила нужна была для него, чем для всех побед Александров и Цезарей: те мимолетны, как сон, а это дело, Павлово, совершенное в двадцать лет, стоит, вот уже двадцать веков, и простоит, вероятно, до конца мира, потому что это – дело Духа, чье легчайшее веяние крепче всех твердынь.
«Я победил мир», – мог бы сказать и Павел, как Пославший его (Ио. 16, 33).
Чем же победил Павел?
XXV
«Низенького роста человек, лысый, с кривыми ногами, довольно полный (приземистый), с носом слегка орлиным, с бровями сросшимися и с лицом таким чарующим, что он казался то человеком, то Ангелом» – такова наружность Павла, по исторически-подлинному, вероятно, свидетельству от II века.[21] Низкий рост Павла уже потому вероятен, что в голову никому не пришло бы человека высокого роста спускать из окна в корзине, по городской стене, в ров, как это сделают братья Дамасской общины, чтобы спасти Павла от Иудеев, когда начнет он проповедовать, тотчас по обращении (Д. А. 23–25). (Как рассмешили бы Лукиана два «воздушных путешествия» Павла, – то – на небо, и это – в ров!) Так подтверждалась бы историческая подлинность тройного свидетельства о наружности Павла или, по крайней мере, о малом росте его, – в «Деяниях Павла и Теклы», в «Деяниях Апостолов» и у него самого (II Кор. 11, 32).
Греческий выговор Павла – плохой, как у всех Тарсян, для настоящих греков, – смешной, гортанный и шепелявый, в нос, – сразу обличающий Иудея.[22]
«Низенького роста Иудей, возносившийся до третьего неба», – посмеется над Павлом Лукиан;[23] «маленький жид», как могли бы сказать о Павле уже тогда насмешники, и как скажут потом об его Учителе.[24]
«В глиняном сосуде – сокровище» (II Кор. 4, 7). – «В немощи был я у вас, и в страхе, и в великом трепете» (I Кор. 2, 3–4). Кажется всегда больным, – как только душа держится в теле.[25] «В немощи плоти, я благовествовал у вас» (Гал. 4, 13).
– «В темнице я был, в изгнании… в трудах, в бдениях… в голоде и жажде… в стуже и наготе» (II Кор. 6, 5; 11, 24–25). – «Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас казнят, но мы не умираем; нас всегда огорчают, но мы всегда радуемся; мы ничего не имеем, но всем обладаем» (II Кор. 6, 5–10). «Извне – нападения, внутри – страхи» (II Кор. 7, 5). – «Трижды били меня Иудеи палками, однажды побивали камнями; трижды я терпел кораблекрушение, ночь и день провел во глубине морской» (II Кор. 11, 25).
«Мы, как сор для мира, как прах, всеми попираемый» (I Кор. 4, 13).
Чем же победил Павел?
XXVI
«Дерзай, Павел!» – «Ибо сила Моя совершается в немощи», – говорит ему Иисус (Д. А. 23, 11; II Кор. 12, 9). – «Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, а в явлениях Духа и Силы», – говорит он сам о себе (I Кор. 2, 4).
«Движущая сила» эта, dynamis, кажется людям в Павле, так же как в Иисусе, то божеской, то бесовской.
Галаты, не гнушаясь его болезнью, принимают его, «как Ангела Божия, как самого Иисуса Христа» (4, 14). В Листрах, народ Ликаонский сначала хочет принести ему жертву, как «богу Гермесу», – может быть, не только потому, что он «начальствует в слове», но и потому, что быстр и подвижен, как ртуть-меркурий: чтобы помешать богохульной жертве, кидается он в толпу неистово, разодрав одежды; а затем тот же народ хочет побить его камнями, как злодея (Д. А. 14, 8–15). А на о. Мелите, обратно: сначала – «бог», потом – «злодей» (Д. А. 28, 3–4). Если не сам Павел, то ученики его верят, что достаточно возложить на больного «плат» (головной тюрбан) или пояс Павла, чтобы больной исцелился (Д. А. 19, 12), и что одно только Павлово слово убивает и воскрешает людей (Д. А. 19, 12; 20, 12). Но главная «движущая сила» его – та же, что у самого Иисуса, – любовь не только общая, ко всем людям вместе, но и к каждому в отдельности. «Каждого из вас, я (в подлиннике „мы“, но значит: „я“) просил и убеждал, и умолял, как отец – детей своих» (I Фес. 2, 11–12). – «Как отец», и еще нежнее, – как мать: «дети мои! для которых я снова – в муках рождения, доколе изобразится в вас Христос» (Гал. 4, 19). – «Нежен я был среди вас, как кормилица, которая нежно обходится с детьми своими» (I Фес. 2, 7). – «Вы в сердце моем, так, чтобы нам вместе и умереть и жить» (II Кор. 7, 3). – «Кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал? Кто соблазняется, с кем бы и я не воспламенялся?» (II Кор. 11, 29). – «Я всем поработил себя… для всех сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, хоть некоторых» (I Кор. 9, 19).
Большею любовью никто никогда не любил людей, кроме Иисуса. Вот Павлова победа, победившая мир. «Если я имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а любви не имею, то я – ничто» (I. Kop. 13–2).
XXVII
Только такая любовь и могла победить мир; только на нее отвечают люди равной любовью.
Павловы сотрудники, Акила и Приска, «голову свою полагают за душу его» (Рим. 16, 3–4). Немощи его и болезни «не презирая», «не гнушаясь ею», Галаты принимают его, «как Ангела Божия, как самого Христа Иисуса»: «как вы были блаженны!.. Если бы возможно было, вы исторгли бы очи свои и отдали мне» (Гал. 4, 14–15).
«Братья», в устах Павла и тех, кого он любит, – не пустое слово, так же, как в устах Иисуса, Брата человеческого, «Первенца между многими братьями» (Рим. 8, 29). – «К братьям Моим иди», – говорит Иисус Магдалине, первому живому существу, увидевшему Его, по воскресении (Ио. 20, 17).
Больше Марией, чем Марфой, кажется людям христианская, но не Христова, любовь: лучше умеет страдать и созерцать, чем действовать, Павлова любовь, так же, как Христова, умеет и то и другое вместе. «Делом явил Иисус, что, возлюбив своих, сущих в мире, до конца возлюбил» (Ио. 13, 1). Это можно бы сказать и о Павле.
В этом смысле он кажется иногда не только «первым святым», но и последним – единственным: такого, как он, уже не будет, по крайней мере, в христианстве, каково оно было и есть.
Может быть, и Павел, «до третьего неба восхищенный», – «Сын Громов», в такой же мере, как Иоанн; но Павлу не надо повторять, как Иоанну: «Дети, любите, любите друг друга!» – он любит молча.
Мать, не умеющая пеленать и кормить младенца, не многого стоит. Павел это умеет, как никто; хлопочет, как Марфа, о «большом угощеньи», хотя и знает, как Мария, что «нужно только одно» (Лк. 10, 39–42); вечно суетится, заботится обо всех вместе и о каждом в отдельности. «Каждый день, у меня забота о всех церквах» (II Кор. 11, 28). В сердце своем соединяет все церкви, от захолустной в Колоссах, у подножия Арарата, до Рима, а может быть и до берегов Атлантики – Испании; кормит их всех одной и той же пищей – «молоком, как нежная кормилица»: «Вам нужно еще молоко, а не твердая пища» (Евр. 5, 12). – «Будете судить и Ангелов» (I Кор. 6, 3), а пока еще молоко на губах не обсохло и надо заботиться о них, как о маленьких детях, чтобы вели себя благопристойно: не «объедались и не упивались» за вечерей Господней (I Кор. 11, 20–22); надо заботиться и о женских прическах (I Тим. 2, 9–15), и о том, чтобы не дрались епископы и не пьянствовали диаконы, не сплетничали старицы (Тит. 2, 3). Девственнику Павлу («хорошо человеку не касаться женщины», «желаю, чтобы и все люди были, как я» (I Кор. 7, 1, 7); едва ли, впрочем, он родился, а не сделался «скопцем, ради царствия Божия»), – девственнику Павлу надо заботиться о чужом чадородии, и он это делает, как, может быть, уже никогда, никто из святых не сделает; «будут двое одна плоть: тайна сия велика» (Ефес. 5, 31–32), – говорит так, как, после Иисуса, уже никто никогда не скажет.
XXVIII
Дело любви, а значит, и победа над миром, иногда решается заботой не столько о больных человеческих душах, сколько о больных человеческих желудках. «Впредь пей не одну воду, но прибавляй немного вина, ради (больного) твоего желудка», – пишет Павел Тимофею (II, 5, 23), и тотчас же после того: «Царь царствующих и Господь господствующих… в свете неприступном живет» (II, 6, 15–16). Это великое, божественное, так же для него важно, как то малое, человеческое: солнце одной любви – в каждом атоме плоти. Этого же святые не знают так, как знает Павел.
XXIX
«Трезвым будь… Дело твое совершай (трезво)», – говорит он ученикам (II Тим. 4, 5) и мог бы сказать себе самому. «Все бегут на ристалище, но только один получает награду: так бегите, чтобы получить… Я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух» (I Кор. 9, 24–26).
Вот почему дело его – дело любви – крепчайшее изо всех человеческих дел: бесконечно крепкое, потому что бесконечно трезвое.
«Господи! что мне делать?» – первый вопрос его, на пути в Дамаск. «Что мне делать?» и значит: «Как любить?» – «Встань и иди в Дамаск: там тебе будет сказано, что делать… ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем того, что ты уже видел и что Я еще открою тебе» (Д. А. 22, 10; 26, 16). Так замысел Павла весь предсказан, «предопределен», самим Иисусом, в первый же миг явления.
«И тотчас Павел начал смело проповедовать в Дамаске… доказывая… что сей Иисус есть Христос (Мессия). Когда же прошло много дней, Иудеи согласились убить Савла… Ученики же, ночью, взяв его, спустили по городской стене, в корзине. Савл прибыл в Иерусалим и хотел пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он – ученик» (Д. А. 9, 20–26).
Так, в самом начале, оказался Павел между двух огней – внешних врагов, Иудеев, и внутренних врагов, братьев своих. «Иосия же, прозванный от Апостолов „Варнавою“, что значит „Сын Утешения“, Левит родом, Кипрянин» (Д. А. 4, 36), Иудей-Эллинист, «взяв Павла, привел его к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа… и как смело проповедовал в Дамаске, во имя Иисуса. И пребывал с ними Павел, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедовал… Состязался также с Эллинистами (Иудеями), а они покушались убить его. Братья же, узнав о том, отправили его в Кесарию (Приморскую), а оттуда – в Тарс» (Д. А. 9, 25–30).
Так – по свидетельству «Деяний Апостолов», но по свидетельству самого Павла – не так: «…с плотью и кровью (человеческой) я не стал тогда же советоваться и не пошел в Иерусалим к Апостолам – (к Церкви), – а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск… И только три года спустя, ходил в Иерусалим… После же сего отошел в страны Сирии и Киликии… И через четырнадцать лет, ходил опять в Иерусалим» (Гал. 1, 17–23; 2, 1).
Очень возможно и даже вероятно, что в эти четырнадцать лет, проведенных Павлом в Сирии – Киликии, а может быть, и в первом, уже «апостольском» путешествии по внутренним областям Малой Азии – Фригии, Памфилии, Галатии, Иконии и на о. Кипре, – включает он и те три года, проведенных в Аравии.[26] Это тем более вероятно, что тамошнее пребывание его, по свидетельству Луки, очень кратко: днями измеряется, а не годами (Д. А. 9, 23). Так же вероятно, что Павел провел эти три года не в совершенной пустыне, какой нам представляется Аравия, а в соседних с Дамаском городах Набатейского царства; но частью, может быть, и в пустыне совершенной, где «духом возрастал и укреплялся», как Иоанн Предтеча в за-Иорданской пустыне (Лк. 1, 80; 2, 40), и сам Иисус, в Назарете, за тридцать лет утаенной жизни своей. Как бы второе младенчество, после второго рождения, наступает для Павла в этой пустыне, где надо ему не только переучиться всему, что он знает, от самого Христа, единственного Учителя, но и переродиться во всем, чем он жил: вот почему «не пошел он к Апостолам», оставаясь все эти годы как бы вне Церкви.
XXX
Проповедь Павла разделяется (не им самим, впрочем) если не по внешним признакам, то по внутреннему смыслу на три апостольских путешествия: первое – по Востоку, последнее – по Западу и среднее – соединяющее Восток с Западом, Европу с Азией. Исходная точка первого – новая столица семитского Востока, Антиохия; исходная точка последнего – новая столица Эллинского Запада, Коринф; а средняя, соединяющая точка – столица Востока и Запада, Эфес. «Благовествование Христово распространено мною от Иерусалима до Иллирика» (Рим. 15, 19). – «В первый раз, в Антиохии, ученики (Христа) стали называться христианами» (Д. А. 11, 26). С именем этим и войдет христианство в историю. Вся будущность его и весь смысл – в одном этом имени: «Иисус – Христос, Царь единственный на земле, как на небе». По имени этого сам Павел, главный виновник его, не знает, может быть, потому что Христос для него больше христианства. А между тем не кто иной, как Павел, и превратил именно здесь, в Антиохии, столице всемирного Эллинства, Иудейскую общину, qagal (не было другого слова и на арамейском языке самого Иисуса), в Церковь Вселенскую и «еретиков Назареян» – в «христиан».
XXXI
Если не внутренне, то внешне преувеличивает Павел, когда говорит: «Слово благовествования пребывает у вас (Колоссян), как и во всем мире» (1, 6). «Слово Господне пронеслось от вас (общины Фессалоникийской) не только в Македонии и Ахайии, но и везде» (I Фес. 1, 8). В действительности Павел, не удаляясь от больших римских торговых и военных дорог, захватывает проповедью только побережные области, – большей частью гавани, и не заходит в глубь страны. Всюду, на пути своем, встречает он синагоги Иудейского Рассеяния, с готовыми для него ячейками из «прозелитов», «чтущих Бога», язычников, – не только помощь, но и помеху, – свинцовый на ногах его груз: следуя за ним по пятам, разрушают они все, что он сделал.[27]
Внутренние, впрочем, в самой Церкви, враги – «лжебратия», для него еще опаснее внешних: эти разрушают извне, а те – изнутри. Глухи остаются к проповеди его и язычники, «мудрые и сильные мира сего»; слышат ее только слабые, «глупые», «ничего не значащие», – рабы, женщины и дети, – «сор для мира», «прах, всеми попираемый».
Он и сам такой же: бедный из бедных, мелкий ремесленник, и вся «похвала» его в том, чтобы никому не быть в тяжесть. «С ними (Акилой и Приской) остался он, по одинаковости ремесла» – шатрово-обойного (Д. А. 18, 3). Так же, как все раввины, Павел, до конца дней своих, будет зарабатывать себе хлеб насущный ремеслом: «хлеба ни у кого не ели мы даром» (II Фес. 3, 8).
– «Помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем, чтобы не отяготить никого из вас» (I Фес. 2, 9).
Письма за него пишут другие, потому что некогда писать самому; только «приветствие», что служит «знаком» подлинности, во всяком письме, пишет собственноручно (II Фес. 3, 17). «Видите, какими большими буквами, pelikois grammasin, я написал вам», – хвалится он простодушно (Гал. 6, 11). Буквы, может быть, большие оттого, что мелко не может писать пальцами, окоченелыми от тяжелого, чесального гребня на ткацко-обойном станке.[28]
Вот где малое больше великого. Руки Иисуса-плотника, в Назаретские дни, может быть, так же мозолисты, как руки Павла.
XXXII
Как все еще глубоко и живо язычество-эллинство; как, с нашей только исторической, человеческой – точки зрения, почти безнадежно, в эти дни, Павлово-Иисусово дело, – об этом лучше всего судить по таким язычникам, как современник Павла (35–125 гг.), живущий в Херонее Бэотийской, в двух шагах от Афин, где Павел проповедует, и от Коринфа, где он основывает одну из первых общин, – восемнадцатилетний юноша, Плутарх, поклонник тех самых страдающих и умирающих, богов, что некогда, в Тарсе, в самосожжении бога Сандлона-Геракла, искушали и отрока Савла.[29] Очень знаменательно, что ни одним словом не упоминает Плутарх о Христе, как будто вовсе не знает Его или не хочет знать, уже во II веке, когда христианство проповедано по всему «кругу земель», от Иерусалима до Рима, а может быть, и до Столпов Геркулесовых.
«Нечто странное (новое) влагаешь ты в уши наши», – мог бы сказать Павлу и Плутарх, как скажут ему Афиняне (Д. А. 17, 20). Это «новое» не нужно Плутарху или даже вредно, убийственно. Детски счастливый, спокойный, невинный, «предопределенный», язычник, не хочет он и не может знать Христа.[30] Понял ли бы он речь Павла к Афинянам? Если бы и понял, то ко Христу не обратился бы. Близость Павла к Плутарху – близость двух параллельных, только в бесконечности сходящихся, линий.
Павел говорит в Афинах с эллинскими философами, на их языке: Бога называет «божеством», theión (Д. А. 17, 29). – «Для Эллинов я был, как Эллин… для всех я сделался всем» (I Кор. 9, 19–22). – «Кажется, он проповедует о (каких-то) чужеземных божествах, daimonion», – говорят о Павле «эпикурейские и стоические философы» (Д. А. 17, 18). Два «божества чужеземных» для них – «бог Иисус» и «богиня Воскресение», Anástasis. – «И одни насмехались над Павлом, а другие говорили: „Об этом послушаем тебя в другое время!“ (Д. А. 17, 32). Хуже для Павла иудейских палок эти эллинские насмешки. „Спасение Божие послано язычникам: они и услышат“ (Д. А. 28, 28). Вот как „услышали“; вот для кого он предал „надежду Израиля“ (Д. А. 28, 20).
XXXIII
Только силою Духа преодолевает он все эти преграды, внешние и внутренние. Шагу без Духа не может ступить. То тихо шевелится в нем Дух, как дитя во чреве матери, тихо толкает и манит его; то неудержимо гонит, как буря – сорванный лист.
«Не были мы допущены Духом… проповедовать слово (Божие) в Азии». – «Было ночью видение Павлу: предстал ему некий муж Македонянин, прося его: приди в Македонию и по моги нам» (Д. А. 16, 6–9). Вся Европа, весь Запад является Павлу в лице этого Македонянина. «Ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим» (Д. А. 20, 22). – «Силою Духа… благовествование Христово распространено мною, от Иерусалима… до Иллирика» (Рим. 15, 19). – «В Духе, положил я… видеть и Рим» (Д. А. 19, 21).
XXXIV
В проповеди Павла, или, как он сам называет ее, в «Павловом Евангелии» (Гал. 1, 11), движется все на двух осях – «согласной противоположности», антиномии двух религиозных опытов: свободы человеческой и Необходимости Божественной – Предопределения, prothesis. Компасной стрелкой этой антиномии указан не только для Павла, но и для нас весь путь христианства от прошлого к настоящему и от настоящего к будущему, – от Отца к Сыну и от Сына к Духу. Здесь-то и начинается то величайшее, после первохристианства, религиозное движение Духа, которое мы так плоско и неточно называем «протестантством», «Реформацией».
«Конец Закона – Христос» (Рим. 10, 4) – в этих трех словах – все «Евангелие Павла», учение об освобождающей от Закона вере. «Верою (только) оправдывается человек, помимо дел Закона» (Рим. 3, 28). – «Даром, по искуплению (освобождению, apolytioseos) во Христе Иисусе, получают оправдание» – все, кто верует (Рим. 3, 24). Сын превращает Отчий закон в свободу, ибо «делами Закона не оправдается перед Богом никакая плоть» (Рим. 3, 20). Главное здесь то, что человек наверное спасется, – уже спасен «даром».
В этом учении о свободе Павел ближе всех учеников Иисуса к Иоанну, а если тот ближе всех к Учителю, то и Павел тоже.
«Я пришел не для того, чтобы судить, но чтобы спасти мир» (Ио. 12, 47). – «Верующий в Сына не судится, а неверующий уже осужден» (Ио. 3, 18). – «Верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит» (Ио. 5, 24). А так как всякий суд – по закону, то это и значит: «конец Закона – Христос».
XXXV
Что такое «закон»? Вечное повторение одного и того же, отражение логического тождества в естественной необходимости – механике. Главный и даже единственный закон безличной природы, естественной необходимости, – уничтожение личности – смерть. Сила глухая и слепая, во всех законах естественных, говорит человеку: «умри». В самых первых истоках своих отравлена жизнь ядом смерти. «Так же, как одним человеком (Адамом) грех вошел в мир… вошла и смерть (одним человеком) во всех, потому что в нем согрешили все» (Рим. 5, 12). – «Жало смерти – грех, а сила греха – закон» (I Кор. 15, 56). Это и значит: всех законов Закон – смерть. Только «Христос освободил меня от закона греха и смерти» (Рим. 6, 22). – «В детстве, мы были порабощены стихиям (законам природы). Когда же пришла полнота времен, pléroma, Бог послал Сына своего, который… подчинился Закону, чтобы искупить (освободить) подзаконных… Для чего же возвращаетесь вы опять к немощным и бедным стихиям и хотите снова поработить себя им?» (Гал. 4, 3–9). «Стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5, 1).
Что такое «свобода»? Этого люди все еще не знают, потому что живут и сейчас без Христа, как Иудеи жили под игом Закона. Все наши законы государственные – отражение законов естественных: принудительная сила тех, так же, как этих, – страх смерти. Чтобы освободить от него человека, надо было сломить иго Закона. Вот о чем Иисусова тяжба не только с Иудеями, но и со всеми людьми, рабами Закона.
Рабство всех рабств, всех цепей железо крепчайшее, – смерть. Мнимые освободители человечества, крайние бунтовщики и мятежники, остаются рабами смерти: никому из них и на мысль не приходит, что можно освободить человека от смерти и что, без этой свободы, все остальные – ничто. Только один человек, Иисус, во всем человечестве восстал на смерть, как Сильнейший на сильного, Свободный – на поработителя; только Он один в Себе почувствовал силу, нужную, чтобы смертью смерть победить не только в Себе, но и во всем человечестве – во всей твари. Так же просто, естественно, разумно, как другие говорят: «умру», – Он говорит: «воскресну». И люди этому поверили и, вероятно, будут верить, хотя бы немногие, до конца времен.[31]
«Выше всего Ты поставил свободу, – скажет Христу Великий Инквизитор Достоевского, предтеча Антихриста. – Свобода их веры Тебе была дороже всего… Не Ты ли говорил: «Хочу сделать вас свободными»?.. Чудом не захотел поработить человека… жаждал свободной веры, а не чудесной, – свободной любви человека, а не рабских восторгов перед могуществом, раз навсегда его ужаснувшим».[32]
Миру спастись или погибнуть – значит сейчас, как никогда, принять или отвергнуть пред лицом Поработителя-Антихриста это неизвестнейшее слово Неизвестного: «Если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Ио. 8, 36). Все еще самое неизвестное имя Иисуса Неизвестного: Освободитель.
Имя это знает Павел, один из всех святых; что такое свобода Христова, знает он, как никто.
«Христос освободил меня от закона… смерти… Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но по воле Покорившего ее, – в надежде, что… освобождена будет от рабства тлению» (Рим. 8, 2, 20). – «Всех врагов своих низложит (Христос)… Последний же враг истребится – смерть… Смерть! где твое жало? Ад! где твоя победа?» (I Кор. 15, 25–26, 55).
XXXVI
Радость освобождения от ига Закона у Павла есть радость отпущенного вдруг или бежавшего из тюрьмы человека. Петр, Иоанн, Иаков – все ученики Господни – начали уже привыкать к этой радости, уставать от нее. Но пришел к ним Павел и обрадовался по-новому, открыл источники новой, никем, никогда еще не испытанной, радости: «Кто во Христе, тот – новая тварь: древнее прошло, теперь все новое» (II Кор. 5, 17). Радость эта так нова, так ни на что не похожа, что новизны ее ослепляющей испугались все ученики: «Павел старался пристать к ученикам, но все боялись его, не веря, что он – ученик» (Д. А. 9, 26).
XXXVII
Вечность Закона и временность его – эта согласная противоположность, антиномия, – у самого Иисуса, так же как у Павла.
«Доколе не прейдут небо и земля, ни одна йота или ни одна черта из Закона не прейдет» (Мт. 5, 18). Это одно утверждение: закон вечен; а вот и другое, – закон до времени: «до Иоанна Крестителя… закон и пророки; от дней же Иоанна, царство небесное силою – (насильем над Законом) – восхищается, biádzetai, и только насильники, biástai, входят в него» (Мт. 11, 13).
Это понял Павел, как никто из святых: «Дан людям Закон (только) до… Христа» (Гал. 3, 19).
Первомученик Стефан – предтеча Павла Освободителя. «Это место (храм) разрушит Иисус и переменит обычаи (Закон) Моисея», – учит Стефан (Д. А. 6, 14). «Все это будет разрушено, так что не останется камня на камне», – подтверждает Стефана и Павла Иисус (Мк. 13, 2). – «Близко ветшающее (Ветхий Завет, Закон) – к уничтожению», – учит Павел (Евр. 8, 13). «Я пришел не исполнить, а разрушить Закон», – исказит или исправит слово Господне, в духе Павла, Маркион.[33]
Все это и значит: между Законом и царством Божиим, – прерыв, «меч» рассекающий; «не мир пришел Я низвесть на землю, но меч» (Мт. 10, 34).
Этим-то мечом и доныне все христианство рассекается: что такое Христос, нового Закона начало или вечного – конец?
XXXVIII
Павел, так же как Иисус, уже о Законе не спорит, а стоит вне Закона. «Ваш закон; их закон», – говорит Иисус, в IV Евангелии (8, 17; 10, 34; 15, 25).
Правы Иудеи, восставая на Павла, так же как на самого Иисуса, за то, что он «учит людей чтить Бога не по Закону» (Д. А. 18, 13). – «Я Иудеев ничем не обидел», – тщетно оправдывается Павел (Д. А. 25, 10). Злейшей обиды, чем эта: «конец Закона Христос», – быть для них не могло. «Против народа (моего) или отеческих обычаев (Закона) не сделав ничего… я, в узах, предан в руки Римлян… за надежду Израиля» (Д. А. 28, 17).
Правы Иудеи, когда на все оправдания Павла отвечают неистовым воплем: «Истреби такого от земли, ибо ему не должно жить!» (Д. А. 22, 22).
Павел такое же для них «проклятие», как «висящий на древе», Иисус (Гал. 3, 13).
XXXIX
Павлова учения о свободе не поняли даже ближайшие к Иисусу, ученики.
«Хочешь ли знать, неосновательный человек (Павел), что вера без дел мертва? – скажет Иаков, „брат Господень“, или неизвестный творец Послания Апостола Иакова. – Не делами ли (Закона) оправдался Авраам, возложив Исаака, сына своего, на жертвенник?» (Иак. 2, 17–21).
С Иаковом согласился бы и Павел; понял бы не хуже Иакова, почему на вопрос богатого юноши: «Что мне делать? – Иисус отвечает не «веруй», а «делай»: «раздай нищим все, что имеешь» (Мк. 10, 17–21); понял бы Павел не хуже Иакова и это слово Господне: «Что вы говорите Мне: Господи, Господи! и не делаете того, что Я вам говорю?» (Лк. 6, 46). Первый вопрос самого Павла Иисусу, на пути в Дамаск, – не «во что мне верить?», а «что мне делать?» (Д. А. 9, 6).
Добрые плоды не могут не рождаться от доброго дерева, так же как дела – от веры; но дерево по плодам узнается, а не плоды – по дереву. Нет веры без дел, как огня – без жара; но жар – от огня, а не огонь от жара.
Если Павлово учение о свободе не понято людьми и доныне, то, может быть, потому, что учение самого Иисуса сделалось новым Законом, более тяжким и рабским, чем Ветхий Завет – Закон.
XL
Механический закон необходимости – смерти, логический закон тождества: а + b + с, в причине, – а + b + с, в следствии, – отменяется у Павла, так же как у самого Иисуса, законом жизни – творчества: а + b + с, в причине, – а + b + с + x, – «свобода», «чудо», – в следствии.
Эта отмена мнимой «логики» – «механики» возможна для Павла потому, что «разум», nous, сочетается у него с «духом» пророческим, pneuma, «догмат» – с «опытом», в мере такой совершенной, как только у одного Иисуса. Лучшего «сосуда» нельзя было «избрать», чем Павел. Чудо Предопределения и заключается в этом избрании.
Самый язык Павла, когда он говорит о свободе, становится «согласно-противоположным», антиномичным, так же как язык Иисуса.
«Верою мы уничтожаем Закон? Никак; но утверждаем» (Рим. 3, 31). – «Божиим обетованиям противен закон? Никак» (Гал. 3, 21). – «Будем ли грешить, потому что мы не под Законом? Никак» (Рим. 6, 15). В этих «никак» – точно внезапные прерывы мысли, отказы от логики. – «Мудрость мудрых погублю, и разум разумных отвергну… ибо слово о кресте для погибающих безумие, а для нас, спасаемых, сила Божия» (I Кор. 1, 18–19).
Между «благодатью» и «законом» – такое же неразрешимое для Павла противоречие, как между спасением и гибелью, Богом и диаволом.
«Сила греха – Закон» (I Кор. 15, 56). – «Законом познается грех» (Рим. 3, 20). Только для того и «пришел Закон, чтобы умножился грех» (Рим. 5, 20). – «Весь мир виновен (по Закону) пред Богом, потому что делами Закона не оправдается… никакая плоть» (Рим. 3, 19). – «Если бы дан был Закон, могущий животворить (воскрешать), то подлинно, праведность была бы от Закона… но до пришествия веры, мы заключены (были) под стражей Закона… Закон был ко Христу детоводителем» (Гал. 3, 21–24). Нет, был стражем-тюремщиком и палачом-убийцей, потому что Закон «убивает грехом». Но если грех и смерть – от диавола, «человекоубийцы изначального» (Ио. 8, 44), то может ли быть рождающий смерть и грех Закон от Бога?
XLI
Будущее смешивает Павел с настоящим, должное с данным: в этом «слабость», «немощь» его, но та, в которой «сила Господня совершается». Судить о других по себе: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос» (Гал. 2, 19–20). Но если так в Павле, то, может быть, в других вовсе не так. «Умерли мы (все) для греха; как же нам жить во грехе?.. В смерть Иисуса крестились мы… с Ним погреблись (погрузились) крещением в смерть… ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти, omoiomati, то и подобием воскресения с Ним же будем соединены» (Рим. 6, 2–5), – смешивает Павел «подобие» с действительностью; будущее предвосхищает, как будто все уже есть: «забывая, чтó позади, стремится вперед» (Флп. 3, 13).
«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Гал. 5, 16). Легко сказать: «поступайте», но сделать трудно, – труднее, чем исполнить Закон, – невозможнее для тех, кому он это говорит, а может быть, и для него самого.
«Доброго, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю… Ибо, по внутреннему человеку, нахожу в законе Божием радость. Но в членах моих вижу иной закон, противный закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, живущего в членах моих. Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7, 19–25). Бедная душа человеческая – зябкая, от страшно близкого холода смерти кутающаяся в плоть. Психея, – здесь обнажена, как нигде, никогда.
Только о чужом и прошлом Павел не мог бы так говорить; так не говорит о себе никто из святых. К нам и этим ближе их всех Павел.
XLII
Слишком часто, в позднейшем христианстве, «безумие Креста» – только младенчество разума. Павел этого не хочет: «Братья… будьте на злое младенцы, а по уму будьте взрослыми». – «Буду молиться духом; буду молиться и умом» (1 Кор. 14, 20, 15).
Павел не только молится, но и любит «умом». Не было, может быть, ни у кого, после Христа, такой умной любви, как у Павла.
Кажется, он чувствует и сам несоизмеримость догмата с опытом, изрекаемого слова – с «неизреченным, árreta, которого нельзя человеку пересказать» (II Кор. 12, 4). Молится человек в слове, – кощунствует; благословляет, – проклинает. «Сделавшись за нас проклятием, katára, искупил нас (Иисус) от проклятия Закона» (Гал. 3, 13). – «Бог сделал Его за нас грехом» (II Кор. 5, 21).
«Безумствуешь ты, Павел; многая ученость доводит тебя до сумасшествия» (Д. А. 26, 24): кощунствуешь ты, Павел; многая святость доводит тебя до кощунства.
Эту несоизмеримость догмата с опытом чувствует и Тертуллиан, так же как Павел: «Распят Сын Божий, – не стыжусь, потому что надо стыдиться; умер Сын Божий, – достоверно, потому что безумно; погребенный, воскрес, – несомненно, потому что невозможно».[34]
Разум человеческий восстает на себя самого, в антиномиях, «согласных противоположностях» опыта-догмата. Мысль – тоже крест, может быть, не только для Павла, но и для самого Иисуса. «Мир для меня распят, и я – для мира» (Гал. 6, 14). Мысль для Павла распята, и он – для мысли.
Ближе к нам всех святых, и этой крестной мукой мысли Павел.
XLIII
Тайна свободы Христовой для него – Предопределение, praedestinatio, prótesis, – для незнающих ужасов ужас, а для знающих радостей радость.
Опытом Предопределения, в судьбах самого Павла, решается все. «Верою, помимо дел Закона, оправдан»; «даром получил благодать», – этим, как ножом, рассекается надвое вся его жизнь. Так же рассечется и вся жизнь человечества на меньшую часть оправданных, не по заслугам спасшихся, и большую часть без вины осужденных, погибших.
«Это – самое страшное, что приходило когда-либо на ум и сердце человеку; никакой горячечный бред не рождал ничего более страшного», – сказано будет о Кальвине, ученике Павла, новом учителе Предопределения. Emile[35] Нельзя ли того же сказать и о самом Павле? Но если о нем, то и о самом Иисусе это можно сказать, потому что в этом учении о Божественной необходимости – Предопределении, Павел так же верно понял Иисуса, как в том – о свободе человеческой.
«Все предано Мне Отцом Моим; и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мт. 11, 27). Значит, есть и такие, которым открыть не хочет и которые не знают ни Отца, ни Сына. «Вам дано знать тайну царства Божия», – только вам одним, «предопределенным», «избранным», и больше никому. – «Много званых, мало избранных» (Мт. 22, 14).
Вспомним страшную притчу о пшенице и плевелах, сущих и не-сущих, сынах Божиих и «сынах Лукавого» (Мт. 13, 25–40). – «Ваш отец – диавол» (Ио. 8, 44). – «Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» – «Согрешил», – «погиб», до рождения, в вечности (Ио. 9, 2).
Тот же вопрос услышит и Павел. «Когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или злого… Иакова возлюбил Бог, а Исава возненавидел… Что же скажем: неужели неправда у Бога? Никак… но кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает… Ты скажешь: «за что же еще обвиняет? ибо кто противостанет воле Его?» А ты кто, человек, что споришь с Богом? Скажет ли изделие сделавшему его: зачем ты меня так сделал? Не властен ли горшечник над глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?» (Рим. 9, 11–21).
«Доброе семя» и «плевелы», сыны Божий и сыны Лукавого, – «сосуды гнева» и «сосуды милосердия» (Рим. 9, 22). Но если люди – «горшки», то не сыны Божии; а если Бог – «горшечник», то не Отец. Все это не ответ на вопрос, а только затыканье рта.
Здесь бесконечная грубость человеческого разума – как бы мертвая механика. В логике-догмате, чудовищно и богохульно-убийственно, а в опыте – ясновидении, детски просто, детски любовно к Отцу.
XLIV
«Да неужто же и впрямь Ты приходил лишь к избранным, – скажет Христу Великий Инквизитор Достоевского. – Говорят и пророчествуют, что Ты придешь вновь и вновь победишь… со своими избранниками… Но мы скажем тогда, что они спасали только самих себя, а мы спасаем всех. Мы исправили подвиг Твой… Мы не с Тобой, а с ним (Антихристом), – вот наша тайна».[36]
Кто больше любит людей – спасающий избранных только, в свободе, Христос или, в рабстве, спасающий всех Антихрист? Миру спастись или погибнуть – значит сейчас, как никогда, ответить на этот вопрос. Павел на него уже ответил.
«Хочет Бог, чтобы все спаслись» (I Тим. 2, 4). – «Все мы придем в единство… и познание Сына Божия» (Ефес. 4, 13). «Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать» (Рим. 11, 32).
Два эти слова: «помиловать всех» – звучат для нас, как никогда, ни для кого не звучали.
XLV
«Сделавшего такое дело (кровосмесителя) я решаю предать сатане, во измождение плоти, чтобы дух был спасен, в день Господа нашего Иисуса Христа» (I Кор. 5, 3–5). Это значит: может человек спастись не только во времени, но и в вечности. «Дело каждого обнаруживается, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого… У кого дело… сгорит, тот потерпит урон… сам, впрочем спасется, но так, как бы из огня» (I Кор. 3, 13–15). Это тот самый «огонь», о котором сказано: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный» (Мт. 25, 41). Слово «вечный» на арамейском языке Иисуса не имеет вовсе того отвлеченно-метафизического смысла «бесконечного времени», как греческое слово aiónion, и слова того же смысла, на философском языке, от Аристотеля до Канта. «Вечность», «век», aión, на языке Иисуса, так же подобна мигу, как и бесконечно длительному времени.
Сколько верующих соблазняет и отвращает от Христа, «губящего Спасителя», догмат вечных мук! Но если бы не обрек на них и злейшего врага своего самый жестокий человек, то обречет ли Милосерднейший?
Что же значит «вечность мук» в Евангелии?
«Как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего», – в конце «вечности земной», tou aiónos (Мт. 13, 40). «Плевелы», «сыны Лукавого» – «мнимые», «несущие», сгорят, как солома, в огне; миг сгорания и будет для них «вечностью мук», а «пшеница», «сущие», «сыны Божий», спасутся все.
XLVI
В тайне Предопределения Павел понял Иисуса, как никто из святых.
«Все да будет едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе; так и они да будут в Нас едино» (Ио. 17, 21). «Я в них, – во всех» (Ио. 17, 26). Это последние слова Иисуса, сказанные на земле ученикам. «Многое еще имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Дух… то откроет вам всю истину… и будущее возвестит вам» (Ио. 16, 12–13).
«Господь (Христос) есть Дух, а где Дух, там свобода» (II Кор. 3, 17). – «Дух дышет, где хочет, и голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает и со всяким, рожденным от Духа» (Ио. 3, 8). – «Дух Господен на Мне; ибо Он послал Меня… проповедовать пленным освобождение… отпустить измученных (рабов) на свободу» (Лк. 4, 18). Это и значит: тайна Духа – тайна свободы.
Первое царство, Отца, – Закон; второе, Сына, – любовь; третье, Духа, – свобода.
«Сам же Дух ходатайствует за вас воздыханиями неизреченными» (Рим. 8, 26). Павел, «восхищенный до третьего неба», слышал, может быть, в этих «воздыханиях Духа» «слова неизреченные, которых человеку нельзя пересказать», и слово неизреченнейшее: «Бог будет все во всем – во всех, Theós pánta en pásin».
«Все покорил уже однажды под ноги Сына Отец. Когда же все покорит Ему (снова), тогда и Сам Сын покорится все Ему Покорившему, да будет Бог все во всем» – во всех (I Кор. 15, 27–28). – «Все из Него, Им и к Нему» (Рим. 11, 36).
Вот что значит тайна бесконечной свободы – любви бесконечной, всех радостей радость – Предопределение.
«Ибо кого Он предузнал, тех и предопределил… а кого предопределил, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил, edóxasen (осиял – обрадовал). Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына своего не пощадил, но предал за нас всех, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих (предопределенных)! Бог оправдает их. Кто осуждает?.. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 8, 29–39).
Не было на земле и не будет большей радости, чем эта.
XLVII
В тайне Предопределения ближе всех святых к Павлу Ориген (II–III вв.). Он первый понял, вместе с Павлом, что значит: «Да будут все едино», – «Бог будет все во всех»; понял радостный ужас Предопределения – Восстановление всего, apokatástasis. «Благость Божия, через посредство Христа, вернет всю тварь к началу и концу единому… ибо все падшие могут возвыситься – (не только во времени, но и в вечности) – от крайних ступеней зла до высших – добра».[37]
Церковь осудила Оригена (543 г.): «Кто говорит, что… муки ада не вечны, что произойдет Восстановление всего, apokatástasis, да будет анафема. Изобретатель сего, Ориген Адаматий, – да будет анафема. Гнусное и ненавистное учение сие да будет анафема».[38]
Павел и Ориген учат одному: «Бог будет все во всех, – все спасутся». Церковь, осудив Оригена, осудила и Павла.
«Имея такую надежду, мы действуем с великим дерзновением», – мог бы сказать и Ориген, вместе с Павлом (II Кор. 3, 12). В этом «великом дерзновении» свободы Христовой оба – вне Церкви. «Павел старался пристать к ученикам (Иисуса), но они боялись его, не веря, что он – ученик» (Д. А. 9, 26). Так же будет Церковь бояться и Оригена; так же не сможет и он к ней «пристать».[39]
Павел такой же, как Ориген, – «возмутитель всесветный», ten oikouménen anastatósas, «возбудитель мятежа» (Д. А. 17, 6; 24, 5). Но «Возмутитель» больший – сам Иисус.
И мир Его не узнал (Ио. 1, 10).
Меньше всего узнал в этом.
Вот где Павел, так же как сам Иисус, – «Неизвестный» – «Ужасный». Больше всех учеников разделил он с Учителем ужас этой неизвестности.
XLVIII
О том, как глубоко столкновение Павла с Церковью, лучше всего можно судить по глубине его столкновения с Петром. Вечная противоположность или противоречие, антиномия, закона и свободы, терзающее сердце Павла, терзает и сердце всей Церкви.
Вскоре, кажется после первого апостольского путешествия Павла, произошло, весною 43–44 года, в Иерусалиме то, что в позднейших преданиях Церкви названо будет «Собором Апостольским».[40]
«Я ходил с Варнавою в Иерусалим… по откровению и предложил там знаменитейшим (Апостолам) особо (наедине, kat'idian) благовествование, проповеданное мною язычникам (чтобы узнать), не напрасно ли я тружусь и трудился… Вкравшимся же лжебратиям, тайно приходившим подсмотреть за нашей свободою… во Христе Иисусе, чтобы поработить нас (Закону), мы ни на час не уступили и не покорились… И знаменитые не возложили на меня ничего (более)… А напротив, увидев, что мне вверено благовествование для необрезанных, как Петру для обрезанных… Иаков и Кифа, и Иоанн, почитаемые Столпами, styloi, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им – к обрезанным» (Гал. 2, 1–9).
Это свидетельство Павла подтверждается и в «Деяниях Апостолов», с такою точностью, что историческая подлинность его, по крайней мере в главных, внешних чертах, несомненна.
«Когда же началась великая распря, pollés de xetéseos genoménes, Петр, встав, сказал им: «Мужи братия! вы знаете, что Бог, от первых дней, избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали… и не положил никакого различья между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы (ныне) искушаете Бога, возлагая на шею учеников иго (Закона), которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, так же, как и они» (язычники). – Тогда умолкло все собрание, слушая Варнаву и Павла, возвещавших, какие чудеса и знамения сотворил Бог через них среди язычников» (Д. А. 15, 7–12).
Слишком невероятно, чтобы Петр мог действительно так говорить: кажется, здесь (особенно в этом противоположении «спасемся благодатью», а не «делами Закона») говорит устами Петра сам Павел; но еще невероятнее, чтобы Павел мог говорить устами Иакова (Д. А. 15, 13–21). Слишком не похожи в этом свидетельстве Иаков и Петр на тех двух Апостолов, которых мы знаем, по свидетельству Павла.
Смутный след какого-то исторически подлинного воспоминания, может быть, уцелел и в свидетельстве «Деяний Апостолов» о чудесном обращении римского сотника, Корнилия, после видения Петру сходящего с неба полотна, с нечистыми животными: «того, что очистил Бог, не почитай нечистым» (Д. А. 10, 15). Смысл видения – тот, что Павлова проповедь – не новшество, потому что и Петр такой же, как Павел, – «Апостол язычников». Но отделить историческую действительность от покрова легенды здесь уже невозможно.
«Нет у меня ни в чем недостатка против высших Апостолов» (II Кор. 11, 5), «почитаемых Столпами» (Гал. 2, 9), – с этим выводом Павла, сделанным на «Апостольском соборе», не могли бы согласиться Двенадцать, уже потому, что Петра поставил «Верховным Апостолом» и положил его «Камнем» в основание Церкви не кто иной, как сам Господь. Грех сатанинской гордыни помнит ли Павел, когда говорит: «Лучше для меня умереть, чем уничтожить похвалу мою» (I Кор. 9, 15)? Так же не могли бы согласиться Двенадцать и с другим выводом Павла, что Закон отменен не только для язычников, но и для обращенных Иудеев.[41]
Как бы то ни было, высшая точка, – зенит будущей Церкви Вселенской – достигнута Деяниями в этом именно свидетельстве об Апостольском соборе, где Павел входит в Церковь. Но если теперь входит в нее, значит, не был в ней раньше или, по крайней мере, не был так, как теперь. Очень знаменательно, что Петр, после того, исчезает из Деяний уже навсегда и почти бесследно: остается только Павел. Но тщетно пытается Лука, «врач возлюбленный» (Кол. 4, 14), исцелить эту зияющую рану Церкви – «великую распрю» Петра и Павла: через пятнадцать веков, в протестантстве, Реформации, рана зазияет снова и уже не исцелит ее никто, кроме одного Врача.
XLIX
Очень скоро – вероятно, между первым и вторым путешествием Павла – «великая распря» вспыхнула снова, еще большим пламенем.
«…Когда же Петр пришел в Антиохию, я лично противостал ему, потому что он подвергся нареканию. Ибо, до прибытия некоторых учеников от Иакова, он ел вместе с язычниками; когда же те пришли, начал таиться и устраняться, боясь обрезанных». Те, вероятно, так же точно укоряли и обличали Петра, как Павла, за то, что он ест с «нечистыми», а слова Божия: «того, что очистил Бог, ты не почитай нечистым» – уже не вспомнил Петр.
«Вместе с ним лицемерили, synyperkrithesain, и прочие Иудеи (христиане), так что Варнава увлечен был их лицемерием. Но когда я увидел, что они поступают не прямо, по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?.. Мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою… Если же Законом оправдание, то Христос напрасно умер» (Гал. 2, 13–21).
Петр, конечно, не мог лицемерить. Робок был, застенчив и неуклюж, что показал в ту памятную ночь, в разговоре с привратницей и слугами, во дворе Каиафы: «Не знаю Человека сего» (Мк. 14, 71); но и правдив был бесконечно, что покажет всей своей жизнью и смертью.[42]
Нет, Петр не лицемерил. Был правдив и тогда, в Антиохии. Но, в вечной «распре» между Законом и свободой, верен будет Иисусу, вне Церкви – против Церкви, один только Павел. Та же и здесь антиномия – «согласная противоположность» – у самого Иисуса, как у Павла.
«На путь к язычникам не ходите… а идите… к погибшим овцам дома Израилева», – говорит Господь ученикам (Мт. 10, 5–6) и теми же почти словами скажет о Себе Самом: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мт. 15, 24); и жене Ханаанеянке, молящей об исцелении дочери: «Нехорошо взять хлеб у детей (Израиля) и бросить псам» (язычникам), говорит как будто жесточайшее слово Милосерднейший (Мт. 15, 26). Если же, все-таки, бросит, то уже, конечно, не с легким сердцем.
«Будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в царстве Божием, а себя изгнанными вон» (Лк. 13, 28). – «Истинно говорю вам: и в Израиле не нашел Я такой веры», – как у римского сотника, в Капернауме. «Многие же придут от востока и запада и возлягут… в Царстве небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю» (Мт. 8, 10–12). – «Се, оставляется дом ваш пуст» (Мт. 23, 38). – «Идите и научите все народы во имя Мое» (Мт. 28, 19).
Та же мука, раздирающая сердце Господне, – противоречие Закона и Свободы, – раздирает и сердце всей Церкви, в «великой распре» между Петром и Павлом.
L
«Если бы кто начал проповедовать (вам) другого Иисуса, которого мы (Павел) не проповедуем… вы были бы очень снисходительны к тому (Петру или ученикам Петра)… Это лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых, и неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид Ангела света» (II Кор. 11, 4–5, 13). – «Если бы даже мы (Павел) или Ангел с неба стал благовествовать не то, что мы благовествуем вам, да будет анафема» (Гал. 1, 8–9). Если же самому Петру, то ближайшим ученикам его, – эта «анафема» Павла.[43]
«Симон Волхв» и «лжепророк Валаам», в Откровении (2, 14), очень вероятно, Павел.[44] «Ангелу Пергамской церкви напиши: есть у тебя держащиеся учения Валаамова (Павлова)… чтобы сыны Израиля вкушали идоложертвенное и блудодействовали… учение Николаитов (учеников Павла), которых Я ненавижу» (Откр. 2, 14–15).
«Враг-человек (Павел) разрушил Закон», – насадил, как диавол, плевелы в пшеницу. – «Некоторые из язычников, отвергнув благовестие мое (Петра), приняли беззаконное учение врага-человека», – скажет, по преданию Церкви, от начала II века Петр в Послании к брату Господню Иакову,[45] и он же – о видении Павла, на пути в Дамаск: «Кто верит снам и видениям, тот может быть обманут; ведь и нечистый дух является (под видом Ангела света)… Видящий видение не знает, от Бога ли оно… И может ли кто-нибудь поставлен быть видением (в Апостолы)? А если может, то зачем Господь, в течение целого года, обращался и говорил с нами (не в снах и видениях, а наяву)? Если же Господь тебе (Павлу) являлся воистину, то не противься мне (Петру), бывшему с Ним, ибо ты восстал на меня – твердый Камень, положенный в основание Церкви».[46]
LI
Кажется, самим Иисусом, в предсмертную ночь, на Тайной Вечере, предсказаны всемирно-исторические судьбы Церкви, в этой «великой распре» между Петром и Павлом: «Симон! Симон! вот сатана просил (у Бога), чтобы сеять вас, syniásai, как пшеницу (сквозь сито). Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты некогда, обратившись (покаявшись), утвердил братьев твоих» (Лк. 22, 31–32). Вечная распря между Петром и Павлом – не одно ли из этих «диавольских сит»?
«Я пришел во имя Отца Моего, и вы не принимаете Меня; а если иной, állos, придет во имя свое, его примете» (Ио. 5, 43). Этот «иной Христос» – Антихрист.
То же, но еще яснее, предсказано и Господом воскресшим: «Когда ты (Петр) был молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел, а когда состаришься, то прострешь руки твои и другой, állos, препояшет тебя и поведет, куда не хочешь» (Ио. 21, 18).
Вот что значит: «если бы кто начал проповедовать другого Иисуса, которого мы (Павел) не проповедуем… вы приняли бы его».
Через пятнадцать веков вспыхнет снова, уже всемирным пожаром, все та же «великая распря» между Петром и Павлом, в Протестантстве-Реформации, и люди поймут или все еще не поймут, что значит: «другой поведет тебя, куда не хочешь».
LII
Думает ли Павел о примирении с Петром, хочет ли подать ему «руку общения», когда в конце третьего путешествия, вероятно весною 58 года, в канун Пятидесятницы, решает идти в Иерусалим?[47]
«Из Милета же, послав учеников в Эфес, Павел призвал пресвитеров (тамошней) церкви, и когда они пришли к нему, сказал им… „вот я иду, по влечению Духа, в Иерусалим, не зная, что там со мною будет; только по всем городам возвещает Дух… что узы и скорби ждут меня. Но я, ни на что не взирая, не дорожу своею жизнью, только бы с радостью совершить мне поприще мое и служение, принятое от Господа Иисуса… И вот я знаю, что все вы, между которыми ходил я, проповедуя царство Божие, не увидите больше лица моего“… Сказав это, преклонил он колена и со всеми помолился. Тогда великий плач был у всех, и, падая на шею Павла, целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что уже не увидят лица его. И провожали его до корабля» (Д. А. 20, 17–38). Это слово к Эфесской общине – как бы предсмертное завещание Павла.
В Тире, куда приплыли на корабле, идущем в Финикию, снова все ученики, с детьми и женами, провожали Павла за город и на морском берегу, «преклонив колена, молились», – в соленой свежести волн, под немолчный шум прибоя, как в «Одиссее» Гомера.
Отплыв же из Тира в Птолемаиду, прибыли в Кесарию Приморскую, куда пришел к Павлу Агав пророк. «И вошедши к нам, взял пояс у Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: „Так говорит Дух Святой: мужа, чей этот пояс, свяжут так в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников“. Когда же мы это услышали, то… просили, чтобы Павел не ходил в Иерусалим. Но он… сказал (нам): „Что вы делаете? для чего плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов и умереть за имя Господа Иисуса“ (Д. А. 21, 5–13).
Павел – свободнейший из людей в мире, – связанный по рукам и ногам, как влекомая на заклание жертва, – вечный узник Духа.
LIII
«После сих дней (в Кесарии Приморской), пошли мы в Иерусалим» (Д. А. 21, 15). Здесь «брат Господен», Иаков, невольно искушает Павла: «Все ревнители Закона… из Иудеев уверовавших… наслышались о тебе… что ты учишь отступлению от (Закона) Моисея, говоря, чтоб не обрезывали детей своих… Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющих на себе обет („Назиреата“, строжайшего исполнения закона об „очищении“).[48] Взяв их, очистись с ними (освятись, hagnistheti) и возьми на себя издержки (на жертву) за них… И тогда узнают все, что слышанное… о тебе – неправда, но что и сам ты продолжаешь соблюдать Закон»… Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм» (Д. А. 21, 18–26).
Жертву приносит Павел за других и сам «становится жертвой» (II Тим. 4, 6). – «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя… Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобресть Иудеев; для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобресть подзаконных; для чуждых Закона – как чуждый Закона, чтобы приобресть чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных» (I Кор. 9, 19–22). Это отречение от свободы Христовой для него бóльшая жертва, чем смерть.
«Слишком любил он – перелюбил Израиля, hyperegápesen, по чудному слову Варнавы.[49] – «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти… Израильтян… от них же и Христос по плоти, сущий надо всем Бог» (Рим. 9, 3–5).
Вот какой страшной ценой хочет сильный помириться с немощным, свободный – с рабом, с Петром – Павел.
LIV
Здесь, в Иерусалиме, мог бы он вспомнить, как лет десять назад, в Антиохии, обвинял Петра в «лицемерии». Жертва «очищения», – такая же часть Закона, как «обрезание»; кто соблюдает часть Закона, тот соблюдает и весь Закон.
В первые годы служения своего Павел, «ради Иудеев», обрезал в Листрах, Тимофея, полуэллина (Д. А. 16, 1–3). Знал, конечно, уже и тогда, чтó делает. «Стойте в свободе, которую дал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства… Если обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа» (Гал. 5, 1–2). – «Берегитесь обрезания, берегитесь псов, злых делателей», – учеников Петра (Флп. 3, 2). Думая так и все-таки обрезывая Тимофея, не хуже ли Петра «лицемерил» Павел? «Стойте в свободе», – говорит другим, а сам не стоит.
Знает, чтó делает, и в Галатии, земле скопцов, «обрезанных» Великой Матери, Magna Mater, Кибелы,[50] когда говорит: «Сами бы пусть оскопились – обрезались, aposkopsóntai, смущающие вас». Иудею сказать: «Не нужно обрезания» – все равно что сказать христианину: «Не нужно крещения», под тем предлогом, что оно не духовное, а плотское таинство; сравнивать оскопление с обрезанием для Иудея – такое же невыносимое кощунство, как для христианина – оплевание Креста.[51]
«Если оправдание – Законом (обрезанием), то Христос напрасно умер» (Гал. 2, 21). Это значит: исполняя закон обрезания, Павел делает смерть Христа «напрасною», как бы снова Его распинает.
Знает он, чтó делает, и в Иерусалиме.
«…Иудеи Мало-Азийские (в том числе, может быть, и Галаты), увидев Павла в храме, возмутили весь народ и наложили на Павла руки, вопя: «мужи Израильские! помогите! Этот человек… ввел Эллинов в храм, и осквернил святое место сие». Ибо перед тем, видя с ним в городе Трофима Эфесянина, подумали, что Павел ввел его в храм» (Д. А. 21, 27–29).
В этом, конечно, правы Иудеи: Павел действительно «осквернил» святыню храма, – в жертву «нечистую» себя принес, а вместе с собою ввел всю «языческую нечисть» в храм. «И, схватив Павла, повлекли его вон из храма… и весь Иерусалим возмутился» (Д. А. 21,31).
Вот когда и где родилось «возмущение всесветное», – «революция», по-нашему. Первый «Возмутитель» – Иисус; второй – Павел.
Когда в Иудейской войне-революции 70 года римские воины, взяв Иерусалим, войдут в храм и ворвутся в Святое святых, то, не увидев в нем ничего, кроме голых стен, удивятся – ужаснутся этой пустоте: так и теперь «пустому» возмущению ужасаются, – «глупому спору», не из-за чего, – из-за «какого-то Иисуса умершего, о котором Павел утверждает, будто Он жив» (Д. А. 25, 19).
«Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, чтоб он уже возгорелся!» (Лк. 12, 49). Вот когда и где желание это исполнилось, – возгорелся огонь Возмущения-Революции, в котором некогда вспыхнет весь мир, как ночной мотылек на свече, и сгорит.
LV
«…Тотчас же тысяченачальник (Клавдий Лисий), взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, увидев его… перестали бить Павла… И тысяченачальник, схватив его, велел сковать двумя цепями… и отвести в крепость. Когда же он был на лестнице, воинам пришлось в тесноте нести его (на руках)… ибо множество народа следовало за ним и кричало: „Смерть ему!“ (Д. А. 21, 32–36.)
Павел спасся от смерти двумя чудесами, – невидимой защитой Господней и видимой – сенью римских орлов. Никогда не был он таким Иудеем, как в этот день, но и таким Римлянином не был тоже никогда.
В той самой претории, где некогда кричали Пилату Иудеи: «Распни!» и бичевали Господа Римляне, Павел скажет Римскому сотнику: «Разве позволено вам бичевать римского гражданина, да еще и без суда?» Тысяченачальник же, подойдя к Павлу, спросит его: «Ты – Римский гражданин?» Он скажет: «Да», и тотчас же отступят от него хотевшие бичевать его. И тысяченачальник испугается, что сковал его (Д. А. 22, 24–29).
«Я – Римский гражданин», civis Romanus sum, – зримое в этом слове, чудо: «Римского мира величие безмерное», pacis Romanae immensa majestas, охраняет Павла и охранит до конца – до Рима.
LVI
Павел просит тысяченачальника: «Позволь мне говорить к народу». – «Когда же тот позволил, он, стоя на лестнице, сделал рукою знак… и, когда наступила глубокая тишина, начал говорить по-еврейски (арамейски)… и народ утих еще более».
Павел говорит о первом, бывшем ему, на пути в Дамаск, видении Господа, и о втором, после Дамаска: «Когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме, то пришел в исступление и увидел Его (Иисуса), и Он сказал мне: «…выйди из Иерусалима… потому что здесь не примут твоего свидетельства о Мне… Я пошлю тебя далеко к язычникам». До этого слова слушали Павла, а затем… меча одежды и пыль на воздух, подняли крик: «Истреби от земли такого, ибо ему не должно жить!» (Д. А. 21,40; 22, 1–22.)
Имени для него не находят в неистовой ярости: «Такого», toióuton, значит: «не такого грешника», а «такой грех»; не «такого проклятого», а «такое проклятие» – всего Израиля, всего человечества. «Бог сделал Его (Христа) грехом, hamatian за нас» (II Кор. 5, 21), – и Павла тоже; «сделался за нас (Христос) проклятием, katára» (Гал. 3, 13), – и Павел тоже. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ио. 15, 13): это сделал Иисус, – и Павел тоже.
LVII
В ту же ночь, в претории Антониевой крепости, было Павлу видение: «Господь, представ ему, сказал: „Дерзай Павел; ибо, как ты свидетельствовал обо Мне в Иерусалиме, так должно тебе свидетельствовать и в Риме“ (Д. А. 23, 11).
В третьем часу ночи двести римских воинов, семьдесят всадников и двести стрелков, повели Павла через Антипатриду в Кесарию Приморскую, к Римскому прокуратору, Феликсу (Д. А. 23, 31).
Подъезжая на осле к Кесарии, на восходе солнечном, и увидев вдали, между холмами, темно-синюю полосу моря, вспомнил, может быть, Павел, бывшее ему в Коринфе, видение Рима,[52] когда на перепутье между Востоком и Западом, прошлым и будущим, в городе «между двумя морями», bimaris,[53] глядя с высоты Акрокоринфа на два моря – на две дали («Я пошлю тебя далеко к язычникам»), – он писал в Рим: «С давних лет имея желание прийти к вам, – как только предприму путь в Испанию, – приду» (Рим. 15, 23–28).
Первое слово Господне к Павлу, на пути в Дамаск: «Я пошлю тебя… к язычникам» (Д. А. 26, 17), – будет и первым словом самого Павла в Риме: «Спасение Божие послано язычникам» (Д. А. 28, 28). Только здесь, в Риме, сделается Павел в полном смысле «Апостолом-язычником».
LVIII
«По прошествии двух лет, поступил на место Феликса Порций Фест и, в угоду Иудеям, оставил Павла в узах» (Д. А. 24, 27). «Когда же Фест предложил ему идти на суд в Иерусалим, Павел сказал: „Я стою перед судом Кесаревым… Иудеев я ничем не обидел… ибо, если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отказываюсь умереть; а если того нет, в чем они обвиняют меня, то никто не может меня выдать им. Требую суда Кесарева“ (Д. А. 25, 9–11).
Фест решил исполнить требование Павла и послать его в Рим. «Когда решено было плыть нам в Италию, то отдали Павла… сотнику Августова полка, Юлию» (Д. А. 26, 32; 27, 1).
Было три апостольских путешествия Павла, на свободе, а это, четвертое, – в цепях. Но, вечный узник Духа, возвестит Он миру и в цепях свободу.
LIX
Кажется, раннею весною 60 года, увидел Павел с большого Александрийского корабля «Диоскуры», около Партенопейского залива, давно желанный берег Италии (Д. А. 28, 11–13). Юлий проводил его до Рима, откуда братья Римской общины вышли к нему навстречу, по Аппиевой дороге, к Трем гостиницам, Tres Tabernae, а затем Юлий отвел Павла в преторианский лагерь, castra praetoriana, у Номентанской дороги, via Nomentana, и передал узника префекту претории, Афранию Бурру, человеку благородному, сделавшемуся, может быть, покровителем Павла и искупившему через два года горькою смертью желание сделать добро в «царстве Зверя» – Нерона.[54]
Павел, заключенный, в ожидании суда, под «военную стражу», custodia militaris, прикован был легкой, снимавшейся иногда, цепью к преторианскому воину-фрументарию[55] и получил позволение жить в нанятом им от себя помещении, – тоже, конечно, особая милость (Д. А. 28, 23, 30).
Римская община основана была около 49 года, при кесаре Клавдии, учениками Петра и Иакова, иудео-христианами, помимо Павла:[56] вот, вероятно, почему «Деяния» не упоминают ни словом об этой, по духу, должно быть, Павлу враждебной общине.
Дня через три по прибытии он призвал к себе в гостиницу «старейшин», hakamim, Римской общины[57] и сказал им: «Мужи братия! не сделав ничего против народа (Иудейского) и отеческих обычаев (Закона), я, в узах, из Иерусалима предан в руки Римлян. Они же, судив меня, хотели освободить, потому что нет во мне никакой вины, достойной смерти. Но так как Иудеи воспротивились тому, то я принужден был потребовать суда у кесаря. Вот почему я и призвал вас, чтобы увидеться и поговорить с вами, ибо за надежду Израилеву обложен я этими узами». Они же сказали ему: «Мы ни писем не получали о тебе из Иудеи, ни из приходящих братьев никто не извещал (нас) о тебе и не говорил ничего худого. Впрочем, хотелось бы нам слышать от тебя (самого), что ты думаешь, ибо мы знаем, что об этом учении везде спорят» (Д. А. 28, 17–22).
«Споры эти, „пререкания“, – все та же „великая распря“ между Законом и свободой, Петром и Павлом. „Вот лежит Сей (младенец Иисус) на падение и на восстание многих в Израиле, и в пререкаемое знамение“, seméion antilegómenou (Лк. 2, 34). „Знамение“ это – Павел, так же как сам Иисус.
«И назначив ему день, многие (опять) пришли к нему в гостиницу, и он, с утра до вечера, говорил им о царствии Божием, приводя свидетельства… об Иисусе из Закона… и пророков. И одни убеждались… а другие не верили. Будучи же не согласны между собою, они (уже) уходили, когда Павел сказал им: „хорошо предрек Дух Святой отцам нашим через пророка Исайю: „слухом услышите, и не уразумеете; и очами смотреть будете, и не увидите… Ибо огрубело сердце людей сих, так что ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами… и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их“. Итак, да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам: они и услышат“ (Д. А. 28, 23–28).
«Не обратятся, чтобы Я исцелил их»: в этом страшном «чтобы», hina, – воля Божия к «ожесточению» Израиля («кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает, sklerynei») (Рим. 9, 18), – «власть горшечника над глиной», – Предопределение.
LX
Место Бурра, казненного в 62 году, заняли двое префектов, Фений Руф и Тигеллин, палач Нерона.[58]
Царство Евменид уже наступало, но Павла не коснулось до времени. «И жил он целых два года, на своем иждивении, принимая всех приходивших к нему и благовествуя царство Божие, со всяким дерзновением, невозбранно» (Д. А. 28, 30–31).
Судя по свидетельству самого Павла: «Узы мои во Христе сделались известными всей претории» (Флп. 1, 13), – он начал проповедь язычникам обращением стороживших его преторианских воинов, а через них, должно быть, проник и «в дом Кесаря».[59] – «Приветствуют вас (Филиппийцев) все святые, а больше всех, – из кесарева дома» (Флп. 4, 22).
Были среди этих новообращенных, если верить позднейшим преданиям, и приближенные к Нерону, в том числе наложница его, Антея, и один из любимых сановников.[60]
Эти-то успехи и внушили Павлу надежду на оправдание: «Я ни в чем не буду посрамлен, но, при всяком дерзновении, возвеличится во мне Христос» (Флп. 1, 20). – «И избавит меня Господь от всякого зла и сохранит» (II Тим. 4, 18). – «Верно знаю, что останусь и пребуду (снова увижусь) со всеми вами… для вашей радости… при моем вторичном к вам (Филиппийцам) прибытии» (1, 24–25). – «Приготовь для меня помещение, ибо надеюсь, что, по молитвам вашим, я буду (снова) дарован вам», – пишет он к Филимону, брату Колосской общины (Флм. 1, 22).
LXI
Может быть, Рим был для Павла сначала только перепутьем по дороге в Испанию – на Крайний Запад, конец тогдашнего мира, orbis terrarum».[61]
«Как только предприму путь в Испанию, приду к вам, – пишет он Римской общине, еще из Коринфа, в 51–52 году, – ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро я наслаждусь общением с вами, хотя бы отчасти» (Рим. 15, 24).
Здесь только, в Риме, около 60 года, впервые узнав о возникновении Колосской общины, Павел по ней впервые узнает и о том, что дело его будет продолжаться и после, и помимо него; что Христианство уже родилось и стало на ноги. Маленький, захолустный городок, Колоссы, находился за древней столицей Востока, Эфесом, в глубине Фригии, близ города Апамеи-Кивота (kibotós, «Ковчег»), у подножия Арарата, на чьей вершине «остановился Ноев ковчег».[62]
Если «потоп» есть гибель первого мира, то, может быть, «Ноев ковчег», – корабль последних спасшихся людей первого человечества, – «уцелевшее малое семя» будущего мира. «Ты (Боже) даешь путь кораблю в море и безопасную стезю в волнах… ибо, в начале (мира), когда погибли гордые исполины, nephelim (люди допотопного мира), правимая Твоею рукою Надежда, прибегнув к ковчегу, сохранила… семя (человеческого) рода», – толкует «Книгу Еноха» Соломон (Прем. 14,3–6). «Лучшее племя людей обитало на вашей земле (до потопа), и вы произошли от его уцелевшего малого семени, perileiphthéntos spermatos brahéos», – говорит Саисский жрец Солону в «Тимее» («Атлантиде») Платона.[63]
«Я был восхищен в сильном вихре (так же как Павел, «восхищен до третьего неба») и унесен на Запад; там увидели глаза мои все тайны небес, которые должны совершиться».[64] – «Я был восхищен к огню Заката… всех солнц».[65]
С временнóго Востока – Истории Енох «восхищен» на вечный «Запад» – конец мира, – в «Атлантиду-Апокалипсис».
Первого мира конец – на Западе: таков смысл «Атлантиды» Платона, а смысл христианства – конец второго мира, соединяющий Восток и Запад: «ибо, как молния исходит от востока и видна бывает до запада, так будет пришествие Сына человеческого» (Мт. 24, 27). Все христианство есть поворот мира с Востока на Запад.
«Я был восхищен в сильном вихре и унесен на „Запад“, – мог бы сказать и Павел, прошедший весь путь от Арарата до Столпов Геркулесовых, – великий Средиземный путь „Атлантов“, по мифу Платона: к Западу, все к Западу, идет, – не может остановиться Павел, гонимый вихрем Духа, как будто знает, что только на Западе найдет конец Востока, – времени – в вечности.
«Он (Христос), сошедши (в ад), проповедал находящимся в темнице духам, непокорным некогда… во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие… спаслись», – скажет и вечный враг – спутник Павла, Петр (I Петр. 3, 19–20). «Духи в темнице» – люди первого человечества. «Семя Жены сотрет главу Змия», – это обещание первому человеку, «Адаму – Атланту», во втором человечестве, исполнилось.
«Я увидел все (на Западе) и понял, но не для рода настоящего, а для грядущего».[66] – «И сказал мне Ангел: „Все, что ты видел, послужит Мессии (Христу), да будет Он силен и могуществен на земле“, – говорит Енох.[67] – «Знайте, что близко, при дверях: род сей не прейдет, как все это будет», – говорит Иисус (Мт. 24, 33–34), и повторяет Павел.
LXII
Кажется, именно здесь, в Риме, охватывает Павла чувство новой всемирности так, как еще никогда: «Нет уже ни Иудея, ни Эллина… ибо все вы – одно во Христе» (Гал. 3,28). – «Нет различия между Иудеем и Эллином, потому что один Господь у всех» (Рим. 10, 12).
– «Нет ни Иудея, ни Эллина, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, ни Скифа… но все и во всем – Христос» (Кол. 3, 11).
Если первый камень, заложенный в основание Града Божия, – «города Великого Царя», – Иерусалим, то второй камень – Рим.
«Слово благовествования пребывает у вас (Колоссян), как во всем мире, pánto to kósmo» (1, 5–6), – это могло быть сказано только здесь, в Риме, «вселенском», «кафолическом», katolikós: «будет одно стадо и один Пастырь» (Ио. 10, 16). Здесь только завершится строение догмата о единой Церкви Вселенской – Теле Христовом.
«Он (Христос) рожден прежде твари, ибо Им создано все, на небе и на земле, видимое и невидимое; Престолы ли, Господства ли, Власти, – все Им и от Него… Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви. Ибо угодно было Отцу, чтобы в Нем обитала вся полнота, pleroma, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, соединив через Него, кровью креста Его, и земное и небесное». – «Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Кол. 1, 15–20; 2, 2). – «Да будет Бог все во всем», – во всех (I Кор. 15, 28).
Верим ли мы в это или не верим, но уж и то, что через тридцать лет по смерти человека Иисуса, это могло быть сказано, подумано, испытано так, есть чудо всемирной истории.
LXIII
«Все дороги ведут в Рим»; тогда вели – ведут и теперь, в этом тоже «чудо» истории.
И вековечные, бегут, В пустынях, римские дороги.Идучи из Фессалоник в Афины по широким и гладким мраморным плитам, via Egnatiana, «маленький жид», с кривыми босыми ногами, в стуже и наготе и в опасности от разбойников, мог чувствовать благодеяния Римской власти, – «Римского мира величие безмерное», pacis Romanae immensa majestas.
«Нет власти не от Бога; сущие же власти от Бога установлены» (Рим. 13, 1). – «Бог не есть Бог неустройства (хаоса), но мира» (космоса), – вечного Рима (I Кор. 14, 33, 40).
«Нет власти не от Бога». Очень легко решить, что это «приспособление», «безбожная сделка с безбожною властью». Но, может быть, это не так легко нам будет решить, если мы вспомним, что Павел говорит: «начальствующий носит меч напрасно: он – Божий слуга», – уже подставляя шею под меч (Рим. 13, 4).
LXIV
Здесь, в опытном действии – строении Церкви, – такое же, как в созерцании-строении догмата, совершенное у Павла, сочетание «пророческого духа», рneumа, с «разумом», nous, опьянения – с трезвостью; так же «умно любит» он и здесь, как там.
Понял бы Павел, почему обиженная вдова надеется на «судию неправедного» и за что господин «похвалил домоправителя неверного… ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде»; понял бы, что значит: «приобретайте друзей богатством неправедным» (Лк. 16, 8–9).
В сборах подаяний смазывать умеет Павел серебром и золотом скрипучие колеса колесницы Господней. Та же «приспособляемость» в делах житейских, та же вкрадчивая елейность и ласковость у Павла, как у нынешних сановников Римской Церкви.
Камень недвижимый в основании Церкви – Петр; движущая сила – Павел; тот Церковь держит, этот строит.
LXV
«Прежде всего, прошу вас, братия, молиться… за всех людей… дабы проводить нам мирное и благоденственное житие» (I Тим. 2, 1). – «Чти отца твоего и матерь» есть первая заповедь, с обетованием: «да будешь долголетен на земле» (Еф. 6, 2–3). – «Кто не возненавидит отца своего и матери»… это для Павла уже не первая заповедь.
«Молим вас, братия… не спешить колебаться умом и смущаться… будто наступает уже день Христов» – конец мира (II Фес. 2, 1–2), переводит Павел часовую стрелку всемирной истории с ночного счета на дневной, с конца мира – на продолжение мира.
LXVI
Лучше всего можно видеть, как строит он Церковь, по письму его к Филимону, этой жемчужине Новозаветных книг.
«Дабы общение веры твоей оказалось действительным… имея великое, во Христе, дерзновение приказывать тебе… лучше, по любви, прошу не иной кто, как я, Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа… о сыне моем, Онисиме, его же родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен и тебе, и мне. Я возвращаю его (тебе): ты же прими его, как сердце мое. Я хотел было удержать его при себе, дабы он, вместо тебя, послужил мне в узах (моих)… но, без твоего согласья, сделать ничего не хочу, дабы доброе дело твое было не вынужденно, а свободно. Ибо он, может быть, (только) для того и отлучился (от тебя), чтобы тебе принять его навсегда, уже не как раба, но выше раба, – как брата возлюбленного, особенно мне, а тем более тебе и по плоти, и в Господе. Итак, если ты имеешь общение со мной, то прими его, как меня (самого). Если же он чем обидел тебя или должен (тебе), – считай это на мне. Я, Павел, пишу моею рукою: я заплачу. Не говорю тебе (уже) о том, что ты и самим собою мне должен. Так, брат мой, успокой сердце мое в Господе» (Флм. 1, 6–20).
Это пишет Павел рукой, отягченной цепями: «помните узы мои» (Кол. 4, 18). Кажется, слышишь тихий звон цепей, которого сам он уже не слышит: за долгие годы слишком к нему привык. Молча благовествуют Павловы цепи свободу рабам: «Вы куплены дорогою ценою; не делайтесь рабами человеков» (I Кор. 7, 23).
Беглого раба, а может быть, и вора («я заплачу») принимает Павел под защиту свою, «как брата возлюбленного в Господе», и возвращает его господину, «как сердце свое», «как себя самого». Внешнего закона не нарушает, в свободе, а исполняет в любви: «чтобы не было вынужденно доброе дело твое, было свободно». Вот что значит «умно любить»: умнее, любовнее, свободнее нельзя сделать того, что он делает.
LXVII
Жизненная мудрость Павла – в том, что незрелого плода внешней свободы, внешнего равенства, он не срывает.
«Рабы, повинуйтесь во всем господам вашим по плоти, не в глазах только служа, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога» (Кол. 3, 22). – «Рабом ли ты призван, не смущайся; но если можешь освободиться, то лучше воспользуйся, ибо раб, в Господе призванный, свободен; так же и призванный свободным, есть раб Христов… Кто в каком звании призван, в том и оставайся пред Богом» (I Кор. 7, 21–24). – «Ибо нет (уже) ни раба, ни свободного, но все и во всем – Христос» (Кол. 3, 11).
Все перевороты внешние, политические и социальные, все наши «революции», – поверхностны: буйны и кратки, дерзки и робки, грубы и слабы; все останавливаются на полпути или кончаются своей противоположностью: освобождая, порабощают. В новом порядке возникает старый: Ванька-Встанька, только что сваленный, но с неперемещенным центром тяжести, опять встает и крепче утверждается. Новый порядок хуже старого: вместо веревочных уз – железные, стальные, адамантовые; внешнее рабство становится внутренним: люди сами в цепи идут, жаждут рабства все неутолимее, и этот «прогресс» бесконечен. Тщетны все революции внешние; в мнимом движении, неподвижны все. Только один, – Его, Первого Двигателя, – внутренний переворот действителен, потому что только он перемещает в мире и в человеке внутренний центр тяжести; только он – глубочайший и сильнейший, потому что тишайший.
Прямо стоявший мир будет опрокинут Иисусом, или опрокинутый, – поставлен прямо. Сколько бы ни уничтожали мы дело Его, – нарушенное Им, равновесие уже не восстановится. Зиждется ли Им или разрушается все; восстает или падает; к добру идет или к худу, – но дойдет до конца – не остановится. Правильно планетное, круговое движение Земли нарушено, и, превратившись в комету, несется она по какой-то неведомой нам траектории.[68]
Вот что значит: ученики Христовы – «возмутители всесветные». Первый из них и величайший – Христос, а за Ним – Павел.
LXVIII
«Старцем», presbytes, он сам себя называет (Флм. 1, 9), но кажется, ему еще нет шестидесяти; только труды, скорби и болезни состарили его до времени.[69] Но духом он все еще молод, и эти последние четыре года, в Римских узах, – может быть, самые молодые, счастливые, за всю его жизнь. Тихое счастье их – как тихий свет вечерний.
«Время моего отшествия уже настало. Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил и теперь готовится мне венец… который даст мне Господь, Судия праведный, в день оный» (II Тим. 4, 7–8). – «Радуемся всегда; зная же, что в теле… мы устранены от Господа… желаем лучше выйти из тела и быть у Господа» (II Кор. 5, 6–8). – «Ибо жизнь для меня – Христос, и смерть – приобретение… так что не знаю, что избрать, – влечет меня и то и другое; хочу разрешиться (освободиться от тела) и быть со Христом, потому что это несравненно лучше; оставаться же в теле нужнее для вас» (Флп. 1, 21–24).
«Верующий в Меня смерти вовек не увидит», – слово это на Павле исполнится воочию: он, в самом деле, умирая, «смерти не увидит».
«Когда пойдешь (ко мне), – пишет он Тимофею, – принеси мне шубу (phelónen, меховой плащ), оставленную мною в Троаде, у Карпа, и книги, особенно кожаные» (II Тим. 4, 13). Как живо и подлинно это смешение земных мелочей с наступающей вечностью! Может быть, среди этих «кожаных» – пергаментных книг, которые Павел возит с собою повсюду, в бесконечных странствиях, и которые должен привезти ему Тимофей в Рим, находится и та Книга Премудрости Соломоновой, которую Савл читал, отроком, в Тарсе, в тесной и темной улочке Иудейского предместья, в шатрово-обойной мастерской отца, и в которой открылась ему впервые тайна человеческой свободы, Божественной Необходимости – Предопределение, próthesis, – всей жизни его восходящее солнце: «Бог будет все во всем – во всех; все спасутся».
Лучше мехового плаща согреет его от заходящего холода смерти это незакатное солнце.
LXIX
Ясность тихого заката омрачается для него одной только тенью, той самой, что легла на всю его жизнь, – вспыхнувшей снова и здесь, в Риме, как там, в Иерусалиме, Антиохии, Галатии, – везде, всегда, – «великою распрею» с Петром.
«Бóльшая часть братьев… ободрившись узами моими, начала… безбоязненно проповедовать слово Божие. Некоторые, правда, по зависти и любопрению, dià phtónon kai érin, проповедуют… нечисто, желая тем отягчить узы мои… Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться всегда» (Флп. 1, 14–18).
«Что до того» значит: «мне все равно». Но вопреки наружному спокойствию, негодование, возмущение прорывается у него, может быть, не только за Господа, но и за себя: «Лучше мне умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою», – готов он, может быть, и теперь сказать, в конце служения, так же как в начале (I Кор. 9, 15). «Ибо я недаром подвизался и недаром трудился. Но, если и делаюсь жертвою за жертву (Иисуса)… то радуюсь и сорадуюсь вам всем. Радуйтесь и вы со мною» (Флп. 2, 16–18).
Но, может быть, тайным ядом и эта радость отравлена. «Многие, о которых я уже часто говорил вам, и теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги креста Христова» (Флп. 3, 18). Кто эти «враги», если не ученики Петра, а может быть, и сам Петр?
«Берегитесь псов, берегитесь злых делателей» (Флп. 3, 2). «Ибо лжеапостолы эти… принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно, потому что и сам сатана принимает вид Ангела света» (II Кор. 11, 13–14). – «Отойди от меня, сатана!» – это, может быть, теперь и Павел готов сказать Петру, как некогда сказал Иисус (Мк. 8, 33). «Если бы даже и Ангел с неба благовествовал вам не то, что мы… да будет анафема!» (Гал. 1, 8). Может быть, и здесь, в Риме, как там, в Галатии, изрек бы Павел Петру эту «анафему».
LXX
Кажется, тлеющее пламя распри раздувается, с новою силою, бурей гонений, когда Павел начинает проповедовать уже не только иудеям, но и римлянам, увлекая за собою, в мученический подвиг, всю церковь Петра.
Только два дня в жизни христианского человечества – Голгофа и Воскресение – больше того дня, вероятно, 1 августа 64 года, когда, после опустошившего Рим пожара, началось первое гонение на христиан.[70]
Маловероятно, вопреки глухому намеку Тацита, чтобы сам Нерон был «поджигателем» Рима. «Думали (все), что пожар приказан был им (Нероном), jussum incendium credebatur. Вот почему, желая заглушить эту молву, начал он судить и казнить лютейшими казнями тех, кого народ за гнусные дела, flagitia, ненавидел, – так называемых христиан… Но в вине поджога не могли их уличить; истинной же виной их была ненависть к человеческому роду, in odio humanis generis convicti sunt».[71]
Чтобы осветить игры на конном ристалище, где сам император, в одежде возницы, правил конями, зажжены были, в знойных сумерках августовского вечера в великолепных садах Нерона, за Тибром, живые факелы – христиане, «поджигатели Рима».[72] Серой, дегтем или смолой пропитанная волосяная рубашка, tunica molesta, была обыкновенной казнью поджигателей; но горящие люди – новый способ освещения, изобретенный Нероном. Гарь человечьего мяса смешивалась с благоуханием фимиама на жертвенниках «богу Кесарю, Нерону», divus Caesar Nero.
«Огненного искушения, для испытания, вам посылаемого, как приключения странного для вас, не чуждайтесь, возлюбленные», – скажет Петр (I Птр. 4, 12).
LXXI
В те же дни, преданы в жертву хищным зверям, на арене цирка, старики, дети, женщины и девушки, – под видом умирающих богов древних мистерий – Адониса, Геракла, Диониса, Орфея.[73]
«Нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались театральным зрелищем, théatron, для мира, для Ангелов и человеков», – скажет, вероятно, об этих играх Павел (I Кор. 4, 9).
В первом ряду зрителей, на высоком золотом помосте, podium, под сенью пурпурных завес,[74] в сонме весталок, в белых одеждах, и курульных сановников, сидел, похожий на пухлого младенца, Нерон, с многоярусной прической из мелко завитых темно-русых волос, с мутно-голубыми глазами и страшно выдающейся нижней губой.[75] Будучи близорук, он вставлял в левый глаз вместо зрительного стеклышка, вогнутый, тщательно ограненный, исполинский изумруд,[76] чтобы лучше видеть наготу христианских мучениц, закрывавших ее только волосами, как Ева в раю. Девственная прелесть ее отражалась как вечное солнце в фокусе изумрудных огней Неронова очка. Qualkis artifex pereo! «Какой во мне погибает художник!» – скажет он, умирая. Матери своей, только что им убитой, еще непростывшее тело будет судить, как художник, глядя на него, может быть, сквозь тот же изумруд.[77]
Жадно смотрит, как бешеный бык подымает на рога обнаженные тела мучениц, и влачит их, и топчет на окровавленном песке арены; жадно вдыхает сладострастный запах крови, пиро-начальник, архитриклин ужасной вечери, – тот, кому поклонятся люди и скажут: «Кто подобен Зверю сему, и кто может сразиться с ним?» (Откр. 13, 4).
Были и другие игры, еще более ужасные. Медленно выползал на арену из подземного логова-клетки, cavea, огромный леопард или пантера, подкрадывался к привязанной к столбу, обнаженной до последней наготы, четырнадцатилетней девочке, и, когда становился на задние лапы, звериная шкура полуспадала с него, и вдруг из-под нее обнажалось человеческое лицо, страшнее звериной морды, – как бы лицо самого диавола. Кинувшись на девочку, он утолял на беззащитном теле гнусную похоть, под неистовый рев и рукоплескания шестидесятитысячной толпы, узнававшей «кесаря-бога» в звере.[78] А после того Дорифер, палач и «супруг его возлюбленный», делая вид, что убивает зверя, убивал ее.[79]
Но, может быть, в последний миг сходил к ней, на кровавое ложе, Христос Жених.
LXXII
Адом на земле сделался Рим для христиан в эти страшные дни. Многие должны были испытывать то же, что испытали бы, если бы, заключенные в ад, узнали, что нет ни Бога, ни диавола, а есть только Бог-Диавол; что до смерти не победил Христос, умер и не воскрес, – в ад сошел и остался в аду; обманул других и обманут Сам. «Еще немного, очень немного, и Грядущий придет, не умедлит» (Евр. 10, 37). Но вот не приходит, и, может быть, никогда не придет. Кажется, были такие минуты, когда вся Церковь могла бы возопить, как Распятый: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты Меня оставил?»
«Огненное искушение» вынести могли не все. Сам Петр не вынес: бежал из ада.
«Господи! куда Ты идешь? quo vadis?» – мог бы он и теперь спросить и услышать тот же ответ, как на Тайной Вечере: «Куда Я иду, ты теперь не можешь за Мною идти, но после пойдешь» (Ио. 13, 36).
Узником, вероятно, не был Петр, когда пришел в Рим: иначе бы Марк, ближайший ученик, «сын» его, бывший с ним почти до конца, разделил бы участь его (I Птр. 5, 13). Это, может быть, и сделало возможным бегство Петра. Помнит о нем только сравнительно поздний апокриф, «Деяния Петра».[80] Но бегство это, вероятно, исторически подлинно: в голову никому не могло бы прийти сочинить что-либо подобное о Верховном Апостоле.[81]
«В Риме был Петр, и, вместе с прочими братиями в Господе, радуясь, днем и ночью благодарил за множество присоединившихся к Церкви… В эти же дни, четыре наложницы префекта Агриппы, услышав проповедь Петра о целомудрии, отказались утолять похоть Агриппы; когда же грозил он сжечь их живыми, бежали к Петру… То же сделала и супруга Альбина, кесарева любимица, и многие другие жены. Но Альбин согласился с Агриппою, схватив Петра, убить, о чем предупредила его супруга Альбина… И прочие братия убеждали Петра бежать из Рима. „Чтобы Господу и впредь еще послужить, беги!“ – говорили ему… И он послушался их и бежал, говоря: „Никто из вас да не сопутствует мне, но я бегу один, переменив одежду“. Когда же выходил он из городских ворот, то увидел идущего к нему навстречу, Господа, и сказал: „Господи! куда идешь? Domine, quo vadis?“ И сказал ему Господь: „В Рим иду, чтобы снова распяться. Vado Romam iterum crucivigi“. Тогда Петр пришел в себя, и увидел Иисуса возносящимся на небо. И пошел назад в Рим, радуясь и благодаря Господа за то, что Он сказал ему: „Иду распяться снова“.
Все грядущие судьбы Церкви Петровой предсказаны в этом втором отречении Петра.
LXXIII
Если мы не знаем с исторической точностью, не бежал ли из Рима и Павел (даже год смерти его и место, где он умер, бесследно забыты в самом Риме, уже с конца III века, так что можно бы думать, что он умер в Испании, будь его путешествие туда исторически действительным), – если мы этого не знаем с исторической точностью, то можем быть уверены с точностью более, чем исторической, что Павел не бежал.[82]
«Радуюсь ныне, в страданиях моих, за вас, восполняя недостаток, в плоти моей, страданий Христовых за тело Его… Церковь» (Кол. 1, 24). – «Радуюсь и радоваться буду, ибо знаю, что… при всяком дерзновении, и ныне, как всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью» (Флп. 1, 18–20).
– «Ибо я уже становлюсь жертвой (кровь мою изливаю в жертву, egó gar spendomai), и время моего отшествия уже настало» (II Тим. 4, 6).
Эта Павлова радость – как в солнце и лазурь облеченный, рай Божий, а извне – ад, тьма кромешная, плач и скрежет зубов.
LXXIV
В эти последние страшные дни все покинули Павла.
«Не было со мной никого, при первом ответе моем (на суде)… Да не вменится им! Но Господь предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали язычники. И я избавился от львиных челюстей» (II Тим. 4, 16–17).[83]
– «Вместе со мной заключенный Аристарх и Марк… а также Иуст, – эти оба из обрезанных… единственные… сотрудники (мои)… бывшие мне отрадою» (Кол. 4, 10–11). Это значит: все остальные – должно быть, ученики Петра, – покинули Павла. Может быть, даже Тимофей, любимый ученик его («не имею никого, равно усердного», Флп. 2, 20), устрашившись, бежал. «Постарайся прийти ко мне поскорей», – пишет ему Павел в Троаду (II Тим. 4, 9): значит, все еще на него надеется.
Кажется, была такая минута, когда Павел, в самом деле, покинутый всеми, остался один, как Иисус, в Гефсиманскую ночь. Многие, может быть, оправдывали измену свою словом Господним или только приписанным Господу: «Выйди от нее (Римской Блудницы) народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4), а другое слово забыли: «Все вы рассеетесь и оставите Меня одного» (Ио. 16, 32).
Павел, – могло казаться людям малодушным, – благовествуя Римлянам-язычникам, даже до кесарева дома, разбудил Зверя в логове и натравил его на Церковь.
Чтобы понять, что происходило в Римской общине, в эти страшные дни, надо вдуматься в слова Павла: «Многие… поступают, как враги креста Христова» (Флп. 3, 18). – «По зависти и любопрению, dia phtonon kai erin, проповедуют Христа не чисто, желая тем отягчить узы мои» (Флп. 1, 16). Вдуматься надо и в слова Петра, или близкого к нему человека, пишущего «Послание Петра»: «Бодрствуйте, потому что противник ваш, диавол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (I, 5, 8). «Всякую злобу и всякое коварство, и зависть, phtónous, отложив, возлюбите, как новорожденные младенцы, чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам… потому что Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по Его следам» (I, 2, 1–2, 21). «Знаю, что скоро должен я оставить храмину мою (тело), как и Господь… открыл мне» (II, 1, 14).
Вдуматься надо и в свидетельство Климента Римского, современника и вероятного очевидца тогдашних римских событий:
«…по злобе и зависти (братьев), diá dzélon kai phtónon, Столпы Церкви, styloi, величайшие и праведнейшие, подверглись гонениям и боролись даже до смерти; по злобе (братьев)… и Петр, пострадав, отошел в уготованное ему место славы; по злобе и зависти, претерпев… увенчался и Павел… Присоединилось же к ним и великое множество избранных (преданных мучителям), все по той же злобе и зависти… в том числе и слабые жены… претерпев несказанное… увенчались победным венцом».[84]
Теми же почти словами говорят оба свидетеля; Павел: «Dia phtónon kai érin, по зависти и любопрению»; Климент: «Diá zélou kai erin, no злобе и зависти».
Вдуматься надо и в свидетельство Тацита. «Схвачены были сначала те, кто открыто объявил себя христианином, а затем, по их доносам, indicio eorum, еще великое множество», – повторяет Тацит, почти слово в слово, свидетельство Климента: «multitudo ingens, poly pléthos, великое множество».[85]
Нет никакого сомнения, что все эти четыре свидетельства – Павла, Петра, Климента и Тацита – относятся к одному и тому же – к доносам друг на друга христиан Римской общины, во дни Неронова гонения 64 года.[86]
Страшно подумать, что значат эти три слова: «по их доносам». Мученики вчерашние – сегодняшние доносчики. Вот когда «сатана сеет их, как пшеницу сквозь сито».
«Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе», – это можно было сказать, в те дни, не только о Лазаре.
Петр, может быть, вернувшись в Рим и увидев Павла, понял, что значит: «В Рим иду, чтобы снова распяться»; понял и пошел за Христом – за Павлом.
LXXV
О, если бы дошло до нас хотя бы только одно слово Павла о Петре, такое же, как это, Петра о Павле: «брат наш возлюбленный» (II Птр. 3, 15); если бы мы только могли знать, что «сатана сеял их, как пшеницу сквозь сито», – не до конца!
Кажется, в эти именно дни, Марк, ближайший ученик Петра, находится между Петром и Павлом. «Приветствует вас (Иудео-христиан Эллинского Рассеяния) избранная церковь в Вавилоне (Риме) и Марк, сын мой», – пишет Петр (I Птр. 1, 1; 5, 13). – «Приветствует вас… Марк», – пишет и Павел, в те же дни (Кол. 4, 10). Значит ли это, что Марк сближает, а может быть, и примиряет Павла с Петром и что в эти страшные дни, когда оба они «уже изливают кровь свою в жертву», – Павел подал, наконец, «руку общения» Петру здесь, в Риме, так же как там, в Иерусалиме?
Или только в смерти, в вечности, соединятся эти два величайших Столпа Римской – Вселенской Церкви?
LXXVI
Петр и Павел, по преданию, идущему от середины II века, казнены в один и тот же день, 29 июня 64 года, а по свидетельству Климента Римского, Петр казнен на день раньше Павла. Самое раннее свидетельство о казни обоих в один и тот же день уцелело в Римском календаре-мартирологе от 366 года.[87]
Павлу на суде предложен был, вероятно, тот же вопрос, что и всем христианским исповедникам: готов ли он принести жертву (сжечь несколько зерен фимиама на алтаре) римским богам Кесарям, – в том числе и «божественному Кесарю Августу Нерону, divus Caesar Augustus Nero»?
Идучи на суд, или казнь, Петр и Павел обменялись, может быть, взглядами, и Петр прочел в глазах «брата своего возлюбленного», Павла: «Прости!» – и Павел – в глазах Петра: «Прости и ты меня!» И вдруг поняли оба, что после Иисуса никто никого никогда не любил так, как они друг друга.
LXXVII
Петр казнен был, по преданию, на Ватиканском холме, «у теребинфа», а Павел – на Остийской дороге, via Ostiensis, «у кедра».[88]
Петр был, кажется, распят и умолил палачей, по очень древнему сказанию, распять его «вниз головой, чтобы и на кресте ни в чем не равняться с Господом».[89]
Павел, вероятно, по милости своих покровителей из Кесарева дома, избавившись от «львиных челюстей» и от креста, казнен был, как «римский гражданин», мечом.[90]
Слыша, как светлое лезвие меча звенит на потемневшем от воды точильном камне, усомнился, может быть, Павел: «Всякая ли власть от Бога?» – и задумался о том, что значит: «Воздавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу»? Но в последний миг, когда уже меч сверкнул над головой, – вдруг понял все: узнал-увидел, так же как тогда, на пути в Дамаск, Иисуса, идущего к нему, в «сиянии, превосходящем сияние солнечное», и сам просиял, как солнце.
LXXVIII
В 258 году, во дни Константина Великого, Петр и Павел соединились в общей «усыпальнице», refrigerium, в катакомбах на Аппиевой дороге, via Appia, той самой, по которой Павел вошел в Рим. Кости его перенесены были сюда с Остийской дороги, via Ostiensis, а кости Петра – с Ватиканского холма.[91] Эти два врага соединились в общей могиле на веки веков, так же как в Церкви два духа: Петр и Павел.
Долго покоились останки Павла в нынешней церкви Paulus extra muros; только в начале IV века снова перенесены были на Остийскую дорогу, а останки Петра – на Ватиканский холм. «Петр, похороненный в Риме, на Ватикане, близ Триумфальной дороги, juxta viam Triumphalem, во всей вселенной прославляется», – скажет бл. Иероним.[92] А Павел почил, «вне городских стен», extra muros, вдали от «Триумфальной дороги».
«В разные дни пострадали они, но были одно, unum erant», – скажет бл. Августин. «Петр пошел вперед, а Павел – за ним».[93] Нет, вперед пошел Павел, а за ним – Петр.
LXXIX
Там, где круговую пляску ведут, в сапфирно-голубом тумане, острова Эгейского моря, как хор Океанид, есть островок пустынный, Патмос, где в зелено-лазурных пещерах, под навесом розовых скал, слышится лишь вечный шум прибоя, вздохи дельфинов и плач гальцион.[94]
Кажется, зимою 69 года на этом островке было видение «рабу Господню, Иоанну». – «Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в скорби и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за слово Божие и за свидетельство (мученическое, martyrian) Иисуса Христа. Был же я в духе, в день воскресный, и услышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний. То, что видишь, запиши в книгу и пошли церквам“ (Откр. 1, 1–11).
Кто этот «раб Господень, Иоанн»? Кем бы он ни был, это во всяком случае, не «Пресвитер Иоанн Эфесский», один из вероятных творцов IV Евангелия.[95] Чтобы в этом убедиться, стоит лишь сравнить довольно правильный, греческий, простонародный, общий язык, koiné, евангелиста Иоанна с полугреческим, полуарамейским языком творца Откровения. Так же легко убедиться, что этот «Иоанн» – не один из двух сынов Зеведеевых, – «ученик, которого любил Иисус». Тот Иоанн казнен, вероятно, вместе с братом своим Иаковом, Иродом Агриппой I, в 40-х годах, – во всяком случае до «Апостольского собора» в Иерусалиме, так как на нем не присутствует, что невозможно, конечно, если бы он был жив (Д. А. 12, 1–2, 15)…
Не могло не исполниться и слово Господне, сказанное обоим братьям вместе: «Чашу, которую Я пью, будете пить», – чашу смерти мученической (Мк. 10, 39).
Кто же этот «Иоанн», неизвестный творец Апокалипсиса? Если «исповедник», «мученик», как он сам себя называет, то во всяком случае не до конца, не до смерти, мученик; может быть, один из тех, кто услышал слово Господне: «Выйди (беги), народ Мой, из нее (из Рима; Rome he porne, „Рим – Блудница“), чтобы не участвовать вам во грехах ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18, 4). Что этот Иоанн – беглец из Рима, тем вероятнее, что о. Патмос – первая гавань на пути из Эфеса в Рим, последняя – из Рима в Эфес, где уцелеет самое живое предание о двух «Иоаннах», Апостоле и Пресвитере; и тем еще вероятнее, что в книге этой самый воздух – тот же, что в Риме тех ужасных, августовских дней 64 года: запах звериной клетки-логова, как на арене цирка, и ангельских кадильниц фимиам, как в видениях мучеников, и сладострастно-благоуханный смрад от тела «Великой Блудницы»; а надо всем – голубовато-знойная мгла Римской malaria, – горячешный жар и бред, – «огненного искушения ужас», гарь человечьего мяса, как от горящих людей-факелов, в садах Нерона. Книги этой не написал бы тот, кто не дышал сам этим воздухом, кто своими глазами не видел «царства Зверя».
LXXX
Кем бы ни был «Иоанн» Апокалипсиса, он, в противоположность «евангелисту Иоанну», – злейший враг Павла, который является здесь под видом «лжепророка Валаама» (2, 14) и «лжеапостола» (2, 9; 3, 9). «Павел – Симон Волхв», с которым в Риме борется и которого побеждает Петр; Павлово «восхищение до третьего неба» – полет Симона Волхва, – с этим толкованием Псевдо-Климента (150–160 гг.) согласился бы, может быть, и тайновидец Патмоса.[96] Будут, и в этом толковании, низвергнуты в ад оба, Павел и Симон Волхв.
Злейший враг Павла – Иоанн Апокалипсиса, и Рима тоже – враг злейший.
«Яростным вином блудодеяния своего она (Римская Блудница) напоила все народы» (Откр. 18, 2). – «Кровью святых упоена и кровью мучеников Иисусовых» (17, 6). «За то, в один день, придут на нее казнь и смерть, и будет сожжена огнем» (18, 8). «Воздайте ей так, как она воздавала вам, и вдвое воздайте ей, по делам ее» (18, 6). «Сильный Ангел взял камень, подобный большому жернову, и поверг его в море, говоря: „с таким стремлением повержен будет Вавилон (Рим), великий город, и уже не будет его“ (18, 21). „Пал, пал Вавилон, Великая Блудница!“ (18, 2) „Возрадуемся и возвеселимся!“ (19, 7).
Гибель всего, что мы называем «культурой», «цивилизацией», и если не всего, то многого, за что Павел благословляет Рим, как «власть от Бога» (Рим. 13, 1), – для Иоанна Апокалипсиса есть торжество Иисуса.
LXXXI
Если самая радостная из всех, в мире бывших и, вероятно, будущих книг, – Евангелие, то самая страшная, – Апокалипсис. Ужас ее – в небывалом нигде, никогда, сочетании математики с тем, что нам кажется «бредом безумья», геометрически точной меры – с безмерностью. Тайна Истории – времени есть и тайна Апокалипсиса – вечности: тáк было, тáк будет; было, в начале и в продолжении мира, – будет, в конце.
«Здесь – мудрость. Кто имеет ум, сочти число Зверя, ибо это число человеческое; число его – шестьсот шестьдесят шесть» (Откр. 13, 18). Вот и для нас все еще, или уже, неотразимое совпадение внешнего, исторического, и внутреннего, религиозного, опыта: две непреложно-точные, математические меры: человек – Зверь, человек – Бог; цель Истории – царство Зверя, или царство Божие.
В этом и Павел согласился бы с Иоанном Откровения, так же как с Петром.
LXXXII
Кажется, в Риме, после бегства Петра, была такая минута, когда все будущие судьбы Церкви, а следовательно, и всего христианского человечества зависели от одного Павла: вынесет ли он или не вынесет, один из всех, всю тяжесть Креста? Вынес, – «Христу сораспялся» воистину (Гал. 2, 19); больше, чем на себя поднял, – принял на себя, так же как Иисус, весь грех, все проклятие всего человечества: сам сделался «грехом», hamartia (II Кор. 5, 21), и «проклятием», katára, за нас всех (Гал. 3, 13).
Чтó дало ему нужную для этого силу, чтó спасло? Кажется, то самое, что может спасти и все христианское человечество. В тот последний миг, когда меч уже сверкнул над головой Павла, он, может быть, вдруг понял, как еще никогда не понимал, величайшую тайну всей жизни своей и почувствовал, как еще никогда не чувствовал, ту радость, которой некогда был и будет сейчас «восхищен до третьего неба»; тайна человеческой свободы есть тайна Божественной Необходимости, – Предопределение, próthesis: «будет Бог все во всех, – все спасутся».
Понял, в эту минуту, первый святой, Павел, то, чем может спастись и последний из грешников, – что самый святой из святых и самый грешный из грешников – он.
Этого уже никто никогда не поймет так ясно, как Павел, это поймет, через четыре века, почти так же ясно только один человек – св. Августин.
II. Августин
I
«Голос мой умолкает, и слова мои заглушаются рыданиями…
Город, победитель мира, побежден; столица Римской империи опустошена пламенем, и граждане ее бегут во все концы мира». – «Светоч мира погас, и, в одном павшем городе, погиб весь человеческий род», – пишет св. Иероним из Вифлеема в 410 году, при первом известии о взятии Рима варварскими полчищами Алариха.[97]
Плачет, почти без слов, на одном конце христианского мира, в Азии, у колыбели Христа, в Вифлееме, один из двух великих учителей Церкви, а на другом конце, в Африке, в городе Гиппоне, у Средиземного моря, колыбели христианства, другой великий учитель, в те же дни, при том же известии, не плачет, или не хочет плакать: «Слишком скорбеть не будем о погибших (в Риме), ибо радуются ныне души их, на небе, что избавились, наконец, от всех бедствий земных». – «Да и так ли уж трудно великому сердцу сохранить спокойствие, видя, как рушатся камни, падают бревна, и умирают смертные?»[98]
Но это спокойствие, кажется, только наружное, – ответ закоренелым язычникам, хорошо помнящим недавние дни Юлиана Отступника и, может быть, тут же, в Гиппонской базилике, в толпе Августиновых слушателей, шепчущих злорадно: «Уж лучше бы он о Риме молчал! О sui taceat de Roma!.. Все эти бедствия миновали бы нас, если бы все еще приносились жертвы богам».[99] Кажется, это спокойствие есть разумный ответ не только язычникам, но и малодушным христианам, слишком поверившим безумному горю св. Иеронима: «Весь род человеческий погиб в одном городе». Знает, может быть, и Августин, что значит для мира падение Рима, и слезы его, остановившиеся в горле, может быть, горячее пролитых слез Иеронима.
«Пал, пал Вавилон, Великая Блудница!» – «Возрадуемся и возвеселимся!» – этого, во всяком случае, уже не повторил бы, с тайновидцем Патмоса, ни тот, ни другой; «будем молиться, да приидет Господь и разрушит мир», – не повторили бы они, и с Оригеном, этого::[100] надо еще миру долго быть, – это они уже поняли оба, и оба, вероятно, согласились бы с Павлом: «Ныне вы знаете, что не допускает открыться ему (Антихристу)… ибо тайна беззакония уже совершается; но не совершится, доколе удерживающий, ho katechon, не будет взят от среды» (II Фее. 2, 6–7). Этот неназванный, таинственный, «Удерживающий», – по обычному толкованию, не кто иной, как миродержавный, некогда языческий, а ныне христианский, Рим. Вот почему конец Рима для обоих есть первый шаг к кончине мира.
II
Знает Августин, – знаем и мы сейчас, что значит родиться если не в конце мира, то в конце одного из миров, – в щели Истории, между двумя веками-зонами, двумя жерновами мелющими, – между тем, что еще не умерло, и тем, что еще не родилось, – двумя кругами той восходящей или нисходящей лестницы, которую мы называем «мировым развитием», «эволюцией»; что значит родиться перед «Нашествием варваров». Этим-то Августин и близок нам, ближе, может быть, всех святых, после Павла, жившего и умершего в еще более тесной щели между веками-зонами, перед еще более грозным Концом.[101]
III
Близок нам Августин и другою мукою: он – такой же и тем же на смерть раненый или ранивший себя, как мы. «Вера, ищущая разума», по слову св. Фомы Аквинского, «противоположного близнеца» его и продолжателя, – вот общая рана, его и наша.[102]
«Я не верил бы, если бы не думал (разумом не понимал), что надо верить», – скажет Фома Аквинский, и Августин мог бы сказать.[103]
Поняли оба, или думают, что поняли, почему Господь не сказал: «истину почувствуете», а сказал: «познаете истину». Вера для них обоих есть пережитая сердцем истина разума. «Вера ни в чем не может противоречить разуму», – думает Фома, и Августин думает так же.[104]
Но вот, ранен; боль от раны чувствует всегда, но долго не знает, чем ранен, а когда наконец узнает – им же самим отточенным, но не им направленным против веры лезвием разума, то ужаснется так, что никому об этом не скажет, даже себе; но по тому, как он об этом молчит, или чтó говорит около этого, можно догадаться, что это именно так.
Веру найти «ищущим разумом», разрешить между ними все противоречия кажется ему сначала легко. «Сделай, Отец, чтоб я Тебя искал»; не говорит: «нашел», потому что не сомневается, что разум найдет веру. «Я мог бы скорее усомниться в том, что я есмь, нежели в том, что истина (в Боге) постигаема разумом». Этим начинаются все его поиски веры и этим кончаются: «Пойми, чтобы верить, и верь, чтобы понять».[105]
«Разум крепко люби», – завещает он молодому другу и ученику. «Отроки мы были разумнейшие, intelligentissimi, удивительные первопричин искатели», – вспоминает с умилением свою собственную языческую молодость. «Бог не может ненавидеть разум, который дарует нам, вместе с жизнью, и который так возвышает нас над животными».[106]
Бог – в человеческом разуме, и разум – в Боге: этот религиозный опыт начал Павел, продолжает Августин и кончит Фома Аквинский.
«Я хотел иметь такую же уверенность в невидимом, как в том, что 7 + 3 = 10». «Будем считать, calculentus», – могли бы сказать св. Августин и св. Фома, вместе с Лейбницем, – «будем считать», чтобы верить. Что это невозможно, Августин скоро или нескоро поймет, но что-то останется в нем навсегда от этой веры в божественность человеческого разума. «Бог воплотился в человеке… Этого одного достаточно, чтобы опрокинуть всю гордыню ума», – это помнит он или только знает, что надо бы помнить всегда, но слишком часто забывает. «В наши дни старушки знают о Боге больше всех древних философов», – это также хотел бы всегда помнить, но часто забывает Фома Аквинский.[107]
«Странно! – удивляется Августин, уже святой или „святеющий“, в письме к другу своей языческой юности, – странно! даже в минуты самой пламенной веры я не могу не рассуждать».[108]
В этом глубочайшем признании – он весь – первый «Св. Умственник», или, говоря нашим плоским и недостаточным, но для всех понятным, словом, «Св. Интеллигент»; первый, и уже крайний «интеллигент» – св. Августин, а второй, еще более крайний, – св. Фома Аквинский.
«Странно» – в этом удивлении – еще не рана, а только царапина, но уже от того самого слишком остро отточенного и прямо в сердце направленного лезвия разума. Пламенную нежность – не только любовь, но и детскую, женскую нежность к Богу – соединяет Августин с ледяной, беспощадной диалектикой, сначала безболезненно, бесстрастно, а потом все с большим страхом и болью.
IV
«Правду сказал Пифагор: мудрым быть сверхчеловечески трудно», – это он поймет наконец и устрашится.[109] «Быть мудрым» – значит для него согласовать веру с разумом. Но ищущий разум, прежде чем найти Бога в себе, находит в мире зло.
«Я искал мучительно, откуда зло… и не было исхода, et nоn erat exitus», – это говорит он о начале жизни своей и мог бы сказать о всей жизни. «Вера ни в чем не противоречит разуму». Что же значит «безумие Креста»? Если такого мира, где Отцу не надо было бы жертвовать Сыном за мир, Бог создать не мог, то Он не всемогущ, а если не хотел, – то не всеблаг. Этого, с такою ясностью, Августин не скажет никогда, но по тому, что он говорит, опять-таки около этого, или как об этом молчит, можно догадаться, что он об этом думает или, по крайней мере, это чувствует всегда. Понял, наконец, или почувствовал, что разум для веры может быть тем же, чем нож – для сердца или крест – для распятого.
«О, какие это были муки моего рождающего сердца, какие вопли, Боже мой… Этого никто не знает, кроме Тебя».[110] И это, опять сказанное в начале жизни, мог бы сказать о всей своей жизни. Это он почти и говорит: «Я искал Тебя, Господи, как только мог, и хотел понять веру мою… и очень устал»…
Шестьдесят лет искал, от 16 до 76, – можно было устать до изнеможения и отчаяния. «Я очень устал… Боже мой, единственная надежда моя, услышь меня, не дай мне изнемочь, в поисках моих, от усталости и отчаяния… дай силу искать Тебя до конца. Ты один видишь силу и немощь мою; исцели немощь, укрепи силу. Ты один видишь знание мое и неведение. Я стучусь, – отвори… Дай мне знать Тебя и любить».[111] Вот вечная молитва всех мучеников мысли, «святых Интеллигентов», от Августина до Паскаля, а может быть, и далее, до Маленькой Терезы, которая, в предсмертной агонии уже не разума, а сердца, «потеряла, – как сама признается, – всякую веру».
V
Слишком мало для нас, но кое-что все же говорит об этой муке Августин, а Фома Аквинский, «немой бык», bos mutus, молчит о ней совсем, – молчит до конца, до последнего удара обухом по голове.[112]
6 декабря 1273 г., за три месяца до смерти, служа обедню в Сан Никколо, в Неаполе, Фома имел «восхищение», raptus, и, когда пришел в себя, сказал другу своему и духовнику Реджинальду: «Наступил конец моим писаниям, venit finis scripturae meae». Когда же тот умолял его и настаивал кончить, по крайней мере, «Сумму теологии», сказал: «Нет, не могу; все, что я написал, мне кажется соломой! – «И велел сжечь „Сумму“, – прибавляет легенда; но уже и того довольно, что этим страшным словом о „соломе“ сам ее „сжег“.[113]
А если бы узнал, что на Трентском соборе положат «Сумму» на алтаре, рядом с Евангелием, и кое-кто, в самой Церкви, поймет ее в том смысле, что Фома желал в ней заключить брак Церкви не со Христом, а с Аристотелем, – если бы он это узнал, то, может быть, и в самом деле сжег бы книгу свою, как солому.
Чтобы дойти до этого, надо было ему совершить тот же крестный путь мысли, какой совершил и св. Августин, и то, что св. Фома проходит этот путь молча, – еще страшнее.
И вот, эти два «мыслящих тростника», всеми бурями Духа колеблемых, – два Столпа Церкви.
VI
Здесь, в мысли, понять подвиг святых нам очень трудно, потому что движение Духа в них – от веры – «безумия Креста» – к разуму противоположно-обратно движению того же Духа в нас, – от разума к вере. Мы и они, как бы на одном и том же кресте мысли, но по двум противоположным линиям распяты, как Иисус и Петр: если они – «вверх головой», то мы – «вниз», или наоборот.
Чтобы понять святость этого подвига мысли, хотя бы отчасти, вспомним, когда и для кого он совершен. Тотчас после падения Рима уже пробегают по всему христианскому миру первые тени той варварской ночи, где человеческий разум будет на краю гибели и где даже такие люди, как св. Франциск Ассизский, в корне усомнятся в разуме: не от диавола ли он? не надо ли, чтобы спастись, умертвить его, вместе со всею плотью мира?
Начал спасать разум св. Августин; кончил – св. Фома.
«Огненного искушения» разумом оба они «не чуждались», по слову Петра о христианских мучениках Нерона, «живых факелах»: страшную «смоляную рубаху», tunica molesta, надели оба. Первый надел Августин, может быть, и сам еще хорошенько не зная, что делает; но, чтобы, надев ее и уже почувствовав первые ожоги, не сбросить (сколько святых сбросят!), чтобы остаться в ней до конца и сгореть, – для этого нужно было, в самом деле, святое терпение, святое мужество.
«Светочем живым» вспыхнул Августин, и «зажег разум всей христианской Европы»,,[114] – сначала – в себе самом, потом – в Фоме Аквинском, потом – в Лютере и Кальвине, потом – в Паскале, и в скольких других еще зажжет! О, если бы зажег и в нас, в эту вторую «варварскую ночь», – каким бы светом озарился весь наш путь!
VII
«Дивен Бог во святых своих» – и многообразен; тем-то и дивен, что так многообразен и как будто противоречив. Бог играет во святых своих, как солнце в алмазах, семицветной радугой.
Есть у каждого святого свой луч, свой цвет небесный, и земное для него, простое, милое прозвище: св. Петр – «Достопочтенный», Venerabilis; св. Бернард – «Медвяно-сладостный», Melifluus; св. Фома – «Ангельский», Angelicus; св. (еще не в Церкви) Рьюсбрек – «Удивительный», Admirabilis. Но для св. Августина нет прозвища, может быть, потому, что оно не западное и не восточное, – бывшее, а будущее, Западно-восточное, Вселенское. Но если мы «полюбим» его и «узнаем», по его же чудному слову: «никого нельзя узнать иначе, как полюбив»,[115] то, может быть, найдем и его небесному лучу земное имя:
Августин Любезный
Augustinus Amabilis.
Самое «любезное» в мире – Бог; все люди, близкие к Богу, святые, – «любезны»; но Августин любезнее всех.
VIII
«Кажется, Пелагий – святой человек», – пишет он о злейшем враге своем, не личном, а церковном, – ересиархе, с которым двадцать лет боролся.[116] Ария называет «великим».
«Ересями Церковь возвышается, – учит Августин. – Сколько великих учителей в Церкви осталось бы неизвестными, сколько вопросов – неразрешенными, если бы не ереси! Догмат о Троице не был совершенно известен до Ария, догмат о покаянии – до Новатия и догмат о крещении – до второкрестников (анабаптистов)».[117] За такие слова через тысячу лет будут людей жечь на кострах.
«Если не хочешь быть убитым, оставь нас в покое», – остерегают Августина еретики-донатисты и в то же время объявляют по всем своим церквам: «Кто его убьет, получит отпущение всех грехов». Вскоре после того разбойничья шайка циркумцеллионов, изуверов из тех же донатистов, подстерегает его, на большой дороге, и он спасается только тем, что, заблудившись, едет по другому пути.[118] И вот, все-таки, умоляет судей за этих же убийц своих: «Лучше мне самому быть убитым, чем видеть, как их убивают».[119]
«Да будут к нам жестоки те, кто не знает, с какими воздыханьями и муками человек приближается хотя бы только к малейшему пониманию Бога», – говорит он всем еретикам.[120]
«К ранам прикасается он рукою тишайшей», – это мог бы сказать о нем не только всякий христианин, но и все христианское человечество.[121]
Вот что значит «Августин Любезный».
IX
Первое слово против пытки и смертной казни скажет он; скажет и первое слово против личного рабства и рабства общего, денежного, – того, что мы называем «капитализмом»: «будет общность труда – будет и свобода»; «жизнь Града Божия вся должна быть общиной, socialis»; «лишним владеть – значит владеть чужим»; «общая собственность – закон Божественный, собственность частная – закон человеческий». Грубо ошибся бы, конечно, тот, кто подумал бы, что это наш «коммунизм»: наш – «во имя свое», а его, Августина, – во имя Христа.[122]
Первое бесконечное отрицание войны – у него же. «Ты – великий разбой, grande latrocinium», – скажет он вечному Риму – вечной Войне. «Большая слава убивать войну словом, чем людей – железом». – «Мудрый никакой войны не хочет». – «Всякий человеческий смысл потерял тот, кто какую бы то ни было войну оправдывает».[123] Первый из людей это понял и сказал Августин.
X
«Если бы он жил в наши дни, он был бы наш», – скажет о нем Лютер; то же мог бы сказать и Паскаль (ученик Янсения, ученика Августинова), в XVII веке и в XIX, скажет, почти словами Лютера, великий лютеранин Гарнак: «Первый человек наших дней – Августин».[124]
Так оно и есть, и это мы еще лучше поймем, узнав жизнь Августина.
XI
Он родился в 354 году, в городке Тагасте (Thagastus), в римской провинции Африке, в Лесной Нумидии. Городок находился на равнине, замкнутой тесным кругом холмов, густо поросших дубами и соснами.
Странный, точно приснившийся, вид: темно-дремучие, на бледно-лиловом от зноя африканском небе, лесистые холмы, откуда видны вдали, в мреющей дымке зноя, первые желтые пески, с редкими пальмами и с медленно тянущейся ниткой черных точек – караваном верблюдов, – уже начало Сахары, а вблизи, между холмами, – свежо-зеленеющие, с пасущимися на злачных пажитях стадами, точно альпийские долины; как бы Север на Юге, Тюрингенский лес в Африке, родина Лютера на Августиновой родине.
В самом городке, так же как почти во всех, даже захолустных, римских муниципиях, – мраморные колоннадки, триумфальные арки, термочки, театрик, форумчик, – все это как будто величественное, а на самом деле игрушечно-малое. Тут же, рядом, – пустыри, заваленные бревнами и досками (Тагаст был главным рынком, emporium, Лесной Нумидии), и утопавшие в зелени плодовых садов и виноградников, белые, с плоскими кровлями, домики. В одном из них и родился Августин.[125]
XII
Отец его, по имени Патриций, землевладелец, незнатного рода, все же член-куриал «сиятельнейшего» Тагастского сената, – почетное звание с чином «Светлейшего», но не доходное, – был небогат:[126] имел усадьбу с плодовым садом, виноградником и, должно быть, небольшим полем. Так как с семьей на это не проживешь, то, вероятно, имел и другие доходы, может быть, от скотоводства и лесной торговли, как большинство тагастских граждан.[127] Но дела шли плохо; едва сводил концы с концами.
Был язычником, не слишком, впрочем, ревностным, а жена его, Моника, была христианкою, тоже не слишком ревностной, – «медленной», «косной», tardior, по слову самого Августина.[128] «Жили супруги в добром согласии», вопреки различью веры. Через много лет по смерти мужа Моника выберет себе место для могилы рядом с ним, «чтобы и в смерти быть в таком же тесном союзе любви, как при жизни». Будет соединять их и Августин, в благодарных молитвах за обоих вместе – за грешного отца и святую мать.[129]
«Сердцем был Патриций очень добр, но вспыльчив до бешенства», – так что соседки удивлялись, что Моника «ходит без синяков, – не то что они, при лучших, казалось бы, мужьях». Эти безумные припадки гнева его, так же как постоянную супружескую измену, побеждала Моника тихой, явной уступчивостью и тихим тайным упорством, которыми мало-помалу овладела мужем так, что настоящей хозяйкой в доме сделалась она;[130] она же решала и решила судьбу Августина.
XIII
Новорожденный не был крещен, по воле не отца-язычника, а христианки-матери. Многие думали тогда, что чем позже креститься, тем лучше, потому что все грехи смываются в купели, а совершенные после крещения особенно тяжки, может быть, даже непростимы вовсе.
Только крестным знамением осенила мать чело новорожденного, вложила в уста его щепотку «освященной соли», чтобы нечистый дух не вошел в младенца, и внесла имя его в церковные списки «оглашенных», catechumeni.[131]
Имя его было двойное: «Аврелий Августин». Первое, должно быть, от отца, «язычника», – забыто будет навсегда; останется только второе, «христианское», должно быть, от матери. Но, сколько бы Августин ни забывал «Аврелия», сколько бы ни отрекался от него, – никогда не забудет, не отречется до конца; вечно будет раздираться между «Августином» и «Аврелием», так же как Павел – между «Павлом» и «Савлом».
Кажется, «огненную силу», vigor igneus, африканской крови унаследовал он от отца, а от матери – умеряющий холод крови италийской, северной (в жилах у многих туземцев Римской Северной Африки текла италийская кровь). Если так, то в самом Августине Аврелии так же, как в родной земле его, борются и сочетаются Север и Юг, Европа и Африка; чувствуется Августин сквозь Аврелия, так же как в Тагастских долинах сквозь огненное дыхание пустыни веет свежая влага дремучих лесов.
XIV
Первая и главная его учительница – мать. «Имя Спасителя моего всосал я с молоком матери».[132] Благодарную память о том сохранит он до конца дней.
На восьмом году мальчика отдали в городскую школу, где будущий великий ученый начал с того, что возненавидел все науки, особенно греческий язык и арифметику. Ленится, «любит только играть» да слушать волшебные сказки о древних богах. Школьный учитель наказывает его жестоко палкой, розгой и даже малым подобием «скотского бича». Мальчик жалуется на побои отцу и матери, а те только «смеются». Судя по тому, как вспоминает он об этом через сорок лет, первая глубокая рана, нанесенная детскому сердцу его, нанесена этим равнодушным сердцем матери. Вспомнит, может быть, о той же ране, через семьдесят лет, незадолго до смерти, когда скажет: «Кто не ужаснулся бы и не пожелал бы лучше умереть, если б предложили ему снова пережить все муки детства?»[133]
XV
Матерью земной покинутый, молится он Отцу Небесному: «Сделай, сделай, сделай, чтоб меня учитель не бил!» – «Связки языка моего повреждал я, rumpebam nodos linguae meae, – так исступленно молился». Но не исполнилась молитва: на следующий день учитель бил его еще сильнее. И понял он наконец, что Богом покинут так же, как людьми.
В этой-то муке первой неуслышанной молитвы, может быть, и почувствовал впервые, без слов, без мыслей то, что будет мукой всей жизни его, – вопрос: «Что такое зло? Quid sit malum?»[134] Всеблаг ли Бог, но не всемогущ или всемогущ, но не всеблаг?
Кажется, около этого времени так тяжело заболел, что был почти при смерти. «Ты, Господи, знаешь, с какой надеждой и верой умолял я тогда мать о крещении… Горем и страхом пораженная, она уже сделала все, что для этого нужно… Но мне стало вдруг легче, и таинство было отложено» (все потому же: чем позднее креститься, тем лучше). Думает он, конечно, и о матери, вспоминая об этом и обличая других: «Часто говорят (об оглашенных): пусть еще делает, что хочет: ведь он не крещен». Но отчего же не говорят о том, кто лечится от ран: «Пусть еще ранит себя: ведь старые раны у него еще не зажили».
Если бы спросили Августина, кто из людей был главным для него орудием спасения, он ответил бы, не задумываясь: «Мать».
– «В духе, она родила меня, с большими муками, чем в теле».
– «Сына крови своей сделала сыном слез»[135] Выплакала, вымолила его у Бога. Кажется, нельзя больше любить, чем она его любит. Но вот хочет ему сделать добро – и делает зло. Если бы знала, на какие муки, заблуждения, отступления от Христа, обрекала его этим отказом в крещении, то как ужаснулась бы! Но не знала – делала зло, и помимо нее, вопреки ей, из зла вышло добро.
Надо ли было Августину креститься в самом начале жизни? Нет, не надо. Но вовсе не потому и так далеко от того, почему думала мать, что, если бы тогда ей сказали об этом, она не поверила бы и даже не поняла бы, что ей говорят. Надо ему было выйти из церкви, отступить от Христа и снова вернуться к Нему, чтобы сделаться в веках учителем всех уходящих из Церкви, отступников; надо было самому, ослепнув, заблудиться, чтобы выводить на дорогу всех слепых, блуждающих; надо было самому погибать, чтобы сказать всем погибающим: «Братья мои, я не хочу спастись без вас!»[136]
Только в таких муках мог родиться от св. Моники св. Августин.
XVI
На тринадцатом году мальчика отправили в соседний город Мадавр, цветущую римскую колонию, чтобы продолжать учение.[137]
Здешние учители, усердные поклонники древних богов, помня недавние, золотые для язычества, дни императора Юлиана Отступника, учат детей так, как будто никогда никакого христианства и не было. Это для Августина не пройдет даром: маленький язычник Аврелий выйдет из школы почти таким же «отступником», как великий язычник Юлиан.
Здесь, в Мадавре, учится он уже не из-под палки, а по собственной охоте. Но года через три должен был вернуться в Тагаст, потому что дела отца его были так плохи, что платить за учение сына он уже не мог. Весь шестнадцатый год жизни провел Августин в праздности, начиная томиться и мучиться «плотскою похотью, libido».[138]
В том же году умер отец, крестившись незадолго до смерти. Друг отца, богатый тагастский землевладелец Романиан, взял Августина на свое попечение и отправил его, на свой счет, для окончания наук в Карфаген.[139]
XVII
«Тернии похоти моей так разрослись, что покрыли меня с головой» (уже в тагастской праздности), а «только что я прибыл в Карфаген, как охвачен был отовсюду трещащим костром похотей». – «Я валялся в их нечистотах, как в благовонных мастях, и в самую гущу их втаптывал меня все глубже невидимый Враг и соблазнял, потому что я хотел быть соблазненным». – «Я ненавидел все безопасные, без мышеловок, пути» – т. е. карфагенские улицы, без домов терпимости. – «Я любил погибать, amavi perire». «Похотью сплошной» была тогда вся его жизнь, libido sine ullo inserstitio. «Будь я только уверен тогда, что душа не бессмертна и что на том свете не будет за грехи возмездия, я предпочел бы Эпикура всем учителям», – значит, и Христу предпочел бы. «А если бы дано мне было и бессмертие, в вечном сладострастии, без всякого страха его потерять, то почему – спрашивал я себя, – это не было бы совершенным блаженством и что еще я мог бы пожелать?»[140]
Так забыл или только хотел забыть Христа, как будто никогда ничего и не слышал о Нем. «Суше паутины иссушил Ты сердце мое, Господи!»[141] Умер или умирал заживо. Что же спасло его?
В церкви (значит, все-таки ходил или заходил иногда в церковь) увидел однажды молодую женщину или девушку, должно быть очень красивую, потому что «распалился на нее похотью» так, что «тут же, в церкви, начал торговаться» (вероятно, со сводней), «чтобы купить этот плод смерти».[142] Купить не на свои деньги, – у него самого ни гроша, – а на чужие, Романиана, благодетеля, у которого он тогда на хлебах, – купить женщину, как вещь или домашнее животное, которое и всякий другой за ту же цену мог бы купить. Скверно начнет – хорошо кончит: «плод смерти» будет для него «плодом жизни». Этого он не говорит и не думает, но что это действительно так, мы узнаем от него самого. «Все эти годы (от 17-го до 31-го) я имел ее одну, unam habebam… и, хотя не был с нею в том, что называется «законным браком», quod legitimum vocatur conjugium, был верен ей одной».[143] Долгие годы будет ей верен, а она ему – всю жизнь: когда он уйдет от нее – она пострижется в монахини (таков вероятный для того времени смысл данного ею «обета безбрачия»).[144] Это для них обоих – первая и последняя, единственная любовь.
Сын, родившийся на следующий год после встречи их (отцу шел тогда 19 год) и нежно им любимый всю жизнь, – тоже плод не смерти, а жизни.
Все это и значит: слово Господне о браке: «двое будут одна плоть» – исполнилось для них обоих; перед людьми – не «то, что называется браком», а перед Богом – то самое.
XVIII
Кто она? Этого он не говорит, даже по имени не называет ее ни разу. «Та, которую я имел, habebam», – говорит о ней как о вещи или еще мертвее, как будто бесчувственней: «Та, с которой я привык спать, cum qua cubare solitus».[145] А ведь и любимую собаку человек называет по имени. Что это? В самом деле бесчувственность? Едва ли. Чтоб это понять, надо вспомнить, что Августин говорит на монашеском языке V века и многого не может сказать, для чего, на этом языке нет слов; что многого не посмел бы сказать и ни на каком языке и что, наконец, просто не видит многого. Меньше всего видит в браке; тут как бы слепая точка, «темная вода» в глазу не только у него, но и у всей монашеской святости. Но, может быть, это вовсе не «бесчувственность», а что-то совсем иное. Через годы и годы, уже на пороге старости – святости, уже в почти небьющемся ни для чего земного сердце монаха, память о ней, Безымянной, – все еще слишком для него живая рана; имя ее назвать – прикоснуться к ране – больно ему, и страшно: как бы снова не открылась. «Сердце мое, все еще прилепленное к ней, терзалось так, что истекало кровью – влачилось в крови, trahebat sanguinem»… А потом, когда он уже покинул ее, – «рана его из кровавой сделалась гнойной, putrescebat».
Это говорит он о том, что было много лет назад и что прошло, как будто бесследно, но вот не прошло: все еще слышится в этом воспоминаньи не «бесчувственность», а умерщвляемое – неумертвимое чувство.[146]
Вся плоть мира для него, как он сам говорит, – «из ничего почти ничто, de nulla re реne nullam rem»;[147] «есть как бы не есть, est non est»,[148] – но вот все еще слишком есть.
«Помни того святого, который краем одежды обвил руку, когда нес на руках свою престарелую мать», – остерегает подвижников св. Исаак Сириянин. Кажется, и это молчание Августина о Безымянной – такой, руку обвивающий, край одежды.
XIX
Судя по тому, что он встретил ее в церкви, она, должно быть, христианка. Если так, то в жизни его все решают две христианки: св. Моника и эта, перед людьми «грешная», а перед Богом невинная, или тоже святая (в те времена постриг – первый шаг на пути к святости). Знают все, чтó для него сделала мать, а чтó сделала эта Безымянная, никто не знает. Но если любовь – дело, то и эта кое-что сделала.
Почему же не назвал он ее женою перед людьми и перед Богом? Может быть, потому, что и сам не знал, что любит ее как жену: тут опять «слепая точка» в глазу его, «темная вода» монашеской святости; и еще, может быть, потому, что этого мать не хотела, или он знал, по горькому опыту тагастских дней, что не захочет. «Близкие мои, когда я погибал (от похоти)… не позаботились спасти меня брачными узами». Судя по тому, что с ним будет потом, во всей первой половине жизни, слово «погибал», «падал в бездну», ruentem, – едва ли здесь преувеличение. «Даже матерь плоти моей… тогда еще косная на пути Твоем, Господи… о спасении моем не заботилась, non curavit, потому что боялась, как бы не помешали успеху моему на словесном поприще (в школе риторики) брачные узы… Вот почему родители мои вместо того, чтобы сдерживать похоть мою, давали ей волю – распускали вожжи, relaxabantur etiam habenae».[149]
Первое столкновение Августина с матерью (если не считать смеха ее над избитым в школе ребенком) – отложенное крещение, а второе – это отложенный брак. Так же и теперь, как тогда, мать любит его и ранит; чем больше любит, тем глубже ранит, хочет сделать добро – и делает зло; хочет спасти – и едва не губит. Но и теперь, как тогда, помимо нее, вопреки ей, выйдет из зла добро.
Среднего пути для такого человека, как Августин, в то время не было, а было только два крайних пути: или погибнуть, быть грешным, или быть святым, спастись; а святость значила тогда «безбрачие», «монашество». Вот к чему и вела его мать или кто-то Другой вел через нее, помимо нее, вопреки ей, по самому краю бездны; явно губил, тайно спасал.
XX
«Африка, – по слову Ювенала, – адвокатская нянюшка: хочешь прокормиться языком, – ступай в Африку».[150]
Выйдя из школы «первым учеником, надутым гордыней», Августин сам открывает «школу красноречия», чтобы «прокормиться языком», и становится тем, чем будет долгие годы, – «ритором», «словесником», «лавочником слов»; торгует болтовней, «побеждающей» в тяжбах:[151] этим «прокормиться» можно, но кое-как, впроголодь, потому что здесь, в Карфагене, слишком много соперников, таких же, как он, «болтунов».
«И это все? И так, до гроба?» – спрашивает как будто не он сам себя, а чей-то тихий голос в нем. Что бы ни делал, ни думал, ни говорил, как бы ни заглушал этот голос громким звоном продаваемых слов, – тот все твердит свою: «И так до гроба? и это все?»
Путник, заблудившийся ночью в лесу, еще не зная, но уже чувствуя, что не туда идет, куда надо, продолжает идти наобум, но с каждым шагом растет в нем беспокойство: так и в Августине беспокойство росло в эти дни.
«Господи, Ты создал нас для Себя, и не успокоится сердце наше ни в чем, кроме Тебя!» – скажет много лет спустя, но, может быть, и теперь уже чувствует. Сколько бы ни забывал Христа умом, – сердцем помнит.
XXI
Однажды, разбирая учебные книги для школы, он заглянул в одну из них и зачитался ею так, что не мог от нее оторваться, пока не дочел до конца. Это был «Гортензий» Цицерона, беседа ищущих Бога, философов. Что поразило его в этой книге? Судя по его же собственным, будущим поискам Бога, его поразили в ней подслушанные Цицероном у Аристотеля, а тем – у посвященных в Дионисовы таинства чудные и страшные слова: «Души человеческие, в наказание за какую-то премирную вину, осуждены на такую же пытку, в телах, как та, какой подвергали пленников этрусские разбойники, сковывая их с трупами так, чтобы каждый член живого приходился к соответственному члену мертвого, и оставляя в цепях, пока не соединялись два трупа в один, в общем тлении».[152]
«Премирная вина», – слово это, кажется, и было для него тем же, чем иногда бывает, в горах, для подтаявшей лавины громкий звук: в тишине прозвучит, и лавина рушится.
«Что такое Зло? Quid sit malum?» – на этот вопрос, шевельнувшийся некогда, без слов, без мыслей, в сердце маленького мальчика, после той неуслышанной молитвы: «Сделай, Господи, чтобы меня учитель не бил!» – шевельнулся, может быть, в сердце юноши, над «Гортензием», будущий ответ всей жизни его: «премирная вина – первородный грех».
Если так, то понятно, почему книга эта, «вдруг изменив все его чувства и мысли, научила его молиться». – «Сердце мое загорелось… и я уже начал вставать на ноги, чтобы снова идти к Тебе, Господи… Только одно охлаждало меня: имени Твоего не находил я в этой книге, – имени, которое всосал я с молоком матери, так что никакая книга, как бы ни была она глубока и прекрасна, если только не было в ней имени Твоего, не восхищала меня всего».[153]
XXII
Именем Его запечатленную книгу в первый раз только тогда принялся он читать как следует, «чтобы узнать, что это такое». Но ничего не узнал, потому что «книга эта кажется низкой, при входе, и только потом, вместе с вошедшим в нее… возвышается: это я знаю теперь, но еще не знал тогда… и не хотел наклониться, чтобы в нее войти… Мне казалось, что ее и сравнивать нельзя с величьем Цицероновых книг, ибо гордыня моя презирала ее простоту»…
«И напал я в те дни на людей, таких же гордых, плотских, безумных и болтливых, как я сам, – в чьих устах три имени: „Отец, Сын и Дух“ – пустые только звуки для них – были мне дьявольской сетью и смолой птицелова. „Истина – Истина!“ – твердят они, но нет в них истины. И поверив им, лишился он, как блудный сын, даже „тех рожков, которыми питаются свиньи“. – „Горе мне, горе, по каким крутизнам нисходил я в преисподнюю“.[154]
Только что из одной западни, эпикурейской, вырвался, как попал в другую – манихейскую.
XXIII
Ересь Манеса, возникнув в середине III века, в Вавилонии, распространилась очень быстро, от Китая до Испании, от Тихого океана до Атлантики.[155] «Вред», «болтовня», «бабушкины сказки», – обличают манихейство враги его.[156] Но если так, то чем же объяснить, что столько веков (по крайней мере десять) такие человеческие множества соблазнялись «бредом»? Часто люди, в одном и том же месте, в одно и то же время соглашаются в нелепой лжи; но согласье людей, разделенных такими временами и пространствами, какими разделены ученики Манеса, едва ли может быть только нелепостью.
Что такое манихейство, нам слишком трудно судить по дошедшим до нас обломкам его, грубо искажающим, вероятно, смысл целого. Но вот, в упрощеннейшем виде, ядро учения Манесова.
Сущее сводится к Двум Началам, равно бесконечным и противоположным, – доброму и злому, светлому и темному – к Богу и Противобогу, Духу и «Веществу», Hylô, – «Диаволу», на языке «непосвященных». Некогда эти Два Начала были разделены; но потом среди вечных, раздиравших Темное Царство междоусобий Владыка его, достигнув пределов Света, позавидовал Царю его и, пожелав овладеть царством Его, пошел на Него войною. Бог и диавол, свет и тьма, добро и зло, смешались в войне, и произошел из этого смешения мир, ибо «созданное» и значит «смешанное»: диавол – вечный Смеситель, Разделитель – Бог; смешивая Дух с Веществом, диавол «творит» – начинает; Бог, разделяя, кончает мир. Вот почему и в той первой войне – начале мира – Бог, не имея в Себе никакого зла – «смешения», чтобы противопоставить его злу Противобога, послал в мир Душу (первого Адама), чтобы, смешиваясь с началом Зла, Веществом, в мире и потом освобождаясь от него, она победила и уничтожила Зло – Смешение. Но первый Адам, погружаясь в Вещество и смешиваясь с ним все больше, пал наконец так низко, что уже не мог от него освободиться. Тогда, на помощь к нему, послан был Второй Адам – Христос. Но и Он не освободился и не освободил мира до конца. Только воплощенный в Манесе, Третий Адам, Дух Святой, будет совершенным Освободителем: в Духе только, Душа всей твари – людей, животных и растений – освободится от Вещества-Смешения, высасывая добро из зла, свет из тьмы, как уста любящего высасывают из раны любимого яд; когда же до последней капли высосет, наступит Конец – последнее, уже навеки веков, разделение «смешанного-созданного», – царство Божие.[157]
XXIV
– Что соблазнило Августина в манихействе? «Откуда зло? Unde sit malum?» – спрашивали меня обманщики, и я смущался и не знал, что им ответить». Кажется, мнимым ответом на этот вопрос – муку всей жизни своей – и был он пойман, как «дьявольской сетью» и «смолой птицелова».
«Бога моего не смея обвинять ни в чем, я не хотел верить, чтобы могло произойти от Него что-либо злое». На вопрос: «Откуда зло?» – он не мог и не хотел ответить: «От Бога» – и в этом был прав бесконечно, потому что во зле не оправданный Бог хуже не-сущего: людям лучше сказать: «Нет Бога», чем сказать: «Зло от Бога». – «Это и убедило меня, что есть два Существа: substantiae», – равно бесконечные и противоположные, – Бог и Противобог.[158]
«Две души» – в этом заглавии книги, написанной Августином против манихейства, в первые годы Гиппонского епископства, лучше всего понят вечный соблазн Двух Начал, не только для самого Августина, но и для всего человечества. Все оно может сказать, как Фауст:
Ах, две души живут в моей груди!
Две души в человеке – «две воли, и ни одна из них не цельная, но у каждой есть то, чего нет у другой». Этому радуется он вдвойне: ни Бога обвинять не надо, страдая от зла; ни себя, – делая зло. Вырвано этим из мира и сердца человека ядовитое жало Греха – мука всех мук, потому что не сам человек грешит, делая зло, а «какое-то иное, хотя и живущее в нем, но отдельное от него, Существо, substantia, – что-то во мне, но не я». – «Делая зло, я оправдывал себя и обвинял что-то другое, что было во мне, но не было мной».[159]
XXV
Вот как просто, легко и радостно; только понять и сказать: я не один – нас двое; я и Другой, я и Он. Только увидеть в себе себя и Его.
Но радость, увы, оказалась недолгою. Слишком двоиться душе человека опасно: как бы и в теле не оказаться двумя, не увидеть себя и Другого, себя и Его, – и не умереть или не сойти с ума от ужаса.
Это-то, кажется, с Августином и случилось: он увидел Его, или почти увидел, не только в душе, но и в теле своем, и почти сошел с ума от ужаса: unde hoc monstrum? что это за чудо во мне, что за чудовище? и откуда оно? Телу повелевает душа, и слушается тотчас же тело; себе самой повелевает, и противится; «двинься», – велит руке, и движется, а себе самой велит, и изо всей силы противится». – «Или я тогда уже не я, nunquam ego non sum?.. Или такая разница между мной и мной, tantum interest inter me ipsum et me ipsum?.. Но если так, то где же разум?»[160] Кажется, нигде: разум потух, и наступил ужас безумья: «что это за чудо во мне, что за чудовище? И откуда оно? Unde hoc monstrum?» – это вопрос на вопрос: «откуда Зло? unde sit malum?» – мука на муку, ужас на ужас, – всей жизни его.
Понял вдруг, или казалось ему, что понял, откуда «чудовище»: от него же самого: «что-то во мне, но не я, aliud quod mecum esset, et ego non essem». Но, может быть, скоро поймет: не «что-то» в нем, а «Кто-то»; не «оно», а он сам – «другой». – Двойник.
Знает ли он, что увиденный человеком «двойник» означает смерть или безумье? Если еще не знает, то, может быть, уже предчувствует.
Что это за «чудо» или «чудовище» и откуда оно, – мы теперь знаем, или думаем знать: «сознание запредельное», – «подсознательное», – темная, ночная, преисподняя половина души человеческой. «Я тогда уже не я, tunc ego non sum», – с безукоризненной точностью определяет и Августин.
Как бы удивился он, если бы знал, что нечаянно сделал, или почти сделал (чтобы сделать совсем, должен бы знать, что делает) одно из величайших открытий, какие когда-либо делались опытным знанием. Но этого ни он и никто во всем мире тогда еще не знал. В первый раз от начала мира, выйдя из мрака на свет, Ночная Психея, «чудо» или «чудовище», заглянула в глаза Дневной – таким нездешним, небывалым взором, что увидевшему ее можно было в самом деле умереть или сойти с ума от ужаса.
XXVI
«Девять лет, от 19 года жизни до 28-го, соблазнялся я сам и других соблазнял» – манихейством.[161] Девять лет «сходит с ума». Кружится, кружится, путается в «двух волях», «двух душах», двух «я», как в лабиринтных извилинах, и, может быть, запутался бы наконец так, что никогда не вышел бы из лабиринта и, в самом деле, сошел бы с ума, если бы не путеводная нить, – то, что всосал он в себя «с молоком матери», – имя Христа, – «звук пустой» для манихеян, а для него – полный, из всех звуков мира полнейший, первый и последний, единственный. Тонкая-тонкая нить-паутинка, – вот-вот порвется? Нет, крепка: все ведет, ведет и выведет.
«Так вел Ты меня, Господи, таинственной стезей… через все мои заблуждения и обращал лицо мое к ним, чтобы я увидел их и возненавидел». – «И дланью простертой извлек меня из тьмы кромешной». – «Да погибнут же от лица Твоего пустословы и обманщики, – те, кто, наблюдая в человеке две воли, учат, будто бы и в мире есть два Существа» – два Бога.[162] Этого он тогда еще не говорит – скажет потом, но, может быть, и тогда уже чувствует; сам того еще не зная, уже ненавидит Двух, потому, что одного Единственного любит.
Но прежде чем это узнать, пройдет до конца весь лабиринт лжи и безумья, потому что всякая ложь есть начало безумья, а больше всех – эта: Два вместо Одного в Трех.
Девять лет «нисходит в преисподнюю», где вечные сумерки, – такой же темный свет наяву, какой бывает во сне. Мир ушел от него, и он – от мира: там, далеко где-то, извне, – шум и суета, «лавочка слов», а здесь, внутри лабиринта, – тишина, пустота и сводящий с ума ужас Его – его самого – Преисподнего.
XXVII
За девять лет – ни одного события, кроме двух новых столкновений с матерью.
Первое – в самом начале «безумья».
Вскоре по выходе из карфагенской школы, устав, должно быть, висеть на шее Романиана-благодетеля, задумал, чтобы самому стать на ноги, открыть «школу красноречия» в Тагасте и для этого, приехав туда, остановился в доме у матери. Но только что узнала она, что он – манихей, начала плакать по нем, «как по мертвом»; когда же увидела, что слезы не помогают, ожесточилась так, что выгнала его из дому: «жить со мной под одною кровлею, есть за одним столом не хотела». Только мимоходом, двумя словами, сообщает он об этом изгнании, вероятно, потому, что вспоминать о нем, и через много лет, слишком ему тяжело. Но, судя по дальнейшему, все произошло именно так или почти так. Нищим оказался бы на улице, без крова и хлеба, если бы снова не спас его Романиан, добрый язычник, от христианки-матери, отправив его на свой счет в Карфаген, где помог ему открыть школу. Вскоре, впрочем, и мать, узнав по вещему сну, что сын ее будет спасен, утешилась, помирилась с ним кое-как и тогда, вероятно, переселилась к нему на житье в Карфаген.[163]
XXVIII
Второе событие – тоже столкновение с матерью, еще более жестокое, но уже не с ее, а с его стороны, – перед самым концом «безумья».
В эти дни решил он ехать в Рим, откуда получил выгодные, по школьному делу, предложения. Но главной причиной отъезда было не это, а он сам хорошенько не знал чтó. «Ты это знал, Господи, но не открывал ни мне, ни матери моей, горько о разлуке со мной скорбевшей и плакавшей, atrociter planxit. В самый же день отъезда, провожая меня до гавани, все убеждала она и умоляла меня неотступно или остаться с нею, или взять ее с собою в Рим. Но я обманул ее жестоко, mentitus sum matri, et illi matri, уверив, что провожу только друга моего, ожидающего будто бы в гавани попутного ветра. Когда же она не захотела возвращаться домой без меня, я едва убедил ее провести ночь в часовне бл. Киприана, находившейся (тут же в гавани) по соседству с нашим кораблем… Ночью же, потихоньку, я сел на корабль… А на берегу мать моя, стоя на молитве в часовне, проплакала всю ночь… Утром же, выйдя на берег и не найдя меня там, обезумела от горя и возопила к Тебе, Господи, жалуясь на меня. Но Ты не услышал ее и влек меня страстями к концу страстей. А плотское желание матери казнил бичом своим праведным за то, что она слишком любила меня… и терзалась о разлуке со мной… не зная, какую Ты готовишь ей радость в свидании. В муках, Евино наследие искупая, искала она того, кого родила в муках… И устав, наконец, обвинять меня, снова начала молиться за меня. И вернулась домой, а я плыл в Рим».[164]
XXIX
Это очень страшно, и самое страшное тут, может быть, то, что сказано все так просто, тихо и бесстрастно, как будто уже с того света увидено и тем светом нездешним освещено. И то, что он «исповедуется» в этом, кается в «обмане и жестокости» к матери, но как будто не очень кается, потому что слишком уверен в прощении: «Ты и это простишь мне; как все, Милосердный!» – то, что он кается так, не только не уменьшает, а, напротив, увеличивает страх.
Чтобы это нездешнее здешним разумом понять, чтобы это, идущее с «того света», увидеть в нашем свете земном и нашим сердцем земным это неземное простить или не простить (если только грешные могут прощать или не прощать святых), чтобы это понять, надо вспомнить, что с ним было и где он был; откуда спасся или только спасался; из какой тьмы кромешной – «лабиринта» преисподнего вышел. Надо увидеть, кто он сейчас: вышедший в солнечный день на улицу, выздоравливающий от девятилетней болезни, но все еще тяжелобольной. Плохо видит, плохо слышит, вполглаза, вполуха; смутно чувствует вполсердца; движется с трудом, как полурасслабленный; едва понимает, что делает, – как в полубеспамятстве. Ясно понял только одно: надо бежать из манихейского гнезда, Карфагена; вырваться из «дьявольской сети» – липнущей «смолы птицелова». Понял и то, что этого мать не поймет никогда; как бы ни объяснял он ей, ни убеждал ее, ни молил, – не поймет, не отпустит его; а взять ее с собой ему нельзя: слишком беден. Знает также, чувствует всем существом, что душою и телом связан с нею не только здесь, на земле, но и в вечности; он погибнет, – и она; он спасется, – и она; если бежит, то, может быть, себя спасет и ее, а если останется, – ее и себя погубит наверное.
Знает ли, помнит ли, что могут быть еще две жертвы – сын его Адеодат и мать сына; что будет и к ним «жесток», покинет и их на произвол судьбы; всех и все покинет, через все перешагнет, чтобы спастись – бежать?[165]
Очень вероятно, что этого всего он тогда еще не понимал, не думал об этом так ясно; но, может быть, думал за него кто-то Другой – тоже «Двойник» его, уже не темный, а светлый (потому что два у человека «двойника» – он этого еще тогда не знал); думал за него Ангел Хранитель. Он-то, может быть, и шепнул ему на ухо то, что он сам себе скажет потом через много лет: «Бог тебя простит», «все будет хорошо, беги, не бойся!»
И как сказал Ангел, так и сделалось: кончилось все хорошо; из великого зла вышло добро величайшее – Святость. Спасся тогда и спас других, и потом, скольких еще спасет св. Августин!
XXX
Только что приехал в Рим, начал и здесь устраивать «школу красноречия», «лавочку слов».
Бегал, хлопотал, стучался во все двери и кое-как устроил. Но дела шли плохо, школьный заработок был скудный, учеников мало, да и те, что были, ненадежны: поучатся – и пропадут, не заплатив.[166] Едва сводил концы с концами и все хлопотал, бегал, так что, наконец, заболел и слег.
Болен был духом и телом уже давно, девять лет, но все не чувствовал, потому что «злейшее зло безболезненно»,[167] и только теперь вдруг почувствовал.
«Я был поражен бичом недуга… и уже сходил в могилу, врагом Твоим, Господи, отягченный множеством грехов против Тебя и себя, и других… Но ради матери моей Ты меня помиловал, не захотел, чтобы я умер таким, каким был тогда; Ты услышал молитвы ее… и сына рабы Твоей спас».[168]
Встал с постели, но был еще слаб, не мог ходить в школу и, лишившись последнего заработка, впал в такую нищету, что вынужден был вернуться, «как пес на блевотину», к тем, от кого бежал, – к манихейским братьям. Видя, что он погибает, они сжалились над ним, приютили его и спасли.
Но «братом» казаться, не будучи братом, из-за куска хлеба обманывать, – тяжело ему было, должно быть, так, что становился поперек горла кусок.
XXXI
Хуже всего было то, что, освободившись только наполовину от манихейской лжи, он все еще бился в ней, как пойманная птица в полуразорванной сети; хотел вылететь и не мог: крылья путались в обрывках сети. Духом был так же при смерти болен, как только что телом, и так же медленно выздоравливал, и был еще слаб.
В самом конце карфагенских дней попалась ему под руку случайно как будто, но в самую нужную минуту самая нужная книга – Карнеада, крайнего скептика Новой Академии (так же точно, как десять лет назад попался ему под руку случайно как будто «Гортензий»). В эту-то именно минуту, в таком-то именно крайнем сомнении, он и нуждался больше всего: только этот яд и мог быть для него противоядием от злейшего яда – ложной манихейской веры. «Истины для человека быть не может», – надо ему было сказать с Карнеадом, чтобы пошатнуть незыблемость лжи.[169]
Начатое в Карфагене продолжал и здесь, в Риме: от всего освобождался; все ломал и разрушал; разрывал все цепи, как тот Гадаринский бесноватый, тоже любитель свободы. «Между всеми мыслями плавал я тогда, inter omnia fluctuans, по обычаю скептиков, сомневаясь и колеблясь во всем».[170] Все, на чем стоял, уходило из-под ног, и, лишенный всех точек опоры, он висел в пустоте. Так наконец освободился – обнажился от всего, что похож был на человека, с которого содрали кожу: воздух ранит.
XXXII
Римский префект Симмах, «последний язычник», потерпевший поражение от медиоланского архиепископа Амвросия в споре об «алтаре Победы» (быть ли ему в Римском сенате или не быть; быть ли язычеству вместо христианства или не быть), – Симмах получил в эти дни просьбу из Медиолана, от тамошних учеников в школе красноречия, прислать им учителя.
С помощью все тех же манихейских «братьев» начал Августин добиваться этой выгоднейшей должности; с их же помощью, вероятно, кое-как вошел – «втерся» – в дом префекта, получил от него, для испытанья, заказ речи, сочинил ее, прочел Симмаху; тот ее одобрил и послал его в Медиолан.[171]
Тотчас, кажется, по прибытии туда пошел Августин к Амвросию, потомку одного из знатнейших римских родов, бывшему консуларию и Лигурийскому наместнику.
«Принял он меня по-епископски», – вспоминает Августин. Слово «по-епископски», episcopaliter, может иметь два смысла: или «как следует епископу, человеку Божию», или «хотя и любезно, но важно и холодно». Если второй смысл вернее, то, может быть, Амвросий принял Августина так, потому что знал кое-что об его манихействе, а также о том, что он прислан или «подослан» к нему злейшим врагом его и Господним, Симмахом.
Этого, впрочем, Августин тогда не понял, или не хотел понять; думал, или хотел думать, что «человек Божий» принял его не только «любезно», но и любовно, «отечески», paterne.[172]
XXXIII
«Часто, в те дни, ходил я слушать проповеди его, хотя и не для того, для чего бы следовало, а чтобы только узнать, справедлива ли молва об его красноречии; так что, слушая внимательно слова его, я презирал их смысл; да и сладость их казалась мне меньшей, чем Фаустовых (манихейского епископа, знаменитого ритора). Но, и помимо воли моей, смысл тех святых слов проникал в сердце мое».[173]
«Суетно, впрочем, судил я тогда об Амвросии: зависти казался мне достойным бывший ему от сильных мира сего почет и только безбрачие – тягостным. Так мало знал я его… А он меня – еще меньше: как я страдал, что мне грозило, не знал он вовсе, а сказать ему о том я не мог, потому что он всегда окружен был множеством людей, имевших до него нужду… В редкие же часы досуга подкреплял он или тело пищей, или душу – чтением… А когда читал, глаза его быстро бегали по странице, и все его внимание было приковано к ней».
«Часто у него бывая, потому что двери дома его открыты были для всех и все могли входить к нему без доклада, я присутствовал при этом, всегда безмолвном, чтении, тоже молча, и молча уходил: кто посмел бы развлечь такое внимание? Я молчал еще и потому, что не хотел нарушать необходимого ему, от стольких дел, краткого отдыха. „Может быть, – думалось мне, – оттого он и молчит… что боится докучных вопросов… и не хочет лишним разговором утомлять и без того уже в церкви натруженного голоса“.[174]
Так друг против друга сидят «в долгом молчании», in dinturno silentio; слышится только шелест страниц. Один – уже в Церкви; другой хотел бы, может быть, войти в нее и не знает, как это сделать; хочет об этом спросить – и не смеет; помощи ждет – не дождется: если в Церковь войдет, то один.
Друг против друга сидят, дальше, может быть, друг от друга, чем обитатели двух разных планет; грешный – против святого, «книжник» – против книжника, «лунного света» человек – против «лунного» (слово Платона: «люди лунного света», сказанное о другом, можно бы сказать и об этом); светят, да не греют оба.
Больше оправдать Амвросия, чем Августин это делает, нельзя. Но трудно все-таки поверить, чтобы тот действительно не знал, как он страдает и что ему грозит. Мать Августина, только что тогда приехавшая из Карфагена в Милан, – духовная дочь Амвросия. «Ради моего спасения она его полюбила… как Ангела Божия; любил и он ее, видя добрые дела ее… и пламенное к Церкви усердие… Каждый раз, в тех немногих словах, что случалось ему перемолвить со мной, радовался он за меня, что Бог мне послал такую мать».[175] Трудно поверить, чтоб она не сказала духовному отцу своему, как сын ее страдает. А если сказала, то почему же Амвросий не помог Августину? «Если бы в это время кто-нибудь хотел мне помочь, то мог бы легко это сделать», – этому можно поверить.
Мог бы Амвросий помочь Августину, если бы только поднял глаза от книги и увидел его. Но вот не видит; все читает да читает, шелестит да шелестит листами книг. Может Августин погибнуть на глазах его, – он его не увидит, не спасет. Чья вина? Ничья, или, уж во всяком случае, не их.
Святы будут оба; один уже идет по верному пути к святости, другой вступит на него сейчас. «Иноки (святые) предпочитают милосердию любви безмолвие» (уединение). – «Будь подобен Херувимам, не имеющим никакого попечения житейского, и не думай, что, кроме тебя и Бога, есть кто-либо другой на земле» (св. Исаак Сириянин).
Будут святы оба; но «дивен Бог во Святых Своих», – и страшен.
XXXIV
То, чего не сделал для Августина Амвросий, будущий великий Святой, сделал маленький грешник – пьяный нищий бродяга.
Чести великой удостоился Августин в эти дни: получил заказ хвалебной речи ничтожному императору Валентиниану II, четырнадцатилетнему мальчику. Должен был произнести ее сам, в присутствии всего двора и пред лицом императора.
«Готовясь к той речи, я был как в лихорадке», – вспоминает Августин. Знал, какое перед ним открылось бы великое поприще, если бы он сочинил речь и произнес как следует. Но сумеет ли он это сделать? В жар и озноб кидала его одна мысль о том. Страшно и сладко замирало в нем сердце от надежды удостоиться, подобно Викторину, великому ритору, такому же некогда, как он, бедному мадаврскому школьнику, «величайшей, сынам человеческим доступной славы» – изваяния на Римском форуме.
Но, может быть, чей-то тихий голос, в самой глубине сердца его, смеялся над ним: «Все отверг, освободился от всего, усомнился во всем, – только не в этом, – в великой для себя чести воздать хвалу ничтожеству?»
В эти-то именно дни встретился случайно, но самый нужный человек.
«Как-то раз, проходя с друзьями по глухой медиоланской улице, увидел я пьяного нищего, который пел во все горло, ликовал и веселился… И тяжко вздохнув, сказал я друзьям: «Ах, глупые мы люди! Сколько трудимся, и, может быть, все впустую, – ради того, что этот пьяный нищий имеет за жалкие гроши свои, без всякого труда!.. И пусть даже радость его обманчива, – ведь и наша, может быть, еще обманчивей… О, конечно, если б мне предложили поменяться с ним участью… я не согласился бы и предпочел бы остаться со всеми моими муками и страхами, но был ли бы я прав, – вот вопрос!»[176]
Кто, в самом деле, прав: трезвый, умный, несчастный или пьяный, безумный, счастливый? Никто или оба – один в обоих, потому что противоположность их – мнимая: ведь и трезвый так же нетвердо стоит на ногах, как пьяный; так же, потеряв все точки опоры, шатается; так же не знает, откуда и куда идет; так же свободен от всего, легок и пуст, нищ и наг.
Это, может быть, и понял Августин, когда проходил мимо бродяги, и взоры их на мгновенье скрещивались: вдруг узнал в нем себя – другого, «ночного», «преисподнего», – и ужаснулся: «Unde hoc monstrum? Что это за чудо во мне, что за чудовище? И откуда оно?»
«Так сокрушал Ты, Господи, жезлом Твоим кости мои!» – «Может ли человек знать истину? – на этот вопрос, который задал бы, вероятно, Августин Амвросию, если бы тот поднял на него глаза от книги и увидел его, – в самую нужную минуту, самый нужный ответ – этот „сокрушающий кости удар жезла Господня“.[177]
XXXV
Для чего был нужен удар, он еще тогда не знал; узнал потом: «Я решил… быть оглашенным в Церкви, пока, наконец, не увижу хоть какой-нибудь светлой точки, чтоб пойти на нее». Но к Церкви только подошел, заглянул в нее и опять отошел, «все еще блуждая во мраке, по скользким путям… и отчаиваясь».[178]
Малою только надеждой спасался от великого отчаяния: «тепленькое местечко получить при дворе… жениться на девушке с хорошим приданым, обзавестись домиком, – и будет с меня! Есть ведь и в этом своя приятность, и даже немалая». – «Я любил счастливую жизнь».[179]
Вот когда «суше паутины иссушил» сердце его Господь. «Горе тому, кто надеется, отступив от Тебя, Господи, найти что-либо лучшее: точно больной, на постели, с боку на бок переворачивается, то на спину ляжет, то на живот, и все ему жестко, потому что Ты один – покой… И вдруг приходишь… и говоришь: „Беги – понесу, и когда добежишь, то и там еще понесу!“[180]
XXXVI
К этому времени, устроив дела свои, вызвал он из Карфагена в Милан сына Адеодата и «ту, с которой привык спать», а также «брата сердца своего», друга Алипия.[181]
Мать, приехавшая к нему с другим, старшим сыном, Навигием, еще раньше, должно быть, без зова, – видя, что дела Августина поправились, решила, что пора ему остепениться, покинуть наложницу и вступить в законный брак.
«Очень усердно хлопотала она, стараясь найти мне жену, и уже сосватала девушку… но такую еще юную, что надо было ей ждать два года до брачного возраста». Судя по тогдашним ранним бракам, девочка была лет двенадцати, но во всем остальном точно такая жена, какой хотелось ему, когда он мечтал о браке: «добрая, тихая, красивая, целомудренная, и с таким приданым (это, может быть, главное), чтобы не быть мужу в тягость и чтобы можно было вдвоем в покойном довольстве жить».[182]
Все, казалось бы, хорошо, одно плохо: как быть с той, которую «он уже имел» и которой столько лет был верен, – с матерью сына его, перед людьми «наложницей», а перед Богом женой? Чтобы жениться на второй жене, надо было покинуть первую; чтобы принять в дом вторую – выгнать первую. В том, «что у людей, – по его же слову, – называется браком, делается это легко и просто; но так же ли просто и легко – в том, что называется браком у Бога?»
Выгонит ли он жену? Нет, но согласится, чтоб выгнали ее другие. «Браку моему она мешала: вот почему ее разлучили со мной; но сердце мое, все еще прилепленное к ней, растерзано было так, что истекало кровью – влачилось в крови… В Африку вернулась она и дала обет безбрачия… Я же, несчастный, будучи слабее, чем она, взял себе другую наложницу… И рана моя („похоть сплошная“, libido) не исцелилась… а только из кровавой сделалась гнойной».[183]
Кто же ранил его? Имени матери не произносит он; глухо только намекает: «сделали другие», – вероятно, потому, что и через много лет, когда вспоминает об этом, – слишком больно ему вспомнить, что с ним тогда сделала мать, для него уже святая Моника.
XXXVII
Как же могла она, так нежно любя его, ранить так жестоко? Это можно отчасти понять, по странному, приснившемуся ей десять лет назад, после того как она выгнала из дому сына за манихейство, вещему сну.
Стоя будто бы на какой-то прямой-прямой, длинной-длинной, в бесконечную даль уходящей, «деревянной линейке», regula lignea, и горько плача о погибшем сыне, – вдруг видит идущего к ней, по той же линейке, Светлого Юношу и слышит: «Не плачь, сын твой спасется; вот он уже здесь, с тобой!» – и, оглянувшись, видит, что сын за нею стоит, все на той же линейке.[184]
Вещий сон этот выразил, может быть, то, что действительно было во всем ее существе, а больше всего – в любви к сыну: жесткое, «деревянное» или даже «каменное», но и бесконечно верное, к одной-единственной Цели прямо идущее, прямолинейное. Любит она и сына «прямолинейно» – беспощадно, почти убийственно. «Слишком она меня любила», – чувствует он сам.[185]
Любит его, и ранит почти смертельно. Но как знать? Чтобы такого сложного, как он, упростить, лабиринтно-извилистого выпрямить, может быть, и нужна была такая беспощадная «прямолинейность» любви?
Чтобы это свойство матери понять, надо увидеть его и в сыне. Все свои «блуждания» кончив – «выпрямившись», упростившись окончательно, – будет и он «прямолинеен» (в будущей страшной логике «Предопределения», Praedestinatio). «Выпрямленный лабиринт» св. Августина – «прямая линия» св. Моники.
Матери иногда, во сне, наваливаясь на грудных детей своих, душат их, «засыпают» до смерти, а проснувшись и увидев, чтó сделали, – сходят с ума или убивают себя от отчаяния: так Моника едва не «заспала» Августина.
Да, «дивен Бог во Святых Своих», – и страшен.
XXXVIII
Двое будущих святых, Августин и Моника, выгнали из дому ни в чем не повинную женщину, как добрый человек и собаки не выгонит. «Если это грех (еще бы не грех!), то и его, вместе со всеми остальными, очистил огонь Благодати», – решает один из мирских апологетов Августина.[186] Но вопрос вовсе не в том, «очищен» ли грех огнем Благодати, а в том, как очищен. Не извне, насильственно, совершается в людях «очищение» Благодатью, а изнутри, свободно, и надо для этого человеку увидеть свой грех и покаяться. Но Августин и Моника греха своего не видят и не каются вовсе. «В пятницу ли поститься или в субботу?» – смущается совесть Моники, а в этом деле невозмутимо спокойна. – Веря, что одна «Мировая Душа» – во всем живом, Августин-манихей умиляется почти до слез, видя, как «млечными слезами плачет смоковница, когда с нее срывают плоды», а к слезам матери сына своего равнодушен, или кажется таким (но ведь и это страшно). Помнит сердце свое, «истекавшее кровью», а об ее сердце забыл. «Мухи не принес бы я в жертву, если бы за то обещали мне и венец чистого золота», а женой и сыном жертвует.[187]
«Значит ли это, что такое сокровище (святость Августина) куплено слишком дорогою ценою?» – спрашивает другой апологет. Глупый и нечестивый вопрос! Капища Ваалу строились на костях человеческих, но не Церковь Божия. Да и святость Августина куплена ценою вовсе не таких жертв.[188]
Судят ли грешные святых? Нет, не судят. Но Бог может судить святых своих и через грешных. Невидимое святым в V веке – в XX – может быть видимо грешным; так же невидимое святым сейчас, может быть, грешные увидят в будущих веках.
Кажется, во дни Гомера глаз человеческий не отличал зеленого цвета от голубого (слово glaukos, одно для обоих цветов), а в наши дни уже отличает, может быть, потому, что за 3000 лет в человеческом теле что-то изменилось – пошло вперед; так же точно изменилось, может быть, что-то, вперед ушло, и в человеческом духе, за полторы тысячи лет христианства, от Августина до нас, и по тому, как изменилось, можно судить о том, куда и как движется в человечестве Дух.
XXXIX
«Жизнью века сего я уже начинал тяготиться; уже не так, как прежде, томился жаждой богатства и почестей… Но похоть к женщине все еще крепко держала меня». – «Даруй мне, Господи, целомудрие, – только не сейчас!»– молился я, боясь быть услышанным слишком скоро»[189]
Надо отдать ему справедливость, – он себя не щадит: в маленьких, грешных, «задних мыслях» (сколько их может быть и у святых!) иногда труднее признаться, чем в больших, уже совершенных грехах.
«Старые любовницы мои, Пустяки пустяков, Суеты сует, nugae nugarum et vanitates vanitatum, все еще крепко держали меня за одежду плоти моей и шептали мне на ухо: „Как же ты покинешь нас, и мы уже не будем с тобой, во веки веков, и тебе уже, с этой минуты, нельзя будет делать того-то и того-то?“ И что они напоминали мне в этом: „того-то и того-то“, – какие мерзости. Боже мой, какие стыды… да избавит от них раба Твоего милосердие Твое!»[190]
Да, он себя не щадит. «Лучшее во мне то, что я себе не нравлюсь». Это еще не христианское смирение, но, может быть, в деле спасения, это иногда нужнее смирения. Этим простым, человеческим: «Я себе не нравлюсь», – Августин и спасется.
«Чего они только ни напоминали мне, Боже мой!.. Но я уже слушал их меньше, чем вполуха; громко, лицом к лицу, они уже не смели говорить со мной, а только за спиной моей тихонько ворчали, как бы украдкой молили меня, уходящего, в последний раз оглянуться на них… Но я уже весь горел от стыда, что все еще слушаю шепот тех Пустяков и все еще колеблюсь».[191]
«Две были борющихся воли во мне („две Души“, „два Двойника“): старая плотская воля и новая, духовная. И душу мою раздирали они, борясь. Вот когда понял я, по собственному опыту, experimento, что значит: „плоть против духа, и дух против плоти“. Я был еще в обоих, но уже больше в том, что любил, чем в том, что ненавидел, и даже в этом втором был уже не я, потому что я это больше терпел, чем делал».[192]
«Я – в обоих, я – в Двух», ego in utroque, – кажется, нельзя найти точнее формулы, сделать точнее опыта, для «Двух Душ», Гёте-Фауста – Манеса, Двух Душ всего человечества.
«И был я, как во сне… хотел проснуться, и не мог… Ты, Боже, говорил мне: „Проснись!“ – но я отвечал Тебе: „Вот-вот, сейчас; минутку, только минутку, еще погоди“.[193]
Да, св. Тереза Испанская права: каждого человека и всего человечества душа может сказать о св. Августине: «Узнаю себя в нем!»
XL
И вот вдруг опять, в самую нужную минуту, самая нужная книга – «Эннеады» Плотина, в латинском переводе (греческому языку так и не научился) того самого Викторина, чье изваяние на Римском форуме еще недавно казалось ему «величайшей, доступной сынам человеческим, славой».
«В книге этой прочел я… что Слово стало плотью; но еще прочел, что Слово стало Человеком и «обитало с нами» и «приняло вид раба»… и «опустошило и смирило Себя даже до смерти» и что имя Ему: «Иисус». – «Свет я уже видел, но был еще далек от Света… потому что Христос был для меня только человеком, познавшим истину так, как не познавал ее никто из людей… но не был еще самою Истиной, persona veritatis». – «Я еще не имел Господа моего, смиренный – Смиренного». – «И, найдя жемчужину… все еще колебался я отдать за нее все, что имею».
– «Не будучи безумным, я уже хотел быть мудрым… И если б не нашел пути ко Христу, то погиб бы со всей мудростью моей, потому что все еще не понимал, какая разница между тем, чтобы знать, где родная земля, и тем, чтобы в ней быть».[194]
Очень важно для него и для нас, что снова подходит он – возвращается ко Христу – не через христианство, а через язычество. «Ты язычников призвал в наследие Твое, Господи; пришел и я к Тебе от язычников, обращая мысли мои к золоту, которое повелел Ты некогда Израилю унести из Египта, потому что оно везде – Твое».[195]
Может быть, он и сам еще не знает, зачем нужно ему было прийти ко Христу «от язычников»; но мы теперь уже знаем зачем: чтобы сделаться вторым, после Павла, «Апостолом язычников» – нашим, по преимуществу, потому что и наш путь тот же, как его: все мы, в лучшем случае, – такие же, как он, бывшие христиане – настоящие язычники, – возвращающиеся ко Христу «отступники»; так же и мы могли бы сказать о нашем «золоте из Египта» – лучшем из всего, что мы называем «культурой»: «оно везде – Твое».
XLI
Десять лет не открывал он Писания, но в эти дни снова открыл и «принялся читать с жадностью, особенно Павла… радуясь и ужасаясь вместе». – «Путь Твой, Господи, мне был уже радостен, но тесноты его я еще ужасался».[196]
«В эти же дни Ты внушил мне пойти к верному рабу Твоему, Симплициану, духовному отцу Амвросия; он же его и крестил. Симплициан был очень стар и, как мне казалось… проведя столько лет в служении Господу, достаточно опытен, чтобы наставить и меня на путь Господен».[197] – «Итак, придя к нему, я поведал ему все мои блуждания по извилистым путям, circuitus erroris mei».
Ангелу своему подобен, чье имя Simplicianus, значит «Простой», Симплициан был очень прост умом. Хуже, казалось, нельзя было сделать выбора, чтобы распутать клубок Августиновых сложностей, извилистых путей лабиринта, но вот, оказалось, – лучше нельзя. Вместо того чтобы клубок распутывать, Симплициан только рассказал ему простейший «случай» с тем самым Викторином, что вот уже двадцать лет все мелькал да мелькал перед Августином, делая ему какие-то знаки, точно звал его куда-то или на что-то указывал. Куда и на что, понял Августин только теперь, когда Симплициан, узнав, что он читал «Эннеады», в переводе Викторина, рассказал ему о чудесном обращении ко Христу этого «врага Господня», закоренелого язычника.
Дело было так. Как-то раз, должно быть, случайно заглянул он в Евангелие и зачитался им так, что не мог от него оторваться, пока не дочитал до конца. Прочел и другие книги Писания и допытался наконец истины – во Христа уверовал, но еще втайне, – исповедать Его перед людьми боялся и стыдился (это было во дни Юлиана Отступника). Только наедине часто говаривал Симплициану: «Я уже христианин». Но тот каждый раз отвечал ему: «Пока не будешь в Церкви, не поверю!» – «Стены, что ли, делают христиан?» – смеялся Викторин, но Симплициан отвечал ему все так же: «Пока не будешь в Церкви, не поверю!» И мало-помалу, продолжая читать Писание и укрепляться духом, начал он терять страх и стыд человеческий; когда же потерял его совсем, – пришел однажды к Симплициану и сказал ему: «Пойдем в церковь; я хочу креститься!»[198]
Вот и все, и клубок распутался; выпрямились все «лабиринтные извилины» в одну прямую линию.
Симплициан умолк, и, молча, «тяжко вздохнул» Августин – еще тяжелее, чем тогда, при встрече с пьяным нищим, когда внезапно «сокрушил Господь жезлом Своим кости его» и весь вдруг загорелся желанием сделать то же, что сделал Викторин, но чувствовал, что сделать этого не может; чем больше хочет, тем меньше может, «скованный, крепче всех железных цепей, не кем-либо другим, а самим собою».
«Как же расторг Ты, Господи, цепи мои? А вот как».[199]
XLII
Однажды случилось (столько будет сейчас этих «случаев», что он сам устанет их считать, или побоится другим наскучить, но если мы не поскучаем считать за него, то, может быть, узнаем кое-что для себя нужное, – «узнаем и себя в нем», а ведь это никогда не скучно), – «…случилось однажды, что земляк мой, африканец, Понтитиан, важный при дворе сановник, зашел ко мне… не помню по какому делу… когда мы с Алипием („братом сердца моего“) были одни в доме. Сели и начали беседовать. Вдруг, случайно, forte, заметив лежавшую перед нами на шахматном столике книгу, Понтитиан взял ее и увидел, что это Послания Павла, и очень удивился, потому что меньше всего ожидал их найти у меня, думая, что я читаю только нужные для школы риторские книги. Взглянув на меня, он улыбнулся и поздравил, что я читаю и такие книги… Когда же я сказал ему, что много и усердно изучаю Писание, началась у нас уже иная беседа и, слово за слово, он рассказал нам (опять случайно, forte) об Египетском отшельнике, Антонине, чье имя тогда уже сияло в мире, но было еще нам не известно; рассказал и о множестве пустынных обителей, откуда возносится райское благоухание к Господу… о чем мы тоже не знали; рассказал, что и здесь, в самом Медиолане, за стенами города, есть такие обители… Он говорил, а мы все молча слушали. И вот что он нам еще рассказал.
«Однажды, в городе Тревере, в послеполуденный час, когда император был в цирке, Понтитиан с тремя друзьями вышел погулять в сады, за стенами города, и случайно, forte (здесь начинается вторая цепь случаев в жизни Понтитиана, сплетенная с первою – в жизни самого Августина, – так что одна цепь отвечает другой, как в таблице логарифмов один ряд чисел – другому или в симфонии один ряд созвучий – другому), Понтитиан с друзьями случайно разделились на две четы: он с другом – в одной, а в другой – двое остальных. Эти двое, отойдя от тех и сами не зная, куда идут, vagabundos, набрели (случайно) на какой-то домик, где жили те святые отшельники (случайно, должно быть, не оказавшиеся дома). И войдя в домик, нашли книгу с житием св. Антония, и один из них начал ее читать и удивляться, и загораться, и завидовать, и желать такой же точно жизни для себя, чтобы, оставив службу императору, послужить единому Господу. И вдруг, исполнившись святою ревностью, стыдом и гневом на себя, устремил он глаза на друга и сказал:
– Что мы делаем? о чем хлопочем? чего добиваемся с такими усилиями?.. Сделаться друзьями государя?.. Но как ненадежно это, как опасно, и с каждым шагом все опаснее. И когда-то еще будет! Сделаться же другом Божиим я могу сейчас, сейчас, сию минуту, если только захочу…
Так он сказал и, мучимый родами новой жизни, опустив опять глаза в книгу, продолжал читать. И по мере того как читал, сердце его изменялось, освобождаясь от мира… И весь дрожал он и плакал и вдруг воскликнул:
– Кончено! Буду служить Богу единому, и сейчас же начну, сию же минуту, здесь же, вот на этом самом месте! А если ты со мной не хочешь…
– Нет, и я, и я! – ответил тот.
В это самое время Понтитиан и спутник его, кончив прогулку по другой части сада, вышли в поисках друзей на то место, где были те, и, найдя их, сказали им, что пора домой, потому что солнце на закате. Те же, объяснив им о своем решении… просили их если не пожелают и они сделать того же, то им, по крайней мере, не мешать. Но эти двое, оставшись такими же, как были, – оплакали только судьбу свою (Предопределение, Providentia, – главная мысль Августина и Павла)… порадовались за них и поручили себя их молитвам.
Так, эти двое из четырех, влача сердца свои по земле, trahentes cor in terra, вернулись во дворец, а те двое, вознося к небу сердца, affigentes cor coelo, остались в скиту. Были же у них и невесты; и те, узнав об их решении, дали обет безбрачия и тоже покинули мир.
Так говорил Понтитиан. Ты же, Господи, по мере того как он говорил, обращал меня лицом ко мне. Но, не желая увидеть себя, я как бы прятался от себя самого, спиной к себе самому поворачивался. Но Ты обращал меня опять лицом ко мне. И вдруг увидел я себя, гнусного, запятнанного, израненного, искалеченного, – и ужаснулся; и некуда было бежать от себя; если же я и пытался бежать, – Понтитиан продолжал говорить, что говорил, и Ты опять поворачивал меня ко мне лицом и шире, все шире раскрывал глаза мои, чтоб я увидел себя и возненавидел…»[200]
XLIII
«Понтитиан ушел. Тогда, обернувшись к Алипию, я воскликнул:
– Что это, что это было?.. Что такое мы слышали?..
Так говорил я, сам не зная, что говорю. Он же смотрел на меня молча, с удивлением… потому что лицо мое, и глаза, и звук голоса… говорили больше слов.
И вдруг, оставив его, я кинулся вон из дома. При доме нашем был садик хозяйский, но мы одни пользовались им, потому что хозяин куда-то уехал… Мне хотелось быть одному. Но Алипий побежал за мной… Я, впрочем, был и с ним вдвоем, как один… Сели мы как можно дальше от дома… Я был вне себя, рвал на себе волосы, бил себя по лицу… Алипий же все молчал и ждал, что будет со мною… Слезы душили меня, но я не хотел плакать при нем; встал, пошел в глубину сада… лег под какое-то дерево… и начал плакать, все повторяя:
– Господи, доколе? доколе же, Господи?.. Завтра, все завтра? Отчего же не сейчас, не сию минуту, вот на этом самом месте?..
И вдруг услышал я из соседнего дома детский голос, не знаю, мальчика или девочки, напевавший часто-быстро все одни и те же слова:
Возьми – читай! Возьми – читай! Tolle, lege! Tolle, lege!«Что это за песня? – подумал я, вдруг перестав плакать. – Не слыхал ли я, как дети поют ее в какой-нибудь игре?» – все хотел вспомнить и не мог.
Вдруг вспомнил – понял: глас Божий велит мне открыть книгу Павла и прочесть, чтó откроется.
Я встал, вернулся туда, где был Алипий и где я оставил книгу… Взял ее, открыл и прочел:
ни сладострастию, ни вожделению… не предавайтесь… но во Христа облекитесь и заботу о плоти не превращайте в похоть, libido.
Больше я не читал… Свет пролился в сердце мое, и мрак озарился».[201]
Тот же «Свет, превосходящий свет солнечный», что осиял Павла, на пути в Дамаск.
XLIV
В книге Августиновой жизни, «Исповеди», самая живая страница – эта. Кажется, можно сказать, не кощунствуя: есть в ней слова, почти такие же «Боговдохновенные», как в св. Писании; чувствуется и здесь, как там, прикосновение Духа Божия к душе человеческой.
Знает ли это сам Августин, чувствует ли над головой своей огненный язык Духа? Или, в ту минуту, как вспыхивает он, сам человек этого еще не знает?
Знает Августин, во всяком случае, главное: высшая равноденственная точка всей жизни его – здесь. Если бы этого не знал, то не сказал бы так ясно: «О, Ты, Всеблагий, Всемогущий, заботящийся о каждом в отдельности так, как будто он – все, и о всех вместе так, как будто каждый – единственный!»[202] Это скажет через много лет, после этого «случая» в миланском садике, а почти в те самые дни, как «случай» произошел, вот что говорит: «Может быть, все, что люди называют «судьбой» («случаем»), управляется каким-то тайным порядком».[203]
– «Может быть» – для других, а для него – наверное. «Это мне сам Бог открыл, Deus mihi revelavit», – скажет он в книге о «Предопределении Святых», de Praedestinatione sanctorum, почти в самый канун смерти, вспоминая, должно быть, всю свою жизнь и делая последний вывод из всего, что было в жизни.[204]
Это и значит: нет случая – есть Промысел.
XLV
В жизни Августина все решается «случаем» в миланском садике – «гласом Божьим», услышанным в детской песенке: «возьми – читай!» – все от первого проблеска сознания, шло к этому и от этого же пойдет все, до последнего всеозаряющего света смерти – Воскресения.
Длинная-длинная, через всю жизнь протянутая цепь из крепко спаянных звеньев – маленьких «случаев» – атомов жизни; или тончайшая, белая, в черную ткань жизни вплетенная, то исчезающая, то снова появляющаяся, но никогда не рвущаяся, путеводная нить в «лабиринте»; или темнеющая на предрассветном небе цепь нагроможденных гор; небо светлеет, – светлеют и горы, – яснеют, прозрачнеют, и вдруг, на острие высочайшей вершины, – ослепительная точка – солнце; так в цепи нагроможденных бессмысленных «случаев», – вдруг смысл: «нет случая – есть Промысел».
Это изнутри, а извне: «невероятно, невозможно, как будто нелепо сочинено». Так бы, казалось, и решить и на этом успокоиться. Но вот беда: не «сочиняет» же, в самом деле, Августин, не лжет Богу, себе и людям; чтобы лгать так, надо сойти с ума, а ведь он в здравом уме, может быть, даже в слишком «здравом» (ни одного «экстаза», «видения», «чуда», за всю его жизнь). Но, если не лжет, что же это такое? Случай на случай нагромождается, и, с каждым новым, – «невероятность», «невозможность», растет в геометрической прогрессии: раз поставил на карту – выиграл, и еще, и еще, – десятый, сотый, тысячный раз; этого в карточной игре не бывает. – А в жизни? – В жизни тем менее.
– Значит, Августин лжет и Павел тоже? – Это как вам угодно. Да, как вам угодно; но кто окажется в последнем счете, «сошедшим с ума», они или мы, – еще вопрос.
Этого в карточной игре не бывает, а в жизни есть, и притом в жизни всех людей, не только святых, но и грешных, даже злодеев, с тою лишь разницей, что у святых, в этом нагромождении «случаев», все идет вверх, а у злодеев все – вниз (как бы им самим и другим ни казалось, что «вверх»).
Этого, разумеется, не видно, с нашей точки зрения; но видно, может быть, с какой-то иной, нам уже или еще неизвестной, точки – оттуда, где маска Случая падает с лица Того, кто под нею прячется, и кого мы не знаем, но знает Августин и говорит о Нем так, как никто никогда не говорил, после Павла.
XLVI
Там, где он говорит об этом слишком ясно, учит нас, «проповедует», – в сердце наше может закрасться сомнение: «а что, если просто случай?» Но там, где он этого не видит или об этом умалчивает (как бы устает «считать выигрыши»), – это действует на нас почти неотразимо: так, в «случайной» встрече с пьяным нищим, чей смысл, – «узнанный Двойник», – самим Августином не понят или умолчан; или в «случайно» лежащей на шахматном столике и «случайно» попадающейся на глаза Понтитиану книге, Посланиях Павла; или в том, что после детской песенки: «возьми – читай», – та же книга открывается не на каком-либо ином Послании, а именно к Римлянам, и не на какой-либо иной главе, а на XIII, и не на каком-либо ином стихе, а на 14-м, – том самом, где говорится в нужнейшую минуту нужнейшее, все для Августина решающее, слово – ответ на всю его жизнь.
Вот в таких-то «невероятных», как будто «невозможных», «нелепо сочиненных» сцеплениях «бессмысленных случаев» их скрытый иногда от самого рассказчика или только умолчанный смысл действует на нас почти неотразимо. Это похоже на детскую игру, где все что-нибудь прячут от одного, а тот ищет, и, по мере того как подходит к спрятанному, все ему кричат: «Холодно-холодно! тепло-тепло! горячо! горит!» Так и в игре Случая с нами, – с тою лишь разницей, что здесь, в самом деле, «горит», и мы «обжигаемся».
XLVII
В этом-то, почти неотразимом, действии своем «Исповедь» – одна из самых утешающих и укрепляющих книг, какие когда-либо были и будут написаны (а таких очень мало).
«Если Кто-то о нем заботился так всю жизнь, точно вел его за руку, и привел, и спас, то, может быть, и обо мне так же заботится, и меня приведет, и спасет», – эта мысль, или даже не мысль, а бесконечно смутное о чем-то бесконечно забытом воспоминание почти неотразимо шевелится в сердце каждого читателя «Исповеди», если только умерло оно не совсем.
«Это повесть не о чужих падениях, а о моих собственных», – скажет Петрарка. «В Исповеди я нахожу себя самое», – скажет св. Тереза Испанская: то же мог бы сказать и каждый человек, а может быть, и все христианское человечество. Шепчущий ему на ухо, Ангел Хранитель, – вот кто такой Августин в «Исповеди».
XLVIII
Тотчас же почти после того, что произошло в миланском садике, закрыв навсегда школу красноречия, «кафедру лжи», он отправился с матерью, сыном и другом Алипием на виллу Кассициак, в Ломбардии, где провел месяцев семь, а вернувшись оттуда в Милан, – в Пасхальные дни 387 года, с Адеодатом и Алипием, крестился.[205]
Если первое крещение в миланском садике еще как будто вне Церкви, а на самом деле уже в ней, только в Незримой, если то Крещение «огненное» для него действительнее (хотя бы он того и сам не сознавал), чем это, второе, водное, в Церкви зримой, то понятно, почему он вспоминает о нем так коротко, лишь в двух, мимоходом сказанных словах: «мы крестились, baptisati sumus». В Церковь ввел Августина не крестивший его, архиепископ Амвросий, а, так же как Павла, – сам Иисус.
Но этого, кажется, никогда не узнáет Августин, так же как того, почему вместо радости после Крещения, вхождения в Церковь, проходит по сердцу его жуткий холодок предчувствия, как в знойный день, по телу, – лихорадочный озноб: «Мы крестились, и заботы века сего бежали от нас… но мы не бежали к Тебе, Господи! Вот почему я пел Тебе, и плакал»[206]
XLIX
«Все мы были вместе и, желая проводить святую жизнь неразлучно, в каком-либо надежном убежище, решили для того вернуться в Африку».[207]
Кажется, в самые знойные дни, в июле – августе (опасное морское путешествие из Италии в Африку совершалось обыкновенно в эти безветренно-тихие дни), отправились они из Милана, через Рим, в Остийскую гавань, где остановились в гостинице, чтобы отдохнуть от трудного пути по малярийно-знойным болотам Римской Кампаньи, дожидаясь отплытия корабля.
«Как-то раз, оставшись наедине с матерью, я сидел с нею у окна, откуда виден был находившийся при гостинице сад»…
Мутно-белая, ослепительно, как солончаки уже африканских степей, лоснящаяся гладь Остийского моря, чьи воды смешаны с мутно-желтыми водами Тибра; в пыльном саду лихорадочно-бледная зелень эвкалиптов, с лекарственно-тяжелым запахом; и на тусклом золоте, может быть, вечереющего неба, в четырехугольнике открытого окна, – эти два лица, сына и матери, таких друг на друга похожих и таких различных.
«И, все земное забыв, мы беседовали сладостно… о том блаженстве, о котором сказано: „Око не видело, и ухо не слышало, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его“… И, возносясь все выше и выше, от дольнего к горнему, прикоснулись мы оба на миг одним порывом сердца в молчании к Тому, что есть, ad id quod est… И тотчас же упали назад, в слова», – о том, чего нет.
И она сказала мне:
– Сын мой, мне больше ничего не надо в жизни, и я сама не знаю, для чего живу… Только об одном и молилась я, для одного и жила, – чтобы увидеть тебя христианином, – и вот увидела… и мне больше незачем жить…
Что я ответил ей тогда, не помню, но дней через пять-шесть, она заболела лихорадкой (той же, должно быть, римской болотной лихорадкой, от которой и он едва не умер) и слегла.
Помню однажды, во время болезни, она лишилась чувств… и мы с братом (Навигием) кинулись было к ней, но она почти тотчас же пришла в себя и, глядя на нас, как будто желая что-то припомнить, сказала:
– Где я, где я была?
И, пристальней еще вглядевшись в нас, прибавила:
– Здесь меня и похороните…
Я молчал, чтоб не заплакать, а брат сказал, что, даст Бог, умрет она не в чужой земле, а в своей. Выслушав его, она взглянула на него долго, молча, как будто с упреком, и потом, обращаясь ко мне, сказала:
– Что это он говорит, слышишь?
И к нам обоим:
– Похороните меня все равно где и больше об этом не думайте. Только об одном прошу вас: где бы вы ни были, каждый раз, стоя перед алтарем Господним, поминайте меня в своих молитвах…
Больше она не имела сил говорить. Ей сделалось хуже, и она очень страдала.
И вспомнилось мне, как всегда заботилась она о своей могиле, выбирала ее и приготовляла, рядом с могилой мужа, чтобы и в смерти союз их был так же тесен, как в жизни… И порадовался я, что Господь избавил ее и от этих сует…
В той же предсмертной болезни, как я узнал потом, – беседуя однажды в мое отсутствие о презрении к жизни и счастьи смерти, – когда кто-то спросил ее, не страшно ли ей, что тело ее будет покоиться так далеко от родной земли, она отвечала:
– Нет, не страшно. Бог нигде не далеко, и всюду, где бы я ни была. Он найдет меня, в день Суда, чтоб воскресить.
Это были ее последние слова, и на девятый день болезни, на пятьдесят шестом году своей жизни, на тридцать третьем – моей, святая душа ее разрешилась от плотских уз»[208]
Если та страница «Исповеди», об «огненном Крещении», – самая живая, о жизни, то такая же эта живая – о смерти.
L
Может быть, и в смерти, вещий сон жизни для св. Моники исполнился: длинный-длинный, прямой-прямой, как та «деревянная линейка», lignea regula, – в бесконечную даль уходящий солнечный луч; стоя на нем, горько плачет она, все еще по земной привычке, о разлуке с сыном; и видит вдруг идущего к ней по тому же лучу Светлого Юношу, и слышит: «Не плачь, он уже здесь, с тобой». И, оглянувшись, видит, что сын стоит за нею, все на том же луче. И Тот, Светлый, тогда во сне, еще неузнанный – узнанный только теперь наяву, – и сын так друг на друга похожи, как братья-близнецы. И радуется она, что любит Одного в Двух.
LI
После смерти матери Августин возвращается в Рим, где медлит еще целый год возвращением в Африку. Медленность эта, как будто косность, на пути Господнем, происходит, кажется, от двух причин. Первая – та, что смерть матери оказалась для него более тяжким, «сокрушающим кости ударом жезла Господня», чем он сам думал сначала.
Только что закрыл ей глаза, как стоявший тут же пятнадцатилетний сын его, Адеодат, вдруг заплакал, закричал, как маленькие дети плачут с криком. «Детское, что тогда еще было и в моем сердце, хотело так же плакать, кричать, но я подавлял его, и оно затихало», – вспоминает Августин.
– «Если же иногда и побеждало меня, то все же не до слез… И даже тогда, как опускали тело ее в могилу (тут же, в Остийской гавани), я не пролил ни одной слезы».
Но чем меньше плакал, тем больше страдал. «Очень не нравилось мне, что свойственное нашему естеству человеческому все еще имеет надо мной такую власть, и я скорбел о скорби моей, как бы второю скорбью (духовной) о первой (плотской), alio dolore dolebam dolorem».[209]
Дальше, кажется, нельзя идти в самонаблюдении, самоумерщвлении чувства разумом. «Странно! – мог бы он и теперь удивиться, так же как некогда. – Странно! даже в минуты самого жаркого горя я не могу не рассуждать»[210]
Два человека в нем и теперь, как всегда: «лунный» – тот, для кого вся плоть мира, и его собственная, – «из ничего, почти ничто», «есть, как бы не есть», est non est; и «солнечный» – тот, для кого плоть все еще «есть». Борются в нем эти два человека, и оба изнемогают в борьбе, а между ними изнемогает и он.
Это, кажется, одна из двух причин тогдашней «косности» его, а другая, может быть, та, что новые или новым светом освещенные громады мысли, воли и чувства движутся в нем и громоздятся. Самая громадная и тяжкая – все та же вечная мука – вопрос всей жизни его: «Откуда зло?» Здесь уже, в Риме, начинает он книгу «О свободе воли», De libero arbitrio, продолжая в вечном городе Петра и Павла их неоконченный спор о Законе и Свободе.[211] Этою же книгой начинает и главное дело всей второй половины жизни своей – борьбу с еретиками за Церковь.
Ровно через год, в том же месяце июле – августе, из той же Остийской гавани, как бы дождавшись того же корабля, которого не дождался тогда, с матерью, – отплывает он в Африку.
LII
Через Карфаген едет в родной городок Тагаст, откуда, четверть века назад, выехал «маленький язычник Аврелий» и куда вернулся теперь великий служитель Христа, Августин.
Продал клочок земли, наследье отца, роздал нищим все, что имел, и, с помощью друзей, основал тут же, в Тагасте, полусветскую пустыньку, где уходящие, но еще не совсем ушедшие от мира могли жить в братском союзе, подобном первой общине Апостольских дней, «имея все общее и ничего не называя своим»; где и пострига не было, так что всякий, при первом желании, мог уйти, но не уходил никто: так сладостно было здесь, уже на первом рубеже сверкающей пустыни, но все еще на последней опушке тенистых, как бы северных, под африканским небом, дремучих лесов, проводить святую жизнь в тишине, в посте и молитве, в добрых делах и мудрых беседах.[212]
Судя по тому, что сообщает жизнеописатель Августина, Поссидий, о второй такой же общине, основанной Августином, года через три, в Гиппоне Приморском, крайнего умерщвления плоти не было в этих обителях: «мера соблюдалась во всем… середина между обилием и скудостью»; всегда для гостей и немощных – мясо за трапезой; «вся посуда глиняная, каменная или деревянная, а ложки – серебряные». Но женщин, приходивших в обитель, в том числе и родной сестры своей, престарелой игуменьи, Августин не только в те дни, но и потом, уже в глубокой старости, «никогда не принимал наедине», а всегда в чьем-либо присутствии.[213]
В этом сочетании все еще как бы «мирских», почти «языческих», серебряных ложек и уже глубоко монашеского страха «плотской похоти», libido, даже в лице родной сестры-старицы, – в этом сочетании, «Аврелий – Августин», грешный и святой, «солнечный» и «лунный», – весь, как живой.
LIII
Года через три (в 391 г.) умер Адеодат, здесь же, должно быть, в Тагастской обители.
«Хотя и плод греха моего, – вспоминает о нем Августин, – не был он похож на меня ни в чем… Так щедро одарен Тобою, Господи, что, мальчиком лет пятнадцати, превосходил умом многих ученых мужей… Мне иногда бывало страшно от такого ума, почти в ребенке… Скоро Ты, Господи, взял его к Себе, и это ко благу: я уже не боюсь для него искушений ни в юные, ни в зрелые годы».[214]
Вот и все, что вспоминает отец о смерти сына, – да и то мимоходом, вспомнив об его крещении; а о том, как умер и отчего, – ни слова. Тенью вошел в жизнь Августина и тенью исчез «Богоданный» (A-deo-datus, значит: «Данный Богом»),
– отлетел неузнанным Ангелом.
Отнял отец мать у сына и об этом забыл. Сердце свое, «истекавшее кровью», в разлуке с любимою, помнит, а сердце сына, разлученного с матерью, – забыл. «А что, если умер и от этого!» – так и не спросил тогда, вспоминая; но, может быть, когда-нибудь спросит. Память сердца длительнее, чем память ума; ум забыл, а сердце помнит.
Сколько бы «лунный» не побеждал «солнечного», – чья победа будет последней, решит, пока еще неведомый, конец борьбы.
LIV
Умер сын, «плод греха», и «это ко благу моему», – радуется Августин, что руки и сердце у него, наконец, развязаны от последних уз «плоти»: в «духе» может теперь служить Богу.
Кончена жизнь – «житие» начинается. Годы и годы пройдут, – сорок лет, почти без одного события, зримого, внешнего, но с величайшим событием, невидимым, внутренним, – рождением того, что мы называем так узко и плоско «Протестантством», «Реформацией», а на самом деле, чего-то бесконечно большего. Лютер, Кальвин, Паскаль, и мы все, и то, что за нами, до конца времен, – в св. Августине, за эти сорок лет, родилось.
LV
В тот же год, как умер сын, Августин, приехав случайно (это предпоследний «случай» в жизни его; будет еще один, последний), приехав случайно в город Гиппон (Hippo Regius), для обращения такого же, как недавно он сам, ищущего Христа, язычника, так полюбился тамошней пастве, что однажды, в церкви, буйная толпа окружила его, схватила и, по тогдашнему обычаю, повлекла насильно к епископу «с великим криком»: «Посвяти! Посвяти!» И епископ Валерий рукоположил его в священники. «Он же горько плакал», – вспоминает Поссидий.
«Полно, не плачь, скоро будешь и епископом!» – утешал его народ, думая, что плачет он от обиды, что рукоположен только в священники. «Плакал же он потому, что страшился великого бремени священства».[215]
«Нет ничего страшнее духовного сана, все равно большой он или малый, – вспомнит сам Августин. – Только что начал я тогда учиться править ладьей Господней, как принудили меня, еще не умеющего держать весла в руке, – стать у кормила. „Не за то ли, – думал я, – что порицал я ошибки других пловцов… желает посрамить меня Господь?“.. Вот отчего я плакал тогда».[216]
И через пять лет, в 396 г., когда, по смерти Валерия, будет посвящен, так же насильно, в епископы Гиппонские, – опять будет плакать, как маленькие дети плачут от страха. «Я все еще только младенец пред лицом Твоим, Господи, parvulus sum».
– «Но даруй мне, что повелишь, и повели, что хочешь», – с этим он и принял тяжкий дар священства.[217]
LVI
Плакал от страха недаром: тяжким, почти сверх сил человеческих, оказалось для него это бремя.
Столько в те дни было ересей в Церкви, как еще никогда. Стая лютых волков окружает овчий двор Господен: манихеяне, донатисты, пелагиане, ариане, присциллиане и множество других. А пастух, тогда почти единственный, в Африке, – он, Августин.
Восемьдесят восемь ересей – ран зияющих на теле Христовом – Церкви, а врач, почти единственный, – он же, Августин.[218]
Ереси – внутри Церкви, а извне – язычество, все еще и в предсмертных судорогах хватающее Церковь за горло, чтоб задушить. «Быть или не быть христианству?» – на этот вопрос все еще не ответила История; вынудит ответ бесповоротный: «быть», – только Августин.
Сорок лет простоит на сторожевой вышке Церкви, так пристально следя за бесчисленными врагами ее, что все глаза проглядит. «Страж Господен», – наверху, в созерцании, а внизу, в действии, – боец.[219]
Множество малых боев, а великих – три: с манихеями, донатистами и пелагианами. Выйдет из всех трех победителем. Но третий, последний бой будет для него смертельным, хотя и с бессмертным венцом победы – святостью.
LVII
«После Апостолов величайший учитель Церкви – Августин», – скажет в конце средних веков св. Петр Достопочтенный св. Бернарду Клервосскому, а современник Августина, св. Проспер Аквитанский, признáет за его учением «святую власть, апостольскую», и в нем самом «первосвященство верховное».
«Нет, я – только один из многих, unus ex multis», – смиренно ответит ему Августин. – Я не столько желаю быть первым, сколько быть слугою всем».[220]
Два «Апостольских Престола», два «Первосвященника», – в Риме один, а другой в Гиппоне; там Петр, а здесь Павел – Августин: этого не могло быть, по многим причинам; между прочим, и потому, что при одной мысли об этом Августин «заплакал бы от страха», как маленькие дети плачут.
LVIII
Первый великий «схизматик-раскольник», Лютер, за тысячу лет до Реформации, – Донат.
Циркумцеллионы (донатистский толк и боевая дружина) ходят шайками «Божьих разбойников» по большим дорогам Нумидии; целыми полками врываются, как бесноватые, в города и селения, с крутящимися над головами «святыми дубинами» и с боевым кличем: «Господу хвала! Бей, разбивай!» – бьют и разбивают все, что ни встречается им на пути; грабят и жгут православные церкви; мучают и убивают священников, «втирают им в глаза негашеную известь с уксусом».[221]
Злейший враг их – Августин. «Кто его убьет, спасется», – обещают им донатистские пастыри.
Чем же он ответит им на такую ненависть? «Сын мой, приди!» – зовет (еретика) Церковь-Голубка, стеная, veni! te vocat Columba, gemendo», – скажет Августин на языке тогдашней церковной риторики; скажет и просто: «Силой никого нельзя принуждать к вере». – «Все вы, находящиеся в Церкви, не ругайтесь над теми, кто вне Церкви, а молитесь, чтоб они вошли в нее… К Церкви надо приводить… словом и разумом». И еще проще скажет мирским судьям еретиков: «Мы, пастыри, хотим, чтобы вы исправляли их, а не убивали… потому что иначе мы не можем обращаться в ваши суды: лучше нам самим быть убитыми, чем видеть, как вы их убиваете».[222]
Кто это говорит? Все еще «лунный»? Нет, уже «солнечный».
LIX
Только пройдя как бы сквозь строй циркумцеллионских дубин и уже почувствовав в глазах своих «негашеную известь», он поймет, что «голубиный зов» Церкви не всегда слышат разбойники, призовет на дубину меч, и хорошо сделает: душу свою может отдавать пастырь за овец, но не душу паствы – не душу Церкви.
Через много веков умные враги и неумные друзья Августина скажут, что «первый догматик Светлейшей Инквизиции» – он в слишком неосторожном слове своем, родившем такие страшные отзвуки в Римской Церкви:
compelle intrare, принудь войти.[223]Так ли это? Если человек судится последним судом, не по тому, в чем ошибался, а по тому, в чем был прав; не по временному, злому, а по доброму, вечному, то сколько бы ни повторял Августин compelle intrare, не это в нем вечно, а то: «veni, Columba vocat gemendo, приди! – зовет Голубка, стеная».
– «К Церкви надо приводить не силой, а словом и разумом».[224]
«Где дух Господень, там свобода», – этого Павлова слова лучше Августина никто не понял, хотя бы уже потому, что «свобода в Духе» ему самому нужнее, чем кому-либо.
«Да будут к вам (еретики) жестоки те, кто никогда не заблуждался», – говорит он и мог бы прибавить: «как заблуждался я сам». Сколько раз в глубочайших прозрениях своих и даже именно в тех, которые сделают его святым, – будет он скользить по самому краю того, что Церковь называет «ересью»; сколько раз будет казаться и он, так же как Павел, – «вне Церкви» – «против Церкви»!
Нет, от самого Августина слишком пахнет костром Св. Инквизиции, чтобы с легким сердцем мог он зажечь этот костер для других.
Только здесь, в откровении Свободы, – Августин вечный, один из начинателей того, для чего у нас все еще нет имени, потому что имена: «Протестантство», «Реформация», – недостаточны. Августин вечный – одна из вех на пути от Христа Неизвестного, Освободителя, – к ним.
LX
Страшным годом, 410-м, – падением Рима, – вся вторая половина жизни Августина, двадцать лет, разрезана надвое, как черной-черной чертой: десять лет – до черты, десять – за нею; от обращения Августина – до падения Рима, от падения Рима – до смерти Августина.
В первой половине все вращается, как вокруг оси своей, вокруг маленького внутреннего «случая» или «неслучая», в жизни человека, а во второй половине – вокруг внешнего, огромного, тоже «случая», в жизни человечества – падения Рима.
«Глас Божий», услышанный в «детской песенке», – и в немолчных гулах от рушащегося Рима, – тот же Глас: «Возьми – читай!» Взял и прочел, но уже не книгу Павла, Послание к Римлянам, а книгу самого Рима – мира, Всемирную Историю. «Исповедь» – ответ на маленький «случай» в жизни Августина человека, а на этот огромный – в жизни всего человечества, – «Град Божий», Civitas Dei.
«Светоч мира погас, и в одном павшем городе погиб или может погибнуть весь человеческий род», – это чувствует не только св. Иероним, Вифлеемский отшельник, у колыбели христианства, но и весь христианский мир – Рим; чувствует это и каждый обитатель Рима, самый ничтожный, в самом глухом захолустьи римской провинции. «Светоч мира погас», – и гаснет, дымом римского пожара, как солнечным затмением, омраченный, свет дневной у людей в глазах; в самом ярком полдне – вечер: «вечеру мира находящу, – adventante mundi vespera, – как будут начинаться дарственные записи монастырских вкладов на помин души, около 1000 года, когда люди будут снова ждать кончины мира так же, как ждут ее теперь, после падения Рима.[225]
В самых радостных улыбках детей – тайная грусть; в запахе цветов, сладчайшем, – горькая гарь; и в тишине пустынь – немолчные гулы от падения Рима, подобные гулам землетрясения или возвещающей трубе Архангела:
Скоро всему конец!
LXI
Кончился Рим – кончился мир: «умер Великий Пан!» – «Нет, не умер, – отвечают христианам язычники, – не умер, а убит вашим Иисусом Проклятым, как Его же Апостол называет Его: „проклят Висящий на древе“, – Иисусом Проклятым и Проклинающим: „идите от Меня, проклятые, в огнь вечный“, – убит Благословенный и Благословляющий всё!» («Пан» значит: «Всё».)
Слышит Августин эти проклятья язычников.
«Лучше бы уж он о Риме молчал, – говорят обо мне… Но те на Христа клевещут, кто обвиняет Его в падении Рима».[226]
Самое тяжкое, убийственное в страданиях человеческих, личных и общих, всемирно-исторических, может быть, то, что все они как будто бы бессмысленны, потому что бесцельны и случайны. Эту-то главную тяжесть и снимает с них Августин, в «Граде Божием». То же, что в «Исповеди» – о жизни человека, говорит он, и в «Граде», о жизни всего человечества: нет Случая – есть Промысел.
Между двумя Градами, двумя Римами, небесным и земным, христианским и языческим, связь нерасторжима, – вот очевиднейшее для него доказательство того, что нет «случая» в истории. Так же точно, как в жизни человека, рождается, и в жизни всего человечества, из великого зла – страдания, добро величайшее – спасение мира.[227]
Два нерасторжимо связанных и борющихся в человечестве Града – «две души», – это у Августина как будто все еще манихейская мысль. «Все еще ты не покинул манихейского блудилища», – смеются над ним злейшие враги его, пелагиане.[228] Нет, не только он сам уже давно покинул его, но и других остерегает от него так, как никто. Здесь именно, в «Граде Божьем», делает он из манихейского яда – смешения «двух Богов», Бога и диавола в истории, – противоядие от другого, может быть не менее опасного яда, пелагианского и нашего, – слишком легкого и плоского нетрагического понимания Истории как «бес конечного прогресса» – триумфального шествия человечества – в Град Не-Божий.
LXII
«Две любви воздвигли два Града, – учит Августин. – Град Земной воздвигла любовь к себе, даже до презрения к Богу, а Град Небесный – любовь к Богу, даже до презрения к себе».[229]
– «Спутанные, смешанные, в веке сем, perplexae… invicemque permixtae, два эти Града будут разделены только при кончине века, на Страшном Суде», в том, что мы называем «Концом Всемирной Истории».[230]
«Хочешь ли, мы пойдем, выберем их – плевелы? – Нет, чтобы, выбирая плевелы, не выдергать нам и пшеницы. Оставьте же расти вместе и то и другое, до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу Мою» (Мт. 13, 28–30).
Кажется, никто никогда не объяснял так глубоко всемирно-исторического смысла этой притчи, как Августин, в «Граде Божием». Тем-то именно, что это «смешение» двух Градов, двух Жатв, уже здесь, на земле, во времени, в истории, – не диавольская игра «двух Богов» с человечеством, как в учении Манеса, и не ряд бессмысленных «случаев», как в нашей «истории-механике», а Божественная Необходимость – Промысел, – тем-то и ломает Августин острие манихейского жала.
Град Божий есть Церковь, но только отчасти, потому что Церковь еще не соединена с Градом Божиим окончательно, а только смешана с ним. «Град Земной – Град диавола», Civitas terrestris – Civitas diaboli, есть Государство, Римская Империя, по преимуществу, но только отчасти то же, потому что Государство еще не соединено окончательно с «Градом диавола», а только смешано с ним.
Жители Града Небесного «пользуются» и Градом Земным, но не служат ему и не остаются в нем, а только проходят через него. Вечного мира между двумя Градами нет и быть не может; может быть только «перемирие», «соглашение», concordia, до последней между ними борьбы.[231]
Законы «Града Божия», если бы признаны были в Земном Граде, государстве, – утвердили бы его и возвеличили лучше всех законов Нумовых и Брутовых.[232] Это значит, с каждой точки Всемирной Истории может начаться путь к царству Божию; каждый день может приблизить людей к исполнению молитвы Господней:
воля Твоя да будет и на земле, как на небе.
LXIII
Промыслом, а не случаем установлена всемирно-историческая «связь-согласие», concordia, двух Римов, языческого и христианского,[233] – учит Августин. Мир всего мира, нужный для шествия человечества к царству Божию, есть «Римский мир», pax Romana. Хищные орлы легионов открывают путь кроткой Голубке Христовой – Церкви.
Бывший «Царь Иудейский», Rex ludaeorum, Иисус Распятый, – будущий «Император Божественный», Divus Imperator, шествующий в триумфальной колеснице в Град Божий. «Церковь облек оружием власти оный Император веры», – Господь Иисус.[234] Все это очень опасно и, во всяком случае, вовсе не так геометрически ясно, просто и несомненно, как думает иногда Августин; в этом убедились мы, увы, по страшному, но необходимому опыту.
Как бы то ни было, вся душа средних веков, Теократия, – уже в «Граде Божием». Можно сказать, что Августин спас христианскую Европу от смерти: только что старая душа от нее отлетела, он вдохнул в нее новую. «Град Божий» будет любимой книгой Карла Великого, основателя Священной Римской империи.[235] В самой черной ночи варварства путь христианского Запада будет озаряться, как вспыхивающей в тучах зарницей, огненным видением «Града».
«Первым синтезом всемирной истории» – назовет в переводе на наш язык книгу Августина один из свободнейших учителей Церкви, в конце средних веков, предтеча Реформации, Жерсон.[236]
«В некоторых частях своей философии Августин (в „Граде Божием“) ближе к нам, чем Гегель и Шопенгауэр», – скажет ученый XIX века;[237] можно бы прибавить: ближе, чем Нитцше и Бергсон. Это значит, по слову Гарнака, «первый человек наших дней– Августин».
В «Исповеди» – вечный спутник каждого христианина, а в «Граде Божием», – всего христианского человечества. Два великих открытия сделаны здесь Августином, во всяком случае: найдены два величайших новых понятия – Всемирная История и Человечество.
Сказанное впервые голосами всех веков и народов, как бы семью громами Апокалипсиса: «Adveniat regnum tuum, да приидет Царствие Твое», – вот что такое «Град Божий».[238]
Все исполинское зодчество «града» напоминает кристаллической ясностью и стройностью систему Коперника и «Божественную комедию» Данте. Трудно поверить, что это величайшее и стройнейшее из всех когда-либо на земле воздвигнутых зданий (кроме, может быть, «Суммы» Аквината) построено на непрекращающемся землетрясении; что этот Божественный космос зиждется на человеческом хаосе, между двумя нашествиями варваров, – первым на Европу, вторым на Африку – между падением Рима и падением Гиппона, где Августин во время осады и умер, окончив «Град Божий».
LXIV
И еще труднее поверить, что космос этот зиждется не только на внешнем, побеждающем, но и на внутреннем, в самом Августине, побежденном хаосе. «Град Божий» пишется в те самые годы, когда ведется последний смертный бой Августина, – не оконченный и, может быть, нескончаемый спор его с ересиархом Пелагием о существе Зла – начале хаоса: «откуда Зло», от человека или от Бога? В самой возможности такого вопроса для Августина: «не от Бога ли зло?» – уже начало хаоса – ужаса.
«В скорби и горечи несказанной провел он последние дни свои», – вспоминает старый друг и ученик его Поссидий.
Вечный вопрос – мука всей жизни его: «По изволению или попущению Божию, зло? Deo jubente aut sinente malum?» – никогда еще не был поставлен с таким неотразимым ужасом в мире и никогда еще не подымался с такой безответной мукою в человеческом сердце, как в эти дни воплощенного Зла, торжествующего во Всемирной Истории, хаоса – Нашествия варваров.[239]
Чтобы это понять, вспомним то, что не было еще видно тогда, но что нам теперь уже видно отчасти, – родившуюся тогда, в начале V века, растущую непрерывно, в течение пятнадцати веков, во всех маленьких племенных войнах, сравнительно «детских играх» и выросшую, наконец, в начале XX века Всемирную Войну; вспомним, что в тогдашнем первом, маленьком Нашествии варваров внешних – тоже сравнительно «детской игре», – уже родилось то второе, великое «Нашествие варваров» внутренних, которые угрожают нам сейчас.
LXV
«Сделай, Господи, чтобы меня учитель не бил!» – эту неуслышанную молитву десятилетнего мальчика Аврелия вспомнил ли семидесятилетний старец Августин после одной из стольких, должно быть, неуслышанных молитв об отвращении бича Божия уже не от него самого, а от того, что ему было дороже себя, – от Града Божия?
Люди, жалкие зодчие, подобны муравьям, которые вздумали бы строить муравейник на большой дороге, где рано или поздно колесо телеги или ослиное копыто раздавит их кочку; и сызнова начнут ее строить, и снова будет раздавлена, – и так без конца.
На гору вскатывается камень – то, что Августин называет «Градом Божиим», а мы называем «прогрессом», «культурой», «цивилизацией», – и скатывается камень с горы – и опять подымается, и так без конца; жалкий Сизифов труд человечества.
Только что утренняя лужица затянется тонким ледком, – дочеловеческий хаос – человеческим космосом, как происходит новый взрыв хаоса, и рушится все, и опять затягивается лужица ледком; и так без конца.
Кто-то как будто приоткрывает божественный Смысл в человеческой бессмыслице, но для того только, чтобы надругаться тотчас же над Смыслом в еще злейшей бессмыслице, так что кажется иногда: лучше бы уж никакого смысла не было; легче было бы человеку оправдать Бога.
Этого всего не мог, конечно, думать Августин, так как мы думаем сейчас; но очень вероятно, что, думая около этого, он был в той же агонии мысли, как мы сейчас; тем-то он и близок нам – ближе всех Святых в этом, кроме Павла.
Opus imperfectum, «Книга неконченная», против Юлиана Энкланского, ученика Пелагия, – книга Августина, предсмертная.[240] Можно бы сказать, что и вся его жизнь – «неконченная» – бесконечная книга, все об одном и том же. «Что такое зло? quid sit malum?» – с этим вопросом прожил он всю жизнь; с ним и умер, пред лицом Божиим предстал, и там только, может быть, услышал здесь, на земле, невозможный ответ.
LXVI
Кажется, спор с Пелагием и с учеником его, Юлианом, о существе Зла – «первородном грехе» – был для Августина только тем случайным (это в жизни его последний «случай»), легким, но по больному месту роковым ушибом, который бывает иногда началом, но не причиной смерти.
Если бы в религиозном опыте – догмате, более глубоком, чем только исторический опыт, Августин не ответил на вопрос: «Откуда зло?» – то все исполинское зодчество «Града Божия», дело всей жизни его, – рассыпалось бы, как от легчайшего веяния ветра в зимнем лесу рассыпается снежною пылью кристаллическое зодчество инея.
LXVII
Спор Августина с Юлианом и Пелагием войдет в кровь и плоть христианского человечества, в новом – вечном споре Паскаля с «вольнодумцами», libertins, XVII века, уже предтечами Руссо и Вольтера, – в «неконченном», opus imperfectum, и бесконечном споре истинной Революции – Религии с Антирелигией – Революцией мнимой.
В «Изложениях», Expositiones, Пелагия слышится уже «Исповедание Савойского Викария» Руссо, так же как в Августиновой «Исповеди» слышатся уже мысли Паскаля.
Человек у Бога – «не раб, а свободный»: «Богом самим освобожден человек, получив дар свободной воли», – вот уже вся душа «Великой Революции» – «Декларация прав человека», в V веке, и эта, пожалуй, вдохновеннее той, в XVIII веке.[241]
Кто первый «защитник природы», defensor naturae, – Жан-Жак Руссо, автор «Дижонской речи»? Нет, Пелагий. Кто первый сказал: «Естественный человек добр», – автор «Общественного договора»? Нет, все тот же Пелагий. Вместо «первородного греха» в учении Христа, Павла, Августина, Паскаля, – «первородная невинность» в учении Пелагия – Руссо и скольких за ним! «Люди все рождаются такими же невинными, как первый человек в раю». Что же такое «первородный грех», наследие Адама? Только «измышление» Августина-Манеса.[242]
«Всякий грех частен и личен; относится лишь к человеку, а не к человечеству». Всякий человек может сделаться «безгрешным», «святым», сам один, одною «свободою воли». Что же такое Благодать? Только «познание Христа, подражание Христу, в нравственной жизни, в добрых делах».[243]
«Все учение Христа есть учение нравственное, прежде всего», – мог бы сказать Пелагий вместе с Кантом и сколькими другими учителями нравственности!
Если сделать из этого последний вывод, то это значит: жил Христос для всех, а умер и воскрес (если только воскрес) ни для кого, ни для чего. Людям нужен не распятый на кресте Сын Божий, а человек Иисус, до креста, без креста. Этого последнего вывода Пелагий не делает, – не сделает и Кант, но сделать его легко. Мы сделали: все наше «бывшее христианство», обескровленное, «обезвреженное», образумленное от «безумья Креста», и есть не что иное, как сделавшее последний вывод «пелагианство» – «кантианство».
Тесен путь Христа, а путь Пелагия – наш путь – широк; «сверх сил человеческих» тот, а этот как раз по силам; страшен тот, а этот любезен.
«Лучшее во мне то, что я себе не нравлюсь», – говорит с Августином и Паскалем всякий, знающий, что такое зло – «первородный грех», а незнающие говорят, с Руссо и Пелагием: «Лучшее во мне то, что я себе нравлюсь». И это понятно и приятно всем. Мед – у Руссо-Пелагия; у Паскаля-Августина – полынь. Друг «цивилизации», «прогресса», «свободы», «природы» и проч. и проч. – Пелагий, а «гаситель духа», «первый догматик Св. Инквизиции», сам уже «Великий Инквизитор» или просто «выживший из ума старик» – Августин.
Так, для «бывших христиан», но для настоящих и будущих, может быть, и не так.
Знает Августин, за что борется, не только со своим веком, но и с веками грядущими. Хуже «сатанинских глубин» Манеса человеческая плоскость Пелагия; бурный манихейский натиск на христианство извне, может быть, менее опасен, чем Пелагиев тихий подкоп изнутри, тихое внутреннее уничтожение, выветривание истины ложью.
Если бы врачу сказали, что черное чумное пятно – только синяк от ушиба, – завтра заживет, то врач почувствовал бы то же, что Августин, когда ему сказал Пелагий, что первородный грех – ничто».[244]
LXVIII
«Первое место – разуму». – «Вера самой кафолической Церкви не признает никакой власти выше разума». С этим и Августин почти согласился бы. Вот скользкая почва, где ловкий диалектик Юлиан, ученик Пелагия, «подставляет ножку» Августину, чтобы тот сломал себе шею. Но не сломает: есть у него незыблемая точка опоры, – не только догмат о первородном грехе, но и опыт. Тайна зла, во времени, есть какая-то «премирная вина», в вечности, – «первородный грех»: это Августин знает, уже в «Исповеди», за пятнадцать лет до спора с Юлианом и Пелагием.[245]
Врач, смертельно заболевший и с неумолимою точностью наблюдающий за ходом болезни на собственном теле, чтобы сделать открытие, которое может спасти других от той же болезни, – вот кто такой Августин в этом страшном опыте зла.
Чтó, казалось бы, чище, белее души новорожденного младенца? Но и на этой белизне ангельской есть черная чумная точка – «первородный грех».
«Кто напомнит мне грехи младенчества моего?.. Чем я мог грешить тогда? Тем, что уже плакал (от жадности, „похоти чрева“), когда сосал грудь матери, и, если чего-нибудь хотел и мне не давали, – тоже плакал и сердился так, что готов был прибить отца и мать… Видел я однажды сам младенца… который, глядя на своего молочного брата, сосавшего грудь той же кормилицы, бледнел от зависти и ревности… Но если так, – если во грехе зачала меня матерь моя, то когда же, Господи, и где я был невинен?»[246]
Вот какие атомы, «бесконечно малые величины», души человеческой взвешивает Августин, первый из людей, на весах Господних, как химик на точнейшем приборе, чтобы найти «простое химическое тело» Зла – «первородный грех».
LXIX
«Похоть чрева» – у двухмесячного Адама, а у семидесятилетнего – «похоть сладострастия», libido.
«В памяти моей живут и доныне образы того, о чем я говорил так много (о сладострастной похоти): их запечатлела в памяти привычка, и хотя, наяву, они уже бессильны, но все еще во сне влекут меня к наслажденью и даже к согласью на него в действии, точно таком же, как наяву… И так силен их обман в теле моем и в душе, что он соблазняет меня к тому, к чему и сама действительность не могла бы соблазнить».[247]
Это – на пороге старости – святости, а судя по тому, что, переступив и за порог, не смеет он остаться наедине с родной сестрой-монахиней, вся его жизнь, от колыбели до могилы, – «сплошная похоть», libido sine ullo interstitio.
Первый, еще бессознательный опыт Зла – у грудного младенца, а второй, сознательный, – у шестнадцатилетнего мальчика, уже томящегося «похотью», около тех самых дней (совпадение времен не «случайное»), когда он смеется над крещением.[248]
«В городе Тагасте, по соседству с нашим виноградником, росло грушевое дерево, с плодами, не слишком приятными на вид и на вкус». Этот плодовый сад – Рай; это грушевое дерево – Древо познания добра и зла; этот шестнадцатилетний мальчик, Августин, – Адам.
«Помню, однажды, в глухую ночь, мы, шайка негодных мальчишек, продолжив игры наши нарочно до такого позднего времени, отправились в сад к этому дереву, чтобы потихоньку нарвать с него груш (украсть). И, сделав это, унесли их великое множество, но не для лакомства… потому что, едва отведав, бросили их свиньям, а для чего-то иного… Вот сердце мое, Господи, вот сердце мое… пусть скажет оно Тебе, чего искало в этом бескорыстном зле – зле ради зла». – «Гнусно было зло, но я его хотел; я любил себя губить, amavi perire; любил мой грех, – не то, ради чего я грешил, а самый грех. Гнусная душа моя низвергалась с неба Твоего, Господи, во тьму кромешную. Я хотел не чего-либо «стыдного, а самого стыда».[249]
Вот оно, «простое химическое тело» Зла – в чистейшем виде, «Первородный Грех» – восстание человека на Бога, «воля к превратности», perversitas, – «Зло ради зла».
«Ибо душа моя прелюбодействует, fornicatur, когда, отвращаясь от Тебя, Господи, ищет… того, что может найти только в Тебе. Но, как бы далеко ни уходила она от Тебя, – хочет она Тебе уподобиться… потому что некуда ей бежать от Тебя… Что же я тогда любил в воровстве моем?.. чем хотел уподобиться Тебе, хотя бы и превратно? Не тем ли, что мне было сладко преступать закон… и, будучи рабом, – казаться свободным… в темном подобии Всемогущества Божия, tenebrosa omnipotentiae similitudine?»[250]
Кажется, в религиозном опыте всего христианского человечества не будет ничего подобного этому, вплоть до «Демона превратности» Эдгара Поэ и «Записок из подполья» Достоевского.
И кто из людей, от первого человека, Адама, до последнего человека на земле, не узнает себя в этом?
LXX
С этим-то огненным оружием опыта и вступает Августин в борьбу с Пелагием, безопытным, безогненным, и одним прикосновением уничтожает его, испепеляет, как солому.
О, если бы увидели все, что Августин уничтожил Пелагия действительно. Но этого почти никто не увидел тогда и долго еще не увидят все, – может быть, до того дня, когда сказано будет жнецам Господином жатвы:
«Соберите плевелы (солому)… чтобы сжечь, а пшеницу уберите в житницу Мою» (Мт. 13, 30).
Кончен был спор Августина с Пелагием, но с самим собою не кончен, – бесконечен, opus imperfectum.
«В какие извилины мысли, circuitos… впутывает нас твой ответ!» – мог бы теперь сказать Августин самому себе, так же как говорил другому, тридцать лет назад, в споре о том же – о существе Зла. Сколько в самом деле новых «извилин», «лабиринтных ходов» мысли откроется перед ним в этом страшном опыте зла! «Я все искал, искал и не находил исхода».[251]
Здесь-то и начинается трагедия св. Августина, святого человека и грешного человечества, и только с тремя действующими лицами – Богом, Человеком и диаволом. Борется за Бога человек, защищает Бога от диавола. Нет ничего жалостней, чем эта борьба слабого за Сильного, мертвого за Живого, временного за Вечного, но и величественней нет ничего. Были и будут, вероятно, в воле и чувстве поединки и больше, чем этот; но в мысли, кажется, не было и не может быть большего.
LXXI
«Снова я спрашивал, rursum dicebam»… «Снова», – как тридцать, сорок, пятьдесят лет назад, и если бы прожил еще тридцать, сорок, пятьдесят лет, то спрашивал бы «снова» и «снова». В этих-то «вечных возвращениях», «повторениях», – главная мука – безысходность, бесконечность вопроса, как бы предвкушение вечных мук во времени. Каждое из этих бесчисленных «снова» – новый поворот, новая, все в том же Лабиринте, «извилина», circuitus: «я все искал, искал и не было исхода».
«Снова я спрашивал: не всеблаг ли Бог? Как же я могу желать зла и не желать добра?.. Не весь ли я создан Господом моим, сладчайшим; кто же насадил во мне это горькое семя? Если диавол, то откуда и он? Если злая воля сделала его из Ангела диаволом, то откуда она и в нем, создании Всеблагого?» Где же корень Зла? «В изволении или допущении Божием, Deo jubente aut sinente?»[252]
Или «зло не есть бытие, а лишь отрицание бытия», «постепенное лишение, убыль добра»? Если «творить» – значит «вызывать из небытия – из ничего», а зло и есть «небытие», то Бог не мог бы создать мира из ничего без зла?».[253] Не этим ли Бог и оправдан? Нет, еще не оправдан: если чего-то «не мог», то не всемогущ. Это во-первых, а во-вторых: не лучше ли было бы не создавать мира вовсе, чем создавать его таким, как этот мир, «лежащий во зле»? И, наконец, в-третьих: зло, хотя бы и «несущее», есть причина всех страданий, – всех смертей, не только всей твари, но и самого Сына Божия, Несотворенного. Можно ли ответить на кровавый пот Гефсимании, на стук молотка по крестным гвоздям: «этого нет; это из ничего почти ничто; это есть, как бы не есть, est non est?».
«Ясно для веры – темно для ума», – заключает Августин.[254] Нет, наоборот: для ума ясно – для веры темно.
LXXII
И кружится-кружится, путается «снова», в лабиринтных «извилинах» мысли, как сорок лет назад, когда боролся еще с манихейскою ложью.
Тот же Лабиринт, как тогда, но теперь как бы уже в мире ином. Стены того сплочены были из черной тьмы кромешной, а стены этого – из света ярчайшего, как бы из облачно-белой, невидимым солнцем пронизанной, мглы; но хуже той, черной, слепит эта белая тьма. Тогда заблудился во лжи, а теперь – в Истине, или во многих противоречивых истинах. В нищенских лохмотьях был тогда, как тот, встреченный на глухой улочке, «пьяный бродяга», а теперь – в святительских ризах. Шел тогда с пустыми руками, а теперь несет такое сокровище, которого весь мир не стоит, – чашу с Телом и Кровью: что, если споткнется в слепой белой тьме и Чашу уронит?
Да, много различий с тем, что было тогда, но есть и сходства: так же и теперь один, или еще больше; так же от людей далек, или еще дальше, – как мертвый от живых; так же страшно ему, или еще страшнее, потому что не знает – не хочет, не смеет узнать, где Лабиринт, – в глубине ли преисподней или в Небе небес, в Славе-Сиянии Неизреченном, где противоположно-согласные Истины – Лики Единого в Трех, как молнийные светы, встречаются. Сердце Божие блаженствует в них, а сердце человеческое раздирается ими, как противоречиями лжи.
Бог всемогущ: «Авва Отче! все возможно Тебе». Бог всеблаг: «чашу сию пронеси мимо Меня». Но вот, не пронес. Почему? Потому ли, что всеблаг, но не всемогущ, или потому, что всемогущ, но не всеблаг? Истина против Истины – стена против стены одного «лабиринтного хода».
Сущее Зло, изначальное, – диавол Манеса, «Противобог»; зло «не суще» – «первородная невинность» Пелагия: ни Грехопадения, ни Искупления: «Христос напрасно умер». Истина опять против Истины – стена против стены.
И так – без конца.
LXXIII
Главная точка пересечения всех молнийных светов – противоположных Истин, – главное, в сердце Августина, жало всех мук, – опыт-догмат о Промысле.
«Это мне сам Бог открыл», – скажет он в книге о «Предопределении Святых», в самый канун смерти, вспоминая, должно быть, всю свою жизнь и делая последний вывод из всего, что было в жизни: нет Случая – есть Промысел.[255]
Тайна Предопределения – Промысла связана для Августина так же неразрывно, как для Павла, с тайной Первородного греха, губящего, и Благодати спасающей: «Все согрешили (погибли)… получая оправдание (спасение) даром, gratis, по Благодати, gratia, искуплением Иисуса Христа» (Рим. 3, 23–24).
Этот опыт Павла, «Свет, озаривший его на пути в Дамаск», есть и опыт Августина: «Свет пролился в сердце мое, и мрак озарился», после «гласа Божия», услышанного в «детской песенке».
Но, чтобы увидеть всю белизну Света, спасающую силу Благодати – Жизни, надо увидеть и всю черноту Мрака, губящую силу Грехопадения – Смерти.
«Смертью заражена вся толща, всё тесто (massa, по слову Павла), вся громада человечества; ядом первородного греха отравлена вся». – «Весь человеческий род – одно сплошное тесто смерти… сплошная толща проклятия… глыба, громада погибели, massa mortalium, massa damnata, massa perditionis, – повторяет он ненасытимо как будто, а на самом деле, может быть, с тайным ужасом, – одна громада погибели, осужденная праведным судом Божьим». Есть у человека свободная воля: он может хотеть, но делать то, чего хочет, не может, вследствие первородного греха (воли к «злу ради зла», как у того шестнадцатилетнего Августина-Адама, воровавшего плоды в Тагастском раю). Только Благодать спасет человека от этого жалкого «рабства в свободе». – «Малым будет число спасшихся, по сравнению с числом погибших». – «Но если бы даже никто не спасся, то люди и тогда не могли бы обвинить Бога в несправедливости». Ибо никто не спасается иначе, как «по незаслуженному (как бы несправедливому), до создания мира предопределенному дару». – «Милует Бог, кого хочет, а кого хочет, ожесточает» (опять слово Павла), «действуя в этом по непостижимой для нас и с нашим человеческим судом несоизмеримой справедливости.[256]
Вот где главное место борьбы человека с диаволом за Бога – точка пересечения всех молнийных светов – «противоположных истин» в Боге; здесь же и вонзающееся в сердце человека жало противоречия: всех спасти мог бы Всемогущий, – Всеблагой должен был бы спасти всех; почему же спасает лишь избранных, немногих? Вот вопрос, на который надо человеку ответить, чтобы оправдать Бога во зле.
Как же отвечает на него Августин?
LXXIV
«Если бы меня спросили: „Почему Бог, дав некоторым людям волю к праведной жизни, не дал им нужного для нее постоянства perseverantia?“ – то я ответил бы: не знаю, nescio». – «И если бы еще спросили меня: „Почему один из одинаково верующих получает дар Благодати, а другой не получает?“ или: „Почему (в Предопределении) гнев Божий равен милосердию Божию?“ – то и в этом всем для меня суды Божии неведомы». – «Бездны их пытай, кто может, но страшись». – «Мы только знаем, что они есть, а по каким законам действуют, не знаем».[257] – «Бог справедлив даже тогда, когда… человек не мог бы сделать без несправедливости того, что делает Бог».[258]
Дальше, кажется, нельзя человеку идти: всею правдой своей и неправдой, разумом всем и безумием – защищает он как бы всем телом своим, покрывает Бога от диавола.
И все же остается голое место в Боге, – незаглушимый в сердце человека вопрос: «Зачем созданы те, о которых Бог знал несомненно, что они согрешат и погибнут? Пусть даже не создавал он греха; но кто же, как не Он, создал этих грешных и осужденных Им заранее людей?» Только один ответ и на это: «Не знаю», nescio.[259]
Бьется муха о стекло, может быть, приоткрытого окна, но, где приоткрыто, не знает.
«Всю правоту Божьих судов мы узнáем только на последнем Страшном Суде; тогда узнáем и то, почему угодно было Богу, чтобы столько праведных судов Его, – можно бы даже сказать, все они, – оставались для нас тайною». Эта-то вечная «тайна» и есть то стекло, о которое бьется мысль Августина, как муха.[260]
«Надо уметь останавливаться», – учит он других, но сам до последнего вздоха не остановится.[261] Так же в этом «прямолинеен», как мать его, св. Моника. Сложен-сложен, «извилист» и вдруг в какой-то одной крайней точке ужасающе прост, прям.
Крайняя точка – догмат о «вечных муках детей».
LXXV
Если все человечество, «тесто погибели», заражено первородным грехом, то и в лице новорожденного младенца мы узнаем «павшего Адама». Вот почему все «умирающие без крещения младенцы, parvuli, не участвуя в Искуплении через Второго Адама, Христа, осуждены на вечные муки в аду».[262]
Сначала предполагал он для них какое-то «среднее место», medietas; но потом решил, что между адом и раем ничего не может быть среднего, а так как некрещеные младенцы исключены из рая, то должны быть в аду. «Муки их, хотя и легчайшие, mitissima, все же велики и вечны». – «Ибо если не исторгнут младенец из ада (крещением), то что же ты дивишься, что он горит в вечном огне с диаволом?»[263]
Надо только «со свежей головой проснуться», опомниться, чтобы вдруг почувствовать, какой тихий, как бы сонный ужас в этом тихом, как бы сонном: «Что же ты дивишься? quod mireris?»
«Да не смеет же никто шептать вам на ухо иного учения, ибо это всегда было в Церкви… это мы и от Отцов приняли; это и останется на веки веков».[264]
Слушая такую проповедь, что должны были чувствовать матери некрещеных и даже крещеных младенцев? Если не сам Августин, то кто-нибудь из слушателей мог вспомнить о младенцах, приносимых некогда в жертву Молоху Ваал-Гамману Карфагенскому: те же вопли детей – в раскаленном чреве Молоха и в вечных муках ада.
LXXVI
Как бы смрадом жженого детского мяса запахло в мире снова, и ужаснулся мир. Восемнадцать Италийских епископов отказались подписаться под церковным осуждением Пелагия, «защитника естества», defensor naturae, заступника некрещеных младенцев от Августина.[265]
Ропщут на него люди, и его же собственное сердце ропщет. «О, верьте мне, братья, когда я думаю не только о вечных, но и о временных муках детей, то смущаюсь и не знаю, что сказать».[266] – «Не знаю, nescio», – один ответ на все.[267] Если бы довести до конца это «смущение», не получилось ли бы то возмущение – бунт, который подымется, через тысячу лет, в сердце ученика Августинова, Лютера: «Когда я даю волю этим мыслям (о Предопределении), то, забывая все – Христа и Бога, – дохожу, наконец, до того, что Бог кажется мне ненавистным, и хвала моя становится хулою».[268]
Более, чем вероятно, что до такого бунта не доходил Августин; но так же вероятно, что бывали у него такие минуты, когда, распятый на кресте мысли, он готов был возопить: «Боже мой! Боже мой! для чего Ты меня оставил?» То же мог бы он сказать и теперь, в конце жизни, что говорил в начале: «О, какие это были муки моего рождающего сердца, какие вопли, Боже мой! Этого никто не знает, кроме Тебя одного!»[269] Муки ли это рождающего сердца или умирающего – мы не знаем; он, может быть, и сам не знает.
Бедный, бедный! скорбный – Блаженный, грешный – Святой! Люди не знают и никогда не узнают, что значит «венец святости», – каким раскаленным добела, железным обручем сжимает он голову святых.
LXXVII
Спором Августина с Пелагием о существе зла потрясен был весь христианский Запад. Чтó скажет Церковь, – ждали все, но не дождались: Церковь молчала или, хуже того, говорила надвое.
Папа Иннокентий I отлучил Пелагия, а папа Зосима оправдал его, но после Карфагенского собора (418 г.) снова отлучил, признав и «вечные муки некрещеных детей».[270]
«Roma locuta est, causa finita, Римом сказано – дело кончено», – радуется Августин в знаменитом изречении, вошедшем в язык Римской Церкви.[271] Но радость его оказалась преждевременной: дело было не кончено и даже не начато.
«Слишком трудных и глубоких вопросов… лучше не касаться вовсе, дабы не давать повода к новым ересям… Ибо мы полагаем достаточным… установленного Церковью раз навсегда», – скажут Римские Капитулы, писанные, вероятно, будущим папою, св. Львом. К этим «слишком трудным и глубоким вопросам», о которых Церковь решает молчать, относится и догмат Августина-Павла о Предопределении, Praedestinato.[272] Это и значит: ничего не сказано – все умолчано Церковью.
Но ровно через тысячу лет по смерти Августина (530 г.), будет сказано Лютером, учеником Августина, в «Аугсбургском Исповедании» (1530 г.): «Мы не толкуем Павла по-новому (против истинно вселенской, кафолической Церкви), что легко доказать… на основании книги Августина „О букве и духе, De littera et spiritu“.[273]
И в лице Лютера будет отлучен Римскою Церковью (о, конечно, невольно, нечаянно!) св. Августин.
Если бы он только знал, какой будет у него ученик – вылупившийся вдруг из яйца голубиного, змей – монах Августинец, Лютер, то как бы он удивился, ужаснулся: «Откуда это чудовище, – unde hoc monstrum?» Мы теперь знаем откуда: из движения Духа в веках и народах, от Иисуса, через Павла-Августина, к нам.
LXXVIII
Больше хотеть быть в Церкви нельзя, чем хотел в ней быть Августин. «Я не поверил бы и самому Евангелию (значит, и самому Христу), если бы меня не побуждала к тому власть (Римской) Церкви».[274]
Павел хотел «быть отлученным от Христа за братьев своих, Израильтян» (Рим. 9, 3), а св. Августин – за братьев своих в Римской Церкви. «Слишком любил» он ее, «перелюбил», hyperegápasen, по чудно-глубокому слову Варнавы о любви Человека Иисуса к Израилю.[275]
И вот все-таки если провел Августин «последние дни жизни своей в несказанной скорби и горечи», то, может быть, потому, что в главной и вечной муке всей жизни своей – в тайне Зла, – так же как Павел, в тайне Свободы, – покинут был Церковью. Оба они, каждый в своем, – страшно сказать, – как будто вне Церкви и даже против Церкви.
Но знает, может быть, св. Августин теперь, в вечности, то, чего еще не знал тогда, во времени, – что и в этой последней муке его, так же как во всех остальных, совершалась над ним божественная тайна Промысла: вышел из Церкви Западной, Римской, бывшей, чтобы войти в будущую, Вселенскую Церковь.
Павел вошел в нее первый; второй – Августин.
LXXIX
Мудрый совет Лютера: «Надо умереть для разума, чтоб это (Предопределение) постигнуть» – не пошел бы впрок Августину.[276] «Я мог бы скорее усомниться в том, что есмь, нежели в том, что истина (Бог) постигаема разумом»; «разум крепко люби»; «это мне сам Бог открыл», – мог бы возразить Августин Лютеру.
Только в «восхищении», «экстазе», может человек свято «умереть для разума». Но Августину Бог не дал экстаза, и, не давая, знал, что делает: надо ему было дострадать, долюбить, додумать Христа до конца; в мысли надо было «сораспяться Христу», как никто этого не делал после Павла, и до Паскаля никто не сделает.
LXXX
«Нужно, конечно, креститься, чтобы спастись. Но, связывая людей законом, Бог ничем не связан: есть у Него особые, неведомые пути (спасения). А маленьких детей Он любит, и все Его мысли о них – любовь; слышит Он и молитвы и воздыхания матерей», – скажет Лютер, в «Утешении матерей скорбящих», о некрещеных младенцах.[277]
Если и глупые дети, и грешные люди больше, чем верят, – знают сейчас, что это действительно так и что вечные муки детей невозможны, то, может быть, потому, что старый, мудрый, святой Августин этого не знал и, не зная, прошел весь крестный путь мысли до конца – дострадал, долюбил, додумал Христа до конца: только так и могло совершиться движение Духа во времени, ибо даже в таком человечестве, каким оно было за две тысячи лет христианства, и даже в таком, каково оно сейчас, —
«Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит» (Ио. 3, 8).
Вот радость наша, которой «никто не отнимет у нас».
LXXXI
Бог будет все во всем, Theos panta en pasin,«во всем» – во всех (I Кор. 15, 28): все спасутся, – этот несомненнейший, хотя и отвергнутый Церковью опыт-догмат Павла-Оригена о «Восстановлении всего», apokatástasis, приняли такие великие святые, как Григорий Нисский и Амвросий Медиоланский. Почему же св. Августин не принял его? Потому ли, что менее свят? Нет, но потому, что свят иначе: только для себя одного принять, как приняли те, – не хочет, не может, не должен; потому что в одной из величайших мук человеческих – мысли, – сказал тогда и теперь все еще говорит людям так, как никто из святых, кроме Павла:
Братья мои, я не хочу спастись без вас.[278]LXXXII
«Наше спасение остается до конца жизни неверным, потому что можно говорить о постоянстве до конца, perseverantia usque ad finem, только в том случае, если конец уже наступил, а до того, – не получившему такого дара, чтобы претерпеть до конца, – все, что он имеет, не послужит ни к чему», – скажет Августин, – только ли о других или также о себе? «Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь, territus, terreo».[279]
«Тайный ужас внушала ему вся его музыка», – скажет кто-то об умирающем Бетховене.[280] Можно бы сказать то же об Августине: в сущности, все его последние мысли – уже не «мысли», а «музыка» оного дня, Dies illae, dies irae.
Если и праведник едва спасется, то нечестивый… где будет? (I Птр. 4, 18).
Люди, прирожденные «пелагиане», – так страшно-бесстрашны, безумно-беспечны, что ужас этот для них, может быть, спасителен.
«Я ужасаю других, потому что сам ужасаюсь». Ужас двойной – двойная пытка: то разовьется вдруг весь «лабиринт» в одну «прямую линию», – тогда он идет по ней, «ужасая других»; то прямая линия совьется вдруг опять в лабиринт, – тогда идет внутри его, «сам ужасаясь». Чаша с Дарами – в руках его, а на голове – раскаленная докрасна железная, у самого «Инквизитора», «инквизиционная» митра епископа или сжимающий голову, раскаленный добела железный обруч – венец святости. Некогда «Любезный», а теперь «Ужасный».
Все идет, да идет, и главная мука его – усталость бесконечная. «Я очень устал… Боже мой, единственная надежда моя, услышь меня, не дай мне изнемочь… от усталости и отчаяния!»[281]
Подожди немного: Отдохнешь и ты. Warte nur: balde Ruhest du auch.Кажется, уже тишина последнего отдыха сходит на него в этой простейшей и тишайшей молитве:
Бог мой, Единый и Троичный! чтó в этой книге – Твое, да примут Твои, а чтó мое, прости мне Ты, и да простят мне Твои.[282]
Этой молитвой кончает он Книгу о Троице; ею же мог бы кончить и всю свою жизнь; мог бы сказать и с продолжателем своим, тоже на «кресте мысли» распятым, св. Фомой Аквинским:
только из любви к Тебе, Спаситель мой, я учился и учил всю жизнь.[283]
LXXXIII
«Куда править велишь?» – спрашивает кормчий Гензериха, вождя Готов, Аланов и Вандалов, «белокурого Зверя». – «Туда, где нужен бич Божий!» – отвечает тот.[284]
В Африке нужен бич Божий, чтобы ответить на вопрос Августина, не услышанный Церковью: «Град Божий или град диавола?»
Тотчас после взятия Рима в 410 году Аларих пошел на юг для завоевания Африки, но, не дойдя, умер в Калабрии. Страшное дело его продолжал Гензерих. Варварские полчища двигались, как грозовые тучи, медленно, потому что на пути их было слишком много добычи и потому что переселялись с ними целые народы: подземные слои человечества сдвинулись и поползли.
Только к 421 году дошли наконец варвары до юга Испании, где остановились, еще на восемь лет, опустошая страну и выжидая удобного случая, чтобы переправиться в Африку. Случай представился в 429 году, когда комес Бонифаций, проконсул Африки, восстав на императрицу Плакидию и заключив союз с Гензерихом, призвал его к себе, на помощь против теснивших его, императорских войск. Варвары, переправившись через Гибралтарский пролив, начали опустошать цветущие области северной Африки, с такой никогда ни в каких войнах не виданной жестокостью, что Бонифаций понял, что заключил союз с дьяволом, испугался, покаялся, помирился с Римом и пошел войной на варваров, но был ими разбит и бежал.
Восемьдесят тысяч полузверей, полудьяволов кинулись на беззащитную страну, с новою яростью мщения за измену «союзника». Грабили, жгли, убивали, разрушали бессмысленно; целые города и селенья сносили с лица земли; жгли посевы и житницы, вырубали плодовые сады и виноградники; резали скот, заваливали трупами колодцы. Знали, что сами себя обрекают на голод и жажду, но не могли удержаться: так сладостен был им восторг разрушения. Точно вдруг обнажившийся от всех покровов диавол в человеке радовался: «Вот я какой!»
Это была не война, не нашествие, а то, чего за память человечества не было: выше, все выше, как воды потопа, бушующий и все затопляющий хаос; вышедший вдруг из преисподней и на земле воцарившийся Ад. Дело, казалось, шло теперь уже не о том, «быть или не быть христианству», а о том, быть или не быть человечеству.
Зло являлось людям так, как еще никогда, – в чистейшем виде, – «Зло для зла» – то самое, до чудовищных размеров увеличенное, что так ужасало Августина: лик Творца, искаженный в твари, как в дьявольском зеркале, – «тайное в человеке, подобие Всемогущества Божия», – Первородный Грех.
«Царство диавола или царство Божие? Civitas Dei aut civitas diaboli?» – на этот вопрос Августина, не услышанный Церковью, ответил мир: «Царство Диавола».
LXXXIV
Только три города оставались еще во власти римлян: Карфаген, Цитра и Гиппон, куда бежал Бонифаций с остатками разбитого войска и где думал отсидеться от варваров, прошедших всю Мавританию, вступивших в Нумидию и осадивших Гиппон, в июне 429 года.[285]
В эти дни шел Августину семьдесят шестой год. Несмотря на частые немощи плоти и великие страдания духа, он «сохранял еще всю бодрость тела, и чуткий слух, и ясное зрение». – «Слово Божие проповедывал пастве, с прежнею силою, спокойствием и мужеством», – вспоминает Поссидий. В общем бедствии всех утешал и укреплял надеждой: «Варвар не отнимет того, что стережет Христос».[286]
Многие готы и вандалы были арианами: эти звери или диаволы в человеческом образе считали себя тоже «христианами». Лютые враги кафоликов, разрушали они церкви их, с изуверскою яростью, ругаясь над святынею, кидали Причастие псам, убивали пастырей и пытали их страшными пытками, чтобы узнать, не спрятаны ли ими в тайниках церковные сокровища; старцев-епископов употребляли в походах, как вьючный скот, принуждая их влачить поклажу на спинах, вместе с мулами и верблюдами, а когда от изнеможения падали они, кололи их копьями, чтобы поднять; многие из них умирали, и непогребенные тела их валялись по большим дорогам, среди скотской падали.[287]
Пастыри уцелевших епархий, когда доходили до них слухи об этих ужасах, спрашивали Августина, «можно ли им бежать от варваров?». – «Можно, – отвечал он, – но только в том случае, если пастырь остается один, без паствы, или когда есть кем его заменить; а иначе нельзя, ибо только наемник, видя приходящего волка, бежит; пастырь же добрый полагает жизнь свою за овец.[288]
Так учил он других, так делал и сам.
LXXXV
Видя, как все страдают, страдал больше всех, «потому что видел в биче Божьем то, чего другие не видели, – не только временную гибель человеческих тел, неизбежную, но и возможную вечную гибель человеческих душ», – верно, должно быть, угадывает Поссидий, сорокалетний друг и ученик, его то, что происходило в душе Августина в эти страшные дни. Больше всех страдал, потому что был мудрее всех, а «во многой мудрости много печали, и кто умножает познание, умножает скорбь». Вот почему «слезы были для него хлебом день и ночь».[289] «Горечь и скорбь несказанные» были в душе его, под наружным спокойствием. Только одного хотел он, – закрыть глаза навеки, чтобы не видеть торжествующего в мире зла; оглохнуть навеки, чтобы не слышать, как повторяется в сердце его, с каждым биением, все тот же, все тот же, все тот же немолчный вопрос: «По изволению или по попущению Божию зло? Deo jubente aut sinente?» Всеблаг, но не всемогущ или всемогущ, но не всеблаг?
Многие епископы из опустошенных областей собрались тогда в Гиппоне. «Часто, беседуя о поразившем нас биче Божием, – вспоминает Поссидий, – плакали мы вместе и говорили: „Праведен Ты, Господи, и праведны суды Твои!“[290]
То же почти говорили ученики Августина, что говорил он сам: «Бог справедлив даже тогда, когда делает то, чего не мог бы сделать человек, без несправедливости». Но если бы теперь кто-нибудь напомнил ему эти слова его и спросил: «Думаешь ли ты и теперь так же?» – что бы он ответил?
LXXXVI
«Сидя однажды за трапезой, – продолжает вспоминать Поссидий, – мы беседовали» (все, должно быть, о том же, – о «праведном биче Божием»). И он сказал нам так: «Слушай те, отцы и братия! Вот о чем я молюсь в эти дни скорби: да избавит Господь город наш от осаждающих варваров; или да подаст нам силу претерпеть до конца; или да возьмет душу мою к Себе!»
Первого из этих трех прошений Господь не исполнил: города не спас; второе – исполнил отчасти: «избранным» своим, «предопределенным», дал силу претерпеть до конца; и только третье – исполнил совсем: взял душу Святого своего к Себе.
«Вскоре он тяжело заболел и слег».[291] Это было на третий месяц осады, в начале августа, в самые огненные дни африканского лета. Заболел, должно быть, гнилой горячкой (febris, «лихорадкой» называли все такие болезни), в зачумленном воздухе осажденного города.
Знал, что умирает, но для друзей лечился. В первые дни болезни принимал всех. Однажды пришел к нему человек с больным сыном и просил исцелить его, возложив на него руки. «Если бы я мог это сделать, то начал бы с себя самого», – ответил Августин. А может быть, и не начал бы? Руки, однако, возложил, и больной исцелился.[292] Но очень вероятно, что св. Августин умер все-таки с убеждением, что «чудес» не делает.
Всех утешал и укреплял до конца. «Только за десять дней до кончины просил оставить его одного и даже ближайшим друзьям своим не велел входить к нему в келью. Все эти дни читал покаянные псалмы и плакал».
Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: «где Бог твой?» (Пс. 41, 4).
Никакого завещанья не оставил, потому что ничего не имел, нищим был во Христе; только любимые книги и рукописи просил отдать преемнику своему на хранение.
«28 августа 430 года, на десятый день болезни, когда начал уже отходить, – вспоминает Поссидий, – мы собрались к нему все и молились, и он – с нами; и так, молясь, отошел».[293]
Умер, точно уснул.
LXXXVII
Тихое надгробное пение над почившим Святым заглушалось иногда звериным воем осаждавших город варваров.[294]
Светоч мира потух, и сделалось в мире темно, как в комнате, где вдруг потушили свечу. Наступила та черная-черная ночь, которой суждено было продлиться пять веков, – кромешная тьма Варварства.
Тьма была в мире, но те, кто смотрели на лицо Святого в гробу, видели Свет.
Если верно, что почти всегда лица умерших в первые минуты или часы после смерти, как бы в мгновенном преображении или искажении, выражают глубочайший и самому человеку иногда неведомый, злой или добрый, ужасный или радостный, смысл того, чем жил человек, то лицо Августина в гробу выражало неутолимо-страдавшую и наконец успокоенную, ненасытимо-алкавшую и наконец нашедшую Бога человеческую Мысль.
Было у него такое лицо, как у человека, который, спросив о великой скорби, услышал ответ о величайшей Радости.
Тот же Свет был в этом лице, что озарил лицо Павла на пути в Дамаск и лицо самого Августина, над книгою Павла, в миланском саду:
Свет пролился в сердце мое, и озарилась тьма.
Luce infusa cordi meo, tenebrae diffugerunt.
Тот же Свет – что в первый день творения, когда Бог сказал:
Да будет Свет. – И был Свет, и увидел Бог, что Свет хорош.
Свет, о котором сказано:
Свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
LXXXVIII
«В Церкви будет он всегда жив» – это знает Поссидий.[295]
Жив будет всегда, не только в Церкви, но и в миру, – это мы знаем, потому что именно в наши дни, как, может быть, никогда, именно таким, как мы, погибающим, – св. Августин говорит:
Братья мои, я не хочу спастись без вас!
Примечания
1
Первое, об Иисусе, письменное свидетельство, лет на 20 раньше евангельских, – Павлово: I Фессал. – от 50 года, а древнейшее Евангелие, Марка, – от 70-х годов
(обратно)2
Eduard Meyer. Ursprung und Anfänge des Christentums. {1–6 Aufl.}. Stuttgart und Berlin: J. G. Gotta, 1921–1926. Bd. III. 1923. S. 308. – Johannes Weiss. Die Schriften des Neuen Testaments, neu übersetzt und für die Gegenwart erklärt von Otto Baumgarten, Wilhelm Bousset. In 1. und 2. Aufl. hrsg. von Johannes Weiss, in 3. Auffl. hrsg. von Wilhelm Bousset und Wilhelm Heitmüller Gottingen: Vandenhoek & Ruprecht, 1917–1918. Bd. III. 1918. S 48.
(обратно)3
Meyer. III. 308.
(обратно)4
Strabo. XIV. 5. 8. – Weiss. III. 48.
(обратно)5
D. Adolf Jülicher. Einleitung in das Neue Testament von D. Adolf Jülicher. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1906. S. 24. – Ernest Renan. Les Apôtres. Paris: Calman Levy, {1923}. P. 163.
(обратно)6
Euseb. Praepar. evang. XIII. 12. – Constant Toussaint. L'Héllénisme et 1'Apôtre Paul. Paris: É. Nourry, 1921. P. 79.
(обратно)7
Toussaint. 230.
(обратно)8
«Словом Твоим (Логосом) все Сотворивший» – Прем. Сол. 9, 1.
(обратно)9
Toussaint. 230.
(обратно)10
Точно такие же ткацкие станки, для изготовления шатров, можно видеть и в нынешнем Тарсе, как во времена Павла. – Émile Baumann. Saint Paul. Paris: В. Grasset, 1925. P. 54–55.
(обратно)11
Празднество это, изображенное на дошедших до нас монетах Римской империи, описано Дионом Хризостомом. – Sir James George Frazer. The golden bough; a study in magic and religion. London and New York: Macmillan and C°, 1900–1915. V. 1. P. 128. – Toussaint. 323–324.
(обратно)12
В Тарсе, Дамаске и Антиохии юноша Савл мог видеть мистерии всех этих богов, или, по крайней мере, слышать о них. То же слово «мистерия, mysterion», как у посвященных в те языческие таинства, будет и у ап. Павла, для христианских таинств, потому что не было и, по существу дела, не могло быть тогда иного слова, так же как и сейчас его нет и не может быть, ибо дело мистерий есть дело всего человечества, от начала до конца времен; все языческие таинства – только тень христианских: «это есть тень будущего, а тело – во Христе», – мог бы сказать и о них Павел, «Апостол язычников», так же как говорит о пророках Израиля (Кол. 9, 17).
(обратно)13
Johannes Weiss. Paulus und Jesus. Berlin, 1909. S. 21.
(обратно)14
«Павел, вероятно, отвечает здесь, II Кор. 5, 16, противникам своим из иудео-христиан, которые хвалятся, что они-то, в противоположность ему, „Христа и по плоти“ действительно знают. Weiss. 23, 28.
(обратно)15
Johannes Weiss. Jesus von Nazareth: Mythus oder Geschichte? Tübingen: Mohr, 1910. S. 107–108. – Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. Брюссель, 1932. Т. I. С. 27. – В кодексе D. Copt, aet., II Кор. 5, 16: egnókamen Christón katà sárka, мы знали Христа по плоти. – Weiss. Paulus und Jesus. 24, 21–23.
(обратно)16
Weiss. 28. Весь трагический смысл этого «неузнанного по плоти, Христа» не только для Савла, но и для Павла, в его самоотлучении «от братьев, тоже по плоти, – Израильтян» (Рим. 9, 3), слишком очевиден, чтобы можно было так просто и легко решать, как это делают почти все критики, в том числе и церковные апологеты, – что Павел действительно «Христа по плоти не знал». Weiss. 25.
(обратно)17
«Павел был несомненно свидетелем Страстей Господних». – Weiss. 29.
(обратно)18
Renan. Les Apótres. 177–179.
(обратно)19
По убедительно точной хронологии Гарнака, одного из глубочайших знатоков первохристианства. – Adolf Harnack. Cronologische Berechnung des «Tags von Damaskus» (In Koeniglich-preussische Akademie der Wissenschaften, Berlin. Sitzungsberichte. Jahrgang 1912, Halbband 2. S. 673–682. Berlin, 1912). S. 673. – Adolf Harnack. Die Chronologie der altchristlichen Litteratur bis Eusebius. 1. Bd. Die Chronologie der Litteratur bis Irenaüs. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1897. S. 233.
(обратно)20
Weiss. Paulus und Jesus. 30.
(обратно)21
Acta Pauli et Theclae. III. – Edgar Hennecke. Neutestamentliche Apokryphen, in verbindung mit fachgelehrten in deutscher Uebersetzung und mit Einleitungen hrsg. von Edgar Hennecke. Tübingen: J. С. В. Mohr, 1924. Bd. I. S. 198.
(обратно)22
Meyer. III. 314. – Dio Chrisostomus.
(обратно)23
Pseudo-Lucian. Philopatr. XII.
(обратно)24
Nietsche. «Der kleine Jude».
(обратно)25
Renan. Les Apôtres. 180.
(обратно)26
Weiss. Schriften des N. T. II. 51. – Jülicher. Einleitung in das N. T. 27.
(обратно)27
William Wrede. Paulus. Tübingen: J. С. В. Mohr (P. Siebeck), 1907. S. 30–31.
(обратно)28
Baumann. Saint Paul. 54–55.
(обратно)29
«Иагве-Иакх», как сам Плутарх (Symposion) толкует созвучие этих двух имен, – один из этих «страдающих богов». Он же – «Адонай – Адонис» Ханаанский, а может быть, и до-Ханаанский, Крито-Эгейский. – Д. Мережковский. Тайна Запада. Адонис. – Toussaint. L'Héllénism et L'Apôtre Paul. 170, 183.
(обратно)30
Renan. Les Apôtres. 338.
(обратно)31
Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. 5. Освободитель. XII.
(обратно)32
Ф. Достоевский. Братья Карамазовы. I. Великий Инквизитор.
(обратно)33
Erich Klostermann. Das Matthäusevangelium, erklärt von d. dr. Erich Klostermann. Tübingen: J. C. B. Mohr (P. Siebeck), 1927. S. 40. – Marcion ad Matth. 5, 17: ouk elthon plerósai ton nómon, álla Katalysai.
(обратно)34
Crucifixus est Dei Filius; non pudet, quia pudendum. Et mortuus est Dei Filius; prorsus credibile est, quia ineptum est. Et sepultus ressurexit; certum est, quia impossibile est. – Tertull. De carne Christi.
(обратно)35
Doumergue. Le caractere de Calvin: 1'homme, le système, l'église, 1 état. Neuilly: La cause, 1931. P. 108–109.
(обратно)36
«Достоевский. Братья Карамазовы. I. Великий Инквизитор.
(обратно)37
Origen. Peri archon. III. I. 21. – Cont. Cels. VII. 3. – In Matt. XIII. 2. – Hieronim. Epist. CXXIV. ad Avit. – Immortalis est anima et aeterna, quod in multis et sine fine spatiis, per immensa et diversa saecula, possibile est, ut vel a summo bono ad infima mala descendat, vel ab ultimis malis ad summa bona reparetur. «Вечная душа и бессмертная, в протяжениях бесконечных, в бесконечных веках, может нисходить от высшего добра к последнему злу и восходит от крайнего зла к высшему добру». Слово apokatástasis существовало и до Оригена: en té legoméne apokatastásei в так называемом «Восстановлении всего». Origen. In Joan. I. 16. – Pradt. Origène. 1907. P. 105–107.
(обратно)38
Cyrill. Scythopol. Vita Sabbae. 83–90, ap. Cotelier (Jean-Baptist). Ecclesia graoecae monumenta… Johannes Baptista Cotelerius. Lutetia Parisiorum, apud F. Muguet, 1677–1686. III. 360–376. – II. 338. Vita Eutymii. – Папа Афанасий, в 400 г., осудил учение Оригена. Император Юстиниан обратился к восточным патриархам и папе Виргилию, предлагая анафематствовать Оригена за девять утверждений, в Peri archon, что и было сделано в 543 году. Mansi. Collect. Concilior. Т. IX. – Migne. Patr. Graec. T. LXXXV. Pars I. Col. 945–981. Сам Ориген считает «спасение бесов», включенное в анафему, «нелепостью, которая не могла бы прийти в голову и сумасшедшему» – Ptat. XXX.
(обратно)39
После Оригена, в IV в., приняли великий опыт-догмат Павла о «Восстановлении всего» два великих святых: в Восточной Церкви, Григорий Нисский (Orat, catechet. 26, 35, 40; De anima et resurrect. Col. 72, 104, 105, 157), и в Западной – Амвросий Медиоланский (Joseph Tixeront. Histoire des dogmes dans 1'antiquité chretienné. Paris: J. Gabalda et fils, 1924–1930. II. 200, 231). Церковь уже не могла их анафематствовать, но и с Оригена не могла снять анафемы. Кажется, не надо быть святым, чтобы знать несомненно, кем и когда это проклятие человеческое будет снято.
(обратно)40
Меуег. III. 171. – Otto Pfleiderer. Das Urchristenthum, seine Schriften und Lehren, in geschichtlichem Zusammenhang beschrieben von Otto Pfleiderer. Berlin: G.Reimer, 1902. I. 2. – Arthur Cushman Mc. Gifford. A history of Christianity in the apostolic age. Edinburg: T. & T. Clark {1897}; New York: C. Scribner's sons, 1897. P. 171, 214.
(обратно)41
Meyer. III. 425.
(обратно)42
Ernest Renan. Saint Paul. Paris: Caiman Lévy, 1923. P. 296–297.
(обратно)43
Meyer. III. 424–426.
(обратно)44
Renan. 303.
(обратно)45
Hennecke. I. 151, 158. Первое «Послание» – от 116 года, второе, – от 130 г.
(обратно)46
Pseudo Clement. I. 2. «Послание Петра Иакову». Pseudo Clement. II. 17, 14–17.
(обратно)47
Jülicher. 30–31.
(обратно)48
Weiss. III. I. 20.
(обратно)49
Barnab. Epist. V. 8.
(обратно)50
«Оскопление», peritomé, «обрезание», katomé. – Meyer. III. 494. – Weiss. II. 69.
(обратно)51
Toussaint. 207–208.
(обратно)52
В конце третьего апостольского путешествия Павла из Эфеса в Коринф, в зимние месяцы 51–52 года, при Луции Юнии Галлионе, проконсуле Ахайи, брате Сенеки Философа, «кротком», dulcis, как его называет Сенека. – Natur. quaest. IV. praef. – Statius. Silvae. II. 7, 3. – Weiss. III. 98–100.
(обратно)53
Horat. Od. I. 7, 2.
(обратно)54
Sveton. Tiber. 37. – Plin. Epist. X. 65. – Joseph. Ant. XVIII. 6, 7. – Philostrat. Soph. II. 32. I. – Lois Sebastien Le Nain de Tillemont. Histoire des empereurs et des autres princes qui ont regné durant les six premiers siècles de 1 église, des persecutions qu'ils ont faites aux chrétiens, de leurs guerres contre les Juifs, des illustres de leur temps. Paris: G. Robustel, 1690–1738. I. 702. – Ernest Renan. L'Antechrist. Paris: Caiman Lévy, 1924. P. 6.
(обратно)55
Senec. De tranquill. animae. X. – Joseph. Ant. XVIII. 6, 7.
(обратно)56
Meyer. III. 464.
(обратно)57
Renan. L'Antechrist. 7.
(обратно)58
Renan. 6. – Meyer. III. 482.
(обратно)59
Meyer. III. 492.
(обратно)60
«Magnus in officio Caesaris Neronis». – Acta Petri et Pauli. Constantin von Tischendorf, ed. Acta apost. apocr. 31, 80, 84. – Bibl. patr. maxim. T. II. Part. I. 67. – Hippol. Philosoph. IX. 12.
(обратно)61
Сколько бы ни делалось и ни будет делаться попыток доказать историческую действительность путешествия Павла в Испанию, оно, вероятно, навсегда останется лишь сомнительной гипотезой. Главное доказательство и, в сущности, единственное, – два глухих намека в Посланиях Дионисия Коринфского: «…Павел, придя на крайний Запад, epi to térma tes dyseos» и в Canon. Muratori. Lin. 37: «Павел пошел из Города (Рима) в Испанию, Pauli ab Urbe ad Spaniam profecientis». Но эти два намека недостаточны. А между двумя несомненными свидетельствами самого Павла, в одном и том же, II Тим. – первым: «Я уже становлюсь жертвой… время моего отшествия настало… готовится мне венец» (мученический) (4, 6–8), – и вторым: «Я избавился от львиных челюстей» (4, 17), – между этими двумя свидетельствами нет места для путешествия в Испанию. Слишком также невероятно, чтобы Павел, говоря столь подробно и определенно, как Римл. 15, 22–24, о своем намерении идти в Испанию, мог совершенно умолчать об исполнении этого намерения; невероятно, чтобы и Лука или другой неизвестный творец Д. А. мог не упомянуть ни одним словом об этом путешествии. Weiss. II. 388. – Theodor von Zahn. Einleitung in das Neue Testament. Leipzig: Deichert, 1924. I. 451–454.
(обратно)62
Weiss. II. 351.
(обратно)63
Plato. Timaeos. 24, a. – «Книгу Еноха» Павел, вероятно, читал; мог читать и «Тимея», и «Крития» – «Атлантиду» Платона, или, по крайней мере, мог слышать о ней от неоплатоников и орфиков.
(обратно)64
Hennoch. LII. 1–2.
(обратно)65
Hennoch. XVII. 4–6.
(обратно)66
Hennoch. II. 2.
(обратно)67
Hennoch. LII. 4.
(обратно)68
Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. Т. II. Гл. IV. Блаженства. XVIII.
(обратно)69
Если Павел обратился, еще будучи «юношей», neaniou (Д. А. 7, 58), т. е., вероятно, до тридцати лет, то, в 62 году, ему нет шестидесяти.
(обратно)70
Renan. L'Antechrist. 177.
(обратно)71
Tacit. Annal. XV. 44.
(обратно)72
Martial. Epigr. X. 25, 5. – Juvenal. Sat. I. 155–156; VIII. 233–235. – Senec. De ira. III. 3. – Horat. Sat. II. 7, 58. – Petron. 149 (Büchler). – Senec. Epist. 37. – Sueton. Nero. 37.
(обратно)73
Clement. Rom. Ad Corinth. I. 6:…diochteisai gynaikes… aikismata deiné kai aniosia pathéusai epi ton tes pisteos, bébaion drémon katéntesan kai élabon géras gennèion hai asthenéus to sèmati. – Martial. Spectac. XXI. V. – Sueton Nero 12. – Tertull. Apolog. XV. 9; ad nation. I. 10. – Juvenal. VIII. 235. – Martial Epigr. X. 25, 5.
(обратно)74
Sueton. Nero. 12.
(обратно)75
Plin. Hist. nat. XI. 57. Изваяния Нерона в Капитолии, Ватикане, Палатине, Лувре.
(обратно)76
Plin. Hist. nat. XXXVII. 5, 16.
(обратно)77
Renan. I. 72, 181.
(обратно)78
Inguine invadebat et eum affatim desaevisset. – Renan. 179.
(обратно)79
Dio Cass. LXIII. 13. – Sueton. Nero. 29.
(обратно)80
Acta Petri. Actus Vercellenses. 33–36. – Hennecke. I. 246–247.
(обратно)81
Meyer. III. 499–500.
(обратно)82
Zahn. 459. – Если бы память эта исчезла бесследно, то 29 июня 258 года, день, когда останки обоих великих Апостолов погребены были в Риме ad Catacombas, не мог бы уцелеть как единственное воспоминание о дне их смерти.
(обратно)83
Павел здесь, вероятно, вспоминает тогдашний обычный вопль римской черни: «Christianos ad leones! Львам христиан!» Tertull. Apolog. XIV. 40.
(обратно)84
Clement. Rom. ad. Corinth. V. 1–7; VI. 1–2. – Hennecke. I. 484–485.
(обратно)85
Tacit. Annal. XV. 44.
(обратно)86
Meyer. II. 495. – Zahn. I. 386, 448.
(обратно)87
Zahn. 1. 444–446; III Kalend. Jul.: Petri in Catacombas, et Pauli, Ostensi, Tusco et Basso cons. – Liber Pontificalis, ed. Duchesne. I, II. – II Календа pro Hieronim, ed Duchesne: «Petri in Vaticano. Pauli in via Ostensi, utrumque in Catacombas, passi sub Nerone».
(обратно)88
Acta Petri et Pauli, ed. Lipsius. 214, 9. – Zahn. I. 461. – Кажется, в греческом подлиннике, слова: hypó ten terébinthon u plesion tou déndron tou strobilon, указывают на хорошо знакомые, может быть, на высоких холмах, издалека видимые деревья. Римляне всего охотнее выбирали для казни высокие, отовсюду видные места: ad spectanda civibus (Plin. Hist. nat. XXXVI. 24, 3); «чтобы проходящие, видя казненных, страшились» (Quintil. Declamat. 274); «полезнейшего ради примера», res saluberrimi exempli (Tit Liv. Epist. 55).
(обратно)89
Clement. Alex. Strom. VII. I. – Acta Petri et Pauli. 81. – Pseudo-Lin. 69–70. – Euseb. Hist. Eccl. III. I; Demonstr. Evang. III. 5. – Hieronim. De viris illustr. I.
(обратно)90
Meyer. III. 51.
(обратно)91
Память об этом осталась надолго незабвенной. – Vita Constant. П. 40. – Giovanni Battista de Rossi. Roma sotteranea cristiana. Roma, 1864–1877. I. 209–210. – Guiseppe Marchi. Monumenti delle arti cristiane primitive nella metropoli del cristianesimo, disegnati ed illustrati per cura di G. M. Architettura. Roma: Tip. di C. Pulcinelli, 1844. 199–220. – Meyer. III. 499. – Zahn. I. 457.
(обратно)92
Hieronim. De vir illustr. I. – Zahn. I. 458.
(обратно)93
August. Sermo. 259: «quamquam diversis diebus paterentur, unum erant. Praecessit Petrus, secutus est Paulus».
(обратно)94
Rossi. Reisen auf griechischen Inseln des Aegeischen Meeres. 1843. 11. – Constantin von Tischendorf. Reise in der Orient. Leipzig: B. Tauchnitz, 1846. II. 258–265. – Honoré Victor Guérin. Description de 1 île de Patmos et de 1 île de Samos. Paris: A. Durand, 1856. – Arthur Penrhyn Stanley. Sermons preached before His Royal Highness the Prince of Wales during his tour in the East in the spring of 1862 with notices of some of the localities visited. London: J. Murray, 1863. P. 225. – Renan. L'Antechrist. 372–377.
(обратно)95
Д. Мережковский. Иисус Неизвестный. I. Гл. 1, passim.
(обратно)96
Pseudo-Clement. Homel. XVII. 12–17, 19; Recognit. IV. 36. – Renan. Saint Paul. 304–306.
(обратно)97
Hieronim. Epist. 128. IV. Hieronim. In Ezech. Prolog. B Церкви Восточной Иероним, так же как Августин, не «святые», а только «блаженные». В Церкви же, может быть, не только Западной, католической, настоящей, но и будущей, Кафолической, Вселенской, оба – святые.
(обратно)98
August. Sermo de Urbis excidio VI. (Всюду в дальнейших ссылках на творения св. Августина имя его, для краткости, выпущено.)
(обратно)99
Sermo. 105, 12. – Quodvuldt. De tempore barbarico. – Pierre Champagne de Labriolle. Histoire de la littérature latine chrétienne. Paris: Société d'édition «Les belles lettres», 1920. P. 522.
(обратно)100
Oremus ut veniat (Dominus) et destruat mundum. – Origen. In Jes., nov. homel. VI. 4.
(обратно)101
Может быть, больше всего отдаляет от нас Августина его многословная риторика. «Ритор в язычестве», – это понятно и выносимо, но в христианстве трудно вынести, по крайней мере нам, с нашим деловым отвращением к пустословию, особенно к религии: тут, кажется, в нас, грешных, многим Святым неизвестное движение Духа во времени. «Делай!» – говорит Иисус Павлу, на пути в Дамаск; «читай!» – говорит Августину «Глас Божий» (tolle – lege! Возьми – читай!). Павел прежде всего – «делатель»; Августин – «читатель» и уже потом «делатель». Вечный «книжник», «многописец». Одиннадцать огромных фолиантов Бенедиктинского издания, 80 дошедших до нас книг, составляют лишь третью часть всех «Творений Св. Августина». Он и сам признается, что одержим «похотью слов», libido verborum. «Лавочником слов», venditor verborum, сам называет себя (Confess. IX. 5. 1). Тридцать лет «торговал болтовней», loquacitatem… vendebam (Confess. IV. 2. 1), в Тагасте, Карфагене, Риме, Милане, и это не прошло ему даром: «ритор», не только в язычестве, но и в христианстве, – спорщик, диалектик, первый схоластик средних веков, «новый Цицерон», «бог красноречия» (Sekund. Epist. ad August. III). О, конечно, не только это, но и это! Даже в лучших книгах Августина, в «Исповеди» и в «Граде Божием», – целые, для нас непроходимые, Сахары слов. Он это и сам сознает: «Веру я опустошал пустословием жалким и неистовым» fidem… misserima et furiosissima loquacitate vestabaram (De dono persever. II. 55). Да, «Сахары слов», но в них – оазисы, такие райские, что стоит пройти пустыню. Чувствуется иногда и сквозь риторику, что св. Августин – последний великий латинский поэт, – может быть, единственный уцелевший мост между Виргилием и Данте. «Я почти всегда недоволен тем, что говорю… и страдаю оттого, что слова мои не выражают чувства. Как бы я хотел сказать другим все, что испытываю! Мысли иногда пронзают душу мою, как молнии, но слова холодны, медленны и длинны» (De cathis. in rudib. III. 4). Это мог сказать только великий поэт. «Длинные, холодные», серо-свинцовые тучи слов, и вдруг такие молнии, как эти:
Знаешь только то, что делаешь, и тем больше знаешь, чем больше делаешь (Regis Jolivet. Saint Augustin et le néo-platonisme chretien. Paris: Denoël et Steele {1932}. P. 160).
Люби и делай, что хочешь (In epist. loan. VII. 8).
Любить не себя, а Бога – значит любить себя (Tract, in loan. 123, 5).
Только Тебя узнав, Господи, себя узнаю. Noverim me, noverim Те (Soliloq. II. 1).
Я заблуждаюсь, значит я есмь (De civit. Dei. XI. 26, 7. – De Trinit. X. 14).
Прав Паскаль: cogito, ergo sum, найдено за тринадцать веков до Декарта. Перед этой чудесной, в самом деле, «молнийной» краткостью, Юлий Цезарь и Тацит кажутся «длинными». Есть у Августина и целые страницы, где обнажение души человеческой, ее «живые рассечения» напоминают лучшие страницы Толстого и Достоевского; есть «монологи», soliloqia, большей глубины и силы, чем гамлетовское «быть или не быть?». Но и мертвые, как будто, «цветы красноречия» напоминают у него иногда, волшебною прелестью, искрящиеся лунным огнем, на оконных стеклах, цветы мороза. Вспомним также, прежде, чем судить Августина-ритора, что и риторика иногда бывает искренней: под сложностью как будто лживых слов может быть простое и правдивое чувство. Вспомним, что и актер, играющий на сцене, умирает иногда настоящей смертью: кажется, «ритор» Августин – такой, нечаянно или нарочно, чем-то смертельно ранивший себя, актер. Чем же он ранил себя? В этом, конечно, весь вопрос.
(обратно)102
Fides quaerens intellectum. – Antonin Gilbert Sertillanges. Saint Thomas d'Aquin. {Paris}: E. Flammarion {1931}. P. 54.
(обратно)103
Edgar de Bruyne. S. Thomas d'Aquin: le milieu, l'homme, la vision du monde. Paris: G. Beauchesne, 1928. P. 65.
(обратно)104
Sertillanges. 60.
(обратно)105
Soliloq. I. 5. Confess. VII. 10. «Sermo. 43. – In Psalm. 118. – Sermo. 18.
(обратно)106
Epist. 120, ad Consent. De utilit. credendi. XIII. Pierre Guilloux. L'âme de St. Augustin. Paris: J. de Gigord {1921}. P. 365.
(обратно)107
Confess. VI. 3. Giovanni Papini. Saint Augustin; tr. de 1'italien par Paul-Henri Michel. Paris: Librarie Plon {1930}. P. 144. Sertillanges. 60.
(обратно)108
Epist. 4. 2.
(обратно)109
De Trinitate. XIV. 2.
(обратно)110
Confess. VII. 7.
(обратно)111
De Trinitate. XV. 50–51.
(обратно)112
Bruyne. 43, 64.
(обратно)113
Sertillanges. 181. – Bruyne. 63.
(обратно)114
John Henry Newman. Apologia pro vita sua: being a reply to a pamphlet entitled «What, then, does Dr. Newman mean?». New York: D. Appleton and company, 1865. P. 265. – Guilloux. 377.
(обратно)115
De divin. quaest. 71. 5.
(обратно)116
De peccator. merit. III. I.
(обратно)117
Improbation quippe haereticorum fecit emine quid Ecclesia… habet sana doctrina. – Confess. VII. 19, ad fin. In Psalm. 54, 22; De vera relig. XV. – Guilloux. 211.
(обратно)118
Papini. 21. – Guilloux. 238.
(обратно)119
Epist. 133, 134, 100.
(обратно)120
Contra epistul. Fundamenti. II–III.
(обратно)121
Manu mitissima et suavissima pertranctans vulnera mea. – Ernest Renan. Souvenirs d'enfance et de jeunesse. Paris: Calman Lévy, 1883. P. 307.
(обратно)122
Epist. 113. – Слово Августина против смертной казни – такое смелое, что после него слова Монтескье (Esprit des lois) кажутся робкими. II Enarr. in Psalm. XV. 13. «De civit. Dei. XIX. 13. Res alinae possidentur, cum superflua possidentur. – Sermo. 285, ap. – Valensen. S. Augustin. 1925. P. 5. Ad Joan. VI. 25.
(обратно)123
De civil Dei. IV. 6. Majoris est gloria bella verbo occidere, quam homines ferro. – Epist. 262. Sapienti nulla bella essent. – De civit. Dei. I. 29. De civit. Dei. XIX. 7.
(обратно)124
Luther. Colloq. III. 140. «Der erste moderne Mensch». – Adolf von Harnack. Das Wesen des Christentums; sechzehn Vorlesungen. Leipzig: J. C. Hinrichs, 1900. S. 161.
(обратно)125
Lois Bertrand. Autour de Saint Augustin. Paris: A. Fayard & C° {1921}. P. 18–21.
(обратно)126
…Patris municipis Thagastensis admodum tenuis. – Confess. II. 3.
(обратно)127
Prosper Alfaric. Les écritures Manichéennes, leur constitution leur histoire. Paris: E. Nourry, 1918. I. P. 8.
(обратно)128
Confess. II. 3. – Jam de medio Babylonis fuderat, sed ibat… tardior.
(обратно)129
Valde concorditer vixerunt. – Confess. IX. 11. Confess. IX. 13.
(обратно)130
Confess. IX. 9.
(обратно)131
Confess. I. 9. – Bertrand. 44.
(обратно)132
Confess. III. 4, ad fin.
(обратно)133
Confess. I. 9. – Gustave Combés. Saint Augustin et la culture classique. Paris: Plon, 1927. P. 2. – Guilloux. 26. Confess. I. 9. De civit. Dei. XXI. 14.
(обратно)134
Confess. I. 9. De natura boni. IV.
(обратно)135
Confess. I. 11. Confess. V. 8. Francois de Sales. Introduction à la vie dévote. I. 88.
(обратно)136
Sermo. 17, 2; 232, 4.
(обратно)137
Alfaric. I. 63.
(обратно)138
Papini. 25. Confess. II. 3.
(обратно)139
Contra academicos. II. 6.
(обратно)140
Excesserunt caput meum libidinum. – Confess. II. 3. – Circumstabat me undique sartago flagitiorum amorum. – Confess. III. 1. Confess. II. 3. Confess. III. 1. Confess. II. 4. Papini. 215. Confess. VI. 16.
(обратно)141
Tabesci fecisti sicut araneam animam meam, – скажет о другом, но мог бы сказать и об этом. – Confess. VII. 10.
(обратно)142
Confess. III. 3.
(обратно)143
Confess. IV. 2.
(обратно)144
Confess. VI. 15.
(обратно)145
Confess. IV. 2; VI. 15.
(обратно)146
Confess. VI. 15.
(обратно)147
Confess. XII. 3.
(обратно)148
Confess. XII. 6.
(обратно)149
Confess. II. 2; Confess. II. 3.
(обратно)150
Juven. Sat. VII. 146–147.
(обратно)151
Venditor verborum, Victoriosam loquacitatem vendebam. – Confess. IX.
(обратно)152
Alfaric. I. 67.
(обратно)153
Confess. III. 7.
(обратно)154
Confess. III. 6.
(обратно)155
Alfaric. I. 1.
(обратно)156
Alfaric. I. 50.
(обратно)157
Дьявол, в манихействе, – «Вещество», по толкованию Александра Ликополийского (Alex. Licopol). – Alfaric. II. 22; Alex. Licopol. De plac. Man. V, init. 2, fin; III, init. – Alfaric. I. 32; Epiphan. Haeres. XXXI. 58. – Hegemon. Act. Archael. XI. – August. Contra Fortunat. 33, 35. – Кажется, смысл одной из главных книг Манеса, «Три Мига», таков: первый Миг – вечность Отца – «разделение первое», до смешения (создания мира); Миг второй – время Сына – «смешение» (мир); и третий Миг – вечность Духа – «разделение» второе и последнее. – Китайская рукопись Khouastounift. VIII. 156–172. – Alfaric. II. 67.
(обратно)158
Confess. III. 7; Confess. VII. 14.
(обратно)159
Confess. VIII. 9, ad fin; Quid aliud, quod mecum esset, et ego non essem. – Confess. V. 10.
(обратно)160
Confess. X. 30.
(обратно)161
Confess. IV. 1.
(обратно)162
Confess. V. 6; Confess. III. 11; Confess. VIII. 10.
(обратно)163
Confess. III. 11; Confess. III. 11.
(обратно)164
Confess. V. 8.
(обратно)165
В «Исповеди», вспоминая бегство свое из Карфагена, Августин так забывает об этих двух возможных жертвах своих, как будто никогда их и на свете не было. Это беспамятство очень для него знаменательно, а для нас тоже очень страшно и важно, чтобы понять всего Августина, святого и грешного, в холодном, «лунном свете» одной из двух половин христианской святости, – той, что обращена к «плоти»; в теплом «свете солнечном» – только другая половина, обращенная к «духу».
(обратно)166
Confess. V. 12.
(обратно)167
Sunt autem mala sine dolore pejora. – De natura boni. XX.
(обратно)168
Confess. V. 9.
(обратно)169
Confess. V. 10.
(обратно)170
Confess. V. 14.
(обратно)171
Confess. V. 13.
(обратно)172
Confess. V. 13.
(обратно)173
Confess. VI. 2.
(обратно)174
Confess, VI. 3.
(обратно)175
Confess. VI. 2.
(обратно)176
В подлиннике глубже и сильнее, но непереводимо: «meipsum eligerem, sed perversitate num quid veritate?» Буквально: «выбрал ли бы я себя, предпочел ли бы я себя ему, в превратности моей, во лжи или в истине?» Этот вопрос – частный вывод из общего, крайнего сомнения Карисада Скептика: «Истину знать человек не может». – Confess. VI. 6.
(обратно)177
Confess. VI. 6, ad fin.
(обратно)178
Confess. V. 14;…Ambulabam per tenebras et lubricum… et desesperabam. – Confess. VI. 1.
(обратно)179
Confess. VI. 11, passim.
(обратно)180
Confess. VII. 10; Confess. VI. 16.
(обратно)181
Confess. VI, I; 13. – «Frater cordis mei». – Confess. IX. 4.
(обратно)182
Confess. VI. 13; Soliloq. I. 13. – «Quantum eam nihilo faciat otio tuo». «Больше всего любите вы в покойном довольстве жить», – говорит Смердяков Ивану Карамазову.
(обратно)183
Vulnus illud… acerrimum putrescebat… quasi frigidius, sed desesperatibus dolebat. Буквально: «глуше, как бы холоднее, но еще неутолимее, болела рана». – Confess. VI. 15.
(обратно)184
Confess. Ill, II.
(обратно)185
Amabat… more matrum, sed multis multo amplius – за что и «казнит ее Господь праведным бичом Своим, illius carnale desiderium justo dolorum flagello vapularet». – Confess. V. 8, ad fin.
(обратно)186
Papini. 101.
(обратно)187
Guilloux. 90; Confess. III. 10; Confess. IV. 2.
(обратно)188
Bertrand. 28. – «La conversion etait au prix de ce dechirement. Etait-ce I'acheter trop cher?» так же глупо и нечестиво все дальнейшее оправдание обоих святых (loc. cit. 28–31).
(обратно)189
Confess. VIII. 1; Confess. VIII. 7.
(обратно)190
Confess. VIII. 11.
(обратно)191
С. Melior sum… displicens mihi. – Confess. X. 38; Confess. VIII. 1.
(обратно)192
Confess. VIII. 5.
(обратно)193
«Modo, ecce modo; sine paululum!» – Confess. VIII. 5.
(обратно)194
Confess. VII. 9, 10; Confess. VII. 19; VIII. 8, 1; Confess. VII. 20.
(обратно)195
Confess. VII. 7.
(обратно)196
Exultare cum tremore. – Confess. VII. 21; VIII. 1.
(обратно)197
Confess. VIII. 1.
(обратно)198
Confess. VIII. 2.
(обратно)199
Ligatus non ferro alieno, sed mea ferrea voluntate. – Confess. VIII. 5, 6.
(обратно)200
Confess. VIII. 6–7.
(обратно)201
Confess. VIII. 6, 7, 8, 12.
(обратно)202
Confess. III. 11.
(обратно)203
…Occulto quodam ordine regitur. – Contra Academic. I. 1, 2.
(обратно)204
De Praedest. sanct. VIII. Книга эта написана в 428–429 гг., а год смерти Авг. 430-й. – Guilloux. 382.
(обратно)205
Confess. IX. 2–4.
(обратно)206
…Non curebamus post te (Domine), et ideo flebam inter cantica himnorum tuorum. – Confess. IX. 6–7, ad fin.
(обратно)207
Confess. IX. 8.
(обратно)208
Confess. IX. 10–11.
(обратно)209
Confess. IX. 12.
(обратно)210
В письме к Небридию: «в минуты самой жаркой веры».
(обратно)211
Guilloux. 381.
(обратно)212
Possid. Vita August. III. – Jolivet. 175.
(обратно)213
Possid. XXI; Possid. XXVI.
(обратно)214
Confess. IX. 12.
(обратно)215
Possid. III.
(обратно)216
Epist 21. – Guilloux. 177. – Jolivet. 180–183.
(обратно)217
Confess. X. 1. – Guilloux. 278.
(обратно)218
Jolivet. 269.
(обратно)219
Possid. XIX.
(обратно)220
Maximus post Apostolos ecclesiarum instructor. – Labriolle. 564;…Sanctam et apostolicam doctrinae tuae auctoritas. – Epist. 225. I–II; – Pierre Batiffol. Le catholicisme de Saint Augustin. Paris: Lecoffre, 1929. P.530; De dono perseverant. 55. – Non tantum praeesse quam prodesse desidero. – Epist. 134, 1.
(обратно)221
Possid. IX.
(обратно)222
In Joan, tract. VI. 15. – Ad fidem nullus cogendus invitus Contra litter., Petiliani, ap. Batiffol. 332. – Epist. 127, ad Donat. proconsul.
(обратно)223
«Compelle intrare», – ошибочный латинский перевод Вульгаты, Лк. 14, 23: «господин сказал рабу: пойди по дорогам и изгородям и принудь их (званых на брачный пир) войти, чтобы наполнился дом мой». В греческом подлиннике: anánkasen eiselthém значит: «Убеди их войти» (Erich Klostermann. Das Lucasevangelium. Tübingen: Mohr, 1919. S. 515). Стоит только сравнить Лк. 14, 23 с Мт. 21, 9: «зовите их на брачный пир», чтобы убедиться, что и смысл Лк. – именно таков. Толкование Августина, compelle intrare (Epist. 185. XXIII–XXIV): «potestate coguntur intrare (мирскою) властью принуждаются (еретики) входить в Церковь… Церковь должна возвращать в лоно свое еретиков; если же они противятся, то принуждать к тому страхом и даже болью бича, flagellorum terroribus, vel etiam doloribus». – «Внутреннюю свободу рождает иногда и необходимость внешняя. – Foris inveniatur necessitas, nascitur intus voluntas». – Sermo. 112. VIII. – «Первый догматик Св. Инквизиции – Августин». – Hermann Reuter. Augustinische Studien. Gotha: F. A. Perthes, 1877. S. 501–503. – Batiffol. 335.
(обратно)224
Epist. 118, ad Vincent.
(обратно)225
Renan. Les Apôtres. 78.
(обратно)226
Sermo. 105. XII.
(обратно)227
Очень для Августина значительно, что первую, смутную мысль о «смешении» двух Градов в истории он вовсе не боится заимствовать через еретика-донатиста, Тикония, от ересиарха Манеса. – Papini. 205.
(обратно)228
Manichaei lupanar necdum reliquisti. – Opus imperfectum. I. 98.
(обратно)229
De civit. Dei. XIV. 28.
(обратно)230
De civit. Dei. I. 35; XVIII. 49.
(обратно)231
De civit. Dei. XIX. 17. – Jolivet. 262–264. – Страшную меру «соглашения» двух Градов дает сам Августин, пишущий книгу «О святом девстве», De sancta virginitate, и остерегающий, в книге «О порядке», De ordine (II. 4): «Выгони из государства блудниц, и все возмутишь похотью. Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibis».
(обратно)232
De civit. Dei. XIV, passim. – Hetzfeld. S. Augustin. 1924. P. 262–264.
(обратно)233
De civit. Dei. XV. 4; XIX. 12.
(обратно)234
Ille fidei Imperator… arce auctoritatis munivit Ecclesiam. – Epist. 118. XXXII. – Batiffol. 539.
(обратно)235
Eginhard. Vita Caroli Magni, ed. Halphen, 1923. P. 27.
(обратно)236
Gerson, ap. Jolivet. 266.
(обратно)237
Enken, ap. Papini. 299.
(обратно)238
De civit. Dei, написана, вероятно, от 413 года до 426.
(обратно)239
Epist. 138. XVI.
(обратно)240
De natura boni. IV. – Opus imperfectum contra Julianum начат в 429 году, а в следующем, 430, Августин умер. – Guilloux. 382.
(обратно)241
Opus imperf. I. 78, 79. – Pelag. Libell. fidei. XIII. – Tixeront. II. 428.
(обратно)242
Labriolle. 544; Infantes nuper nati in illo statu sunt in quo Adam fuit ante praevaricationem, по слову Целестия, ученика Пелагия. – De gestis Pelag. 23; Opus imperf. VI. 8.
(обратно)243
Pelag. Expositiones, ap. Hieronym. Epist. 133. I; 186. XXXVII.
(обратно)244
Contra Jul. V. 2. – Opus imperf. IV. 36.
(обратно)245
«Исповедь» написана в 400 г., а первая книга против Пелагия, «О естестве и благодати», De natura et gratia, в 415 г. – Guilloux. 382.
(обратно)246
Confess. I. 7.
(обратно)247
Confess. X. 29.
(обратно)248
Confess. IV. 4.
(обратно)249
«Gratis malus». – «Gratis» значит: «даром»; «Gratia» – «Благодать». Корень в обоих словах – один: «даром» сделанное зло – «даром» полученная Благодать (по учению Павла-Августина). В этом «лунно-морозном цветке красноречия» – прозрачнейший кристалл – «простое химическое тело» Зла – «первородный грех». Корень один – в двух словах, потому что один огонь искрится в обоих кристаллах, – Добра и Зла: gratis – Gratia; Confess. II. 4.
(обратно)250
Confess. II. 6, ad fin.
(обратно)251
De libero arbitrio. II. 18. – Книга эта написана около 388 года; Quaerebam unde malum, et non erat exitus. – Confess. VII. 11.
(обратно)252
Confess. VII. 3; Epist. 138. XVI.
(обратно)253
De divin. quest. LVIII. 4. – Malum non esse, nisi privationem boni usque ad omnio non esse. – Confess. III. 7. – Enchirid. XI; Ėtienne Henry Gilson. Introduction a 1'etude de saint Augustin. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1931. P. 179–181.
(обратно)254
Nihil est ad intellegendum secretius. – De moribus Eccles. catholic. I. 40.
(обратно)255
De praedest. sanct. VIII. – Сказано, по поводу I Kop. 4, 7: «что имеешь, чего не получил бы (даром)?». Книга эта написана в 428–429 гг., а в 430 году Августин умер.
(обратно)256
«Contagium mortis». – Batiffol. 367. – De peccat. meritis. III. 9. – Nullus hominum in ista quae ex Adam defluit massa mortalium… non aegrotatus. – Epist. 186. XXXVII; De divers, quaest. ad Simplic., ap. Batiffol. 353; Pauci in comparatione pereuntium liberantur. – De civit. Dei. XXI. 12; De dono persever. 16. – Enchirid. 99. Epist. 180. XXIV. – De dono persever. 26; Batiffol. 354.
(обратно)257
De praedest. sanct. VIII. 4. – Batiffol. 527. – De divers, quest, ad Simplic. I. 2.
(обратно)258
Opus imperf. III. 24.
(обратно)259
Epist. 186. VII; De dono persever., ap. Batiffol. 528; De corrept. et gratia. 46.
(обратно)260
De civit. Dei. XX. 2.
(обратно)261
Epist. 215. IV.
(обратно)262
De peccat. meritis. I. 33.
(обратно)263
Enchirid. 93. – De civit. Dei. XXI. 16. – De peccat. meritis. I. 21. – Contra Julian. V. 44. – Opus imperf. III. 99.
(обратно)264
Sermo. 176. II.
(обратно)265
Labriolle. 565, 570.
(обратно)266
«Этого учения не надо проповедовать так, чтобы оно казалось ненавистным», – могло возбуждать ропот. – De dono persever. II. 22.
(обратно)267
Epist. 156, ad Hieronym.
(обратно)268
Luther. Colloq. I. 80.
(обратно)269
Confess. VII. 7.
(обратно)270
Batiffol. 411, 412, 416–420, 428–431.
(обратно)271
Sermo. 131. VI, ad mensam Cyriani. – Batiffol. 402–403.
(обратно)272
Capitula, in Pair. Latin. XLX. P. 1756–1760. – Так именно толкует эти Римские Капитулы историк Церкви, Batiffol, в книге, изданной в 1920 г., с дозволения Рима, Imprimatur: «nul doute que la Prédestination… soit mise au nombre de ces matières… dans lesquelles le Siège Apostolique ne veut prendre part» (P. 534).
(обратно)273
Confess. Ausburg., artic. XX.
(обратно)274
Ego vero Evangelio non crederem, nisi me Catholicae Ecclesiae commoverat auctoritas. – Contra epistul. Fundamenti. VI (anno 397).
(обратно)275
Barnab. Epist. V. 8.
(обратно)276
Luther. Colloq. I. 80.
(обратно)277
Felix Kuhn. Luther, sa vie et son oeuvre. Paris: Sandoz et Thuillier, 1883–1884. III. 356.
(обратно)278
Sermo. 17. II; 232. IV.
(обратно)279
…Quaecum habet, inaniter habet. – De dono persever. LXVI, в 329, за год до смерти; Sermo. 40. V.
(обратно)280
Zelter, в письме к Гёте. – Sertillanges. 182.
(обратно)281
De Trinitate. XV. 50–51.
(обратно)282
De Trinitate. XV. 18.
(обратно)283
Bruyne. I. 63.
(обратно)284
Bertrand. 114.
(обратно)285
Possid. XXVIII. – Papini. 271.
(обратно)286
Possid. XXXI; Quod custodit Christus, non tollit gothus. – Sermo. 296. II.
(обратно)287
Papini. 219; Bertrand. 439.
(обратно)288
Possid. XXX.
(обратно)289
Possid. XXVIII.
(обратно)290
Possid. XXVIII.
(обратно)291
Possid. XXIX.
(обратно)292
Possid. XXIX.
(обратно)293
Possid. XXXI.
(обратно)294
Papini. 240.
(обратно)295
Possid. XXXI.
(обратно)


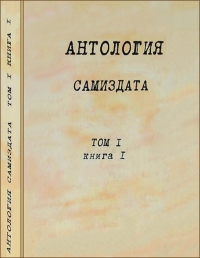
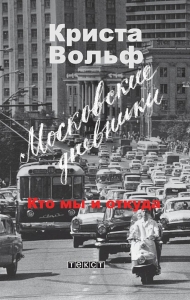
Комментарии к книге «Павел. Августин», Дмитрий Сергеевич Мережковский
Всего 0 комментариев