Николай Михайлович Любимов Неувядаемый цвет: Книга воспоминаний Том 3
Борис Пастернак
…вся земля была ему наследством, А он его со всеми разделил.
Анна АхматоваВсе дальше и дальше уплывает в даль прошлого день его похорон, но все ощутимее боль, что нет его с нами, и духовный облик его от времени лишь хорошеет, и все беззакатней, все праздничнее и животворней исходит от него и от его поэзии свет.
Я шел к поэзии Пастернака дорогой извилистой и долгой. Я полюбил ее любовью поздней, а поздняя любовь измен не знает.
До Перемышля сборники стихов послереволюционных поэтов доходили редко. В моей библиотеке был только четырехтомник Есенина «с березками». Стихи Пастернака и отрывки из его поэм «Лейтенант Шмидт» и «Девятьсот пятый год» я читал в «Новом мире».
Я с трудом воспринимал отрывки из поэм, не говоря уже о лирике. Мне было ясно, что это поэт высокой культуры, особенно резко бросавшейся в глаза на фоне стихотворений подавляющего большинства его современников. Меня очаровывала звуковая вязь его стихов. Я читал его стихи, как большинство слушает так называемую «серьезную» музыку: непонятно, а слух нежит. Мало-помалу, однако, отдельные его строки впивались не только в мой слух – они уже говорили и моему глазу, и уму, и сердцу.
Конечно, меня потрясли своею смелостью – и художественной, и политической – заключительные строки из стихотворения на смерть Маяковского:
Твой выстрел был подобен Этне В предгорье трусов и трусих.(«Смерть поэта»)
Или:
…телегою проекта Нас переехал новый человек.Именно так ощущал я не только свою судьбу, не только судьбу моего поколения, но и судьбу всех вообще россиян, попавших под колесо «пятилеток», точнее – под колесо советского государства.
По молодости лет я проворонил, как, впрочем, проворонила его и советская цензура; как, впрочем, не разглядел заложенной в нем мины либеральный, но все же до известных, хотя и весьма широких пределов, Вячеслав Павлович Полонский, напечатавший это стихотворение в книге первой «Нового мира» за 1928 год; как, впрочем, не уловил его пророческого смысла и сам поэт и потом на него не оглянулся, ибо когда, в предпоследнюю мою встречу с ним (зимой 1960 года), я заговорил с ним об этом стихотворении, только что мною перечитанном, он проявил к нему полнейшее равнодушие, видимо, свалив его мысленно в одну кучу со всем своим уже неприятным ему поэтическим прошлым, что лишний раз доказывает, что люди искусства далеко не всегда ведают, что творят, – я прошел мимо стихотворения «Когда смертельный треск сосны скрипучей…» (1927).
Боже мой! Сколькие из нас обрадовались, залюбовались сначала февральским заревом, а иные – и октябрьским! Даже Клюев, весь из кондовой Руси, и тот поначалу кощунственно загуркотал:
Революцию и Матерь Света В песнях возвеличим.Сколькие из нас не поняли, что блеск тот – мишурный, что то не звезды, а «лампионы», что русская пуща беспощадной подвергнется вырубке, что визгливо заскрежещут пилы, что тупо застучат топоры, что кряхтом закряхтят кряжи, что хрустом захрустят ветки, что брызмя брызнут пахучие, клейкие щепки, что всю землю устелют восковой гробовой желтизною мертвые иглы елей и сосен и – некогда многошумная – пестрядь листьев, что всюду – куда ни глянь – станет пусто, голо: торчат кособокие угрюмые пни, хоть бы дятел тукнул, хоть бы жалостно прокуковала кукушка, хоть бы заяц дал стрекача, а после вырубки народится царство рябого лесника с увешанной впритык орденами грудью.
Когда я переехал в Москву, то даже такой верноподданный Пастернака и такой искусный и неутомимый пропагандист его поэзии, как Эдуард Багрицкий, сумел внушить мне любовь к отдельным его строкам и строфам, но обратить меня в пастернакову веру оказалось не под силу даже ему.
В Москве я получил доступ к сборникам стихотворений Пастернака и, конечно, не мог не восхищаться открытиями поэта и в природе, и во внутреннем мире человека:
…палое небо с дорог не подобрано.(о лужах после дождя),
Кавказ был весь как на ладони И весь как смятая постель…(о горах).
Вокзал, несгораемый ящик Разлук моих, встреч и разлук… В тот день всю тебя, от гребенок до ног, Как трагик в провинции драму Шекспирову, Носил я с собою и знал назубок, Шатался по городу и репетировал. Красавица моя, вся стать, Вся суть твоя мне по сердцу, Вся рвется музыкою стать И вся на рифму просится.Леонид Петрович Гроссман, продолжавший заниматься воспитанием моего художественного вкуса и после того, как я перестал быть его студентом, как-то на память прочел мне стихотворение Пастернака, посвященное Брюсову, и вот оно захватило меня почти целиком – и образом, точно передающим бескорыстный и неугасимый учительский темперамент Брюсова:
Линейкой нас не умирать учили…и четким сознанием того, что Брюсов оступился в конце жизненной своей дороги:
…Брюсова горька Широко разбежавшаяся участь…и, наконец, ясным пониманием того, где же мы живем:
…ум черствеет в царстве дурака…А ведь это было написано задолго до периода сталинской тупоголовости и до хрущевского балагана – балагана даже не на уездной, а на сельской «ярманке».
Уже много лет спустя, в один из брюсовских юбилеев, Пастернак, любивший с невинным видом выкидывать коленца, читая это стихотворение, запнулся как раз перед этой строкой, и, будто бы забыв стихотворение, будто бы в смущении удалился с эстрады, тем самым подчеркнув дальнобойную строку несколькими жирными чертами.
И все же я в первые годы моего знакомства с поэзией Пастернака взыграл бы духом, если б мне тогда писатель Валентин Берестов привел с присущим ему ираклие-андрониковским даром изображать всех в лицах слова, сказанные Алексеем Николаевичем Толстым в ответ на вопрос, как он относится к Пастернаку:
– Пастернак – поэт замечательный… Начнет всегда хорошо, а потом зачем-то тыкается в разные стороны.
И все же я разделял мнение Абрама Захаровича Лежнева – разделял и там, где он говорит о культуре Пастернака, и там, где он говорит о «непонятности» Пастернака, и там, где он ее объясняет:
«Несомненно, что Пастернак наиболее культурный из наших поэтов. Увлечение музыкой и философией, немецкими и французскими лириками явственно сквозит из его стихов. Для него культура прошлого – не мертвые знаки, а живой и внятно говорящий смысл. Он ясно ощущает свою преемственную связь с ней и через века и десятилетия перекликается с Шекспиром и Гете, Лермонтовым и Ленау. Это ощущение культурной преемственности отличает его от футуристов, с которыми его обычно объединяют в одну группу. Футуристы старались оттолкнуться от всей культуры, созданной прошлым, – причем скорее в силу чувства, чем знания: они ее знали плохо. Пастернак… подобно Маяковскому… не заставил бы Мечникова и Лонгфелло прислуживать Вильсону – во-первых, потому что он их читал, во-вторых, потому что он их понимает.
Другой особенностью, отличающей Пастернака от футуристов, является… развитие и даже преобладание в его творчестве пейзажа. В этой области футуристы не дали ничего значительного. Для Маяковского природа – только повод поострить, порассуждать, покаламбурить. Ощущение природы у него слабо и бедно. Наоборот, у Пастернака все лучшее в стихах связано с пейзажем. Он ощущает природу остро и своеобразно».[1]
«Пастернак пользуется смысловым затемнением как фактором эстетического порядка… его пресловутая непонятность есть для него средство так или иначе повысить эстетическую ценность произведения… она вовсе не самопроизвольна и нечаянна, а вполне сознательна. Пастернак пишет непонятно потому, что хочет писать непонятно».[2]
«Ни пропуск ассоциаций, ни смещение плоскостей не могут быть выведены из установки на ощущения целиком. Они производятся гораздо более часто и охотно, чем это требуется такой установкой. Причина, как мне кажется, лежит здесь… в… ограниченности пастернаковского материала, который нуждается для своего освежения в ряде приемов, создающих эффект неожиданности. Смещение плоскостей и опущение ассоциативных звеньев приводит к смысловому разрыву, к затрудненности понимания. Та же вещь, которая прозвучала бы обыденно и банально, приобретает характер новизны и значительности, когда вам приходится ее разгадывать, когда то, что должно быть показано, видно только отчасти, краем. Пастернак играет смысловым разрывом и кажущейся алогичностью как приемом».[3]
Путь Пастернака показал, насколько был прав Лежнев: за тридцать лет до того, как Пастернак написал свои автобиографические заметки «Люди и положения», он указал на грехи молодости, в которых кается сам поэт и от которых ему удалось с такой чудодейственной силой избавиться.
«Непонятность» Пастернака была, разумеется, не врожденная, как, скажем, у Хлебникова или у Тихона Чурилина, а благоприобретенная и целенаправленная. Будь она у него врожденная, он вряд ли сумел бы от нее избавиться. Но до поры до времени он и не собирался от нее освобождаться.
По слову самого Пастернака, «пепел рухнувших планет» пока еще, за редким исключением, вроде стихотворения «Брюсову», рождал у него всего лишь «скрипичные капричьо».
Желание «впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту» пока еще воспринималось иным как кокетство.
«Я не знаю, что имеет в виду Пастернак, – замечает Лежнев в книге „Об искусстве“,[4] – и все же отрадно слышать этот призыв к простоте или это сознание ее необходимости. Но меня останавливает странность определений. Возможно, что Пастернак и прав в том смысле, что так воспринимает литературное сознание иных современников простоту и стремление к ней. Но как должно быть заталмужено это сознание для того, что-бы простота казалась неслыханной и воспринималась как ересь!»
Поверил я в искренность стремления Пастернака, только когда прочел первые его переводы из грузинских поэтов, которые Бухарин печатал в «Известиях».
Я прочитал «Стол – Парнас мой» Яшвили:
Будто письма пишу, будто это игра, Вдруг идет как по маслу работа. Будто слог – это взлет голубей со двора, А слова – это тень их полета. Пальцем такт колотя, все, что видел вчера, Я в тетрадке свожу воедино, И поет, забивается кончик пера, Расщепляется клюв соловьиный. А на стол, на Парнас мой, сквозь ставни жара Тянет проволоку из щели. Растерявшись при виде такого добра, Столбенеет поэт-пустомеля. На чернил мишуре так желта и сера Светового столба круговина, Что смолкает до времени кончик пера, Закрывается клюв соловьиный. А в долине с утра – тополя, хутора, Перепелки, поляны, – а выше Ястреба поворачиваются, как флюгера Над хребта черепичною крышей. Все зовут, и пора, вырываюсь, ура, И вот-вот уж им руки раскину, И в забросе, в забвении кончик пера, В небрежении клюв соловьиный.В неслыханную простоту Пастернак впервые впал, переводя грузинских поэтов. Переводы грузинской лирики – это поворотный пункт в его «собственной» поэзии.
И, конечно, с еще большей силой поверил я, что грядет новый Пастернак, когда прочел его новые стихи в «Знамени» за 1936 год. От предварявших цикл од в честь самодержца я попросту отмахнулся – их можно было принять за насмешку: до того они были сознательно беспомощны и неуклюжи:
И смех у завалин, И мысль от сохи, И Ленин и Сталин И эти стихи.(«Я понял: все живо…»)
Меня обрадовало признание поэта, что пока еще и он, Пастернак, отвечает скрипичным капричьо на пепел рухнувших планет, а главное, призыв к поэту вообще и к самому себе в частности – вновь скрепить распавшуюся еще в конце прошлого века связь времен в русской поэзии, призыв – твердо знать, какое, милые, у нас тысячелетье на дворе и чем оно живет и полнится, ощущать ритм биения народного сердца и, не втираясь в шеренгу подлипал, как выразился тот же Борис Пастернак в следующем цикле своих стихов, напечатанных в «Новом мире» в конце того же, 1936 года («Из летних записок»), подразумевая когорту тогдашних одописцев, жить с народом единой жизнью, быть выразителем чаяний его, упований и устремлений, более того: влечь его за собой.
Не выставляй ему отметок, —так определяет Пастернак истинное отношение поэта к народу.
Растроганности грош цена, Грозой пади в объятья веток, Дождем обдай его до дна. Не умиляйся, – не подтянем. Сгинь без вести, вернись без сил, И по репьям и по плутаньям Поймем, кого ты посетил. Твое творение не орден: Награды назначает власть. А ты – тоски пеньковой гордень, Паренья парусная снасть.(«Все наклоненья и залоги…»)
Это уже предвещало Пастернака «Рождественской Звезды», «Гамлета», «Магдалины», «Гефсиманского сада», «Быть знаменитым некрасиво…», «В больнице», «Души». Пастернаку претили формальные изыски, через которые он с таким блеском прошел («Все наклоненья и залоги Изжеваны до одного. Хватить бы соды от изжоги!») и которые теперь вызывают у него горькую усмешку («Так вот итог твой, мастерство?»).
А перед памятными днями Шевченко (1939) Пастернак выбрал для перевода его поэму «Мария». И то, что Пастернак не отказался перевести что-либо из произведений как будто бы очень далекого ему поэта, выросшего из народных сказаний и песен, и то, что он остановился именно на «Марии», свидетельствует и о переломе в стилевой системе Пастернака, и о начавшейся его тяге к темам философским и евангельским.
Пройдет еще несколько лет – и я почувствую себя пыльной изжаждавшейся веткой, на которую вдруг хлынул благодатный летний солнечный дождь стихов Пастернака, А все в том же 36-м году подоспела «дискуссия о формализме», на которой Борис Пастернак между прочим сказал, что требовать от писателя: «Пиши то-то и то-то, так-то и так-то» – это все равно что требовать от женщины: «Роди мне мальчика или девочку», обращался к критикам с просьбой: «Орите на нас, товарищи, мы к этому давно привыкли, но хоть по крайней мере орите на разные голоса, а то все равно никто уже вас не слушает», и утверждал, что в статьях «Правды» об искусстве любви к искусству не чувствуется. В конце той же дискуссии Пастернака «за кулисами» упросили «покаяться». Ну уж он и сыграл «сцену в одном действии»! Что-то заранее вытверженное пробормотал, как сельский дьячок, а потом обратился к президиуму:
– Ну что? Я все сказал?
У одного из сидевших в президиуме, члена редколлегии журнала «Знамя» хватило ума и такта подойти к Пастернаку и что-то прошептать ему на ухо.
– Ах, простите, – выслушав его, извинился перед публикой Пастернак, – я вот что еще забыл…
И под смех сидевших в зале «покаялся» в чем-то еще.
А вскоре после этого произошло уникальное в истории «ежовских» лет событие: отказ Пастернака поставить свою подпись под требованием писателей расстрела осужденных по одному из процессов.
Когда мы с ним, уже после войны, познакомились близко, он как-то сказал мне, что Ахматова, устрашенная судьбой своего сидевшего в концлагере сына и считавшая себя отчасти виновной в его судьбе, уговаривала его ради семьи сдать хотя бы одну из самых неважных позиций.
Пастернак ей ответил, что он не может этого сделать, во-первых, потому что просто не может, а во-вторых, потому что дорожит любовью к себе молодежи, которую и в ту глухую пору, когда он как поэт был под домашним арестом, все-таки ощущал постоянно – и при случайных встречах, и в письмах от незнакомцев, летевших к нему со всех концов России.
Пастернак не только умом, но и сердцем принял истину: вера без дел мертва. Когда (в 1949 году) впервые арестовали друга Бориса Леонидовича, а впоследствии – секретаря, Ольгу Всеволодовну Ивинскую, он взял на свое иждивение двух ее детей. Дочь Ольги Всеволодовны Ира говорила мне, что Борис Леонидович вполне и во всем заменил ей отца. Забота об их материальном благополучии сочеталась у него с заботой об их нравственно-эстетическом воспитании. В послевоенный период книжного голода Борис Леонидович неожиданно позвонил Евгению Львовичу Ланну и попросил устроить «товарообмен»: он, Пастернак, подарит ему двухтомник Шекспира в своих переводах, изданный «Искусством» и мгновенно ставший библиографической редкостью, а у Ланна просит взамен какой-либо из романов Диккенса в переводе его жены Александры Владимировны Кривцовой. Ланн был удивлен: зачем вдруг Пастернаку понадобился Диккенс на русском языке? Оказывается, он заботился об Ирином круге чтения. Он регулярно, в течение многих лет, не таясь, посылал деньги сосланным и не сосланным женам и детям своих сосланных или казненных друзей.
Как умел Борис Леонидович согревать несчастных своей душевной заботой о них, как умел он, мнимый «небожитель», вникать во все их нужды, доказывают его письма из Москвы в далекую, глухую ссылку к дочери Марины Цветаевой, Ариадне Сергеевне Эфрон, копии с которых она подарила мне.
Быт приятелей и друзей занимал его мысли. Зная, что я с семьей ючусь в проходной полутемной одиннадцатиметровой комнатенке, служившей и рабочим кабинетом, где я переводил «Дон Кихота», трилогию Бомарше, «Гаргантюа и Пантагрюэля», и гостиной, и спальней, он проявлял живой интерес к моим квартирным делам:
Неужели у вас нет никаких надежд на переселение? Ведь теперь как будто не только «опричнина», но и «земщина» сдвинулась с места.
Он имел в виду, что еще до смерти Сталина начали получать отдельные квартиры не только писатели-лауреаты, писатели-фавориты, но и рядовые члены Союза.
Узнав об аресте ленинградского поэта Сергея Дмитриевича Спасского (1951), Пастернак тотчас послал его родным тысячу рублей.
Все люди физического труда, имевшие дело с Борисом Леонидовичем, не могли надивиться той щедрости, с какой он оплачивал их услуги. Шофер Союза писателей Ваня Полухин, обычно перевозивший мне вещи на дачу, всю дорогу, бывало, ругал писателей из матушки в мать за то, что нос дерут перед меньшой братией, и делал исключение только для Пастернака:
Вот Борис Леонидыч – это человек! Он тебе и заплатит как следует, и за холуя не считает – с собой рядом за стол посодит и накормит досыти.
Когда от Пастернака по старости ушел сторож его дачи, Борис Леонидович продолжал выплачивать ему его жалованье.
Впервые я увидел Пастернака мельком, перед самой войной, на лестнице Гослитиздата, помещавшегося тогда в Большом Черкасском переулке. Узнал я его мгновенно.
Эренбург поделился с читателями своим впечатлением: когда в Париже Андре Жид впервые увидел Пастернака, то у Жида было такое выражение лица, как будто навстречу ему шла сама Поэзия. Разумеется, я не знаю, какое у меня в тот момент было выражение лица, но что я воспринял приближение Пастернака именно как приближение самой Поэзии – это я помню отлично. А ведь у Пастернака не было ровно ничего от небожителя: и походка-то у него была косолапая, и гудел-то он как майский жук, проводя звук через нос, произнося «с» с легким присвистом и вдруг срываясь на почти визгливые ноты, и смеялся-то он, обнажая редкие, но крупные, лошадиные зубы, и держался-то с полнейшей непринужденностью, хотя и без малейшей развязности, без малейшего амикошонства даже с самыми близкими своими друзьями, но всегда и везде – как у себя дома.
Ощущение приближения самой Поэзии возникало у меня потом при каждой встрече с Пастернаком, даже когда мы были уже коротко знакомы, ощущение ее безыскусственного очарования, в которое вплеталась детскость грусти и веселья, лукавинки и озорства.
Летом 1941 года мне дали довольно бледный экземпляр отпечатанных на машинке новых тогда для меня стихотворений Пастернака, написанных им перед войной. И хотя время, казалось бы, совсем было неподходящее для упоения звоном лир, ибо читал я эти стихи под грохот зениток в Болшеве, куда уезжал к знакомым отдыхать от дежурств на крыше, я был обрадован как при беседе с человеком, который давно тебя чем-то пленил, но с которым до сей поры ты никак не мог найти общий язык, и вдруг… Наконец-то! Средостения более нет. Ах, Боже мой, – думалось мне, – какой же это дивный поэт, какой русский и какой в то же время всечеловеческий!.. И с какой чудесной неожиданностью случилось с ним это преображение!
Торжественное затишье, Оправленное в резьбу, Похоже на четверостишье О спящей царевне в гробу. И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь».(«Иней»)
Последние две строки я тихо шептал потом всюду, где родная природа особенно ненаглядна. Или о дроздах:
У них на кочках свой поселок, Подглядыванье из-за штор, Шушуканье в углах светелок И целодневный таратор.(«Дрозды»)
Позднее в «Земном просторе» у меня перед глазами выросли две его елки.
У Мандельштама даже в лесу от елки пахнет стеарином:
Сусальным золотом горят В лесах рождественские елки; В кустах игрушечные волки…У Пастернака елка, привезенная из лесу, все еще пахнет снегом.
По силе вживания и вчувствования в природу «Иней» и «Дрозды» могут сравниться с более поздней «Липовой аллеей»:
Но вот приходят дни цветенья, И липы в поясе оград Разбрасывают вместе с тенью Невыразимый аромат. Гуляющие в летних шляпах Вдыхают, кто бы ни прошел, Непостижимый этот запах, Доступный пониманью пчел. Он составляет в эти миги, Когда он за сердце берет, Предмет и содержанье книги, А парк и клумбы – переплет.Пастернак приметливым взглядом впивается в окружающий мир. Этого мало – он смотрит на себя глазами внешнего мира:
Холодным утром солнце в дымке Стоит снопом огня в дыму. Я тоже, как на скверном снимке, Совсем неотличим ему. Пока оно из мглы не выйдет, Блеснув за прудом на лугу, Меня деревья плохо видят На отдаленном берегу.(«Заморозки»)
Так может выразиться тот, кто живет с природой одной жизнью, кто «тает сам, как тает снег», кто «сам, как утро, брови хмурит» («Рассвет»), кто ощущает себя не вне ее и не над ней, а внутри нее, не как ее властелин, а как зоркий и слухменый ее насельник, вполне равноправный и с пчелами и с дроздами. Именно стихи о природе, впоследствии вошедшие в книгу Пастернака «На ранних поездах», я воспринял как его второе рождение.
… Война продолжалась. До меня доходили обрывки разговоров Пастернака с Богословским. Кто-то сказал во время обеда в Клубе писателей Пастернаку, что тот удивительно вел себя в Чистополе, оказывая помощь эвакуантам кому и чем мог. На это Пастернак ответил:
Ну, это пустяки. Хотя вообще я убежден, что если бы власть у нас в стране перешла ко мне и к моим друзьям, народу стало бы жить неизмеримо легче.
И это на всю союз-писательскую харчевню, где шпики сидели, да и сейчас посиживают, чуть не за каждым и не под каждым столом! Или – там же и не менее гулко:
Я люблю советского человека, но только ночью, на крыше, во время бомбежки, но это потому, что тогда все вообще напоминает вечера на хуторе близ Диканьки!
Кстати сказать, все лето 1941 года Пастернак неукоснительно дежурил, когда ему это полагалось по расписанию, на крыше «Лаврушинского дома», меж тем как пламенный советский патриот Асеев, откликавшийся в газетах едва ли не на каждую годовщину Красной Армии лефовско-барабанной дробью:
Сияй, пунцовая, Пятиконцовая, Красноармейская звезда! —мигом выкатился из Москвы, едва лишь загрохотали первые гитлеровские орудия, за что получил вдогонку двустишие:
Внимая ужасам войны, Асеев наложил в штаны;меж тем как Луговской, Кирсанов и другие, задолго до войны призывавшие в своих стихах читателей держать порох сухим, нанимали вместо себя дежурить кого-либо из простонародья, а пролетарский писатель коммунист Федор Гладков, игравший роль, как в «Анатэме» Леонида Андреева, «некоего ограждающего» вход в бомбоубежище, властной рукой пытаясь оттолкнуть постороннюю женщину, объявил ей: «Здесь только для писателей!»; женщина в свою очередь оттолкнула его еще более мощной, рабочей мозолистой рукой и, второпях приняв его за существо одного с нею пола, на что физиономия и прическа Гладкова давали ей некоторые основания, проговорила: «Пошла ты к черту, старая блядь!» – и благополучно проникла в привилегированное бомбоубежище.
Пастернаку не терпелось, чтобы Сталин и Гитлер столкнулись лбами.
Скорей бы пятый акт! – говорил он летом 42-го года Богословскому.
Время было полуголодное. Писатели тогда только и делали, что осаждали приемные начальников литературного департамента – Фадеева и Скосырева, а потом, после смены кабинета в 44-м году, Тихонова и партработника Поликарпова, прозванного писателями «Политкарповым», с таким «выраженьем на лице» – лице вышибалы из дешевого публичного дома, – как будто ему неудачно ставят клизму, и чего-то выпрашивали: кто – талончиков на завтрак, кто – талончиков на ужин, кто – «литерной карточки», кто – «абонемент». Пастернак сочинил эпиграмму «На советского поэта» и прочел Богословскому:
На поэта непохожий, Ты не Фидий, не Пракситель, Ты – в прихожей у вельможи Изолгавшийся проситель.Но вот уже наметился исход войны, роковой для гитлеризма, Пастернак выехал на фронт. Затем стали появляться в печати его фронтовые стихи. Такие его строки, как «Нас время балует победами…», не будили в моей душе сочувственного отклика; за этими победами я уже прозревал эру новых злодеяний, чинимых упивающимся своим торжеством деспотом, – торжеством, завоеванным ему людьми, в семьях у которых кого-нибудь да выбило грозой ежовщины. Я был уверен, что Чехия, Моравия и Сербия, за которых радовался Пастернак в другой своей оде, попадут из гитлеровско-гиммлеровского огня в сталинско-бериевское полымя.
Что же касается этих самых пастернаковских «Гром победы, раздавайся», вымученных, бесцветных и писклявых, то сам Борис Леонидович впоследствии в разговоре со мной дал им достодолжную оценку и надлежащее истолкование. Но об этом – чуть-чуть позже.
Весной 1944 года Пастернак читал в Клубе писателей, в старом здании, в восьмой комнате на антресолях, свой перевод «Антония и Клеопатры», заказанный ему Вл. Ив. Немировичем-Данченко.
Во время публичных выступлений Пастернак держал себя до того по-семейному, до того по-родственному, что казалось: кончится вечер – и он всех слушателей пригласит к себе или пойдет в гости в кому-нибудь из нас.
В тот вечер, когда Пастернак читал свой перевод «Антония и Клеопатры», я впервые увидел, с какой ненаигранной, врожденной непринужденностью держит он себя «на публике», и впервые услышал, с какой выразительностью, достигаемой, на первый взгляд, самыми простыми средствами, почти не меняя тембра голоса, воссоздает всю партитуру трагедии.
Эдуард Багрицкий пел и свои, и чужие стихи, что отнюдь не смазывало их живописности и не затемняло их смысла. Пастернак как бы рассказывал стихи, что отнюдь не заглушало бурления их ритмического потока и, так же как у Багрицкого, не заволакивало очертаний, не разжижало красок и не скрадывало биения мысли.
7 июня 1944 года в том же Клубе, но уже в тогдашнем большом зале, где теперь ресторан, состоялся особый вечер – вечер «ранних стихов» Антокольского, Пастернака, Тихонова, Сельвинского. Сюда же затесался (наш пострел тогда везде поспевал) и Эренбург, похожий на Соломона из пушкинского «Скупого рыцаря», но только преуспевшего, однако и сейчас еще в случае надобности готового услужить и достать безвкусные и бесцветные капли, и читал изысканно-пустопорожние, захолустнодекадентские стихи.
Украшением вечера явился Сергей Городецкий, внезапно вновь вломившийся в непролазную языческую чащобу, запрыскавший золочеными стрелами, загрохотавший перуньими громами, показавший нам прячущихся за мшистыми пнями и корягами чертяк и колдунов. Мне невольно вспомнились слова Гумилева: «Большая радость для нас всех Сергей Городецкий».[5]
Пастернак нарушил жанр вечера. Он прочел для проформы несколько широко известных ранних своих стихотворений, вроде: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», а затем, попросив позволения прочесть отрывки из новой вещи, прочел «Зарево», но, кажется, тогда он называл эту вещь «Отпускник». Поэма так и осталась незаконченной. Мне она тогда же показалась еще одним «скрипичным капричьо». Чадят головешки пожарищ, полным-полно сирот и бездомников, льется кровь на фронте, льется кровь и в тылу, полнятся лазареты и, что еще страшнее – лагеря – пленными, людьми, молвившими неосторожное слово, людьми, которые занимали при оккупантах самые незначительные должности, только чтобы самим не умереть с голоду и чтобы прокормить старуху-мать или малых ребят и которым не могли помочь воевавшие и отрезанные от семей мужья, дополыхивает, дотлевает единственная в истории человечества война, война, тем именно и страшная и непохожая ни на какую другую, что она шла не только на фронте, с врагом подлинным, с врагом внешним, но и в тылу, с крестьянами, с интеллигентами, с обывателями, а лучший поэт русской современности Борис Пастернак отделывается описанием бытовых и сердечных неурядиц у отпускника и безответственными восклицаниями, заимствованными из газетных передовиц:
А горизонты с перспективами!
А новизна народной роли!
Возвращаясь с «вечера ранних стихов», я поделился впечатлением с моим спутником Богословским:
– А ведь король-то гол! Ему нечего сказать о нашем страшном времени, хотя бы и при помощи Эзопова языка.
Николай Вениаминович скрепя сердце вынужден был согласиться.
Любопытно, что у меня ничего не осталось в голове из «Отпускника». Мне запомнилось чтение Пастернака – опять-таки не пошло-актерское и не завывально-поэтическое, совсем особенное, сложное в своей видимой простоте, и опять-таки его живая манера общения со слушателями, как со своими добрыми знакомыми. Перед тем, как начать чтение, он извинился за то, что будет плохо читать, оттого что в квартире у него ремонт, он живет у друзей и всю ночь не спал, оттого что его немилосердно, поедом ели клопы. Подобные предуведомления, как я убедился с течением времени, никогда не были у Пастернака заигрыванием с публикой, оригинальничаньем или манерничаньем – нет, так просто и открыто – повторяю – держал он себя со всеми, кроме «начальства» и кроме «шеренги подлипал», в разговоре с которыми у него могли внезапно появиться и высокомерные, и презрительные, и гневные ноты.
Вывод, сделанный мной после «вечера ранних стихов», был, само собой разумеется, вывод скороспелый, но в оправдание себе я должен сказать, что и самые близкие ему поэты начинали тогда тревожиться за поэтическое будущее Пастернака. Когда Пастернак сообщил Ахматовой, что собирается переводить «Фауста», она с дружеской укоризной в голосе заметила, что ему пора создать своего собственного «Фауста». Поздний Пастернак ответил маловерам «Стихами из романа» и книгой «Когда разгуляется» – все это принадлежит к лучшему, что человек когда-либо писал о Боге, о природе и о самом себе.
Мое знакомство с Пастернаком произошло в Гослитиздате летом 1943 года, все в том же Большом Черкасском переулке, на третьем этаже. Я тогда редактировал однотомник произведений Федерико Гарсии Лорки, и заведующий отделом иностранной литературы Борис Леонтьевич Сучков попросил меня привлечь к этому изданию в качестве переводчика стихов и Пастернака, питая на его согласие тем большую надежду, что перед войной Пастернак перевел несколько стихотворений Рафаэля Альберти, поэта куда менее заманчивого для переводчика. Борис Леонидович говорил со мною не любезно (это слово никак не передает его способа общения с людьми), а со свойственной ему дружелюбной открытостью, с тем опять-таки врожденным и непреложным убеждением, что на свете «ни одна блоха – не плоха», за исключением разве высшего начальства, да и среди начальства попадаются блохи кусачие и менее кусачие. Вот только у нас менее кусачие с годами часто превращались в «более».
Борис Леонидович словно чувствовал передо мной какую-то неловкость, что вот он отказывается переводить Лорку (он тогда был занят переводом «Антония и Клеопатры») и этим огорчает меня, и словно старался неловкость эту замять. Другой на его месте мог бы ответить вежливым, но кратким и решительным отказом и на сем поставить внушительную точку. А Пастернак стал рассказывать, как он переводил Альберти, что представляется ему в нем как в поэте наиболее любопытным, подробно расспрашивал меня о Лорке – так, как будто собирался перевести по крайней мере целую книгу его стихов. И все это с его обычной чистой наружной сбивчивостью, наружной бессвязностью, хаотичностью, разбросанностью, противоречивостью, с его любовью к блужданиям в словесных лабиринтах, хотя блуждал он, держа в руке незримую для собеседника Тезееву нить.
(Тут кстати пришел мне на память рассказ свояченицы Андрея Белого, сестры Клавдии Николаевны Бугаевой, Елены Николаевны о встрече с Борисом Леонидовичем на улице. Завидев ее еще издали, Борис Леонидович радостно заулыбался: «Здравствуйте, Клавдия Николаевна!.. То есть, простите, ради Бога! Здравствуйте, Елена Николаевна! Это я потому, что вы очень похожи… То есть вы совсем не похожи!» Пастернак был глубоко прав в своей кажущейся алогичности: сестры были до того духовно и душевно близки, что их внутренняя, более чем сестринская родственность явственно проступала в их несхожих внешних обликах.)
Так минутный деловой разговор с Пастернаком превратился для меня в увлекательную беседу.
С того дня никаких поводов для бесед у меня с ним не возникало, и при встречах мы только раскланивались.
Но вот после войны до меня начинают доходить слухи, что Пастернак вовлечен в круг христианских идей. Ему тогда еще разрешали творческие вечера с правом отвечать на записки. На одном из таких вечеров в присутствии переводчика Владимира Любина, который мне об этом и рассказывал, Пастернаку была брошена записка: «Верите ли вы в бессмертие души?» Пастернак сказал:
– Ответ на такой вопрос – не выстрел из пистолета, для которого достаточно только нажать курок. Сейчас я могу вам ответить лишь так: этим вопросом – бессмертием души – жила вся русская поэзия: от Ломоносова и Пушкина до Владимира Соловьева и Блока.
В июне 1946 года был объявлен его вечер в Политехническом музее – это был последний его именной вечер как оригинального поэта. Затем ему разрешали изредка участвовать в «сборных солянках», и дважды читал он отрывки из своего перевода «Фауста» – в Малом зале ВТО и в Клубе писателей.
В ВТО он читал «Фауста» еще при жизни Сталина, насколько у меня хватает памяти – в 1950 году. Устроителем и председателем этого вечера был единственный из русских послереволюционных шекспироведов, сразу и в полную меру оценивший переводы Пастернака из Шекспира, Михаил Михайлович Морозов.
У контроля развивал бешеную энергию будущий поэт-переводчик Константин Петрович Богатырев, чтобы всеми правдами, а главное – неправдами провести на вечер как можно больше народу и ухитрялся по одному билету протащить чуть ли не десяток жаждущих услышать «Фауста» и увидеть Пастернака.
В конце вечера Морозов куда-то отлучился – по крайнему моему разумению, к «трактирной стойке», к коей он весьма охотно и при каждом удобном случае «пригвождался». А в это время Пастернак закончил чтение «Фауста», уже отгремели аплодисменты переводчику, и уже все требовательнее, все неотступнее и грознее стали раздаваться крики: «Прочтите свои стихи!» Пастернак упорно отказывался и вдруг на секунду дрогнул, молча что-то начал доставать из другой папки. И вот тут я увидел, что в проходе меж рядов пробирается бледный, как полотно, «Мика» Морозов. Он с неожиданной для его грузной фигуры легкостью сильфиды вспорхнул на эстраду и помертвелыми губами, однако громко и отчетливо, на весь Малый зал, произнес:
– Вечер окончен, товарищи! Вечер окончен!
На вечере в Политехническом музее Пастернак читал и ранние свои стихи, как, например, «Импровизация» («Я клавишей стаю кормил с руки…»), причем когда он вдруг запинался (на сей раз – непреднамеренно) на какой-нибудь давней строчке, ему со всех сторон подсказывали слушатели.
Прочел он и несколько стихотворений из «Ранних поездов». До сих пор стоит у меня в ушах его по-детски добродушно-успокаивающий голос:
Глухая пора листопада. Последних гусей косяки. Расстраиваться не надо: У страха глаза велики.(«Иней»)
Прочел он «Зиму» и «66 сонет» Шекспира. Сонет с его словно про то время написанными строчками:
И вспоминать, что мысли заткнут рот, И разум сносит глупости хулу… —был покрыт громкими рукоплесканиями и требованиями прочесть еще раз, – Пастернак был вынужден прочитать его на бис. Читал он и «На Страстной», но я, как это иногда бывает, загляделся на него и весь ушел не в слух, а в зрение. Особенно меня поразило его стихотворение «Памяти Марины Цветаевой», которое было напечатано только после его кончины:
Тут все – полуслова и тени, Обмолвки и самообман, И только верой в воскресенье Какой-то указатель дан. …………………………. Лицом повернутая к Богу, Ты тянешься к Нему с земли, Как в дни, когда тебе итога Еще на ней не подвели.И тогда же я впервые услышал «Гамлета», в котором разговор со временем идет у поэта уже начистоту и напрямки:
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.
Я люблю Твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.
Но продуман распорядок действий,
И неотвратим конец пути,
Я один, все тонет в фарисействе,
Жизнь прожить – не поле перейти.
Тут я удостоверился, что разговоры о христианстве Пастернака – разговоры не пустые и что он уже отдает себе полный отчет в том, какое тысячелетье теперь на нашем российском дворе.
После вечера ко мне подошел тогда только что демобилизовавшийся мой знакомый молодой человек и сказал:
– Как дико представить себе, что Пастернак – член Союза писателей!
Он был совершенно прав. В октябре 1958 года, во время «горячих обсуждений», как назвала «Правда» одно из заседаний, на которых разбиралось дело о присуждении Пастернаку Нобелевской премии, «братья-писатели» издали такое дикое зловоние, что хоть зажимай нос. Там наперебой выслуживались перед начальством завистливый и давно уже выдохшийся Тихонов, стоявший на задних лапах, когда это еще у нас писателям в строгую обязанность и не вменялось, один из первых служителей культа (это ведь у него в стихотворении, написанном в самом начале 20-х годов, мальчик-индус «молился далекому Ленни, непонятному, как йоги»); и чревовещатель Леонид Мартынов, изо всех сил мутивший воду в луже своих стихов, чтобы лужу можно было принять хотя бы за озеро; и Вера Панова, примчавшаяся из Ленинграда, только чтобы и ее голос был услышан начальством; и критики Карьерий Подлецианович Вазелинский, то бишь Корнелий Люцианович Зелинский, и Перцов; и всем бездарям бездарь Николай Чуковский, и Петлюрий, то бишь Юрий, Смолич, уже при Хрущеве ратовавший за запрещение «Дней Турбиных» в киевском Театре имени Леси Украинки, и пигалица с глазами змеи Вера Инбер, но о ней стоит поговорить особо. В ранних своих стихах она оповещала, что ее душа «была маркиза», забывая о том, как напомнил нам на лекции в Институте новых языков магистр филологии, ее земляк Константин Борисович Бархин, что она «дочь пуостого евъейского одесского фабуиканта». А в 23-м году Инбер перерядилась, о чем она тоже нашла нужным сообщить читателю: «Уж своею Францию не зову в тоске, Выхожу на станцию в ситцевом платке…». Это стихотворение она напечатала в «Красной нови» и посвятила его ответственному редактору журнала, тогда еще всесильному Воронскому. Вячеслав Полонский эвона когда отнес ее к категории «без лести преданных»!
В 35-м году нежданно-негаданно повеял теплый перелетный ветер в окна дома Ахматовой. Были напечатаны ее переводы армянского поэта Алазана, которого потом расстреляли. Был устроен для узкого литературного круга вечер Ахматовой. Ей устроили овацию. Злые языки уверяли, что в кулуарах билась в истерике Вера Инбер, приговаривая: «Зачем же я десять лет перестраивалась!..» В этом же или в 36-м году Вера Инбер, племянница Троцкого, совершила вояж в Норвегию, где в это время проживал ее дядюшка. Поехала она туда, конечно, получив задание: проникнуть по-родственному к бывшему Наркомвоенмору и кое-чего вынюхать, а может быть, – кто знает? – попытаться заманить его в капкан. Но это только мое предположение, так сказать, рабочая гипотеза.
Почему-то многие узнали, что Инбер была в Норвегии и навестила дядюшку. Кого угодно за такой визит сцапали бы мигом. Чтобы прикрыть агента, в 36-м году по Инбер выпалила «Правда». Фельетон назывался «Нельзя ли без пошлости?» Имелись в виду ее стихи о войне в Испании.
Стихи и впрямь пошлые, но тогда все советские стихи, посвященные Испании, были отмечены печатью пошлой халтуры. Ну вот, например, чем порадовал нас «Асеев Колька»:
От Севильи до Гренады В тихом сумраке ночей Рвутся бомбы и гранаты Озверелых палачей.Почему же высекли только Инбер?.. На какое-то время она примолкла… И занялась гепеушно-полезной деятельностью в Переделкинском писательском городке. В 37-м году она подсаживала в семьи арестованных «наседку» – критика Осипа Резника на предмет подслушивания разговоров – видите ли, он расходится с женой, и ему, бедному, негде жить. Она взяла на хранение у своей подруги, жены арестованного критика Беспалова (слышал от нее самой) драгоценности, которые та просила употребить на содержание дочери, ибо чувствовала, что заберут и ее, и эти драгоценности присвоила, так что если б не домработница, взявшая девочку на свое полное иждивение, то неизвестно, что бы с девочкой сталось. Облазив переделкинские дачи, она после ежовщины зарыскала по московским «открытым» домам. Однажды напросилась по телефону в гости к незнакомой ей и совершенно для нее неавторитетной поэтессе Щепкиной-Куперник, под предлогом, что ей хочется вынести на суд Татьяны Львовны свои последние стихи. Но она с одного разу смекнула, что здесь поживиться нечем. Я был в тот вечер у Татьяны Львовны. Инбер читала там свою поэму о Грузии, заканчивавшуюся тостом за здоровье Сталина: «Иосиф Виссарионович, за вас!» («Грузинский дневник»).
Инбер, вероятно, рассчитывала, что слушатели, авось, на эту строчку клюнут и ругнут вождя. Слушатели держали язык за зубами. Татьяна Львовна из вежливости похвалила поэму, сделав одно замечание: поэма написана октавами, а октава требует-де более точных рифм. Инбер выкатилась несолоно хлебавши, больше носу туда не показывала и даже из вежливости не позвонила. В Ленинграде, во время блокады, она спекулировала съестными припасами военного госпиталя, которым ведал ее супруг. И вот эта почтенная во всех отношениях дама на общемосковском собрании писателей 31 октября 1958 года пропищала реплику по поводу проекта резолюции о Пастернаке: «Эстет и декадент – это чисто литературные определения. Это не заключает в себе будущего предателя. Это слабо сказано».
Но все эти литераторы, или, как называл в разговоре иных советских писателей Сергей Клычков, ретирадоры, производя это слово от «ретирады», то есть нужника, действовали ей-ей логично, оттого, что Борис Пастернак был им не компания.
…Несколько месяцев спустя, уже после того, как Ахматову и Зощенко вытряхнули из Союза писателей и лишили пайков, я услышал от Богословского, что Пастернак пишет задуманный им еще до войны роман под заглавием «Мальчики и девочки» и что сердцевину его составляет христианство. Пройдет еще некоторое время – и Николай Иванович Замошкин даст мне перепечатать стихотворение Пастернака «Рождественская Звезда».
При чтении «Рождественской Звезды» я пережил одно из тех редких потрясений, какие когда-либо вызывало у меня искусство слова.
Всякое истинное искусство традиционно и своеобычно, национально и всечеловечно, вечно в своей современности. Оно зарождается не в воздухе – оно вырастает на почве, сосет мочками корней соки земли, а затем уже принимает неповторимую окраску и разливает особое благоухание. Пастернак не одинок в своем стремлении внести психофизиологические черточки в облик действующих в Евангелии лиц, Пастернак не одинок и в показе чудесного, вспыхивающего среди обыденного, в дерзновенном смещении широт и долгот.
Так Чехов в рассказе «Студент» (в рассказе, который, по свидетельству Н. Н. Вильмонта, любил Пастернак), нимало не снижая, как сам автор выражается в финале, «высокого смысла» евангельских событий, вот уже сколько веков отзывающихся в мире своим незаглушимым гулом, а лишь приближая их к нашему взору, к нашим чувствам и ощущениям, угадывает увиденные им на многовековом расстоянии, казалось бы, мелкие, но такие важные, так много объясняющие в поведении апостола Петра черточки: «После вечери Иисус смертельно тосковал в саду и молился, а бедный Петр истомился душой, ослабел, веки у него отяжелели, и он никак не мог побороть сна. Потом… Иуда… поцеловал Иисуса и предал его мучителям. Его связанного вели к первосвященнику и били, а Петр, изнеможенный, замученный тоской и тревогой, понимаешь ли, не выспавшийся,[6] предчувствуя, что вот-вот на земле произойдет что-то ужасное, шел вслед… Он страстно, без памяти любил Иисуса и теперь видел издали, как его били…»
Так Бунин заставляет своих иконописцев из стихотворения «Новый храм» вспоминать детство Христа, «порог на солнце в Назарете, верстак и кубовый хитон».
Так тот же Бунин, описывая бегство святого семейства в Египет, замечает, что Божья Матерь запахнула младенца куньей шубкой.
Вот так и у Пастернака:
Доху отряхнув от постельной трухи И зернышек проса, Смотрели с утеса Спросонья в полночную даль пастухи. ………………………….. Вдали было поле в снегу и погост, Ограды, надгробья, Оглобля в сугробе, И небо над кладбищем, полное звезд.Звезда пламенеет, «как стог», «как отблеск поджога, как хутор в огне и пожар на гумне».
Она возвышалась горящей скирдой[7] Соломы и сена Средь целой вселенной, Встревоженной этою новой звездой.Налитая южной знойной синевой вифлеемская ночь оборачивается русской морозной ночью с обжигающим щеки ветром и шуршащими извивами поземки, ибо для русского мужика рождественская ночь не менее значительна, чем для вифлеемского пастуха или же ученого звездочета.
А жизнь вокруг идет своим чередом, жизнь будничная, привычная и все же пленительная этой своей неприглядностью:
Средь серой, как пепел, предутренней мглы Топтались погонщики и овцеводы, Ругались со всадниками пешеходы, У выдолбленной водопойной колоды Ревели верблюды, лягались ослы.Но среди серой мглы еще ярче горит глядящая на Деву Звезда Рождества.
Это как на картине Чима де Конельяно «Введение Марии во храм». Жизнь повседневная продолжается: на ступенях храма расположились торговцы голубями, менялы и, наверно, зазывно и противно, визгливо орут, силясь перекричать друг друга, и по этой же лестнице идет скромная девочка-подросток, и что-то в этой девочке-подростке есть необычайное, предвещающее радость всему миру.
Создатель «Рождественской Звезды» не одинок, но единственен. «Рождественская Звезда» Пастернака – это не простой пересказ евангельского события, хотя бы и в прекрасных стихах, и не «рассуждение по поводу», хотя бы и исполненное глубокомыслия. Пастернак не размышляет о Божьем величии, подобно Ломоносову и Державину. Он пока еще, до стихотворения «В больнице», не выражает прямо своей благодарной любви к Богу, как выражает ее все тот же Бунин:
И цветы, и шмели, и трава, и колосья, И лазурь, и полуденный зной… Срок настанет – Господь сына блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?» И забуду я все – вспомню только вот эти Полевые пути меж колосьев и трав — И от сладостных слез не успею ответить, К милосердным коленам припав.Пастернак не выражает, подобно Бунину, своего ощущения Божества, присутствующего и во вне, и внутри самого поэта, – ощущения такой глубины и силы, что оно становится как бы уже и телесным:
А Бог был ясен, радостен и прост: Он в ветре был, в моей душе бездомной — И содрогался синим блеском звезд В лазури неба, чистой и огромной.Новизна «Рождественской Звезды» Пастернака – в живости, наглядности изображения хода мировой истории, борьбы «все злей и свирепей» дующего противохристианского ветра со светочем христианской веры. А дует он, кстати сказать, и в «Студенте» – «холодный, пронизывающий», «жестокий». Но светоч не гаснет. Он разгорается все сильней и сильней. По Пастернаку, он порождает всю гуманистическую культуру, все истинные радости, которым человечество доныне радуется и которыми оно животворится и светлеется, как поется в одном церковном песнопении– от сокровищ, скопленных в музеях, от книгохранилищ, где скоплены чудеса мысли и духа, от картинных галерей до висящих на рождественских елках золотых шаров, на которые таращит изумленно-восторженные глазенки детвора. И это изображение не разжижает ни единая капля мутной или напыщенно-бессильной риторики, ни единая капля антипоэтического «мудрования». Здесь все имеет свои очертанья, свой запах, свой цвет…
«Все почти гении искусства принадлежат христианству, – писал Гончаров. – Одно оно, поглотив древнюю цивилизацию и открыв человечеству бесконечную область духа, на фундаменте древней пластики воздвигло новые и вечные идеалы, к которым стремится и всегда будет стремиться человечество. Что ни делай разрушители, скептики, философы, но они не уничтожат в человечестве религии и с ней отрешения к идеалам, а чище и выше религии христианской – нет…» («„Христос в пустыне“. Картина г. Крамского»).
Словом, «Рождественская Звезда», хоть и воссиявшая на одном небосклоне с другими звездами русской христианской поэзии, все же не входит ни в одно звездное скопление, даже самое яркое. Она сияет обособленно, как и подобает Звезде Рождества. Это стихотворение богодухновенно, как богодухновенны стихи Лермонтова («Выхожу один я на дорогу…», «Когда волнуется желтеющая нива…», «Молитва», «Ангел», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), как богодухновенны стихи Бунина, ибо богодухновенными могут быть не только сказания евангелистов, не только писания святых отцов, но и творения благих людей, хотя бы и «обремененных грехи многими», ибо и в них порой вселяется Дух Истины, очищает от всякой скверны и вещими их устами глаголет.
… Когда я прочел «Рождественскую Звезду», сидя в квартире у Замошкина, он высказал такую мысль: у Есенина, наверно, было предчувствие, что не жилец он на белом свете, – вот почему он немного поимажиниствовал, походил на голове – и скорей-скорей на большую дорогу русской поэзии. У Пастернака этого предчувствия не было, – вот почему он так долго позволял себе резвиться и кувыркаться через голову. А теперь настал конец его затянувшейся бездумной молодости…
«Рождественская Звезда» как взошла на поэтическое небо, так с тех пор и лучится на нем, а взошла она в ту самую пору, когда Россия была погружена не в предгрозовой, с прозорами, а в бессиянной густоты аспидный мрак довременного хаоса. Стихотворение скоро разошлось в списках по Москве и Ленинграду. Особенно об этом старалась пианистка, неугомонная Мария Вениаминовна Юдина, Качалов плакал, читая «Звезду», даже Фадеев знал ее наизусть. От самого Пастернака я слышал, что однажды вечером, когда у него сидели гости, ему позвонил Фадеев и сказал, что Бориса Леонидовича непременно хочет видеть только что приехавший из Чехословакии Незвал и что завтра можно организовать встречу в «Метрополе». Пастернак, будучи под хмельком, предъявил Фадееву ультиматум: или он сейчас привезет Незвала к нему домой, или встреча не состоится.
Фадеев было заартачился, но потом сдался и с Незвалом и кое с кем из своей свиты приехал к Пастернаку в Лаврушинский. Незвал стал просить хозяина почитать новые стихи. Пастернак, сделав вид, что не заметил умоляющих знаков Фадеева, начал читать. Когда же он прочел «Звезду», Незвал бросился душить Пастернака в объятиях.
Слухи о романе, над которым работает Пастернак, все ширились. Стало известно, что он читает главы и стихотворения из романа у своих знакомых. Я попросил Клавдию Николаевну Бугаеву замолвить за меня словечко, чтобы Пастернак пригласил меня на чтение, куда ему заблагорассудится. Пастернак обещал.
Вскоре после этого я встретил Пастернака на Тверской и, остановив его, обратился к нему с той же просьбой уже непосредственно, сославшись на свою дружбу с Клавдией Николаевной.
В глазах Бориса Леонидовича промелькнуло что-то вроде солнечного зайчика.
– Ах, это вот что такое! – воскликнул он, сопоставив наш разговор о Лорке (он был необыкновенно памятлив и на лица, и на разговоры: однажды я признался ему, что плохо сплю; после этого мы с ним не виделись полгода, и первый вопрос его был при следующей встрече: «Ну как ваша бессоница?») и просьбу Клавдии Николаевны, и тут же подтвердил свое обещание позвать меня на одно из ближайших чтений.
И опять, как и при первой нашей встрече, он не оборвал разговора, а тут же, на тротуаре, прочел мне «краткий курс истории советской литературы».
– Ну, какой период в истории послереволюционной поэзии можно назвать наиболее ярким? Это – молодость Маяковского, молодость Есенина, ну, моя молодость, – добавил он с некоторой, нисколько не деланной запинкой, – а потом многие трагически ушли из жизни, многих произвели в писатели, и началась белиберда …
Чтение, однако ж, все отдалялось. Зато при случайных встречах мы все дольше простаивали на тротуарах. Как только в газете «Культура и жизнь», которую недаром прозвали «братской могилой» и «Александровским централом» по имени одного из тогдашних громовержцев в литературе и искусстве, цекиста Георгия Федоровича Александрова, позднее – злополучного министра культуры, вылетевшего с этого высокого поста за частые посещения тайного подмосковного лупанария, появилась статья Суркова о Пастернаке, я позвонил Борису Леонидовичу, чтобы выразить ему свое сочувствие. Если память меня не подводит, это был мой первый звонок ему по телефону. Пастернак ответил мне совершенно спокойно:
Стрела выпущена из лука, и она летит, а там что Бог даст. После этого я все чаще стал звонить ему по телефону. Наконец Борис Леонидович твердо обещал:
Я буду у вас читать роман после Пасхи, на Фоминой. Принимая в соображение, что период «слова и дела государева» после войны ни на один день не прекращался, я строго ограничил число слушателей. В это число, помимо домашних, входили Клавдия Николаевна Бугаева, Николай Вениаминович Богословский с женой Анной Давидовной и поэт-символист, историк литературы и переводчик Юрий Никандрович Верховский, с по-священнослужительски длинными, зачесанными назад волосами, с окладистой, мягкой на вид бородой, в которой было что-то ласковое, как и во всем его облике – облике то ли сошедшего с иконы русского святого, то ли божьего странника, то ли уездного или сельского «батюшки». Жили мы тогда возле Триумфальной площади так, что нас находили или мгновенно, или плутая как во темном густом бору. Чтобы облегчить Борису Леонидовичу проникновение в наше обиталище, я за ним заехал в Лаврушинский. Заехал по своему обыкновению более чем заблаговременно, и мы решили прогуляться от Лаврушинского до центра, а там уже спуститься в метро. Дорогой, понятно, разговорились. Начали опять-таки с оскудения поэзии.
– Вы, конечно, помните эти ваши строки, Борис Леонидович, – сказал я:
Напрасно в дни великого совета, Где высшей страсти отданы места, Оставлена вакансия поэта: Она опасна, если не пуста.(«Другу»)
Вот они к вам прислушались, мысленно поблагодарили за добрый совет и упразднили эту самую вакансию по причине ее крайней опасности.
Потом я заговорил о его последних книгах стихов – «На ранних поездах» и «Земной простор» – и честно признался, что до этих книг я отдавал ему дань глубочайшего уважения, а полюбил его всем существом после переделкинских пейзажей.
Да-да-да-да-да, вы правы (он любил повторять «да») – я только после этих книг человеком стал. Я навыдавал читателю уйму векселей, а читатель – особенно молодежь – был ко мне милостив и терпеливо ждал, и вот только сейчас я начал с ним расплачиваться. Тут-то меня от него и отгородили. (Точно помню, что этот разговор происходил, когда мы шли по Кадашевской набережной.)
Много спустя, уже перед концом жизни, Пастернак в автобиографии вынес своей затянувшейся «начальной поре», когда он, пользуясь его собственным выражением, «возводил косноязычие в добродетель» и «был оригинален поневоле», столь же суровый приговор: «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкою всего привычного, царившего кругом. Все нормально сказанное отскакивало от меня. Я забывал, что слова сами по себе могут что-то заключать и значить, помимо побрякушек, которыми их увешали».
«Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне нравится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог».
К концу пути, когда мы уже вышли из метро «Маяковская», разговор наш перешел на тему о христианстве.
Перед человечеством только один путь: христианство. Иначе – танк, царство танка, – с несвойственной ему медлительной властностью в голосе сказал Пастернак.
А как вы смотрите на связь христианства с искусством?
Они неразделимы! – уже на высокой ноте, но столь же убежденно произнес Борис Леонидович. – Именно это я и пытался выразить в «Рождественской Звезде».
Несколько лет спустя, когда я был у Бориса Леонидовича в гостях, он мне сказал:
Христианство для меня не религия, а гораздо больше, чем религия. Это образ мыслей свободных и больших людей …
… Чтение первых глав романа и первых вошедших в него стихотворений происходило у нас в фантастической обстановке. Словно на грех, стоило нам с Борисом Леонидовичем появиться, как погас свет во всем нашем многокорпусном доме, и погас безнадежно. Но у нас тогда еще не была упразднена керосиновая лампочка, от военного времени оставался небольшой запас керосину, и вот Борис Леонидович при тусклом свете, падавшем только на него и на его рукопись, принялся читать «Доктора Живаго». Читал с подъемом, минутами, в комических местах, прерывая чтение заразительно-молодым смехом, минутами – с дрожью закипающих в горле слез. Здесь действовало все: и то, что Борис Леонидович – наш гость, и то, как он читает, и этот полумрак, обступавший его, отчего он сам, освещенный лампой, казался источником света, но в тот вечер я был в полном восторге не только от стихотворений, но и от прозы. Впрочем, я и сейчас держусь того мнения, что лучшее в прозе «Доктора Живаго» – это самое его начало. И все же после чтения романа в моей, тогда еще загребущей, памяти сохранилось несколько великолепных частностей, вроде пенсне, злобно прыгающего на носу у толстовца, а стихи я хоть и не запомнил наизусть с голоса, но общий их рисунок вырисовался в памяти неизгладимо.
Вот уже и нет за окном майского теплого синего вечера, за окном гудит метель, беснуется белая ее круговерть, а где-то в окне неугасимо горит спасительная, как маячный огонь, свеча:
Метель лепила на стекле Кружки и стрелы. Свеча горела на столе, Свеча горела, —живописно и мелодично читал Пастернак («Зимняя ночь»).
К стихотворению «На Страстной» я в тот вечер прилепился душою тотчас же и с не меньшей силой, чем к «Рождественской Звезде». Ни у одного русского поэта не найдешь такого верного, обильного точными – до мелочей – наблюдениями и в то же время возвышенного описания страстных богослужений. И вновь это ощущение вселенскости совершающихся событий:
И лес раздет и непокрыт И на Страстях Христовых, Как строй молящихся, стоит Толпой стволов сосновых. Сады выходят из оград, Колеблется земли уклад: Они хоронят Бога.Моя дочь Леля, которой было тогда пять с половиной лет и которая присутствовала при этом чтении, на другой день бойко прочла мне наизусть:
Еще кругом ночная мгла, Еще так рано в мире, Что звездам в небе нет числа, И каждая, как день, светла, И если бы земля могла, Она бы Пасху проспала Под чтение Псалтири.После того, как Борис Леонидович умолк, Богословский, всегда смущавшийся на людях, не умевший показать товар лицом, а товару у него было хоть завались, и при том самого что ни на есть добротного, пробормотал нечто нечленораздельно-восторженное. Затем со старческой неторопливостью заговорил Юрий Никандрович Верховский, неотрывно глядя на Пастернака благодарным взглядом своих кротких голубых глаз. Основная мысль его сводилась к следующему. Каждый большой художник слова, заплатив дань неуравновешенной молодости, в зрелом возрасте тяготеет к классической ясности и глубине. Так случилось – в той или иной мере – с поздним Сологубом, с поздним Блоком, с Белым – автором «Первого свидания», так случилось с Гумилевым, так случилось, если хотите, и с Маяковским, автором «Во весь голос». И вот сейчас, – заключил Юрий Никандрович, – мы присутствуем при рождении классического Пастернака, который, не утратив того положительного, что он приобрел во время своих футуристических исканий, пришел к классической собранности сознания, к классической четкости образов и к классической стройности архитектоники.
После Верховского, выражаясь официальным языком, «взял слово» я. Клавдия Николаевна потом говорила мне, что ей было заметно, как отчаянно я волновался. Я с бухты барахты, только в несколько иных, более резких выражениях, высказал Пастернаку то же, что высказывал ему по дороге к нам. Я признался без околичностей и подходов, что до «Ранних поездов» я восхищался Пастернаком, но любить его не любил никогда, более того: что последние годы я, читатель, был на него в обиде за его игру в прятки с нашей грозной и грязной эпохой, отличающейся от других грозных и грязных эпох русской истории тем, что она так или иначе коснулась едва ли не каждого из нас, что почти никого из нас не обошла она своим кубком с отравленным вином, что я был на него в обиде, что он, при его-то даре, которым наградил его Господь Бог, не стал, не захотел стать властителем дум моего поколения. Но сегодня – праздник на улице моего поколения, на улице всей русской, нет, куда там русской – мировой литературы.
– Я согласен с Юрием Никандровичем, – продолжал я, – все ценное, что вы приобрели до сих пор, все ваше собственное, пастернаковское, вы не растеряли, вы от него не отреклись. В таком, казалось бы, «надмирном» стихотворении, как «Рождественская Звезда», вы своим пастернаковским глазом, влюбленным в житейский обиход, разглядели и водопойную колоду, и овчинную шубу, в «На Страстной» вы расслышали «стук рессор»,[8] и это придает «Рождественской Звезде» и «На Страстной» особую, чисто пастернаковскую прелесть, непререкаемую убедительность жизненной правды свершившегося чуда. Но за последнее время вы совершили восхождение на такую высоту, которая под силу только гениям.
Помните, вы писали во «Втором рождении»?
Когда строку диктует чувство, Оно на сцену шлет раба, И тут кончается искусство, И дышат почва и судьба.(«О, знал бы я, что так бывает…»)
«Ранними поездами» и особенно сегодня вы доказали, как вы тогда были неправы: ваше искусство не кончилось; напротив, оно вымахнуло, как могучее дерево, – именно потому, что в ваших стихах стала дышать русская почва и в них забрезжила судьба человечества, судьба всего мира.
Глаза Бориса Леонидовича чуть заметно затуманились. Я почувствовал, что он растроган, – растроган не самими похвалами (их он наслушался до пресыщения). Видимо, его задело за живое, что то был восторг не телячий, а осмысленный, зрячий.
Вскоре после чтения за поздним временем все разошлись по домам. Незадолго до ухода Борис Леонидович с серьезным лицом сказал:
– Я не понимаю, как мы можем быть недовольны жизнью. Напротив, мы живем под гусли. Мы не успеваем проснуться, как нам уже сообщают по радио, что мы счастливы.
Я не удовольствовался тем, что высказал Борису Леонидовичу после чтения. Я написал ему небольшое благодарственное письмо и опустил в почтовый ящик, висевший на двери его квартиры. Что я в нем писал – хоть убейте, не помню. Помню только, что кончалось письмо так: «Христос с Вами!» (Сын поэта, Евгений Борисович, говорил мне, что письмо у Бориса Леонидовича сохранилось.) В ответ я получил от Пастернака по почте бандероль. В ней была тетрадка с напечатанными на машинке стихами. Стихи здесь расположены в таком порядке: «Из романа в прозе 1. „Гамлет“; 2. „Март“; 3. „На Страстной“; 4. „Объяснение“; 5. „Бабье лето“; 6. „Зимняя ночь“; 7. „Рождественская Звезда“. На обороте обложки Борис Леонидович от руки написал: „Милому Николаю Михайловичу Любимову на счастье ему и его семье. Пастернак“.
Спустя месяц у нас родился сын, и мы назвали его в честь Пастернака – Борис.
Начиная с лета 1947 года я более или менее часто звонил Борису Леонидовичу по телефону (у меня тогда телефона не было) или по его приглашению приезжал к нему в Лаврушинский переулок. Чаще всего мы сидели с ним вдвоем, и он угощал меня чаем с моим любимым пирогом с яблоками, который с вдохновенным искусством сооружала Зинаида Николаевна.
Однажды мы встретились с ним в приемной у тогдашнего директора Гослитиздата Петра Ивановича Чагина, и в эту встречу я уловил неожиданное сходство Пастернака с Качаловым. Выражалось оно в том, что оба они, столь разные во всем остальном, боялись, как бы кто про них не подумал, что они возгордились, смотрят на других свысока, и в этой своей боязни оба перегибали палку. Счастье их собеседников заключалось в том, что они похвалы и того и другого принимали за чистую монету.
На сей раз Борис Леонидович подошел к Сельвинскому и прогудел:
– Илья Львович! После ваших последних стихов, право, начинаешь задумываться над смыслом собственного существования.
Вышли мы из Гослита вместе с Борисом Леонидовичем. Я не выдержал и обратился к нему:
– Борис Леонидович! Зачем вы так расхвалили Сельвинского? Ведь стихи-то дрянь? Он уже давно – живой труп в поэзии.
– Да-да-да-да! – обрадованно подхватил Пастернак. – Вы правы. Тут загадки нет: звезды над его крышей целы все до одной. Та краткая характеристика, какую Пастернак дал Сельвинскому, уже тогда страдала односторонностью. Не блещет умом – это еще сполгоря, но и не поэт в подлинном, высоком смысле этого слова, а версификатор-эстрадник, циркач. В стихах у раннего Сельвинского было, пользуясь его же удачным выражением, столько же поэзии, сколько авиации в лифте.
Стихи раннего Сельвинского – это фаршированная щука, обложенная варениками и галушками и политая прованским маслом, но в юности у него была по крайней мере мускулатура акробата. С годами – и очень скоро – мускулатура у него стала как коровье вымя. Но и это тоже сполбеды. Самое мерзкое в Сельвинском – это то, что он льстивец, да еще такой, перед которым Молчалин – образец сознания собственного достоинства. Это же Сельвинский, открывая вечер поэтов в сезон 1937–1938 гг. в Клубе МГУ, – вечер, на котором я присутствовал, – начал здравицей в честь благодетельного НКВД, очистившего ряды советской литературы от врагов. И ведь это же он в 5–6 № «Октября» за 1939 год напечатал стихотворение под названием «Монолог критика-диверсанта ИКС», который «в партию пролез и стал строчить, как бес (?), ортодоксальные статьи с цитатами и без». Кончался этот исповедальный монолог «критика-диверсанта», «отказывавшего новатору в таланте и уме», – уж не самому ли Сельвинскому? – таким четверостишием:
Пусть мой рассказ, такой сухой, лишенный стильных фраз, Но откровенный и, – клянусь! – прямой на этот раз, Откроет миру странный миг в истории стиха, Когда шпион по музам бил, чтобы пробить ЦК.1937
Во-первых, наркомвнудельский подпевало и подлипало запоздал с этой темой – ежовщина кончилась осенью 1938 года, пробили временный отбой. Во-вторых, партийно-правительственные круги терпеть не могли, когда писатели или публицисты встревали в их дела без разрешения: свои собаки грызутся – чужая не приставай. «Монолог критикадиверсанта» был признан, по-видимому, несвоевременным и бестактным. Бить прямой наводкой по нему сочли тоже бестактным. А выпороть Сельвинского все-таки надо. Как же быть? А очень просто. В том же номере «Октября» напечатан «шедевр» Сельвинского «Самородочка-смородинка» с подзаголовком: «Песня». К тому времени фокусы-покусы мало того что вышли из моды, но и были объявлены формализмом, соваться с ними было небезопасно, да и некуда. И вот Сельвинский решил «опроститься» и написал песенку на уровне Ивана Молчанова. В этой самой chanson russe[9] девушка обращается к своему возлюбленному-летчику:
Ты лети, лети, мой дролечка, Соколичье плечо (!), Еще столько, еще столечко, Полстолечко еще.А затем та же девица обращается с устрашающе-язвительным предостережением к «самураям-самуродинам»:
Не ползти вам под березанькой На озеро Хасан. Не пробиться вам сквозь лозунги Рабочих и крестьян!За эти стихи Сельвинского лихо вспрыснула «Правда», хотя как раз в традициях «Правды» – с гостеприимной широтой распахивать двери литературной шушвали и отбирать для печати стихи самые что ни на есть бездарные.
Уже давно кончились в печати разговоры о «Докторе Живаго» и о Нобелевской премии, присужденной Пастернаку. Но вот в «Огоньке», в 11 № от 8 марта 1959 года, Сельвинский был рад стараться тиснуть три стихотворения под общим названием «Из новых стихов». Одно из стихотворений – «Карусель» – кончается следующими глубокомысленноисповедальными строчками:
Человечье упустил я счастье! Не забил ни одного гвоздя.Третье стихотворение касается уже того, кто для Сельвинского был когда-то учителем, о чем он громогласно заявил в стихах. Он обращается к этому, правда не названному по имени, «поэту, заласканному врагом»:
К чему ж былая щедрая растрата Душевного огня, который был так чист, Когда теперь для славы Герострата Вы родину подставили под свист?Я уже не говорю о том, что надо окончательно разучиться писать стихи, чтобы дописаться до таких перлов, как «вы родину подставили под свист». Это еще куда ни шло. Но эти, с позволения сказать, «стихи» написаны не только исписавшимся рифмачом, второсортным Лебедевым-Кумачом, но и клеветником. Сельвинский не мог бы указать ни единой строчки во всем творчестве Пастернака, поэтическом и прозаическом, включая «Доктора Живаго», где бы Пастернак глумился над Россией, которую он любил так проникновенно, так по-сыновнему заботливо и нежно, как дай Бог любить ее многим русским по крови. За эти проститучьи стишонки Сельвинский поплатился звонкой затрещиной, Москву облетела эпиграмма:
Все миновало: слава и опала, Осталась только зависть, злость. Когда толпа учителя распяла, Ты вбил свой первый гвоздь.Еще как-то мы столкнулись с Борисом Леонидовичем в полутемном коридоре гослитиздатовского третьего этажа, Пастернак сообщил мне, что к нему заезжал с официальной просьбой – выступить на каком-то праздничном вечере в Доме Союзов – тогдашний секретарь парткома Союза писателей – Александр Жаров и подарил ему книгу своих «стихов» с почтительной надписью.
– Вот Николай Алексеевич Заболоцкий уверяет меня, что стихи Жарова и ему подобных – если и стихи, то какого-то особого, пятого, что ли, измерения, – продолжал гудеть на весь коридор Пастернак. – А по-моему, он не прав. Я проглядел жаровскую книгу. И знаете, что я вам скажу? (Пастернак всегда произносил не разговорно: «што», а книжно: «что».) Право, это ничуть не хуже моего «Лейтенанта Шмидта», «Девятьсот пятого года» и особенно моих гражданских стихов.
Когда в конце 40-х годов в Гослите готовились к изданию некоторые из шекспировских трагедий и хроник в переводе Пастернака, Пастернак говорил мне, что от своих редакторов, чтобы они не очень к нему приставали с предложениями поправок, он «откупался шоколадом». Так пробовал Пастернак «откупаться шоколадом» своих од и от властей предержащих. Первые два стихотворения, открывающие цикл 1936 года в «Знамени», – это тоже своего рода плитка шоколада, за которую были пропущены заключительные стихи цикла. Но уже почти весь шоколад стихов о военном времени не пришелся по вкусу властителям литературных судеб, и ценою этой подачки Пастернаку не удалось провести в печать ни одного из заветных и любимых его стихотворений – вплоть до 54-го года, когда в том же «Знамени» были опубликованы некоторые его стихотворения из романа.
И еще одна из случайных наших с ним встреч в «департаментах» – но на сей раз уже не в Гослите, а в Клубе писателей, точнее – в клубной раздевалке, где принимал и подавал верхнюю одежду Афоня, настоящий «услужающий» старой закалки, умевший быть услужливым без раболепства и говоривший языком шмелевского «человека из ресторана»:
– Нам, швейцарам, все известно, что у вас там, наверху, делается. Писатели – народ горячий: они наверху не дошумят, не доругаются, а доругиваются тут у нас, в раздевалке, а ведь мы для них вроде как пальто!
В сталинские годы я ходил в Союз писателей преимущественно в один его цех: в библиотеку. Борис Леонидович ходил туда только стричься в парикмахерскую, расположенную рядом с раздевалкой. Вот мы с ним в раздевалке и столкнулись. Не успели поздороваться – глядь: по лестнице спускается критик Перцов, похожий на старого брыластого кобеля. Как на грех, он недавно в Институте мировой литературы бросил упрек Пастернаку, что тот и в переводы грузинских поэтов вносит свое ущербное декадентское мировоззрение, что он по своему образу и подобию творит из грузинских поэтов мистиков и пессимистов. Если перевести перцовскую рацею на язык практический, это означало: «Отнимите у Пастернака и переводы» – этот последний кусок хлеба, который ему пока еще оставили. Выступление благородное, что и говорить. А ведь Перцов – бывший соратник Пастернака по Лефу:
Все же бывший продармеец, Хороший знакомый!..Впрочем, действовал Перцов вполне в лефовских традициях. Каков поп – таков приход. Лефовский поп Маяковский первым из поэтов лизнул зад Сталину. И это он спрашивал: «А почему не атакован Пушкин? А прочие генералы классики?» Впрочем, потом, сменив гнев на милость, он снисходительно похлопал по плечу Пушкина и Некрасова и, как последний армейский офицеришка, плоско острил над Лермонтовым. И это он горшки было бы для него великою честью.
Когда я думаю о Маяковском, мне едва ли не всякий раз приходят на память слова о нем знатока древнегреческой и латинской литературы Федора Александровича Петровского:
– Мегзавец он! Мегзавец он! – прокартавил Петровский. – Ему от Бога дан был талант, и талант большой, а он его измызгал и истаскал по лакейским.
Завидев Пастернака, Перцов сделал стойку, впрочем – стойку нерешительную. Затем совладал с собой и, приятно осклабившись, двинулся навстречу Пастернаку и робко протянул ему лапу. После секундного колебания Пастернак слабо пожал ее, но тут же отдернул руку.
– Послушайте, – сказал он, – я подал вам руку, но только потому, что все это, – тут он сделал кругообразный жест рукой, показывавший, что он обводит ею не только Клуб писателей, а нечто гораздо более широкое, – ужасно похоже на сумасшедший дом.
Перцов, негаданно осмелев, тявкнул:
– Но ведь и вы находитесь здесь же.
– Нет, простите, я остался снаружи, – отрезал Пастернак.
Я поехал проводить его, и дорогой, в трамвае, он, не снижая голоса до шепота, заговорил о том, что физически ощущает близкий конец сталинского строя.
– Еще гремела победа Гитлера, а уже чувствовалось, что он вот-вот выдохнется. Так и сейчас: наверху оркестры, знамена, потешные огни, а мне все слышится подземный гул.
В одну из встреч с Борисом Леонидовичем я стал просить его написать стихотворение о Воскресении Христовом и этим стихотворением закончить евангельский цикл стихов из романа. В ответ Борис Леонидович сказал, что он и сам об этом подумывает, но всякий раз отступает перед трудностью. После я несколько раз приставал к нему с той же просьбой, но он отвечал все уклончивее и неопределеннее, говорил, что боится не справиться, что, как ему кажется, тема Воскресения Христова вообще превышает человеческие возможности и что, вернее всего, он ограничится тем, что сказано о Воскресении в «На Страстной».
Каждая, даже быстролетная встреча с Борисом Леонидовичем была мне подарком судьбы; каждая, даже быстролетная встреча западала в память.
Вот он поднимается по эскалатору на Новокузнецкой станции метро, откуда-то возвращаясь к себе домой в Лаврушинский переулок, а я спускаюсь. Он улыбается и машет рукой. Вот я подхожу к его дому, а он отъезжает с кем-то на легковой машине. Завидев меня, машущего ему шляпой, высовывается в окошко, и опять – улыбка, приветственное и прощальное маханье рукой. Даже после этих безмолвных, мимолетящих встреч я весь день ходил именинником.
По окончании одного из разговоров с Борисом Леонидовичем я, как всегда, взволнованный широтой его художественного, религиозного, политического мышления и той смелостью, с какой он высказывал свои взгляды в любой обстановке и какую только он тогда, во времена «трусов и трусих», себе позволял, – я, прощаясь с ним, сказал:
– Я никогда не был в горах, но мне кажется, что человек даже после короткой беседы с вами испытывает то же, что должен испытывать человек, надышавшийся воздухом горных лугов.
– Да перестаньте! – сердито зажужжал Борис Леонидович, а глаза его смотрели на меня ласково. Он любил, чтобы его хвалили, – слишком часто побивали его камнями, – он только силился это скрыть.
В другой раз я сказал ему, что если бы не существовало Блока, я бы, как читатель, почти ничего от этого не потерял, а не будь позднего Пастернака, мне гораздо труднее было бы жить на свете.
И вот тут Борис Леонидович цыкнул на меня с возмущением непритворным. А я и в том и в другом случае говорил то, что чувствовал и думал, без малой капли желания льстить ему и кадить.
Время от времени я получая от Бориса Леонидовича конверты, надписанные уже знакомым мне дорогим почерком с длинными линиями, идущими от первой буквы и накрывающими все слово. В конвертах оказывались новые стихи с неизменно милым коротким письмом. В одном из таких конвертов я обнаружил «Рассвет», «Чудо» и «Землю». Им предпослано несколько строк письма. На самом верху дата – «10 янв. 1948».
Читая «Рассвет», я подивился тому, как точно сумел выразить Пастернак самую сущность христианства:
Везде встают, огни, уют,
Пьют чай, торопятся к трамваям.
В теченье нескольких минут
Вид города неузнаваем.
В воротах вьюга вяжет сеть
Из густо падающих хлопьев,
И чтобы вовремя поспеть,
Все мчатся недоев-недопив.
Я чувствую за них за всех,
Как будто побывал в их шкуре,
Я таю сам, как тает снег,
Я сам, как утро, брови хмурю.
Со мною люди без имен,
Деревья, дети, домоседы,
Я ими всеми побежден,
И только в том моя победа.
Рождество 1950 года было для меня Рождеством по-особенному печальным. И надо же было случиться так, что именно в первый день Рождества, когда душу мне облегла промозглая свинцово-серая осень, я получил от Бориса Леонидовича новые стихи с таким письмом:
«5 янв. 1950
Дорогой Николай Михайлович! Не могу сказать, как дорог мне был Ваш звонок, как тронула Ваша память. Хочется Вас отблагодарить, но не знаю, вознагражу ли я Ваше внимание посылкой этих стихотворений ранее обещанного!
Наверное, все это наброски (по сравнению с прежними), хотя не знаю, м. б. все так и останется. Есть черновые еще нескольких вещей, но они мне не нравятся, 2-е стих. обрывается неожиданно, все его концы получились тяжелые и холодные, это промежуточное перед «Тайной Вечерей».[10]
Позвоните мне, скажите что-ниб. ласковое от себя и Кл. Ник. Мне теперь по-другому трудно, нежели раньше, по-другому неблагополучно.
Но Бог даст справлюсь.
Сердечный привет Маргарите Романовне.[11]
Ваш Б. Пастернак».
На этот раз он мне прислал: «Засыплет снег дороги…», которому потом дал заглавие «Свидание», «Когда на последней неделе…», которое после озаглавил «Дурные дни», и «Магдалину» («У людей пред праздником уборка…»).
Все эти стихи я люблю до блаженных спазм в горле, но особенно мне дорога вот эта, «хореическая» «Магдалина». Вновь скажу: только человек, не просто принявший христианство, крестившийся не одной лишь водою, но и Духом Святым, знающий сердцем, что есть «радость о Дусе Святе», мог написать вот это:
Но пройдут такие трое суток И столкнут в такую пустоту, Что за этот страшный промежуток Я до Воскресенья дорасту.В этой строфе оказано все: и что сталось бы со всеми нами, со всем миром, если б Христос не воскрес, и что до Воскресенья можно «дорасти», только пройдя по мукам.
…В следующую мою встречу с Борисом Леонидовичем у него на дому речь, разумеется, шла о «Магдалине».
Борис Леонидович сообщил мне, что лейтмотивом первоначального варианта «Магдалины» была ее земная любовь к Христу, ее ревнивый восторг перед Ним, и привел мне одну строфу из этого отвергнутого им варианта, который я тогда же запомнил с его голоса, а придя домой, записал:
Но Тебе понятнее Иуда, И родней Фома, и ближе Петр, Светлый Божий праздник, Божье чудо, Божий промах, Божий недосмотр.Прочитав строфу, Пастернак заметил, что Рильке, вернее всего, именно на этом и построил бы стихотворение о Марии Магдалине, если б ему захотелось о ней написать. Но сейчас не такое время. Сейчас нельзя уходить на запасные пути.
Это уже рассуждал Пастернак не «Поверх барьеров», не «Сестры – моей жизни» и даже не «Второго рождения».
Много позже, когда я уже знал его «Разлуку», Пастернак рассказал мне, что прочел это стихотворение Ахматовой, а она заметила: «В былое время вот эти две строфы:
Она была так дорога Ему чертой любою, Как морю близки берега Всей линией прибоя. Как затопляет камыши Вода во время шторма,[12] Ушли на дно его души Ее черты и формы —разрослись бы у нас в целое стихотворение, этот образ стал бы самоценным. Но вы совершенно правильно отвели ему подчиненную роль: сейчас не до камышей. Сейчас надо писать об арестах и о разлуках».
Еще в 1931 году Пастернак принуждал себя вослед Пушкину «в надежде славы и добра глядеть на вещи без боязни», твердить себе: «Начало славных дней Петра мрачили мятежи и казни» и утешаться этой параллелью, хотя параллель эту он выдумал, ибо мятежей, если не считать хилых крестьянских бунтов в 1930 году, во время коллективизации, на Советской Руси в ту пору не было, а вот ссылок и казней было столько, что Николай Павлович рядом с Иосифом Виссарионовичем выглядит царем Берендеем из «Снегурочки» Островского. Так, далеко не сразу, душа Пастернака-поэта стала «печальницей», «усыпальницей замученных». Так, далеко не сразу, принялся он «рыдающею лирой оплакивать их».
О Пастернаке и его христианских стихах я как-то вкратце рассказал священнику о. Александру Скворцову. Выслушав меня, о. Александр высказал мысль, что христианская идея так велика и прекрасна, что для самовыражения она всегда выбирает лучших из лучших.
Вскоре после того, как я получил от Пастернака цикл с «Магдалиной», в Москву из Ленинграда приехал на несколько дней поэт Сергей Дмитриевич Спасский и зашел к нам. Я дал ему прочесть эти стихи.
Прочтя, он долго сидел, будто окаменелый и словно бы мрачно задумавшись. Затем вдруг прояснел и голосом, в котором прозвучали непримиримость и убежденность, произнес:
– Нет, ничего они с нами не поделают!
И тут же кстати вспомнил, как еще до войны в Ленинграде его вызывали в НКВД и пытались всякого рода угрозами завербовать в ряды секретных сотрудников. В качестве одного из доводов, почему Спасский им до зарезу нужен в роли наушника, наркомвнуделец привел нижеследующий:
– Вот, например, нас очень интересует Пастернак. Но ведь мы-то к нему в дом не проникнем. А нам известно, что вы с ним дружите.
Вообще интерес этого учреждения к Пастернаку не угасал до последних дней его земной жизни. Сменялись игемоны, а любознательность не уменьшалась. Нет-нет да и пускался слух, что Пастернак арестован. Видимо, подмывало проверить, как и кто будет на подобный слух реагировать. В 1949 году я перед отъездом на дачу забежал к Богословским, жившим в писательском доме в Нащокинском переулке. Анна Давыдовна взялась проводить меня до вокзала. Уже подходя к метро «Кропоткинская», мы встретились с приятельницей Клавдии Николаевны. Глядя на нас расширенными от ужаса глазами, она спросила:
– Правда ли, что Пастернак арестован?
– Когда?
– Несколько дней назад.
– В первый раз слышим. Идем дальше. В метро я говорю:
– Аня! Я не могу ехать на дачу, не узнав толком. Как хочешь, а узнай сейчас же.
– Хорошо. Вот доедем до «Комсомольской», там я из автомата позвоню Елене Сергеевне Булгаковой – она с ним часто встречается и должна знать. На квартиру к нему звонить бессмысленно – вся семья на даче в Переделкине.
Найдя автомат, Аня, словно в романе, забывает номер телефона Елены Сергеевны, с которой перезванивалась едва ли не ежедневно. Наконец ее осеняет. Звонит. По ее блестящим, хорошим армянским глазам догадываюсь, что все благополучно.
– Елена Сергеевна только вчера допоздна провела с ним вечер у Ардовых по случаю приезда Ахматовой.
– Слава Богу!
Крепко целую Аню и, не чувствуя тяжести до отказа набитого съестным рюкзака, мчусь со всех ног на электричку, которая вот сейчас отойдет…
А уже в последнюю его зиму в КГБ вызвали Ольгу Всеволодовну Ивинскую, которая мне сама об этом с глазу на глаз рассказывала. Беседовавший с ней новоявленный Бенкендорф объявил:
– Мы слыхали, он пьесу пишет. Зачем это он пьесу пишет? Вы ему передайте, что ведь он еще не прощен. Пусть лучше стихи сочиняет.
… Я гораздо больше любил, когда Пастернак приглашал меня к себе одного – главным образом потому, что все его внимание, естественно, было сосредоточено на мне, как на единственном его собеседнике, вернее – слушателе.
Впрочем, один званый вечер у Пастернака мне запомнился. Были Анна Ахматова, Симон Чиковани, Ливанов, Шенгели, Чагин, Нато Вачнадзе и еще кто-то из грузин. На столе – строй бутылок с водкой русской, водкой грузинской и грузинским сухим вином. Помимо холодных закусок – настоящие старорежимные, контрреволюционные котлеты, которых я не едал с нэповских времен.
Грузины во главе с Чиковани без конца предлагают выпить за «вэлыкого русского поэта Барыса Леонидовича Пастернака». Чтобы замять неловкость, Шенгели предлагает тост «за лучшую поэтессу всех времен и народов Анну Ахматову». Пастернака просят почитать стихи. Он отказывается – опять-таки, видимо, из деликатности, ибо Ахматову никто об этом не просит, и взамен предлагает прочитать свой перевод стихотворения Чиковани «Гнездо ласточки».
Я слушаю Пастернака, а смотрю на Чиковани: на лице у Чиковани написано особого рода счастье, какого я прежде ни у кого не видел, – счастье узнать свои стихи на чужом языке.
Когда мы с Пастернаком оставались наедине, разговор касался самых разнообразных тем (делился он со мной и глубоко личными своими переживаниями). Эпоха была такова, она так больно задевала самые чувствительные наши нервы, что начисто отбросить политику нам не удавалось. И вот Борис Леонидович, из наивной предосторожности забросав телефон диванными подушками, пускается в рассуждения:
– Нас уверяют, что мы счастливы. Но почему же тогда миллионы в тюрьмах и концлагерях? Очевидно, эти люди не считали себя счастливыми. Значит, тут уж сама статистика опровергает нашу теорию счастья.
Заходил разговор и о писателях-современниках.
– Помните французского офицера из «Войны и мира» с его пристрастием к ma pauvre mère?[13] Вот и у каждого из наших присяжных публицистов есть своя pauvre mère. У Эренбурга от чикагских мясников до баскских священников все почему-то не отрывают взоров от Кремля. У Леонова – это расшитые петушками полотенца.
Я сказал, что, по-моему, уж лучше Симонов, лучше потому, что откровеннее.
– Да-да-да-да-да, – охотно раскатился он своей обычной дробью, – вы правы – уж хапать так хапать. (Борис Леонидович имел в виду как из рога изобилия сыпавшиеся почти ежегодно на Симонова Сталинские премии – знаки особой «монаршьей милости».)
Из своих современников Пастернак особенно не жаловал Илью Эренбурга. Он рассказывал мне, что как-то у него за обедом один из его родственников, молодой человек, принялся восхищаться фельетонами Эренбурга.
– А я ему сказал: «Послушай! Ты хотя бы у меня в доме постыдился превозносить Эренбурга. Ведь он кадит тем людям, которые схватили меня за горло и не отпускают вот уже сколько лет».
Вообще Эренбург был для Пастернака мерилом всего высокопарнофальшивого, нерусского, ни по духу, ни по языку. Однажды он сказал:
– Попробовал перечитать Герцена. Это почти так же плохо, как Илья Эренбург.
Конечно, это шутка, но в каждой шутке есть доля истины. Пастернака даже у Герцена коробили превыспренняя витийственность и часто встречающиеся галлицизмы.
Пастернак называл любовь к нему Эренбурга (а Эренбург и впрямь любил поэзию Пастернака) любовью без взаимности и не мог заставить себя соблюсти по отношению к нему элементарные приличия – не отвечал на его приветствия.
Я не знаю, когда у Пастернака возникла нелюбовь к Эренбургу. Думаю, что ее стократ усилила эренбурговская кровожадная публицистика военного времени.
У Арго есть «неудобная для печати» басня. Незамысловатая ее сюжетная линия сводится к тому, что два критика, увидев на улице экскременты, заспорили, какого они происхождения: кошачьего или собачьего.
И дело перешло тут в драку: Кто – за кота, кто – за собаку.Мораль сей басни такова:
Читатель! Если видишь ты говно, Скажи без лишних разговоров: «В конце концов, не все ли мне равно, Ажаев это иль Панферов?»Вот уж для Пастернака это было решительно все равно. Он не измерял таких писателей и не радовался, что Вера Панова, предположим, на миллиметр даровитее и благороднее Николаевой. Когда, в самый разгар хрущевского «либерализма», длившегося до венгерских событий 1956 года, Казакевич, впоследствии извративший историю первых лет Октябрьской революции, исказивший роль Ленина в разгоне меньшевиков и изобразивший его этаким интеллигентским добрячком, пристал к Борису Леонидовичу с ножом к горлу – дать что-нибудь для редактируемого им альманаха «Литературная Москва». Борис Леонидович спросил:
– А, собственно, почему я непременно что-то должен дать для вашего альманаха?
– Лучше ж нам, чем Кочетову, – настаивал Казакевич.
– А для меня что вы, что Кочетов – я между вами никакой разницы не вижу, – выпалил Борис Леонидович.
В последнюю встречу с Пастернаком я поблагодарил его за те слова, которые он в автобиографии говорит о Есенине:
«Со времен Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобною свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую, вслед за Пушкиным, мы зовем высшим Моцартовским началом. Моцартовской стихиею.
Есенин к жизни своей отнесся как к сказке. Он, Иван-Царевич, на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то как из карт раскладывал пасьянс из слов, то записывал их кровью сердца. Самое драгоценное в нем – образ родной природы, лесной, среднерусской, рязанской, переданной с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве».
Поблагодарил я Пастернака, во-первых, потому, что Сергей Есенин был и остается одним из моих любимых поэтов, а еще потому, что Есенина травили посмертно и власть имущие, вроде Бухарина, и фельетонисты «Правды», вроде троцкиста Сосновского, и рапповцы. На Есенина смотрели сверху вниз формалисты, и просто снобы, не подозревающие, что, как сказал Пруст, «со снобизмом всегда связана возможность впасть в безвкусицу» («Под сенью девушек в цвету»). А тут нате вам: поэт, прошедший через все изыски, так высоко отзывается о поэте, дорогом нормально бьющемуся читательскому сердцу, конечно, не своими имажинистскими пасьянсами, а стихами о русской природе, о душе животных и о своей пропащей судьбе – судьбе человека, чувствующего, что его поэзия новому миру не нужна и что, пожалуй, сам он тоже здесь не нужен.
– Мы с ним ругались, даже дрались, до остервенения, – вспоминал Борис Леонидович, – но когда он читал свою лирику и «Пугачева», так только, бывало, ахаешь и подскакиваешь на стуле.
О Маяковском Пастернак говорил с душевной болью, как о человеке, который все-таки ему чем-то близок, чем-то дорог – хотя бы воспоминаниями молодости, всегда неизгладимыми и неодолимыми, и которого ему бесконечно жаль – и потому, что Маяковский наступил на горло собственной песне, и потому, что он трагически ушел из жизни. Пастернак воспел этот уход, он воспринял его как героический поступок, но, как человек, как бывший друг Маяковского, он, конечно, с содроганием думал о выстреле в Гендриковом переулке.
Он вспоминал о последней своей «посиделке» в Лефе:
– Маяковский был печальный, неблагополучный и одинокий, как курган. А вокруг него все эти чужаки летали нетопырями.
Единственный из «лефов», кому Пастернак явно завышал отметку как поэту, глядя сквозь пальцы и на его подражания то Городецкому, то Хлебникову, то Маяковскому, и на его газетную халтуру, и на графоманию, махрово распустившуюся в его «Маяковскиаде», то бишь «Маяковский начинается», и кому он спускал его поведение, спускал по старой, еще «центрифужьей» дружбе, был Асеев.
Об Андрее Белом, как о личности, Пастернак сказал мне:
– Ну кто еще мог бы быть такой мишенью для восторгов, как Борис Николаевич?
О русской классической прозе:
– Пушкин, Достоевский и Чехов писали так, как будто они еще и не начинали быть писателями. У Толстого тоже все гениально, но и по-графски. Это граф, вышедший за ограду своего парка, но так и не дошедший до Ясной Поляны.
Пастернак мог давно не перечитывать какого-нибудь писателя, но раз оставшееся, и притом всегда на редкость точное представление о нем отпечатывалось в его читательской памяти. Переводческий труд облегчало ему то чувство стиля, каким он был наделен. Однажды он поразил меня меткостью характеристик, которую он обнаружил в разговоре о как будто бы далеких ему писателях. После довольно длительного перерыва в наших свиданиях он спросил меня, что я за последнее время успел сделать.
Я ответил, что перевел «Брак поневоле» и «Мещанина во дворянстве»
Мольера, а теперь перевожу драматическую трилогию Бомарше.
– Наверно, переводить Мольера было труднее? – спросил Борис Леонидович и сам за меня ответил: – Мольер писал так, как будто только записывал подслушанную им живую речь живых людей, а Бомарше, конечно, очень, очень талантлив, но это литератор, сознающий, что он литератор, и щеголяющий своей литераторской выправкой. А для перевода эта его витиеватость куда легче, чем простота Мольера.
И тут я вспомнил слова Пастернака:
– Пушкин, Достоевский и Чехов писали так, как будто они еще и не начинали быть писателями.
Зрелому Пастернаку дороже всего была именно естественная, непосредственная простота, но отнюдь не простота примитива, а простота – плод вживания и вчувствования, плод вдохновения, простота емкая, сложная, простота пушкинская и чеховская, чайковская и шаляпинская, левитановская и нестеровская, щепкинско-садовская и станиславская, у каждого большого художника своя, особая, до него неслыханная. Бытовой, приземистый реализм (выражение Вл. С. Соловьева) был чужд Пастернаку, что уживалось у него с пристальным вниманием к бытовым мелочам. Реализм в высшем смысле (выражение, часто употребляемое Достоевским) – вот каков реализм позднего Пастернака.
Но вообще о переводе он говорил редко – очевидно, оттого, что Пастернаку в ту пору было уже мучительно отвлекаться от оригинального своего творчества ради перевода – отвлекаться во что бы то ни стало, отвлекаться из-за куска хлеба. Недаром он полушутя сказал однажды, что Шекспир и Гете подчас осточертевают ему, как «Правда» и «Известия». Он только отозвался на мой перевод «Дон Кихота» и сказал, что это моя неотъемлемая победа, что это явление русского искусства.
Признаюсь, редко что доставляло мне такую радость, как письма ко мне Ариадны Сергеевны Цветаевой-Эфрон.
8 апреля 1966 года, перед Пасхой, она мне написала:
«С самым светлым праздником в году поздравляю Вас, милый Николай Михайлович… Помните, еще в 1960 году, незадолго до Пасхи, виделись мы с Вами в последний раз с Б(орисом) Л(еонидовичем)? – но ведь такова воскрешающая и воскресительная сила этого человека, что последнего[14] раза будто и не было. Всегда в эти дни вспоминаю и его, и Вас…»
А 20 апреля 1968 года:
«Воистину воскресе! – дорогой Николай Михайлович! Какое глубокое счастье в том, что есть этот[15] праздник, без которого жизнь была бы сплошной Страстной неделей и Великим постом…»
В 1967 году я послал Ариадне Сергеевне книгу переводов Бориса Леонидовича, выпущенную издательством «Прогресс» с моим предисловием. В ответ я получил от нее письмо:
«22 марта 1967
Дорогой Николай Михайлович! Огромное спасибо за книгу (хотя она и маленькая, а «книжечкой» не назовешь!). Предисловие Ваше – просто чудо: вольно, точно, без обиняков, и, хотя и сжато, а – глубоко и просторно. Очень я этому рада – как «глотку воды во время жажды жгучей». Как-то говорили мы с Б. Л. о переводах, о переводчиках, о редакторах, о буквализме, о занудстве и прочем – и он сказал: «А вот Любимов – свободный[16] человек! – и захохотал от удовольствия. Это было сказано давно уже, во времена куда как не свободные, стиснутые[17] (когда Андрей Вознесенский ходил еще в робких Андрюшах, Ахматова не разжимала рта, а Рихтер давал концерты не западнее б. Церевококшайска).
Спасибо Вам, милый, свободный человек; дай Вам Бог!
Ваша А. Э.»
Заметив, что Пастернак неохотно говорит о своих переводах, я ему с этой темой не надоедал. Между тем я любил Пастернака не только как оригинального поэта, – я уже отмечал, что, собственно, и любовь-то у меня возникла сначала к его переводам с Грузинского.
История русского стихотворного перевода показывает, сколь неравноценны вклады различных поэтов в поэзию оригинальную и переводную. Так, переводы Фета не идут ни в какое сравнение с его оригинальными стихотворениями. Если бы Фет за свою долгую жизнь не перевел ни единой строчки он все равно остался бы одним из лучших русских поэтов. Иной раз просто диву даешься: из-под пера тончайшего этого лирика сплошь да рядом выходили смехотворно-неуклюжие строки, когда он брался за перевод, – Муза словно отлетала от него в эти мгновенья. Пример обратный: Михаил Ларионович Михайлов остался в русской поэзии все-таки главным образом как поэт-переводчик, как неувядаемый сотворец «Двух гренадеров». Поэзия Пастернака являет собой пример того, как благотворно влияет погружение поэта в искусство перевода на его поэзию оригинальную – конечно, если поэт, чьи произведения он воссоздает, ему чем-то родствен, если он его захватывает.
Пастернак нимало не подавляя своей творческой индивидуальности, возродил классические традиции русского стихотворного перевода. Один из основных своих принципов Пастернак сформулировал как «намеренную свободу, без которой не бывает приближения к большим вещам».[18] Но ведь под этим подписались бы обеими руками лучшие наши поэты-переводчики XIX века! Именно на этом пути их неизменно ожидала удача.
Заботясь об интересах читателя, Пастернак тем самым заботится и об интересах переводимого автора. Однажды в разговоре со мной он обронил такое признание:
– Я в своих переводах читателя с горы на санках прокатил, а другие переводчики пусть выпердывают свои буквальные точности.
И в самом деле: переводы Пастернака свободны от невнятицы, в них нет ни ребусов, ни загадочных картинок, неизбежно возникающих у переводчиков-буквалистов. И это тоже роднит его с лучшими нашими переводчиками XIX века.
Истинные поэты не могут не ощущать плодотворящей силы народного языка. Для них это живоносный и целебный источник. Чтобы произведение словесного искусства в переводе не превратилось в мумию, переводчик не только волен – он должен пользоваться всеми изобразительными средствами, которыми располагает его родной язык, в частности и в особенности – язык народный. Так именно и поступал Борис Пастернак. Словарь его переводов не менее многослоен, чем язык его поэзии оригинальной. И опять-таки это роднит Пастернака, это ставит его в один ряд с самыми сильными из его предшественников.
Вспомним, на каком фоне появилась его книга избранных переводов[19] и первый его перевод из Шекспира – «Гамлет» (1941). В ту пору имели хождение «шекспиременты» как на сцене, так и в переводе. Толстенный том избранных произведений Шекспира, который в 1937 году выпустило издательство «Academia» напоминает тяжелую гробовую плиту, которой переводчики словно пытались изо всех сил придавить вечно живого Шекспира. Чего стоит, например, такой обмен репликами:
Марцелл Эй! Бернардо!
Бернардо Что, Горацио, с тобой?
Горацио Кусок его!
С Призраком вышеупомянутый «кусок Горацио» ведет беседу в таком духе:
Кто ты, что посягнул на этот час На этот бранный и прекрасный облик, В котором мертвый повелитель датчан Ступал когда-то?Офелия в этом издании изъясняется таким манером:
Он о своей любви твердил всегда С отменным вежеством.Злополучные Марцелл и Горацио говорят столь же нечленораздельно, когда от них требуют клятвы:
Горацио Ей же, не стану, принц.
Марцелл И я не стану, ей же.
Полоний сообщает о Гамлете, что тот «впал… в недоеданье… в бессоницу…»
Родриго, умирая, восклицает:
Проклятый Яго! Пес ужасный! О!Отелло, собираясь убить Дездемону, бормочет нечто совершенно неудобопонятное не только для зрителя, но и для читателя, который имеет возможность несколько раз перечитать и вдуматься в неясные строки:
Причина есть, причина есть, душа! Вам, звезды чистые, не назову, Но есть причина.
При чтении подобных переводов у читателя рождалось законное недоумение: если Шекспир так косноязычен, так плох в оригинале, то почему, собственно, ему такую славу поют? Уж не напускают ли здесь шекспирологи туману?
Русские переводчики Шекспира, подвизавшиеся в прошлом веке, допускали смысловые ошибки (не по небрежению, а оттого что Шекспир тогда еще не был с такой кропотливой дотошностью изучен, как в наши дни), далеко не везде предоставляли русскому читателю возможность ощутить поэтическую мощь Шекспира (хотя и у Кронеберга и у Вейнберга были взлеты и озарения), но все же они имеют то бесспорное и неотъемлемое преимущество перед авторами цитированных мною опусов, что они не насиловали так грубо русский стих и русский язык, что их переводы были по крайности ясны и понятны.
Пастернак доказал русскому читателю, во-первых, что Шекспир – великий поэт, а во-вторых, что Шекспир – великий драматург, что он писал для сцены, так же, как впоследствии он доказал, что Гете не только мыслитель, о чем мы могли судить и по переводу Холодновского, и по переводу Брюсова, но и поэт.
Мало кто из русских поэтов-переводчиков умеет вживаться в искусство переводимого автора так, как вживается он. Если только поэт в целом близок ему по мироощущению, он с художественной точностью воссоздает стихотворения, написанные и не в его, Пастернака, манере. Краски у Пастернака – оригинального поэта ярки. Но когда читаешь в его переводе «Синий цвет» Бараташвили, кажется, что оно написано не словами, а мягкой небесной синевой.
Поэзия Пастернака славится картинностью изображения, достигающейся точным в своей выразительности отбором деталей. И вот это свое искусство он ставит на службу тому поэту, которого он воссоздает на русском языке. Перед нами пейзаж Гете во всей прелести своей будничной характерности:
Растаял лед, шумят потоки, Луга зеленеют под лаской тепла. Зима, размякнув на припеке, В суровые горы подальше ушла. Оттуда она крупою мелкой Забрасывает зеленя, Но солнце всю ее побелку Смывает к середине дня.(Монолог Фауста)
Поэзия Пастернака любит земной простор, любит окутывать даже отвлеченные предметы земным теплом, любит домашний быт, домашний уют во всех его мелочах, которые у многих его предшественников находились в небрежении. И вот если Пастернак обнаружит такие детали у переводимого автора, он ими не погнушается, он все их бережно соберет и покажет читателю:
Пуста дорожка и дощаник рыбака. Скотина вся в хлевах, на хуторе тоска. Пред пойлом у корыт, По стойлам рев стоит, Артачатся бычки, упрутся и не пьют: В закутах духота, им хочется на пруд.Это из стихотворения Петефи «Степь зимой».
Поэзия Пастернака изобилует контрастами, игрой словесной светотени – это одна из отличительных ее особенностей. Контрасты Пастернак не упустит из виду и при переводе, он не преминет их воспроизвести. Так, воспользовавшись прозаизмами, которые ввел Кальдерон в реплики и монологи действующих лиц из трагедии «Стойкий принц», Пастернак вводит прозаические обороты речи и в свой перевод, и они, по закону контраста, лишь оттеняют восточную пышность кальдероновских образов:
Пред тобой наполовину Меркнет роз пурпурный цвет, И тягаться смысла нет В белизне с тобой жасмину. У стихий старинный счет: К морю сад давно завистлив; Морем сделаться замыслив, Раскачал деревьев свод. С подражательностью рабьей Перенявши все подряд, Он, как рябью волн, объят Листьев ветреною рябью. Но и море не внакладе: Видя, как чарует сад, Море тоже тешит взгляд Всей расцвеченною гладью.Без этих «смысла нет» и «не внакладе» было бы уж слишком пышно, слишком «красиво».
У Пастернака – оригинального поэта и у Пастернака-переводчика – нет деления на слова «хорошие» и на слова «дурные»; для него есть особая прелесть в прозаизмах всякого рода, вплоть до профессионализмов и канцеляризмов; в самый возвышенный текст он со смаком вплетает самое что ни на есть обиходное слово и тем только еще выше поднимает эмоциональный строй стихотворения. Эту свою особенность Пастернак сохранил до конца:
Проглоченные слезы Во вздохах темноты, И зовы перевоза С шестнадцатой версты.(«Ложная тревога»)
Зима, на кухне пенье петьки, Метели, вымерзшая клеть Нам могут хуже горькой редьки В конце концов осточертеть.(«Город»)
Обыкновенно у задворок Меня старался перегнать Почтовый или номер сорок, А я шел на шесть двадцать пять.(«На ранних поездах»)
У людей пред праздником уборка.(«Магдалина»)
В конце был чей-то сад, надел земельный. Учеников оставив за стеной, Он им сказал: «Душа скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мной. Я в гроб сойду и в третий день восстану, И, как сплавляют по реке плоты, Ко Мне на суд, как баржи каравана, Столетья поплывут из темноты».(«Гефсиманский сад»)
Случайные гости в художественном переводе, критики, для которых русский язык – это порошковое молоко, иные любители погреть и нагреть на переводе руки, разглагольствовали, что Пастернак, мол, переводит «слишком по-русски». Вполне доброкачественные «профессора Серебряковы» тоже ополчились на Пастернака-переводчика. То ли дело Лозинский:
Я ухожу от вас, обиженная кровно: Все, что я вам скажу, встречают прекословно… Вам предлагается неслыханнейший бред, И хоть бы полсловца нашлось у вас в ответ!Правда, «неслыханнейший» напоминает оговорку Станиславского в Фамусове:
Безумнейший! Ты не в своей тарелке.Но раз мертвую, не разговорную превосходную степень от «неслыханный» употребил Лозинский, значит, это верх переводческого искусства.
Вас молодой супруг представит всепервейше Мадам исправнице и госпоже судейше…Лозинскому прощалась и эта нестерпимая для слуха какофония, и этот страшнейший лексический разнобой, и весь этот перевод «Тартюфа» не на русский язык, а на русские нравы (мадам исправница, – где это он во Франции исправника нашел? Недоставало еще городовых или становых приставов), так же, как прощались ему, увенчанному лаврами Сталинской премии переводчику «Божественной комедии», «лира, сразившая сорок и нанесшая им беспощадный срам», и то, что Данте «возвратным следом помышлял спастись» и что он «стал шестым средь столького ума», и просто целые терцины рифмованной абракадабры, которую у иных горе-критиков повернулся язык назвать чеканными строфами, которую «разорвись – а не поймешь» (Маршак, багровея от ярости, сказал мне однажды, что Лозинского за перевод «Божественной комедии» утопить надо было), и коня из «Кармен» Мериме, «который было воспользовался сном хозяина, чтобы плотно пообедать окрестной травой», и предложение одному из героев «Фуенте Овехуна» «усвоить вежливые нравы», и предложение другому герою той же трагедии: «Руби его по роже!». (Это не значит, что переводчик Михаил Леонидович Лозинский не знал удач, и удач больших, обличавших в нем вдохновенного виртуоза («Собака на сене», «Валенсианская вдова», «Умная для себя…» Лопе де Вега, «Боги Греции» Шиллера), но ему не повезло: он выступил в эпоху буквализма, в эпоху дословщины и подпал под влияние крохоборов. Он стал на горло собственной песне. Выступи он несколькими годами позже, ну хотя бы одновременно с Пастернаком, когда буквализму была объявлена война не на жизнь, а на смерть, Лозинский одарил бы нас жемчугами иноземной поэзии.)
Пастернак-поэт питает особое пристрастие к просторечию, но не к поддельному, а к подлинному. Как переводчик, он тоже дает волю этой стихии в пределах, установленных оригиналом.
В переводе «Оды к осени» Китса мы находим у него «одонья», в «Ученике чародея» Гете – «бадейку», в «Лютере» Бехера – «баклажки», в «Искусстве поэзии» Верлена – «поварню». А вот начало стихотворения Петефи:
Скинь, пастух, овчину, леший! Воробьев пугать повешу! Видишь, налегке, без шубы, Как реке-резвушке любо!Это уже разгул крестьянской языковой стихии, на который Пастернака благословляет Петефи.
Народные речения Пастернак включает и в патетику шекспировских героев, и он имеет на это право, ибо шекспировские герои, в отличие от героев, скажем, Гюго, даже при вспышке гнева, при вспышке отчаяния, в приливе любви остаются живыми людьми. В жизни патетического «сплошняка» не существует, – это было хорошо известно такому реалисту, как Шекспир, и Пастернак уловил и с радостью подхватил это свойство его героев:
Лир
О Лир, теперь стучись В ту дверь, откуда выпустил ты разум И глупость залучил.Монолог Макдуфа хватает за сердце именно непосредственностью своей интонации:
Всех бедненьких моих? До одного? О изверг, изверг! Всех моих хороших? Всех, ты сказал?Эта глубоко человеческая нота переворачивает душу сильнее самой превыспренней тирады, сильнее дикого рева рвущейся в клочья страсти.
Речь Пастернака – зрелого поэта естественна в своем течении, естественна в своем звучании. И это может быть проще, естественней, разговорней таких реплик шекспировских героев:
Леди Макбет
Я кровью, если он кровоточит, Так слуг раскрашу, чтоб на них сказали.Мы-то, переводчики, хорошо знаем, что легче воссоздать самую головоломную метафору, чем найти это краткое и простое в своей разговорности: «чтоб на них сказали».
Брабанцио
Судите сами, как не обвинять? Шагнуть боялась, скромница, тихоня, И вдруг, гляди, откуда что взялось!Или первая реплика Монтано из второго действия «Отелло»:
Такого ветра просто не запомню, У нас на укрепленьях треск стоит. Воображаю, в море что творится! Какие брусья могут устоять, Когда валы величиною с гору! Небось, крушений!..Или из «Ромео и Джульетты»:
Капулетти
…куда вы, господа, так рано? Вон слуги с прохладительным идут. Не можете? Торопитесь? Ну что же, Благодарю. Прощайте. Добрый путь. Светите им! А я на боковую. Ах черт, а ведь и правда поздний час! Пора в постель.Или:
Кормилица
Сударыня! Сударыня! Вставай! Пора вставать! Ай-ай, какая соня! Ну, погоди! Вот я ее, козу. Вот я ее! Как, так-таки ни слова? Да ладно, ладно. Спи, пока дают. Никак, одета? Встала, нарядилась — И снова бух? Уж это извини! Сударыня! Сударыня! А ну-ка! — Не может быть… Сюда! Она мертва! О Господи! О Господи! На помощь! Глоток наливки! Не перенесу!Это живые голоса людей, разных по положению, по роду занятий, по душевному складу, голоса разного тембра, голоса, по-разному звучащие в разные моменты жизни, в разных обстоятельствах. Актерам не требуется ремарок. Движения, мимика – все явлено в слове.
Последнее четверостишие «Первого снега» Леонидзе звучит в переводе Пастернака так:
Бах! Но стая за рекою. Либо сим же часом вплавь, Либо силой никакою, И надеяться оставь.Эта фраза «неправильна», но она хороша в первую голову своей «неправильностью»: когда человек должен принять мгновенное решение, то он ни вслух, ни про себя не строит упорядоченных силлогизмов, его речь сбивчива в своей лихорадочной прерывистости. (Помню, как восхищался на страницах Литгазеты этой строфой и переводами Пастернака грузинских поэтов чуткий и тонкий ценитель поэзии Д. П. Святополк-Мирский.)
Прелесть непринужденности, задушевности придает эллипсис и первым строкам «Стансов к Августе»:
Когда время мое миновало И звезда закатилась моя, Недочетов лишь ты не искала И ошибкам моим не судья.Пастернак-переводчик, как и поэт оригинальный, и в синтаксисе не менее разнообразен, чем в лексике. Стихи Бориса Пастернака:
Стихи мои, бегом, бегом, Пусть вьюга с улиц улюлю. Вы – радугой по хрусталю.А вот строфа из его перевода «Лютера» Иоганнеса Бехера – стихи здесь бегут бегом вслед за героем:
Он в их кольце. Пропало. Окружили. И вдруг спасенье. Он прорвал кольцо. Какой-то лес; лесной тропы развилье; Какой-то дом; он всходит на крыльцо.Вот почти такая же стремительная строфа из стихотворения Словацкого «Кулиг»:
Кони, что птицы. В мыле подпруги. Снежную кромку режут полозья. В небе ни тучки. В призрачном круге Месяц свечою встал на морозе.Вот монолог Отелло, только что прибывшего на Кипр, спешащего поделиться новостями и узнать, что нового на Кипре, – монолог, состоящий из быстрых, коротких, одна на другую набегающих фраз:
Пройдемте в замок. Новости, друзья; Поход окончен. Турки потонули. Ну как на Кипре? Я ведь тут бывал. Что старые знакомцы, Дездемона?А там, где того требует подлинник, Пастернак возводит стройные и величественные здания периодов, сочетая в себе зодчего и живописца:
И высящиеся обрывы Над бездной страшной глубины, И тысячи ручьев, шумливо Несущиеся с крутизны, И стройность дерева в дуброве, И мощь древесного ствола Одушевляются любовью, Которая их создала.(«Фауст», часть вторая)
Во второй строфе стихотворения Петефи «Моя любовь» неторопливое течение периода и плавный ритм дорисовывают образ автора:
Моя любовь не тихий пруд лесной, Где плещут отраженья лебедей И, выгибая шеи пред луной, Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.Пастернак – оригинальный поэт обладает редкостной силы темпераментом. Укажу, как на пример, на «Весеннюю распутицу». Не укрощает он его и в переводах. Помню, как ошеломили меня первые его переводы из Петефи. В изображении дореволюционных переводчиков Петефи выглядел унылым и вялым, этаким третьесортным Суриковым. И вдруг —
Ну так разбушуйся, лира! Выйди вся из берегов. Пусть струна с струною сцепит Смех и стон, и плач и лепет, Спутай жизнь и смерти зов! Будь как буря, пред которой Дубы с корнем – кувырком… Послушаем хор духов из «Фауста»: Рухните, своды Каменной кельи! С полной свободой Хлынь через щели, Голубизна! В тесные кучи Сбились вы, тучи. В ваши разрывы Смотрит тоскливо Звезд глубина. С тою же силой, Как из давила Сок винограда Ценною бурей Плещет в чаны, Так с Верхотурья Горной стремнины Мощь водопада Всею громадой Валит в лощину На валуны. Здесь на озерах Зарослей шорох, Лес величавый, Ропот дубравы, Рек рукава. Кто поупрямей — Вверх по обрыву, Кто – с лебедями Вплавь по заливу На острова. Раннею ранью И до захода — Песни, гулянье И хороводы, Небо, трава. И поцелуи Напропалую, И упоенье Самозабвенья, И синева.Динамичность глаголов и метафор, энергию которых временами еще усиливает повелительное наклонение (рухните, хлынь, сбились, мчатся, хлещет, валит, пенная буря), и эллиптическая конструкция придают описанию весны особую стремительность, особую широту охвата, способствуют неразрывной цельности восприятия.
Пастернак – признанный мастер звукописи. Таков он и в своих переводах. Как сказал бы Фет, он обладает способностью звуком навеять на душу читателя самые разнородные впечатления.
Но для зрелого Пастернака звукопись – не самоцель. Вот почему мы ее обычно не замечаем, хотя она и усиливает наше впечатление от его мыслей и образов:
Растроганности грош цена. Грозой пади в объятья веток, Дождем обдай его до дна.(«Все наклоненья и залоги…»)
От звукосочетаний, передающих гул и грохот громовых раскатов или ропот морских валов, он без труда переходит к убаюкивающей инструментовке:
Зашурши, камыш! Мне дорог Тихий тростниковый шорох. Тополь, всколыхнись лениво, Содрогнись листвою, ива, И тогда я вновь усну.(Монолог Пенея из «Фауста»)
Пастернак в своей оригинальной поэзии не ломает метрики русского стиха, он – виртуоз ритма.
В его переводе «Фауста», помимо всего прочего, нас поражает наряду с разнообразием рифмовки смена ритмов, призванных передать и торжественный хорал, и залихватскую песню гуляк, и обыкновенную, «среднюю» разговорную речь, и раешное озорство и балагурство.
Пастернак словом, интонацией, ритмом, звуком создает самые разнообразные характеры во всей их сложности. И этот его дар, пожалуй, нигде так полно не раскрывается, как в «Фаусте». Речь Вагнера терминологична, понятийна, безобразна, бесцветна. Рядом с этим словесным гербарием – причудливый сплав речевой характеристики Мефистофеля с его развязно-небрежным тоном циника, поддержанным канцеляризмами и просторечием, и с его монологами, в которых зловещий словесный колорит и бешеная раскачка ритма служат одной цели – показать истинное обличье Мефистофеля.
Мир бытия – досадно малый штрих Среди небытия пространств пустых. Я донимал его землетрясеньем, Пожарами лесов и наводненьем. И хоть бы что! Я цели не достиг. И море в целости и материк. А люди, звери и порода птичья, Мори их, не мори, им трын-трава. Плодятся вечно эти существа, И жизнь всегда имеется в наличье. Иной, ей-ей, рехнулся бы с тоски! На курганы лег туман, Завывает ураган. Гул и гомон карнавала Распугал сычей и сов. Ветер, главный запевала, Не щадит красы лесов, И расселины полны Ворохами бурелома И обломками сосны, Как развалинами дома, Сброшенного с крутизны, И все ближе, ближе вой, Улюлюканье и пенье Страшного столпотворенья, Мчащегося в отдаленье На свой шабаш годовой.Это уже злой дух ликующе распростер крыла в Вальпургиеву ночь.
Не менее широк лексический и ритмический диапазон в речевой характеристике Фауста.
Вот она, эта порывистая, мятущаяся душа, вечно стремящаяся вперед и выше:
Все шире даль, и тянет ветром свежим, И к новым дням и новым побережьям Зовет зеркальная морская гладь. О, эта высь, о, это просветленье!И вот другой Фауст, раздраженный, возмущенный, бунтующий:
«Смиряй себя!» Вот мудрость прописная; Извечный, нескончаемый припев, Которым с детства прожужжали уши, Нравоучительною этой сушью Нам всем до тошноты осточертев.И вот Фауст, пока еще добродушно ворчащий на пуделя; заключенные в напевный дактиль интонации звучат, однако, по-равному живо:
Пудель, уймись и по комнате тесной не бегай! Полно ворчать и обнюхивать дверь и порог. Ну-ка – за печку и располагайся к ночлегу. Право, приятель, на эту подушку бы лег.А многоголосье народных сцен! А хоры ангелов! А перекличка ведьм! А хоры полишинелей! А песня нищего! А хор крестьян! А песня солдат!
Оригинальная поэзия Пастернака и его поэзия переводная являют собою, как и у Бунина, нерасторжимое единство, единонаправленность усилий, органическую, нерушимую, теснейшую взаимосвязь.
Между тем пастернаковский «Фауст» зачинался и рос нелегко. Конечно, этим великим произведением русского поэтического искусства мы обязаны в первую очередь самому Пастернаку. Но тут невозможно не помянуть добрым словом Вильмонта, который натолкнул Пастернака на мысль о новом переводе «Фауста», а в процессе работы переводчика неустанно помогал ему своим знанием Гете вообще и «Фауста» в частности. Наконец, вспомним, что к моменту подготовки однотомника Гете Пастернака уже начало сжимать кольцо глухой злобы (ведь это было после доклада Жданова). Одновременно пополз брюзгливо-ядовитый шепоток литературных староверов, которым медведь на ухо наступил, или прелестного в своем невежестве профессора Металлова, который, после того, как переводчик Левик, защищая какую-то свою строчку в переводе из Гейне, процитировал ему Тютчева, при следующем свидании с ним победоносно заявил: «Читал я этого вашего Тютчева: не такой он поэт, чтобы на него ссылаться», – тут образовался «сладостный союз». Эту, – правда, немногочисленную, – рать рассеял все тот же Вильмонт, ворвавшийся в кабинет директора Гослитиздата Головенченко со словами: «Федор Михайлович! Не слушайте вы этих старых пердунов!» Головенченко был человек смелый. Он не побоялся заключить с Пастернаком договор, и таким образом участь русского «Фауста» была решена.
Истинно театральный переводчик драматических произведений, Пастернак в оценке актерской игры, как это часто бывает с писателями, либо завышающими, либо снижающими отметки актерам и режиссерам, что я уже отмечал в главах о Щепкиной-Куперник и о Багрицком, был не всегда точен. Назвать Аллу Тарасову с ее неистребимой вульгарностью, с ее длинным перечнем сплошных самоперепевов и неудач «великой артисткой» – не жирно ли это будет? Как же тогда прикажете назвать Ермолову или, не выхода из стен Художественного театра, Лилину? Сказать, что она играет «Марию Стюарт» «на века», не значило ли одарять актрису похвалой, неумеренность которой, как выразился в лекциях о Рабле Анатоль Франс, лишает ее всякого смысла?.. О Зуевой, всегда одной и той же во всех ролях, с теми же интонациями и ужимочками, он написал так, что вот если бы это же самое написать об Ольге Осиповне Садовской, было бы в ту же пору. Но в иных случаях Пастернак и в разговоре о театре сверкал блестками метких суждений. Он был на «Горячем сердце» в Художественном и видел Яншина в роли Градобоева. Он был пленен этим по-яншински на поверхности таким простым и по-яншински таким многогранным исполнением. В частности, он обратил мое внимание на то, что у Яншина прекрасный московский русский язык органичен, что он не щеголяет и не форсит им, что он просто не умеет говорить иначе.
А другие актеры носят русский язык как собаки поноску в зубах, – добавил Борис Леонидович. – Вот, мол, слушайте, как я вкусно, рассыпчато говорю по-московски.
… Несмотря на затянувшееся сталинское кромешье, несмотря на гибель друзей, так и не вышедших из застенков и не вернувшихся с каторги, несмотря на то, что он сам каждое мгновенье своей жизни мог ждать, что его схватят и повлекут, «аможе не хощеши», несмотря на то, что его не печатали, несмотря на то, что тираж книги избранных его стихотворений в 1948 году пустили под нож, несмотря на все это Пастернак сохранил жизнерадостность. Я видел слезы на его лице после того, как он узнал об аресте Ольги Всеволодовны Ивинской. Я слышал, как срывался его голос от подступавших к горлу рыданий, когда на обсуждении его перевода «Фауста» в Клубе писателей он читал сцену в тюрьме. Но я ни разу не видел на его лице унылого, тоскливого выражения. В 1951 году он мне сказал:
Я здоров, я очень люблю жизнь, люблю такие дни, как теперь: после заморозков – вдруг оттепель. Все как бы нарисовано тушью, разгонисто, чудесно. Я утром вышел – такой день, как будто его сам Господь Бог написал.
Он произнес эти слова без сентиментальных оттенков, скорее с оттенком светлой грусти, что придало им какую-то особую значительность.
Я видел на лице у Пастернака, когда он встретился с Перцовым, гадливое выражение. С выражением, исполненным благородного, не кичливого, но и не сгибающегося достоинства отвечал он Мотылевой на обсуждении его перевода «Фауста». В разное время он рассказывал мне о своих разговорах с двумя чекистами – Александром Михайловичем Еголиным и Дмитрием Алексеевичем Поликарповым. Еголину он сказал с добродушной усмешкой: «Ну вы там Цека, Расцека, но я ведь тоже не говно собачье», а Поликарпова оборвал: «Я не лакей и не проститутка, я поэт, и вы не смеете на меня орать». Иностранцам не понять, что в СССР надо было обладать изрядной смелостью, – даже знаменитому писателю, – чтобы так разговаривать с попечителями изящной словесности. Когда Пастернак говорил о том, что его возмущало, было видно, что гнев задевает лишь поверхностные слои его души, не всколыхивая ее и не доходя до ее дна, – что это всего лишь рябь, а не волнение, что злоба, даже и священная, – это чуждая ему стихия. И уж совсем добродушно отмахивался он от некоторых неотбойных поклонниц, коих одолевал философский и рифмосплетательский зуд.
Мне надо семью кормить, – пресерьезно говорил он, – а они заставляют меня читать свои многоверстные послания и стихи.
Он был благожелателен, благодушен, долготерпелив. Богословский присутствовал при том, как он, улыбаясь, звонил из Детгиза по телефону кому-то из знакомых, извиняясь за опоздание:
Я сейчас приеду. Я задержался в Детгизе: меня тут учили, как надо писать стихи.
Речь шла о редактуре сборника его переводов Шекспира. К чести тогдашнего Детгиза должен сказать, что это было прекрасное издание: по нему школьники приучались понимать и любить Шекспира.
…В начале 50-х гг. по Москве разнеслась весть, что Пастернак в Боткинской больнице, что у него, вероятно, инфаркт, и, как говорится, по всей форме. Я регулярно звонил Зинаиде Николаевне, справлялся о здоровье. Затем узнаю, что Борис Леонидович выздоровел и уже дома. Как-то вечером иду к Ланну, жившему в том же подъезде, что и Борис Леонидович, и вижу: Борис Леонидович посиживает с Зинаидой Николаевной на лавочке. Я бросился к нему. Обнялись, расцеловались.
Борис Леонидович дал своеобразное объяснение своей болезни:
Перед тем, как слечь, я все время принуждал себя делать то, что мне было не по нутру: рвал себе зубы и читал «За правое дело» Гроссмана.
Ранней весной 1954 года я позвонил Борису Леонидовичу. Он спросил, откуда я звоню. Я ответил, что из его дома, снизу, из квартиры Евгения Львовича Ланна. Он сказал:
Мне очень хочется с вами повидаться, дорогой Николай Михайлович, – мы ведь с вами давно не виделись, – и хотелось бы почитать вам свои новые стихи, которых вы не знаете. Спросите, пожалуйста, Александру Владимировну и Евгения Львовича: ничего, если я к ним сейчас спущусь? У них, кроме вас, никого нет? Я подожду у телефона.
Уговаривать Кривцову и Ланна мне не пришлось.
Появился Борис Леонидович. В тот вечер он был как-то особенно, более обыкновенного, приветлив, жизнерадостен, прост, так и сыпал шутками. Потом, сидя рядом с кроватью, на которой всегда полулежала хозяйка дома, начал читать стихи.
Я вижу его прекрасное в своей одухотворенности и вместе с тем совершенно естественное в своем выражении лицо, я слышу его голос, в котором нет ни одной театральной ноты, ибо он вовсе и не собирался «высоко парить», а почти шепчет как бы в полусне:
Сомкнутые веки. Выси. Облака. Воды. Броды. Реки. Годы и века —(«Сказка»)
выделяя последнюю строку так, что вы чувствуете, что предание о Георгии Победоносце, вступающем в бой с темными силами за незащищенную красоту, всегда будет волновать человечество.
Я вижу его любующимся тем, как после ночной грозы
Смотрят хмуро по случаю Своего недосыпа Вековые, пахучие Неотцветшие липы.(«Лето в городе»)
Я слышу, как он рассказывает о своем вещем сне, рассказывает опять-таки непередаваемо просто, произнося слова благоговейно, но без амвонного риторства, без единой капли лампадного масла, как произносит их обыкновенный религиозный человек:
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня Шестое августа по-старому, Преображение Господне. Обыкновенно свет без пламени Исходит в этот день с Фавора, И осень, ясная, как знаменье, К себе приковывает взоры.(<«4вгуст»)
А затем в неуютную, словно необжитую комнату Ланна вливается петербургская белая ночь:
Мне далекое время мерещится. Дом на стороне Петербургской, Дочь степной небогатой помещицы, Ты – на курсах, ты родом из Курска. Ты мила, у тебя есть поклонники. Этой белою ночью мы оба, Примостясь на твоем подоконнике, Смотрим вниз с твоего небоскреба. Фонари, точно бабочки газовые, Утро тронуло первою дрожью. То, что тихо тебе я рассказываю, Так на спящи дали похоже! Мы охвачены тою же самою Оробелою верностью тайне, Как раскинувшийся панорамою Петербург за Невою бескрайней. Там вдали, по дремучим урочищам, Этой ночью весеннею белой Соловьи славословьем грохочущим Оглашают лесные пределы. Ошалелое щелканье катится. Голос маленькой птички лядащей Пробуждает восторг и сумятицу В глубине очарованной чащи. В те места босоногою странницей Пробирается ночь вдоль забора, И за ней с подоконника тянется След подслушанного разговора. В отголосках беседы услышанной По садам, огороженным тесом, Ветви яблоневые и вишенные Одеваются цветом белесым. И деревья, как призраки, белые Высыпают толпой на дорогу, Точно знаки прощальные делая Белой ночи, видавшей так много.(«Белая ночь»)
Белая ночь уплывает, и в окна ей на смену вплывает другая весна, ранняя, далекая, лесная, дебряная, уральская, с колдобинами и промоинами, с топью и хлябью распутицы, с гулом и разгулом полой воды:
А на пожарище заката, В далекой прочерни ветвей, Как гулкий колокол набата, Неистовствовал соловей. Где ива вдовий свой повойник Клонила, свесивши в овраг, Как древний Соловей-разбойник, Свистал он на семи дубах. Какой беде, какой зазнобе Предназначался этот пыл? В кого ружейной крупной дробью Он по чащобе запустил? Земля и небо, лес и поле Ловили этот редкий звук, Размеренные эти доли Безумья, боли, счастья, мук.(«Весенняя распутица»)
– Борис Леонидович! После ваших стихов живых соловьев слушать не захочешь! – невольно вырвалось у меня.
Спустя несколько дней Борис Леонидович прислал мне все эти стихи, отпечатанные на машинке, а в догонку еще два стихотворения, написанные от руки: «Разлука» и «Свадьба».
«Разлука» – это было первое в советской поэзии стихотворение с намеком на арест героини. Уже одним этим оно брало за сердце, не говоря о том, что в него – это чувствовалось с первых строк – был вложен душевный опыт самого поэта. «Свадьба» поразила меня другим. До «Свадьбы» я не подозревал, как близка, как родственна Борису Пастернаку деревенская, страдная и хороводная, сарафанная и шушунная кольцовско-есенинская стихия. Недаром в 30-х годах самые большие надежды Борис Леонидович возлагал не на кого-нибудь, не на Заболоцкого, который, казалось, должен был быть ему тогда ближе, а на Павла Васильева с его «Стихами в честь Натальи»:
По стране красавица идет. Так идет, что ветви зеленеют, Так идет, что соловьи чумеют, Так идет, что облака стоят.На семинаре молодых поэтов 1935 года, о котором мне тогда же рассказывал присутствовавший на нем Александр Яшин, Пастернаку задали вопрос, кто, по его мнению, из молодых поэтов стоит на правильном пути. Пастернак назвал Павла Васильева, Ярослава Смелякова и Леонида Лаврова. На это ему возразили, что ведь все трое недавно арестованы. «Ах вот как? Ну, тогда, значит, не на правильном», – ответил Пастернак. Замечу мимоходом: я убежден, что Пастернак знал об аресте этих трех поэтов и сказал о правильности их пути умышленно. А тут притворился, что в первый раз слышит. Пастернак, как многие дети, был отличный актер-реалист. Он дал здесь такое же точно представление, как со стихотворением «Брюсову», которое он, видите ли, забыл, споткнувшись на предосудительной строчке. Когда же, после смерти Сталина, военная прокуратура занялась реабилитацией расстрелянного в 37-м году Павла Васильева, обвиненного в том, что он по наущению Бухарина, покровительствовавшего Васильеву как поэту и охотно печатавшего его стихи в «Известиях», готовил покушение на «самого большого человека», Пастернак написал в прокуратуру письмо, в котором отметил, что Васильев «безмерно много обещал», что Васильев был наделен тем «ярким, стремительным и счастливым воображением», без которого не бывает настоящей поэзии и которого он, Пастернак, после Васильева ни в ком уже не видел.
Вскоре после присылки стихов мы встретились с Борисом Леонидовичем. Он был бодр, говорил, что все хорошо на свете, один за другим выходят люди из концлагерей и что в его литературной жизни есть сдвиг: «Знамя» печатает цикл его стихотворений.
Словом, он верил в то, что постепенно разменивается, и не хотел замечать зарниц, не хотел слышать погромыхиванья, без чего в Советском Союзе не обходится даже самое долгое вёдро – слишком уж просило его сердце «света и тепла».
Затем он стал жить в Переделкине круглый год, телефона у него там не было, сваливаться на него, как снег на голову, я считал неудобным, к тому же я весь ушел в перевод «Гаргантюа и Пантагрюэля», и встречи наши почти прекратились. До меня лишь долетали вести об его жизни и обо всем, что было связано с «Доктором Живаго». Слышал я, что к нему приезжали из Союза писателей с просьбой подписать какой-то протест против каких-то зарубежных «зверств», на что он ответил:
А в Венгрии водичка лилась? Что же мы не протестовали тогда? И подписать отказался.
Слышал я, что Павел Антокольский приезжал к нему уговаривать его взять «Живаго» из итальянского издательства, на что Пастернак ответил:
Павлик! Мы с тобой старики. Нам с тобой поздно подлости делать.
– Смотри! Не сделай рокового шага! Не упади в пропасть! – с актерско-любительским пафосом прохрипел Антокольский. – Возьми рукопись назад. Помни, что ты продаешь советскую литературу.
– Да что там продавать? – возразил Пастернак. – Там уж и продавать-то нечего. Вы сами давно все продали – и оптом, и в розницу.
В начале 59-го года один мой знакомый, написавший еще до истории с «Живаго» статью о Пастернаке, которую так и не напечатали, но которую, прочитав в рукописи, одобрил Пастернак, навестил Бориса Леонидовича в Переделкине. Он привез мне от Бориса Леонидовича привет и просьбу – позондировать почву в издательствах, ибо его – не с материальной, а с моральной стороны – начинает угнетать полное отсутствие заказов.
Случай не замедлил представиться. Я был редактором двухтомника пьес Кальдерона, готовившегося в издательстве «Искусство». Дело было уже на мази. Нежданно-негаданно издательский редактор Зоря Моисеевна Пекарская звонит мне, что состоялся очередной совет ученых и неученых мужей – членов редколлегии «Библиотеки драматурга», в которой должен был выйти Кальдерон. На этом совещании мужи спохватились и всполошились: «Какой же Кальдерон без „Стойкого принца“? Так вот решено, мол, непременно включить „Стойкого принца“ в новом переводе. Кому же заказать перевод? А сроки – драконовские. Я ответил, что прекрасно и быстро перевести „Стойкого принца“ может только один человек в Советском Союзе: Борис Леонидович Пастернак». Зоря Моисеевна, естественно, растерялась: «Да, но ведь Пастернака не печатают». Я ответил ей в сердцах, что родить второго Пастернака я при всем желании не могу, а вести переговоры с кем-либо еще считаю бессмысленным. Обойдемся в таком случае и без «Стойкого принца». «Ну, хорошо, я поговорю с директором», – нерешительно сказала Зоря Моисеевна. Не проходит и десяти минут, как я вновь услыхал в трубке ее уже ликующий голос: «Караганов сказал, что он очень рад. Ему, оказывается, дали указание как можно скорее предоставить Пастернаку работу, а он не знал, где эту работу найти. (Гуманизм Караганова и вышестоящих лиц объяснялся просто: разговорами за границей о том, что Пастернака в СССР не печатают.) Не могли бы вы съездить к Пастернаку в Переделкино и от имени издательства повести с ним переговоры?» «Je ne demende pas mieux»[20] – подумал я и, немедленно дав согласие, на другой день был уже в Переделкине и сговорился с Борисом Леонидовичем, что он берет на себя перевод «Стойкого принца». Показав мне груды писем, которые он теперь стал получать не только со всех концов Руси великой, но и со всех концов земного шара, он заметил, что игра с «Доктором Живаго» для него вполне стоила свеч. Я заговорил о тех его стихах, что потом составили последнюю его книгу «Когда разгуляется». Он отозвался на мои восторги довольно кисло, с неподдельным недоумением, что там, дескать, может особенно нравиться. Он сказал, что самое главное для него были и остаются роман и пьеса, которую он сейчас пишет.
Зимой 1959–1960 гг. мы виделись с ним несколько раз. Моя «редактура» «Стойкого принца» свелась лишь к пятнадцати предложениям на всю пьесу. Я уже не говорю о том, что Пастернак обогатил русскую драматическую поэзию еще одним самоцветом. Это ему было не впервой. Поразительно то, что, зная испанский язык из пятого в десятое, заглядывая по временам для самопроверки в немецкий и французский переводы, он ухитрился сделать в переводе всей труднейшей трагедии лишь две смысловые ошибки. Помимо таланта, его еще всегда выручало обостренное филологическое чутье.
В день его 70-летия я послал ему в Переделкино телеграмму, в которой назвал его «красой и гордостью русской литературы». Телеграфистка в 55-м отделении связи на Палихе, принимая телеграмму, вскинула на меня удивленные, слегка испуганные и даже с промелькнувшей тенью негодования глаза. Видимо, история с «Доктором Живаго» была ей памятна. Что другое, а забивать памороки у нас насобачились: «Я сама не читала, но раз в газетах пишут, что он предатель, стало быть, он предатель и есть…»
Потом Ольга Всеволодовна мне говорила, что моя телеграмма обрадовала Бориса Леонидовича: во-первых, думается мне, потому, что я был ему не безразличен, что засвидетельствовала в своей книге воспоминаний Ольга Всеволодовна, а во-вторых, потому, что поздравлений он в этот день наполучал уйму, но только не от братьев-писателей. Приветствующих можно было перечислить по пальцам: Николай Николаевич Вильмонт, Паустовский, я и кто-то еще. Были, разумеется, и устные приветствия соседей по даче, в частности – от семьи Вс. Иванова, не отвернувшейся от Пастернака ни на секунду.
Вскоре я получил приглашение к Борису Леонидовичу на обед, который состоялся на квартире у Ивинской. Кроме меня, тут были Ариадна Сергеевна Цветаева-Эфрон и Константин Петрович Богатырев.
С несвойственной ему ворчливостью Пастернак за обедом рассказал:
– Одна швейцарка вздумала доставить мне удовольствие: прислала мне книгу моих ранних стихов в своем переводе на немецкий. Вот удружила! В них и по-русски-то ничего понять нельзя, а немецкие их переводы надо сунуть в аквариум рыбам на корм.
Конечно, тут есть «красное словцо», но в каждом красном словце мелькает хотя бы отсвет истинного отношения человека к затронутой им теме.
Мы начали строить планы, какое участие примет Борис Леонидович в затевавшемся тогда под моей редакцией собрании сочинений Лопе де Вега, что именно ему хочется перевести. Видимо, Кальдерон раззадорил его, и у него чесались руки приняться за Лопе де Вега.
После обеда мы ушли с Борисом Леонидовичем одновременно. Оказалось, что нам с ним по пути: в Лаврушинский переулок. Дошли до Маросейки. Я стоял пень пнем, а Борис Леонидович с юношеской легкостью гонялся за такси, перебегая с тротуара на тротуар.
Наконец мы сели в такси.
Вот его последние слова, сказанные мне перед разлукой на земле:
– Знаете, что я вам скажу: все произошло так, как должно было произойти, и я за все благодарю Бога. И за то, что я не в Союзе писателей, тоже, – с улыбкой добавил он. – Быть членом Союза, хотя бы даже как Шолохов: «растрепанным, в пуху»,[21] нет уж, увольте!..
…Пока Пастернак не отошел от нас, мне было отрадно не столько сознание, сколько подсознание, что он живет между нами, как я его люблю и как осиротеет Поэзия, как осиротеет Земля, когда он уйдет от нас туда, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь бесконечная, – это я всей неприкаянностью опустевшей души моей ощутил, когда шел за его гробом в тихий и радостный летний день.
Переделкино – Москва Август 1966 – апрель 1967
Благовестники
О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас
животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были.
Жуковский…Бога я очень люблю, – сказал дьякон
просто и уверенно.
ГорькийВ 1962 году в Третьяковской галерее открылась выставка картин Нестерова, воплотившего одно из свойств русской души – ее созерцательно-лирическое начало, ее жертвенность, ее право – и богоискательские устремления, ее способность к самоуглублению, к богомыслию и боговидению, тогда как Васнецова увлекала другая черта русской души – ее воинствующее благочестие, ее воинствующая любовь не только к небесной, но и к земной отчизне, ее не только житийные, но и сказочно-былинные предания, а Кустодиев показал нам «обильную матушку-Русь», – ибо была же она и обильна, о чем свидетельствует даже Некрасов, певец другой, убогой Руси, – показал Русь нарядную, веселую, пышнотелую, возвел русский быт в перл создания, увидел поэзию там, где до него никто не замечал: в провинциальных буднях, подобно тому, как Левитан увидел поэзию там, где, кроме его предтечи Саврасова, никто ее опять-таки не приметил: в задумчивой и скромной тишине русской природы, в запущенном дворике с чайником-рукомойником, в покосившемся сарае с дверью, открытой в весенний сад. Эти художники дополняют друг друга. Не будь у нас хоть одного из них – образ России остался бы незавершенным. В нем возобладали бы черты убожества неряшливого, той невзрачно-унылой, столь дорогой передвижническому сердцу серости, той отталкивающей нищеты, которые Блок никогда бы не уподобил «первым слезам любви», того бытового и обрядового неблагообразия, которое смаковал Репин. Но ведь в том-то все и дело, что —
Ты и убогая, Ты и обильная, Ты и забитая, Ты и всесильная, Матушка-Русь!На выставке 1962 года Нестеров был представлен не во всей полноте, однако полнее, чем когда бы то ни было. При жизни Михаил Васильевич столь разносторонней выставки так и не дождался.
В 1962 году многие из нас впервые увидели итог размышлений Нестерова о русском народе – увидели его картину «На Руси». В центре картины – символический образ благоверного зиждителя и устроителя русской земли.
Писал его Нестеров с московского протодьякона Михаила Кузьмича Холмогорова.
Кто же он такой?
Это был, как его называли, Шаляпин церковного пения. Основания для такого сближения у москвичей были. Ни Шаляпин, ни Холмогоров богатырской голосовой мощью похвастаться не могли, зато оба отличались безукоризненным артистизмом. Один из его поклонников, московский простолюдин, говорил мне:
– Здоровенные оралы тогда среди протодьяконов были, а вот художеством отличался один Холмогоров.
Писатель Лидин в романе «Отступник» называет Холмогорова одним из двух лучших московских басов.
У Холмогорова духовный и внешний артистизм проявлялся в каждом его выходе, в каждом движении, в каждом возгласе.
Он говорил:
– Когда стоишь на амвоне, всегда надо помнить, что перед тобой – Господь Бог, а за тобой – верующий народ.
Он служил просто, без всякой манерности, без всякой аффектации, не стараясь подладиться под чей-либо вкус, и в то же время торжественно, благоговейно, красиво. А когда он не служил, у него появлялось даже, если хотите, светское изящество. Вот он, по окончании богослужения, уже одетый в шубу или пальто, проходя по клиросу к двери, проделанной для священнослужителей и певчих, и улыбаясь одними глазами, обращается к певицам:
– Medames! Позвольте вас с праздником поздравить.
В его полупоклоне и в тоне обращения чувствуется что-то аристократическое, хотя он был, как он сам себя называл, потомственным «кутейником»; чувствуется, что из него мог бы выйти покоритель сердец, хотя он по-туберозовски счастливо и дружно прожил век со своей женой.
Я увидел и услышал его впервые в 1932 году в церкви «Никола-Хлынов» (теперь ее уже нет, а стояла она в Хлыновском тупике, близ Большой Никитской улицы), затем, после долгого перерыва, стал постоянно слушать его, начиная с 1943 года и до самой его кончины. Сила холмогоровского голоса была, понятно, уже не та, но благородный артистизм и совершенную музыкальность он сохранил до последнего дня своей службы в храме. Один из лучших в ту пору московских регентов Николай Константинович Соболев, скупой на проявления восторга, восхищался Холмогоровым.
– Михаил Кузьмич всегда в самую точку попадат, – говорил он с ярославским прононсом.
Это значило, что хору легко ответить на любой его возглас, легко попасть ему в тон.
Холмогорова знала вся предреволюционная Москва, но особенно любила его московская интеллигенция, даже равнодушная к религии, даже и вовсе неверующая. Холмогорова ходил слушать Качалов. Холмогорова ходили слушать иностранцы. Холмогоров, уже в последние годы жизни, продолжал водить дружбу с людьми науки и искусства. Я часто слыхал от него по окончании литургии:
– Надо Леночку Кругликову навестить. Давненько у нее не был. Или:
– Сегодня я зван к Павлу Дмитриевичу Корину. Или:
– Прямо отсюда поеду к скульптору Меркурову. Или:
– Надо поздравить с праздником Николая Дмитриевича.
Николай Дмитриевич – это химик Зелинский, который всегда просил Холмогорова на Рождество прославить у него дома Христа, а на Пасху – спеть пасхальные песнопения.
Но и простой народ знал и любил его. Всякий раз, когда я получал гонорар в Гослитиздате, кассир Иван Дмитриевич Подкопаев, зная, что я постоянно бываю в храме, где последние годы жизни служил Холмогоров, и не стесняясь ничьим присутствием, высовывался из окошка и спрашивал:
– Слышь: как там Кузьмич? Здоров? Служит? Ну, слава Богу.
А затем успокоенно втягивал голову в свою клетушку.
А сам «Кузьмич» рассказывал мне, как во время войны, когда он ходил со свечой по храму, верующее простонародье, явно нарушая благолепие всенощного бдения, старалось сунуть ему в свободную руку кусок хлеба, а не то – сахарку.
В 1933 году после проведения в Москве паспортизации, почти всему московскому духовенству было воспрещено проживание в Москве, – священникам и дьяконам пришлось искать пристанища в Подмосковье. Михаил Кузьмич поселился в Листвянах. Однажды, уже во время войны, он замешкался и пошел по затемненной Москве ночевать к Корину. По дороге разговорился со случайным спутником, который протянул ему руку при каком-то более или менее опасном в темноте переходе. Узнав, что Михаил Кузьмич проживает неподалеку от Пушкина, он сказал:
– Недалеко от Пушкина жил один человек, которого я никогда не забуду. Да вот не знаю, жив он или помер.
– Кто такой? Может, я про него слыхал.
– Протодьякон Холмогоров.
– В том, что он жив, вы легко можете удостовериться, – ведь вы именно его ведете сейчас под руку.
Холмогоров был высокого роста, с большой головой, рыжеватыми волосами и бородой. Он был некрасив, но некрасивость не портила его, – таким обаянием он был наделен, такое излучал он душевное тепло. Вот этого обаяния и тепла не сумел передать Павел Корин, писавший Холмогорова несколько раз. К слову сказать, Корин вообще неважный психолог. Даже Нестерова, которого он любил сыновней любовью, он ухитрился изобразить купцом-самодуром. Черты наследственного самодурства в Нестерове были, но это ли самое важное, самое главное в нем, это ли характерно для художника-поэта, певца нестеровской Руси? Блистательно показаны Кориным самочье хищничество «Тимоти» Пешковой да барственная плотоугодливость Алексея Николаевича Толстого, но для раскрытия этих не ахти каких сложных натур особенно тонкого психологического анализа от него и не требовалось. Корину удавались портреты исторических деятелей и полководцев, овеянных дымкой легенд и преданий, портреты, написанные «парадной кистью», – в этих портретах дает себя знать палехский иконописец, – но где колющий, на грани безумия, взгляд Леонидова? Перед нами благополучный, много зарабатывающий доктор с глазами как у снулой рыбы. Самому Леонидову, как ни странно, коринский портрет нравился. Это только лишний раз доказывает, что со стороны виднее. А что он сделал с Качаловым, которого дочь Ермоловой сравнивала с Гете в старости? Перед нами не адвокат сердцевед, каким отчасти и был Качалов в инсценировке «Воскресения», – перед нами адвокат, модный, избалованный успехом, красующийся, самовлюбленный. В книге отзывов о выставке Корина (1963) кто-то негодующе записал, что Корин – не художник, а человеконенавистник, что он Качалова превратил в Вышинского. Это, разумеется, «перехлест». Но как бывает у человека притупление легкого, так у Корина было притупление в душе, мешавшее ему услышать душу того, кого он пишет. От кого-то еще я слышал более мягкий отзыв: в отличие-де от Нестерова Корин лишен благодати.
В первой части моих воспоминаний я отмечал как характерную черту русского духовенства сочетание требовательности к самому себе и снисходительности к ближнему. Самоуглубленность иногда придавала лицу Холмогорова строгое выражение, и его-то и уловил Нестеров – оно было ему нужно для образа правителя земли Русской. Но Нестеров не писал портрет Холмогорова – он избрал одну ипостась холмогоровской сути. Корин претендовал на полноту изображения, а запечатлел только грубость его словно из дерева вырезанного лица. «Прими в рассуждение, Санчо, – наставлял Дон Кихот Санчо Пансу, – что есть два рода красоты: красота духовная и красота телесная. Духовная красота сказывается и проявляется в ясности ума, в целомудрии, в честном поведении, в доброте и в благовоспитанности, и все эти свойства могут совмещаться и сосуществовать в человеке некрасивом…» Вот эту духовную красоту Холмогорова, этот свет, изнутри озарявший и облагораживавший топорность его черт, Корин оказался бессилен передать на полотне. И неудивительно. В разговоре со мной Корин, вспоминая, что перед Холмогоровым была открыта дорога в Большой театр, а он на эту дорогу вступить не захотел, недоуменно разводил руками. Если Корину был недоступен этот взлет души Холмогорова, отдавшего предпочтение духовной стезе, то зря он брался за его портрет. Вот у него и получился «грубо сколоченный дьякон», как – к сожалению, правильно – заметил кто-то из «вечерочных» щелкоперов.
В силу некоторых обстоятельств я много лет во время богослужений стоял в алтаре того храма, где служил Холмогоров, – в церкви во имя Воскресения Словущего, что è в Филипповском переулке, близ Арбата. И все эти годы я накануне и в самый день какого-либо церковного праздника просыпался, предвкушая радость – повидать Холмогорова.
Ах, какой это был незлобивый, какой жизнелюбивый человек! Я наблюдал Холмогорова перед службой, во время службы и после службы. И я ни разу не видел на его лице даже тени раздражения, даже тени простого неудовольствия.
Однажды я обратился к нему с вопросом:
– Михаил Кузьмич! Вам случалось хоть раз в жизни на кого-нибудь рассердиться?
Холмогоров, добросовестно подумав, ответил:
– Как будто бы нет, Николай Михайлович. Но тут же в нем проснулась повышенная строгость к себе:
– Только это не оттого, что я будто бы такой хороший… Нет, совсем нет… Натура у меня теплохладная, вот что, и за это мне, по слову евангелиста, на том свете палка.
Так, на в высшей степени свойственный ему шутливый лад перевел Холмогоров мысль из Апокалипсиса.
Холмогоров ни о ком плохо не отзывался, никого не осуждал, не смотрел свысока на людей иной национальности, иной религии.
Он входил в алтарь с неизменно приветливой улыбкой, в которой не было, однако, ничего заученного, наигранного, принужденного. Он действительно рад был видеть и священников, и псаломщика, и регента Соболева, и генерала Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, родного брата управделами ленинского Совнаркома, и меня (нам обоим было разрешено стоять в алтаре). И мы все это чувствовали, и как только появлялся Михаил Кузьмич, у всех становилось хорошо на душе, и на лицах у нас, даже у сварливой алтарницы, в ответ ему затепливались улыбки. Я с ним по старинному русскому обычаю всегда целовался. От него вкусно пахло – чистоплотным, здоровым стариком. После службы он иной раз с шутливым огоньком в глазах обращался к двум стоявшим в алтаре, но не служившим заштатным священникам, одному из которых было под восемьдесят, а другому – девяносто три года:
– Ну, молодая гвардия, пойдем! Он был органически чужд всяческого фарисейства.
– Завтра к обеденке придете? – спрашивал он меня. Или после того, как я причащусь в алтаре:
– А теперь правильце прочтите, и с Богом домой – отдыхать. От «обеденки» и «правильца» в его устах елеем и лампадным маслом не пахло. Он любил служить, и долговременность служения этой любви в нем не охладила, не засушила благоговейной ее свежести. Ему было дорого каждое слово в Священном писании, в богослужебных книгах, и через уменьшительные суффиксы он выражал свою любовь ко всему церковному, а кроме того, будучи человеком деликатным, он, видимо, боялся, чтобы я не принял напоминание за приказание, и этим «правильцем» как бы смягчал его. И тут же – снисхождение к моей слабости: я, конечно, устал, выстояв почти всю длинную службу в Страстную среду, до конца можно и не достаивать, Бог простит, скорей – отдохнуть.
Одним из любимых его праздников было Благовещение. И читал он в этот день Евангелие с душевным и голосовым подъемом, удивительным в его преклонные годы, ликующе, воистину благовествующе.
Добродушно пошутить, вызвать улыбку, развеселить человека он отнюдь не считал грехом, – напротив, это было для него дело богоугодное.
– Самый тяжий грех – уныние, – любил повторять он. Холмогоров на всю жизнь сохранил любовь к светскому пению. Постоянно бывая у Нестерова, он певал там песню варяжского гостя,
«Двух гренадеров» и много других арий и романсов под аккомпанемент Марии Вениаминовны Юдиной. Как-то я пришел в церковь со своей дочерью Лелей, которой тогда было лет девять, и, пройдя в алтарь, сказал Холмогорову, что нынче я не один, а с дочкой.
– Где же она?
– Поставил ее с разрешения Николая Константиновича на правый клирос. Хочу, чтобы постепенно приучалась к духовному пению. Мечтаю о том, чтобы из нее вышла церковная хористка.
– Николай Михайлович! А «Не о том скорблю, подруженьки»? Об этом тоже никак нельзя забывать, – наставительно заметил отец протодьякон.
Вряд ли Холмогоров читал религиозного мыслителя XIX века архимандрита Федора (Бухарева). Вряд ли он читал такие строки в книге Бухарева «О православии в отношении к современности»: «…подавление и стеснение, а тем более отвержение чего бы то ни было истинно человеческого есть уже посягательство на самую благодать Христову». Но, как и архимандрит Федор, Холмогоров считал, что всякое подлинное искусство – это дело Божье. Служа искусству, ты служишь Христу – под этим положением, которое архимандрит Федор настойчиво проводил в своих «Трех письмах к Гоголю», умоляя его не зарывать свой талант в землю и не бросать художественное творчество, обеими руками подписался бы Холмогоров.
Так же высоко ценил он и служение Богу в миру. «Материнский подвиг выше подвига монашеского» – это его подлинные слова.
Холмогоров был большое дитя с чистым и мудрым сердцем – оттого так тянулись к нему дети, оттого так тянулись к нему и взрослые, наделенные тою же, что и он, детской непосредственностью. Он пришел к нам в гости впервые в 1945 году, незадолго до конца войны. Моя дочь, которой было тогда три с половиной года, не устрашась внушительной фигуры отца протодьякона и его на поверхностный взгляд непривлекательных черт, очень скоро вскарабкалась к нему на колени. А она была девица разборчивая. За несколько дней до прихода Холмогорова у нас был один человек и принес ей необычайную по тому времени редкость – плитку шоколада. Леля вежливо поблагодарила, взяла плитку – и была такова. По-видимому, наш случайный гость с его иезуитскими повадками не пришелся ей по душе.
Так вот, сидела Леля у Михаила Кузьмича на коленях, а он по моей просьбе припоминал кое-какие черты из своей жизни. Вспомнил, между прочим, как несколько лет назад пришла из консерватории только что перед этим выдержавшая вступительный экзамен по классу рояля одна из его дочерей и, повалившись на диван, заплакала.
– Что с тобой?
– Не приняли, папа.
– Как же не приняли? Ведь ты выдержала!
– Как дочь служителя культа.
– Горько, конечно, мне было это услышать, – заключил свой рассказ Холмогоров и, словно для того, чтобы стереть тяжелые воспоминания, медленно провел руками по лицу. Леля, вообразив, что он плачет, стала отнимать его руки, гладить, и целовать его прекрасное в своей некрасивости лицо.
Так же льнули к нему и взрослые дети. Рядом с Холмогоровым возникает в моей памяти священник церкви Воскресения Словущего о. Иоанн Святицкий, высокий, худой, с большими, младенчески изумленными карими глазами. Сродство их душ было несомненно, оно бросалось в глаза. Оба они были внутренно музыкальны. О. Иоанн и в старости посещал светские концерты. Не знаю, певал ли он в молодости, но у него был отличный слух, и он очень ценил хорошее пение, притом пение сложное, которое далеко не всякий священнослужитель способен воспринять и принять. Приглашая верующих прийти в Прощеное воскресение к «вечерне с великим прокимном» и сообщая, что после вечерни хор будет петь «На реках Вавилонских» Веделя, он выражал свое восхищение этим не имеющим себе равных произведением. Специально для о. Иоанна хор под управлением Соболева пел «Ныне отпущаеши» Веделя, столь же сложное, как и «На реках…».
Еще Холмогорова и Святицкого сближало то, что оба они были, по выражению Ахматовой, «награждены каким-то вечным детством», одарены неиссякаемой душевной щедростью. Только Холмогоров был сдержан во всех своих проявлениях, даже и в самой своей детскости, а о. Иоанн бывал иной раз буен и грозен. Он мог во время елеопомазания «шугануть» старуху за бестолковость, за то, что она на кого-нибудь окрысилась, – и не только прикрикнуть, но даже и легонько подтолкнуть в спину. Но если к о. Иоанну подводили или подносили ребенка, то, как бы ни было велико стечение народа, он останавливал толпу властным взмахом руки и потом долго возился с ребенком, уча его складывать пальцы в крестное знамение, благословляя его, гладя по головке и называя ласковыми именами. Так же любовно внимателен был он во время войны к подходившим под его благословение солдатам и офицерам. Глядя на них тревожным взглядом, как бы страшась за их судьбу, он каждому говорил: «Храни вас Господь!» Однажды за всенощной накануне большого праздника настоятель с Холмогоровым, спев в первый раз величание, пошли по храму с кадилом и со свечой, а на середине главного придела остался о. Иоанн. Тут же стоял я, чтобы сдерживать напор толпы, вдруг вижу: о. Иоанн, совсем не благолепно, явно не в соответствии с торжественностью момента, лазит по карманам своего подрясника. Что, думаю, за притча? Ларчик, оказывается, открывался просто. Взгляд о. Иоанна упал на худенького мальчугана в ветхом пальтишке, а о. Иоанн и вообще-то не мог равнодушно видеть детей, а уж обездоленных – тем паче. Что ему благолепие, если перед ним стоит бедный мальчонка и если он, о. Иоанн, может ему хоть чем-нибудь сию же минуту помочь? Найдя в кармане десятку, он по возможности незаметно сунул ее изумленному подростку.
Я сказал, что о. Иоанн был музыкален, что он обладал приятным голосом, но, в отличие от Холмогорова, благолепие он нарушал постоянно. Но – как и во имя чего? Вот он читает записки о здравии. Ему недостаточно прочитать просто: «Болящего Константина». Назвав имя, он страстно, на всю церковь молится:
– Господи! Исцели Ты его! Сохрани его, Господи! И с еще более сильным чувством, почти рыдая:
– Заключèнного Андрия!.. Господи! Пошли Ты ему ангела-хранителя! Изведи Ты его из темницы!
Один иеромонах верно сказал о нем:
– Отец Иоанн принадлежит к числу тех священников, которые, если вы их попросите помолиться о здоровье вашей жены, еще и за вашу коровку помолятся.
Я почитал и любил о. Иоанна, но, к сожалению, не был с ним близок, не был знаком с ним домами. Однако его благоволение к себе я ощущал постоянно. Как и Холмогоров, он радостно улыбался при встрече с кем-либо, – начало Серафима Саровского, который каждого приходившего к нему называл «радость моя», жило и в нем.
Осенние сумерки. Я вхожу в алтарь задолго до начала всенощной. Первый, кого я вижу, – о. Иоанн. Широкая белозубая молодая улыбка.
– Здравствуйте, миленький! И, как при виде Холмогорова, на душе у меня теплеет.
– Как поживаете?
– Да плохо, отец Иоанн.
– Что так?
– Мать больна, жена ногу сломала. Он всегда говорил мне «вы», а тут вдруг:
– Вон там лежит бумага и карандаш, напиши записку, завтра за обедней помяну.
Я написал записку о здравии двух болящих и подал о. Иоанну вместе с деньгами. Как же он раскипятился!
– Не смей! Не смей! Не то поминать не стану! Я умоляюще забормотал:
– Батюшка! Мы, интеллигенция, у вас, священников, в неоплатном долгу. Когда вы голодали и холодали, мы вас бросили, отступились от вас. Не обижайте меня, возьмите!
Насупился еще больше, что-то обдумывая, потом вдруг посветлел:
– Ну, ладно, давай! Это я только чтоб не обидеть! Да, в проявлениях своих Холмогоров и Святицкий были несхожи друг с другом, но основа у обоих была одна и та же – теплая, живая вера в Бога, сознание, что вот Он тут, в алтаре. И разговаривал о. Иоанн с Богом, стоя перед престолом, как горьковская бабушка. Слов, сочиненных кем-то другим, ему было мало: ему хотелось выговорить слова, лившиеся у него прямо из сердца, побеседовать с Богом по душам, как с кем-то высшим, но близким и дорогим, кто всегда услышит его и поймет.
Не помню точно, в каком году Холмогоров читал на Благовещение свое любимое Евангелие – читал с редкой даже для него выразительностью и проникновенностью. В глазах у о. Иоанна, и без того блестящих, заблестели слезы, и он, неожиданно для всех нас, стоявших в алтаре, совсем не по уставу, срывающимся голосом воскликнул:
– Господи! Пошли Ты ему сил и здоровья! Ведь это он для всех нас старается!
Холмогоров и Святицкий верили в Бога, как верит простой народ, без интеллигентских отвлеченностей. Бог был не только всегда в них, но и, как говорил сам Холмогоров, перед ними: перед их мысленным и перед их телесным взором. Он был и над ними и с ними. Он был человечен в своей божественности. Он был веществен в своей бесплотности. Так верила моя бабушка. Так верили мои знакомые крестьяне. Эту черту подметил Горький и наделил ею Луку. Одной моей знакомой запомнился разговор между ее отцом-вольнодумцем и ее няней, ставшей членом их семьи:
– Няня!
– Чего тебе?
– Бог всемогущ?
– Всемогущ.
– А может Он козырного туза побить?
– Станет Он с тобой, с дураком, в карты играть!..
Сын московского священника, Холмогоров поступил учиться в московскую духовную семинарию не по инерции, а по призванию: это он доказал впоследствии. По окончании семинарии он, исполняя обязанности псаломщика в Георгиевской церкви на Большой Грузинской, учился в консерватории, участвовал в светских концертах, – ему пророчили славное будущее светского певца, и вдруг его неудержимо повлекло на стезю отцов, и он решил принять сан дьякона. Настойчивее других ему советовал не спешить с принятием сана архиерей Трифон (в миру – князь Туркестанов). Трифон внушал молодому Холмогорову, что светское певческое искусство тоже дело доброе, дело Божье, и что тут надо семь раз примерить, а потом уже отрезать, чтобы после не жалеть. Холмогоров, однако, был непреклонен, принял сан дьякона (рукоположил его все тот же Трифон), и, по собственному признанию Холмогорова, он никогда о том не жалел. Но на всякое подлинное искусство всю жизнь смотрел как на особый род служения Богу, и взгляд этот он, по всей вероятности, воспринял от Трифона, оказывавшего на Холмогорова влияние неотразимое. Трифон, уже в архипастырском сане, принимая у себя Станиславского, тряхнул стариной и прочитал наизусть какой-то монолог, Константин Сергеевич пришел в восторг от его чтецкого мастерства и задал ему по-станиславски наивный вопрос:
– А почему бы вам не прочитать его со сцены?
– Сан не позволяет, Константин Сергеевич, – напомнил владыка.
– А нельзя ли как-нибудь совмещать ваши архипастырские обязанности с выступлениями на сцене? – не унимался Станиславский. – А то ведь жаль: такой талант пропадает!
После его кончины в течение многих лет в московских храмах священники, читая записки об упокоении, поминали митрополита Трифона, – стало быть, память о нем у московских старожилов жила долго. Этот красавец-князь, перед которым могла бы открыться блестящая светская карьера, как это часто бывало, да и сейчас еще бывает с русскими людьми, переломил судьбу – и пошел в монахи. Совершился в нем переворот отчасти под влиянием игры Ермоловой в «Орлеанской деве» – душа возжаждала подвига. 28 февраля 1928 года среди отпевавшего Ермолову в храме Большого Вознесения на Большой Никитской сонма архиереев и иереев во главе с тогдашним заместителем патриаршего местоблюстителя, а впоследствии – патриархом Сергием был, тогда еще в сане архиепископа, Трифон, и в своем надгробном слове он рассказал о том, что подтолкнуло его избрать тесный путь иноческий.
Студент Московской духовной академии иеромонах Трифон попросил, чтобы его назначили священником в пересыльную тюрьму Сергиева Посада. Прошло некоторое время – Трифона вызывают к викарному архиерею. Архиерей показывает ему письмо заключенных, в котором они выражали благодарность своему неизменному утешителю и молитвеннику. Воспоминание об этом случае спустя много-много лет служило утешением самому Трифону в его горе, а горевал он в тридцатых годах из-за того, что ОГПУ косило направо и налево – архиереев, священников, дьяконов, членов церковно-приходских советов, а его случайно обходило. (Умер он 14 июня 1934 года в Москве, на своей постели.) Мне не раз доводилось присутствовать на его служении. Он, как принято выражаться, сохранял следы былой красоты. Поражали на его изможденном лице подвижника большие печальные глаза, совсем не исступленные глаза фанатика, привидившиеся Корину. В былое время он славился своими проповедями – дамы московского бомонда называли его notre Crysosto è me (наш Златоуст). Но в последние годы жизни он, проповедуя, часто вынужден был умолкать от закипавших в горле слез, закипали же они у него обычно при воспоминании о каком-нибудь храме, в котором он еще недавно служил и которого теперь уже не существовало.
«Каков поп, таков приход». Холмогоров составлял «приход» Трифона в том смысле, что Трифон любил Холмогорова и приближал его к себе. Душевная легкость, простота, юмор, отвращение к фарисейству – все эти природные свойства Холмогорова с течением времени не только не заглушались, но, напротив, развивались в нем, потому что он видел перед собой пример Трифона, в котором все эти особенности составляли гармоническое целое с его высоким душевным строем.
Холмогоров никогда не напрашивался на похвалу, не искал ее, но любил, когда его хвалили как певца, и выслушивал восторгающегося с довольной, чуть-чуть застенчивой улыбкой, без ложной скромности, не прерывая и не махая руками – мол, где уж нам уж выйти замуж. Он охотно вспоминал, что до революции владыка Трифон в Великий четверг посылал за ним своих лошадей, чтобы Холмогоров в том храме, где служил владыка, непременно спел соло «Разбойника благоразумного…» древнего напева, а затем та же тройка доставляла Михаила Кузьмича к его храму во имя Никиты Мученика, чтобы он и там успел пропеть «Разбойника» и дослужить «Двенадцать Евангелий».
Слышал я от Холмогорова и такой рассказ:
– Духовный композитор Чесноков написал Великую ектенью. Мне она понравилась, я ее разучил, и меня стали нарасхват звать во все московские и даже подмосковные храмы послужить и пропеть с хором чесноковскую ектенью. И вдруг, здравствуйте, пожалуйста, – получаю приглашение явиться к викарному архиерею в Андрониевский монастырь. Ну, думаю, уж раз к викарному потянули – стало быть, не миновать получить по загривку. Прихожу. Встречает вежливо, но суховато. «На вас, – говорит, – отец протодьякон, жалоба, что вот, мол, протодьякон Холмогоров вводит богопротивные новшества, распевает ектенью, такого, мол, в православной церкви от самого крещения Руси не бывало». Подпись: «Группа верующих». Владыка спрашивает: «Вы действительно поете ектенью?» – «Пою, владыка». – «А что вас к этому побуждает?» – «Видите ли, владыка: обыкновенно хор на все лады распевает „Господи, помилуй“, а народ и так это хорошо знает, а вот главное, слова самой ектеньи, то, о чем мы просим Бога и что далеко не все знают наизусть, – иной раз пропадает. Что греха таить: дьякона частенько пробубнят, пробормочут, а Чесноков так написал музыку, что каждое слово в ектенье выделено, отчетливо слышно молящимся». Архиерей подумал, подумал и говорит: «Ну, мы с вами вот как решим: приезжайте ко мне в следующее же воскресенье к поздней обедне и пропойте ектенью. Я послушаю и выскажу вам свое мнение». Я попробовал отвертеться: «Владыка! Чесноковская ектенья трудная, до воскресенья только два дня осталось, спеваться некогда, а не всякий хор ее без спевки поднимет». А мне на это архиерей: «Не беспокойтесь: мой хор что хотите без спевки поднимет». Делать нечего, в воскресенье приезжаю к поздней обедне в Андрониевский монастырь. Владыка в алтаре, но не служит. Я пропел с хором ектенью – архиерей, не сказав ни слова и даже не простившись, уходит. Ну, думаю, быть беде! После службы подходит ко мне келейник: «Отец протодьякон! Владыка просит вас на чашку чая». У архиерея за столом довольно многочисленное смешанное общество: тут и духовенство, тут и благочестивые дамы. За чашкой чая архиерей обращается к дамам: «Вот вы только что прослушали во время литургии Великую ектенью духовного композитора Чеснокова в исполнении отца протодьякона Михаила Кузьмича Холмогорова. Какое вы от этого вынесли впечатление?» Тут дамы заахали, защебетали: «Ах, владыка! Упоительно! Дивно!» Владыка быстро прервал поток их красноречия: «Знаем мы вас! Вам только пощекочи ваш светский дух – и вы уже себя не помните. Нет, мы лучше вот кого спросим». И показывает на только что вошедшего монаха, – как оказалось, из Нового Афона. «У вас, отец такой-то (позабыл, как его звали), устав в монастыре строгий, не московский, вам тут и книги в руки. Сегодня отец протодьякон предложил нашему вниманию Великую ектенью, недавно сочиненную духовным композитором Чесноковым. Что вы о ней скажете?» – «Да что о ней сказать, владыка! Когда я ее слушал, у меня было такое чувство, точно я не на земле, а на небе». А владыка: «Вот и у меня было точно такое же чувство. Пойте, отец протодьякон, пойте!»
Никогда ничего из себя не корчивший, никаких эффектных поз не принимавший, Холмогоров и в других ценил естественность и непосредственность. Так, вспоминая патриарха Тихона (Белавина), он особенно подчеркивал его скромность и простодушие.
– Это человек Божий, – говорил он про него. – Ученым богословом его назвать нельзя, зато сердце у него было чуткое и душа добрая: все, что имел, раздавал беднякам. И сердиться долго не умел.
Холмогоров вспомнил о том, чему сам был очевидцем.
С 1922 по 1923 год патриарх Тихон находился под домашним арестом в Донском монастыре. Многие из духовных лиц и из мирян, оставшиеся без кормчего, растерявшиеся, сбитые с толку, признали власть самозванного обновленческого синода. Многие архипастыри, пастыри и священники во всей России поминали синод. Но когда патриарха Тихона освободили, лучшие московские священнослужители пришли к нему с повинной головой. Пришел владыка Сергий (Страгородский). Сергий при всех собравшихся приносил покаяние по особо строгому чину (кому много дано, с того много и спросится). Сергий принес покаяние и подошел к патриарху. Патриарх, до того времени смотревший на Сергия со строгой скорбью, тут улыбнулся, с ласковой шутливостью взял его за бороду, а затем, покачав головой, сказал: «И ты, старый, от меня откололся».
– Ну, тут уж оба старика не выдержали, заплакали и обнялись, – закончил свой рассказ Холмогоров.
Патриарха Алексия I Холмогоров, видимо, недолюбливал, должно полагать, именно за – хотя и красивую – сановитость.
– С ним чувствуешь себя не в своей тарелке, – говорил он. – Вот покойный Сергий – это наш брат: кутья, простец. Недаром близкие к нему люди называли его «дедушка».
Простец и добряк, – добавлю я. Выражение его лица являло собою сочетание ума и доброты, в чем можно убедиться, взглянув хотя бы на хорошую его фотографию. Верный себе, Корин запечатлел на портрете только ум Сергия, доброта же улетучилась, испарилась.
То, что отношения у Холмогорова с величественным Алексием были далекие, строго официальные, а с простецом Сергием – теплые, душевные, опять-таки характерно для самого Холмогорова.
В патриархе Алексии I, человеке отзывчивом, добром, чувствовался барин. Барина не смогли побороть в нем ни духовная академия, куда он поступил, получив сначала светское образование, ни монашеский сан. Моя мать спросила меня, не знаю ли я, как звали патриарха Алексия в миру.
– Сергей Владимирович Симанский.
– Сережа Симанский! – радостно воскликнула моя мать. – Да я же с ним на балах танцевала мазурку.
Когда я заговорил о несколько расхолодившей меня барственности патриарха Алексия I с иеромонахом Киево-Печерской лавры о. Иосифом Штельмахом, этот кроткий человек единственный раз за все наше знакомство сказал, насколько он мог, запальчиво:
– Ну, пусть у него есть что-то от барина, но есть у него что-то и от ангела, и я, простой мужик, не считаю для себя унизительным, а напротив, как-то возвышающим меня поцеловать его руку.
А в Сергии, человеке большого ума, тонком дипломате, стоявшем у кормила церковной власти в конце двадцатых и в тридцатых годах, во времена, уступавшие разве только нероновским, во времена, когда по всей стране закрывали и сносили один храм за другим, один монастырь за другим, когда одних священников ссылали, других расстреливали, третьи снимали с себя сан, четвертые не только снимали, но и сообщали в газетах о своем отречении от прежних убеждений, подобно тому, как в те же времена дети в газетах отрекались от своих родителей – «буржуев», «кулаков» или «попов», пятые уходили к обновленцам – страха ради, корысти ради, а иные – только чтоб им дали возможность служить, не бросать церкви, шестые, как, например, ленинградские «иосифляне», называвшие себя так по имени митрополита Петроградского Иосифа, откалывались и образовывали «оппозицию справа», осуждали патриаршего местоблюстителя за «политиканство» и «заигрывание с властями», в Сергии, все же сумевшем сохранить уголок священной рощи, которая, чуть только распогодилось, мгновенно стала выбрасывать побеги, в многоученейшем Сергии с его обширными познаниями, позволявшими ему еще до революции, как равный с равным, участвовать в спорах в Петербургском Религиозно-философском обществе с цветом тогдашней идеалистически, но не ортодоксально-церковно мыслившей интеллигенции – с Розановым, с Мережковским, – в Сергии, к которому Советское правительство неоднократно обращалось, когда нужно было перевести какой-нибудь особенно хитроумный документ на японский язык, ибо Сергий в пору своего миссионерства изучил японский язык в совершенстве, – в Сергии жил «простец», жил ребенок, жил шутник. Когда Сергия осенью 1941 года эвакуировали в Симбирск, настоятель местного собора обратился к нему с просьбой:
– Не порекомендуете ли вы нам какого-либо благоговейного дьякона?
– Голосистого могу порекомендовать, а вот благоговейного сам ищу, – ответил митрополит Сергий.
О Холмогорове Сергий отзывался так:
– У меня, во всей моей митрополии, только два непьющих дьякона: Михаил Холмогоров да Иван Федоров.
– Какой Иван Федоров?
– А тот, что у Китайгородской стены стоит. Я видел и слышал Сергия в первый и в последний раз вскоре после
его избрания Патриархом московским и всея Руси и за несколько месяцев до его кончины. В 1944 году на второй день Рождества он принимал поздравления от московского духовенства в храме Воскресения Словущего. Поздравительную речь произнес митрополит Крутицкий и Коломенский Николай.
– Ныне русская православная церковь вновь воссияла во всей полноте своего иерархического чина, – говорил он.
Каюсь: до этого дня, не сознавая всей трагической сложности положения Сергия, я осуждал его за «словеса лукавствия», за излишнюю, с моей тогдашней недальновидной точки зрения, дипломатичность, выражавшуюся хотя бы в том, что в двадцатых годах он, глава давно уже формально отделенной от государства церкви, ввел особое прошение: «…о богохранимей стране нашей и о властех ея» – впрочем, с добавлением в Сугубой ектенье: «…да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте» (Первое Послание Апостола Павла к Тимофею, 2, 2), или в изданной для внешнего употребления в 1942 году по его благословению книге «Правда о религии в России», которую с гораздо большим основанием надо было бы озаглавить: «Неправда о религии в СССР». 16 февраля 1930 года, после того как папа Пий IX призвал к крестовому походу в защиту русской православной церкви, Сергий и другие члены Синода ответили в газете на вопросы представителей советской печати враньем сногсшибательным: «Гонения на религию в СССР никогда не было и нет», – «…некоторые церкви закрываются. Но производится закрытие не по инициативе власти, а по желанию населения, а в иных случаях даже по постановлению самих верующих». Духовных лиц арестовывают? Стало быть, за дело, как и прочих граждан. Лишают права проживания в Москве? За невзнос квартирной платы. Напрасно, мол, папа римский беспокоится: на нашей земле, дескать, мир и в человецех благоволение.
Тогда я не знал о прелюдии к этому интервью. Пятнадцать лет спустя мне рассказал о ней Холмогоров со слов лиц, окружавших Сергия.
К заместителю патриаршего местоблюстителя явились незнакомые люди. Он заперся с ними в комнате (он тогда ютился в домишке неподалеку от Елоховской площади – это уж во время войны ему отвели особняк и приемную в Чистом переулке). Сперва сквозь запертую дверь ничего не доносилось. Затем послышались громкие голоса незнакомцев и наконец голос митрополита:
– Да вы расстреляйте меня, старика, меня одного, но не трогайте моих сподвижников!..
Потом опять все стихло. Немного погодя незнакомцы удалились. Вышел митрополит. Приближенные бросились к нему.
– Дедушка! Что такое? Сергий заплакал.
– Не спрашивайте, – прошептал он. – Так надо… Так надо… А не далее как 15 марта того же года ЦК разразился нижеследующим циркуляром, который я привожу в выдержках:
О борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении
Всем ЦК нацреспублик, всем краевым, областным, окружным и районным комитетам партии.
… ЦК считает необходимым отметить совершенно недопустимые искривления партийной линии в области борьбы с религиозными предрассудками… Мы имеем в виду а д м и н и с т р а т и в н о е[22] закрытие церквей без согласия подавляющего большинства села…
…………………………………….
ЦК обязывает партийные организации:
1) Прекратить наблюдающуюся в ряде мест практику принудительного метода коллективизации, ведя одновременно дальнейшую упорную работу по в о в л е ч е н и ю крестьянства в колхозы на основе добровольности и у к р е п л е н и ю существующих колхозов.
3) Не допускать перевода сельскохозяйственных артелей на устав сельскохозяйственных коммун без утверждения окрколхозсоюзов или окрисполкомов и прекратить п р и н у д и т е л ь н о е обобществление жилых построек, мелкого скота, птицы, нетоварного молочного скота.
4) Проверить списки раскулаченных и лишенных избирательных прав и немедля исправить д о п у щ е н н ы е в э т о й о б л а с т и о ш и б к и в отношении середняков, бывших красных партизан и членов семейств сельских учителей и учительниц, красноармейцев и краснофлотцев (рядовых и командных).[23]
………………………….
6) В о с п р е т и т ь закрытие рынков, в о с с т а н о в и т ь базары и н е с т е с н я т ь продажу крестьянами, в том числе колхозами, своих продуктов на рынке.
7) Решительно п р е к р а т и т ь практику закрытия церквей в административном порядке, фиктивно прикрываемую общественно-добровольным желанием населения. Д о п у с к а т ь закрытие церквей лишь в случае действительного желания подавляющего большинства крестьян и не иначе, как с утверждения постановлений сходов областными исполкомами. За издевательские выходки в отношении религиозных чувств крестьян и крестьянок привлекать виновных к строжайшей ответственности.
8) Работников, не умеющих или не желающих повести решительную борьбу с искривлениями партийной линии, с м е щ а т ь с постов и з а м е н я т ь другими.
Центральный комитет ВКП(б)
Тут уж сам ЦК расписался в том, что храмы закрывались насильственно – значит, «по инициативе власти», ибо самое безбожное-разбезбожное население без санкции власти на такой шаг никогда бы не отважилось, и, значит, не «некоторые», а очень даже много храмов: из-за «некоторых» не стоило вводить особый пункт в циркуляр.
Власть поставила несчастного Сергия в жалкое положение: не фактический патриаршего места блюститель, а Центральный Комитет партии атеистов вступился за церковь и за верующих.
Один за другим рушились древние храмы, впитавшие в себя потоки горючих и сладостных молитвенных слез, озаренные незримыми лампадами ясных дум, какие пробуждает в человеке только беседа с Богом. Рушились древние храмы, воздвигнутые русской дерзновенной сметкой, трудолюбивым, многоочитым и быстрокрылым гением русским, русской богоносной душой. Рушились древние храмы, восхищавшие взор то певучей стремительностью очертаний, то стройной их строгостью, то причудливой замысловатостью каменного кружева, притягивавшие к себе суровой нежностью ликов, чей прозорливый взгляд настигал нас везде, как бы мы от него ни таились, ласкавшие зренье гармонией красок и линий, какой достигала вдохновенная мудрость иконописцев. Рушились храмы – соборы, церкви, церквушки, часовни. Рушились звонницы и колокольни. С гулким стоном, вбиваясь в землю, падали колокола. На протяжении многих веков они то гудели великопостною скорбью, то полнили вешний разымчивый воздух малиновой радостью Пасхи, то благовествовали градам и весям, то упорным, тревожным, сполошным звоном полошили народ, возвещая о полыханье пожара или о еще горшей беде: о тьме тем врагов, идущих на Русь… Падали, падали, падали колокола. В двадцатые годы и в начале тридцатых под Рождество и под Пасху на площадях горели костры: то участники бесовских игрищ, именовавшихся «Комсомольским рождеством» и «Комсомольской пасхой», жгли иконы под пенье богохульно-разгульных частушек, от которых разило удушливым смрадом растленных душ. В тюрьму, в ссылку, на каторгу прибывало все больше и больше белого и черного духовенства и просто преданных церкви людей. Все больше и больше на папертях уцелевших церквей появлялось священников, с безгласной и застенчивой неумелостью просивших подать им ради Христа.
И вот когда, вскоре после сделанного заявления, отслужив в Великий четверг службу Страстей Господних у Большого Вознесения, Сергий садился в автомобиль, в него полетели не только крики: «Иуда! Предатель!», но и увесистые булыжники. Лукнуть камнем в старика – это не в моем характере, а вот чувства, владевшие тогда толпой верующего простонародья, я тогда разделял вполне. Но уже молитва о даровании победы, которую во время войны вплоть до заключения мира читали за каждой литургией во всех храмах, отчасти меня с ним примирила – примирили слова этой молитвы, которые Сергий мог бы и опустить: «Не помяни беззаконий и неправд людей Твоих». Я понял, что, лукавя в миру, с властями предержащими, Сергий в храме, один на один с Богом и со своей совестью, честен и прям.
Слово, которое он произнес в ответ на речь митрополита Николая, окончательно растопило в душе моей лед, Сергий напомнил мне перемышльского о. Владимира Будилина; вернее, Будилин представился мне Сергием в миниатюре. И у того, и у другого – ум, эрудиция, при явной речевой беспомощности. Сергий говорил раскидисто; коснулся все же своей заветной мечты – соединения всех церквей, всех вероисповеданий, а потом вдруг, без ощутимой связи с тем, о чем говорил до этого, юношески бодро и убежденно произнес:
– Давайте же как можно чаще думать о нашей вере – о силе вашей веры: она, эта вера, свое возьмет, она непобедима ни для каких темных сил.
Эти слова, которыми он, интонационно подчеркнув и выделив их, закончил свое краткое слово и которые я здесь воспроизвожу стенографически точно, вспышкой молнии озарили мне подлинную сущность Сергия, вынужденного в крайних обстоятельствах жертвовать белоснежностью риз своих ради общего дела, – так, по народной легенде, пересказанной Куприным в «Двух святителях», Николай Чудотворец предстал на небе в грязных, обтрепанных, изодранных ризах вместо белых, которые дал ему Господь Бог, посылая на землю; изорвал же он их и запачкал оттого, что все время кому-то помогал и кого-то спасал. В послереволюционной России люди, подобные Сергию, маневрирующие ради общего дела или ради помощи ближним, стали особенно, насущно необходимы. И они были и есть – едва ли не во всех областях жизни. И скольких они выручали и выручают, выволакивая из трясины социалистической формалистики и волокиты, а иной раз и спасая от гибели! Нет, толпа метнула в Сергия камни по неразумию, не ведая, что творит. Не нам, ежедневно совершающим то крупные, то мелкие сделки с совестью, осыпать Сергиев камнями. Судья им – Бог, а Бог, верится, зачтет сотворенное ими добро и «не помянет неправд их». При мысли о патриархе Сергии нам всегда должны приходить на память слова религиозного философа Владимира Николаевича Лосского. По его мнению, Сергий, «великий святитель», как он его называет, делал «дело, превышавшее всяческие человеческие силы» (Вестник Русского Западноевропейского Патриаршего Экзархата. 1959. № 30–31). Уже одно то, что так оценил деятельность Сергия Лосский, уже одно то, что от Сергия не откачнулись такие люди, как митрополит Трифон и протодьякон Холмогоров, указывает на величие духа, на душевную чистоту Сергия.
Холмогоров в одной из бесед со мной сравнил два пути: путь человека, на короткое время после кончины патриарха Тихона (апрель 1925 года) возглавившего русскую православную церковь, то есть митрополита Петра (Полянского) и его заместителя Сергия. Петр недвусмысленно дал понять гражданским властям, что ни на какие уступки и сговоры он не пойдет: вы же, мол, сами отделили церковь от государства, да и не по дороге нам, дескать, с вами – вы проповедуете ненависть, а мы – любовь. В декабре 1926 года митрополита Петра арестовали, в 27-м году сослали в тундру, в зимовье Хэ, находившееся в двухстах верстах от города Обдорска Тобольской области. В ссылке он и сгинул. Его место заступил Сергий, и он предпочел лавировать – лишь бы уберечь и сохранить корабль. Он не выказал Петровой непримиримости и не разделил участи Петра не потому, чтобы «боялся за свою шкуру», как истолковывали его поведение противники, а потому, что боялся волка в овечьей шкуре, которого власти могли бы навязать русской православной церкви вместо него. Холмогоров, преклоняясь перед подвигом Петра, «исповедническим» подвигом, как он его определял, перед подвигом гораздо более заметным, неизмеримо более чистым, опрятным и привлекательным, в то же время подчеркивал, что делу церкви Сергий принес больше пользы и что из двух путей он избрал самый мучительный и трудный. Для такого человека, как Сергий, для которого христианская мораль являлась не сухой догмой, не отвлеченной идеей, а живой плотью, для него, оставшегося до конца строгой жизни монахом, привыкшего к физическим лишениям, вынужденное, вымученное криводушие представляло собою бремя потяжелее тюрьмы и каторги. С 1927 по 1944 год он безотлучно пребывал на каторге нравственной, в застенке, где дыбу и колесо заменяли беспрестанно достигавшие его слуха вести о гибели сподвижников и единомышленников, исходившие от иных собратьев и кое-кого из паствы, верхоглядные упреки в том, что он-де подольщается к властям и за это его не трогают, и, наконец, требования, предъявлявшиеся к нему властью, – требования все новых и новых лжесвидетельств, все новых и новых вариаций на тему: «Русская православная церковь никогда и мечтать не могла о такой свободе, какую ей предоставила революция».
В ежовщину Холмогорова, жившего по вышеуказанной причине уже не в Москве, а в Листвянах и служившего в Пушкинской церкви (в Москве ему тогда было запрещено не только жить, но и служить – слишком много привлекал народу), натурально, арестовали и предъявили обвинение – ни мало ни много – в терроре, в злоумышлении на жизнь великого вождя.
Тут уж и кроткий Холмогоров возмутился.
– Помилуйте! – сказал он следователю. – Вы только подумайте: в чем вы меня обвиняете? Да я не только человека – я животное обидеть почитаю за великий грех. Вот мух, случалось, бивал, да и то если уж очень донимали.
Михаил Кузьмич ровно год – день в день – просидел в Бутырках и досидел до кратковременной «весны» 1939 года. Он говорил, что в «Мертвом доме» ему было очень тяжело, но добавлял, что благодарит за это испытание Бога:
– Иначе мне совестно было бы смотреть людям в глаза. Как же так? Мои коллеги, такие же ни в чем не повинные, как и я, страдают, а я – нет?
По выходе из тюрьмы он навестил Сергия. Тот ему предложил:
– Вот что, Михаил Кузьмич: вы после своего годового «курорта» отдохните, а потом поступайте ко мне в Елохово[24] – я за вас похлопочу, и будем мы с вами, два старика, вместе Богу молиться.
Но Холмогоров отказался. Тюрьма подкосила его, и он получил позволение «уйти в заштат».
Началась война. Сына, с которым жил Михаил Кузьмич, взяли в армию рядовым, и он очень скоро пропал без вести. Остались Михаил Кузьмич, не получавший ни копейки пенсии, и малолетний внук его Жоржик на попечении у выбивавшейся из последних сил невестки. Попросту говоря, все трое подголадывали. Михаил Кузьмич, стоя на молитве, усердно просил у Бога помощи. И вдруг к нему в Листвяны приезжают настоятель и староста храма Воскресения Словущего и просят его у них послужить. Предлагают, во внимание к его возрасту и немощам, самые льготные условия: служить только по субботам и воскресеньям, под и на большие праздники, Холмогоров согласился. После этого сразу стало легче жить и близким, и дальним его родственникам, и нуждавшимся друзьям его и знакомым.
Скончался он в 1951 году, восьмидесяти с лишним лет. Отпевали его в храме Воскресения со скромной торжественностью два приходских священника, в частности – о. Иоанн Святицкий. По собственному почину приехал принять участие в его отпевании гремевший в двадцатых годах московский протодьякон Владимир Дмитриевич Прокимнов, похожий лицом и на боярина и на татарина. Из патриархии не приехал никто. Зато народу была полна церковь. И многие плакали. Но всех горше, всех неутешнее, всхлипывая, захлебываясь слезами и размазывая их рукавом по опухшему лицу, плакал его внук-сиротинка Жоржик. Жоржику тогда было лет двенадцать, и я невольно подумал: «Ну уж если в таком озорном, сорванцовском возрасте плачет мальчик по деду, значит, дед у него был золотой».
Как-то, в начале войны, в нашем храме должен был совершать литургию митрополит Николай. Я тогда еще стоял во время богослужений не в алтаре, а вместе с толпою молящихся. Чтобы пробраться вперед, я пришел задолго до начала. Смотрю: из алтаря встречать митрополита вместе с Холмогоровым выходит неизвестный мне протодьякон, приземистый, коренастый, широкоплечий, неладно скроенный, да крепко сшитый, с лицом сметливого – себе на уме – крестьянина, который все может сделать по хозяйству, у которого всякая работа кипит и спорится. И еще при взгляде на него тотчас становилось ясно, что этот человек недавно скинул с плеч обузу, что теперь он свободен, счастлив и не в состоянии скрыть, что он счастлив, что счастье переполняет его и переплескивается через края. С его лица не сходит улыбка. В ожидании запаздывающего митрополита он то пошепчется с Холмогоровым, то подойдет к клиросу и что-то скажет регенту, – словом, ему не стоится на месте и не терпится обменяться с кем-нибудь двумя-тремя словечками. Я спросил у находившегося от меня поблизости псаломщика, кто это. Оказалось, что это протодьякон Сергей Павлович Туриков. Псаломщик пошепту сообщил мне кое-что о нем.
Туриков – сын смоленского крестьянина, печник по ремеслу. (Я потом видел его родного брата – тот так печником и остался.) В первые годы революции в Москве еще ярко горела звезда Холмогорова, но уже и тогда Туриков начал было входить в славу. Но в 30-х годах его сослали в Алма-Ату. Повинен он был перед властью разве что в силе и красоте своего голоса. Вернувшись в Москву после трехлетней ссылки, он долго мыкался: церкви в ту пору совсем обеднели, содержать дьяконов для большинства приходов было роскошью, едва хватало на содержание священников, все уходило на налоги, и Туриков стал проситься, чтобы его взяли в церковь ну хотя бы истопником, но его и на эту должность не брали. Некоторое время он пел в хору Радиокомитета, но это был не в коня корм, и вот совсем недавно ему удалось вновь войти в лоно церкви и поступить дьяконом к самому митрополиту Николаю.
«Так вот отчего у Турикова такой вид, словно его выпустили из клетки на волю!» – подумалось мне.
За той литургией Туриков меня не поразил. Несмотря на голосовые преимущества (он был намного моложе Холмогорова, да и от природы голос у него был несравненно сильнее), он проигрывал на фоне холмогоровского строгого и благородного изящества своей мужиковатостью, своей радостной суетливостью, можно было бы даже сказать – вертлявостью, если бы это слово подходило к его дюжей фигуре, желанием скорей-скорей наверстать упущенное и покрасоваться, щегольнуть своими богатейшими голосовыми данными – знай, дескать, наших.
Несколько лет спустя его временно перевели из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру, и там он, применяясь к монастырскому духу, подтянулся, но величавости, чинности так в себе и не выработал, и когда, за всенощной, шествовал по храму со свечой, то не погладить походя русую детскую головенку было выше его сил – рука так сама и тянулась.
С годами мне стало понятно, почему у Турикова торжественность уживалась с домашностью.
Храм был для него не только храмом, но и домом, где собрались во имя Господне его добрые знакомые, его друзья.
Церковный композитор и регент Третьяков в беседе со мной набросал на Турикова дружеский шарж: будто бы в начале всенощной Туриков, впереди священника с кадилом, идет со свечой по храму и на все стороны раскланивается: «Здравствуйте, Марья Ивановна! Мое почтение, Петр Петрович!» Понятно, это шарж, но, как во всяком удачном шарже, долька истины в нем есть.
Однажды в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры Туриков, провозгласив «Богородицу и Матерь Света в песнех возвеличим!», пошел по храму кадить. Дойдя до меня, он протянул мне левую руку и тихонько пробасил:
– На-ка, покури.
Я вытаращил глаза, но, ощутив в своей руке что-то твердое, догадался: он протянул мне в бумажке несколько кусочков ладана.
Этим ладаном я так и не стал курить в комнате перед иконами. Я берегу его на память о Турикове.
Вскоре после того, как я увидел его впервые, он опять служил в храме Воскресенья Словущего с митрополитом Николаем, и вот эта литургия мне памятна не менее, чем далекая всенощная в перемышльской Никитской церкви в честь прибытия иконы Калужской Божьей Матери, и опять-таки благодаря еще одной «мировой молитве».
В чин архиерейского служения входит возглашаемое дьяконом моление захватывающей дух широты. Я разумею то, которое начинается словами: «И всех и вся». Сперва оно, как будто, наоборот, суживается, но потом все ширится, ширится и наконец вновь, но уже на самой высокой голосовой волне, вырывается в космическую, вселенскую запредельность. Дьякон молится вот об этом архипастыре, который там, в алтаре, приносит сейчас «Святые Да è ры сия Го è сподеви Богу нашему», потом – о священничестем и иночестем чине вообще, о всех, в немощех лежащих, о спасении людей предстоящих и их же кийждо в помышлении и è мать, и о всех и за вся.
Туриков на амвоне. Голос его поднимается выше, выше, в финале как будто уже касается отведенных ему природой границ, хор, не дожидаясь, пока он умолкнет, разражается громовым «И о всех и за вся» Чайковского, и тогда кажется, что голос Турикова ушел под воду, но нет, он не сдается: он вот-вот вынырнет, он сейчас выплывет, еще мгновение – и он уже на поверхности, еще мгновение – и он, точно шапкой, накрывает тридцатиголосый, усиленный ради торжественного случая соболевский хор, и мы уже ничего не слышим, кроме празднующего свою победу голоса Турикова, который, сметая все национальные и вероисповедальные перегородки, возносит к Богу молитву о спасении всех людей Его, ибо – «несть Еллин, ни Иудей… но всяческая, и во всех Христос», и за все мироздание, ибо – «дивны дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси».
Жизнь Турикова начинала складываться на редкость удачно. Этот смоленский печник побывал с митрополитом Николаем там, где ему и не снилось: в Чехословакии, в Финляндии, в Париже, в Палестине, участвовал за границей в концертах духовного пения. Но когда он вернулся из первого своего заграничного путешествия, то не застал в живых ни жены, ни старшего сына. Сын, невредимо прошедший всю войну, вернувшись с фронта, пошел за чем-то в ближайший магазин и попал под трамвай. Вскоре после него скончалась дьяконица. А в 1949 году в начале лета Холмогоров сказал мне, что так как Туриков в свое время не нашел нужным подать в НКВД прошение о снятии судимости, то теперь власти и совсем уж было собрались наладить Турикова из Москвы верст этак за пятьсот—шестьсот. В Париж и в Палестину его отпускали охотно, а вот в Москве он опять вырос в грозную для советского строя опасность. За него заступился влиятельный в ту пору митрополит Николай. В переговорах с кем-то из громовержцев он пошутил: «Вы уж отдайте Турикова в мое распоряжение, а я его в монастырь упеку». «Упек» своего любимца митрополит всего-навсего в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру, да еще предварительно возвел его в чин архидьякона. Служил Туриков в Лавре с 1949 по 1953 год и в Москве бывал постоянно.
Меня познакомили с Туриковым еще до его «ссылки» в алтаре нашего храма, – правда, знакомство произошло на ходу, скоропалительно и мимолетно, – и Холмогоров, зная, что я нарочно снял дачу по Ярославской железной дороге, чтобы иметь возможность часто ездить в Лавру, попросил меня передать Сергею Павловичу привет. Я, «ничесоже сумняся», не подумав, что Туриков, перед которым ежедневно мелькает множество лиц, мог преспокойно меня забыть, согласился.
В первый же мой приезд в Лавру я столкнулся с Туриковым во дворе, поздоровался и передал привет от Михаила Кузьмича.
– А где вы его видали? – подозрительно глядя на меня, спросил Туриков и оборвал разговор.
С той поры я стал замечать, что Туриков старательно меня избегает, даже иногда проявляя неподобающую его сану и возрасту резвость и прыть. Человеку сталинской эпохи нетрудно было смекнуть, что у страха глаза велики, что травленному зверю всюду чудятся гончие и что Туриков принял меня за осведомителя, которого пытаются приставить к нему в Лавре. Дабы не смущать отца архидьякона, я при встречах с ним всякий раз притворялся, что не вижу его. Но после того, как Туриков однажды углядел меня в длинной веренице прикладывавшихся в раке с мощами преподобного Сергия Радонежского, он перестал обегать меня за три версты и уже приветливо со мной здоровался. Советские сыщики себя особенно не утруждают и мизансцен с мхатовской тщательностью и психологической убедительностью не разыгрывают. Это, видимо, и принял в соображение многоопытный Туриков. Потом он часто видел, что в Лавру я приезжаю не один, а с дочкой, которой было тогда без малого восемь лет, и это его подкупило. Однажды я, набравшись храбрости, подошел к нему и, поблагодарив за ту радость, какую он мне доставляет своим служением, поделился своими впечатлениями.
– Ну, это вы меня перехвалили, – окая, с юго-западным выговором шипящих, сказал Туриков. – Просто я человек веруюшчий (это слово его могучий бас произнес с особой полнозвучной убежденностью), оттого у меня все от души получается.
И, однако, с довольным видом добавил:
– А я думал, здесь все это так, незаметно, проходит. После приведенного разговора у нас с ним завязались нерушимо приятельские отношения. Он уже передавал через меня приветы Михаилу Кузьмичу.
– Скажите ему, – говорил он, – что я каждый день за него молюсь. Как утром стану на молитву, сперва мысленно всю свою родную деревню обойду, потом – всю знакомую Москву, потом – Лавру.
Туриков почувствовал ко мне приязнь, потому что не мог не заметить искренности моего восхищения, не мог не заметить того волнения, с каким я лепетал ему похвалу.
А хвалить его, по совести, было за что. Я не слыхал Турикова, когда он был молодым. Но с того времени, как он снова поступил в дьяконы, и до его заболевания, наложившего на его уста печать, лучшим периодом его служения я считаю период лаврский. В Лавре он убрал вредившую ему прежде суетливость, – он служил теперь собраннее, проникновеннее, вдохновеннее, задушевнее, художественнее. Конечно, ему помогали размеры и акустика Успенского собора – там было где разгуляться его исполинскому голосу. Руководитель лаврского мужского вольнонаемного хора Владимир Федорович Лебедев понимал, что Туриков – это драгоценный алмаз и что ему нужна хорошая оправа. Он создавал выгодно оттенявший его возгласы аккомпанимент, постоянно поручал ему петь соло. Нередко Туриков заходил на клирос, чтобы в свою очередь помочь хору, и тогда казалось, что хор сразу вырос на целую басовую партию.
Всенощная накануне июльского Сергиева дня. Туриков на середине Успенского собора читает паримии: «…яко благодать и милости в преподобных Его, и посещение во избра è нных Его (…ибо благодать и милость со святыми Его и помышление об избранных Его)». Голос Турикова достигает заоблачных вершин, у меня спирает дыхание, как будто я стою на дикой крутизне, но это обманчивое ощущение: Туриков пока еще набирает высоту, набирает без натуги, без надсады, легко и свободно, и только тем, кто стоит совсем близко от него, видно, что щеки у него покрывает легкий румянец – единственный признак волнения и напряжения. Я закрываю глаза: то ветхозаветный пророк вещает из огнедышащих туч, с исполосованного, исхлестанного оранжево-синими молниями неба, сквозь вихрь, сквозь гром. И вдруг – словно не переводя дыхания – тот же голос с надзвездных высот низвергается в глубочайший, скорбно рокочущий минор Сугубой ектеньи: «Рцем вси от всея души и от всего помышления нашего рцем»…
Со мною рядом стоит подстриженный в скобку, со скрещивающимися складками морщин на задубелой шее, от чего шея напоминает ржаную лепешку, сероглазый мужичок. Он поворачивается ко мне и, прошептав: «Эх! Хорошо!», осеняет себя широким крестом.
Речитативный возглас «Спаси, Боже, люди Твоя…» Называя имена наиболее чтимых святых, голос Турикова стремительно летит в высоту, все убыстряя орлий полет свой, и только четкость произношения позволяет молящимся улавливать без труда: «Предстательства Архистратига Божия Михаила и прочих честных Небесных Сил бесплотных… Иже во святых отец наших и вселенских великих учителей и святителей Василия Великаго, Григория Богослова и Иоанна Златоустаго… Николая, архиепископа Мирликийскаго, чудотворца… Святаго равноапостольного великого князя Владимира… Святаго благовернаго князя Александра Невскаго… Всея России чудотворцев Михаила, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Ермогена… Сергия и Никона, игуменов Радонежских… Серафима Саровскаго… Стефана Пермскаго… Иова Почаевскаго… Антония и Феодосия и прочих чудотворцев Печерских… Параскевы, Екатерины, Варвары, Анастасии-узорешительницы…» (Видно, особенно усердно молился он ей в узилище и теперь за каждой всенощной вспоминает ее.) И чудится мне, что в ночном, непроглядном, иссера-черном мраке один за другим, один за другим вспыхивают огоньки, и они отрадно мерцают, и они успокоительно переливаются, эти россыпи чистых золотистых огней, и вот ты уже не одинок в вымерзшем, вымороченном сталинском мире, – мире, где все живое стынет, цепенеет под леденящим, мервящим дыханием зла, где отовсюду, из твоего жуткого бреда, порожденного беспрерывно пугающей явью, и из этой самой яви, ухмыляясь, кривляясь, издеваясь, надвигается, наползает, грозит злорадная, смрадная, кровожадная нечисть и погань, – и тебе не так уже страшно, не так уже сиро, не так уже горько жить.
Лаврский архидьякон поет с хором «Хвалите имя Господне» Туренкова, и его голос, как колокол, сзывает нас на молитву и призывает славить Бога, «яко благ, яко ввек милость Его…» Певчие имели основание переименовать Туренковское «Хвалите…» в Туриковское.
Я слушаю и думаю: «А ведь Туриков прав: потому у него все так хорошо получается, что он верующий, у равнодушного профессионала, у наемника вышло бы так, да не так».
Вот он за всенощной под Благовещенье поет «Архангельский глас» Бортнянского, и его голосовые волны, величественные и многошумные, точно волны прибоя, накатывают одна за другой, все выше и выше и выше.
В 1953 году Турикову было позволено проживать в Москве и служить в Преображенском митрополичьем соборе (снесенном в 1964 году, в хрущевскую пору гонения на церковь), где он служил до своего «изгнания» в Сергиев Посад.
Отставка митрополита Николая, последовавшая осенью 1960 года, сразила Турикова. А за отставкой митрополита последовала переброска Турикова из Преображенского собора во Всехсвятскую церковь на Соколе. А за этим последовал внезапный налог на Турикова, выразившийся в астрономической цифре. А за этим последовала загадочная кончина митрополита Николая. А за этим последовал паралич, разбивший Турикова. Певец, который всю свою сознательную жизнь подчинил велениям и правилам библейского псалмопевца: «Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте» и «Пою Богу моему дондеже есмь», – этот певец умолк, и из уст его – до самой кончины – не исходило даже едва уловимого шепота.
Москва 1962–1968
Мудрые звуки
…велико дело церковное пение!.. Душу к Богу подъемлет, сердце от злых помыслов очищает…
Мельников-Печерский…церковная музыка в России – гениальна.
Горький… любовь его к церковным службам, духовенству, к звону колоколов была у него врожденной, глубокой, неискоренимой.
ЧеховЯ люблю церковное пение с тех пор, как помню себя. Эта любовь у меня в крови. Она досталась мне по наследству – и от отца, и от матери.
Отец питал особое пристрастие к пению церковному, признавался, что его душе церковное пение больше говорит, чем самое красивое светское:
…звуков небес заменить не могли Ей скучные песни земли.И здесь он, – конечно, сам того не подозревая, – сошелся во мнении с одним из выдающихся русских мыслителей, священником Флоренским, которое тот высказал уже после смерти моего отца.
«Если бы любитель вокальной музыки стал указывать мне, – пишет протоиерей Флоренский, – что в церковных напевах… мы имеем высокое искусство, может быть и даже вероятно… сравнимое в области инструментальной разве только с Бахом… то я, разумеется, пожал бы ему руку».[25]
Сам того не подозревая, сошелся он и с другим замечательным мыслителем, протоиереем Сергием Булгаковым, который в своей книге «Православие» пишет: «…православие свободно от применения музыкальных инструментов в богослужении органа, а то и целого оркестра, которые его обмирщают, заменяя человеческий голос и слово, человеческое славословие бессловесными и неразумными звуками, хотя бы и музыкально красивыми».
А если заглянешь в глубь столетий, то удостоверишься, что, сам того не подозревая, мой отец сошелся и с сыном Петра Первого, царевичем Алексеем, который не хотел насильственно обращать свою жену в православную веру, надеясь, что когда она увидит «наше церковное благолепие и священно-архиерейское и иерейское одеяние», когда она услышит «божественное человеческое безорганное пение», то «сама радостно возрадуется и усердно возжелает соединиться с нашею Православною Христовою Церковью».[26]
Когда было заранее известно, что мой отец намерен петь в Георгиевской церкви что-нибудь сольное, то послушать его лирический тенор сходился чуть ли не весь городок.
Отцовского голоса и умения петь я, к сожалению, не унаследовал, ко мне перешла лишь его любовь к пению, но и на том великое ему спасибо.
Моя мать, к духовному званию никакого отношения не имевшая, до переселения в Перемышль общавшаяся с духовными лицами только в московской Арсеньевской гимназии – на уроках Закона Божьего и в московских храмах – сначала как исповедница и причастница, позднее – как заказчица сорокоустов и панихид по усопшим сродникам, тонко чувствовала церковное пение. Это она, тихонько напевая своим маленьким, но верным голоском, дала мне впервые ощутить захватывающий трагизм страстны è х напевов – «Аллилуйя», «Егда славнии ученицы …», «Волною морскою …», благостную нежность припевов из акафиста Покрову Пресвятой Богородицы: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякого зла честным Твоим омофором».
Однако вот что явилось первым моим вокальным впечатлением: к нам в дом пришли какие-то люди и что-то запели, – только это и осталось у меня, двухгодовалого ребенка, в памяти от выноса гроба с телом отца. Затем уже я постоянно присутствовал на панихидах, которые служились на его могиле, а несколько лет спустя – и на могиле моей няни. В силу свойственной мне переимчивости я тоже начал «служить панихиды» (это была одна из первых моих детских игр) и однажды на кладбище «отслужил панихиду» на воображаемой могиле моей тогда здравой и невредимой тетки. Потом меня все чаще и чаще стали брать в церковь на все более и более торжественные службы, и излюбленной моей игрой была уже теперь игра в церковный хор. В это я мог играть часами, и притом – когда уже был большим мальчиком. Каких только «взрослых» книг не перечитал я к девяти годам, а в церковный хор продолжал играть с младенческим упоением, с младенческим вживанием в игру, создавая себе полную иллюзию «всамделашного» хора. Я даже сочинял музыку для своего хора и записывал эти «сочинения», пользуясь мною самим изобретенной и одному мне понятной системой знаков. Роли певчих исполняли уцелевшие игрушки, которые нужны мне были теперь только для игры в хор, а так я давно уже в них не играл. Тетя Саша подарила мне умевшее прочно стоять деревянное яйцо в виде совенка с клювиком. Так вот, этот совенок был у меня октавой, потому, очевидно, что чем-то напоминал мне октависта из хора Фроловской церкви – круглого, приземистого, бритоголового Федора Васильевича Смольянинова. И опаздывал совенок на мои «службы» точно так же, как Федор Васильевич, – всегда, бывало, явится ко всенощной не раньше, чем к «Блажен муж…», за что неукоснительно получал нагоняй от регента (он же первый тенор) – барашка на зеленой подставке, и становился, как и Федор Васильевич, с самого краю воображаемого клироса, по правую руку от регента. Зато никаких нареканий не вызывал лучший бас моего хора – высокий резиновый кот с длинными усами. Основные моменты всенощной и литургии я знал для своего возраста прилично, а кроме того, у меня всегда был под руками учебник. И пел я один за весь свой хор – и всенощную и обедню. Хорошо еще, если это был «Блажен муж…» или «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя» простого, «обиходного» напева, однако дерзновение мое простиралось до того, что я брался и за «партесные» Херувимские собственной импровизации, и тут уж моей единственной невольной слушательнице тете Саше временами становилось невмоготу. Однажды мама, придя из школы, услышала дуэт. Я исполняю мажорный финал Херувимской.
– Яко да Царя всех подымем, – пою я на все голоса и одновременно регентую, зажав в правой руке отцовский камертон, – ангельскими невидимо дориносима чинми, дориносима, дориносима.
– Невыносимо, невыносимо! – в такт мне исступленно скандирует тетя Саша, вскочившая со своего креслица, где она обыкновенно рукодельничала.
В годы моего сознательного детства в Перемышле были превосходные для уездного города церковные хоры, были отличные голоса – и мужские и женские. Самый большой и самый слаженный, самый спетый хор был в нашем приходе – во Фроловской церкви, и пел этот хор не страха ради и не из корысти – он пел воистину из любви к искусству. Бывало, осенью, летом или весною идешь в будний день перед вечером мимо церковной сторожки, смотришь: на лавочке в ожидании спевки сидят певчие. Вот отец моего друга Юры бухгалтер Николай Федорович Богданов. От этого молчаливого, с виду угрюмоватого человека за версту веяло душевным благородством. Это был один из тех скромных тружеников, которыми держалась дореволюционная Русь и до времени, пока они не перемерли, держалась, в сущности, и Русь советская. Он до того обожал церковное пение, что, несмотря на свою чадолюбивость, будил всех своих шестерых детей часиков этак в пять утра, ибо ему не терпелось ни свет ни заря громыхнуть своим иерихонскотрубным басом ну хотя бы из «Покаяния» Веделя: «…множества, множества содеянных мною лютых помышляя окаянных, трепе è щу Страшного дня суднаго…»: как ахнет, так все шестеро сразу подскочат на своих разнородных ложах. Вот руководитель одного из подотделов перемышльского исполкома Георгий Васильевич Смирнов, в обиходе – Жоржик, каковое уменьшительное имя уже не приличествовало почтенному его возрасту. Он обладал мягчайшего тембра баритоном (в его отменном исполнении я впервые услышал «Ныне отпущаеши…» Строкина). Вот ветеринарный фельдшер Григорий Васильевич Чугрин, уездный красавец, всегда безукоризненно одетый, даже в годы военного коммунизма, летом – в кремовой выутюженной паре, с тросточкой, висящей на левой руке. Он так и не ушел из лона семьи, но через всю жизнь пронес любовь к некрасивой женщине Анисье Васильевне Зориной, с которой он встречается едва ли не ежедневно и с которой его в теплые дни можно видеть гуляющим в окрестностях Перемышля. Рядом с ним сидит его невестящаяся дочь Евдокия, мило кокетливая, грациозная, как фарфоровая куколка, – ее все зовут уменьшительным и к ней как раз очень идущим именем «Дуся». Вот голубоглазая фельдшерица Ольга Васильевна Алексанина с чахоточным румянцем на впалых щеках. А вот самое сильное и самое красивое сопрано во всем городе, ведущее за собой дискантовую партию нашего хора, – эффектная, высокая, стройная женщина, с большими, живыми, то задумчивыми, то задорными искристыми серыми глазами, с пушистыми бровями, с тонко прочерченным овалом матового лица. Для женщины она, пожалуй, даже слишком высокого роста, но ее врожденное изящество, сказывающееся в каждом повороте ее головы, в летящей походке, в манере носить туалеты – последние остатки предреволюционной петербургской роскоши, изящество, которым она резко выделяется не только на фоне обывательско-мещанском, но и на фоне интеллигенции, как местной, так и залетной, скрадывает недостатки ее фигуры и некоторую неправильность черт лица. Это внучка небогатой помещицы Перемышльского уезда Наталья Петровна Кукульская. Она с консерваторским образованием, преподает в нашей школе музыку, совмещая преподавание с исполнением обязанностей делопроизводительницы. Она с одинаковым успехом играет на любительской сцене Машу в «Чайке», Василису в «На дне» и Негину в «Талантах и поклонниках».
К посиживающим на лавочке певчим мелкими быстрыми шажками направляется невысокий человек с лысеющей головой, с быстрыми глазками, с мелкими редкими зубами, которые обнажает улыбка, с полоской усиков под пуговичным носом, с мелкими суетливыми движениями, то преувеличенно развязными, то боязливыми. Это регент, Владимир Петрович Попов, приятель моего отца, наш хороший знакомый, на коленях у которого я поздними вечерами под разговоры взрослых не раз сладко засыпал. Он главный энтузиаст хора, его нерв. От природы Владимир Петрович робкого десятка, но он так беззаветно любит церковное пение, что, даже исполняя обязанности заведующего отделом народного образования, регентства не бросает, благо в начале двадцатых годов власти на это пока еще только косятся. Регентует он увлеченно, самозабвенно, с темпераментом, которого никак нельзя ожидать от этого низкорослого, тщедушного человечка, время от времени, словно из боязни удара, втягивающего голову в плечи. Однажды он так размахался, что нечаянно поддел камертоном широкополую шляпу служившей в детском саду солистки-контральто, Ольги Андреевны Шубиной, и шляпа, описав стремительный круг, опустилась на солею.
Мои родные в разные периоды относились к Владимиру Петровичу по-разному: порой были с ним дружелюбно близки, порой от него отдалялись, порой были настроены к нему даже враждебно. А я сохранил к нему в сердце тепло. Сохранил потому, что он был со мной неизменно ласков, независимо от его отношений с моими родными, временами почти отечески заботлив и нежен, уже в годы моего студенчества бережно отвел меня от одного моего опасного увлечения, а главное – главное потому, что этот талантливый человек (из дали десятилетий талант его мне теперь виднее, чем вблизи) первый показал мне, что русское церковное пение – это царство красоты, славнейшее без сравнения всех других царств, и тем осчастливил меня на всю жизнь.[27]
Ну так вот, сейчас подойдут остальные певчие, затем они все вместе войдут в сторожку, и начнется многочасовая спевка. Спрашивается в задаче: что влекло на клирос этих людей? Что заставляло их спеваться и петь, да еще, с 1918 по 1921 год, частенько на голодное брюхо? У некоторых были свои огородики, садики, – почему бы не уделить лишнее время огородничеству или садоводству? Почему бы в конце концов вместо спевки летом не пойти на рыбную ловлю, зимой не перекинуться в картишки по маленькой? Что заставляло служившего одно время в Калуге Георгия Васильевича Смирнова отмахивать по субботам двадцать семь верст до Перемышля на своих на двоих, ибо автобусы тогда никому и во сне-то не снились, а нанять лошадку ему не позволяли финансы, затем, передохнув и поев картошки, спешить в церковь и петь всенощную, а на другой день – обедню, и опять – двадцать семь верст переть пехтурой до Калуги? Иными руководила набожность в сочетании с любовью к церковному пению, иными – только любовь к пению, но уж во всяком случае шли эти люди в церковь и пели не из-за денег и не из-под палки, не «в порядке партийной, комсомольской или профсоюзной дисциплины».
Одних басов в хору Попова насчитывалось десять человек. Среди них были и октавы, и баритоны, и собственно басы. Помню я их всех до одного: Смирнов, Богданов, начальник почтового отделения, у которого, катаясь на коньках по непрочному озерному льду, утонули товарищи моих детских игр, сынишка и дочурка, служившие в разных уездных учреждениях, землепашцы и огородники, среди них – брат регента.
Памятны мне в исполнении этого хора «Иже херувимы…» № 7 Бортнянского; и рокочущее, грохочущее, перекатывающееся, как эхо в горах, звучащее грозно-торжественно, как клятва всего христианского человечества, «Верую» Березовского, – его пели как будто сливавшиеся в один голос только басы; и древнего напева «Блажен муж…», неизменно исполнявшийся в стремительном ритме, предохранявшем его от вялой, тягучей заунывности, сообщавшем ему крылатость (теперь, спустя много-много лет, мне и сквозь несовершенное исполнение слышится тот, перемышльский, шумнокрылый «Блажен муж»); и живоносным ключом бьющий богородичный прокимен перед чтением Апостола: «Величит душа моя Господа, и возрадовася дух мой о Бозе, о Бозе, Спасе моем» (больше уже ни один из слышанных мною хоров так не передавал радостно-изумленного смирения, какое слышится в этих словах Девы Марии); и из глубины души рвущийся вопль за молебном: «Пресвятая Богородице, спаси нас!», и успокоительно-разрешенно звучавшее в конце литургии: «Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися святым Твоим, Божественным, бессмертным и животворящим Тайнам. Соблюди нас во Твоей святыни, весь день поучатися правде Твоей».
Впечатления от песнопений сплетались с впечатлениями от обрядов. И те и другие воспринимались на фоне то расцветшей у нас в саду как раз к Троицыну дню сирени, то тропического леса, нарисованного на стеклах окон искусной кистью деда-мороза накануне зимнего Николина дня.
В 1925 году, 22 мая, на «вешнего Николу», я пошел один в противоположный конец города – в Никольскую церковь – к обедне. Такое большое, по уездным масштабам, путешествие, и притом совершаемое «в единственном числе», уже само по себе было для меня событием. В церковь я обычно ходил с матерью и теткой, и притом – в ближайшую, знакомую, привычную.
… Внутри храма жарко от горящих свечей, от плотной – крестьянской по преимуществу – толпы молящихся. Пряно пахнет ладаном, воском и кумачом. И вдруг хор запевает «Верую», которое, – кажется мне, – я никогда раньше не слышал, а вернее всего, оно почему-либо не поражало прежде моего слуха. Я стою возле самого правого клироса, но уже не вижу ни толстопалых рук регента Павла Алексеевича Соколова, ни его сизобагрового носа с прыгающими на нем очками в стальной оправе. Я вижу небо, я слышу жаворонков, купающихся в его сини.
Позднее я узнал, что это киевское «Верую». И лишь много спустя, побывав в Киеве, я понял: такое переливчатое «Верую» могло родиться только в Киеве, только на певучей Украине. Прислушайтесь, как еще и сейчас поет народ в украинских храмах. Стоит с вами рядом черноокая, просмоленная белоцерковским, полтавским или ржищевским солнцем Хивря и поет: «Воскресение Христово видевше…» И она не рубит музыкальные фразы, нет, она перекидывает между ними воздушные мостики.
… Я вышел из Никольской церкви. Праздничная пестрядь сарафанов, платков и лент, празднично яркая и свежая, еще не пропыленная и не прохваченная летним жаром зелень лугов, стелющихся под горою, за озером, праздничный, весенний наряд садов, трели жаворонков в бирюзовом небе, звуки «Верую» в моем внутреннем слухе… И всю дорогу, до самого дома, пела и ликовала детская моя душа…
… У меня такое чувство, словно «Христос воскресе» я слышал еще в колыбели.
Шаляпин в «Маске и душе» рисует впечатление, какое на него всякий раз производил этот тропарь: «…короткое время я не чувствую земли, стою как бы в воздухе…»
Душевное состояние, вызываемое пасхальным тропарем; Шаляпин уловил с завидною точностью. Но, сколько я себя помню, я никогда не мог отделаться от ощущения, что пасхальный гимн навевает мне на душу не только радость, но и печаль. И опять-таки я лишь много спустя убедился, что иначе и не может быть, ибо это единственный за всю историю человечества гимн, написанный в миноре, а написан он в миноре потому, что смерть попрана смертью, – «се бо прииде крестом радость всему миру», – потому что радость воскресения – это не бездумная, языческая, эпикурейская безрадостная радость, – это радость выстраданная и тем более радостная, доставшаяся нам ценою Голгофы, потому, что, как сказал поэт,
Радость – Страданье одно!Я вполне понимаю героиню горьковской эпопеи «Жизнь Клима Самгина» Нехаеву, зарыдавшую, когда запели «Христос воскресе из мертвых…» И снова не могу не обратиться к Шаляпину, воспринимавшему русское православное пение как единство двух одинаково сильно выраженных настроений человеческой души:
«А единственная в мире русская панихида с ее возвышенной одухотворенной скорбью?
Благословен еси Господи…А это удивительное «Со духи праведных скончавшихся…»
А «Вечная память»!
Я не знаю и не интересовался никогда, чем занимаются архиереи в синодах, о каких уставах они спорят. Не знаю, где и кто решает, у кого Христос красивее и лучше – у православных, у католиков или у протестантов. Не знаю я также, насколько эти споры необходимы. Все это, может быть, и нужно, – оговаривается Шаляпин со скромностью, присущей сверхгениям или, если не выходить за рамки его собственной терминологии, архигениям, и начисто отсутствующей у невежественной бездари, для которой в мире все безоговорочно ясно, все известно, все решено и подписано, которой все представляется гладким, как доска, прямым, как телеграфный столб. – Знаю только, – продолжает Шаляпин, – что «Надгробное рыдание» выплакало и выстрадало человечество двадцати столетий. Так это наше «Надгробное рыдание», а то «Надгробное рыдание», что подготовило наше, – не десятки ли тысяч лет выплакало и выстрадало его человечество?.. Какие причудливые сталактиты могли бы быть представлены, как говорят нынче, – в планетарном масштабе, – если бы были собраны все слезы горестей и слезы радости, пролитые в церкви! Не хватает человеческих слов, чтобы выразить, как таинственно соединены в русском церковном пении эти два полюса радости и печали, и где между ними черта, и как одно переходит в другое, неуловимо».
Пасхальные службы – это самые мои любимые из православных служб, любимые с детства. Многие, начиная с моей матери, отдавали предпочтение службам страстным, и потом я был рад узнать, что пасхальные службы больше всех остальных любила Ермолова. В детстве я старался, – да и теперь стараюсь, – не пропускать ни одной вечерни, ни одной утрени, ни одной обедни с пасхальными песнопениями, и чем ближе подступало Вознесение, тем я все сильнее и сильнее грустил. Это была детски наивная грусть о том, что Христос покинул землю, – оттого праздник Вознесения был дня меня не в праздник, накануне Вознесения и в самый его день я под разными предлогами уклонялся от хождения в церковь. И еще это была грусть о том, что вот-вот смолкнут напевы, которые я готов был слушать до бесконечности, отзвучат песнопения, действующие на молящихся одновременно и красотой слова и красотой звука: «Пасха – Христос-избавитель», «Пасха, двери райские нам отверзающая», «…быв человек, страждет, яко смертен, и страстию смертное в нетления облачит благолепие…», «Что ищете Живаго с мертвыми? Что плачете нетленного во тли?», содержащие такие церковнославянские словосочетания, которые при переводе мгновенно теряют всю свою емкость, картинность, своеобразие – так сорванный цветок теряет изначальную свежесть своего аромата: «Мироносицы жены, у è тру глубоку è, представша гробу Жизнодавца…»; отзвучит краткий финал Пасхи, вместивший в себя всю философию и всю этику христианства, просквоженный тем светом, который христианство принесло в мир: «Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем, рцем: „Братие!“ и ненавидящим нас простим вся Воскресением, и тако возопиим: Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущими во гробех живот даровав».
Ясную глубину молитвословного лирика Архангельского – одного из «великих властителей гармонии», как назвал Лесков, по свидетельству его сына, русских церковных композиторов, – раскрыл мне, уже взрослому, киевский дирижер Гайдай, но пробудил во мне любовь к нему опять-таки захолустный Перемышль, точнее – хор Георгиевской церкви, а еще точнее – хорик, потому что, когда в 1925 году я впервые услышал на Пасху «Воскресение Христово видевше…» Архангельского, наш город разжаловали в село, большинство служащих, спасаясь от безработицы, разъехалось, и хоры наши поредели. «Воскресение христово…» Архангельского певчие пели в Георгиевской церкви начиная со Светлой заутрени и кончая последней перед Вознесением субботней всенощной, за каждой всенощной – дважды. Весной 1927 года в одну из таких суббот Георгий Авксентьевич отправился с нашим классом на геологическую экскурсию. Он ехал на телеге, а мы туда и обратно отшагали в общей сложности верст около двадцати. Но как же я мог пропустить хоть одну всенощную с пасхальными песнопениями и с «Воскресением» Архангельского?.. Вымывшись и наскоро пообедав, я уже «веселыми ногами», как поется опять-таки на Пасху, побежал в Георгиевскую церковь, благо от нашего дома было до нее рукой подать. Отстоял всенощную и, конечно, сторицей был вознагражден за то, что не поддался соблазну улечься с книжкой после «путного шествия». Да и немудрено. С какой светоносной силой надо любить Христа, чтобы так воспеть праздников праздник, как воспел его Архангельский! Эпиграфом к его музыке можно было бы поставить слова предпасхальной стихиры: «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». Восьмиголосный хорик Георгиевской церкви, которым управлял бывший дьякон Михаил Николаевич Святополков, умевший держать строй, предпочитавший пение негромкое, умилительно-молитвенное, что соответствовало всему складу его незлобивой души, так пел «Воскресение Христово видевше…», с таким настроением, с таким строгим соблюдением всех его переходов и оттенков, что с той поры Архангельский стал моим «вечным спутником» в музыке. А что такое оттенки в православном церковном пении, об этом пишет в «Страницах из моей жизни» Шаляпин: «…мне кажется, что за границей нет таких хоров, как в России, – я объясняю это тем, что у нас хористы начинают петь с детства по церквам и поют с такими исключительными оригинальными нюансами, каких требует наша церковная музыка». И еще: «…от итальянцев нельзя требовать того, что дают русские хористы, большинство которых с детства воспитывается на церковной музыке».
Теперь – увы! – давно уже не воспитывается, и многолетняя затяжная война с церковным пением и церковными хористами – война и позиционная и маневренная, с солидно поставленной разведывательной службой, – не прошла даром для русской певческой культуры. У дерева подсечены корни, и оно, некогда раскидистое, ветвистое, все унизанное сочными и пахучими листьями, сохнет у нас на глазах.
Я – не певец, но, как слушатель-любитель, я сызмала воспитывался на церковной музыке. И развившаяся на ней музыкальная моя память отчетливо различает звук каждого из тех хоров, какие мне приходилось слушать подолгу.
Стоит мне чуть-чуть напрячь ее – и вот уже я слышу сапфирами и жемчугами брызжущий хор Виктора Степановича Комарова в Богоявленском патриаршем соборе. Еще небольшое усилие – и музыкальному моему воображению представляются чесноковские воскресные тропари в исполнении комаровского хора, рисуется радость мироносиц, со слезами притекших ко гробу Господню и узнавших от ангела, что Бог «воскре è се от гроба», – радость трепетную, еще боящуюся поверить в самое себя. А когда – в конце всенощной, при последнем, прощальном выходе из алтаря патриарха в простой рясе и белом кукуле, с торжественной сосредоточенностью благословлявшего молящихся, – хор пел греческое многолетие, я думал: «Вот бы сейчас, сию минуту и умереть! Вот оно, высшее счастье! Иного я себе не представляю, иного мне и не надо!»
В хоре под управлением Комарова не улавливалось самомалейшего оперного при è звука. Слушая его, мы проникались красотою певческого богослужения.
В июне 68-го года, в субботу, еду в Патриарший собор ко всенощной. По дороге от метро встречаю одного из теноров комаровского хора, так называемого «Бороду». Разговорились.
Я ему:
– Ваш хор сейчас лучший в Москве.
– Ну еще бы! Комаров, надо отдать ему справедливость, старается. А почему он старается? Потому что ему под восемьдесят, и ему хочется попасть не туда (пальцем вниз), а во-он туда (пальцем вверх). Вниз попадешь – это тебе не отделение милиции: подержат и выпустят. Туда уж если попадешь – стало быть, навсегда. И вон туда уж если попадешь – стало быть, навсегда. Вот его и спросят после смерти: «Ты кем был?» – «Доктором-гомеопатом». – «Гомеопаты все шарлатаны. А еще кем?» – «Регентом». – «Регентом? Ну, это дело другого рода. А у тебя тут никого знакомых нет?» – «Данилин (знаменитый московский регент) должен меня помнить». – «Данилин? Как же, как же! Он у нас, наверху, Данилин! Поди-ка сюда! Ты его знаешь?» – «Как же не знать! Это регент Комаров, с детства церковное пение любил, мальчиком в Кремле, в Успенском соборе пел. Регент настоящий». – «Ну, коли так, иди к нам, в царство небесное».
Я слышу округлый, до краев наполненный живительною музыкальной влагой звук того хора, что под управлением Михаила Петровича Гайдая пел в Киевском Владимирском митрополичьем соборе.
Я слышу то рыдающие, то ликующие «воскликновения» киево-печерского распева.
Я слышу пасхальным перезвоном колоколов звучавший хор под управлением Германа Николаевича Агафоникова, который дирижировал сначала в Московском Преображенском митрополичьем соборе на Преображенской площади, а потом в храме Иоанна Предтечи на Пресне.
Я слышу сложное в своей кажущейся простоте, в самую-самую глубь души западавшее, подлинно монастырское пение мужского вольнонаемного хора под управлением Владимира Федоровича Лебедева в Троице-Сергиевой Лавре, и хор Николая Константиновича Соболева в московском храме Воскресения Словущего, что в Филипповском переулке, – хор, облекавший истовую молитву в безукоризненно отграненную форму.
А моей зрительной памяти отрадно бывает воскресить наружность и повадку разных церковных дирижеров. Я вижу въяве вдохновенное изящество и артистическую выразительность движений Гайдая. Я вижу сухого, совершенно лысого старика с выцветшими глазами, как будто бы вяло, безучастно, однообразно, не заглядывая в партитуру, махавшего правой рукой, меж тем как управляемый им таким образом хор у «Николы в Хамовниках» пел с безошибочной стройностью, на гребне не знающих спада молитвенных волн, – весь жар своей музыкальной души дирижер Александров изливал на спевках. Или стремительную, грозную и властную мощь, какую внезапно обретали худые, нервные руки низкорослого Соболева. Или выгиб спины напружившегося словно перед решительным прыжком Комарова, его руки, охватывавшие, обнимавшие звуковые просторы. Или моего друга – Германа Николаевича Агафони-кова, напоминавшего пасхальную свечечку, ровно и празднично-ярко горящую перед иконой; то неизменно довольное выражение, с каким уже входил, почти вбегал в храм этот ростом маленький, но в своем деле удаленький, всегда румяный, всегда веселый, всегда аккуратно одетый, аккуратно подстриженный, чистенько выбритый человек с быстрыми движениями и быстрой речью – вятской окающей невнятной скороговоркой, – вбегал, сияя ласковыми глазами и предвкушая наслаждение стать за аналой и взметнуть по мановению своих легких и гибких рук хвалу Отцу Небесному, такую же восторженную, как его младенчески доверчивая и чистая душа. Дирижерское искусство Агафонникова долго еще потом служило прихожанам – любителям церковного пения мерилом в суждениях об искусстве тех, кто управлял хором в храме Иоанна Предтечи после него. Когда что-нибудь новым регентам удавалось, бывшие пекари и столяры в изумленном восхищении покачивали головами и перешептывались:
– Как при покойнике Германе!
Или Алексея Семеновича Осипова, с шаркающей походкой и лицом столоначальника, на котором прежде всего останавливал внимание нос – этакое диковинное сооружение с пристройками, вышками и боковушками. Тишайший Алексей Семенович под скромной и неказистой внешностью таил дар остроумца. Однажды настоятель храма «Николы в Хамовниках», где дирижировал хором Осипов, предложил ему что-то экспромтом спеть. Осипов отказался на том как будто бы достаточном основании, что у него нет под руками нот. Настоятеля это не убедило. «А вы – без нот», – сказал он. «Без нот, батюшка, петухи поют», – без единой смешинки в глазах отрезал Алексей Семенович. Самое же главное, этот воспитанник санкт-петербургской консерватории и санкт-петербургской придворной певческой капеллы, ученик Римского-Корсакова, обладал истинным церковным музыкальным даром, а также безупречным вкусом в выборе и подборе песнопений. Дирижировал он с таким умоляющим видом и умоляющими жестами, точно покорнейше просил певцов петь как можно лучше. Как дедушка внучкам, он приносил певицам конфетки, а в день памяти жен-мироносиц оделял их плитками шоколаду. При виде его на лицах певцов мгновенно появлялась свободная от угодливости, приветливая и заботливая улыбка, с разных сторон тянулись руки, чтобы помочь старику взойти на клирос, помочь ему раздеться. Певчие – народ капризный, обидчивый, самолюбивый. Они часто не хранят, что имеют, и плачут, лишь потерявши. Такой дружной, такой почтительно-нежной любви, какой пользовался у певцов дирижер Осипов, я не замечал ни в одном хору. Все эти перстом Божиим отмеченные люди – каждый по-своему – несказанно дороги мне, со всеми особенностями их дарований, со всеми чертами их внешности, у иных – величавыми, а кое у кого – смешными, но именно в силу этой смешноватой невзрачности по-особенному трогательными, по-особенному милыми.
В Москву я переехал в 1930 году, когда церковные хоры повсеместно распадались под бременем налогов, под угрозой исключения церковных певчих из профсоюзов, а следовательно – под угрозой на другой же день быть вышвырнутыми на улицу и остаться без куска хлеба. В каком-нибудь театральном журнальчике вы могли прочитать сообщение, что певец или певица из какого-то театра пели в церкви под Рождество или пасхальную заутреню и обедню и за это исключаются из профсоюза под названием Рабис (работников искусств) – названием, напоминающем еврейскую фамилию, характерным для советского волапюка той поры, захламившего русский язык варваризмами, превращавшего живые слова в пахнувшие трупом обрубки. Только во время войны церковное пение в Москве и в других городах в связи с общим недолговременно либеральным отношением властей к православной церкви оживилось.
С 1943-го по 1957-й год я – постоянный прихожанин московского храма во имя Воскресения Словущего, что в Филипповском переулке. Многими счастливыми мгновениями моей жизни я обязан хору этого храма, в частности и в особенности – покойному его дирижеру Николаю Константиновичу Соболеву. Певцы называли руководимый им хор «Арбатский филиал Большого театра» – но не в смысле «оперности», а в смысле силы и красоты голосов.
Сын священника, родом из Пошехонья, с малолетства привыкший петь в церковных хорах, Соболев учился в Московской консерватории, затем поступил в Большой театр сначала в качестве хориста, потом стал хормейстером, первые свои шаги делал там под руководством Авранека, долгое время – до выхода на пенсию (1947 г.) – совмещал хормейстерство с регентством.
В 1962 году в день именин Германа Николаевича Агафоникова настоятель храма во имя Иоанна Предтечи, где Агафоников с 1962 по 1964 год управлял хором, о. Димитрий Делекторский, приветствуя именинника, сказал:
– Церковное пение – одно из главных украшений православного богослужения. Церковный певец, дирижер церковного хора делает то же дело, что и проповедник, с той разницей, что проповедник создает молитвенное настроение словом, а певец – голосом, но не только голосом. Василий Великий призывал: «Пойте не только голосами, но и сердцами». Дирижер передает свое настроение певцам, певцы – молящимся.
Эти слова вполне приложимы к искусству Соболева. Он пел и дирижировал сердцем. Он говорил, что управление хором – это его молитва. Он дирижировал в храме Воскресения до самой своей кончины, но с полуторагодовым перерывом; против него была сплетена внутрихоровая интрига, и его временно разжаловали из дирижеров в певцы, заменив добросовестной бездарностью. «Сменили соболя на зайца» – так оценил это событие вначале поверивший поклепам на Николая Константиновича, а потом пожалевший о случившемся настоятель храма.
… Поздняя обедня только что отошла. Певчие пробираются к выходу. Мимо меня проходит Николай Константинович. Мы с ним здороваемся. Вдруг кто-то дергает меня за рукав. Оглядываюсь – совсем простая женщина, простая и по одежде и по обличью. Показывает глазами на удаляющегося Николая Константиновича и говорит:
– Без него молитва не та!
И как же обрадовались прихожане, – и интеллигенция, и простонародье, – когда настоятель снова возвел Соболева на регентский престол! Маленький, некрасивый, с нашлепкой на носу (хороши у него были только волнистые светло-каштановые волосы), застенчивый, робкий, смущенно улыбающийся, конфузливо отводящий водянистые глаза в сторону, а станет за пульт – и откуда что берется! Добряк в быту, сейчас он взыскателен и беспощаден. Малейшее упущение певца вызывает в нем ярость, и тогда вся церковь слышит его гневный окрик – окрик дирижера, в котором оскорблено его музыкальное чувство:
– Фа-диез, фа-диез! Безобразие! Если он считает, что смешанный хор портит киево-печерский распев, что киево-печерскому распеву в целом подобает строгое звучание мужского хора и монастырская обстановка, то никакой нажим со стороны патриархии на него не действует. Его язык образен и колоритен.
– Сопрано! Уберите колхозный звук! – делает он замечание певицам.
Соболев дирижировал сердцем. Но это был не вдохновенный дилетант, это был вдохновенный мастер, вдохновенный артист. Он был властитель гармонии, но гармония была у него поверена алгеброй. Он никогда не впадал в унылую дьячковщину и в то же время пресекал малейшие проявления дурной светскости.
– Как по-вашему, Николай Константинович, – спросил я его, – Александров – хороший солист?
– Кто? Серафим Сергеич? Какой же он церковный певец? Вы слышите, как он поет? «Ныне атыпущаеши…» Что это ему, цыганский романс?
А до чего же этот высокоодаренный человек был скромен!
Однажды, в Страстную среду вечером, его нечаянно подвели басы, совмещавшие пение в церкви с пением в Большом театре: они неожиданно оказались заняты то ли на репетиции, то ли в спектакле. Пришло, что называется, полтора человека. А петь надо «Чертог Твой…» Бортнянского, нужно взметнуть басовую мощь, восхищенную дивным чертогом Господним, а затем эта мощь со скорбным сознанием, что грешная душа человеческая недостойна в него войти, ибо негде ей взять одежды такой же красоты, как этот чертог, но и с упованием на то, что все наши язвы прикроет «риза чистая Христа», должна постепенно затихнуть.
И все это мы в тот вечер, однако, услышали… После службы я выразил Николаю Константиновичу восторженное изумление, – зарделся, что красная девица, отвел глаза в сторону.
– Так у Бортнянского написано, – по-ярославски проокал он. Лесков, по свидетельству его сына Андрея Николаевича, ставил знак
равенства, – по моему крайнему разумению, совершенно справедливо, – между православно-церковными композиторами, индивидуальными и коллективными, чьи имена затерялись во тьме времен, создателями древних напевов и распевов – московского, киевского, киево-печерского, почаевского, троице-сергиевского, симоновского, оптинского, зосимовского, и композиторами, чьи имена история уже начала сохранять, чей творческий облик очерчивается перед нами во всей неповторимости его черт.
– Непревзойденные художники и древние неведомые композиторы и наши Бортнянский, Турчанинов… Великие мастера! – воскликнул однажды в присутствии сына автор «Соборян».
Такого же мнения придерживался и Соболев – и в теории, и на практике. Он приникал ко всем водам, вместе образующим великую реку русского церковного пения. Его хор пел и сочинения безымянных композиторов, и композиторов прославленных, церковных по преимуществу, и сочинения священников и регентов, и написанные для церкви сочинения знаменитых светских композиторов. Его хор пел и «Непорочны» какого-то древне-монастырского распева, и симоновскую «Херувимскую», и киевское «Верую» и «От юности моея…», и древнее многолетие, пел и Бортнянского, и Березовского, и Турчанинова, и Сарти, и Веделя, и Кастальского, и Архангельского, и Воротникова, и Строкина, и Соколова, и Дехтерева, и Зиновьева, и Воронцова, и Рютова, и Чеснокова, и «великое славословие» Сампсоненко, и «Хвалите имя Господне» священника Извекова, и «От юности моея» и «Покаяние» священника Старорусского, и «Отче наш» Завадского, и «Ангел вопияще» Н. С. Голованова (вещь, написанную им, когда он был регентом синодального хора), и величание Николая Чудотворца, написанное А. В. Александровым, будущим руководителем Краснознаменного ансамбля песни и пляски, а в ту пору, когда он писал величание, – регентом в Храме Христа Спасителя, пел «Взбранной Воеводе победительная» священника Аллеманова, пел «Пасху» регента Смоленского, пел литургию Ипполитова-Иванова, пел Гречанинова, пел Рахманинова и Чайковского. (Впрочем, Чайковского как церковного композитора он не особенно жаловал и утверждал, что в его критике Бортнянского отчетливо проступает бессильная зависть.) И все это хор Соболева пел так, что хотелось повторить за Лесковым:
– Какие мастера! Сколько вдохновения, сколько вкуса, сколько величественной простоты!
И добавить от себя:
– И какое разнообразие! Какая многоцветность!
Давидов псалом «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых» освободился у Архангельского от ветхозаветной сумрачной непримиримости, претворился в песнь, исполненную тихой радости и безмятежного упования: «…радуйтеся Ему с трепетом»; «Блаженни вси надеющиеся на Нь»; «Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой»; «Господне есть спасение и на людех Твоих благословение Твое». И эти взлетающие в высь и постепенно замирающие в воздухе припевы после каждой фразы: «Аллилуйя, аллилуйя, ал-лилуйя»!.. Сколько в них благодарной нежности, сколько ничем не замутненной хвалы!
А у Чеснокова «Блажен муж…» поет псалмопевец (соло – баритон), выделяя и оттеняя другую тему псалма – отчуждения от «совета нечестивых», стойкого убеждения в том, что путь нечестивых рано или поздно погибнет. И исполняемый хором припев «Аллилуйя» у Чеснокова – это гремящие кимвалы. В финале баритон врывается в бряцанье кимвалов и возносит к небу как бы внезапно, стихийно вырвавшееся у него из души, его собственное «Аллилуйя», хор подхватывает, и снова торжествующие forte кимвалов: «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»
А у Веделя «аллилуйя» в «Блажен муж» – это острый просверк молнийных изломов, разрешающийся в конце ликующим громовым грохотаньем.
А у Рахманинова тот же «Блажен муж» – это нежащая слух «Сионская песнь», «песнь Господня», то есть песнь во славу Богу-Саваофу, льющаяся под все усиливающийся в своем звучании рокот гуслей. Слушая ее, понимаешь вавилонян, настойчиво требовавших от плененных иудеев, чтобы те пели им «от песней Сионских».
«Богородице Дево, радуйся…» священника Зинченко – глубокий молитвенный вздох. Звуки этого напева своею воздушностью, своею небесностью напоминают те краски, какими Нестеров написал Божью Матерь в иконостасах верхних приделов в киевском Владимирском соборе.
Природа, а с нею и душа человеческая, еще шире – Мировая Душа, сосредоточенно-благоговейно величает Божью Матерь: «Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою!» Это как бы внутренний голос Природы и Человека. Но вот зашелестели травы, закивали венчиками цветы, затрепетали листья, заколыхались ветви, закачались верхушки деревьев, налетел порыв молитвенного восторга, – «яко Спаса родила еси душ наших», – налетел и уносится в даль, и снова благоговейная сосредоточенность, лишь трепещут листья да покачиваются и подумывают макушки деревьев на самом краю леса.
Это – «Богородице» – Рахманинова.
Иногда за торжественной всенощной хор Соболева пел киевское «От юности моея…». Не берусь утверждать решительно, но думаю, что первоначально это предназначалось для мужского хора. Киевское «От юности…» разумеется, может петь и обычный смешанный хор. Но чутье и вкус подсказали Николаю Константиновичу, что это должна петь женская часть хора, и у него с киевской соловьиной многоладовой певучестью заливались сопрано на строгом фоне альтов, заливались то покаянно, но без надрыва, то с мольбою, но не исступленной: «От юности моея мнози борют мя страсти, но Сам мя заступи и спаси, Спасе мой!»
И совсем безгневно, а лишь с не подлежащей сомнению уверенностью в конечной гибели зла звучало: «Ненавидящии Сиона, посрамитеся от Господа, – яко трава бо огнем, будете иссохше».
У священника Старорусского в финале «От юности…» взлетает forte, от которого по спине бегают мурашки, но которое органически не связано с текстом, не вытекает из него. «Соприкосновение мирам иным», полет души выспрь вовсе не обязательно передавать через повышение тона. А исполняя киевское «От юности…», певцы, направляемые чудодейственной рукой своего хилого, слабого – в чем душа – дирижера, рисовали голосами преображение человеческой души: «Святым Духом всяка душа живится и чистотою возвышается, светлеется Тройческим единством священнотайне».
И не забыть мне этот хор хотя бы из-за тихоструйного, прозрачного «Великого славословия» Архангельского со страстно-покаянным квартетом «Яко согреших Тебе», приобретающим по контрасту острую выразительность, обличающим в Архангельском темперамент, который он умел обуздывать, который не прорывается у него там, где не надо, попусту, зря. Один этот квартет, не говоря уже о таких вещах, как концерт «Помышляю день страшный», показывает, что Архангельский – не однотонный элегик.
И не забыть мне этот хор из-за безымянного «Трисвятого», которое Соболев вывез из Ярославля и сам окрестил его «Ярославским». Этим «Святый Боже…», которое поется за литургией, он угодил даже привередливому патриарху Алексию. Какой безвестный гений сочинил его? Кто он был – захудалый попик из бедного прихода, забывавший за звукотворчеством про свой неприглядный и скудный быт, или окруженный враждебным непониманием братии монашек – сродни иеродьякону Николаю, воспетому Чеховым в рассказе «Святою ночью», который я, как и «Архиерея», как и «Студента», всегда читаю под Пасху? Бог весть… Только у нас на Руси умеют так проворно засыпать прахом забвения имена чудотворцев слова, кисти, резца и звука… Вот зарыдали тенора, вот плачут контральто и сопрано, вот проникновенно молятся Богу басы, потом все голоса сливаются в единое: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас!..»
А как соболевский хор пел Веделя! Громоносный Ведель внес в православное пение – в общем минорное, задумчивое – свою, веделевскую ноту, мажорную и цветистую. Откуда сие? Была ли она в его, судя по фамилии, не чисторусской крови? Питали ли ее «кимвалы восклицания», которых он с детства наслушался в Киеве? Питал ли ее распев Киево-Печерской лавры? Вернее всего, действовало здесь и то и другое.
Явление Веделя в православной церковной музыке подобно явлению Пастернака в русской христианской поэзии. В русскую христианскую поэзию, тоже в общем созерцательно-тихую, влилась огненная струя – это были стихи Пастернака на евангельские сюжеты: вместо арф и скрипок – трубная медь; вместо жемчужно-серебристой гаммы – яркие пятна и мазки; вместо словобоязни, внушаемой возвышенностью темы, вместо сознательного самоограничения, вместо стремления держаться в границах одного, высокого, словесного ряда – дерзновение, сопрягающее идеи любой отдаленности; вместо скованности фантазии, не решающейся выйти за пределы евангельской сюжетной канвы, – вольный, ширококрылый полет воображения, сливающего морозное дыхание нашего русского севера с жарким дыханьем вифлеемской ночи, на которую мы смотрим сквозь обледенелое окно русской избы, и этим подчеркивающее всемирное и вневременное значение происходящих событий.
«Покаяние» Веделя – это прежде всего вопль души, измученной, изнемогшей от собственной скверны. В «Покаянии» Веделя душа человека не столько плачется, сколько именно вопиет к Богу.
Слушаю на Пасху «Плотию уснув…» Веделя. Да что же это такое? Горы, что ли, сдвинулись с места? Моря и океаны восплескались до облак?..
«Плотию уснув, яко мертв, Царю и Господи, тридневен воскресл еси, Адама воздвиг от тли и упразднив смерть; Пасха нетления – мира спасение».
Вспомним «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром…» Соколова или Строкина: это переложенный на музыку монолог старца Симеона, это как бы его ария под то тихий, то громкий аккомпанимент хора. А у Веделя не один старец Симеон, а весь древний мир приветствует сошедшего на землю Мессию».
И наконец – вершина Веделя: «На реках Вавилонских…» (Псалом 136). Вся его гениальность выступает при сравнении его «На реках» с «На реках» Крупицкого или Григорьева. У Крупицкого это притушенная и приглушенная печальная мелодия с таким же заунывным и однотонным припевом «Аллилуйя». Это хорошая музыка, но только написанная на какой-то другой текст. Она производит впечатление, только если не вслушиваться в слова. А у Веделя это безостановочное слияние текста с напевом, – музыка послушно следует за всеми излучинами и повторами мысли псалма, за всеми сменами чувств и настроений.
Сначала идет густая волна скорби: «На реках вавилонских, тамо седохом и плакахом…» Это «плакахом» несколько раз повторяется, звуча тихим плачем: это плач матерей, у которых погибли дети, это сдержанный плач мужей, разлученных с женами. «На вербиих… обесихом органы наша» (на вербах повесили мы арфы наши), и от одного этого сознания скорбь пленников достигает нечеловеческого предела, чаша ее полна до краев, а затем, как всякая человеческая скорбь, она мало-помалу притупляется. Но вот вавилоняне обращаются к пленникам с требованием, исполненным холодного в своей тщеславной надменности любопытства: «Воспойте нам от песней Сионских…» И в музыке слышится горестное недоумение: «Како воспоем песнь Господню на земли чужде è й?..» Повторяется эта фраза уже не с изумлением, а гневно. Требование победителей всколыхнуло у побежденных тоску по родине, тоску неизбывную, тоску надрывную, и из тоски рождается торжественная клятва: «Аще забуду тебе, Иерусалиме…» (И тут каждый раз у меня непроизвольно всплывает в памяти захлебывающаяся скороговорка обезумевшего от горя штабс-капитана Снегирева, у которого умирает любимый сын Илюша: «Аще забуду тебе, Иерусалиме…»). А из клятвы вырастает тема ненависти к врагу, ветхозаветная тема мести (око за око): «Дщи вавилоня окаянная!..» И в заключительной, многократно повторяющейся фразе: «Блажен, иже имет и разбиет младенцы твоя о камень, о камень разбиет младенцы твоя», слышится жажда крови, предвкушение мести, упоение воображаемой местью, хруст костей и торжествующий, злорадный хохот, к самому-самому концу вновь разливающийся волною скорби, смехом этим не утоленной.
… как много зла на жизненном пути По человечеству должно было взрасти, Чтобы оно могло понять и оценить Божественную мысль, мысль новую… простить!Совсем иной окраски – хор Троице-Сергиевой лавры, которым управлял Владимир Федорович Лебедев. Этот хор, как и хор Соболева, составил целую эпоху в моей жизни.
Весною 1948 года Александр Леонидович Слонимский и его жена уговорили меня снять вместе с ними дачу по Северной (Ярославской) железной дороге. Переехав с семьей на дачу, я первый раз в жизни от правился в Лавру и потом уже стал там бывать ежесубботне и под все большие праздники – до тех пор, пока мы не съедем с дачи. А затем я по 54-й год включительно стал снимать дачу по Северной дороге уже только ради Лавры.
Я еще в детстве слышал мамины и нянины рассказы о Троицкой лавре. Над моей кроватью висел образок Преподобного Сергия Радонежского. У меня была лубочная картинка – Сергий с медведем. Няня, ездившая из Перемышля в Сергиев Посад, привезла мне оттуда макет Лавры, выполненный тамошними игрушечных дел мастерами. Но после революции, когда я переехал в Москву, инстинкт самосохранения удерживал меня от поездок в разогнанный, загаженный, ветшавший монастырь, превращенный в полуисторический, полуантирелигиозный музей, с кельями, отданными под квартиры всякому отребью в награду за то, что в 1920 году оно громило Лавру и растаскивало, разворовывало ее драгоценную утварь и облачение. Теперь я увидел в Троицком соборе вновь затеплившиеся лампады над ракой с мощами наставника монахов и собеседника ангелов Преподобного Сергия Радонежского и череду молящихся, пришедших поклониться и помолиться ему.
«При имени Преподобного Сергия, – пишет Ключевский, – народ вспоминает свое нравственное возрождение, сделавшее возможным и возрождение политическое, и затверживает правило, что политическая крепость сильна только тогда, когда держится на силе нравственной. Это возрождение и это правило – самые драгоценные вклады Преподобного Сергия, не архивные или теоретические, а положенные в живую душу народа, в его нравственное содержание. Нравственное богатство народа наглядно исчисляется памятниками деяний на общее благо, памятями деятелей, внесших наибольшее количество добра в свое общество. С этими памятниками и памятями срастается нравственное чувство народа; они – его питательная почва; в них его корни; оторвите его от них – оно завянет, как скошенная трава. Они питают не народное самомнение, а мысль об ответственности потомков перед великими предками, ибо нравственное чувство есть чувство долга. Творя память Преподобного Сергия, мы проверяем самих себя, пересматриваем свой нравственный запас, завещанный нам великими строителями нашего нравственного порядка, обновляем его, пополняя произведенные в нем траты. Ворота Лавры Преподобного Сергия затворятся и лампады погаснут над его гробницей – только тогда, когда мы растратим этот запас без остатка, не пополняя его».[28]
Когда моя мать в 1952 году приехала к нам погостить на все лето, я повез ее в Лавру. Увидев раку с мощами и разноцветные огонечки над нею, она долго не могла унять радостные слезы:
– Все как было, когда я приезжала сюда девочкой, все как было тогда, – повторяла она.
На моих глазах Лавра год от году хорошела: мерзость запустения отступала под натиском художников-реставраторов, возрождавших живопись XVI, XVII и XVIII веков, под напором художников-палешан, расписывавших Святые ворота, спугнутая дружными усилиями маляров, кровельщиков, верхолазов.
За каждою мелочью, будь то окраска ограды вокруг Успенского собора, или побелка корпуса, или посадка цветов во дворе, доглядывал зоркий хозяйский глаз чернокудрого богатыря (косая сажень в плечах, щеки – кровь с молоком) наместника Иоанна (Разумова), впоследствии митрополита Псковского и Порховского, соблюдавшего правило аввы Сергия не гнушаться никакой работой. Он и не гнушался работой измлада: монастырский пастушонок – вот первое его «послушание». Имя наместника Иоанна должно быть золотыми буквами вписано не только на страницы истории русской православной церкви, но и на страницы истории русской культуры, русской истории вообще – за все его неутомимые труды по восстановлению и возрождению Троице-Сергиевой лавры – этого памятника русской веры, славы и красоты. Наместник Иоанн и архимандрит Вениамин составляли как бы двуединую душу Троицкой лавры.
Приехав в Лавру впервые и никого еще там не зная, я помолился в Троицком, обошел часовенки и в ожидании всенощной присел во дворе на лавочке. Первый удар колокола. Смотрю: из патриарших покоев выходит монах. Молящиеся ринулись к нему, за ними и я подошел к нему под благословение. Подошел – и внутренно ахнул: откуда он? Как мог такой человек уцелеть в годы нероновско-диоклетиановского гонения на церковь? Сквозь очки на меня смотрели проницательные, участливые и непреклонные глаза. С этого дня я всякий раз, когда бывал в Лавре, ждал его выхода из кельи. Однажды, благословив, он поцеловал меня. До этого мгновенья я несколько лет жил, пугливо озираясь: я ждал или пинка, или торопливого обхода стороной с нарочито любезным поклоном – «только не подходите!» С того дня я, – быть может, вообразив себя загнанным зверьком, быть может, во многих случаях жертва непреодоленной мании преследования, – вновь почувствовал себя человеком. Я узнал, что это инспектор Московской духовной академии и семинарии, профессор, архимандрит Вениамин (Милов), долго сидевший в концлагерях, во время войны возвращенный, успевший защитить магистерскую диссертацию («Божественная любовь по учению Библии и Православной церкви»), ныне занятый писанием диссертации докторской. Зимой 48–49 годов его снова схватили и отправили на восемь лет в Казахстанские лагеря. Наместник не забывал о. Вениамина в беде – посылал к нему верных людей с деньгами и продуктами. А патриарх сумел-таки вызволить о. Вениамина из лагеря – в эпоху Берия это было событие из ряду вон выходящее. Некоторое время магистр богословия служил псаломщиком в православной церкви в Джамбуле, затем, уже после смерти Сталина, был возвращен в Лавру. Патриархия почему-то не сочла возможным предоставить ему длительный отпуск. Его посвятили в архиереи и отправили на саратовскую кафедру. В Саратове он вскоре скончался от паралича (2 августа 1955 года на Ильин день), а родился он 21 июля (по новому стилю) 1887 года – на праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери.
Горько мне было узнать об аресте архимандрита Вениамина и некоторых других монахов, высланных «по старому делу» в Сибирь, но все же в Лавре, в утешение ее посетителям, тогда еще оставалось целое соцветие иноков, посланных Богом в утешение молящимся: бывший инженер, в 1926 году строивший Московский телеграф, о. Савва (в миру – Николай Михайлович Остапенко), любимец наместника и архимандрита Вениамина, духовник богомольцев, так благолепно и задушевно служивший молебны, что, бывало, совсем не чувствуешь усталости, хотя о. Савва служил неторопливо, истово, с великим множеством «припевов»; о. Сергий, в миру – художник-реставратор Павел Голубцов; точно вырезанный из кипариса благочинный Лавры о. Маврикий; сутулый, еле передвигавший больные ноги о. Никон с глазами святого благоверного князя Михаила Тверского, как его изобразил Васнецов в киевском Владимирском соборе, с глазам воина Божьей рати и с вялыми, расплывчатыми линиями пухлых губ, обличавшими в нем детскость и душевную мягкость, становившиеся особенно заметными, когда он улыбался – добро или по-детски лукаво, улавливавшиеся в его сдавленном, придушенном смехе. В миру Сергей Петрович Преображенский, сын физика, приват-доцента Московского университета, сотрудник московского Исторического музея, он не избежал послереволюционной судьбы многих русских интеллигентов – до монастыря успел-таки побывать в ссылке. Он превосходно знал литературу, философию вообще, богословие в частности, русскую историю вообще, историю русской православной церкви в частности, русское искусство вообще, церковную живопись и архитектуру в частности и в особенности. Он следил за реставрацией Лавры, вечно возился с градусниками, измерял температуру в храмах, проверял влажность. Когда в Лавру приезжали иностранцы, экскурсии водил этот согбенный, с трудом передвигавший ноги старик. Он был и не от мира сего и от мира сего, но лишь в том смысле, что он отлично разбирался в людях. Потусторонность его взора была обманчива. Он замечал все, что творилось вокруг. И язык у него был меткий, подчас – «земной», современный, не фарисейский, не пропитанный деревянным маслом. Однажды он процитировал мне даже Маяковского.
Как-то раз я пожаловался ему на грубость одного дьякона, из-за которого я собирался расстаться с моим любимым московским храмом. На это мне о. Никон ответил:
– Как бы ни был запылен и запаутинен провод, но если электростанция мощная, а лампочка – в порядке, то она все равно будет гореть ярко. Так вот, мощная электростанция – это Божья благодать, ваша верующая душа – это лампочка, а священнослужители – это провода. Конечно, они должны быть в порядке, но если даже к кому-нибудь из них и пристала пыль, грязь, паутина – не смущайтесь: если вы не утратили веры, лампочка вашей души, все равно будет гореть ярко.
Об описании литургии в «Воскресении» Льва Толстого – беззлобно и с сожалением:
– Точно глухой описывает концерт симфонической музыки.
В оценке этого отрывка из «Воскресения» православный монах совпал с мнением атеиста Горького. Леонид Миронович Леонидов в своих мемуарных заметках «Горький и Художественный театр» свидетельствует, что Горький, посмотрев «Воскресение» в театре, сказал Качалову: «Хорошо читаете, но там есть сцена у причастия, я ее не принимаю, признаться, в этом месте и Толстой мне не нравится». Зав. постановочной частью Художественного театра Вадим Васильевич Шверубович сообщает в своих воспоминаниях, что Горький настоял на снятии глумливого описания Таинства Евхаристии в «Воскресении». Чужая душа – потемки, горьковская – в особенности. Ведь это же он создал проникнутый поэзией религиозности образ Бабушки, которая, молясь Божьей матери, уподобляла ее всему, чем особенно радовала ее взор красота мира дольнего. 26 июля 1963 года я записал в свой дневник рассказ, слышанный мною от Маршака:
– Знаете, Горький мне говорил: «Прочтешь Паскаля, отцов церкви – убедительно, прочтешь что-нибудь против церкви – тоже убедительно». Я вам еще скажу – только это между нами, ладно?.. Никому не рассказывайте, голубчик… Я слышал это от Сперанского… Когда Горькому стало совсем плохо, он сказал: «Разве помолиться?..» И несколько раз перекрестился.
Летом 1949 года из Франции в Россию прибыл долго живший там о. Константин. Жил ли он там еще до революции или эмигрировал после – я, признаться, забыл. О. Константин поселился в Лавре, принял монашество, а вместе с монашеством новое имя – Стефан. Я и сейчас вижу его горящие глаза, слышу его спокойный, задумчивый голос. Он умел одним словом, одной фразой приласкать и обрадовать человека.
Вхожу однажды в Троицкий собор. У мощей служит молебен о. Стефан:
– О ненавидящих и любящих нас!
Поет хорик – в большинстве своем – не постоянных прихожан, местных жителей, а пришедших или приехавших богомольцев, среди них – мужичок, подтягивающий приятным баском.
По окончании молебна о. Стефан обращается к нему:
– Хорошо ведете свою партию. Сразу видно, что с детства певали в церквах.
Мужичок сияет. Мы притерпелись к кнуту и к матерной брани, а от ласкового поощрения отвыкли давно.
Но о. Стефан умеет быть не только благоуветливым. Он замечает, что в сторонке шушукаются дамы, шушукаются деликатно, шушукаются, когда уже молебен кончился, но все-таки шушукаются. И вот он взглядывает на них искоса и, обращаясь совсем не к ним, а к обступавшей его толпе, вдруг ни с того ни с сего начинает рассказывать, как во Франции довелось ему побывать в обители траппистов – строгих молчальников и какая это все-таки высокая добродетель – молчание, как оно иногда украшает человека.
Шушукавшиеся дамы прислушались, сконфузились и умолкли.
Спустя несколько дней вхожу в надкладезную часовню. На середине часовенки, лицом ко мне, стоит о. Стефан, обняв, как самого родного ему человека, деревенскую старуху с тем неподвижным взглядом, какой бывает только у слепых. Поодаль стоит еще одна старушка, пободрее слепой и, видать, помоложе. Я застаю конец беседы о. Стефана и слепой паломницы, но быстро улавливаю, что о. Стефан видит ее первый раз в жизни.
– …Я все понимаю, все понимаю, дорогунчик, – говорит о. Стефан. – Велико твое несчастье – слепота. Тут и толковать не об чем. Но Господь посылает тебе в этом испытании помощь и утешение. Ты только подумай, какие у тебя друзья и какое это счастье – иметь их! – о. Стефан указывает на стоящую поодаль старушку. – Вот она потащилась в такую даль, только чтобы проводить тебя в Лавру, потому что тебе захотелось здесь помолиться. А вот я тебе расскажу такой случай. Я ведь долго жил на чужбине, во Франции, только недавно вернулся на родину. И вот как-то узнаю, что в таком-то французском городе лежит в больнице русская женщина по имени Людмила. Фашисты убили ее мужа и сына, а ей переломили спинной хребет. Я поехал к ней. Думаю: застану разбитого и телом и душой человека. Каково же мое изумление! Духом тверда, бодра и славит Бога… Я ее спрашиваю: «Людмилочка! Есть у тебя какое-нибудь желание?» – «Как не быть, батюшка! Совсем без желаний человек жить не может. Я, по правде сказать, завидовала моим подругам по несчастью: их все кто-нибудь да навестит, а я одна да одна. Сегодня мое желание исполнилось: ко мне нежданно-негаданно приехали вы. Теперь у меня осталось еще одно желание: грешница, хочу я выпить настоящего чайку, как мы в России пивали». – «Ну, – говорю, – Людмилочка, это твое желание исполнить легко: чай у меня всегда с собой, я ведь тоже любитель. Как попьешь чайку – так будто в родных краях побываешь…» Но потом я все-таки уехал, и Людмила опять осталась одна-одинешенька, а ты не одна…
Я долго смотрю на о. Стефана, все еще обнимающего утешенную, просветленную старуху…
…«Иных уж нет, а те далече». Немного погодя о. Стефану дали отпуск, – ему хотелось навестить своих родственников в Костроме, откуда он сам был родом, – он поехал к родным и у них на руках скончался. Скончались схимники. Скончался о. Маврикий. На посту наместника сменил архимандрита Иоанна, возведенного в епископский сан, будущий патриарх Пимен. Скончался заменивший Турикова его выученик, молодой, но болезненный протодьякон Даниил. О. Савву услали в Псково-Печерский монастырь. За что? За то, что исповедник богомольцев слишком часто «бывал с народом», помогал больным душою и телом. «А ведь я для того и бросил инженерство и пошел в монастырь», – оправдывался о. Савва. Однако приговор был приведен в исполнение. Впрочем, в Святоуспенском Псково-Печерском монастыре о. Савва остался верен себе. Летом 1966 года я побывал в этой отдаленной обители и имел возможность наблюдать за о. Саввой. Вот он идет от своей кельи, находящейся в глубокой низине, по направлению к Михайловскому собору, а ему про ходу нет от богомольцев. И вот он, имеющий кроткую, но непобедимую власть над людьми, на недугующих руки возлагает: «да здрави будут», оделяет обступающих его образками, неимущим стремительно, едва уловимо для глаза, сует в руки трешки, никому не отказывает в совете и в наставлении, наконец – просто в ласковом слове. Кто-то из женщин протягивает ему банку с медом, он не уклоняется от скромного приношения, ибо всякое даяние благо, но немного погодя отдает банку босоногой девчушке: «На, милая, кушай во славу Божию…» Идет, идет о. Савва вверх по высокой лестнице, а вокруг него и льноволосые, с васильковыми глазами детишки, и девочки-подростки с черной, как пасхальная ночь, глубью глаз, широко раскрытых в предощущении чуда, которого они ждут от жизни, и все еще не выведшиеся на Руси калики перехожие, и женщины с глубоко врезавшимися крестами морщин на обветренных лицах, с той будничной нерастанной скорбью от каждодневных обид, от неисчислимых утрат, какою светятся лики страстотерпиц из русского простонародья, и женщины с глазами веселыми, счастливыми встречей вот с этим, из себя не видным, не высоким и не широким в плечах человеком, без особых сословных и образовательных примет, доброта которого даже и не всегда напечатана крупными буквами на его голубоглазом, с седыми бровками под высоким покатым лбом лице, с какой-то отметинкой, пересекающей его костистый нос; с человеком, наделенным, однако ж, редчайшим из всех даров, какие только ниспосылаются смертному, даром любви ко всем и ко вся, даром выказывать самые разные виды этой любви, творящим добро не по внутреннему понуждению, а по внутреннему побуждению, и в келье, и в храме, и походя, по дороге к собору, куда его уже зовет вечерний звон и где ему пора уже возгласить славу Святей, Единосущней, Животворящей и Нераздельней Троице, человеком, для которого запрет, налагаемый на добротолюбие и добротворчество, смерти подобен, человеком, которому так же невозможно не помогать ближним и дальним, как для всех нас, пока мы живы, невозможно не вбирать в себя воздух. И если русский народ еще не окончательно утратил образ и подобие Божие, то этим он обязан в неизмеримо большей степени, чем одиночкам из мира искусства, вот таким вот русским инокам, с которыми недаром связывал великие надежды Достоевский, хотя он и не предугадывал, в какую сталинско-хрущевско-брежневскую блевотину погрузится Россия и что придется вытерпеть, выстрадать и какие бремена борьбы со злом придется возложить на свои плечи чудом уцелевшему, но такому малочисленному иноческому чину.
«Нас прэслэдують и гонють на каждом шагу!» – сказал мне в 1955 году восьмидесятислишнимлетний старец Киево-Печерской лавры, в прошлом подгородный крестьянин, плотник по первоначальному роду занятий.
Участь о. Саввы разделил о. Никон, с тою разницей, что о. Никона услали в одесский мужской монастырь. За что? За то, что много возился с детьми. И точно, обычное зрелище: ковыляет по двору о. Никон в затрапезной рясе, вымазанной в краске, а вокруг него роем мотыльков вьются детишки. Он отдавал им тепло нерастраченного отцовского чувства, делился с ними пищей духовной, равно как и пищей земной, ибо окружали его по преимуществу дети бедняков. Правда, ребята, пользуясь добротой о. Никона, забирались иной раз на леса или учиняли какую-нибудь невинную шалость. Но следовало ли только за то, что о. Никон не мог быть по всему своему душевному складу строг с детьми, выгонять его в Одессу? Это было и жестоко и неблагоразумно. Жестоко, потому что о. Никон был коренной москвич, с Москвою и москвичами до последних дней своего пребывания в Лавре тесно связанный, потому что он был, как он сам себя называл, «представителем московской интеллигенции при Преподобном Сергии», потому что он любил Лавру, находился здесь с первых дней ее возрождения (он пришел в Лавру в 1946 году, когда там был всего один монах), потому что реставрация Троицкого собора была до известной степени его гордостью – такое деятельное участие принимал он в ней. А неблагоразумно потому, что после его отъезда в Одессу никто уже не следил ни за температурой, ни за влажностью, и живопись, с таким трудом, ценою таких долгих усилий и огромных затрат восстановленная, начала быстро портиться. И тут Преподобный Сергий как бы вновь призвал о. Никона к себе. О. Никона вызвали в Троице-Сергиеву Лавру по делам реставрации, и, хотя прописать его не прописали, в Одессу он уже не вернулся. Жил он где-то у знакомых, а когда почувствовал, что конец его близок, лег в Лаврский больничный корпус. Здесь он и отдал Богу душу, и похоронили его в Сергиевом посаде.
Праведники отходят, а свет от них остается…
В первые года после открытия Лавры настоящие русские иноки образовывали ее духовное силовое поле. Только войдешь во двор – смотришь: вот один выходит из своей кельи, а вот другой – из собора или из часовни, и при одном виде знакомых и дорогих лиц на душе у тебя теплеет. А тут еще о. Александр зазвонит ко всенощной, – тот самый рыжебородый, веснушчатый о. Александр, который в ответ на мою благодарность за целительный звон сказал:
– Я с малолетства к этому делу был приставлен. Мне в Москве великая княгиня Елизавета Федоровна десять рублей серебром пожаловала – угодил я ей, стало быть.
Обрадованный, ободренный встречами с наместником и его сподвижниками, овеянный вечерним звоном, входишь в Успенский собор, где, кажется, самый воздух соткан из молитвенных вздохов; где, сменяя друг друга, перебывало столько поколений русских людей – парей и нищих, ратников и полководцев, людей торговых и людей служилых, земледельцев и землевладельцев, слуг и господ, простых баб и великосветских дам, князей церкви и сельских батюшек, мыслителей и Христа ради юродивых, буйных кликуш и нестеровских тихих девушек, сановников и чиновников, воротил, заправил и мелкоты, бедноты, зодчих и мастеровых, писателей и писцов, прославленных художников и безвестных богомазов, притекавших сюда в дни радости и в дни печали, мысленно предававших Богу путь свой и путь своих близких, прибегавших под сень Его крыл, чтобы Он отвел и от них и от их родины всякого врага и супостата; где несколько столетий подряд читались молитвы «о всякой души христианстей, скорбящей же и озлобленней, милости Божия и помощи требующей». И – начинается всенощная по монастырскому уставу, во всей ее неутомительной, величавой медлительности, во всем ее траурном великолепии. И в траурное это великолепие вносил свою щедрую лепту лаврский мужской вольнонаемный хор. С каждым годом росла монастырская братия, – в нее вливалась послушническая молодежь, – с каждым годом оживали в соборах фрески, с каждым годом все ярче, все призывнее сияли звезды на кубовой сини куполов, и год от году рос, крепчал и хорошел лаврский хор. Наместник Иоанн радел обо всем: и о духовной высоте братии, и о хозяйственном благоустройстве и благополучии вверенной ему Лавры, и о наружном ее великолепии, о возрождении ее зодчества и живописи, и о благолепии служб (в особо торжественные дни он сослужил только с теми монахами, которые обладали красивыми голосами и отличались ясностью выговора), и о красоте облачения, и о красоте пения. Обладатель звучного и проникновенного баритона, он любил не только служить, но и петь. Дивно звучал исполнявшийся на погребении Божьей Матери квартет, в котором принимали участие он, архидиакон Туриков, иеромонах (второй тенор) и руководитель хора Лебедев (первый тенор). Поощряемый наместником, Лебедев подбирал голос к голосу, отыскивал певцов, которые когда-то пели в Лавре мальчиками, отыскивал в самом Сергиевом Посаде и в Александрове, приглашал москвичей. В репертуаре Лебедевского хора, разумеется, преобладали монастырские распевы. Однако наместник Иоанн крепостной стеной Лебедева не опоясывал. Видимо, он полагал, что над свободой духовного звукотворчества, как и над вольной мыслью, «Богу неугодны насилие и гнет», что «попирать живые звуки» – это, как сказал бы религиозный мыслитель Бухарев, значит посягать уже на самую благодать Христову, и Лебедев с благословения отца наместника пел и Чайковского, и Рахманинова, и Чеснокова, и Туренкова, и Соколова. Наместник требовал одного: молитвенности и художественности исполнения. И этому требованию Владимир Федорович удовлетворял в полной мере. Иной раз я приезжал в Лавру усталый. Утром, чуть свет, с дачи в Москву – за продуктами и по делам; набегаешься, высунув язык, с рюкзаком за плечами по раскаленному, оседающему под ногой, точно болото, асфальту, еле втиснешься в битком набитую, душную, потную электричку и – в Сергиев Посад; по дороге в Лавру чего-нибудь еще прихватишь в лавчонке, чего в Москве не достал, в соборе сбросишь мешок где-нибудь в уголке на пол, не успел отдышаться – уже открываются Царские Врата, но стоит лебедевскому хору запеть что-нибудь зна è менного напева гармонизации иеромонаха Нафана è ила – и усталость как рукой сняло, простоишь часа три—четыре – и хоть бы что.
«Блажен муж» распева Зосимовой пустыни…
Какая в нем собранность душевных сил, какая устремленность к возвышенной цели, какая отрешенность от мельтешащей суеты, какая аскетическая строгость звучания! Но при полном отсутствии звукового орнамента, всяческих ухищрений и вычур какое опять-таки многообразие славословных и молитвословных оттенков!
Киево-Печерского распева «Сподоби, Господи, в вечер сей без греха сохранитися нам» хор Соболева пел на одном лирическом дыхании. Лебедев трактовал это песнопение по-своему. Словам молений: «Сподоби, Господи… научи мя оправданием Твоим» у него соответствовал умиленно-тихий минор. Но дальше он проводил явственно различимый на слух водораздел. «Тебе подобает хвала, Тебе подобает пение, Тебе слава подобает…» – это славословие его хор вызванивает во все колокола. Басы гудят всей своей тяжкой медью, всем набором колокольчиков разливаются тенора, и вдруг на последней фразе: «и ныне и присно и во веки веков аминь» в громозвучную эту осанну вплетается чисто монастырское, за сердце хватающее рыдание. Быть может, это рыдание при мысли о своем несовершенстве, быть может, это сокрушение о грехе, о зле, в котором лежит весь мир. Воистину «таинственно соединены» в русском церковном пении «два полюса» – радость и печаль.
Слов нет, хорошо пел лебедевский хор гармонизованное для мужского хора «Великое славословие» Архангельского, своеобразное звучание приобретал квартет «Яко согреших Тебе», составленный из первого и второго теноров, баритона и баса, обычно при участии Турикова. Но неизъяснимо-прекрасно пел этот хор «Великое славословие» простое, древнее, почти речитативное. Начинаюсь оно pianissimo – «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение», – словно первые лучи прорезали вифлеемскую ночь, затем по небу тихим ровным немеркнущим светом расплывалась заря, и – Боже! – что от этого звукового свечения поднималось в душе! То была благодарность за все духовные радости, посетившие меня на земле, за то, что я слышу вот эти звуки… И я опускаюсь на колени и, не помня себя, целую пол храма, исхоженный множеством пыльных ног.
Зимой 1953–1954 годов я как-то увидел Лебедева во сне: будто он стоит на морозе в одном пиджачишке… Несколько дней спустя я узнал, что по распоряжению патриарха Алексия вольнонаемный лаврский хор распущен и заменен хором «академиков» и семинаристов.
Когда на что-нибудь прекрасное в жизни, в природе, в искусстве наступает ногой гражданская власть, меня это не удивляет, я к этому давно привык. Большевики с 1918 года взяли себе за правило пророческие слова Ал. Конст. Толстого о том, что «российская коммуна» почтет необходимым «все загадить для общего блаженства». Как однажды взяли, так с тех пор и следуют ему неуклонно. Но когда духовная власть посягает на духовную красоту – это и непонятно и обидно. И вдруг я снова, как после увольнения Соболева, услышал «глас народа». Крестьянского обличья женщина средних лет как-то раз остановила меня во дворе Лавры, – очевидно, мое лицо ей примелькалось, – и излила мне душу: оказывается, она, как и я, пережила в Успенском соборе много необычайных минут, а теперь там ни одной службы не отстаивает и, как и я, предпочитает семинарскому хору пение за молебнами в Троицком соборе – пение верующих баб.
В 1953 году я приехал в Киев – приехал, можно сказать, в первый раз. До войны я был в Киеве весной 1939 года, но тогда я прожил там всего несколько дней, приехал неподготовленный, кое-чего не увидел по своей вине, из-за своего невежества, многого не мог увидеть и услышать, потому что в Киеве тогда, за исключением Андреевской церкви и еще каких-то церквушек на окраине, обители и храмы были закрыты, а большею частью – снесены.
Итак, был июнь 1953 года. «Во едину от суббот» я поехал в Киево-Печерскую лавру ко всенощной. В этот день я много бегал по городу, приехал в Лавру «еле можаху», в храме производилась уборка, молящихся долго не пускали, я мок под дождем, это меня раздражало, наконец впустили, служба началась с чтения, и я подумал: «Не уйти ли мне? Все равно долго не выстою». Но как загудели, как залились вперекличку правый и левый клиросы, как услышал я эту, по выражению Чайковского, «дикую гармонию», услышал на ее родине, неиспорченную гармонизаторами, в ее первозданном звучании, – ноги мои приросли к месту.
Когда стоишь у истока реки, тебя охватывает какое-то особенное волнение. Пусть дальше берега будут и разнообразнее, и живописнее, но это исток. Вот такое же совсем особенное волнение испытывал я всякий раз, когда слушал в Святоуспенской Киево-Печерской лавре ее распев, а там и нельзя было ничего услышать, кроме этого распева, возникшего в XI веке, можно сказать – вместе с самой Лаврой, на основе старо-греческого напева, а впоследствии испытавшего на себе влияние, как указывают исследователи, напевов южно-славянского и древне-киевского. Дальше будут и Бортнянский, и Березовский, и Ведель, и Турчанинов, и Кастальский, и Архангельский, и Чайковский, и Рахманинов, и Чесноков, и кого-кого только еще не будет, но это один из истоков русского церковного пения, да и не только церковного. С годами, с веками киево-печерский распев разольется во всю ширь Руси великой и доплеснется до наших северных, западных и восточных окраин.
Чем прежде всего поражает слух киево-печерский распев? Своим громогласием.
Летом 1955 года я познакомился с иеромонахом Киево-Печерской лавры о. Иосифом (в миру – Иван Сергеевич Штельмах). Однажды мы с ним уединились для беседы в укромный уголок лаврского внутреннего дворика, и, сидя на бревнышках, этот подвижнической несгибаемости человек, за плечами у которого и медицинский факультет, и светское музыкальное образование, который всю войну 41–45 годов провел на фронте военным врачом, знавший историю Киево-Печерской лавры во всех ее разветвлениях, постигший и в теории и на практике премудрость православного пения, делился со мной по моей просьбе своим пониманием киево-печерского распева. Причину его «громогласия» о. Иосиф усматривал в характере украинского народа, выросшего среди степной и речной шири, народа пылкого и боевого. В качестве примера он указал мне на отзвуки запорожских воинственных напевов в киево-печерском догматике «В Чермнем мори». Вполне принимая толкование о. Иосифа, я все же позволю себе добавить, что громогласие вырастало еще, вероятно, и из простодушного убеждения наших предков: чем громче, тем Богу слышнее, тем до Него доходчивее.
Вслушиваешься, вслушиваешься в «дикую гармонию», которую такой ценитель, как Чайковский, предпочитал пению в других киевских храмах и монастырях, хотя и отдавал ему должное, – и тебя изумляет уже не только громогласие, но и повторы, подхваты:
Исповедуйтеся Го è сподеви, яко благ, исповедуйтеся Господеви, яко благ, исповедуйтеся Господеви, яко благ, яко ввек милость Его («Хвалите имя Господне…»).
Пробави милость Твою ведущим Тя, ведущим Тя, пробави милость Твою ведущим Тя («Великое славословие»).
Повторы и подхваты о. Иосиф объяснял настойчивостью в славословии и молитвословии (его буквальное выражение). Ради этого люди оставляли мир со всей круговертью его тщеты, со всей призрачной радужностью его мечтаний, со всей его необозримой и разноликой прелестью, этому посвящали всю свою жизнь – куда им было торопиться?
Слух постепенно привыкает и к громогласию, и к повторам, и тогда начинаешь различать характер басовой и теноровой партии в гармонии киево-печерского распева, основой которого, кстати говоря, является второй тенор.
Я спросил о. Иосифа, можно ли сказать, что басы «славословят», а тенора «молитвословят»?
– Можно, – согласился о. Иосиф и добавил: – А еще в нашем лаврском обиходе есть такое выражение: «Басы за землю держатся, а тенора в небеса уносятся».
В беседе со мной о. Иосиф раскрыл полное соответствие киево-печерского распева мыслям и чувствам, выраженным в словах песнопений».
Поют предначинательный псалом (103):
«Господи Боже мой, возвеличился еси зело».
«Во исповедание и в велелепоту облеклся еси».
«На горах станут воды. Дивна дела Твоя, Господи! Посреде гор пройдут воды. Дивна дела Твоя, Господи! Вся премудростию сотворил еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»
Когда слышишь эти «широкие разводы в мелодиях», как выразился Гайдай, характеризуя в письме ко мне киево-печерский распев, кажется, будто это невдалеке, под горой, выйдя из берегов, ширится, ширится Днепр по весне, в половодье.
Предначинательный псалом посвящен сотворению мира, – поясняет мне о. Иосиф. – Человек дивится тому, как прекрасен сотворенный Богом мир. Вот откуда этот подъем, эта радостная мощь.
Но почему же вслед за хвалой во славу оплавившегося из хаоса мира и во славу его Создателя такою скорбью звучит великая ектенья? Ведь тем минорным ключом, в котором ваш дьякон заканчивает каждое ее прошение, мы, северяне, воспользовались для ектений панихидных:
… и о еже проститися ему всякому прегрешению, вольному же и невольному…
… идеже праведнии упокояются…
… у Христа, Бессмертного Царя и Бога нашего, просим…
– Да, но за сотворением мира вскорости последовало грехопадение, – вот откуда минор великой ектеньи, – прокомментировал о. Иосиф.
– Но почему же такого духовного веселья исполнен частый перезвон колоколов, который слышится затем в «Блажен муж…»? Почему такое хвалебное жизнеутверждение в этих нескончаемых «аллилуйя»?
– А потому, что Спаситель все же придет, только ты, муж, будь праведен, а путь нечестивых – погибнет.
На общем фоне замедленности резко выделяются в полиелее своим «трезвонным» ритмом воскресные тропари, и в этой «ликовствующей», хотя и с оттенком недоверчивой грусти, стремительности отражается радость жен-мироносиц, узнавших о том, что Христос воскрес…
Одну из субботних всенощных летом 1955 года я стоял в Лавре вместе с профессором Борисом Ивановичем Пуришевым, для которого древнерусское зодчество и живопись – это была раскрытая, увлекательная, вдохновенная книга: каждая линия летит, поет, каждая краска живет и дышит, каждый завиток орнамента исполнен высокого значения.
В этот вечер Борис Иванович впервые слышал киево-печерский распев «сплошняком», без всякой прослойки и разбивки, с какими он исполняется в других монастырях и церквах. Всенощная в Лавре длилась долго – пять часов. Во время богослужения мы несколько раз спускались в лаврский сад, выходили за калитку и, посиживая опять-таки на бревнышках и глядя на мелеющий Днепр и на просторное Заднепровье, откуда тянул теплый душистый ветер, делились только что перечувствованным.
Особенно ошеломлен был Борис Иванович «Великим славословием», которое монахи, сняв клобуки, пели на середине храма. Кончается оно протяжным, могучим «Святым Боже».
Когда мы поднимались к трамвайной остановке, Борис Иванович сказал:
– Теперь мне ясно, что после такой молитвы, полной несокрушимой веры в то, что «Святый бессмертный» «помилует» их, монахам не страшно было расходиться на ночь по своим пещерам.
Еще мы говорили о том, как хорошо, что существует теперь такой заповедник древнерусского пения. Душе древнелюбца Пуришева особенно дорого было то, что это напев – подумать только! – XI века. Я высказал ту простую мысль, что не к чему было этот заповедник в начале революции прихлопывать; никакой опасности для государства он не представляет, а как это важно, как это нужно всем любящим музыку – побывать у истоков русской музыкальной культуры!
– Конечно, – подхватил Борис Иванович, – и только одни дураки этого не понимают… Да! – наставительной скороговоркой добавил он.
В 1923 году Пастернак жаловался, что «ум черствеет в царстве дурака»… С 1957 по 1964 год хрущевское «царство дурака» ширилось, приумножалось, богатело и процветало. По очень верному наблюдению Мережковского, в революционные эпохи выдвигаются люди, отличающиеся особенной глупостью, «когда прибавляется к их личной дури – общая» (Наполеон. Т. II. Белград, 1929. С. 37). В 1961 году глупцам киевским по указке глупцов московских понадобилось снова упразднить Киево-Печерскую лавру. Русских людей снова лишили возможности помолиться в пещерах у гробниц своих великих предков – первого русского историка Нестора, первого русского живописца Алипия, одного из первых русских врачей Агадита и услышать неискаженную, неисправленную, дикую, но прекрасную, дикую, но единственную в целом мире гармонию киево-печерского распева.
И все же о. Иосиф, после вторичного закрытия Лавры приезжавший ко мне в Москву погостить, говорил:
– Конечно, прискорбно мне и другим, что Лавру закрыли, но это закрытие недолговечное – она непременно откроется вновь, вот увидите.
Пророчество о. Иосифа сбылось.
Ялта 1963 – Москва 1989
Великое славословие
Да возрадуется душа твоя о Господе… да просветится свет твой пред человеки, яко да видят добрая дела твоя и прославят Отца нашего Иже есть на небесех.
Из чинопоследования архиерейского служения на литургии.… в небесах я вижу Бога.
ЛермонтовЗамолкли звуки дивных песен…
ЛермонтовЖаркий летний вечер в Киеве.
По узкой извилистой лестнице на хоры Владимирского собора медленно взбирается сухощавый чисто выбритый седой человек в элегантном, отлично на нем сидящем, кремовом легком костюме, с такой же изящной шляпой в руке. Видно, что ему нелегко брать этот подъем, и он слегка сутулится от напряжения. Пройдя на хоры, он тяжело опускается на стул, некоторое время сидит неподвижно, платком вытирает со лба пот.
Наконец Царские Врата отворяются, и среброголовый человек молодо вскакивает со стула, становится за пульт и задает тон. Он весь подобрался, он весь собрался, движения его то стремительны, то величавы. Он не дирижирует, – в применении к нему это не то слово, – он вдохновенно и неустанно творит.
Это Михаил Петрович Гайдай, управляющий хором киевского Владимирского митрополичьего собора.
Его хор под именем «хора Гайдая» известен далеко за пределами Киева, Московские и Петербургские, регенты и певцы нарочно едут в Киев, чтобы послушать этот хор, чтобы ознакомиться с искусством Гайдая, чтобы у него поучиться. Архидьякон московского Богоявленского патриаршего собора Владимир Дмитриевич Прокимнов считает за честь, приехав в Киев, попеть в хору у Гайдая. Москвичи и Петербургские – профессора, литераторы, простые смертные, православные, деисты и даже атеисты – раз послушав хор Гайдая, при первой возможности снова доставляют себе это наслаждение. А раз послушав хор Гайдая, уже никогда не забудешь и ни с чем не смешаешь в памяти его налитой, точно спелый колос, особенный звук. Среди внимательных и восторженных его слушателей можно встретить изумительного церковного певца Козловского. Если Иван Семенович в Киеве, то уж он не преминет побывать во Владимирском соборе, не пропустит ни одной службы. Случайно разговорившись при выходе из Московской Пименовской церкви с полуинтеллигентного вида женщиной, я узнаю, что она, как и я, каждое лето ездит в Киев ради хора Гайдая.
В самом Киеве у Гайдая поклонники разнообразные, вплоть до случайно заброшенного судьбой из Саратова в Киев бывшего дворника, пенсионера, похожего лицом на Николая II, – он гордится Гайдаем, его хором, его солистами и с ревнивой опаской спрашивает меня, не лучше ли поет патриарший хор в Москве. Прихожу как-то в субботу ко всенощной. В верхнем, Борисоглебском, приделе, опершись на балюстраду, стоит сивоусый, широкоплечий украинец в расшитой рубашке – вылитый Тарас Бульба. Он так огорчен, что обращается ко мне – совершенно незнакомому, но, очевидно, запомнившемуся ему человеку.
– Гайдая нет, – уныло гакает он, – и уже не будет пения того. (В этот день Гайдай случайно не пришел ко всенощной.) Африканцы и американцы с неизменными фотоаппаратами через плечо, войдя в собор, начинают с туристски легкомысленным верхоглядством водить глазами по стенам, но вдруг, зачарованные пением, столбенеют – и, совершенно неожиданно для них самих, выстаивают всю службу. Молоденькая учительница из далекой Сибири отбилась от своей туристской стаи и залетела в Собор, – в экскурсионный план всей стаи осмотр Владимирского собора не входит, экскурсионное бюро решило за туристов, что живопись Васнецова и Нестерова им неинтересна. Учительница, однако, проявила внеплановую любознательность, и уйти до конца службы у нее тоже не достало сил. Она спрашивает меня, будет ли служба завтра, в котором часу начало. Узнав, что утром, с загоревшимися глазами объявляет:
– Непременно приду… Завтра мы уезжаем, перед отъездом нас еще куда-то должны вести… Но я все равно приду – хоть ненадолго… Я никогда ничего подобного не слыхала. Скажите, кто этот дирижер?..
Назавтра мы с нею вновь встречаемся за обедней. Сначала она то и дело нервно поглядывает на часы, потом безнадежно машет рукой, на часы уже не смотрит – и уходит из собора только по окончании литургии.
Во всем этом нет ничего удивительного: хор Гайдая – это был лучший хор в стране (я имею в виду хоры не только церковные, но и светские), и это одно из самых больших явлений русского искусства вообще.
Репертуар этого хора был обширен, как ни в одном известном мне церковном хору. К тому богатству, каким располагаем мы, «среднеполосники», Гайдай присоединял произведения украинских композиторов – Стеценко, Войленко, Скрыпника, самого Гайдая. Гайдай умел из каждой музыкальной фразы извлекать всю таящуюся в ней красоту, всю без остатки. Знакомые вещи в его исполнении – точно живопись после искусной реставрации: все наносные слои сняты, все искажающее убрано, – перед нами нечто углубленное, обновленное, преображенное, чистое-чистое, как лесные ландыши раннею росистою ранью… А когда я после хора Гайдая слушаю какой-нибудь другой хор, слушаю те же самые вещи, мне кажется, что я рассматриваю те же драгоценные ковры, но только с изнанки. Русская духовная музыка словно захотела еще раз послушать, как она звучит в исполнении совершенном, и с этой целью произвела на свет Гайдая. Он – ее олицетворение, он – ее воплощение.
Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь так выразительно дирижировал, как Гайдай. Однако про его движения не скажешь, что они скульптурны. Скульптурность предполагает окаменелость, окоченелость, застылость. Движения Гайдая сочетали изящество с порывистостью. А изящен он был во всем – в одежде, в манере ее носить, в каждом жесте. Он слегка откидывал голову, правой рукой делал широкий плавный кругообразный жест – и звуки разливались, как река. Он отдергивал от чего-то незримого пальцы обеих рук и немного подавался всем корпусом назад – это значило: звуки здесь такие хрупкие, что к ним можно только едва прикоснуться голосом. Он выбрасывал руки вверх и держал их округлою горстью – и вот уже вздымалась осанна…
Ему одинаково были подвластны и задушевное, и величальное.
«Великое славословие» полтавского регента Скрыпника вырисовывалось перед слушателями во всем его симфонически сложном переплетении мотивов, оставаясь в то же время свободным от светской фиоритурности, не теряя ярко-церковной окраски своего звукового узора.
«Малое славословие» Аллеманова – славословие лирическое, в этом его своеобразие. И когда в финале славословия прирожденный церковный певец Ульяницкий, не считая Козловского, лучший из всех, кого я когда-либо слышал, певший как птица, – так же легко и свободно, – и контральто Шевченко, сливая свои голоса в один, осиянный и неразделимый, пели дуэт: «…и уста моя возвестят хвалу Твою», я, на своем веку наслушавшийся великолепного церковного пения, думал: «Вот так, вот так в предрассветной небесной вышине пели ангелы в далекую Рождественскую ночь. И если только мне суждено умереть не внезапною смертью, я вспомню это славословие и перед кончиной – вспомню с облегченным сознанием, что я жил не напрасно».
Уже много спустя после кончины Гайдая я попросил одну свою приятельницу-киевлянку, певицу митрополичьего хора Екатерину Павловну Соловьеву, передать Ульяницкому приблизительно то, что я о нем тут написал. В ответном письме (от 17 января 1968 года) она мне сообщила: «Ульяницкий особенно Вас благодарит, а в тот день, когда я передала ему Вашу похвалу, он так пел, что все ахнули! Жаль только, что Вас не было».
Весной 1982 года, в Великий Четверг, Ульяницкий скончался. Хоронили его в Великую Субботу, накануне Светлого Христова Воскресения. Одна киевлянка посвятила ему непритязательные, трогающие непосредственным чувством благодарной любви к отошедшему стихи:
Дорогому Алексею Ивановичу Ульяницкому
Прекратилось прекрасного сердца биенье, Тишина на кладбище и пуст его дом, Сорок дней как одно пролетели мгновенье, И собрались мы вспомнить сегодня о нем. Вот стоял его гроб, со Спасителем рядом, С плащаницей в страстные печальные дни, В храме том, где он был для народа отрадой, Где чудесно звучало его «Воскресни». Он лежит и не слышит напевов любимых, Держит крест вместо нот в охладевшей руке, В облаках голубого кадильного дыма И в весенних цветов белоснежном венке. Тридцать лет он в соборе пропел у престола, И, казалось, за голос тот душу отдашь. Никогда не услышим небесное соло, Никогда не услышим его «Отче наш». Мы хотим, чтоб ему хорошо отдавалось, Чтоб забыл он заботы дневные свои, А для нас только светлая память осталась, Да огонь неземной негасимой любви.25. V.1982. М. Ганжулевич
Из светских композиторов, писавших для церкви, Гайдай больше всех любил Чайковского. «Сейчас готовлюсь к годовщине смерти Чайковского, – сообщал он мне 24.Х.I960 года. – В воскресенье 6 ноября хором будет исполнена полная „Литургия“ Чайковского, которая ежегодно поется в соборе. Гениальный композитор один из первых обратил внимание на нашу церковную музыку. Он влил свежую струю в переложение древних распевов и заставил их звучать по-иному. До сих пор его „Литургия“ остается непревзойденной: ни Рахманинов, ни Иполлитов-Иванов, ни Черепнин, ни Гречанинов не возвысились в церковном пении, как Чайковский, хотя у Рахманинова и есть чудесные церковные образцы. У всех перечисленных композиторов чувствуется какая-то надуманность, сложность, от чего свободен Чайковский, писавший просто, прочувствованно, с непередаваемым лиризмом».
Теплый луч умиления – один из самых животворных лучей, исходящих от православного богослужения, от его возгласов и песнопений. Сколько раз я слышал в московских церквах «Помилуй мя, Боже…» Архангельского, которого Гайдай любил больше, чем кого-нибудь еще из церковных композиторов. Ну что ж, хорошо, приятно для слуха, но – одноцветно, плоско. А Гайдай со своим хором одну музыкальную фразу – «…по велицей милости Твоей» – превращал в радужные переливы звуков: покаянный плач неприметно переходил в мольбу о прощении, а мольба вся была просвечена умилением. Это дождевые капли на солнце, это блаженная улыбка сквозь слезы.
Хор Гайдая обладал одному ему присущим уменьем петь так, что мне казалось, будто это поет моя душа, будто это мои уста «возвещают хвалу» Богу и молят Его очистить меня от беззаконий.
Но такую же покоряющую силу приобретала в его исполнении и молитва соборная.
В 1955 году Владимирский собор как-то особенно торжественно праздновал память равноапостольного князя. И настроение у молящихся создалось светло-праздничное. Накануне за всенощной я стоял внизу, в главном приделе, недалеко от амвона. Рядом со мной сосредоточенно молилась тонкая, стройная девушка в белом платье, подчеркивавшем ее сходство с молодой белоствольной березкой, не украинка по обличью, не украинка, как я вскоре уловил, и по выговору, с большими голубыми глазами, оттененными пушистыми черными ресницами, с прядками русых волос, выглядывавших из-под белого, в горошинку, платка. Читать акафист вышли архиереи и священники. Вышел и владыка Андрий, сидевший до войны, затем, уже при Хрущеве, получивший еще срок по наспех сфабрикованному делу, а фактически за то, что отказался закрыть в Чернигове собор и разогнать монастырь («Я призван насаждать, а не закрывать, – объявил он властям, – а тюрьмой меня не запугаете – я уже несколько лет отсидел, посижу еще»), после низвержения Хрущева досрочно освобожденный и скончавшийся в Печорах, в монастыре, где он, заболевший после второго лагерного срока душевным расстройством, жил на покое. При виде выходившего из алтаря духовенства моя самоуглубленная соседка встрепенулась, из ее огромных глаз брызнули голубые лучи, и она сказала вполголоса, обращаясь к самой себе: «И владыка Симон здесь! И Андрий! И Гурий! Голубчики вы мои! Опять я вас всех увидала!»
Литургию служил патриарший экзарх всея Украины митрополит Иоанн с сонмом епископов и иереев. И вот молодой протодьякон о. Антоний Битковский, – темно-каштановые волосы по богатырским плечам, – обладатель мощного баса с церковным тембром, грянул: «И о всех и за вся». Гайдая словно током ударило: он вздрогнул, взмахнул руками, как крыльями, и хор взметнул отрывающее человека от земли, страшное в своей ураганной силе «И о всех и за вся» Чайковского, «И о всех» – архангельские трубы усиливают звучание слова «всех»; оно грозно, это нарастание, но и утешительно: никого не забывает православная церковь – ни иноверцев, ни безбожников. Мгновенный переход: «и»… – это влился и заглушил архангелов звонкоголосый гимн серафимов; и вновь – но только с удесятеренной мощью, ибо это уже молитва за всякую тварь, за каждую былинку, за все мироздание – грохочет архангельский трубный глас: «за вся». Судорога восторга перехватила мне горло, а затем я услышал рыдание – оно рвалось как бы не из моей груди. Мне стало стыдно, и я сделал вид, что закашлялся.
Я девять лет подряд ездил в Киев ради Киево-Печерской лавры и ради хора Гайдая, иной раз – прямо из Москвы, иной раз давая изрядного крюку: по дороге в Москву из Ялты или из Хосты «заезжал» в Киев и там застревал на месяц. Я уже знал, что Гайдай возвращается из отпуска к Владимирову дню – к 28 июля, – и к этому сроку подгадывал свой приезд в Киев, бросая отдых на юге.
Мое знакомство с Михаилом Петровичем состоялось не скоро, за что мне потом от него досталось: почему я стеснялся подойти к нему и заговорить?
Первое его письмо ко мне (осень 1960 г.), написанное уже после того, как наше знакомство состоялось, начинается так:
«Милый мой Николай Михайлович! Жизнь моя почти окончена. Но на склоне дней знакомство с Вами дало мне огромную радость. Глубоко сожалею, что столько последних лет мы ведь могли видеться и наговориться вдоволь, а судьба-злодейка сделала так, что мы и видели друг друга, но молчали, не были знакомы, и лишь по письмам я мог догадываться, какой чуткий, сердечный человек слушает мое пение».
До знакомства я лишь дважды – в разные годы – писал Михаилу Петровичу письма и вручал их ему лично, но потом старался не попадаться ему на глаза – боялся показаться назойливым. И только летом 1960 года, незадолго до его ухода из собора, меня с ним сдружила Екатерина Павловна Соловьева.
В то лето мы с Михаилом Петровичем виделись почти каждый день, говорили о музыке, о пении светском и церковном, о живописи, о литературе. По его просьбе я читая ему наизусть стихи Ахматовой, Бунина, Есенина, Пастернака.
По внешнему виду – типичный, чистейшей воды украинский интеллигент, с серебряным чубом; глаза у него пытливые, все чего-то ищущие, к чему-то прислушивающиеся, что-то поглощающие, – глаза человека, сущность которого составляет творческое начало. Николай Николаевич Вильям-Вильмонт, встретившись с ним у нас в Москве, отметил, что у Гайдая талант на лице написан.
Церковный певец с малолетства, певший в Софийском соборе у легендарного, упоминаемого в булгаковской «Белой Гвардии», регента Калишевского и скоро сделавшийся его помощником («Строгий был, – вспоминал о Калишевском Михаил Петрович, – чуть что не так – раз камертоном по лбу! Ну, а ко мне благоволил: когда уезжал на охоту, я его замещал»), Гайдай отличался разносторонностью музыкальных запросов. Киевляне мне еще раньше говорили, что на всех мало-мальски интересных светских концертах, симфонических, фортепьянных, вокальных, всегда можно увидеть характерную фигуру Гайдая. Да он и сам отдал дань светскому вокалу: руководил певческими капеллами и хорами, занимался в Украинской академии наук песенным фольклором, воспитал такую оперную певицу, как его дочь Зоя Гайдай. Из разговоров с Михаилом Петровичем выяснилось, что наряду с дирижерством он увлекается пейзажной живописью, пишет стихи.
И на спевке, на которую он меня пригласил, я удостоверился, что к певческому искусству он подходит не только как музыкант, но и как художник и как поэт.
– Я люблю в пении краски, – говорил он мне. Как настоящий поэт, он мыслил образами. Вот он разучивает на спевке к Успеньеву дню концерт Рахманинова
«В молитвах неусыпающую Богородицу…» и так поясняет его певцам:
– Костер разгорается… Буря… Буря… Весь хор на коленях… Слышите, как плачут альты?.. А тут и русская песня, и колокола…
Все время идет работа над дикцией, над правильностью ударений:
– «В молитвах», а не «в молитва», звук х должен быть слышен! Повторяется «Великое славословие» Мясникова:
– Слова! Слова! Я слов не слышу! Интонировать правильно! Против ударений не петь! Что это за «милость Твою»?
Гайдай, как и Холмогоров, не принимал Шаляпина-церковного певца. От Холмогорова я слышал: «Мефистофель – вот это дело Федора Ивановича. А в нашей области он чужой». Гайдай утверждал, что Шаляпин в церковном пении не мог избавиться от театральности. Но это не мешало Михаилу Петровичу давать высочайшую оценку Шаляпину как певцу светскому:
– Шаляпин – мой бог.
И это не на ветер брошенные слова. Гайдай по-шаляпински ненавидел «звучок». Он добивался и достигал, как он выразился в одном из первых писем ко мне (осень 1960 года) «содержательных звуковых ощущений». Именно в сочетании содержательности и чистоты звука видел он свою наиболее характерную особенность и причину своего успеха как интерпретатора и дирижера.
«Бесстрастного, холодного пения, не проникнутого верой в то, что исполняешь, у меня никогда не было», – писал он мне в 1961 году.
А за год до этого:
«Без правды и красоты пустое бесчувственное словоизвержение будет тягостным и потому лишним. Те различные стили, различные веяния, которые существуют во всех искусствах, я стараюсь, насколько могу и умею, осмыслить и найти в них пищу для познания, но не все, конечно, принимает душа, и я каюсь перед Вами, что до меня (может быть, и напрасно) не доходят футуристические и всякие левые веяния, которые теперь парят в искусствах. Этим, вероятно, я обедняю себя, – ведь знать надо, по возможности, все, – но это зависит от моего старого воспитания, основанного на правдивом, понятном и доходчивом искусстве. В живописи я никак не могу понять всех этих кубистов и других фигляров, уничтожающих настоящее искусство. А разве не то же в поэзии и музыке? Бетховен, Глинка и Чайковский всегда будут мне дороже, чем Маяковский, Прокофьев, Шостакович и Стравинский в их левых сочинениях, где различные диссонирующие умствования заслоняют красоту и чистоту мелодии и гармоник. В русской церковной музыке, к счастью, до сих пор не произошло таких острых левых сдвигов, которые бы пошатнули древние церковные распевы. Новые веяния, которые внесли в церковную музыку Чайковский, Рахманинов, Львовские, Гречанинов, Чесноков и др., обновили церковную музыку, внесли в нее свежую струю. Ведь Глинка, Турчанинов, Львов и др. писали в гомофонном, а не полифоническом стиле, господствующем в творениях всех выдающихся европейских композиторов. Древние распевы только выиграли от прикосновения к ним вышеупомянутых композиторов. Бортнянского, – редактировавший его Чайковский опрометчиво назвал его Сахаром Медовичем,[29] переложения древних напевов и многочисленные концерты всегда будут жить в церковной музыке. Лирико-драматический стиль его сочинений, проникнутых большим чувством и хорошо звучащих, всегда будет потрясать слушателей».
О Стравинском Гайдай отозвался так:
– Фокусник, отличный музыкальный фокусник, эксцентрик, но и только.
А о Шостаковиче:
– Слушаешь: как будто все ясно, все прозрачно, и вдруг намутит, намутит… Зачем? Для чего?..
Гайдай не переваривал кривлянья в искусстве, его отталкивало от себя все мелкое, пустопорожнее, крикливое, пошлое.
«Музыка, которою нас балуют радио и телевизор, почти всегда ужасна, – фокстроты… не дают покоя…», – жаловался он в июньском письме 1962 года.
Гайдай любил в церковно-композиторском, да и во всяком искусстве простоту, но только простоту художественную, простоту прекрасную.
Как-то, отпев мое любимое «Великое славословие» Сампсоненко, он передал дирижерство своему помощнику Василию Павловичу Беседовскому и, выйдя на лестницу, столкнулся со мной. Мы с ним тогда уже, не будучи официально знакомы, здоровались. Я сказал Михаилу Петровичу, что в каждом созвучии этого славословия мне видится чистая глубина, ласковое прикосновение тихой волны, смывающей с души налипшую на нее грязь.
Михаил Петрович не возразил мне – он только настойчиво повторил:
– А ведь как просто, правда? Как просто!
Впоследствии я убедился, что в его устах это одна из высших похвал.
В своих воззрениях Гайдай был достаточно широк. Он сочувствовал исканиям, которые производились даже в чуждом ему направлении, если видел за этими исканиями любовь к искусству, а не к собственной персоне.
«Возможно, что я ошибаюсь, – писал он мне, – но в русской музыкальной литературе, кажется, отсутствуют переводы, касающиеся жизни и творчества выдающихся французских композиторов Равеля и Дебюсси. Эти импрессионисты оставили после себя, кроме своих музыкальных творений, и свою переписку с друзьями. Мне кажется, во Франции эта переписка печаталась в журналах, но у нас она неизвестна. Импрессионизм в живописи произвел большой переворот, то же наблюдается и в музыке. Я должен оговориться, что мои главные симпатии принадлежат реалистической музыке, но я не могу не видеть и всей прелести импрессионистских течений. Гармонические, тембровые и полифонические новшества этих композиторов изумительны. Вот и хотелось бы, чтобы у нас печаталась французская музыкальная литература в хороших переводах. Нельзя ли Вам напечатать что-нибудь о Равеле и Дебюсси? Наш Прокофьев считал Равеля одним из значительнейших музыкантов современности. Думаю, однако, что моя просьба все-таки неисполнима. У нас в Союзе идеи социалистического реализма сильны и в нашей музыке – и на всякую музыку иного стиля как бы наложен запрет. А во Франции другое. Вы помните, что писал Ромен Роллан в своем романе „Жан Кристоф“: „Композиторы сидели в поисках новых комбинаций аккордов, чтобы выразить… не все ли равно что. Нового, нового, какой угодно ценой! Они испытывали страх перед „уже сказанным““ (Письмо от 31 октября 1960 года).
В 1962 году Михаил Петрович, баловавший меня добрыми словами («…если бы жил сейчас Доде, – писал он мне, например, о моем переводе „Тартарена“, – он Вас крепко расцеловал бы…»), прочитал мою статью, напечатанную в «Новом мире» – «Перевод – искусство»; в ней я пытался подытожить свои наблюдения над тем неблагодарным родом искусства, которому я полу-вынужденно, полу-добровольно и, по всей вероятности, зря отдал жизнь. В отклике Гайдая есть такие строки: «О звукописи в переводах, которая должна „аккомпанировать (как это тонко сказано!) мысли, чувству, настроению“. Вы, кажется, один из первых сказали свое убедительное слово в своей статье, и мне, как музыканту, дорог Ваш обостренный (тут играет роль Ваша прирожденная музыкальность) слух» (Письмо помечено июнем 1962 года).
Вот этого аккомпанемента, а никак не «красного звучка», добивался Гайдай от своих певцов.
– Пойте так, как будто у вас там, внутри, закипают слезы, – требовал он от них при мне, разучивая концерт Рахманинова.
– Матерь Божья лежит в гробу, а вы кричите?
– Кричать не надо. Это пьяный сапожник кричит, а певец не кричит. С Шаляпиным Гайдая роднило и другое: оба сердились, пылили не от
распущенности, столь охотно приписываемой до сих пор Шаляпину обывателями, любителями пустить сплетню и тешить душу ею, а от повышенной требовательности в первую очередь к себе, а потом и к другим.
– Я ненавижу певцов во время пения – и начинаю любить их после, – признался в разговоре со мной Михаил Петрович.
Однажды во время богослужения Гайдай крикнул провинившемуся тенору:
– Вы мне больше не нужны! Я вас выгоню!
Тут он только пригрозил, а своего самого большого любимца Ульяницкого – было дело – прогонял. В 1958 году на Преображение он напустился на него за то, что тот опоздал к встрече митрополита, и на риторический вопрос растерявшегося и обидевшегося тенора: «Что же, мне уйти?», в запальчивости крикнул: «Да, можете уходить!». Но – милые бранятся, только тешатся. Вскоре Ульяницкий снова появился на хорах Владимирского собора. Сдержанный в похвалах даже тем певцам, которыми он гордился, Гайдай говорил об Ульяницком: «Он хорошо поет, когда молится».
Если же кто-нибудь из солистов или солисток особенно угождал Михаилу Петровичу, он, хотя это и не принято в церкви, после удачно спетого соло с чувством жал им руку. Кстати сказать, солистов он никогда не нервировал, – напротив, всеми доступными ему средствами облегчал им их задачу, оттенял звучание их голосов.
И на спевке он при мне делал замечания не только сердито, но и отечески-ласково, пользовался приемами, к каким обыкновенно прибегают взрослые, когда хотят усовестить малышей, стараясь подействовать на их самолюбие:
– Вы же на целый тон понизили, бесстыдники вы этакие!
– Этот безобразный хор сейчас отсюда уйдет, – дальше будет петь наш хор!
Осенью 1962 года восьмидесятислишнимлетнему старику Гайдаю захотелось во что бы то ни стало побывать в Третьяковской галерее на выставке Левитана («Как можно не любить Левитана?» – говорил он мне), и он махнул на неделю в Москву. В Москве решил послушать хор Матвеева в Скорбященской церкви, что на Большой Ордынке. Я поехал с ним.
Выйдя из храма, Михаил Петрович поделился со мной своими впечатлениями:
– Хорошо поют, стройно, не фальшиво… (Пауза.) Терпеть не могу такого пения.
А у себя на спевке упрекал хористов:
– Вы хорошо поете, правильно, но где же наш хор? Где же артисты? Кто-то из выдохнувшихся певцов буркнул себе под нос:
– Сойдет! Михаил Петрович услышал его и вскипел:
– Что? Сойдет? У меня это не сойдет! Мне нужно художественное пение.
Что понимал Михаил Петрович под художественным пением, это он раскрыл в одном из писем ко мне:
«Я всегда требую от певцов, кроме абсолютной чистоты интонирования, проникновения в смысл и форму музыкальных сочинений. У певцов должен быть, как Вы сами хорошо это знаете, хорошо поставленный голос (если он у него есть, конечно), и, если Вы заметили, мои певцы никогда не поют плоским звуком. Этот звук должен быть всегда сгущенным, округленным, грудным; горловых (козлиных) голосов я, как и следует, никогда не принимаю в хор. Вибрирующих голосов, которые в церковном пении немыслимы, я также избегаю принимать…
Как видите, все эти требования как будто предъявляются везде в музыкальных светских организациях, но церковным певцам надо быть особенно внимательными во время исполнения церковных песнопений, потому что они поют без всякого инструментального сопровождения, которое как-то скрашивает звук и поддерживает интонацию, и потому всегда должны быть начеку и особенно следить не только за своим звуком, но и словом. Петь 3–4 часа без отдыха, не теряя энергии, внимания и безошибочного интонирования нотной партии, при обязательном умении читать ноты, – это страшно трудно даже для выносливых, хорошо тренированных певцов, – вот почему звуковая дисциплина всегда поддерживается суровой, строгой певческой дисциплиной, без чего нет образцового хора.
На динамизацию музыки в церковных песнопениях я всегда обращаю особенное внимание. Ускорение и замедление темпов, насыщенность песнопений живым ритмом дают мне возможность художественно исполнять произведение, иногда и не соглашаясь с ритмическими указаниями автора, а пользуясь интуитивно своим выработанным приемом. Думаю, что это же самое делает каждый вдумчивый исполнитель-дирижер».
Итак, Гайдай не отрицал техники, – напротив, настаивал на ее необходимости, но он умел вдохнуть в технические приемы «душу живу», сделать форму содержательной. Он сердцем, нутром, всем музыкальным своим существом чувствовал, где надо поставить фермату, где надо повысить или понизить тон для того, чтобы создать нужное ему настроение, чтобы умилить или потрясти слушателей. Техника у него не обособлялась, – она его слушалась, она на него не за страх, а за совесть работала, она ему верой и правдой служила. Именно так служит она не стихотворцу, а поэту, который слышит внутренним слухом, какой здесь нужен ритмический ход, какой ритмико-синтаксический повтор, как нужно инструментировать ту или иную строчку. Именно так служит она живописцу, художническим своим зрением видящему, какого еще мазка не хватает картине. Именно так служит она не лицедею, не фигляру, но артисту, которому чутье и опыт подсказывают, где нужно сделать паузу, подсказывают единственно верную интонацию, единственный в своей выразительности жест.
Я не думаю, чтобы Языков, когда писал своего «Пловца» («Нелюдимо наше море…»), – стихотворение, каких немного даже в поэзии русской, – задавал себе задачу: «Сем-ка я для форсу в этой строчке замедлю ритм, а в этой убыстрю, сем-ка я здесь подпущу побольше у, а тут скоплю побольше согласных». Техника у него была, как у пианиста, в пальцах. И, живописуя бурю на море, он безотчетно прибегал к единственно нужным ему в данном случае приемам.
Выше // вал // сердитый // встанет, Глубже // бездна // упадет…Четкость словоразделов при полном отсутствии пиррихиев дает ощущение постепенного подъема волны, а в следующей строке ритм, убыстряясь, рисует быстроту ее падения.
Вот так и Гайдай – и только он один из известных мне регентов – почувствовал, что музыкальная фраза Архангельского: «…по велицей милости Твоей» требует замедленного ритма и повышенного тона, требует не ради «звучка», не ради игры в звук, не для того, чтобы не походить на других, а для того, чтобы выразить все оттенки чувства, в этой фразе заложенного, до времени спящего, как сказочная красавица, пока не разбудит его волшебник Гайдай, и тогда у слушателей задрожит от горестного восторга душа. Это его интуитивно-безупречное владение содержательной формой, это его умение читать музыкальный контекст и подтекст и отличает его от всех слышанных мною хормейстеров, ставит его над ними, это в конце концов и составляет разницу между талантом и гением. (А, кстати сказать, я видел на своем веку четырех гениев: Пастернака, Леонидова, Качалова и Гайдая.)
Влюбленный в приворотную красу Киева и в пение во Владимирском соборе, я переиначил изречение Корана:
Нет города, кроме Киева, и Гайдай – пророк его.Но, видно, и впрямь, «несть пророка в отечестве своем».
Посетившие Киев шведы, придя в пещеры, прежде всего задали водившему их экскурсию о. Иосифу Штельмаху вопрос: «Wo ist Alipi?» А наши «патриоты» пробегали по пещерам ржущим табуном, не считаясь с тем, что их водит иеромонах, не считаясь с тем, что в пещерах находятся богомольцы, прибывшие в Киев издалека и на последние крестьянские гроши, – на языке Хрущева это называлось: «Не оскорбляя чувства верующих», – и даже не подозревая, что здесь покоятся наши предки, составившие нашу – русскую – славу, не сознавая, что если они не испытывают религиозного чувства, – в этом они, разумеется, вольны, – то уж им-то, кстати и некстати склоняющим слово «патриотизм», во всяком случае не мешало бы отнестись с уважением к первым деятелям русской культуры.
Французы, посетившие Киев, записали на пленку всю литургию в исполнении хора Гайдая. Соотечественники Гайдая сделать это не удосужились, не пожелали – и утеряли редкостное сокровище безвозвратно. У насаженных Хрущевым властей предержащих и у присяжных эстетов свое, особое понятие о национальной гордости и свое понимание искусства.
В начале революции председатель Перемышльского исполкома товарищ Здоровенко, «прозаседавшись» на одном из бесчисленных совещаний, простодушно обмолвился:
– Нам не надо душистых буржуазных газет, – нам нужно, чтобы газеты пахли навозом.
Его слова мало-помалу, выражаясь языком нынешних публицистов, «доросли до широких обобщений». Требование, образно выраженное Здоровенкой, да еще критерий, заключенный в поговорке: «Хоть сопливенький, да свой», – вот вам и все наше «учение о прекрасном». Меняются фавориты, но вкусы задающих тон в основе остаются те же…
Первый удар Гайдаю нанесла киевская газетенка «Вечерний Киев», напечатавшая в июле 1960 года клеветон под названием «Спивцы Христовы». Единственное обвинение, предъявленное в клеветоне к хору Гайдая в целом, заключалось в том, что «спивцы» поют, мол, за деньги, а не даром. Какая трогательная забота о церковном достоянии! Особая речь шла об одной певице, которая – о ужас! – совмещала пение в церковном хору с преподаванием пения в начальных классах одной из киевских школ. Это был бы поистине гром не из тучи, а из той самой навозной кучи, о которой мечтал коммунист ленинского призыва Здоровенко, если бы за борзописцами не стояли облеченные властью борзятники и не натравливали их.
Певцы это почувствовали: кто испугался, не отняли бы пенсию, кто испугался за своего партийного мужа или жену – не фукнули бы из партии. А тут еще Гайдай заболел, слег в больницу, потом умчался в Москву на выставку Левитана. Вернувшись в Киев, он поспешил поставить меня в известность, как обстоят дела с хором: «Мне сообщили, что у меня в басовой партии 2 и в теноровой 4 человека. Женщины остались верны и ходят все. В другом письме напишу Вам, во что выльется певческий, конечно, вынужденный саботаж».
Но уже в следующем письме минор сменяется мажором: «Прежде всего, зная Вашу любовь к моему хору, спешу Вас окончательно успокоить: хор процветает… Вы снова услышите и Пекарского и Ульяницкого».
В следующем письме тот же бодрый тон: «Спешу Вам написать о моей радости: хор не распался, окреп, и дело идет у меня неплохо. Радует, что меня останавливают слушатели из Москвы и благодарят за настроение. Из Ленинграда – то же самое».
Я еще летом, в Киеве, просил Михаила Петровича разучить «Блажен муж…» Рахманинова.
17 ноября Михаил Петрович меня извещает: «Я выучил с хором „Блажен муж“ и „Трисвятое“ Рахманинова… У Архангельского есть хороший концерт „Боже, во имя Твое спаси мя“. Это сочинение я тоже выучил, имея в виду Вас».
Подъем длился, однако, недолго, – так вспыхивает пламя костра перед тем, как угаснуть совсем.
Еще в феврале 1961 года доктор технических наук, профессор Борис Васильевич Гольд, приехав из Киева, куда его посылали в командировку, с увлечением рассказывал мне о том, какое впечатление произвел на него хор Гайдая, в особенности – веделевское «На реках» в его исполнении.
– Я всю жизнь буду благодарен тебе за то, что ты велел мне послушать этот хор, – прибавил Борис Васильевич.
А немного погодя получаю от Гайдая короткое, сдержанное письмо. «Больше Вы меня не услышите», – сообщает он…
Осенью 1962 года дочь Михаила Петровича, Народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Зоя Гайдай, неожиданно позвонила мне в мою московскую квартиру, сказала, что хочет меня видеть, и просила приехать к ней в гостиницу «Будапешт».
На сцене я Зою Гайдай не видел, слыхал ее голос только по радио, обворожить он меня не обворожил, но все же я был уверен, что в ней есть хоть что-то от человека искусства, что я увижу родную дочь Михаила Петровича. А увидел я, как говаривали встарь, шматок малороссийского сала: таков оказался и внешний и внутренний ее облик. Кстати, я застал ее прожорливо дожевывавшей это самое пресловутое сало.
Она долго рассказывала мне, как ее вызывали в ЦК КПУ и просили, чтобы она уговорила отца оставить церковный хор. Тут же ей будто бы намекнули, что иначе ее могут не утвердить в звании профессора Киевской консерватории. Она упросила отца уйти из собора, и отец принес себя в жертву. В разговоре со мной Зоя Михайловна все старалась уверить меня в том, какая она завзятая безбожница и как она не любит попов.
Из этого разговора, после которого у меня долго оставалось ощущение, точно я медленно жевал жирного клопа, я не мог не сделать вывода, что Зоя Гайдай не понимает, что такое ее отец, что ради него можно пожертвовать не только профессорским званием, а и кое-чем посущественнее.
…Несть пророка в отечестве своем, и враги человеку домашние его…
Впоследствии, побывав в Киеве, я убедился, что в ЦК Зою Гайдай, по всей вероятности, и не думали вызывать. Эту новеллу она сочинила, чтобы запугать старика-отца. Дело обстояло проще. В Киеве прошел слух, что у церковных дирижеров и певцов будут отнимать пенсию. Кстати сказать, дым оказался не без огня: пенсий не отняли, но налог наложили огромный. Зою Гайдай встревожило, что отец лишится своей тридцатипятирублевой пенсии и ей придется брать его целиком на свое иждивение. Она помчалась к киевскому митрополиту Иоанну, – и вот это уже не сказка, а быль, – и обратилась к нему с вопросом: если, мол, ее отец по состоянию здоровья вынужден будет оставить дирижерство, назначит ли ему митрополит пенсию? Митрополит сослался на существующее в Московской патриархии положение: пенсию от патриархии получают только духовные лица. Тут-то Зоя Гайдай и придумала, что ее вызывали в ЦК, и мольбами и слезами воздействовала на отца. А если б ее действительно вызывали в «высшие сферы», ей нечего было бы делать у митрополита.
После ухода из собора Михаил Петрович поддерживал свое существование чтением книг, а главное, конечно, впечатлениями музыкальными: «Без музыки мне нельзя жить… У моей Зои есть множество иностранных и наших пластинок (оперы, симфонии), и я оживаю, слушая эту превосходную музыку. Много читаю, невзирая на запрещение врачей» (Письмо от 16.III.1862 г.).
Горькое сознание своей отверженности угнетало Гайдая еще до того, как он вынужден был оставить хор.
Вот что он писал мне в письме от 17.XI.1960 года по поводу декады украинского искусства в Москве: «Москва сейчас радушно принимает Украину. Как жаль, что там не могут показать свое искусство и люди, вычеркнутые из жизни, среди которых находится и Ваш покорный слуга. Впрочем, иногда бывает, что ищущие люди, копающиеся в фолиантах старых книг по искусству, неожиданно наткнутся среди них на что-то свежее, крепко запоминающееся. Так случилось, дорогой друг, и с Вами. Несколько лет назад Вы нашли в Киеве такую книгу, и я всегда радуюсь, что Ваш выбор пал, между прочим, и на Вашего слугу. Ваше тонкое понимание церковного искусства меня поразило до глубины души и породнило навсегда с Вами».
Через все письма Михаила Петровича ко мне приходит тоска по любимому делу:
«Слез сейчас нет, но тоска на душе ужасная. Мне кажется (да так это и есть в действительности), что с потерей работы ушли все мои радости и мечты» (1961).
«Жизнь моя за минувшие месяцы не была радостной и благополучной. Потеря того, что давало смысл моему существованию на земле (разумею художественный хор), оставила глубокий след в моей больной душе, я очень страдаю, стараясь все забыть и выбросить из головы, но не так-то легко можно предать забвению тот большой труд, который меня увлекал…» (Письмо от 7-го октября 1961 года).
«…красота страстны è х и пасхальных служб всегда наполняет сердце восторгом. Я с нетерпением всегда ждал то время, когда надо было готовить те чудные поэтические песнопения, которыми так изобилуют страстна è я и пасхальная седмицы. Безумно сожалею, что Вам не пришлось в это время быть в Киеве, мы вместе пережили бы с Вами и Голгофу и радостное Воскресение Христа. Болит душа моя, что все это у меня теперь в прошлом… никогда уже не поднимется рука моя для восхваления Творца.
Признаюсь, я ужасно страдаю без художественной работы, живу только воспоминаниями. Я перечитываю Ваши письма ко мне, где Вы так часто вспоминали о моем хоре, и на душе делается легче, потому что я всегда верю Вам, и дорогое слово Ваше – это золото. Значит, недаром я трудился 14 лет в Соборе…» (Письмо от 3 мая 1962 года).
«Что сказать Вам о себе? Провожу большую часть времени в чтении книг и журналов, и это отвлекает меня от той тоски, которая давно уже давит сердце» (Письмо, помеченное июнем 1962 года).
«Живопись и музыка, которыми я жил и увлекался, ушли от меня далеко, и лишь чтение книг спасает меня от безумия» (Конец июля 1962 года).
Но нет! Конечно, не только чтение книг! Вот что писал мне в октябре 1963 года этот наделенный неистребимой музыкальностью человек:
«Вы помните, у А. Блока есть такие строки:
Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, Молодеет душа.Музыкальный звук всегда владел моей душой, и жить мне без него нельзя… Я всегда ощущаю звуки и мысленно подбираю те мелодии, которые невольно лезут в голову».
В самом деле, кажется, что Блок имел в виду Гайдая, когда писал эти строки. Гайдай, делая первый взмах рукой, молодел у нас на глазах, а вместе с ним молодели и мы. И воспоминание об этом животворило его:
«Жизнь моя течет скучно, однообразно, бывают дни – места себе не нахожу…
Вы обрадовали меня сообщением о возможном Вашем приезде осенью в Киев. Буду Вас ждать с распростертыми объятиями. Если поездка в Киев расстроится, то я постараюсь приехать в Москву. С любовью глядя на Вас, я невольно буду вспоминать те часы, которые мы проводили, отдаваясь хору. О, как ужасно, что я уже стар и не могу трогать Ваше сердце тем искусством, которому отдал всю жизнь! Правда, эта жизнь горько насмеялась надо мною, но величайшим утешением служит мне сознание, что я своим трудом давал утешение многим слушателям, между которыми, конечно, Вы для меня первый и единственный. Меня всегда поражала Ваша трогательная, истовая любовь к церковному пению. Перед моими глазами всегда будет Ваш образ, чутко переживающий все, что Вы слышали у нас. Это такое утешение Вашему покорному слуге, такое счастье для меня, которое уйдет только с моей смертью» (Письмо от 1 сентября 1962 года).
Я не настолько наивен, чтобы полагать, что путь человека за рубежом усеян розами, что тернии и волчцы с него убраны. Но невзгода, посетившая Гайдая, там уже давно не постигает людей. Она отошла в область предания, как рабовладельческий строй. Трагедия русской жизни заключается в том, что к обычным бедам, подстерегающим человека на планете Земля, в Советском Союзе на него дополнительно сыплется град особых, советского изделия, бед…
9 сентября 1963 года я поехал в Киев навестить Михаила Петровича.
Когда я ему начал читать главу из моих воспоминаний «Мудрые звуки», он, услышав эпиграф из Горького: «Церковная музыка в России – гениальна», с надрывом воскликнул:
– Слышите? Слышите? Это ж Горький говорит. Так что же они, сволочи, мне петь не дают?
Плохо жилось Михаилу Петровичу и материально. Дочь, расписывавшая турусы на колесах, когда уговаривала его уйти из хора, оказывала ему скудную помощь. Посылал ему деньги тот, кто в свое время убедил Гайдая бросить «служебную нуду» во Всеукраинской Академии наук и заняться живым делом, – взять на себя управление хором во владимирском соборе, – тогдашний настоятель собора, а впоследствии ректор Московской духовной академии протопресвитер о. Константин Ружицкий, посылал до самой своей кончины. Когда о. Константина не стало, Гайдаю пришлось туго. Уход из собора пагубно подействовал и на физическое состояние Михаила Петровича: он засел у себя дома, потом слег в больницу, и от сидения и лежания его перестали слушаться ноги. Вторая жена его, мачеха Зои Михайловны, Мария Тихоновна, говорила мне: «Я очень люблю Зоечку, но все-таки должна сказать: если бы она не уговорила Михаила Петровича уйти из собора, у него были бы ноги». Марии Тихоновне досталась нелегкая доля – ухаживать за таким больным, но свой крест она несла, по-видимому, далеко не всегда кротко. В письме от 20 февраля 1965 года Катя Соловьева делилась со мной своими впечатлениями от Гайдая: «Жаловался на Марию Тихоновну, что она его часто ругает, так как ей надоело ухаживать. Он мне сказал: „Хотел бы умереть, если бы только кто-нибудь дал яду…“»
А при мне все еще мечтал о дирижерстве. Говорил:
– Мне бы хоть маленький хорик – я бы дирижировал сидя. Весной 1965 года умерла от рака Зоя Михайловна. Эту смерть удалось скрыть от отца.
7 сентября 1965 года Катя Соловьева написала мне:
«Дорогой Николай Михайлович! Считаю своим долгом поставить Вас в известность, что М. П. доживает, очевидно, последние часы.
Находят у него опухоль предстательной железы. Сознание полное, но сердце отказывается работать… Если не трудно, напишите М. П. хоть два слова. Может, еще успеет получить».
Я тут же авиапочтой на имя Кати Соловьевой послал ему письмо, в котором писал только о своей благодарной любви к нему, но оно уже не застало его.
В письме от 25 сентября 1965 года Катя Соловьева сообщала: «6.IX во вторник М. П. отвезли в больницу. Он умер в четверг 9.IX в 3 ч. дня. Кое-кто из певчих, в том числе Пекарский, Ульяницкий, две солистки-сопрано да тенор Ковалевский пришли с венком от хора прямо на кладбище. Многие не пришли, так как в шесть часов надо уже было петь в соборе (это было в субботу), а хоронили в 5 часов. Я предложила спеть „Вечную память“, но его сын запротестовал. Он и так заволновался, когда увидел певцов, спросил: „Вы ничего не затеваете?“ Ульяницкий его успокоил, – пришли, мол, только как друзья, отдать последний долг. Ковалевский не выдержал, сказал несколько прощальных слов, в таком смысле, что М. П. был большим мастером музыки, которую не все понимают и ценят… В воскресенье после обедни Толстой (сменивший Гайдая регент Владимирского собора – Н. Л.), надо отдать ему справедливость, очень красиво спел с хором панихиду по Михаиле Петровиче…» А в письме от 28.VI.1966: «Ольга Константиновна Левкович (поклонница Гайдая) любит Вас за хорошее отношение к Мих. Петр. Она ревностно смотрит за могилой М. П. Родственники и тут себя показали…»
Я как-то написал Гайдаю, что отвожу редкие часы досуга книге своих воспоминаний, и меня особенно увлекает мысль, что я буду писать о нем.
Михаил Петрович приветствовал мой замысел, но с оговоркой: «Только, ради Бога, не вздумайте писать обо мне. В печать я, отверженный, попасть не могу…» (Письмо от 9 ноября 1962 года.)
Я сознаю, что эти строки о нем представляют собой
Только отзвук искаженный Торжествующих созвучий.И все же я счастлив, что написал о Гайдае и, хоть и в отрывках, успел написанное прочитать ему.
Перед смертью Гайдай, берегший, как потом выяснилось, все мои письма, передал их на хранение своему ближайшему другу Ольге Константиновне, которая мне об этом впоследствии сообщила.
Мне отрадно было об этом узнать – ведь я так любил его!..
Ялта, июль 1963 – Москва, август 1982.
Мутное время
Неужели не образумятся все чинящие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа?
Псалтирь, 13, 4… како таковая великая преславная земля… стала в разорении, и такое великое пэрство в запустении…
Новая повесть о преславном российском пэрствеЧто там, вдали? Но я гляжу, тоскуя, Уж не вперед, нет, я гляжу назад.
БунинЯ так устал, я так ищу покоя, Что даже мысль о полной тишине Дороже мне всего земного строя И всех других ясней, понятней мне.
СлучевскийПорой я робею за отчизну любезную. Когда же она вынесет все? Когда же она проложит себе широкую дорогу?
Порой я твержу безнадежные строки Георгия Иванова:
… никто нам не поможет, И не надо помогать.Еще не приспело время для того, чтобы осмыслить все концы и начала, обозначившиеся даже в царствование «Хруща», не говоря уже о царствовании «Бровеносца в потемках», не приспело время для выводов и заключений. Что иссякнет, а что разольется, что завянет, а что расцветет, что угаснет, а что разгорится – определенный на это ответ даст грядущее.
Человека не влечет к себе близкое прошлое. Он живет настоящим, всматривается в будущее и оглядывается на далекое прошлое. Да и сама по себе эта пора не так властно притягивает к себе мое внимание, не вызывает во мне такого мучительно острого любопытства, как пора, ей предшествовавшая.
В одну из встреч я обратился к Николаю Николаевичу Вильям-Вильмонту за разъяснением каких-то событий. Он отмахнулся – сказал, что не понимает их смысла.
– Как же так? – накинулся я на него. – Ведь ты всегда все хорошо понимал!
– А мне надоело понимать нашу жизнь, – отрезал Вильмонт. Мне, грешным делом, тоже надоела сказка про белого бычка. Вот как характеризует Сталина Абдурахман Авторханов в своей книге
«Происхождение партократии»:[30]
«Разгадку удивительных успехов Сталина на путях к его личной диктатуре я нахожу, кроме прочего, в том, что он хирургическими инструментами ленинизма владел лучше, чем их изобретатель…»
«…старый, деспотический, но политический большевизм умер вместе с Лениным. Со Сталиным начинается эра нового, тиранического, но уголовного большевизма».
Авторханов обвел отчетливо видной чертой ту узкую область, где Сталин не имеет себе равных.
Вспоминается «Современная песня» Дениса Давыдова.
Нет, Сталин совсем не огромный человек, и в сравнении со Сталиным те, что, когда он скончал свои дни, полезли из щелей к власти, суть мошки да букашки. И эти мошки да букашки тоже требуют себе поклонения. И мы им кланяемся, но даже не страха ради, а только из корысти и по привычке.
Передо мной – «Литературная газета» от 19 июля 1960-го года. (Пропущенная в номере опечатка: «1950 г.» символична. А может быть, и не случайна?)
В номере девять фотоснимков. На шести в разных позах и с разными людьми запечатлен «Кукурузник». На одном оскалил верхнюю вставную челюсть Федин, по прозвищу «комиссар собственной безопасности», подобострастно глядящий на взяточницу и казнокрадку госпожу министершу Фурцеву. Тут Хрущев пожимает руку Твардовскому, здесь прогуливается с Эренбургом.
Предлагаю вниманию читателей подборку цитат из этого номера.
Из речи М. А. Суслова «За подлинно великое искусство коммунизма!»:
«Пример… твердости, последовательности и неутомимости в борьбе за мир дает нам… вся кипучая деятельность Никиты Сергеевича Хрущева. С любовью и уважением, с искренней благодарностью и восхищением говорят простые люди всех стран об этой благородной деятельности нашего Никиты Сергеевича (бурные, продолжительные аплодисменты)».
Валентин Катаев называет речь Хрущева на встрече с деятелями культуры «замечательно яркой». Турсун-3аде – просто «яркой».
Микола Бажан утверждает, что «замечательное» выступление Никиты Сергеевича Хрущева было наполнено «самой глубокой человечностью и пониманием самых тонких человеческих черт. Оно нас взволновало и вдохновило».
А вот слащавый голос матерого льстивца Исаковского:
«Хочется сказать от всего сердца большое-большое спасибо партии, правительству и лично Никите Сергеевичу Хрущеву за оказанное нам всем внимание, за привет и ласку».
В начале 60-х годов, в Ялте, на приморском бульваре, я и молодой человек, по виду – студент, остановились у стенда, на котором красовался номер «Советской культуры», где Хрущев был снят во всех позах и видах, только что не an naturel.[31]
– Это называется – «партия осудила культ личности», – обращаясь ко мне, сказал незнакомый юноша и, махнув рукой, пошел прочь.
Хрущеву дали по лысине. Не сразу, а поиграв, как и после смерти Сталина, в «коллегиальность», партийная верхушка выпихнула вперед на смену Хрущеву Брежнева. Народ откликнулся и на это событие частушками:
Десять лет лизали жопу — Оказалось, что не ту. Но народ не унывает, Бодро смотрит он вперед. Н аша партия родная Нам другую подберет.И подобрала.
И вот уже Брежнев – «генеральный секретарь». Это сталинское звание Хрущев, ниспровергатель культа личности, присвоить себе постыдился. И опять зажили «по-брежнему»: речи Брежнева, издаваемые массовыми тиражами, сборники его речей, портреты в газетах, плакаты с его физиономией, выражение коей глубокомыслием не отличается, цитаты из Брежнева в речах и статьях, изъявления благодарности «партии и лично товарищу Брежневу…»
Кричали «ура» Сталину.
Кричали «ура» Хрущеву.
Кричали «ура» Брежневу.
«Значит, еще не конец… Значит, дурацкие головы, судьба будет еще хлестать вас по щекам до тех пор, пока не поумнеете…» (В. В. Шульгин, «1920 год»).
Я начинаю думать, что гениальнейшее произведение русской литературы – это «Квартет» Крылова.
Самое важное и самое горько-отрадное событие послесталинской эры – посмертная и прижизненная реабилитация невинно осужденных. Но до чего же мы отвыкли от справедливости! Ведь Хрущев исполнил свой прямой долг, а за это не благодарят. Если б у членов Политбюро было хоть какое-то подобие совести, они должны были бы выйти на Лобное место и коленопреклоненно просить прощения у народов, населяющих Землю Русскую, за все зло, какое они им причинили.
К тому же реабилитация – это было оружие Хрущева в той войне, какую он вел внутри партии, в борьбе за власть, это была для него ступень к трону и – одновременно – наживка, на которую клюнула советская интеллигенция, на которую клюнули и за границей. Кое-кто клюет на эту наживку и по сей день.
Для Хрущева, как и для Брежнева, характерна политика трусливых полумер.
Хрущев не довел реабилитации до конца. За гранью реабилитации остались многие видные партийные и государственные деятели, врачи Плетнев, Казаков и Левин, мнимые «вредители». Хрущев перестрелял верхушку МГБ, представлявшую непосредственную опасность для новой партийно-правительственной верхушки, но не вывел за ушко да на солнышко тьму тем палачей и стукачей. Ведь подумать только: в каждом захолустном районном центришке официальных палачей, палачей в форме НКВД—МТБ при Сталине было не меньше пяти штук. Если устроить над ними суды, то не хватило бы судей. А мы еще имеем наглость драть горло из-за того, что каких-то «военных преступников» за границей до сих пор не выловили, не притянули к суду, судили слишком, по нашему мнению, мягко, досрочно выпустили. Уж чья бы корова мычала…
При Ильиче номер два начали выпускать за границу, но – выборочно и ставя бесчисленные палки в колеса.
Массовые аресты со смертью Сталина прекратились, но аресты, ссылки, концлагеря как меры пресечения и наказания для «политических» Хрущев не отменил. При нем было на скорую руку сляпано несколько судов над черным и белым духовенством. При Брежневе «филандропы» тоже не дремлют. Время от времени варганятся суды над интеллигенцией. Архиепископа Калужского и Боровского Ермогена за смелые письма патриарху Алексию о положении православной церкви в СССР и за борьбу против закрытия церквей в его епархии духовные власти по указке светских заточили в Жировицкий монастырь.
Брежнев проявил себя новатором в пенитенциарной системе: при нем стали сажать инакомыслящих в «психушки». Ну чем не гуманизм? Не тюрьма, не каторга, а психиатрическая лечебница!..
Сталин устраивал в «странах народной демократии» («социалистических» тож) путчи со смертной казнью через расстреляние и через повешение. Хрущев двинул против венгерских женщин и детей танки. Брежнев совершил разбойничье нападение на Чехословакию.
По-прежнему мы «суем свой нос в чужой вопрос». Отлаживаем и обеспорточиваем свой народ, оказывая «бескорыстную братскую помощь». Но в «братьях» мы с течением времени наживаем себе злейших врагов. Наши происки сплачивают антикоммунистов и вызывают их яростное противодействие. Еще неизвестно, пришел ли бы Гитлер к власти, если б мы, следуя ленинской теории «слабого звена», не поставили ставку на революцию в Германии и не начали там шебаршить. Национал-социалистов выдвинул на арену истории не только глупо бесчеловечный Версальский договор, но и угроза коммунистического нападения.
По-прежнему мы стараемся околпачить правительства свободных стран, и время от времени нам это удается. Мы шумим о разрядке напряженности, о нашем «миролюбии», и под «миролюбивый» этот шумок отхватываем то Кубу, то Вьетнам, то Анголу, «…не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы» (Псалтирь, 34, 20).
При Сталине оплевали, исключили из Союза писателей, долго не печатали и морили голодом Зощенко и Ахматову. При Хрущеве учинили многодневное поругивание Пастернака и наказали и его исключением из Союза и временным отсечением от литературы. При Брежневе перестали печатать, исключили из Союза, долго травили, потом выслали за границу Солженицына.
По-прежнему выбрасываются бешеные деньги на строительство никому не нужных сооружений. Текут каналы и реки, потом замирают.
Прокладываются железные дороги, вроде Байкало-Амурской (БАМ’а), как когда-то прокладывался Турксиб (Туркестано-Сибирская железная дорога). А кому на пользу? Пока – собирателям фольклора:
Там, где раньше тигры срали, Мы проводим магистрали.Страна оскудевает. Люди излодырничались, огрубели. Корни этого явления – в 18—21-м, в 30-х, в 41–45 годах. Красный террор первых лет революции, коллективизация и раскулачивание, натиск на религию, ежовщина, эпоха Великой Отечественной войны, которая в тылу была эпохой великого взяточничества и воровства… Мошкам и букашкам не под силу остановить экономический и духовный распад, не под силу, да и не охота, – «после нас хоть трава не расти». «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон человечества», – утверждает в «Идиоте» Достоевский. Из нашего свода законов этот закон выпал.
Мне противно ходить по московским улицам.
Шульгин пишет в «Днях»:
«…отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность „великой русской революции“.
«Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в думу все новые и новые лица… Но сколько их ни было – у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное…»
Как в Государственной думе после Февральской революции, лица на улицах сливаются зачастую в одно – безликое и безличное. При Сталине преобладало «гнусно-дьявольски-злобное». И тогда мою душу заливал страх. Особенно охамел московский люд при Хрущеве (каков пастырь, таково и стадо; Сталин был людоед», как он выражался, но – снаружи – не хам), и теперь на улицах преобладает лицо «гнусно-животно-тупое». И душу мою заливает отвращение.
В начале революции в партии и в комсомоле были люди, хотя в большинстве малограмотные, но убежденные – я знал таких людей. Теперь туда прутся шкурники – ради карьеры, ради квартир, ради снабжения и занимают должности не по уму, не по способностям и не по культурному уровню. Они расползлись всюду, как тараканы и клопы. Еще в 20-х годах пели:
Большевики теперь везде: В губсовнархозах, Во всех совхозах, Во всех ячейках РКП.Величайший русский пророк Достоевский, видя будущее до мельчайших подробностей, предрек в «Бесах» те правительственные дачи-дворцы, и машины, и жратву до отвала. «Почему это… шепнул мне… Степан Трофимович… все отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники…»
Русский народ и встарь приближался порой к пределу духовного вырождения. Пешему и конному не было проходу от лихих людей, от шишей. Нынче в лесах и на шоссейных дорогах шишей поубавилось, но зато шиши теперь всюду. Шиши занимают посты первых секретарей ЦК и разворовывают целые республики, их жены берут взятки только бриллиантами. Шиши стоят во главе министерств. Шиши стоят во главе редакций журналов. Шиши в модных костюмах возглавляют отделы в издательствах и вставляют в планы книги за взятки. Шиши возглавляют факультеты высших учебных заведений и за взятки принимают студентов, делясь с подчиненными. Шиши в белых халатах ведают отделениями больниц и за взятки кладут больных на исследование, за взятки помещают в однокоечные и двухкоечные палаты, за взятки делают операции, за взятки оказывают помощь больным сиделки (бесплатное здравоохранение в Советском Союзе – это сказка для детей). Шиши облепили торговлю. Шиши – в магазинах, шиши – в палатках, шиши – у лотков. Они пускают товар «налево», будь то кремплен, икра или однотомник Булгакова. Обмеривают и обвешивают нагло, как и не снилось толстопузым купчинам. Шиши-фармацевты за взятки отпускают лекарства. Вам не продают, а «делают», «устраивают», вы не покупаете, а «пробиваете», «выбиваете» и «достаете». «Баш на баш», «я тебе, а ты мне» – на этом строятся у нас деловые отношения.
Недаром, когда наша правящая партия получила название «ВКП(б)», народ расшифровал его (голь хитра и на выдумку, и на горькую шутку): «Воры, Казнокрады, Проститутки (бляди)», ВСНХ – «Воруй Смелее Нет Хозяина», ГУМ (Государственный Универсальный Магазин) – «Грабь Умело Москву».
Впрочем, нынешние шиши ходят и с топорами.
Ученики Полянской школы Перемышльского района под руководством директора школы Левашкевича насадили лес.
12 января 1975 года Левашкевич писал мне:
«В нашем школьном лесу хищнически вырубили и украли около 300 елок, а в Калуге, недалеко от памятника Циолковскому, хулиганы срубили голубую ель и утащили».
В Москве полным-полно модников и модниц, щеголей и щеголих. А в магазинах очереди и за предметами первой необходимости, и за всякой косметической чепухой. Так в Москве. А что же в провинции?..
Еще в 29-м году наши газеты орали: «Ликвидируем „хвосты“, ликвидируем очереди!» А воз и ныне там. И газеты уже не орут.
11 декабря 1964 года Григорий Владимирович Будилин писал мне из Комсомольска-на-Волге (ныне – Тольятти) Ставропольского района Самарской (Куйбышевской) области:
«У нас перебои со снабжением молоком, молочными продуктами и мясом. Я ежедневно „при звездах и при луне“ иду в очередь и часов в 9 получаю 2 литра молока. Раньше молоко отпускали одною посудиной 1 литр, а теперь „умные головы“ приказали отпускать „через автомат“, который работает в два с лишним раза медленнее ручной продажи».
За последние годы положение с продуктами в стране резко ухудшилось, даже в «образцовой» Москве.
Моя тетка, Софья Михайловна Любимова, писала нам 15 ноября 1962 года из Новинской больницы (Малоярославецкий район Калужской области):
«Живем мы потихоньку. Вспоминаем, грустим… Грустим о прошлом, о тех, что были и ушли навеки. Грустим и о настоящем. Здесь окрестные деревни опустели. Вместо большого Нового Села осталось 10 полуразвалившихся домишек, а в них одни старики. Вместо Большой Крапивны три разваленных домишки с древними обитателями и т. д. Осенью на уборке урожая работали школы, и к октябрю ребятам не выставили отметок, они не учились.
В больнице на место служащих, ушедших весною, никого нет, молодежь не идет работать в деревню».
И до сей поры урожай собирают сельские и городские школьники, студенты, преподаватели, редакторы, инженеры, парикмахеры… Каждую осень горожан «посылают на картошку».
В 64-м году мы с женой навестили Новинку, и нам в глаза отовсюду глядело с какой-то печальной и строгой укоризной, как будто во всем виноваты мы, запустенье.
Мы заблудились по дороге в Новинку, потому что я не нашел целой деревеньки. Днем по больничному двору, в былые времена – оживленному, почти никто не ходил, не было слышно голосов сиделок, прачек, кухарок, дворников. В больнице почти никто не лежал – местное население вымерло или выехало.
Мы пошли в лес. Позарастали стежки-дорожки. Кому и куда ездить? Кому ходить по ягоды, по грибы?..
Когда попадаешь в наши захолустные городишки, кажется, что они погрузились на дно – только не морское, а водочное.
Что осталось у меня в памяти от Борисоглеба, где я побывал в июле 66-го года, помимо неповторимой красоты его обители (каждая русская обитель красива по-своему) и живописности его местоположения? Клозетная вонь из бывших келий и беспомощно болтающиеся ноги двух пьяниц, которых среди бела дня везли в коляске милицейского мотоцикла.
Во Владимире есть улица Сунят-Сена, улица Красного Профинтерна.
А посетители владимирского ресторана «Заря» натощак дуют коньяк с пивом.
В Калуге мы с моим сыном Борей ходили на могилу моей матери, его бабушки, похороненной на Пятницком кладбище.
Возвращаемся. На главной дорожке, напротив изуродованной церкви, двое пьянчуг. К одному из них подбирается на цыпочках женщина и все норовит ударить его, но он вовремя оглядывается, и она отбегает. Наконец она подкралась и – трах его по заднице! – к великому удовольствию регочущих зрителей. Пьянчужка припустился было за ней, но его плохо слушались ноги, а она, – по-видимому, дражайшая его половина, – была такова!..
На глазах у моего сына блеснули слезы:
– Что если бы это увидел Бунин? Он бы вернулся во Францию!
В Перемышле моего сына ожидали такого же рода впечатления.
Пошли мы с ним на кладбище. Среди могил расположились лица обоего пола – выпивают и закусывают. В Завершье – белым днем – посреди улицы валяется упившийся. В мои перемышльские времена я такого «пейзажа и жанра» не видел.
Пока мы с Борей ходили по Перемышлю, он время от времени с горестным недоумением поглядывал на меня. Я читал в его глазах: «Что же ты мне плел небылицы про Перемышль? Ни одного интеллигентного лица. На месте древних храмов – развалины, бесформенные каменные громады».
Перемышль утратил цельный облик уютного уездного города. Магазины со стеклянными витринами и дверями и высокие дома соседствуют с лачужками.
В 66-м году мы с женой побывали в Юрьеве-Польском. Там бросились нам в глаза вывески: «Магазин-салон», «Весна» и, конечно, не «Мастерская по ремонту телевизоров», а «Ателье». Но на всех его улицах нас преследовал запах куриного и гусиного помета, из коего образовался бордюр вокруг Георгиевского собора.
«Идиотизм деревенской жизни» у нас в полном расцвете, но то и дело натыкаешься и на идиотизм жизни городской.
«Ресторан закрыт на обед» – это ли не идиотизм?
В Калуге, на радость гуляющим в Городском саду, наконец-то оборудовали подземную общественную уборную. Бодрым шагом направляюсь к ней. Увы! «Санитарный час»…
Драки со смертоубийствами – явление бытовое в градах и весях.
Будилин писал мне 4 января 1975 года: «Дочь часто меня ругает за то, что я сражался за Советскую власть. Пьянство, воровство, убийства (в Куйбышевской области число расстрелов за убийства рекордное)…»
Из Перемышля Левашкевич писал мне в сентябре 1974 года: «Пьянка „процветает“ и среди молодежи. Некоторые еще и работать не научились, а уж надо посылать на принудительное лечение, многие теряют здоровье, немало случаев смертельного исхода».
А в ноябре того же года: «За неполный этот год 16 здоровых мужиков умерло от вина, пьют здорово и женщины… Всякие празднества превращают в страшную пьянку, следствием чего бывают драки и убийства… Как же все изменилось, где же та молодежь, которая увлекалась литературой и не помышляла о пьянке? Где же наши любительские кружки, которые с таким увлечением ставили спектакли, устраивали литературные вечера? По-видимому, телевизор, кроме положительной роли, имеет и серьезные отрицательные стороны. Люди стали меньше общаться, меньше читать, меньше думать. Времени у людей стало мало, все тянет телевизор, а там порой такая программа, что польза от нее сомнительна».
Первое мая 64-го года. Москва.
В трамвай номер пять ввалились полупьяные парни – с гоготом, с матом. Походя сбили с головы сидящего пассажира шапку. На следующей остановке, не взяв билетов, сошли.
Вагоновожатая:
– Молодежь совсем совесть потеряла. Пожилая женщина, обращаясь ко мне:
– Да, ищи совесть у теперешней молодежи! Она ее в детстве с соплями проглотила.
Трудно доискаться у теперешней молодежи и стыда. Один вид голубовеких девиц в «мини» «до полного опупения», посиживающих в обнимку с кавалерами-лохмачами на лавочках в скверах и залихватски пускающих изо рта сигареточный дым, может привести в отчаяние. Глядя на родителей, пьют школьники и школьницы. Ученицы старших классов беременеют, делают аборты.
Так-то оно так… Вот полежал я в 1975 году в хирургическом корпусе 52-й Московской городской больницы и увидел молодежь мыслящую и отзывчивую. Первое время я ни глазам, ни ушам своим не поверил. Ни одного не то что похабного, а просто грубого слова… Все мои «сопалатники» были на ногах, один я лежачий больной. И как же заботливо они за мной ухаживали, с какой безотказной готовностью исполняли мои просьбы, которыми я, нервничая, докучал им!
И все это были не рафинированные интеллигенты, а шоферы, электрики и простые рабочие. Нет, добро не стерлось с лица нашей земли, как мне казалось иной раз, когда я шел по московским улицам, ехал в метро или заходил в магазин.
А сколько юношей и девушек дорвалось теперь до Достоевского! Молодежь простояла у книжных магазинов несколько ночей кряду, чтобы подписаться на полное собрание его сочинений. Невежественное наше начальство проглядело «вредность» Достоевского – проглядело потому, что не читало его, во всяком случае не читало его записных книжек, относящихся к «Бесам», хотя они были выпущены у нас отдельным изданием в 35-м году. Когда вышел том собрания с материалами к «Бесам», начальство спохватилось, да поздно. Хотели было прихлопнуть издание – посыпались возмущенные письма читателей, поднялся шум за границей – пришлось пойти на уступки. Как посравнить да посмотреть… Как вспомнишь рассказ Леонида Петровича Гроссмана о студентке, которую в 30-м году вышвырнули из вуза за то, что она решила специализироваться по Достоевскому; как вспомнишь замечательного собирателя грамофонных пластинок, киевлянина Сергея Николаевича Оголевца, который рассказывал мне, что в Киевском университете ему в 20-х годах не дали заниматься Достоевским и он ушел из университета и весь отдался своей страсти к коллекционированию грамофонных пластинок: «Иначе я бы задохнулся от тоски и от злобы», – добавил он… Как вспомнишь Андре Жида, в 36-м году побывавшего в СССР, обратившего внимание на то, что советская молодежь не читает Достоевского, и в своей книге «По возвращении из СССР» писавшего о том, что то ли сама молодежь отшатнулась от Достоевского, то ли ее отшатнули… Как вспомнишь – нет, все-таки посветлело! Дорвалась молодежь и до русских философов-идеалистов XX века. Не говоря уже о времени Сталина, когда за коллективное изучение Владимира Соловьева студентов отправляли в концлагерь, а у многих недоставало любознательности почитать даже тех, кого свободно выдавали в университетских и институтских читальных залах (того же Достоевского, дореволюционные и послереволюционные советские издания Бунина), ибо наши граждане еще на школьной скамье приучались познавать «от сих и до сих» только то, что учителя отмечали им ногтем, но и в 50-х и даже в 60-х годах такой стремительностью марксистско-ленинскобежная сила не обладала.
Благодаря работам Лихачева и его школы, благодаря работам Лазарева и поэта в искусствоведении Алпатова пробудился интерес к культуре древней Руси, к житиям, к тем, чьи жития вдохновляли агиографов, к самим агиографам, к искусству древних живописцев и зодчих. Молодое поколение ощутило под ногами почву. Слово Родина постепенно очищается в его глазах от налипшей на него газетной и лозунговой грязи, в нем просыпается национальное самосознание, вытравлявшееся у нас с 17-го и до середины 30-х годов. Вот откуда его тяга к славянофилам, в частности – к Хомякову, полное собрание стихотворений которого наконец-то у нас издали, вот откуда его увлечение «почвенником» Аполлоном Григорьевым, и к избранным статьям, и к почти всему поэтическому наследию которого тоже не так давно получил доступ более или менее широкий читатель.
Молодое поколение открыло для себя Флоренского, и его образ – образ священнослужителя, мыслителя, математика, физика – способствовал тому, что теперь многие из трудящихся в области точных наук, в области техники куда лучше чувствуют и понимают литературу, живопись, архитектуру, театр и музыку, нежели многие «гуманитарии».
Нет, бегут, отовсюду бегут вешние воды. То уйдут под снеговую глыбу и там чуть слышно булькают и урчат, то вырвутся на волю и разольются с широким, шумным и задорным плеском.
Языки развязались. Идет «треп» везде – в больницах, в домах отдыха, на вечеринках. Ругают не «лично товарища Брежнева», хотя и про него рассказывают анекдотики, а «систему», и уж зато ее ругают всласть, как ругают и предшественников Брежнева.
Я лежал в больнице имени Склифосовского в 61-м году. В круг тем, избиравшихся больными для разговоров, политика тогда не входила.
Из разговоров, слышанных мною в больничной палате в 75-м году:
– Коммунизм построить нельзя. Что нам говорят и пишут – это все брехня, – решительно утверждает молодой электрик.
– Отсутствие безработицы рано или поздно нас доконает, – говорит инженер.
– Вот в газетах все ехидничают по поводу того, что убийцы Кеннеди так до сих пор и не найдены. А почему же нам до сих пор не сказали, кто убил Кирова?
Это говорит полковник – «отставник», коммунист…
В писательском санатории «Малеевка» старший редактор отдела литературоведения и критики издательства «Художественная литература» в скобках замечает:
– Ленин и Сталин – одна сатана. Былые кумиры рухнули. Обломки валяются в грязи. От их имен тошнит, особенно – молодежь.
В августе 68-го года иду с Переделкинского кладбища – побыл у могилы Пастернака.
Поравнялся с двумя стариками, как можно предположить – «старыми большевиками» – ведь тут неподалеку их комфортабельная «богадельня». Спрашивают меня, всегда ли была высокая ограда вокруг патриаршего дома или это он сам так огородился.
– Не знаю, – ответил я. Один из стариков:
– Правду Ленин говорил, что с религией никакого мира и соглашения быть не может.
Мимо проходит молодой человек, по виду – техник или инженер, с грубоватым, но приятным, открытым лицом. Услыхал эти слова – не выдержал:
– А, идите вы на хрен с вашим Лениным! В эпоху Сталина я при моих детях частенько напевал:
Зиночка с корзиночкой ходила по грибы, Спутала дороженьки – попала не туды.Мой маленький сын, увидев в сберкассе на Тверской огромный портрет Ленина и Сталина, во все горло запел свой вариант:
Ленин и Сталин ходили по грибы, Спутали дороженьки, попали не туды.Мать – скорей его за руку и опрометью на улицу. Вспоминается давний анекдот. Один человек спрашивает объяснения у другого:
– Что такое правый уклон?
– Это – лицом к селу.
– А левый?
– Это – лицом к городу.
– А генеральная линия?
– Ну, а это ни к селу, ни к городу.
Чехов в письме Плещееву от 14 мая 1889 года употребил выражение: «Измошенничавшийся душевно русский интеллигент среднего пошиба». Что бы он сказал теперь? В наши дни особенно измошенничался интеллигент не среднего, а высокого пошиба. И еще неизвестно, кто кого перемошенничал: «ретроград» – «либерала» или же «ретрограда» – «либерал». У нас давно уже «смешались шашки». Снова обращаюсь к «Современной песне» Дениса Давыдова:
Всякий маменькин сынок, Всякий обирала, Модных бредней дурачок Корчит либерала.Театр «Современник», когда им управлял Ефремов, поставил при Хрущеве (самое время!) антирелигиозную пьесу Тендрякова «Без креста». «Новый мир» Твардовского устами «либерала» Лакшина расхвалил громилу в юбке Усиевич.
…А все-таки при Ленине и при Сталине такой человек-событие, как Солженицын, был бы невозможен.
И все-таки никто, кроме Твардовского, его бы не напечатал. И об этом тоже забывать нельзя.
Русский интеллигент высокого пошиба спокон веку особой тонкостью художественного вкуса не отличался. Он увлекался Бенедиктовым, а не поздним Пушкиным, Игорем Северянином, а не Сологубом. В наши дни безвкусица – стихийное бедствие. Какие танцы-плясы устраивались еще недавно вокруг Евтушенко и Вознесенского! О такой популярности могли бы мечтать в свое время Есенин и Маяковский. Маяковский в поэме «Во весь голос» в изнеможении от тягомотины учеников Сельвинского, «констромольских» графоманов, чертыхнулся:
Кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки — Кто их, к черту, разберет.Мне же хочется сказать:
Горлопаны Евтушенки и кривляки Вознесенки — Кто их, к черту, разберет?Слава Богу, теперь танцы-плясы как будто слегка приутихли. Публика приступом брала места на спектакли уцененных Мейерхольдов, которых словно имел в виду Лев Толстой в беседе с Гольденвейзером: «…когда нет настоящего таланта, и начинают стараться во что бы то ни стало сделать что-то новое, необыкновенное, тогда искусство идет к чертовой матери».[32]
Кажется, никогда еще в России не была столь всевластной мода. Ну как не прочитать «Мастера и Маргариту», если о нем говорит весь советский бомонд? Что «Мастер и Маргарита» требует хотя бы поверхностного знакомства с Евангелием – это нам невдомек. Пусть мы ни бельмеса не поймем в романе, но признаться в том, что мы его не читали? Да ведь нам же бросят самый для нас страшный упрек – в том, что мы отстали от жизни. А что при обсуждении романа мы оскандалимся – это нам как с гуся вода.
Одна дама, издательский редактор, спросила меня:
– Булгаков в Понтии Пилате вывел Сталина? Да, пожалуй, таких горе-интерпретаторов «Мастера и Маргариты» большинство. А зато настоятель храма «Николы-в-Кузнецах» Всеволод Дмитриевич Шпиллер рассказывал мне, что нередко на его вопрос, обращенный к желающим креститься юношам и девушкам, что послужило первым толчком к их богоискательству, следовал ответ:
– «Мастер и Маргарита» Булгакова. Погибшим древностям русским несть числа – погибшим, главным образом, не от руки немецких варваров, а от руки варваров советских.
Вот что писала мне из Калуги 27 июня 1976 года моя знакомая, до сумасшествия влюбленная во всяческую калужскую старину, Генриетта Михайловна Морозова о Лютиковом монастыре XVI века, который я упоминал в главах о моем детстве:
«Остался в чистом поле небольшой пригорок с грудой камней, кустиками сирени, в некоторых местах остатки крепостной стены.
Видно, там поработал экскаватор: рядом с ямой, из которой выгребали песок, рассыпаны человеческие кости, черепа и две надгробные плиты XVII–XVIII вв. На одной ясно читается: «Стольник Петр Севастьянович Хитрово». По энциклопедии – братья его жили на рубеже XVII–XVIII вв. А Богдан Матвеевич Хитрово был вкладчиком этого монастыря».
Что-то все еще гибнет, придя уже в полную ветхость, что-то «рухают» неумелые реставраторы – напомню трагический конец перемышльского Успенского собора. Раздражают стада туристов, мчащиеся по Новгородам и Суздалям. Раздражает помешательство советских нуворишей на собрании древних икон. И все-таки собирать иконы – даже для того, чтобы похвастаться коллекцией, даже для того, чтобы угнаться за модой, даже для того, чтобы вложить в них падающие с невероятной быстротой деньги, – лучше, чем жечь иконы, как жгли их в 30-х годах. Лучше неумело реставрировать храмы, чем взрывать их. Пусть лучше носятся стада туристов. В стадах найдутся любители. А любители, глядишь, со временем станут знатоками. Иные мне признавались, что от любви к иконописи они приходили к Богу.
Оскудение охватывает все области жизни в Советском Союзе. Редеют леса. Мелеют и загрязняются реки. Убывает зверье. Убывает рыба. Ощущается нехватка сырья, топлива, электроэнергии, продуктов, воды. Начальство сверху донизу хозяйничает, заботясь о том, чтобы хватило на его век, а «после нас хоть потоп». Крафт, герой романа Достоевского «Подросток», рассуждает так, словно живет в России Брежнева: «…безлесят Россию, истощают в ней почву… Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России, все живут только бы с них достало…»
Если бы Ал. Конст. Толстой писал «Историю государства Российского» в наши дни, он изменил бы ее припев («Земля наша обильна, Порядка в ней лишь нет»), ибо в нашей земле уже не просто нет порядка, а везде сплошной беспорядок, и сама земля давно перестала быть обильной.
Духовно измельчал народ. Пали нравы. Очерствели, ожесточились сердца. Обеднела живопись. Обезобразилось зодчество. Захудала литература. Обнищал театр. Искривлялись режиссеры. Замирают музыка и пение.
Количество писателей растет неуемно. Но тут закон диалектики подкачал: количество в качество не переходит.
Довоенный анекдот: в Москве по Лаврушинскому переулку идет приезжий, останавливается против самого высокого дома и спрашивает первого встречного:
– Что это за дом?
– Это дом писателей!
– Хм! Такой дом, а читать нечего… Теперь писатели занимают в Москве целые кварталы, а читать почти
нечего.
Но то анекдот, а вот – из действительности… Перед открытием Первого Всесоюзного съезда писателей (1934 год) в Колонный зал Дома Союзов вошел Андре Мальро и, обведя глазами собравшихся, в ужасе воскликнул:
– Mon Dieu! Et tout sa ecrit? (Боже! И это все пишет?)
Побывал бы он на послевоенных съездах – не так бы еще устрашился.
А читать, и правда, почти нечего.
Управляют «творческими союзами» и театрами чиновники ищущие и не пишущие, играющие и ставящие и не играющие и не ставящие, малюющие и не малюющие. Одни других стоят. Настоящая литература упразднена за ненадобностью и даже за вредностью ее для партии и правительства, а вот департаменты, именующие себя «творческими союзами», джунглеобразно разрослись. Ведь нужно же кому-то надзирать за писателями, а то как бы, не ровен час, не завелась крамола, нужно встречать и провожать заморских гостей, послеживать за ними и пытаться заморочить им головы, нужно вытаптывать смелые таланты, вдруг, несмотря на холод и зной, кое-где вырастающие, наконец, необходима кормушка для первых секретарей, для членов секретариата и для секретуток.
«Если человек присасывается к делу, ему чуждому, например, к искусству, то он, за невозможностью стать художником, неминуемо становится чиновником», – писал в дневнике Чехов.
По бессмертному определению проживавшего одно время у нас немецкого поэта Франца Лешницера, Союз советских писателей это «Союз пузателей и пивателей».
Тяжкие годины на Руси бывали, но на выручку народу приходили Александр Невский, Сергий Радонежский, Минин и Пожарский. Кого-то Бог нам пошлет теперь?..
Да, мы живем в мутное время. Пожалуй, в более мутное, чем когда бы то ни было. Но в этой мути все-таки что-то проясняется. В этой смуте улавливается стремление к согласию – пусть пока оно четче проступает в отрицании, чем в утверждении. В этой жути уже не так страшно.
«Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?»
«Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются».
Москва, август 1976
Послесловие
… разве вся жизнь моя не стоит благодарности?.. разве прекрасная жизнь тех прекрасных душ, с которыми встречалась душа моя, не вызывает благодарности?
Гоголь (Из письма к С. Т. Аксакову от 6/18 августа 1842 года)Годы идут. А мечты не отлетают. Только с годами они – смирней и скромней.
Хорошо бы поехать в края незнаемые и долго смотреть в окно автобуса, как расстилается исчерна-фиолетовый, цвета моря в грозу, гудрон.
Хорошо бы побродить по вечерним улицам нового для меня города с фонарями, похожими на крупные ландыши.
Хорошо бы побродить по зимнему хвойному лесу в погожий день, когда верхушки сосен, облитые солнечным светом, издали напоминают верхушки осенних пожелтевших лип.
Посмотреть бы еще хоть разок на высокое украинское небо! (Первое, что поразило меня, когда я выходил на станциях по дороге в Киев: безоблачный небосвод все выше и выше.)
Хорошо бы постоять в Калуге на самом верху бывшей Никитской улицы и посмотреть вдаль. Ее крутого спуска к Оке и самой Оки не видно. Виден только противоположный берег реки. И кажется, будто улица с ее асфальтом и городскими строениями вырывается прямо в поле. Но только теперь противоположный берег застроен, и красоты уже нет.
Хорошо бы побывать в стране детства, когда все дома кажутся высокими, а все взрослые умными.
Теперь, когда жизнь пошла под уклон, я особенно живо чувствую, как я был счастлив и в детстве, и в юности, и в зрелые годы. И каждая мелочь той жизни теперь – на расстоянии – разрастается в событие.
Я благодарен моей матери, всем моим родным по крови и духу, всем, кто обогащал меня знаниями, возвышал мою душу, украшал мою жизнь, протягивал мне руку помощи, подавал пример добротолюбия.
Сны мне, за редким исключением, не запоминаются, кроме тех, что повторяются время от времени, как темы в музыке.
А вот этот сон я видел только раз, в ледяных потьмах начала пятидесятых годов, и с тех пор он с моей памятью не разлучается.
Я еду по Москве. Позабыл – на чем.
Сперва – по Мясницкой. Потом вылетаю на Лубянку. Проезжая площадь, я напряженно смотрю прямо перед собой. Я боюсь посмотреть направо. Это – отражение яви: тогда я близко не подходил к Тайному приказу и не глядел в его сторону. Мчусь дальше, сворачиваю на Красную площадь. Вдоль кремлевской стены мечется нечисть. Чудища и уродцы пляшут дикую пляску, дерутся, визжат. Стоило мне показаться – и они ощеривают на меня клыки. Я благополучно пролетаю мимо них вниз, к реке.
… Тут провал в сонном сознании… И вот уже внутреннее зрение бодрствует вновь.
… Я один среди родного и такого простого простора, который унесешь с собой и в иные миры.
Проблескивающая сквозь ивняк речка, а за нею – луга, лесистые холмы, перелески, овраги, села с белыми колокольнями, взмывающими в небесную синь.
Я чувствую, что кто-то на меня смотрит. Оглядываюсь – и в тот же миг узнаю.
На пригорке стоит тот, кто от юности принял в свою душу Христа, кто одолевал врагов видимых и невидимых издали, вблизи и внутри себя, кто напомнил русским людям в пору нашествия иноплеменников и междоусобной брани, что образ Пресвятой Троицы есть образ единения в любви. И взор его исполнен тихого и строгого радонежского благоволения и прозорливой радонежской радости и тишины.
Москва, 5 сентября 1976 г.
Былое лето
Ну, память! Ты в права вступай И из немых воспоминаний Былого лета выдвигай Черты живых произрастаний!
СлучевскийТеатральная память
В детстве я любил рассматривать альбомы с портретами артистов в их «натуральном виде» и в ролях.
Моя мать обладала способностью воссоздавать целые эпизоды из спектаклей, которые ей привелось видеть: сцену Кручининой – Ермоловой и Галчихи – Садовской из «Без вины виноватых», или «подтекстовое» объяснение в любви Вершинина – Станиславского и Маши – Книппер из «Трех сестер», или появление в финале пьесы Леонида Андреева «Анфиса» (театр Незлобина) таинственной и страшной Бабушки, глухо, отчеканивая каждый слог, спрашивавшей Анфису (Рощину-Инсарову), только что отравившую мужа: «Мы-шь-яком?» – на что Анфиса – Рощина, глядя невидящим взглядом в публику, машинально отвечала: «Нет, цианистый калий» – на что Бабушка в свою очередь отвечала загадочно-зловещим, похожим на стук маятника, присловьем: «Так, так». Благодаря ее дару имитации, опасному для слушателей, когда она изображала общих знакомых (при встрече с кем-либо из тех, кого моя мать показывала, копируя его манеру говорить, все его ужимки и прыжки, я, смешливый от природы, фыркал, прыскал и давился хохотом), мне с детства запомнились и «во Христе юродивый», умиленный распев царя Федора – Москвина: «Аринушка, здорово!.. Родимая моя! Бесценная!»; и горделивая властность, с какою Иван Петрович Шуйский – Лужский произносил: «…и мы за правду встали, мы, Шуйские, а с нами весь народ»; и предвкушающе-виноватый тон, каким Астров – Станиславский отвечал на предложение няни налить ему рюмку водки: «Пожалуй…»; и полубред Маши – Книппер, испытывавшей нестерпимую боль разлуки с любимым человеком: «Кто зеленый… дуб зеленый… Я путаю…»; и такой непривычный для зрителей «Горя от ума», приученных к эффектному уходу Чацкого в последнем действии и к его финальному forte, но психологически оправданный шепот изнемогшего от «мильона терзаний» Чацкого – Качалова: «Карету мне, карету!»; и пение Глумова – Качалова из «На всякого мудреца» перед самой катастрофой: «Все уладил, все уладил», – пение сначала ликующее, потом, по мере того, как он все явственнее убеждается в пропаже дневника, озадаченное и растерянное.
Слова «Малый театр» и особенно «Художественный театр» звучали во мне приглушенно-далекой, зовущей музыкой. Самая, в сущности, обыкновенная, даже, если приглядеться, неказистая фамилия Качалов представлялась мне необыкновенно красивой. Воспользовавшись тем, что в Перемышле, в этом уездном городке Калужской губернии, где я провел свое детство и раннюю молодость, в 23-м году провели в учреждениях телефон, мы с моим товарищем играли в «разговор с Качаловым», благо отец моего друга жил при учреждении и вечером можно было без труда пробраться в его рабочий кабинет. Качалов как раз в ту пору находился на гастролях в Америке, а мы изъяснялись воображаемому собеседнику в любви и восхищались его игрой, о которой только слыхом слыхали, а видеть и во сне не видали.
У нас в доме сложилась традиция: ко дню моего рождения и именин мать дарила мне книги – она знала, что к туалетам я глубоко равнодушен и что порадовать меня можно только подарками книжными. Когда я стал постарше и любовь к театру, любовь бескорыстная, почти исключительно пассивная, зрительская, во мне все росла, мать выписывала мне из Москвы снабженные большим количеством фотоснимков монографии Н. Е. Эфроса, посвященные отдельным спектаклям Художественного театра, и, наконец, его книгу «Московский Художественный театр. 1898–1923».
Моя мать любила Малый и Художественный театры, пожалуй, одинаково. У нее было только особое благоговение перед Ермоловой, еще усилившееся после личного знакомства с нею. Я же заочно проявлял гораздо более острый интерес к Художественному театру – вернее всего, потому, что его репертуар был мне в общем роднее, нежели репертуар Малого. К ранней встрече с Художественным и Малым театрами я был подготовлен еще и стилем игры наших местных служителей Мельпомены, игры, свободной от провинциальных взвывов и взрыдов, их любовью к благородной сдержанности, к благородной простоте и естественности, к правдивости переживаний. Вкус в области театра мне поставили еще в детстве. Мечтая попасть в Малый и Художественный театры, я ждал от них именно того, что они и могли мне дать. Иные испытывали разочарование, услыхав впервые Шаляпина: «Мы-то думали: Шаляпин, Шаляпин … Стекла дребезжат, люстры падают … На поверку – ничего особенного». От подобного рода разочарования я был застрахован.
Наш городок был издавна городком театральным. С 22-го по 30-й год зимой и летом силами городских и сельских учителей, учащихся старших классов, приезжавших на каникулы студентов техникумов и вузов устраивались спектакли под руководством и с участием преподавательницы русского языка и литературы Софьи Иосифовны Меньшовой, впоследствии переехавшей в Москву и награжденной за свою педагогическую деятельность орденом Трудового Красного Знамени и орденом Ленина. И почти каждый спектакль этого содружества любителей становился событием в жизни городка; он встряхивал нас, обогащал, будил и мысль и чувство, воспитывал художественный вкус. С началом спектаклей обычно запаздывали. «Галерка» топочет и орет: «Время-а!» Но вот суфлер юркнул в свою будку, занавес пополз в обе стороны, и на глазах у разом смолкших зрителей рождается искусство, далекое от совершенства, но – подлинное, в которое нельзя было не верить, слитки которого я и сейчас без труда достаю со дна моей памяти. Декорации менялись медленно, антракты безбожно затягивались, и, когда зрители на рассвете расходились по домам, хозяйки уже выгоняли в стадо коров. И потом несколько дней живешь как во сне: внутренний слух полон отзвуками голосов, перед глазами – фигуры и лица. И на душе грустно: так ждал этого вечера, и вот он уже канул… Утешаешься тем, что пройдет месяц – и снова тебя охватят необъяснимые, как всякое волшебство, святые чары Театра, под власть которых издревле неудержимо стремилось подпасть человечество.
Уже репертуар этой постоянно действовавшей труппы дает представление об ее литературной культуре и дерзновении – скромностью в выборе пьес мои земляки не отличались. Вот неполный список сыгранных ею пьес: «Ревизор» и «Женитьба», «Свои люди– сочтемся!», «Бедность не порок», слитые в один спектакль пьесы о Бальзаминове, «Доходное место», «Лес», «Таланты и поклонники», «Светит, да не греет», «Царь Федор Иоаннович», «Свадьба Кречинского», «Свадьба», «Юбилей» и «На большой дороге» Чехова, «На дне», «Васса Железнова» и «Последние» Горького, «Каширская старина» Аверкиева, «Дети Ванюшина» Найденова, «Дни нашей жизни» Леонида Андреева, «Лесные тайны» и «Марья Ивановна» Чирикова, «Эльга» и сцены из «Ткачей» Гауптмана, «Квадратура круга» Катаева, «Вредный элемент» Шкваркина, «Чудак» Афиногенова.
Софья Иосифовна играла преимущественно бытовые роли, обнаруживая цепкую наблюдательность и чувство юмора. Лучшая ее роль – старая ведьма Евдокия Антоновна в «Днях нашей жизни». Ах, как она была страшна!.. Особенно в третьем действии, когда, уговаривая родную дочь продаться фон Ранкену, она на нее кричала:
– Потаскушка! Дрянь!.. Кто тебя такую купит? Таких, как ты, на бульваре сотни шатаются.
Но, пожалуй, еще более отталкивающей, еще более страшной была Евдокия Антоновна – Меньшова, когда она в начале того же действия по-разному напевала «Очи черные …» («Очи черные» – это ее счастливая находка: в пьесе сказано, что Евдокия Антоновна напевает «какой-то романс по-французски»): то зловеще, с воинственным видом расхаживая по комнате и грозя Оль-Оль, то игриво и кокетливо, желая ее смягчить; или когда она, пропустив коньячку, благодушно сюсюкала: «Дайте мне сиколядотьку, я так хочу сиколядотьку!»
Я не летописец театра – я был лишь страстным его любителем. Вот почему я не касаюсь иных примечательных его явлений, если я почему-либо не видел их собственными глазами. Вот почему я совсем или почти не касаюсь иных его явлений, быть может и значительных, во всяком случае в свое время нашумевших, но ничего не сказавших ни моему уму, ни моему сердцу или даже вызвавших во мне враждебное чувство. Я останавливаюсь преимущественно на том, чем я был захвачен и что мне до сих пор видно – на расстоянии десятилетий.
В 1930 году я поступил в Московский институт новых языков. И великим, тогда еще не доосознанным мною, не всею моею душою прочувствованным, но осиявшим всю дальнейшую жизнь мою счастьем было то, что мои студенческие годы я прожил в доме Ермоловой, в квартире у ее дочери Маргариты Николаевны (Тверской бульвар, дом 11, кв. 10, там, где теперь находится Музей Ермоловой). Давний друг моей матери, Маргарита Николаевна приютила меня в коридорчике, за шкафом. Сама она занимала комнатушку окном во двор, а две большие предоставила Юрию Михайловичу Юрьеву, в 1929 году перешедшему из «Александринки» в Малый театр.
Летом 1926 года я увидел фотографию, на которой Ермолова снята в роли Офелии. Такими трагическими глазами никто потом на сцене на меня не смотрел.
Осенью того же года я впервые приехал в Москву. Маргарита Николаевна спросила мать, хочет ли она повидать Елену Михайловну Любимову, на несколько дней приехавшую в Москву со своим сыном. Ермолова неожиданно ответила, что хочет.
Маргарита Николаевна повела нас к ней через комнаты, которые казались мне тогда дворцовыми залами.
И вот мы в комнате Ермоловой. Киот. Теплящаяся лампада. На ночном столике – томик Островского в издании «Просвещение». Седая, стриженая, благообразная фельдшерица в белом халате. Из ранних осенних сумерек, уже забравшихся в углы комнаты, на нас глядят тусклые глаза полулежащей старухи в белом чепце.
Внезапно тусклые глаза вспыхивают. И я сразу узнаю Офелию. Да, это Офелия, но только дожившая до глубокой старости.
Ермолова, улыбаясь, знаками подзывает мою мать – поближе, поближе! – притягивает к себе ее голову, смотрит ей прямо в глаза и целует.
Милая!.. – полушепчет Ермолова. – Я ведь забыла … Но теперь я все, все вспомнила!..
Из глаз ее хлынули слезы.
Успокоившись, она расспрашивает мою мать, как ей живется, останавливает взгляд на мне, говорит несколько ласковых слов.
Долго сидеть у Марии Николаевны нельзя: она быстро утомляется. Ермолова крестит меня, потом мою мать.
Милая … Господь с вами … Будьте оба счастливы … Будьте счастливы … если только в этой жизни можно быть счастливыми …
Теперь, сузившись до размеров одной комнаты, стены которой были увешаны портретами Марии Николаевны в жизни и в ее основных ролях, квартира № 10 все-таки оставалась квартирой Ермоловой. Здесь каждая мелочь напоминала о царице русской сцены. И я всей грудью вбирал в себя театральный воздух этой квартиры, где актеры, музыканты, певцы и режиссеры соревновались в тонкости понимания и свежести восприятия искусства с искушенными, избалованными, но не снобиствовавшими слушателями и зрителями. Маргарита Николаевна познакомила меня с Юрьевым, с Марией Павловной Чеховой, с Татьяной Львовной Щепкиной-Куперник, с Василием Ивановичем Качаловым и его женой – режиссером Художественного театра Ниной Николаевной Литовцевой, с историком романских литератур профессором Алексеем Карповичем Дживелеговым, с одним из самых талантливых русских адвокатов XX века Николаем Васильевичем Коммодовым, с академиком Матвеем Никаноровичем Розановым, с его братом Иваном Никаноровичем, который, еще гимназистом начав собирать прижизненные сборники русских поэтов от Кантемира до своих современников, составил грандиозное и уникальное книгохранилище, с академиком Евгением Викторовичем Тарле, с художником Михаилом Васильевичем Нестеровым, с директором музея «Мураново» Николаем Ивановичем Тютчевым, с историком русской литературы и русского театра Сергеем Николаевичем Дурылиным, с Надеждой Андреевной Обуховой.
На первых моих московских порах Маргарита Николаевна оказывала на меня влияние во всех областях искусства, но благодаря ее умственной и духовной всепонимающей широте это влияние не было подавляющим.
Мейерхольда она не принимала. Придя из Театра имени Мейерхольда после премьеры «Свадьбы Кречинского», я имел смелость сказать, что спектакль мне понравился.
– Вы подумайте! – притворно-сердито трепля меня по плечу, обратилась Маргарита Николаевна к кому-то из своих знакомых. – Этому мерзавцу понравилось у Мейерхольда!
А «мерзавец» все-таки зачастил к Мейерхольду. В дальнейших спорах со мной об искусстве Мейерхольда Маргарита Николаевна отстаивала ту мысль, что после постановок «Дон Жуана» и «Маскарада» в Александринском театре Мейерхольд избрал неверный путь, но его огромного таланта она не отрицала никогда.
Еще старшеклассником я не мыслил себя вне литературы. Это нашло отражение в моем аттестате. В аттестатах была графа: «За время пребывания в школе проявил особую склонность к…» У меня отметили особую способность к литературе и обществоведению (в понятие «обществоведение» тогда входила также история). А когда я стал москвичом, режиссеры и артисты театров, в которых я бывал постоянно – Художественного, Малого, имени Мейерхольда, – и чтецы, к которым я питал особое пристрастие, помогали мне вдуматься в произведения словесного искусства, усиливали мое влечение к ним, раскрывали мне то мудрое и прекрасное, то радостное и печальное, то благородное, чему следует подражать, то низкое, с чем нужно упорно бороться, – словом, все, чего я прежде в них не замечал. Театр меня образовывал и воспитывал. Я шел в театр в чаянии и в ожидании, что он так или иначе пробудит во мне «чувства добрые» и утолит мою жажду знания – знания истории, знания общественных отношений, знания борьбы за социальную справедливость, знания борьбы за лучшее будущее, знания человеческой души.
Уже в домосковский период любимой моей книгой стали «Братья Карамазовы». Но если б я потом не видел в концертном исполнении сцены из этого романа, если б я не увидел Леонидова и Качалова, я бы так отчетливо не представлял себе Митю и Ивана, какие-то обертоны, какие-то чрезвычайно важные смысловые и эмоциональные оттенки в их монологах пропали бы для меня навсегда. После того как я побывал на вечерах Достоевского, это были для меня уже не только герои хотя бы и любимого произведения, а мои близкие знакомые. Вся душевная многослойность адвоката Фетюковича так бы и не дошла до меня, если б я не слышал его речи на суде в исполнении Берсенева.
Каюсь: я еще на школьной скамье невзлюбил «Воскресение» Толстого. Когда я посмотрел инсценировку «Воскресения» в Художественном театре, к роману в целом я остался равнодушен, но на этом спектакле меня впервые взволновал до спазм в горле трагизм той сцены, когда Катюша бежит за поездом, – так читал ее Качалов. И я не мог не полюбить Катюшу – так играла ее Еланская. Конечно, я и теперь люблю Катюшу не так, как Наташу Ростову, не так, как Анну Каренину, не так, как Лизу Калитину, не так, как Грушеньку, Настасью Филипповну или Соню Мармеладову, но ее образ страдальческий вошел в мою душу и живет в ней посейчас, и этим я обязан игре Еланской. От творческого союза с Мейерхольдом выиграл даже такой блестящий драматург, как Сухово-Кобылин (я имею в виду «Свадьбу Кречинского», «Смерть Тарелкина» я не видел). Без насилия над Сухово-Кобылиным Мейерхольд поднял его на высоту автора «Идиота» и «Игрока».
Чтобы перечислить подобные примеры из моего зрительского опыта, мне потребовалось бы написать целую книгу.
Впоследствии театр сослужил мне бесценную службу не только как читателю, но и как литератору.
В 33-м году я окончил институт. Мой учитель, заведующий кафедрой перевода, критик, историк и теоретик литературы Борис Александрович Грифцов так закончил свой отзыв о моей дипломной работе:
«Институт смело может рекомендовать т. Любимова для ответственной работы по литературному переводу».
Оправдал ли я надежды Грифцова – судить не мне. Но пожелание его сбылось: почти всю свою переводческую жизнь я выполнял «ответственную» работу. В доказательство сошлюсь на «Декамерона» Боккаччо, «Дон Кихота» и «Странствия Персилеса и Сихизмунды» Сервантеса, «Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле, «Мещанина во дворянстве» Мольера, трилогию Бомарше, «Коварство и любовь» Шиллера, «Хронику царствования Карла IX» Мериме, «Госпожу Бовари» Флобера, «Милого друга» Мопассана, трилогию о Тартарене и «Сафо» Доде, «Легенду об Уленшпигеле» де Костера, «Монну Ванну» и «Синюю Птицу» Метерлинка, «Дантона» Ромена Роллана, «По направлению к Свану», «Под сенью девушек в цвету» и «У Германтов» Пруста.
Писателю-переводчику, как и писателю оригинальному, вредно замыкаться в своем цехе. Все «впечатления бытия», все виды искусства приходят ему на помощь – стоит только к ним обратиться.
Полюбившиеся иным критикам словосочетания: «в творческой лаборатории писателя…», «в творческой лаборатории переводчика…» – словосочетания бессмысленные. Наше место – не в замкнутом помещении, а под открытым небом, на вольном, на свежем воздухе. И уж если употреблять это затрепанное выражение, то только в одном значении: творческая лаборатория писателя – жизнь с ее пусть иногда и утомительной, но радостной и радужной круговертью. А книги, музыка, изваяния, краски, сцена – это ведь тоже явления жизни, и в «лаборатории» они не уместятся.
Я впервые почувствовал, какое мощное изобразительное средство – светотень, не углубившись в книгу и даже не в картинной галерее. Это было, когда я в первый раз увидел в «На дне» Луку – Москвина. Это было, когда я в первый раз увидел в «Вишневом саде» Лопахина – Леонидова. Это было, когда я в первый раз увидел «Кармен» в постановке Станиславского. Дальше я расскажу об этом подробно.
Когда я переводил «Женитьбу Фигаро», я все время видел перед собой мизансцены Станиславского в спектакле Художественного театра, декорации Головина, графа – Ливанова, Антонио – Яншина и – пожалуй, особенно ярко – Керубино – Комиссарова; наиболее важные реплики в их произнесении были у меня на слуху.
Естественности разговорной речи я учился не только у русских драматургов – от Грибоедова до Булгакова, но и у таких ее художников, как Массалитинова, Рыжова, Пашенная, Тарханов, Климов, Игорь Ильинский. Они развивали во мне ощущение интонационного упора. Уроки, которые они мне дали, я с наибольшей живостью вспоминал, когда переводил Мольера, Бомарше, Мариво, Шиллера, Скриба, Метерлинка и Ромена Роллана.
Память у меня уже в раннем детстве обладала способностью не только складывать в своих кладовых события – складывать аккуратно, в их временной последовательности, – но и закреплять разговоры взрослых, закреплять целиком, вплоть до порядка слов, характерного для каждого из собеседников. Однако, при всей своей ухватистости и емкости, это была память избирательная. Я легко заучивал для собственного удовольствия стихи и прозаические отрывки, но преимущественно такие, которые пленяли меня глубиной или остротой содержания и красотой формы, или уж до смешного бездарные. Так вбирала моя память и впечатления театральные. В ее недрах уцелели решения и находки гениальных и талантливых режиссеров, отдельные мизансцены, световые и звуковые эффекты, игра чудесных актеров и чтение мастеров художественного слова. Эти артисты и чтецы о сю пору стоят, движутся передо мной как живые. Я различаю выражение их лиц в той или иной мизансцене, улавливаю тембр голосов, слышу их смех и рыдания. Но вижу и слышу я их только в пьесах, представляющих собой подлинные произведения искусства. Как ни был могуч и строен ансамбль, но если он растрачивал свои силы на что-либо, по выражению Зощенко, «маловысокохудожественное», мои впечатления от спектакля мгновенно гасли. Что мне проку в том, что я дважды видел такого богатыря, как Степан Кузнецов, на сцене Малого театра? Я помню, что он играл в «Смене героев» Ромашова провинциального актера: кажется – пошляка, кажется – двурушника, кажется – карьериста. Больше, хоть зарежьте, ничего не помню. Кузнецов был занят в «Ясном логе» Тренева, и я, будто сквозь давно немытое окно с двойными рамами, вижу и слышу, как старый дед – Кузнецов проходит по сцене и пьяным голосом поет песню. Счастье мое, что я слышал, как Кузнецов читал монолог Мармеладова. Вот тут я уверился, какой покоряющей силой обладал его многогранный, человеколюбивый талант.
В моей памяти запечатлевалась сцена из спектакля и в том случае, если сквозь несколько колоритных реплик, сквозь скупую мимику и сдержанность жестов артисту удавалось показать мне всего человека.
Спектакль Театра имени Вахтангова «На крови» (по роману С. Мстиславского) с годами утратил для меня четкость контуров и яркость красок. В памяти вычеканился Толчанов в эпизодической роли Азефа. Он сидит в ресторане и что-то с омерзительной плотоядностью перемалывает челюстями, и уже одно то, как он ест, – точно зверь расправляется со своей добычей, – вызывает к нему гадливое чувство. Это не породистый хищник-красавец, который не может не заворожить вас до жути загадочным блеском зрачков и прихотливой расцветкой естественного своего убора. Это хищник отталкивающий, но не менее прожорливый и не менее кровожадный, который ради утоления своих плотских потребностей кому угодно перебьет передней лапой хребет.
Не забыть мне и проясняющееся лицо озлобленного Крогстада – Плятта в «Норе» Ибсена (спектакль Театра имени Ленинского комсомола, 1939), лучи, брызнувшие из по-скандинавски пасмурных его глаз, все еще недоверчивый, нервный, прерывистый его смех, его медвежьи лапы, которыми он судорожно хватается за притолоку, чтобы не рухнуть от внезапно налетевшего счастья.
В моей памяти удержалась игра даже и не первостепенных артистов, предлагавших свою, оригинальную трактовку образа, но непременно такую, для которой давал основания авторский текст. В качестве примера сошлюсь на артиста Художественного театра Гейрота. Он далеко не исчерпал своих творческих возможностей, и все же это был лучший после Качалова исполнитель роли Барона в «На дне». Не искажая авторского замысла, Гейрот пошел своим, некачаловским путем. В душе у качаловского Барона нет здорового уголка. Чуть дотронешься – и он разрыдается. Гейротовский Барон был грустнее, задумчивее, тише. Он как будто все старался осмыслить свою жизнь, силился припомнить, как же он скатился на «дно».
И если уж совсем недалеко ходить, трудно было отвести взгляд в спектакле Малого театра «Лес» (режиссер – Ильинский) от Карпа – Головина, – до того верен, типичен был избранный им внешний рисунок роли, так чувствовалось в нем, что он слуга, но не раб.
Карп – Головин был почтителен с «господами», но холуйской угодливости не проявлял ни с кем. В его добрых глазах просверкивала сметка бывалого, умного простолюдина. К Буланову, даже когда тот «вознесся», он относился с затаенным, отражавшимся лишь в его взгляде презрением. Наушницу Улиту он не выносил. Он мигом смекнул, что за птица Аркашка, но не смотрел на него свысока. Первым душевным движением Карпа – Головина было позаботиться о нем. Вечером он выходил в парк, пританцовывая под мандолину, на которой играл кто-то из дворни. Сквозь это пританцовывание нам было видно прошлое Карпа, виден он сам, работяга и весельчак, знавший делу время, а потехе час.
Я видел четырех Несчастливцевых: Нарокова в Малом театре, Мухина в Театре имени Мейерхольда, Ершова в Художественном и – недавно – Филиппова в Малом. От игры первых трех у меня ничего не осталось в памяти, и не потому, что я их видел давно, а потому, что все трое играли бледно и однотонно. Между тем Несчастливцев – Филиппов до такой степени свеж в моей памяти, как будто я провел в его обществе несколько лет. Л ведь за его плечами гораздо меньше артистического опыта, чем было у Нарокова и Ершова, когда они играли Геннадия Демьяныча!
Роль Несчастливцева, быть может, одна из самых трудных мужских ролей не только в драматургии Островского, но и во всей русской драматургии. Здесь актера подстерегает опасность пойти по линии наименьшего сопротивления – продекламировать всю роль от начала до конца. Такого внутренне сложного Несчастливцева, как Несчастливцев Филиппова, с таким богатством переливов и оттенков, я увидел впервые. Несчастливцев Филиппова – актер-трагик. Он воспитался на трагедиях и мелодрамах – и не всегда высокопробных. Это в нем чувствуется при первом же его выходе на сцену. Чувствуется в горделивой осанке, в модуляциях могучего голоса. Но декламационный пафос набегает в его речи волнами. Несчастливцев – Филиппов нет-нет, да и перевернет душу зрителя непосредственностью интонаций. Несчастливцевы, каких я видел до Филиппова, рыкали, «аки львы», пересказывая слова артиста Рыбакова: «Ты, говорит… да я, говорит… умрем, говорит». У Филиппова слова Рыбакова звучат спокойной грустью, а затем Несчастливцев – Филиппов, сдерживая накипающие в горле слезы, с печальной гордостью произносит: «Лестно!» Видно, что это одно из самых драгоценных воспоминаний Несчастливцева. Он устраивает судьбу Аксюши, и совершает он это благодеяние просто и естественно – иначе он поступить не может. Когда тетка выгоняет его из дому, на лице этого великана и силача появляется горькая, какая-то беззащитная улыбка. В нем живет и безобидный юмор, но, когда он в гневе, от его сарказмов никому не поздоровится.
Филиппов не приукрашивает Несчастливцева. Его Несчастливцев жалеет Аркашку, но обращается с ним как с холопом. В его окриках слышится барин и бывший любимец публики, который под горячую руку сделает бифштекс из мелкой актерской сошки.
Но главное в Несчастливцеве – Филиппове – великодушие, щедрость, широта. Вот почему под его обаяние подпадает не только Аксюша, не только Счастливцев, но и Восмибратов. И последний свой обличительный монолог Несчастливцев – Филиппов произносит с неотразимой силой убежденности в своей правоте, со священной ненавистью к Гурмыжской, Буланову и всему их окружению, с талантом настоящего трагического актера.
Я пробежал глазами по рядам. Многие зрители утирали слезы. Но это были слезы не сентиментальной жалости, это были слезы восторга перед отзывчивостью, участливостью, перед способностью человека пожертвовать своим благополучием ради счастья другого.
То, что моя театральная память уберегла, и составляет содержание этой книги.
Борис Леонидович Пастернак
Старшая дочь H. M. Любимова – Е. H. Любимова («Лёля») в год чтения глав и стихов из «Доктора Живаго» на квартире у H. М. Любимова (см. главу «Борис Пастернак»)
H. M. Любимов и его дети – Боря и Лёля (1961 г.)
E. M. Любимова. Калуга, октябрь 1955 г.
Любимый регент H. M. Любимова – M. П. Гайдай (на обороте фотографии надпись: «Дорогому Николаю Михайловичу от любящего его М. Гайдая»)
H. M. Любимов на даче у Павла Антокольского, начало июня 1963 г.
Протоирей Всеволод Шпиллер, 7 февраля 1976 г. Иконы Божией Матери «Утоли моя печали» – престольный праздник храма святителя Николая в Кузнецкой слободе, где отец Всеволод был настоятелем с 1951 по 1984 г.
Протоирей Григорий Бреев, матушка Наталия и их дочь Маша, которой H. М. Любимов читал воспоминания в последние годы жизни, а за несколько дней до кончины сказал: «У меня есть Господь Бог, молитва отца Григория и великая русская литература»
Последняя дружеская привязанность H. М. Любимова – В. В. Шверубович
Один из любимых актеров H. М. Любимова – Л. М. Леонидов в любимой роли Мити Карамазова
В. И. Качалов – Иван Карамазов
Два друга – В. И. Качалов и И. М. Москвин (вторая половина 1930-х гг.)
О. Л. Книппер-Чехова и В. И. Качалов на даче Качалова (Николина гора) 1947 г.
В. И. Качалов и последняя «собака Качалова» – пудель Люк. 7 сентября 1948 г., за 23 дня до кончины, Качалов записал в дневнике: «Одно утешение – Люк»
«Дорогому Николаю Михайловичу от благодарного актера за чуткость зрителя. Игорь Ильинский 1949 г.»
«Хоть Вы, дорогой Николай Михайлович, не видели меня в Клопе, но все же дарю Вам Присыпкина. Игорь Ильинский 1949 г.»
«На память о первом нашем сценическом знакомстве, дорогой Николай Михайлович. Игорь Ильинский 1949 г.» Ильинский в роли Расплюева («Свадьба Кречинского»)
Игорь Ильинский в роли Аркашки Счастливцева («Лес». Малый театр)
Сурен Кочарян. «Супругам Любимовым, с любовью и надеждой на то, что наши творческие встречи приведут к настоящей дружбе» 7.02.1940
Владимир Николаевич Яхонтов
Художественный театр
Художественный театр – это лучшие страницы той книги, которая будет когда-либо написана о современном русском театре.
ЧеховХудожественный театр – это для меня теперь Страна Воспоминаний, но зато таких дорогих, таких нетленных, что одна мысль о путешествии в эту страну вместе с грустью, неминуемо охватывающей всех, кто уходит в прошлое, всколыхивает со дна моей души волну за волной, волну за волной: это волны мягкие и голубые – волны радостного благодаренья.
Качалов
Судьба баловала меня в этом моем дорогом, моем единственном театре…
КачаловЯ сделался постоянным посетителем Художественного театра осенью 30-го года, когда Станиславский перестал уже выступать на сцепе. На Лилину мне просто не повезло: играла она редко, и я не попал ни на один спектакль с ее участием.
Качалова я видел в нескольких ролях. Но писать, к примеру, о Качалове – Карено, Качалове – Бароне, Качалове – Чацком нет смысла – обо всем этом уже сказано и пересказано, все это уже оценено по достоинству. Я хочу дополнить написанное о нем как об актере и чтеце лишь несколькими штрихами.
Как почти всякая большая радость в жизни, первая моя поездка в Москву (осень 1926 года) была для меня радостью нечаянной. Из текущего репертуара Художественного театра мне больше всего хотелось попасть на «Царя Федора». Однако в кассе театра оставались билеты от трех рублей и выше. Моей матери это было не по карману. Я никак не выразил своего отчаяния, но, вероятно, оно было написано на моем лице. Мать начала рассматривать схему расположения мест в зрительном зале и обнаружила, что существуют «стоячие» места. Тут она опять подошла к кассе и спросила, нет ли «стоячих» мест.
– Стоячие есть… Впрочем, я вам могу дать и сидячие по рублю, – неожиданно, после секундной паузы, ответила кассирша. – Это хорошие места: первый ряд третьего яруса, самая середина.
После я часто и в течение многих лет видел эту кассиршу в окошечке мхатовской кассы, даже случайно узнал, что зовут ее Антонина Дмитриевна, и на всю жизнь сохранил к ней теплое чувство за то, что она, видимо, прониклась сожалением к женщине, по-провинциальному скромно одетой и глядевшей на нее умоляющими глазами. И мне до сих пор досадно, что я не осмелился высказать ей благодарность за ту опять-таки нечаянную, выстраданную нами обоими и оттого особенно драгоценную радость, какой она одарила нас.
И вот настало 10 сентября 1926 года. День тянулся для меня, как всегда в таких случаях, томительно и нудно, несмотря на обилие впечатлений от большого города. Он выпал у меня из памяти. Я начинаю помнить его лишь с того момента, когда мы услыхали нестройный дуэт двух продавщиц программ, стоявших по бокам у входа в кассу и партер Художественного театра. У одной из них был бойко-визгливый голос базарной торговки.
– Прррогрррамма на «Царя Федора»! Прррогрррамма на «Царя Федора»! – частила она.
У другой – строгий голос учительницы гимназии, методично диктующей своим ученицам:
– Программа – на «Царя Федора»! Программа – на «Царя Федора»!..
Мы заглянули в программу: Федор – Качалов.
… Ну, конечно, меня захватило в спектакле все: и фигуры бояр (больше других запомнился востроглазый – злобная бороденка клинышком, – егозливый, ехидный, смекалистый Луп-Клешнин в исполнении Н. П. Баталова), и знаменитая толпа Художественного театра, в которой разноликие человеческие особи там, где того требовали обстоятельства, сплавлялись в единое тело и сливались в единую душу, и декорации – эти царские палаты с низенькими дверями и узенькими окошечками, в которых есть что-то жутко-таинственное, которые переносили зрителя в старомосковскую, кремлевскую Русь, и, наконец, дивной красоты древнецерковные распевы, которые составляли музыкальный фон трагедии, разыгрывавшейся в последней картине, перед Архангельским собором.
Но стоило появиться на сцене Качалову, и все мое внимание сосредоточилось на нем.
О Качалове существует целая литература. Роль царя Федора осталась в тени. Его Федор холодно принят был и в театре и частью зрителей. Уже много спустя из книги воспоминаний его сына, Вадима Васильевича Шверубовича, которую по полноте правды, и доброй и беспощадной, по тонкости психологических и зрительских наблюдений, по увлекательности изложения, по художественности изображения смело можно поставить в ряд с лучшими русскими театральными воспоминаниями, я узнал, что Качалова, при всей его скромности, на сей раз уязвил полууспех: он был доволен собой в этой роли и настаивал на верности своей трактовки, – узнал и, признаюсь, порадовался, что мой четырнадцатилетний вкус совпал с самооценкой такого артиста, как Качалов. По-видимому, Качалов раздражал и товарищей и зрителей, находившихся под обаянием москвинского образа, тем, что в иных местах (например, в описании того, как Красильников запорол медведя) вызывал смех. В отличие от Москвина, Качалов строил роль не только на контрасте между душевной тишиной и душевными бурями Федора, но и между смешным и великим в нем. Он не «комиковал», о нет! Он был трогателен и в смешном. Кроме того, выявляя в Федоре смешное, он тем явственнее означал лирико-драматическую сущность образа. А ведь Ал. Конст. Толстой в «Проекте постановки „Царя Федора“ указывает на то, что в Федоре есть „и трагическая и комическая стороны“, что в нем „трагический элемент и оттенок комизма переливаются один в другой…“. „С этим комизмом сценический художник должен обращаться чрезвычайно осторожно и никак не доводить его до яркости“, – замечает далее Толстой. И еще: „Я не опасаюсь того рода смеха, который возбудит в публике… рассказ Федора о медведе или его советы Шаховскому, как биться на кулачках. Это будет смех добрый, не умаляющий нисколько уважения к высоким достоинствам Федора… Вообще в искусстве бояться выставлять недостатки любимых нами лиц – не значит оказывать им услугу. Оно, с одной стороны, предполагает мало доверия к их качествам; с другой – приводит к созданию безукоризненных и безличных существ, в которые никто не верит“. Качалов впитал в себя эти авторские указания. Любопытно, что Москвин, с такой безоглядной смелостью открывавший один за другим те пласты, из которых состоит горьковский Лука, не принял „многосложности“, как выражается о своем герое Толстой, качаловского Федора – иконописного царя, родного сына Грозного, с подчас умилительно смешными ухватками.
Внешний облик Федора – Качалова – облик святого, сошедшего с иконы древнего, теперь бы я сказал – рублевского письма. Но это только самое первое, мгновенное впечатление. Уже в начальных репликах:
Стремянный! Отчего Конь подо мной вздыбился? …………………… Стремянный, не давать Ему овса! —слышатся капризные и даже властные нотки, но пока еще только нотки. Пока еще это всего лишь короткая вспышка недовольства, за которой следует раскаяние:
Я, впрочем, может быть, Сам виноват. Я слишком сильно стиснул Ему бока. ………………………. В табун его! И полный корм ему Давать по смерть!Качалов уже в этой короткой сцене со стремянным показал, насколько отходчив Федор, но коли отходчив, то, стало быть, и вспыльчив…
Федор у Ал. К. Толстого и у Качалова – натура поэтическая. Грозный дал ему презрительную кличку: «пономарь». Но у Федора в его страсти к колокольному звону проявляется музыкальность.
Славно Трезвонят у Андронья…– с мечтательной задумчивостью произносил эти слова Качалов, и в его необыкновенном, единственном голосе слышался певучий звон.
И еще одна важнейшая черта в толстовском и качаловском Федоре проступила в этой первой короткой картине…
Федор – Качалов склоняет Годунова на мир с Шуйским: Ты ведай там, как знаешь, государство, Ты в том горазд, а я здесь больше смыслю. Здесь надо ведать сердце человека!..Последнюю фразу Федор – Качалов выделял голосом. Он произносил ее медленно, с несвойственной Федору вескостью, выдерживая короткую паузу перед словом «сердце» с тем, чтобы сделать упор на словосочетании «сердце человека».
Чувствовалось, что для Качалова это одна из ключевых реплик во всей роли.
А затем в нем снова просыпается ребенок, но на этот раз уже не капризный, а шаловливый, и он с мальчишески задорными смешинками в глазах поддразнивает Аринушку, будто бы ему понравилась Мстиславская, – поддразнивает для того, чтобы потом с особой силой выразить ей свое обожание:
Я пошутил с тобою! Да есть ли в целом мире кто-нибудь, Кого б ты краше не была?Следующая сцена – сцена недолговечного примирения Годунова с Шуйским. И тут Качалов дает почувствовать, что миротворчество – стихия Федора. Федор – Качалов не таит своего волнения перед приходом Шуйских (а вдруг сорвется?..), но и не скрывает, что мирить – это для него истинное наслаждение и что он это наслаждение сейчас предвкушает. Однако приход Ивана Петровича Шуйского, его родных и сторонников приводит Федора – Качалова в крайнее смятение. Он не знает, с чего начать, заговаривает о предстоящем браке Мстиславской с Шаховским:
Я рад… я о-чень рад!.. Я-а-а… поздравляю вас! —говорит он с большими паузами, растягивая гласные. Но как скоро гора свалилась с плеч, Федор – Качалов сияет:
Друзья мои! Спасибо вам, спасибо! Аринушка, вот это в целой жизни Мой лучший день!И теперь уже можно забыть про дела и вновь с детской непосредственностью увлечься потехами и забавами… Федор – Качалов рассказывает о том, как Красильников запорол медведя, и, войдя в азарт, изображает бой Красильникова с медведем в лицах. Несмотря на все свое почтение к духовным особам, он при словах:
… изловчил рогатину, да разом Вот так ее всадил ему в живот! —тычет одного из архиепископов кулаком в живот, да с такой силой, что тот подскакивает на своем сиденье, а затем на том же несчастном владыке показывает медвежьи ухватки:
Вот так его, владыка, загребает…Еще когда Федор – Качалов впервые появился на сцене, сквозь всю его иконописность проступила гневливость. В сцене же, происходящей в его покоях, после того, как Годунов, привыкший вертеть Федором, тоном, не допускающим возражений, заявляет, что царевич Дмитрий должен остаться в Угличе:
Государь, дозволь тебе сказать… —в крике Федора:
Нет, не дозволю! Я царь или не царь? ………………….. Ты знаешь, что такое царь? Ты знаешь? Ты помнить батюшку-царя? —мы слышим голос сына Грозного. Это уже раскаты грома. Годунов до тонкости изучил Федора; он знает, что тучу пронесет стороной, но в эту минуту даже он озадачен.
При известии о том, что Шуйские с их сторонниками хотят заточить царицу и монастырь, вновь раздаются удары грома, еще более раскатистые и гулкие. Чувствуется, что эта гроза разразится, ибо речь идет не о нем, а о самом дорогом для Федора существе на всем свете – об его Аринушке:
Не дам тебя в обиду! —с гневным рыданием в голосе восклицает Качалов.
Пускай придут. Пусть с пушками придут! Пусть попытаются! ………………….. Они забыли, что я царь! ………………….. Под стражу их! В тюрьму! В тюрьму! В тюрьму!Федор знает себя, знает свою отходчивость, незлопамятность, и он, боясь остыть, еще распаляет в сердце гнев.
Если Я подожду, я их прощу, пожалуй, — Я их прощу – а им нужна наука! Пусть посидят! Пусть ведают, что значит Нас разлучать! Пусть посидят в тюрьме! —в исступлении заканчивал эту картину Качалов.
После второй картины моя мать при всем ее обожании Качалова вынесла преждевременное суждение: «Ну, до Москвина ему далеко!» (сила привычки еще перевешивала), а после этой картины она отказалась от первоначального своего мнения: «Нет, оба одинаково прекрасны, каждый в своем роде!»
Из Архангельского собора выходил царь все с тем же иконописно прекрасным лицом, с величавой, царственной осанкой, выходил медлительной поступью, сосредоточенный, ушедший в себя, многое, очевидно, переживший, многое уразумевший сердцем, ибо царь Федор – человек не мудрого ума, а мудрого сердца:
Царь-батюшка! Ты царствовать умел. Наставь меня! Вдохни в меня твоей частицу силы И быть царем меня ты научи!Но вот Туренин сообщает, что князь Иван Петрович Шуйский «сею ночью петлей удавился». Федор – Качалов мгновенно догадывается, что Туренин лжет, звериным прыжком бросается на него и хватает за горло:
Ты удавил его! Убийца! Зверь!Вот когда буря грозила с корнем вырвать дубы:
Палачей! Поставить плаху здесь, перед крыльцом! Здесь, предо мной! Сейчас!Когда же на Федора обрушивалась новая беда – гибель брата, Федор – Качалов переживал это свое горе с тихим отчаянием, сотрясаясь от судорожных рыданий. Теперь он пришиблен, теперь он раздавлен, теперь он добит. Он только смотрит глазами заблудившегося в лесу ребенка на княжну Мстиславскую, изъявляющую желание уйти в монастырь:
Да, княжна! Да, постригись! Уйди, уйди от мира! В нем правды нет! Я от него и сам бы Хотел уйти – мне страшно в нем – Арина — Спаси меня, Арина!И с горестно-покаянной скорбью, к которой впервые примешивался ропот на Провидение, звучал последний монолог царя Федора – Качалова:
Моей виной случилось все. А я — Хотел добра, Арина! Я хотел Всех согласить, все сгладить – Боже, Боже! За что меня поставил ты царем!… К исполнению Качаловым роли Гаева в «Вишневом саде» можно было бы поставить в виде эпиграфа:
Ходит птичка весело По тропинке бедствий, Не предвидя от сего Никаких последствий.Это прежде всего барин, барин до мозга костей, с врожденным мягким изяществом движений, с врожденным умением носить костюм, «держать себя в обществе», с врожденной и воспитанной в нем эгоистичностью, суетливый, донельзя болтливый, по-своему приятный, симпатичный, если только не иметь с ним никаких дел и не требовать от него дружеского участия, по-детски беспечный. За Гаевым – Качаловым и впрямь должен все еще, как за маленьким, приглядывать Фирс. Гаев неизменно гонит от себя черные мысли. Уж на что «попрыгунья» его сестра, Любовь Андреевна, и та дальновиднее его.
– Я все жду чего-то, – говорит она в тревоге, – как будто над нами должен обвалиться дом.
Гаев – Качалов на секунду мрачно задумывается, но только на секунду. Спустя мгновение он приосанивается, перед его мысленным взором возникает бильярд, и, делая соответствующие движения, он уже весело приговаривает:
Дуплет в угол… Круазе в середину…
Любовь Андреевна вспоминает о своей неудачно сложившейся личной жизни. Гаев – Качалов слушает ее, и лицо его искажается душевной болью. Но вот Любовь Андреевна прерывает себя:
Словно где-то музыка.
Гаев – Качалов мгновенно вскакивает.
Это наш знаменитый еврейский оркестр… – поясняет он и начинает весело дирижировать тросточкой.
И только в сцене прощания с вишневым садом перед нами уже не тот Гаев, каким мы его знали прежде. В третьем действии, когда он вернулся с торгов, в нем преобладала над всем смертельная усталость. Вишневый сад продан, но вполне ясного отчета в этом он еще себе не отдает. В четвертом действии мы видим, что его словно перевернуло, видим, как сразу, за одну ночь, он постарел, осунулся, сгорбился. От его подвижности не осталось и следа. Правда, он еще хорохорится:
В самом деле, теперь все хорошо.
Но это веселость наигранная. Когда же Гаев – Качалов остался наедине с Любовью Андреевной, он, вернее всего – впервые в жизни, познал, что такое настоящее горе. Вернее всего, он это свое горе в самом непродолжительном времени завьет веревочкой, как-нибудь устроится, приспособится (гаевы, при всем их легкомыслии, чаще всего, как это ни странно, за что-то ухватывались и находили место под солнцем). Но сейчас он дает волю отчаянию, тем более сильному, что он до последней минуты по своей привычке надеялся, что все обойдется, как обходилось уже столько раз, и он рыдает долго, старчески-безутешно и все повторяет: «Сестра моя, сестра моя…», вкладывая в эти слова не только любовь к ней, но и ко всему, что их связывает, всю свою тоску о невозвратном прошлом, всю наконец-то – хотя бы на несколько кратких мгновений – восчувствованную им горечь сожаления о праздно и бездарно прожитой жизни, всю свою боль от разлуки с родным гнездом, с окружавшей его природой, которую он, по всей вероятности, почти не замечал, которую он, наверно, обводил привычно-безучастным взглядом, но которая сейчас внезапно выступила перед ним во всей своей осенней, гибнущей, отнятой у него красе…
За несколько дней до этого спектакля, когда мне наконец довелось увидеть Качалова в роли Гаева (это было 14 июля 1944 года), в Клубе писателей состоялся вечер, посвященный памяти Чехова. На этом вечере Качалов читал рассказы Чехова «Студент» и «На святках», а когда слушатели попросили его прочесть что-нибудь еще, он сказал:
Ну что ж … Позвольте, я пройдусь по роли Тузенбаха.
Качалов прошелся по главнейшим моментам роли Тузенбаха, сам себе подавая в нужных случаях ответные или вопросительные реплики.
Качалов, которому тогда было без малого семьдесят лет, без грима и без военной формы на глазах у зрителей превратился в Тузенбаха. Начиная с первого момента и кончая сценой прощания с Ириной, незабываемой по силе сдерживаемого наплыва чувств (до сих пор звучит у меня в ушах качаловская молящая интонация: «Скажи мне что-нибудь!..»), перед нами был, в сущности, недалекий человек, склонный к бесплодному и наивному философствованию, трогательный в своей житейской беспомощности, в своей душевной ранимости. При этом Качалов искусно рисовал его внешний облик: он ухитрялся, как это ему ни было трудно, казаться некрасивым, в его Тузенбахе была военная выправка, и что-то в нем было от обрусевшего немца.
Я не видел спектакля «Братья Карамазовы», поставленного в Художественном театре в 1910 году. Я видел на эстраде лишь отдельные его сцены, в частности – «Кошмар Ивана Карамазова».
Когда Качалов, прежде чем начать свой знаменитый внутренний диалог, выходил на эстраду, тотчас можно было догадаться, что этот человек не спал много ночей кряду, что он адски устал от мучительной и непрестанной работы мысли, от неутихающих душевных мук. Вслед за тем слушателей поражало расщепление Ивана на два «я», раздвоенность его сознания. Легкое изменение тембра, издевательская, всеотрицающая насмешка в голосе – это говорит в Иване – Качалове его докучный собеседник, на которого не действуют ни бессильно-тоскливые мольбы, ни бессильно-яростные угрозы. В этом единоборстве одолевал черт. «Все дозволено!» – то был крик человека, мысль которого обволокло безумие.
Обычно «на бис» Качалов читал монолог Ивана, не вошедший в свое время в инсценировку, и тогда появлялся другой Иван, влюбленный в прелесть земного бытия, боготворящий жизнь с ее простыми и милыми радостями, испытывающий, как он сам о себе говорит, «исступленную жажду жизни».
Пусть я не верю в порядок вещей, – признавался Иван – Качалов, – но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого, иной раз, поверишь ли, не знаешь, за что и любишь… – Это он добавлял с застенчиво-виноватой улыбкой.
В голосе Качалова слышалась глубокая, страстная и в то же время строгая нежность и грусть при мысли, что настанет день, когда от него навеки скроются и клейкие листочки и голубое небо.
Фразу Достоевского, нервную, порывистую, раскаленную добела, Качалов строил так, что она была нам видна вся – со всеми своими пристройками и надстройками, во всем своем архитектоническом многообразии. Качалов не отсекал ни одного ее интонационного ответвления. Он и в других ролях любил повторы, любил интонационно обыгрывать слово, казавшееся ему особо значительным или вкусным, любил улавливать в нем обертоны. Но в ряде случаев он привносил повторы в авторский текст. Достоевский сам любил повторы – они помогали ему добиваться предельной напряженности, предельной взволнованности.
Именно так звучали они и у Качалова:
– Я хочу в Европу съездить, Алеша… и ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище, но на самое, на самое дорогое кладбище.
Быть может, наиболее сильное в качаловском даровании – это острота и глубина мысли. Но Качалов никогда не пренебрегал внешним рисунком роли, его четкостью, выпуклостью, характерностью.
На шекспировском вечере в Колонном зале Дома Союзов (1939 год) он читал монолог Ричарда III, и его прекрасное лицо вдруг перекашивалось и становилось до жути уродливым, но сквозь уродливость проглядывало что-то влекущее, неотразимое, и мы понимали Анну, вдову убитого им человека, полюбившую обаятельного урода.
Я уже упомянул, что на чеховском вечере в 1944 году Качалов читал «На святках». Сначала мы увидели старуху крестьянку с озабоченно-скорбным лицом. Она давно не получала писем от дочки, жившей с мужем в Петербурге. Доила ли она корову, топила ли печку, она все думала: как-то там Ефимья, жива ли? И эту сосредоточенную, тяжкую думу мы тотчас прочли на лице Качалова. Но вот заговорил муж этой женщины, и голос Качалова сделался по-стариковски слабым и тихим, выражение суровой скорби сменилось выражением умиленно-доверчивым и кротким.
– Внучат поглядеть, оно бы ничего, – светло улыбаясь, произносил его слова Качалов.
Затем мы переносимся в Петербург, в водолечебницу, где служит швейцаром Ефимьин муж, и сперва слышим самодовольный раскатистый бас генерала, пациента водолечебницы, а потом причитания плачущей и смеющейся Ефимьи, – она получила письмо из деревни и еще не успела прочитать его, как из тайников ласковой ее и впечатлительной души хлынула любовь к родным местам, которые так и стоят у нее сейчас перед глазами:
– Там теперь снегу навалило под крыши… деревья белые-белые. Ребятки на махоньких саночках… и собачка желтенькая. Голубчики мои родные!.. Унесла бы нас отсюда Царица Небесная, заступница матушка!
1934 год мы с моей матерью встречали в доме Ермоловой (Тверской бульвар, 11) у ее дочери, Маргариты Николаевны, вместе с нею, с Качаловым, с его женой, режиссером Художественного театра Ниной Николаевной Литовцевой и Юрием Михайловичем Юрьевым.
Качалов любил читать стихи – его не надо было упрашивать, уговаривать, заставлять. Он никогда не кокетничал и не ломался. В этот вечер он, помнится, начал с Осипа Мандельштама.
– А нельзя ли Есенина? – робко обратилась к нему моя мать. Качалов просиял.
– Есенина? – переспросил он. – С удовольствием! Читал он в тот вечер много. Моя память особенно бережно хранит
«Песнь о собаке», «Клен ты мой опавший…» и «Мне осталась одна забава…».
Качалов, насколько мне известно по его воспоминаниям о Есенине и по рассказам людей, близко его знавших, любил животных (он спал с другом Есенина Джимом на одной кровати, а нередко и на одной подушке), и эта любовь сквозила в каждой произносимой им строчке из «Песни о собаке».
В начале стихотворения он выделял и подчеркивал все зримое и осязаемое, подчеркивал и выделял конкретные эпитеты.
Рыжих[33] семерых щенят, —произносил он так, словно видел этих рыжих щенят и любовался ими. Во второй строфе он как-то так произносил эту строку:
Под теплым ее животом, —что у вас появлялось ощущение тепла, исходящего от собачьей шерсти.
Одно из самых сильных мест и у Есенина и у Качалова – скорбная и до дерзости яркая в своей живописности концовка:
Покатились глаза собачьи Золотыми звездами в снег.А когда Качалов читал об опавшем клене, он обращался к воображаемому дереву с дружески-шутливой участливостью:
Клен ты мой опавший, клен заледенелый, Что стоишь нагнувшись под метелью белой?Он мастерски выписывал зимний пейзаж. В его голосе звенело русское хмельное молодечество, само над собою невесело подсмеивающееся:
Распевал им песни…Пауза, настораживающая слушателя и усиливающая следующий за этим контрастный образ:
… под метель – о лете…И все-таки в конце молодечество осиливало тоску:
Сам себе казался я таким же кленом, Только не опавшим, а вовсю…Легкая пауза, и затем – с горделивой удалью:
… зеленым!..Лишь после того, как я услышал в передаче Качалова стихотворение Есенина «Мне осталась одна забава…», я различил подземные ходы, ведущие от строфы к строфе этого стихотворения.
Начинал Качалов с мрачным вызовом:
Мне осталась одна забава: Пальцы в рот – и веселый свист. Прокатилась дурная слава, Что похабник я и скандалист.Затем – ирония над самим собой:
Ах! какая смешная потеря!В следующей строке ирония исчезала, и слово «смешных» Качалов произносил уже так, что чувствовалось, что потеря-то эта вовсе не смешная, появлялась горечь утраты, горечь опустошенности: «Много в жизни смешных потерь!»
Отсюда уже прямой переход ко второй половине второй строфы:
Стыдно мне, что я в бога верил. Горько мне, что не верю теперь.Качалов задумывался, и лицо у него на миг светлело – вспомнилось чистое, цельное, не задымленное сомнениями детство.
Золотые далекие дали…Затем выражение лица у Качалова снова становилось хмурым, даже каким-то жестким.
Все сжигает житейская мреть, —как-то озлобленно произносил он эти слова.
… Пусть не сладились, пусть не сбылись Эти помыслы розовых дней, —с виноватой полуулыбкой признавался Качалов.
Но коль черти в душе гнездились…Это – с едва заметно кривившей губы демонической усмешкой.
Значит, ангелы жили в ней.Сейчас Качалов видел перед собой что-то «непостижное уму», а голос звучал органною мощью.
К концу стихотворения – снова надрывный вызов: вызов кому-то и чему-то, вызов самому себе, в последних двух строчках затихающий и уступающий место просветленной сосредоточенности:
Чтоб за все за грехи мои тяжкие, За неверие в благодать Положили меня в русской рубашке Под иконами умирать.Своеобразно толковал Качалов пушкинский «Зимний вечер».
Если в стихотворении Есенина «Клен ты мой опавший…» Качалов воспроизводил голосом лишь шелковый шелест зимнего серебряного ветра, то музыкальным фоном качаловского исполнения «Зимнего вечера» была завывавшая и плакавшая вьюга. Лейтмотивом же качаловского исполнения было одиночество лирического героя, коротающего дни в занесенной снегом лачужке, – одиночество, сочетающееся с любовью к единственному существу, которое если не рассудком, то сердцем способно его понять, одиночество щемящее и беспросветное. Вот почему в предпоследней строчке Качалов делал такой сильный акцент на «с горя»:
Выпьем – с горя! Где же кружка?А заключительные слова вырывались из его груди с тихим, тягостным вздохом:
Сердцу будет веселей!В последние годы жизни Качалова, как скоро он появлялся на сцене или на концертной эстраде, зрители, аплодируя, все как один вставали с мест.
Одна старая москвичка, предаваясь театральным воспоминаниям, забыла фамилию Качалова.
– Ну вот этот… этот… как же его?.. Ну тот, кого вся Москва любила, – пояснила она.
Москвин
Я писал о том, что истоки моей любви к театру – в моем провинциальном детстве и юности, что во мне был воспитан вкус к глубокой простоте игры. Единственно, пожалуй, кто – правда, всего лишь на несколько минут – озадачил меня полной непохожестью на тот образ, который составился в моем представлении при чтении пьесы и после того, как я посмотрел ее в любительском исполнении, – это Лука – Москвин. Я ожидал, что сейчас выйдет благостный праведник, нечто среднее между старцем Зосимой и Акимом из «Власти тьмы», а увидел юркого старичка с умными, хитренькими, бегающими глазками, в глубине своей затаивших и свет доброты и темное, отнюдь не праведное прошлое. Он ведь и сам потом признается Ваське Пеплу, не без тайной грусти почесывая лысину:
– Я их, баб-то, может, больше знал, чем волос на голове было… И мы склонны были думать, что это еще не самое «грешное» в нем.
Кто знает, может, на его душе и «убивство»?..
Озадаченность моя, однако, быстро улетучилась, и я, зритель, весь отдался во власть Москвина. Я понял, что это и есть настоящий, горьковский Лука. Чем бойчее, чем плутоватее в своей находчивости был москвинский Лука в повседневном своем общении с людьми, чем большей «шельмой», как называет его Барон, он себя с ними выказывал (а ведь он – беспаспортный, и ему все время надо быть начеку), тем ярче выделялись моменты душевной его просветленности, душевной его тишины. Москвинская живость была свободна от крикливой суетливости, москвинская нежность была свободна от слащавости. Его многоликость была ему подсказана текстом этой «еретически-гениальной» пьесы – так выразился один из знакомых Горького о «Чайке», а мне кажется справедливым применить это выражение и к пьесе Горького. «На дне» – сплошной вызов привычному, сплошной вызов драматургическим канонам и шаблонам. Уже одно то, что действие происходит в грязной ночлежке, где на нарах и на печке валяются – хотя бы и в живописных позах – оборванцы, уже одно то, что герои пьесы – босяки, проститутки, воры, пристанодержатели, городовые, что они пьют, ссорятся, ругаются, дерутся на сцене, должно было быть воспринято как «пощечина общественному вкусу». Вдобавок они и дерутся только однажды, а все больше философствуют. Вдобавок тех, кто вел интригу пьесы, автор в конце третьего действия удалил со сцены, а последнее действие построил сплошь на разговорах и на перебранке Барона с Настей. Словом, автор сделал как будто все от него зависящее, чтобы «не понравиться» публике, чтобы пьеса не имела успеха. И вот поди ж ты: на ее долю выпал успех, редкий даже в истории Художественного театра, – успех бурный и прочный. И ведь это после «На дне» Ермолова написала Вишневскому: «…ты победил, Назареянин!»
… Лука – Москвин умел вовремя стушеваться, умел быть незаметным, деликатным, он, многоопытный, часто задумывался, притихал, но неугасший темперамент в нем нет-нет да и разгорался. О человеке, искавшем праведную землю и получившем ответ от ученого, что такой земли не существует, он рассказывал азартно, в лицах:
– Ах ты… сволочь эдакой! Подлец ты, а не ученый… Да в ухо ему – раз! Да еще…
В этом месте Москвин сопровождал свой быстрый и громкий рассказ красноречивыми жестами, – было видно, что ему больно за искателя праведной земли, что он нисколько его не осуждает за кулачную расправу над ученым, что он всецело на его стороне, что ему, Луке – Москвину, тьмы низких истин дороже возвышающий обман. А заканчивал он свою повесть с многозначительной и мрачной медлительностью, делая паузы:
А после того – пошел домой да и (со вздохом) удавился.
Анна не зря называет Луку мягким. Лука – Москвин и впрямь мягок, но не только когда он кого-то утешает, но и отвечая на насмешки, но и отводя от себя опасность. Это черта его характера, и это его тактика, это его способ самозащиты.
Входя, он здоровается:
Доброго здоровья, народ честной!
Был честной, да позапрошлой весной… – бросает ему циник Бубнов.
А Лука, нимало не смутившись, подхватывает и сыплет скороговоркой:
Мне – все равно! Я и жуликов уважаю, по-моему, ни одна блоха – не плоха: все – черненькие, все – прыгают… Так-то, – наставительно добавляет он.
Беззлобно, лишь пристально глядя умным, оценивающим, насмешливым взглядом, отбрил он Барона, да так, что Барону же становится стыдно и потом его же поднимают на смех:
«Барон. …паспорт имеешь?
Лука. А ты кто, – сыщик?
Пепел (радостно). Ловко, старик! Что, Бароша, и тебе попало? Бубнов. Н-да, получил, барин».
Городового Медведева Лука – Москвин обезоруживает так же добродушно и с таким же непробиваемым и серьезным юмором, как и Барона:
«Медведев. Как будто я тебя не знаю. Лука. А остальных людей – всех знаешь?
Медведев. В своем участке я должен всех знать… а тебя вот не знаю…
Лука. Это оттого, дядя, что земля-то не вся в твоем участке поместилась… осталось маленько и опричь его…»
Анна называет Луку ласковым. Лука – Москвин действительно ласков. Одно из основных правил своей жизни он сам формулирует так: «Человека приласкать – никогда не вредно…»
И ради этого он способен и прилгнуть, и развести турусы на колесах, и притвориться, будто он верит Насте, что ее любил Гастоша, притвориться так, что Настя ни единым уголком души не сомневается, что Лука ей верит, ибо Лука – Москвин, помимо всего прочего, искусный актер.
– Я верю! В лаковых сапожках, говоришь? Ай-ай-ай! Лука – Москвин добр. Но это доброта не действенная, не жертвенная, доброта до известных пределов. Когда Наташа говорит Луке:
– Добрый ты, дедушка… Отчего ты – такой добрый?.. – Лука – Москвин в раздумье, как бы сам не очень в это веря, с лукавинкой в глазах переспрашивает ее:
– Добрый, говоришь?.. Ну… и ладно, коли так… Он убежденно поддакивает Бубнову, когда тот замечает:
– Вовремя уйти всегда лучше…
– Верно говоришь…
И в начале побоища скрывается, как мы сказали бы теперь: «смывается», а то еще неровен час, долго ли до греха, как бы самому не влетело, или, еще того хуже, в свидетели попадешь, а там – по этапу.
В продолжение первых трех актов, в которых действует Лука, зрителей не покидало ощущение, что душа Луки – Москвина – потемки и что если живут в ней ангелы, то уж наверняка гнездятся и черти.
Когда он в конце первого действия вел Анну, он был весь – заботливость, весь – сострадание. Когда же растроганная, непривыкшая к участию и соболезнованию Анна говорила Луке:
– …на отца ты похож моего… такой же ласковый, мягкий… Лука – Москвин отвечал ей со строгой печалью:
– Мяли много…
И тут же лицо у него прояснялось, и, рассыпавшись старческим скрипучим смешком, Лука – Москвин добавлял:
– …оттого и мягок, хе-хе-хе-хе! И во втором действии он до конца был нежен и мягок с умирающей
Анной. Вся его, выражаясь языком Станиславского, «сверхзадача» по отношению к Анне заключалась в том, чтобы облегчить ей страдания, облегчить ей конец. Тут уже исчезал за словом в карман не лезущий, подвижной старичонка, это был состраждущий утешитель. Бойкая скороговорка сменялась проникновенной неторопливостью речи и внушительностью тона. Уверившись в том, что Анна померла, он истово крестился, зажигал огарок свечки и доставал Псалтирь. С лица его не сходила тихая, сосредоточенная торжественность. Совершается нечто таинственное, неизбежное, но непостижимое, и вот сейчас Лука – Москвин был преисполнен этим благоговейным сознанием. Все с той же тихой торжественностью, без примеси елея, даже с какой-то властной ноткой в голосе он произносил:
– Иисусе Христе многомилостивый! Душу усопшей рабы твоея, новопреставленной Анны, с миром приими и учини ее в рай…
Он делал сильное ударение на слове «многомилостивый», как бы давая этим понять, что знает, к кому обращается, и уверен, что отказу в его просьбе быть не должно.
… Из лодки выходит низкорослый брюхан с мясистым носом, с заплывшими жиром, свиными, но отнюдь не сонными, а жульнически зоркими глазками, с густыми закрученными усами, с по-мужицки расчесанными в скобку волосами. На его лице можно прочесть многое, пока еще он ведет свой первый разговор – разговор с Аристархом. По его глазкам, по всей его повадке видно, что не от трудов праведных нажиты им каменные его палаты, что он кого хошь проглотит и не подавится, но может сделать и доброе дело: сделает он его или скуки ради, или оттого, что «если кто мне по нраву, того трогать не смей». Недаром вторая его реплика после появления на сцене звучит кратко, но достаточно выразительно: «Я все могу». Казалось, Москвин для своего Хлынова («Горячее сердце») выжал сок из всех самодуров, за которыми так любил наблюдать Островский.
Несмотря на пресыщенность земными благами и властью над людьми, он еще не утратил аппетита к жизни, в нем еще живет разудалая лихость. Это – болото, лишь сверху затянутое ряской; на дне его идет своя жизнь. Стоит лишь расшевелить болото, и по его поверхности пойдут круги, да все шире и шире! Бесшабашность Хлынова – Москвина – кажущаяся. Конечно, когда он куражится, когда он понесся вскачь, то его не остановишь, – он саврас без узды, – но он отдает себе отчет, для чего и перед кем куражится. Его признание: «Ты почем мою душу можешь знать, когда я сам ее не знаю, потому это зависит, в каком я расположении», – искренне лишь отчасти.
Как скоро в дверях своего дома появляется городничий, Хлынов – Москвин подает знак гребцам. Гребцы грянули «Многая лета», – и Хлынов – Москвин пускается перед городничим в пляс. Эта разухабистая, буйная, дерзкая пляска была до того уморительна, что тут я впервые в жизни понял, что выражение «смеяться до упаду» – не гипербола. Чтобы не свалиться от хохота, я обеими руками вцепился в подлокотники.
Все было в этой пляске: и чисто русское упоение самой пляской, и неподдельная, самозабвенная веселость, подхлестываемая «Многолетием», и озорное самодурство: вот, мол, градоначальник, накось выкуси, плевать я хотел на твое градоначальство, хочу перед тобой плясать при всем честном народе – и буду, а ты мне не указ, или, как он сам потом говорит: «…городничим со мной ссориться барыш не велик. Другому они страшны, а для нас все одно что ничего», «Не сладите, господин полковник… ничего вы со мной не сделаете…» И то сказать: он не только к губернатору, а и к самой губернаторше вхож, «даже пивал у ней чай и кофей, и довольно равнодушно», – с пренебрежительно-хвастливой, деланно-скучающей миной добавляет он.
О Москвине никак нельзя было сказать, что он «переигрывает», «пересаливает». Шарж плох, когда он вымучен. Но так ли уж непреложно изречение: «Хорошенького понемножку»? Вспомним слова священника из «Дон Кихота»: «…хорошим никогда сыт не будешь». Замысловатая, с коленцами, залихватская и вдохновенная пляска Москвина питалась его выдумкой, его комическим темпераментом, попросту говоря – его талантищем и не нарушала авторского замысла: в том-то все и дело, что Хлынов Островского – при всем своем внешнем и внутреннем безобразии – натура недюжинная, с широким размахом, по-своему одаренная (хлыновская даровитость сказывается хотя бы в его насмешливой, остроумной, красочной речи), только вот одаренность и темперамент его уходят черт знает на что.
Уж очень ты, господин Хлынов, безобразничаешь!.. – говорит городничий. – …ты куражиться – куражься, а в чужое дело не лезь, а то я тебя ограничу.
Градобоев произносит эти слова только для проформы, прекрасно сознавая, что он не в силах ограничить Хлынова, ибо у того везде рука, притом же сейчас воспоследует подношение, а затем и приглашение «щи да кашу кушать! А может, поищем, и стерлядей найдем, – я слышал, что они в садках сидеть соскучились; давно в уху просятся. Винца тоже отыщем, кажется, у меня завалялась бутылочка где-то; а не поленятся лакеи, так и в подвал сходят, дюжину-другую шанпанского приволокут».
Унижением паче гордости Москвин еще раз подчеркивал, что все местное начальство у Хлынова в кулаке, что он любого с потрохами съест и любого подкупит. И Градобоев – Тарханов незамедлительно это подтверждал:
Вот когда ты дело говоришь, и слушать тебя приятно.
Показав виртуозное буйство, Хлынов – Москвин в четвертом действии, отпустив гостей, не менее живописно показывал скуку от безделья, скуку от пресыщения.
С тоски помирать мне надобно из-за своего-то капиталу, – говорит он Барину с большими усами.
И вот он расхлябанной походкой спускается по лестнице, весь он обмяк, руки у него повисли как плети. В тоске одиночества он обнимает каменного льва.
Лева!.. – умильно-плачущим голосом обращается он к нему как к живому существу: авось хоть каменный лев поймет, как ему сейчас тошно.
Без непотребств и бесчинств ему не обойтись, ибо деньги к нему уже сами так и плывут, над их накоплением ему особенно задумываться не приходится, скорее, над тем, как ими посорить: опять-таки «для куражу», «знай наших», истинная прелесть жизни не про него писана. Простой обыватель Аристарх чувствует природу (и это доносил до зрителя игравший его П. А. Подгорный).
– Какая тишина! Но вышел бы из лесу-то, какой вечер чудесный! Сейчас Хлынов – Москвин – олицетворенное, воплощенное презрение:
– Что такое чудесный вечер?… Летний вечер оттого приятность в себе имеет, что шанпанское хорошо пьется, ходко, – потому прохлада. А не будь шанпанского, что такое значит вечер!
Я видел еще одного москвинского самодура – Фому Фомича Опискина, видел на эстраде Политехнического музея, на вечере Достоевского 7 января 31-го года в сцене из «Села Степанчикова» с полковником Ростаневым – Лужским. Но это уже был самодур совсем иного разбора. Нагло-злобное выражение лица, готовое каждую минуту, как только он почувствует, что зарвался, смениться униженным и ханжески-смиренным, обиженно выпяченная нижняя губа… Хлынов – Москвин куражился над Васей, над Курослеповым, над Градобоевым всласть, откровенно, с обаянием удали в сцене пляски. Опискин – Москвин издевался над Ростаневым тонко. Каждая его фраза была напоена змеиным ядом. Его укусы были гораздо болезненнее и оскорбительнее. Хлынов – Москвин мог кого-то и «осчастливить», Опискин – Москвин умел причинять только зло.
Судьба позаботилась о том, чтобы последнее мое впечатление от игры Москвина было не менее отрадным, чем предшествовавшие. Может статься, в силу необычности обстановки оно оказалось одним из наиболее явственных.
Однажды я случайно забрел на последний сеанс в кино «Москва». Шел фильм «Мастера МХАТ». Публики было немного. Большинство ее составляли парочки, зашедшие в кино оттого, что им больше некуда было деться и негде, воспользовавшись темнотой, посидеть в обнимку.
Одна из сцен, включенных в этот фильм, была сцена Федора – Москвина с Иваном Петровичем Шуйским.
Федору донес Клешнин, что князь Иван Петрович вознамерился свергнуть Федора с престола. Федор верит Шуйскому, как самому себе, и единственно для того, чтобы посрамить Клешнина, пристает к князю – пусть тот ответит во всеуслышание на его прямой вопрос:
Задумал ты что-либо надо мною?Прямодушный Шуйский после недолгой внутренней борьбы объявляет:
Так знай же все!На детски-доверчивом, «блаженненьком» лице Федора – Москвина появляется испуганное выражение:
Что? Что ты хочешь?.. Кн. Иван Петрович Да, ты слышал правду – Я на тебя встал мятежом!Клешнин делает стойку. Федор умоляет Шуйского говорить тише, а затем с притворной строгостью прикрикивает на него:
Что ты несешь? Что ты городишь? Ты Не знаешь сам, какую побылицу Ты путаешь!Он отводит Шуйского в сторону и полушепотом божится, что сам сойдет с престола, как только подрастет царевич Дмитрий.
Клешнин, которому недоступно величие духа Федора, который все и всех меряет на свой салтык – салтык мстительного, кровожадного и лукавого царедворца, спешит подсунуть Федору приказ о заточении Шуйского в тюрьму.
Федор – Москвин окидывает его властным взглядом:
Какой приказ? Ты ничего не понял! Я Митю сам велел царем поставить! Я так велел – я царь! Но я раздумал.Федор – Москвин, такой не похожий во всем остальном на Федора – Качалова, здесь с ним сближался. Он давал понять зрителям, что Федор – человек мудрого сердца, мудрой совести, и эта мудрая его совесть редко когда ошибается. В тех случаях, когда нужно кого-то с кем-то помирить, кого-то выгородить, кого-то, кто виноват именно перед ним (боже упаси затронуть его Арину), Федор оказывается находчивее многих рассудительных людей. В такие мгновения откуда что у него берется – появляется и решительность, и горделивая осанка, и не допускающий возражений тон!
И тут князь Иван Петрович, полководец, прославленный твердостью духа, упрямый и крутой старик, в изумлении, в сердечном умилении, дрогнувшим голосом говорит себе:
Нет, он святой! Бог не велит подняться на него…В перерыве между картинами я обежал взглядом свой ряд. Парочки расцепились, – парни с ошеломленными лицами все еще машинально смотрели на потухший экран, а когда экран снова зажегся, я увидел влажные лучики, протянувшиеся из глаз моих ближайших соседок.
Леонидов
Если самым, пожалуй, обаятельным из физических свойств Качалова был его голос, то у Леонидова самым могучим средством воздействия на публику был его взгляд. Его глаза смотрели вам прямо в душу и со сцены, и с экрана, и с концертной эстрады. Они пронизывали вас и в то же время как бы требовали, чтобы вы разделили с ним его нестерпимую душевную боль. Они привораживали и ужасали.
В фильме «Крылья холопа» Леонидов играл Ивана Грозного. Бесовская хитрость, бесовское лукавство просверкивали порою в его подозрительном взгляде. После какой-то дерзкой выходки шута Грозный – Леонидов, сидевший за трапезой, медленно и тяжело поднимал глаза. Уже то, к а к он поднимал их, не предвещало для шута ничего доброго, а на вас наводило необоримую жуть. А потом – этот взгляд тигра, готового броситься на добычу, взгляд, который из художников удалось уловить одному Васнецову. И тем страшнее была та небрежность, с какой он выплескивал кипяток на шута, после чего снова преспокойно принимался за еду. Жестокость Грозного – Леонидова въелась в его плоть, всосалась в кровь. Причинять людям боль – это для него такая же каждодневная потребность, как потребность в еде и питье. Но временами эта его будничная жестокость вскипала до совершенного осатанения. Когда Грозный – Леонидов приказывал опальному боярину Курлятеву: «Аи сядешь!» или «Пляши!» – в его взгляде вы читали, что нет такого глумления, которому он со сладострастием – с таким же точно, с каким раздирает руками мясо, – не подверг бы своих бояр и холопей, и нет такой адовой муки, которой не изобрело бы для них неистовое его воображение. А когда он сам начинал приплясывать, то это уже приплясывал умоисступленный.
На сцене я впервые увидел Леонидова 22 апреля 1929 года в роли Лопахина.
Леонидов рассказывал Сулержицкому, как на одной из репетиций «Вишневого сада» в перерыве Чехов подошел к нему и сказал:
«– Послушайте, – он не кричит, – у него же желтые башмаки.
Потом показал на боковой карман и сказал:
– И тут много денег».[34]
Видимо, Леонидов раз навсегда проникся этим по-чеховски своеобразно высказанным замечанием.
В течение первых двух действий мы видели степенного, солидного воротилу с невеселым взглядом все изучающих глаз, сдержанного, редко теряющего хладнокровие (чего ему волноваться, когда все идет как по маслу?), неспешного в движениях и походке, уже привыкшего распоряжаться и приказывать, обращающегося с Епиходовым, как со своим лакеем, знающего себе цену, но и, как умный человек, сознающего свои слабости, от своих отставшего, а к чужим не приставшего и отлично это понимающего, умеющего себя держать со скромным достоинством в присутствии «благородных», выдающего свою недостаточную отесанность лишь маханием рук да оборотами речи, вроде: «Всякому безобразию есть свое приличие» (это у него от желания показать, что он все-таки научился, как говорит Епиходов, «выражаться деликатным способом»), удачливого в денежных делах и «недотепу» в делах сердечных, человека, не забывающего сделанного ему добра и в свою очередь искренне желающего добра Любови Андреевне, презирающего Гаева за непрактичность и тунеядство, презирающего и Трофимова за то, что он все только разглагольствует, а учиться не учится. Какая в тоне Лопахина – Леонидова была добродушно-уничтожающая насмешка, когда он, заложив руки в карманы, разговаривал в четвертом действии с Трофимовым!
– Что ж, профессора не читают лекций, небось все ждут, когда приедешь!
И на этом фоне тем резче означался центральный эпизод его роли, когда он в третьем действии возвращался с торгов, хмельной не столько от выпитого коньяка, сколько от удачи. Тут только в нем просыпался кулак, да и то не сразу. Первое время он словно бы еще стесняется своего успеха, ему жаль Любовь Андреевну. И все же его прорвало.
– Я купил! – трубит он свою победу. Все, что в нем есть грубого, стяжательского, жадного, хлынуло сейчас наружу. И вот он, глядя в зрительный зал завораживающе страшными глазами, размахивая руками так, словно хочет что-то еще заграбастать, слегка развинченной походкой направляется к авансцене.
– Боже мой, господи, вишневый сад мой! – кричит он в остервенелом своем ликовании.
Это был уже не просто Ермолай Лопахин, это шествовал сам Капитал.
– Эй, музыканты, играйте, я желаю вас слушать! Приходите все смотреть, как Ермолай Лопахин хватит топором по вишневому саду, как упадут на землю деревья!.. Музыка, играй! – ревом торжествующего хищника наполнял Леонидов весь зрительный зал.
В каждом слове этого монолога слышалось упоение, предвкушение ударов топора по деревьям, предвкушение гибели «бесполезной» красоты во имя наживы. И в то же время слышался надрыв, слышалась сумятица, как сказал бы Гоголь, «поперечивающих себе» чувств, ощущение омраченности праздника.
Внезапно взгляд Лопахина – Леонидова падал на плачущую Любовь Андреевну, и куда делся рыкающий зверь! Ведь Лопахин еще так недавно признавался ей, что любит ее «как родную… больше, чем родную». С каким неподдельным участием склонялся он теперь над ней, какие искренние, по-мужски сдержанные слезы сожаления кипели у него в горле, когда он говорил:
– Бедная моя, хорошая, не вернешь теперь. И снова возникает расходившийся купчина, которому никак не унять сейчас хамской своей удали:
– Музыка, играй отчетливо! Пускай все, как я желаю! Грохнул вазу и, уходя, небрежно, с высоты своего денежно-мешкового величия:
– За все могу заплатить! Начинается четвертое действие, и опять по сцене ходит знакомый нам по первым двум актам озабоченный толстосум, удачливый, оборотистый делец и неудачник в личной жизни, как видно, обреченный вековать свой век в тоскливом одиночестве.
Я не боюсь употребить здесь громкое слово: Леонидов играл Лопахина гениально, с рембрандтовской светотенью чувств.
Леонидов назвал себя «трагическим актером в пиджаке». Ему было не очень уютно в роли Пера Гюнта. Вначале он горевал, что роль Гамлета поручена не ему, но перестал об этом жалеть, как только увидел условные декорации Крэга. Леонидов никогда не играл обнаженную страсть.
В Лопахине он был сметливым купцом из средней полосы России, в Плюшкине – русским помещиком, которого источила мания накопления. Его Гобсек – это был французский вариант Плюшкина, и кинозритель ни на мгновение об этом не забывал, как не забывал он и о том, что Роско из фильма «Просперити» – американский капиталист. Когда Леонидов играл Бородина в пьесе Афиногенова «Страх», перед нами был внешне очень типичный ученый, одержимый своей идеей мыслитель, которому всякий раз стоит большого труда спуститься с облаков на землю, рассеянный, душевно незащищенный и вместе с тем своевольный, упрямый, неуживчивый, вспыльчивый. Свой длинный доклад (эпизод тяжелый и неблагодарный для актера) Леонидов произносил с такой убежденностью, мысль и чувство находились у него в такой полной гармонии, что зрители слушали его, замерев. Прав Бородин или не прав – в этом зрители разбирались уже в антракте или по дороге домой.
В булгаковской инсценировке «Мертвых душ» Леонидов играл Плюшкина.
Задача у него была не из легких: от него требовалось создать образ на узком пространстве короткой картины, на пространстве нескольких – впрочем, по-гоголевски наполненных – реплик. И теперь стоит мне вызвать в воображении Плюшкина, стоит прочитать диалог Чичикова с ним – и воображение рисует Плюшкина – Леонидова. Вот он, сгорбленный старостью, с бабьей дряблостью щек, с сильно выдвинутым вперед подбородком, с буравчиками болезненно-недоверчивых глаз, с крючьями вместо пальцев, в чем-то непонятном, по-бабьи повязанном на голове, в каком-то немыслимом по ветхости и бесформенности одеянии…
Лучшие иллюстраторы «Мертвых душ» после Леонидова меня не удовлетворяют.
И как в «Вишневом саде» на фоне лопахинского деловитого спокойствия особенно ошеломляющим был взрыв до времени укрощаемых вулканических сил, так в «Мертвых душах» на фоне омертвелости Плюшкина – Леонидова особенно заметны были проявления давно уже овладевшей им скряжнической страсти.
Проявлялась эта страсть в нем по-разному: и в пытливом взгляде, каким он смотрел вокруг себя, каким он окидывал любого человека, с которым вступал в общение, и каким он в начале сцены сверлил незнакомого ему Чичикова (уж не вор ли? не разбойник ли?), и в смешанном с испугом негодовании на то, что кто-то распускает слухи о его богатстве.
– Мне, однако же, сказывали, что у вас более тысячи душ.
– А кто это сказывал? А вы бы, батюшка, наплевали в глаза тому, который это сказывал!
Потом та же страсть («одна», но «пламенная») обнаруживалась в ликующей алчности, с какой он принимал выгодное для него предложение Чичикова, и в той визгливо-плачущей ярости, с какой он накидывался на Мавру, которую заподозрил, что она «подтибрила» у него клочок бумаги, и в том взгляде безумца, с каким он на своем образном языке грозил ей муками ада:
Вот погоди-ка: на Страшном суде черти припекут тебя за это железными рогатками!
Но вот Чичиков уехал, и, говоря словами Гоголя, на «деревянном» лице Плюшкина – Леонидова «скользнул какой-то теплый луч». В его окоченевшей душе возникает желание отблагодарить незнакомца, ни с того ни с сего оказавшего ему услугу.
Я ему подарю карманные часы… – говорил Плюшкин – Леонидов, и по лицу его «скользил теплый луч», подобие доброй улыбки.
Одно мгновение – и кто-то словно сдувал, смахивал улыбку, лицо Леонидова вновь застывало, окаменевало, омертвевало, а в расширенных зрачках загорался огонь уже совсем почти испепелившей его скупости:
Или нет… лучше я оставлю их ему после моей смерти.
Одно из самых горестных театральных моих сожалений – это сожаление о том, что я не видел Леонидова в «Мокром» из «Братьев Карамазовых». Судьба порадовала меня другим.
Так сложились обстоятельства, что 11 декабря 1932 года я видел Леонидова дважды: в Художественном театре, на утреннем «общественном просмотре» «Мертвых душ» в роли Плюшкина, а спустя несколько часов – в зале Политехнического музея, на вечере Достоевского, куда я попал по приглашению Леонида Петровича Гроссмана, предварившего вечер чтением отрывков из своего романа о Достоевском «Рулетенбург», действие которых происходит у Дубельта и на плац-парадном месте.
Сразу после Гроссмана выступил Леонидов. Он прочел заключительную сцену «Идиота», а на «бис» – последнее слово подсудимого, Мити Карамазова.
Я сидел совсем близко к эстраде. Я видел каждую складку на лице и на шее уже немолодого Леонидова – и не видел ее. Я слышал, как он пришепетывает (после перенесенной им тяжелой болезни у него появился дефект речи) – и не замечал пришепетывания. Я видел Митю, о котором Достоевский пишет: «Он был страшно утомлен и телесно и духовно… Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал… В словах его послышалось что-то… смирившееся, побежденное и приникшее».
Так именно и начинал свой краткий монолог Леонидов – упавшим от всего пережитого голосом. И вдруг его голос приобретал мощь такого громового удара, когда кажется, что огнедышащий небосвод раскалывается прямо над твоей головой:
В крови отца моего – нет, не виновен!!!
Он искренне, от полноты веса своей измученной, исстрадавшейся и размягченной души благодарил и прокурора и защитника, но прокурора – все-таки с едва уловимой иронией:
…многое мне обо мне сказал, чего и не знал я…
А защитника – с чуть заметным укором и с достоинством невинного:
Спасибо и защитнику, плакал, его слушая, но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было!
А к концу монолога голос Леонидова вновь наполнялся громозвучной мощью, как, вероятно, гремел он в Мокром или на допросах:
Но пощадите, не лишите меня бога моего!!!
Гром сменялся прерывистым полушепотом, в котором слышались с нечеловеческим трудом сдерживаемые рыдания:
Тяжело душе моей, господа… пощадите!..
После этого в зале воцарилась поистине мертвая тишина. Вслед за тем грянули аплодисменты. Леонидов несколько раз выходил, кланялся, а у меня не достало сил рукоплескать моему любимцу. Я был ошеломлен, подавлен так, как будто в течение нескольких минут прошел через все Митины мытарства, руки у меня одеревенели, и вместе с тем я почувствовал, точно я омылся, что меня «выпрямило», – словом, я испытал то сложное ощущение, какое испытываю при встрече с великим искусством во всех его разновидностях.
… В дали моего былого мне явственно виден рдеющий отсвет леонидовской, на полнеба раскинувшейся и расколыхавшейся бурнопламенной, отливавшей множеством красок зари.
Тарханов
Москвин разрушил тот образ Луки, который создало мое воображение, и я сдался без внутреннего боя, я тут же безоговорочно капитулировал.
Не так обернулось у меня дело с Фирсом – Тархановым из «Вишневого сада». Мне наглядно показывали, как играл Фирса первый его исполнитель – Артем, и я, увидев Тарханова, обвинил его в излишней сухости, жесткости, что ли. И это обвинение, выдвинутое мною против Тарханова еще в продолжение первого действия, я поддерживал в течение всего спектакля.
Теперь, спустя много лет, когда я вспоминаю этот спектакль, состоявшийся 22 апреля 1929 года, а затем обращаюсь мыслью к другим спектаклям «Вишневого сада», в которых я видел тоже Тарханова, я прихожу к нескромному убеждению, что, пожалуй, доля правоты в моем неприятии тогдашнего тархановского Фирса все-таки была. От спектакля к спектаклю образ Фирса «оттаивал» у Тарханова. На том спектакле Фирс не вызывал к себе жалости. А потом уже невозможно было без волнения слушать его последний монолог, который Тарханов произносил без малейшей слезливости, просто, покорно, безропотно, как и должен был сносить все невзгоды бывший крепостной раб, воспринимавший «волю» как «несчастье», но это была простота трогательная и теплая:
– Уехали. Про меня забыли… Ничего… я тут посижу… А Леонид Андреич, небось, шубы не надел, в пальто поехал…
Быть может, на первых порах Тарханов, боясь впасть в сентиментальность, не заметил другой крайности, подстерегавшей его.
Тарханов вступил в труппу Художественного театра поздно, уже сложившимся, зрелым мастером.
Когда Качалов на репетиции «Снегурочки» попробовал свои силы в монологе царя Берендея, Станиславский воскликнул: «Вы – наш! Вы все поняли! Поняли самое главное, самую суть нашего театра».[35]
С такими же точно словами Станиславский, вероятно, мог бы обратиться и к Тарханову.
Чистой воды «художественник», Тарханов обладал одним свойством, которым в такой степени, как он, в труппе Художественного театра не обладал никто. У Тарханова было особое пристрастие к бытовому слову, цветастому и духовитому, – пристрастие, сближавшее его с артистами Малого театра. Ему доставляло видимое наслаждение произносить слово Гоголя, Островского, Салтыкова-Щедрина, Горького, и это наслаждение передавалось зрителям. Он высасывал из слова весь его смак, как мозг из кости.
Если искать соответствия Тарханову в мире художников, то тут само собой напрашивается сравнение с Кустодиевым. Под кистью Кустодиева любой незначительный бессюжетный бытовой эпизод превращается в явление живописной поэзии. Вспомним хотя бы ярко-синих извозчиков, пьющих в трактире чай. Тарханов остро чувствовал быт, но его быт, как и быт Кустодиева, не серый, не тусклый, а, напротив, до ослепительности яркий. Он не «обытовлял» искусство, он возводил быт на высшую степень искусства. Бытовое явление, оставаясь бытовым, превращалось у него в особливое и необычайное.
Тархановский булочник Семенов из спектакля-композиции «В людях» (по Горькому), конечно, был выжига, жмот, живоглот, но не алгебраическая формула живоглота, а именно вот этот живоглот, по фамилии Семенов, опухший от пьянства, утративший образ и подобие человеческое, – «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй».
Во «Врагах» Горького Тарханов играл Печенегова. По своему умственному и духовному кругозору это был Пришибеев в генеральском чине, столь же скорый и крутой на расправу («А вас всех уморить голодом! Не бунтуй!»), со звериной моралью («Что такое – добро? Даже не слово, а буква… Глаголь, добро…»), но только впавший в детство, но только не мрачный, а любящий злые и глупые шутки, любящий остроты, которые напоминают ходячие, так называемые «генеральские» анекдоты. Он с амбицией, он глядит свысока на всех, кто ниже его чином. Так, он не скрывает своего презрения к жандармскому ротмистру Бобоедову, хотя и не преминет воспользоваться его услугами.
В «Горячем сердце» Тарханов играл Градобоева. Это был типичный городничий, и в то же время это был Серапион Мардарьич Градобоев с одному ему присущими повадками, ничем не напоминавший другого нашего хорошего знакомого, состоявшего в той же самой должности, – Антона Антоновича Сквозника-Дмухановского.
Градобоев – Тарханов по-своему незлобив и простодушен.
– Мне нужно себя очистить, а то скажут, пожалуй: в городе грабеж, а городничий и не почешется.
Он не столько взаправду пугает тех, кто ему подвластен, сколько, как сказано в одной из ремарок Островского, «старается испугать». Матрена Курослепова ни чуточки не боится этого «Скорпиёна», как она его величает, – для нее этот «скорпиён» не ядовит. Его боятся только те, кому нечем от него откупиться.
Градобоев – Тарханов – занимательный рассказчик; его рассказы насыщены «красными словцами», ради которых он жертвует жизненной правдой, и пересыпаны перлами, которые Тарханов как на блюдечке преподносит зрителю.
Курослепов спрашивает Градобоева, предавшегося воспоминаниям о том, как он «под турку» ходил:
– Что ж это он аман кричит, зачем?
– По-нашему сказать, по-русски: пардон.
В своем взяточничестве Градобоев – Тарханов доходит до обезоруживающего цинизма. Для него это именно и есть «порядок вещей». Без взяткобрательства он не мыслит себе существования на земле. Градобоев – Тарханов развивает целую философию взяточничества, развивает с убийственным хладнокровием, с дивным спокойствием:
«Градобоев. Значит, кончено дело?
Курослепов. Кончено.
Градобоев. Ну!
Курослепов. Что ну?
Градобоев. Если дело кончено, так что?
Курослепов. Что?
Градобоев. Мерси.
Курослепов. Какая такая мерси?
Градобоев. Ты не знаешь? Это покорно (рука – цап!) благодарю. (Рука что-то незримое опускает в карман.) Понял теперь? Что ж, я задаром для тебя пропажу-то искал?
Курослепов. Да ведь не нашел.
Градобоев. Еще бы найти! Тогда бы я не так с тобой заговорил… Ты без барыша ничего не продашь, ну так и я завел, чтобы мне от каждого дела щетинка была. Ты мне щетинку подай! Побалуй тебя одного, так и другие волю возьмут. Ты кушаешь, ну и я кушать хочу».
Заехать в ухо, съездить по зубам, в то время как он чинит суд скорый, правый и милостивый, Градобоев тоже за грех не считает. Прикладывает он руку не но злобе, а потому что опять-таки иначе не мыслит себе дознания.
Силан ему говорит:
… что меня, старика, пужать вздумал! Градобоев ему отвечает:
Да я не пугаю. Ведь я с тобой лаской, понимаешь ли ты, лаской.
При слове «лаской» Тарханов оба раза красноречиво размахивает кулаком, само слово «лаской» свистит у него, как удар плетью, рассекающей воздух, и зрителям не трудно догадаться, в чем состоит основное правило градобоевского следствия и судопроизводства.
В «Мертвых душах» Тарханов играл Собакевича. И как я не представляю себе теперь иного, не леонидовского Плюшкина, так гоголевский Собакевич сливается в моем воображении с Собакевичем тархановским. По внешности, в точном соответствии с указанием Гоголя, «средней величины медведь». Но в медвежьих глазках – недоверчивая смекалистая хитреца. Чичиков не ошибся, когда подумал о нем: «… у этого губа не дура».
Собакевич – Тарханов невозмутим. И эта его невозмутимость, неподвижность его взгляда и позы, спокойное рявканье никем не тревожимого и не разозленного медведя составляют уморительный контраст с той разнообразной по своему лексическому составу бранью, какой он осыпает губернских властей.
В отличие от всех остальных помещиков, он остается бесстрастен, когда Чичиков заговаривает с ним о мертвых душах. Коли спрос на них есть, стало быть, это такой же товар, как и все прочие. Надо только как можно выгоднее его продать. Он и торгуется не азартно, не запальчиво, он берет покупателя измором. Он пускает в ход и угрозу, но это так, между прочим, и пригрозил и не пригрозил. Чичиков озадачен именно этой собакевичевской прижимистой непоколебимостью, об которую, как утлые челны о скалу, разбиваются все его доводы. На балу у губернатора Собакевич – Тарханов не спеша, деловито управился с целым осетром, а когда началась заваруха, он при всей своей топтыжьей неповоротливости сумел незаметно для всех присутствующих на сцене и почти незаметно для зрителей скрыться.
Созданный Тархановым образ Фурначева из «Смерти Пазухина» Щедрина – образ необычайной емкости.
Тархановский Фурначев – ближайший родственник и Иудушки Головлева и Фомы Опискина. В тархановской портретной галерее это, быть может, самый страшный портрет. В Фурначеве – Тарханове нет градобоевского добродушия и непосредственности, он не монстр, как горьковский Семенов. Речь его течет плавно, она у него точно деревянным маслом смазана и приглажена. Это не лай Семенова, не генеральские окрики Печенегова, словно производящего смотр войскам, и не лаконичная, отрывистая речь Собакевича. Он любит экивоки, эвфемизмы, ласкательные и уменьшительные формы. Он с улыбочкой просит Живоедову на первый случай «одолжить нам слепочка с ключа или с замка» от сундука, где Пазухин прячет деньги, и советует это сделать под кроваткой, в потемочках.
Живоедова высказывает опасение, как бы старик Пазухин не увидел.
Фурначев возражает:
– Увидеть он не может-с; надо не знать вещей естества, чтобы думать, что он, находясь на кровати, может видеть, что под кроватью делается… Человеческому зрению, сударыня, пределы положены; оно не может сквозь непрозрачные тела проникать.
Живоедова, однако, все еще страшится: а ну как Пазухину покажется подозрительным, чего это она завозилась под «кроваткой»?
А ну как он в ту пору спросит: ты чего, мол, дрожишь, Аннушка? Ты, мол, верно, меня обокрала?
Глупая баба! – в сердцах говорит себе начинающий терять терпение Фурначев – Тарханов и тут же находит выход из положения – и безопасный и комичный, прибегая к эвфемистическому намеку:
Если он и сделает вам такой вопрос, – опять с улыбочкой обращается к Живоедовой Фурначев – Тарханов, – так вы можете сказать, что от натуги сконфузились …
Он таким сладким тоном подбивает Живоедову на преступление, точно уговаривает ее доблестный поступок совершить. И, только заканчивая разговор, он смотрит на нее холодно-жестоким взглядом гипнотизера и отдает приказ:
Вы это сделаете, почтеннейшая Анна Петровна!
Лексика Фурначева – это лексика душеспасительных бесед, его синтаксис – это синтаксис свода законов, уложения о наказаниях:
… развращение века таково, что нравственные красы пред коловратностью судеб тоже в онемение приходят.
Фурначев – Тарханов произносит подобные фразы так, что мы чувствуем и видим в нем елейного кляузника и крючкотвора.
Фурначев мягко стелет и в поступках и в речах. Он обходителен со всеми. Какую-то полуэкономку-полуприживалку Живоедову называет «почтеннейшая Анна Петровна», «любезнейшая», и эту повадку Тарханов подчеркивает в Фурначеве, ибо тот и впрямь готов угодить собаке дворника, ежели ожидает от нее какого-либо проку.
Фурначев – Тарханов весь – расчет, без мысли о поживе он шагу не ступит, но любая, самая злокозненная мысль у этого человека с утиным носом и плотоядными губами облечена в наиблагопристойнейшую форму, какую умеет придавать любому злодеянию эта протобестия, этот обер-ябедник, понаторевший в той суровой школе жизни, какую ему довелось пройти.
Он хитрит и суесловит даже перед своей недальнего ума супружницей. Надо заметить, что в лице Шевченко Тарханов имел достойную партнершу. Недаром кто-то из критиков находил в ней нечто от кустодиевской Венеры. Когда она с блаженно-бессмысленной задумчивостью жевала яблоко, это стоило целого монолога.
Фурначев мало действует (за исключением последнего акта), он все больше рассуждает, рассуждает обстоятельно и пространно, он выявляет себя главным образом в слове. И таково было искусство Тарханова, его любовь к слову, его ощущение словесных слоев, что зрители не скучали во время его рацей, – напротив, зрителям становилось ноль, когда Тарханов умолкал.
Книппер-Чехова
Если бы меня спросили, кто из виденных мною актрис представлял собой образец внешнего и внутреннего изящества, я бы не задумываясь ответил:
– Книппер-Чехова.
В иных ролях, в которых мне довелось ее видеть, она была бледна, играла «без жизни, без любви». Я имею в виду ее Хлёстову и ее г-жу Пернель из «Тартюфа». Объяснить это не составляет труда: обе роли она играла за неимением других.
Конечно, Книппер-Чехова превосходно чувствовала разницу между, скажем, аристократкой графиней Чарской из «Воскресения» и уездной мордасовской гранд-дамой Марьей Александровной Москалевой из «Дядюшкина сна» Достоевского, но стихия быта не была ее родной стихией. К ролям с интенсивно бытовой окраской, с бытовым говорком, к ролям, которыми прославились знаменитые «старухи» Малого театра – Рыжова, Массалитинова, Пашенная, – у нее не лежала душа. Из нее не вышло бы художницы-жанристки.
Но где требовалось очарование женственности, где требовались психологические полутона, где нужно было пережить, как выразился Станиславский, «трагедию женского сердца от искреннего чувства и увлечения», за что Станиславский в письме к участникам 100-го представления «Вишневого сада» посылал «дорогой и неувядающей Раневской – Ольге Леонардовне» свой первый поклон, за что он ей «кланялся низко, восторженно приветствовал и поздравлял», где требовалось плести словесное кружево, там Книппер-Чехова была неподражаема и незаменима. Если не она играла Раневскую в «Вишневом саде» или Марью Александровну в «Дядюшкином сне», корабль спектакля давал сильный, издали заметный крен.
В инсценировке толстовского «Воскресения» Книппер-Чехова появлялась только в одном, сравнительно коротком эпизоде – и ухитрялась создать вполне законченный образ, образ женщины, как определяет ее Толстой, здоровой, веселой, энергичной, и остаться в памяти зрителя со всем своим внешним обликом светской львицы, со всеми своими безобидно-насмешливыми интонациями и таким же добродушным заразительным смехом.
Графиня Чарская – Книппер совсем не великосветская мегера и не ханжа. Она не жалует всех этих «стриженых», как она называет революционерок. Но она нисколько не сердится на своего племянника Нехлюдова за его антраша, она только не в состоянии понять его покаянный порыв. Поначалу она обеспокоена, и это беспокойство за его судьбу слышится в ее фразе:
… как же мне говорили, что ты хочешь жениться на ней?
Да и хотел, но она не хочет.
Чарская – Книппер превращается в соляной столп. Чего угодно могла она ожидать, только не этого оборота: падшая женщина отказывается от такой партии! Полно, уж не дурачит ли ее племянник? Как же скоро она удостоверивается, что Нехлюдов и не думает шутить, у нее сразу отлегло от сердца, и она удовлетворенно замечает:
Ну, она умнее тебя.
И – уже с облегченной веселостью:
Ах, какой ты дурак! И ты бы женился на ней?
Непременно.
После того, что она была?
Тем более. Ведь я всему виною.
Нет, ты просто оболтус! Ужасный оболтус! Но я тебя именно за это люблю, что ты такой ужасный оболтус…
Слово «оболтус» Книппер-Чехова произносила с какой-то особенной нежностью, даже с гордостью за своего племянника.
В свое время критики прозевали спектакль Художественного театра «Дядюшкин сон». А иные морщились: «Пустячок!..» Между тем это был спектакль-шедевр, отшлифованный во всех своих частностях. Ухо не улавливало ни одной фальшивой ноты ни в «ариях», ни в «дуэтах», ни в «трио», ни в «хорах».
Книппер-Чехова играла даму из общества, но из захолустного общества. Такой и изобразил ее Достоевский. Видно было, что она хорошо себя вышколила, вымуштровала, но «провинция» нет-нет, да и прорывалась. Вот почему ее сцена с мужем, Афанасием Матвеичем, которого она обзывает и дураком, и болваном, и чучелой, – эта сцена при всей ее контрастности не производила впечатления чего-то неорганичного. Зрители были к ней отчасти подготовлены поведением Книппер – Чеховой в сценах, ей предшествовавших. Когда Марья Александровна разливалась соловьем в разговоре с дочерью или с Мозгляковым или рассыпалась бисером перед князем, мы угадывали в ней то по злобному сверку в глазах, то по нетерпеливому передергиванию плечами не только бурный темперамент, который в одночасье может ее и захлестнуть, с которым она в иные минуты не в силах будет справиться, стоит лишь побольнее наступить ей на ногу, – мы чувствовали, что ее светскость – это все заученное и наигранное, это тонкий слой белил и румян, прикрывающий внутреннюю невоспитанность и грубость обитательницы медвежьего угла. Но срывала она с себя маску либо в тех случаях, когда ей некого стесняться, у себя в имении, в разговоре с мужем, которого она третирует, или когда ей уже нечего терять.
Москалева – Книппер умна, тактична, политична. Она даровитая, искусная, опытная интриганка, интриганка по призванию. В сфере интриг и сплетен она чувствует себя, как щука в реке. Она мастерица подпускать своим завистницам шпильки, и подпускает она их с видом полнейшего и невиннейшего доброжелательства, так, словно делает комплимент. Она навыкла играть на особо чувствительных, самых слабых струнках человеческой души. Ей потому многое и удается, что она вотрет человеку очки, подставит ножку, а затем как дважды два докажет ему, что она в его же интересах действовала, для него же старалась. Так она проводит за нос и околпачивает Мозглякова. Насквозь видит ее только родная дочь, Зина:
Попросту выходит: выйти замуж за князя, обобрать его и рассчитывать потом на его смерть, чтобы выйти потом за любовника. Хитро вы подводите ваши итоги!
Но зачем же, дитя моё, смотреть непременно с этой точки зрения – с точки зрения обмана, коварства и корыстолюбия?.. Ты, как прекрасная звезда, осветишь закат его жизни; ты, как зеленый плющ, обовьешься около его старости … Будь же его другом, будь его дочерью, будь, пожалуй, хоть игрушкой его, – если уж все говорить! – но согрей его сердце, и ты сделаешь это для бога, для добродетели! – с мелодраматическим пафосом, возведя очи горе, восклицает Москалева – Книппер.
Дочь дает этой предприимчивой авантюристке и аферистке очень верное определение:
Я нахожу еще, маменька, что у вас слишком много поэтических вдохновений: вы женщина-поэт…
И в самом деле: Марья Александровна у Достоевского и у Книппер отнюдь не зауряд-интриганка. Она в своем роде поэт, поэт-лирик и поэт-дидактик, хотя и пошлый, хотя и ходульный. Любому своему низменному побуждению она придает нечто возвышенное, пусть заемный, пусть фальшивый, но все же блеск. И вот эта поэзия интриги и расчета составляла, пожалуй, главную прелесть игры Книппер-Чеховой.
Ты можешь даже ехать этой же весной за границу, в Италию, в Швейцарию, в Испанию, Зина, в Испанию, где Альгамбра, где Гвадалквивир…
Это была не обычная, хотя бы и приподнятая речь – это были настоящие рулады, соловьиные трели, внезапно обрывавшиеся контрастной в своей гадливости концовкой:
… а не здешняя скверная речонка, с неприличным названием … … Раным-рано, на зорьке, в свой родной дом, в окна которого виден
вишневый, весь в цвету, сад, входит проведшая несколько лет на чужбине помещица Любовь Андреевна Раневская. Пошла – и тотчас на нее нахлынули воспоминания детства.
Детская, милая моя, прекрасная комната… – говорит Раневская – Книппер, и ее музыкальный голос чуть дрожит от волнения.
О мое детство, чистота моя!..
Этот монолог в устах Книппер был полон поэзии воспоминаний, печали о пролетевшей молодости, сознания того, что чистота несмываемо запятнана, что заблуждения и ошибки уже не исправить, что на пороге ее жизни стоит осень во всей своей хмурой и холодной блеклости.
Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, я не могла смотреть из вагона, все плакала.
Слезы от счастья видеть родину, видеть людей, когда-то ее окружавших, – все это у Раневской – Книппер вполне искренне, все – от полноты чувств. Но у нее все быстротечно: и радость, и горе, и забота, и сострадание, и возмущение, и нежность. Лопахнн говорит о ней:
Хороший она человек. Легкий, простой человек…
Вот именно – легкий. Легкость у Раневской – Книппер сказывается во всем: это – легкость грациозных движений, это – легкость в смене настроений, это – легкость в отношениях с людьми, это – легкость взгляда на жизнь, легкость мироощущения. Легкость – это ее самозащита.
Входит Петя Трофимов. При одном взгляде на него, бывшего учителя ее сына, ей вспоминается утонувший мальчик. И она плачет…
Но слезы Раневской – Книппер – это солнечный дождь.
Во втором действии она откровенно рассказывает брату и Лопахину о своей жизни, вспоминает о неудачном замужестве, о гибели сына, признается, что человек, с которым она потом сошлась, обокрал ее, бросил, сошелся с другой, а она пыталась отравиться.
Но беспечность у Гаевых в роду. Неотвратимость продажи имения вместе с вишневым садом, боль разрыва с единственным человеком, которого она по-настоящему любит, к которому она по-настоящему привязана несмотря ни на что, – все это рассеивается при звуках оркестра, играющего вдали.
В третьем действии по лицу Раневской – Книппер время от времени пробегают тени тревоги:
А Леонида все нет. (В имени «Леонид» она по-барски отчетливо произносила звук «о».) Что он делает в городе так долго, не понимаю! Ведь все уже кончено там, имение продано или торги не состоялись…
Отчего нет Леонида? Только бы знать: продано имение или нет? Наконец, с глазу на глаз с Трофимовым, она уже в отчаянии, плача, говорит ему:
Ведь я родилась здесь… я люблю этот дом, без вишневого сада я не понимаю своей жизни…
И – внезапный переход:
… надо же что-нибудь с бородой сделать, чтобы она росла как-нибудь… Смешной вы!
Она ссорится с Петей. Меряя его уничтожающим взглядом, бросает ему:
В ваши годы не иметь любовницы!..
Петя в ужасе спешит уйти, а она кричит ему вдогонку:
… я пошутила! Петя!
Петя вскоре появляется снова, и Раневская – Книппер обращается к нему:
Ну, Петя… ну, чистая душа… я прощения прошу… Пойдемте танцевать…
И тут Книппер-Чехова делала несколько туров вальса…
Когда я видел ее в роли Раневской, она была уже в преклонных летах, но время ничего не могло поделать ни с ее грацией, ни с ее обаянием. Я всякий раз с замиранием сердца ждал этой минуты – и не обманывался в ожиданиях. В этом беззаботном, бездумном кружении была вся Раневская, порхавшая по жизни невзирая на ее безотрадность.
Разум отдавал себе трезвый отчет в легкомыслии Раневской, порою – преступном, как в случае с Фирсом, в том, что она – плохая мать, в том, что оборотная сторона ее доброты – равнодушие к людям, но Раневская – Книппер была обворожительная и несчастная женщина, и не любить ее было выше моих сил.
… Однажды, много спустя после того, как Книппер-Чехова оставила сцену, я бродил по Москве. Ради какого-то праздника на улицах играло радио. Оркестр исполнял вальс «Дунайские волны». И как только я его услышал, в то же мгновенье в сознании у меня протянулась от этих звуков нить к третьему действию «Вишневого сада», когда за сценой музыканты играли этот самый вальс, усиливавший общее настроение унылой обреченности. Чтобы выбрать именно этот вальс для третьего действия «Вишневого сада», нужно было обладать верным музыкально-театральным чутьем: вальс «Дунайские волны» был действующим лицом «Вишневого сада», как «Яблочко» – в «Днях Турбиных». Перед моим мысленным взором возникла Книппер-Чехова, с колдовской грацией танцевавшая вальс, женщина, в которую я всякий раз влюблялся без памяти, и из глаз моих внезапно, прежде чем я успел перебороть себя, брызнули слезы.
«Чего это я нюни распустил? – ворчнул я на себя, но сразу нашелся что себе ответить. – Да ведь я больше никогда, никогда не увижу Книппер – Раневскую, а Книппер – Раневская – это не просто явление искусства, это видение красоты. И Качалов, и Леонидов, и Москвин, и Тарханов – все это уже минувшее…»
Неожиданно мысли мои приняли другое направление: «Чего же ты плачешь? О чем? Ты их видел. Ты был свидетелем их чудотворств. Они вводили тебя каждый в свой мир, по-особенному богатый. Они сдували с души твоей копоть и пыль. Они тебя освежали, они тебя возвышали. И они до последнего твоего вздоха пребудут с тобой и в тебе».
Второе поколение
«Дни Турбиных» (апрель 1929 г.) были, в сущности, моей первой встречей с теми артистами Художественного театра, за деятельностью которых я потом пристально следил в течение многих лет и которых застал в полном расцвете. «Царь Федор» не в счет: почти все мое внимание поглощал на этом спектакле Качалов.
«Дни Турбиных» я видел в Художественном театре шесть раз.
Искусство драматурга, искусство режиссеров (Станиславский и Судаков), артистов, художника (Ульянов), музыкантов в этом спектакле было на такой высоте, что внимание зрителя ни на миг не рассеивалось. Идея спектакля соответствовала идее пьесы, стиль спектакля – ее стилю. А только при таких условиях явление театрального искусства и достигает совершенства. Как скоро раздвигался занавес и вы видели перед собой комнату с кремовыми шторами на окнах, Алексея Турбина на середине сцены, углубившегося в бумаги, а ближе к зрителям, справа, – его младшего брата Николку, аккомпанировавшего себе на гитаре, вы уже, хотели вы этого или не хотели, становились как бы членами семьи Турбиных, начинали жить ее мимолетными радостями и неизбывным горем, вы были уже втянуты в воронку событий. И так продолжалось до финальной реплики Студзинского:
– Кому – пролог, а кому – эпилог.
Когда действие происходило в комнате с кремовыми шторами, вы все время чувствовали, что за стенами дома волновая погода. Когда же вас бросали в самый водоворот, вы спрашивали себя: «А что сейчас там, в комнате с кремовыми шторами?» И стоило раздвинуться занавесу в первый раз, как вы уже ощущали, что предвечерний уют этой квартиры прохвачен тревогой. Подняв голову от бумаг, на вас смотрел озабоченно-печальным взглядом Алексей Турбин – Хмелев. Он досадливо морщился от пения Николки, на которое в другое время, вернее всего, и внимания бы не обратил:
– Черт тебя знает, что ты ноешь! Николка продолжает:
– Хошь ты ной, хоть не ной, В тебе голос не такой! Есть такие голоса… Дыбом станут волоса…«А л е к с е й. Это как раз к твоему голосу и относится».
Раздражение его все растет, он уже в сердцах обругал дураком Николкиного учителя пения.
Николка просится в штаб – узнать, отчего стреляют из орудий.
Алексей с напускной строгостью, сквозь которую просвечивает беспокойная нежность, прикрикивает на него:
– Конечно, тебя еще не хватает. Сиди, пожалуйста, смирно. В Алексее – Хмелеве видна военная выправка, но это не солдафон.
Это человек твердой воли, с высоко развитым чувством чести, чуткий и деликатный. Когда его зять Тальберг, который дает позорного драпу в Германию, протягивает Алексею руку на прощание, тот свою руку брезгливо закладывает за спину. Тальберг петушится:
– Вы мне ответите за это, господин брат моей жены! Алексей – Хмелев отчеканивает с язвительным хладнокровием:
– А когда прикажете, господин Тальберг? Но в присутствии сестры, чтобы не огорчать ее, он после секундной внутренней борьбы на заискивающе-боязливую реплику Тальберга:
– Ну, до свиданья, Алеша! выдавливает из себя:
– До свиданья… Володя!
У Алексея – Хмелева огромная выдержка. И только во второй картине, когда Шервинский предлагает тост за гетмана Скоропадского, Алексей – Хмелев порывается и произносит монолог, в котором дает волю бурлившим в нем чувствам. Он издевается над гетманом, обличает «штабную ораву», офицеров, которых называет «кафейной армией».
– Вы знаете, что такое этот ваш Петлюра? – спрашивает он с болезненно-саркастической усмешкой. – Это миф, это черный туман.
Сейчас он не у себя дома, не за стаканом вина. Взгляд его устремлен в вихревую даль, и голос его звучит пророчески:
– Вижу я более грозные времена.
И кончает он свой монолог с мрачной удалью обреченного и сознающего свою обреченность человека:
– …придут большевики… когда мы встретимся с ними, дело пойдет веселее. Или мы их закопаем, или, вернее, они нас.
В гимназии, когда Алексей – Хмелев произносит свой второй, еще более значительный и уже последний монолог, сердце у него обливается кровью, ему нестерпимо тяжело сообщать о катастрофе, но к этому его понуждает желание спасти жизнь обманутым мальчуганам-юнкерам.
– Я думал, что каждый из вас поймет, что случилось несчастье, что у командира вашего язык не поворачивается сообщить позорные вещи. Но вы недогадливы… – с мягким укором начинает он. – Тут один из вас вынул револьвер… Он меня безумно напугал. Мальчишка!
Это он говорит с такой скорбной насмешкой, что становится неопровержимо ясно: смерть для Алексея Турбина сейчас наилучший и желанный исход.
С каждой фразой волнение Алексея нарастает и к концу монолога переходит в бурю:
– …белому движению в России конец… А за этим следует внезапное, сухое и глухое стаккато:
– Значит, кончено! Гроб! Крышка! Когда же юнкера послушались его и, побросав оружие, разбежались кто куда, на Алексея – Хмелева нападает приступ какого-то злорадного безумия, бред отчаяния.
За сценой канонада. Алексей со злобной радостью кричит:
– Так его! Даешь! Концерт! Музыка! Ну, попадешься ты мне когда-нибудь, пан гетман! Гадина!
Но и в эту минуту его не оставляет мысль о сестре.
– …к Елене сейчас же! – приказывает он Мышлаевскому. В мозгу у него вертится то зловещая фраза Тальберга: «Серьезно и весьма», то пение юнкеров: «И когда по белой лестнице… поведут нас в синий край…»
На белой гимназической лестнице и суждено ему скончать свои дни.
Из полубредового состояния его вырывает Николка. Алексей исступленно кричит на него, угрожающе вынимает револьвер из кармана.
Николка при всей своей желторотости достаточно чуток, чтобы понять, почему Алексей не хочет идти домой:
– Я знаю, чего ты сидишь! Знаю, ты, командир, смерти от позора ждешь, вот что!
Смерть не замедлила прийти за Алексеем. Шальной осколок снаряда, пробив оконное стекло, попадает в Алексея, как раз в эту минуту взбегающего на площадку, – Алексей падает. И тут слышится, а затем становится все явственнее торжествующее «Яблочко», которое трубят трубы летящих на Киев петлюровцев. Смерть Алексея, метания Николки, пытающегося унести мертвого брата, – и только вчера рожденное, а по своему звучанию кажущееся вековечным, не надкусанное обработчиками, а прямо с дерева, сечевое, гайдамацкое, разудалое, разымчатое, подмывающее, звенящее звоном сабель, стучащее стуком копыт, гремящее громом орудий, безудержное, стремительное, все приближающееся, все неотвратимее надвигающееся, лихой своей дикостью устрашающее и бесовски веселящее слух, все на своем пути растаптывающее, осатанелое «Яблочко»… И при первых трубных звуках я ловил ртом воздух… В 29-м году, посмотрев «Турбиных» впервые, я увез это «Яблочко» в своем внутреннем слухе домой, и оно долго преследовало меня – и на уроках, и в саду, который я приводил в порядок после зимних бурь, и все мне мерещился Алексей с его последними безнадежно горестными словами: «Брось геройство к чертям…», его тело, судорожно вздрагивавшее, а потом безжизненно раскинувшееся на белой лестнице… Иначе, как на фоне «Яблочка», я смерть Алексея представить себе не могу.
Когда, много лет спустя, увидев в кабинете заведующего музыкальной частью Художественного театра Бориса Львовича Изралевского висевший на стене портрет Булгакова с длинной благодарственной надписью, я стал восхищаться его «Яблочком», он, опустив глаза, хмуро проговорил:
– Удалось в жилу попасть…
… На сцене князь – Хмелев из «Дядюшкина сна». «…смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится…»
В другом месте Достоевский называет его «мертвецом на пружинах».
Таким и был Хмелев в этой роли, метче не определишь, – живым мертвецом с барственной осанкой и изяществом движений. Двигался он точно на пружинах, взгляд у него был бессмысленный, остановившийся, голос замогильно-глухой, говорил он медленно, скандируя отдельные слова, по-аристократически не выговаривал «л»:
– И пре-ори-ги-нальный быу этот по-ляк… вос-хи-ти-тельно танце-вау краковяк и, наконец, суомау себе ногу. Я еще тогда, на этот съучай, стихи сочиниу:
Наш по-ляк Танцовау краковяк…А там… а там, вот уж дальше и не припомню…
А как ногу суомау, Танцевать перестау.Он и правда, кажется, сейчас рассыплется. Его одолевают многочисленные недуги. Он часто удаляется «записать одну новую мысль», повергая в изумленное смущение дам.
Однако ж сладострастие не вовсе угасло в нем.
– Charmant! Charmant! Формы, формы! – лорнируя Зину, бормочет он.
В голове у него ералаш, но видно, что он никогда звезд с неба не хватал, – достаточно вспомнить плод его Музы, – так что и выживать-то ему, в сущности, не из чего. Все воспоминания его сбивчивы и до жалости убоги.
Но вот Зина поет издавна знакомый ему его любимый романс, и сейчас князь уже не мертвец. Искусство проняло и оживило его. Словно вся его жизнь промелькнула у него перед глазами. Это не долговременный, но просвет, и князь – Хмелев вполне осмысленно, со слезами признается, что жизнь у него пропала даром, что она обманула юные его ожидания.
– О миуое дитя мое! вы мне так много на-пом-нили… из того, что давно прошуо … Я тогда думау, что все будет учше, чем оно потом быуо …
Несмотря на всю комичность положений, в которые попадает князь – Хмелев, он вызывает жалость своей младенческой беззащитностью, тем, что всякий может его обидеть и оплести.
Он вспоминает, что родственники «меня в су-ма-сшед-ший дом посадить хо-те-ли…»
– Но за что же, за что?! – выражает свое возмущение Марья Александровна.
Князь – Хмелев растерянно-доверчиво поясняет Москалевой:
– А я и сам не знаю за что!.. Я, знаете, на бале быу и какой-то анекдот рас-ска-зау; а им не понра-ви-уось… – с виноватой улыбкой заканчивает он.
Если бы Хмелев сыграл только эту роль, сыграл такого «Достоевского» князя, то есть сумел разглядеть в этом мертвеце на пружинах что-то живое, то и тогда Хмелев не выпал бы из летописи русского театра.
А какой он был Силан в «Горячем сердце»! С виду угрюмый, сердитый, а душа – золотая.
Силана никто не боится, но и он никого не боится. Разговор с хозяином он ведет как с существом неразумным, которое постоянно требуется наставлять на путь истинный, ведет, сознавая свое умственное и нравственное превосходство (он, Силан, человек честный, а хозяин – грабитель: «Награбил денег, а ему их стереги!»), со строгой насмешливостью и спуску ему не дает.
У Курослепова пропажа. Он обвиняет Силана в «несмотрении»:
– Еще я с тобой… погоди.
– Ну да, как же! Испугался! У тебя где были деньги-то?
– …в чулки спрятаны.
– …так вот ты чулки и допроси хорошенько!
– …взять тебя за волосы, да как бабы белье полощут!
– Руки коротки!
С таким же сознанием собственного достоинства, выказывая полнейшую неустрашимость, ведет Силан – Хмелев словопрение с самим городничим.
– …я тебя в острог.
– Ну вот еще! Думал, думал да надумал. (Постучав себе пальцами по лбу.) С большого-то ума!
– Ты, видно, в арестантской давно не сидел.
– Для того и не сидел, что не мое это место…
Силан – Хмелев – хороший русский мужик, справедливый, на доносы, изветы и оговоры не способный, твердый и стойкий, по-стариковски упрямый.
– …ты от камня скорей ответа дождешься, чем от меня.
Когда этот добрый ворчун уходил, зритель без него скучал, нетерпеливо ждал его появления и, как скоро он выходил на сцену, ловил каждое его слово.
Младший брат Алексея Турбина – Николка – Кудрявцев. Открытый взгляд наивных, еще детских глаз. Как сказал поэт Петр Семынин:
Пред землей и небом удивленье, Чистых глаз ребячьих глубина…Ребячливая гордость от сознания, что он уже юнкер. Даже перед родным братом у себя дома он вытягивается в струнку: «Слушаю, господин полковник…», «Виноват, господин полковник…» Есть в нем бездумная восторженная веселость: он ведь еще только-только входит в жизнь.
Натура у него пылкая, жертвенная, но не пассивно-жертвенная, а волевая. Он беспрекословно слушается своего брата до поры до времени. Когда он чувствует, что брату грозит смертельная опасность, он остается, чтобы разделить ее с ним. И никакие угрозы Алексея на него не действуют. Алексей для острастки вынимает револьвер. Николка – Кудрявцев распахивает шинель, и голос его звенит обидой и упорством:
Стреляй, стреляй в родного брата!
Следующая картина «Дней Турбиных» – самая трудная для исполнителя роли Николки. Тяжело раненный петлюровцами, Николка все-таки добирается до дому. Офицеры делают ему умоляющие знаки не говорить сестре о том, что Алексей убит, да и ему самому невыносимо тяжело вонзать нож в сердце Елены. Но после внутренней борьбы, отражавшейся на лице Николки – Кудрявцева, правдивость берет в нем верх, и он не столько выговаривает, сколько выдыхает из себя:
Убили командира …
… В последней картине на сцене появился уже другой Николка. Дело не только в том, что он на костылях, что он калека. Куда девалась его жизнерадостность? У него взгляд человека, не оправившегося ни от телесных, ни от душевных ран. Стоило Мышлаевскому назвать имя Алексея, и у Николки затряслись плечи от беззвучных рыданий. Как он себя ни пересиливает, похоронным маршем звучит в его устах песня, которую он весело распевал во второй картине:
Так громче, музыка, играй победу, Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит!Но молодость с ее жизнеспособностью и жизнестойкостью берет свое. И когда в финале пьесы за сценой оркестр играет «Интернационал», а Мышлаевский поясняет: «Это красные идут!» – слабый луч надежды и ожидания заиграл на мертвенно-бледном лице Николки – Кудрявцева, и он с ненапыщенной, прочувствованной и многозначительной торжественностью объявляет:
… сегодняшний вечер – великий пролог к новой исторической пьесе.
Стоит у меня перед глазами Кудрявцев и в роли Матвеева из «Нашей молодости», написанной С. Карташевым по роману Виктора Кина «По ту сторону» и впервые поставленной в 30-м году на так называемой Малой сцене МХАТ (Тверская, 22), служившей театру в ту пору филиалом.
Это был спектакль, полный строгой романтики, спектакль, от которого веяло ветром первых лет революции. Это был спектакль, талантливо поставленный (режиссеры – Н. Н. Литовцева и Б. П. Ливанов, художественный руководитель – Вл. И. Немирович-Данченко), изобретательно решенный художником (все тем же Ливановым) на «блюдечке», которое представляла собой Малая сцена. Ливанов давал ощущение поезда, летящего в тайге, и самой тайги, непролазной, заснеженной, промерзшей насквозь. С. Карташев прибегал к изгибам сюжетной линии романа. Он не инсценировал роман – он написал по роману пьесу.
Вне революционного действия кудрявцевский Матвеев не представляет себе своей жизни. Он привык выбирать самые боевые участки. Как ни тяжел ему разрыв с любимой девушкой, все же это не так страшно, как находиться в «обозе», а не на передовых позициях. Между тем он обречен своей инвалидностью на службу в «обозе»– это он ясно понял из мучительного для него разговора с Чужим. И он идет на верную гибель – и гибнет, сражаясь.
Кудрявцев был прекрасен во всех эпизодах: и в сцене первого своего свидания с Лизой, неумело объясняющийся ей в любви, и в сцене горячечного бреда после тяжелой операции, и в той картине, где он, истомленный вынужденным бездельем, поет песню про вороного коня, и в сцене перед приходом Лизы, тревожимый мыслью, как-то произойдет их свидание, – ведь Лиза еще не видела его на костылях, с отрезанной ногой, и, пожалуй, в самом тяжелом эпизоде – эпизоде последней встречи с Лизой, когда он с деланной молодцеватостью говорит ей: «… нога мне не мешает. Хочешь, я покажу тебе, как я хожу?» – и, несмотря на сопротивление Лизы, которая на секунду закрывает лицо руками, на одной ноге прыгает по комнате; и, наконец, когда он – вероятно, впервые в жизни – растерянно улыбался, выслушав признание Лизы, что она вынуждена порвать с ним.
Третья большая удача Кудрявцева, свидетелем которой мне довелось быть, – это Мелузов из «Талантов и поклонников» (первый спектакль состоялся в 33-м году).
Кудрявцев в роли Мелузова был резонером, моралистом, но не фразером, не ритором, пустым внутри. Это был резонер убежденный, страстный и привлекательный. Сухого догматика не полюбила бы Негина.
Особенно хорош, пронзительно хорош был Кудрявцев в последнем действии. Прощался с Негиной уже не резонер, хотя бы и пылкий и искренний, а всем сердцем любящий, самоотверженный и всепонимающий юноша, готовый самоустраниться ради любимого существа, юноша, в котором есть что-то от главного героя «Униженных и оскорбленных», юноша, внезапно постигший, насколько сложна жизнь и как трудно уложить ее в строго очерченные рамки, юноша, в течение нескольких минут переживший крутой душевный перелом. Сам-то он не отступит, сам-то он не поддастся, сам-то он навеки пребудет верен своим идеалам, но он бесконечно любит Сашу и не находит для нее слов осуждения.
– Я одного только желаю, чтобы ты была счастлива. Только сумей быть счастливой, Саша! Ты обо мне и об моих словах забудь; а хоть как-нибудь, уж по-своему, сумей найти себе счастье.
На «Таланты и поклонники» стоило пойти хотя бы ради того, чтобы услышать, какая всепрощающая глубина чувства, какая боль расставания, тем более мучительная, что оно наступает вслед за расцветом счастья, какая тоска одиночества звучала в этом монологе у Кудрявцева.
Я видел пять Елен Турбиных: трех во МХАТ и двух в Театре имени Станиславского. Лучшей из них была, бесспорно, первая ее исполнительница Вера Сергеевна Соколова.
Для меня она была пленительней писаных красавиц, хотя, увидев ее впервые, я, не зная пьесы, задал себе вопрос: «Неужели Елена должна быть по пьесе такой некрасивой?» Красоту заменяло Соколовой несравненное обаяние – обаяние женственности, обаяние наружного и душевного изящества, обаяние голоса, в «Днях Турбиных» обволакивавшего слух зрителей еще за сценой, когда она произносила первую свою реплику; обаяние теплого, пушистого голоса, голоса переливчатого, выражавшего то негу, то гнев, то смятение, то муку, не перестававшего восхищать свободой интонаций, которые всегда были подсказаны актрисе безошибочно избранным ею внутренним и внешним рисунком роли, тем, что сейчас на сердце у Елены Турбиной или у царицы Елизаветы Петровны. Соколова играла умницу, женщину интеллигентную, на которую офицерская среда не наложила ни малейшего вульгарного отпечатка, женщину кокетливую и чуткую, легкомысленную и заботливую, она играла прекрасного человека, любящую сестру. Весь уют, которым дышала турбинская квартира, казалось, исходил от нее. Если Елену играла не Соколова, в этой квартире становилось холоднее.
И притом Елена – Соколова была женщина с характером. Она не устраивала «сцены» своему супругу, думавшему только о том, как бы спасти свою шкуру, и оставлявшему ее на произвол судьбы. Ни одной крикливой ноты не было в голосе у Соколовой. Она обдавала Тальберга ледяным презрением. Чувствовалось, что этот человек погиб в ее глазах навсегда.
Шервинский ей определенно нравится, но она видит все его недостатки и слабости и с мягкой, шутливой настойчивостью пытается отучить его от скверных привычек.
Соколова тонко проводила сцену опьянения во второй картине. Для нее это было лишь средством выражения одолевавших ее мрачных предчувствий, не дававших ей покоя ни днем, ни ночью («Вся жизнь наша рушится. Все пропадает, валится»), той сумятицы, какая бурлила у нее в душе после бегства мужа, после панихиды, которую отслужил по Белой армии Алексей, наконец, средством выявления борьбы с нарастающим чувством к Шервинскому, борьбы, которая кончается тем, что она, не в силах долее противиться ему, с блаженным отчаянием восклицает:
А, пропади все пропадом!
После того как до дому добрался раненый Николка, мы чувствовали у Соколовой уже не все усиливающееся сердечное влечение, а все усиливающуюся душевную пытку.
Сначала в голосе ее слышится тревожная растерянность:
А где Алексей? Где Алексей?
Затем растерянность исчезает, остается одна лишь тревога, но тревога напористая, властная:
Отвечай одно слово: где Алексей?
Она догадывается о том, что произошло, и, глядя внезапно обезумевшими глазами, очень тихо и очень просто произносит:
Ну, все понятно! Убили Алексея!
Если бы она сейчас вскрикнула, зрителю было бы легче. Но эти слова производят тем более сильное впечатление, что Елена – Соколова произносит их как будто бы безучастно – она подавлена и еще не до конца верит своей догадке.
Но вот она пристально вглядывается в лицо Николки и, утвердившись в своих подозрениях, мечется в тоске, сжимающей ей сердце.
Ты посмотри на его лицо, – говорит она Мышлаевскому. – Посмотри! Да что мне лицо! Я ведь знала, чувствовала, еще когда он уходил, что так кончится!
И теперь она уже не в силах перебороть себя. В голосе у нее дрожат слезы.
Ларион! – по-женски беспомощно обращается она к своему кузену. – Алешу – убили!
Это она выговаривала с жгучей душевной болью. Явственно различимый словораздел усиливал вес каждого слова, но все-таки она еще как бы не верила собственным словам и вопросительно смотрела на Лариосика. В голове у нее не укладывалось, что можно убить такого человека, как ее брат Алеша. Осмыслить до конца, что Алеши нет в живых, она еще не в состоянии.
Вчера вы с ним сидели – помните? А его убили …
Человеку свойственно искать виновников своего несчастья – ему от этого как будто бы легче, и она обрушивается на офицеров с язвительным гневом, который питают ее страдания:
А вы?! Старшие офицеры! Все домой пришли, а командира убили?..
Зритель, глядя в этот миг на Елену – Соколову, еще так недавно веселую, гостеприимную хозяйку, вносившую так много оживления в застольную беседу, женщину, в которой расцветала ее любовь к Шервинскому, ощущал всю силу ее бездонного горя, но средства для изображения страданий Соколова выбирала самые естественные. К истерике она не прибегала, пиротехники не применяла, – слишком тонкая была она для этого артистка. Душевная боль росла в ней crescendo. И столь же естественно получался у нее финал, к которому зритель был подготовлен всем ходом сцены, развивавшейся по законам логики человеческих переживаний.
«Николка. Убили командира…»
Известное сравнение «упал как подкошенный» основано на верных наблюдениях. Именно так падала в обморок Соколова – как подкошенная, как убитая наповал.
Будучи еще студийкой, Соколова сыграла трудную роль царицы Елизаветы Петровны в одноименной пьесе Смолина («Трагикомедии дворцовых переворотов», как она значилась на афишах, в программах и на титульном листе). Впоследствии этот спектакль вошел в репертуар Малой сцены МХАТ. Перед зрителем проходила жизнь Елизаветы Петровны. Я и сейчас вижу Елизавету – Соколову разрумянившейся от мороза после катания с Разумовским, в расцвете молодости – она вся полна своим еще по-девичьи застенчивым, но уже неодолимым чувством к Разумовскому. Я и сейчас вижу ее уже усталой от забот и волнений, поблекшей женщиной, к которой привели из крепости Иоанна Антоновича, вижу, как в ней борется простая человеческая жалость к юному полупомешанному узнику с опасениями царицы, что этот несчастный может стать знаменем в руках ее противников. И я вижу ее смертельно больной, умирающей, но до последнего мига сохраняющей любовь к жизни и перед самой кончиной просящей девушек, чтобы они спели ее любимую песню:
Разыгралась-расплясалась Красна девица-душа, Красна девица-душа Лизаветушка хороша.С годами Соколова зачахла. После Елены она сыграла только одну роль, соответствовавшую ее внутреннему строю, где нужны были соколовские, еле заметные переходы из одного душевного состояния в другое, быстрая смена настроений, подобная игре световых и теневых пятен, набегающих одно на другое, – это роль Раисы в «Унтиловске» Леонида Леонова: недаром один из героев сравнивает ее со скрипкой Амати. Но эту пьесу я читал, а видеть мне ее не пришлось. Соколовой давали роли комические, вроде «просто приятной дамы» в «Мертвых душах», а она была совсем не комедийная актриса, или роли женщин отталкивающих, злобных и примитивных, а на рысаках воду не возят. Играла она эти роли добросовестно, со вкусом, с профессиональным уменьем, но ей приходилось держать свое очарование за семью замками. Кто же, как я, имел счастье несколько раз видеть ее в Елене и в Елизавете Петровне, те не забудут ее вовек. Она прошла по нашей сцене обидно мимолетным, но благодаря ее дарованию прочно оставшимся в памяти зрителей видением.
По свидетельству жены автора «Дней Турбиных» Елены Сергеевны Булгаковой, с которой я впоследствии подружился и по ходатайству которой я был введен в комиссию по литературному наследству Михаила Афанасьевича, драматург говорил о Топоркове: «Вот это мой Мышлаевский!».[36]
Топорков пришел в МХАТ из Театра комедии (бывш. Корша) уже любимцем Москвы.
В старшем поколении Художественного театра, хотя оно и представляло собой рыцарский орден, совсем не было кастового духа, усыпляющей, убаюкивающей уверенности, что у нас-де все лучше, чем у людей, что у нас, мол, в руках ключи от всех замков, что мы, мол, знаем петушиное слово. Сошлюсь на один мой разговор с Ниной Николаевной Литовцевой о Топоркове. Она считала, что он еще лучше играл у Корша, что Художественный театр чего-то не сумел в нем раскрыть, а что-то нечаянно зажал.
Домхатовский период Топоркова мне известен только по отзывам критиков, актеров и зрителей. Я полюбил Топоркова с первой моей зрительской встречи с ним, то есть со спектакля «Дни Турбиных». С того момента, когда он, промерзший до костей, появлялся впервые, и до финала пьесы он жил на сцене, жил полной жизнью, верилось, что это военный, продымленный порохом мировой войны, огрубевший в завшивленных окопах, но Топорков знал меру этой огрубленности, она у него доходила до известных пределов. Мышлаевский был не груб, а грубоват – в искусстве эти грани и решают дело. Топорков не напрашивался на сочувствие, на смех, но публика сочувствовала ему там, где он в этом нуждался, и смеялась там, где он этого хотел.
… Есть основания предполагать, что у Мышлаевского отморожены на ногах пальцы.
«А л е к с е й. Николка, растирай ему ноги водкой».
Мышлаевскнй – Топорков реагирует на это с досадливой живостью:
– Так я и позволю ноги водкой тереть. И тянет из горлышка. В зрительном зале – хохот.
Лариосик с завистливым восхищением следит за тем, как Мышлаевский – Топорков пьет водку за ужином.
– Как это вы ловко ее опрокидываете, Виктор Викторович!
– Достигается упражнением, – пресерьезно отвечает Мышлаевский – Топорков.
В зале – хохот.
В последней картине как снег на голову сваливается бывший супруг Елены – Тальберг. Он остается вдвоем с Еленой и оскорбляет ее. Елена зовет Мышлаевского, предлагавшего в случае чего прийти ей на помощь. Входит Мышлаевский – Топорков.
«М ы ш л а е в с к и й. Лена, ты меня уполномочиваешь объясниться?
Е л е н а. Да! (Уходит.)»
Мышлаевский – Топорков приближается к Тальбергу, с убийственным хладнокровием, не повышая голоса, говорит ему только два слова:
– Ну? Вон! Поворачивает его и дает ему под зад коленом. При появлении Елены
Мышлаевский – Топорков как ни в чем не бывало:
– Уехал. Дает развод. Очень мило поговорили. В зале – громовой хохот. Топорков с такой грубоватой нежностью говорил во второй картине:
– Лена золотая! Радость моя! Рыжая Лена, я знаю, отчего ты так расстроена. Брось! Все к лучшему!
– Лена ясная, позволь я тебя обниму и поцелую, – так говорил, что зритель не мог не верить в его братскую любовь к Елене.
И была неподдельной его запальчивая издевка – издевка обманутого верного служаки, с какой он обрушивался на Шервинского после бегства гетмана:
– Здоровеньки булы, пане личный адъютант. Чому ж це вы бэз аксельбантив?.. Если бы мне попалась сейчас эта самая светлость, взял бы ее за ноги и хлопал о мостовую до тех пор, пока не почувствовал бы полного удовлетворения. А вашу штабную ораву в уборной следует утопить!
Мышлаевский в исполнении Топоркова – это один из самых цельных, законченных, во всем, до единого жеста, правдивых образов, какие я видел на сцене.
Издали, когда оглядываешься назад, особенно хорошо видна широта топорковского диапазона. Как стремителен и воздушен был Топорков в Продавце шаров из «Трех толстяков» Олеши! (Постановка 1930-го г.) «Ух! Ух! Ух!» – того и гляди, улетит со своими шарами. Топорковский Битков из пьесы Булгакова «Последние дни», агент Третьего отделения, приставленный к Пушкину, был и смешон, и жалок в своей непроходимой глупости, и мерзок, как слизняк. Врезался в мою память Топорков и в небольшой роли Антонова из пьесы Вирты «Земля»: одичалые глаза, впалые щеки, зло выпирающие скулы. Когда я смотрел на него, мне вспоминались стихи Багрицкого из либретто оперы «Дума про Опанаса»:
Все пропето! Все пропито! Никого на свете!Роль ученого дурака профессора Круглосветлова из «Плодов просвещения» состоит в том, что он несет несусветную ахинею. Но вот что значит большой талант! Ахинея скучнейшая, а зритель не скучал – он смеялся от души. Топорков не впадал в карикатуру, в шарж. Искры смеха Топорков высекал благодаря тому, что он молол чушь с полной убежденностью в непогрешимости своих доводов.
Первый исполнитель роли Шервинского в «Днях Турбиных» – Прудкин, и это одна из лучших его ролей. Вылощенный, элегантный «адъютант его светлости», поверхностный, остроумный, хотя и не без пошлятинки, с авантюристической жилкой, вдохновенный враль, лгущий с самым невинным видом и готовый в любую минуту отказаться от своей лжи, более или менее ловко вывертывающийся, выкручивающийся, и внешне и внутренне юркий, умеющий быстро ориентироваться в обстановке и применяться к ней (адъютантская служба не прошла для него даром), бонвиван и в сущности «теплый малый». Сердиться на него невозможно – он всякого обезоружит своим напускным простодушием, хотя на самом деле он далеко не такой простачок, каким в иных случаях прикидывается, – он очень даже себе на уме.
Прудкин в роли прокурора Бреве из «Воскресения» Толстого, ничтожного и пустопорожнего карьеристишки с мелкой душонкой, с мелкими страстишками, которому ничего не стоит растоптать человеческую жизнь, лишь бы подняться еще на одну зашарканную и зашмыганную ступеньку служебной лестницы, трусливо прячущего свои блудливые глазки, когда с ним, как со своим добрым знакомым, поздоровалась на суде хозяйка публичного дома; Прудкин в роли Кастальского из афиногеновского «Страха» – Кастальского, скрывающего под внешним лоском, под маской служения науке, за бойкими и красивыми фразами труса, предателя и клеветника; Прудкин в роли плотоядного и ехидного Бакина, этой прожженной души; Прудкин в роли остряка-проходимца Мехти-Ага из «Глубокой разведки» Крона, Прудкин в роли густопсового мещанина Басова из «Дачников» Горького – это редкостно тонкий художник, умеющий даже из маленькой роли сделать большую.
До Лариосика в «Днях Турбиных» Яншин преуморительно играл пономаря в «Елизавете Петровне». Но все-таки это была его артистическая предыстория – история его артистического пути начинается с Лариосика. В Лариосике он раскрыл всю прелесть своего лирико-комического дарования. Лариосик – Яншин – это, как и Николка, еще почти мальчик. Провинциализм в нем виден с первых же его шагов по сцене. Он неловок в движениях и в изъявлении своих чувств. Он несообразителен, недогадлив, до него все доходит с большим запозданием. Он до наивности прекраснодушен, он не умеет притворяться и лгать, а если и прилгнет, то тут же себя и выдаст. Мы много смеялись над яншинским Лариосиком, хотя Яншин ни в одной реплике и ни в одном жесте не пересаливал. Этот маменькин сынок трогал нас своей беспомощностью в практической жизни, своей незащищенностью, своей незадачливостью в сердечных делах, хотя Яншин не подбавлял в свою игру ни крупицы сахарину. То чувство меры, какое отличало пьесу и спектакль в целом, было в высшей степени свойственно Лариосику – Яншину, и это свое драгоценное свойство Яншин проявлял потом в каждой порученной ему роли. Искренность переживаний, мягкость юмора, неслезливый лиризм, разумная скупость в выборе изобразительных средств, богатство полутонов и оттенков – все эти особенности своего дарования Яншин не зарыл в землю, а, наоборот, с течением времени развил и утончил. В одной и той же роли, как, например, в роли сэра Питера из «Школы злословия», в которой он так полюбился публике, он был одинаково хорош и в комических и в драматических эпизодах.
В том же сезоне, что и Лариосика, Яншин играл старого, всегда под хмельком, садовника Антонио из «Женитьбы Фигаро», и нельзя было на него без смеха смотреть и без смеха его слушать.
Вскоре после старика Антонио Яншин сыграл комсомольца Васю в «Квадратуре круга» Валентина Катаева. Катаев – автор «Квадратуры круга» и «Домика» – прирожденный комедиограф. «Квадратура круга», хотя автор и назвал ее скромно «шуткой», представляет собой отнюдь не пустячок. Если б это был пустячок, то, во-первых, вряд ли он попал бы на сцену тогдашнего требовательного и взыскательного к авторам МХАТ, а во-вторых, вряд ли бы им заинтересовался и вряд ли взял бы на себя руководство спектаклем Вл. И. Немирович-Данченко. В «Квадратуре круга» Катаев обнаружил знание сцены, удивительное для начинающего драматурга, который до этой пьесы инсценировал свою повесть «Растратчики». Не в ущерб водевильной легкости он так построил «Квадратуру круга», что в ней нет ни одной в дурном смысле слова водевильной ситуации. В этой же «шутке», потешной и свободной от пошлой дешевки, Катаев обнаружил знание быта, который он здесь изображает. Его герои говорят тем языком, каким говорила тогдашняя молодежь, – с примесью модных в ту пору словечек, причем Катаев распределил эти словечки между героями соответственно их нраву, мироощущению, культурному уровню, «социальному происхождению». Эту пьесу ставили в губернских городах, ставили в уездных любительских драмкружках. Художественный театр разыграл «Квадратуру круга» как по нотам. Игра Яншина, Бендиной, Добронравова и Ливанова – это было веселье шумное, блещущее, как море в солнечный день.
После комсомольца Васи Яншин сыграл забавного старика – доктора Гаспара Арнери в «Трех толстяках». Там было очарование бесхитростной молодости. В Гаспаре это было очарование старческого простодушного лукавства, сочетавшегося со старческой беспомощностью. Это был добрый волшебник, чудодей из сказки до тех пор, пока он занимался своими опытами, но как же терялся этот старик при столкновении с жизнью! С какой задорной уверенностью в магической силе своих знаний распевал он песенку, которую зрители с его голоса тут же заучивали наизусть: «Как достать рукой до звезд, Как поймать лису за хвост, Как из камня сделать пар, Знает доктор наш Гаспар».
Как было его жалко и как в то же время занятно было на него смотреть, когда он, попав в самую гущу толпы восставших против трех толстяков, сетовал на то, что у него кто-то нечаянно сбил с носа очки, а без очков он не может наблюдать события!
С каким истинно чеховским тактом, с каким опять-таки чеховским сокровенным лиризмом стал играть Яншин уже в пору своей полной артистической зрелости Вафлю из «Дяди Вани»!
В четвертом действии, беседуя с няней, он вспоминал:
– Сегодня утром, Марина Тимофеевна, иду я деревней, а лавочник мне вслед: «Эй, ты, приживал!» И так мне горько стало!
Яншин произносил эти слова, никого не стараясь разжалобить, – просто они как бы сами собой выливались из его оскорбленной души. Да и с кем ему поделиться своей обидой, как не с няней? Он хоть и бывший помещик, а стал еще ниже ее по положению, с господами же он и не дерзнет об этом заговорить. Зрителю так хотелось утешить этого, в сущности, бесприютного старика, и такая ненависть просыпалась в нем к сытому, наверно, курносому, мордастому, разъевшемуся и обнаглевшему лавочнику, наверно, в жилетке и в рубашке на выпуск!
Яншин – Градобоев уступал Тарханову в бытовой характерности. Вместо тархановского любовного обыгрывания каждой фразы Островского мы слышали яншинскую скороговорку. Зато в последнем действии Тарханов тушевался, а Яншин расцветал. Опираясь на Островского, он показывал, что и в Градобоеве где-то глубоко-глубоко живет человек. Градобоев – Яншин был искренне рад, что ему удалось сделать доброе дело, он ликовал, он весь сиял от этой радости.
Когда Яншин – Маргаритов из «Поздней любви» обнаруживал пропажу документа, грозившую ему вторичной утратой чести, он не рвал на себе волосы, не вопиял, не безумствовал – он обычным своим голосом говорил, обращаясь к Дормедонту:
– Ты разбойник!.. Ты разбойник!.. Продали!
– Что вы так смотрите? Что вы так страшно на меня смотрите? – спрашивал Дормедонт.
От взгляда Яншина – Маргаритова страшно становилось не только Дормедонту, но и зрителям – такая в этом взгляде была сила отчаяния.
Гетман Скоропадский действует в «Днях Турбиных» только в одной картине. Но до того выразителен авторский текст и так блестяще играл эту роль Ершов, что зрители создавали себе о Скоропадском полное представление. У этого мелкого, бесхарактерного человека, у этого опереточного «гетмана» статный рост и сложение, величественная осанка, которая лишь подчеркивает его опереточность, и выработанно властный тон. Каким расслабленным смехом, свойственным людям бесхребетным, бескостным, смеется он, когда адъютант Шервинский, от которого он только что потребовал говорить по-украински, начинает, запинаясь, рапортовать:
– Дежурный адъютант… книзь Новожильцив… Я думаю… думаю… думоваю… (На некоторых спектаклях Прудкин еще прибавлял: думоваю.)
– Что? Думоваю? – трясясь от смеха, переспрашивал Ершов – Скоропадский и махал рукой. – Нет, поручик, говорите уж лучше по-русски.[37]
У Ершова – Скоропадского все показное. Он привык в каждой мелочи бить на эффект. За душой у него нет ломаного гроша – все у кого-то заимствовано, взято напрокат. Он молодец только против овец. Он способен властвовать и повелевать только своими адъютантами и своей «ко-мен-да-ту-рой», – так, торжественно скандируя, в восторге, что у него своя комендатура, произносит он это слово. В общении с Шервинским он сразу берет начальственный тон:
– Сводку мне за последний час. Живо. Звонит по телефону:
– Ко-мен-да-ту-ра? Дать сейчас же наряд… Но-но-но, по голосу, по го-ло-су надо слышать, кто говорит.
Но вот появляются немцы. Скоропадский – Ершов сначала ерепенится, но очень скоро, познав всю незавидность своего положения (наступающие петлюровцы намерены его, как недвусмысленно и вполне добродушно выражается немецкий генерал фон Шратт, «повиэсить») и всю тщету своих усилий поправить дело, поджимает хвост и вместе с немцами тайком, переодетый, дает тягу из Киева.
В том портрете Скоропадского, который масляными красками написал Ершов, ничего нельзя было ни добавить, ни убавить. Я помню еще одну такую же удачу Ершова: это – Скалозуб. В одной из постановок «Горя от ума» режиссеру понадобилось провести за сценой перед выходом Скалозуба чуть ни целую роту, дабы подчеркнуть Скалозубово солдафонство (какова тонкость приема!). Но все попусту, ибо актер-то играл не солдафона и как-никак полковника, а в лучшем случае – приказчика из галантерейной лавки. Ершов – Скалозуб был до того типичен и до того ярок в своем тупом солдафонстве, в своей парадности, что, когда Чацкого играл не Качалов, можно было подумать, что Грибоедов написал пьесу о Скалозубе.
Неизмеримо слабее Качалова, но все же хорош был Ершов в Гаеве. Основное в этом образе было им уловлено, схвачено. По-настоящему трогателен был он в последней своей сцене – сцене плача по вишневому саду. Во всех остальных ролях Ершов был неизменно красив, представителен, но и только.
В одной своей крупной неудаче он, впрочем, был неповинен. Я говорю о Нехлюдове из «Воскресения». Здесь вина ложится на инсценировщика и на театр, эту инсценировку принявший и одобривший. Заставить актера безмолвно переживать на сцене то, о чем рассказывает чтец, да еще такой чтец, как Качалов, – с подобной задачей не справился бы и гений. Роль Нехлюдова в этой инсценировке получилась чуть не на половину мимическая. Между тем инсценировка носит название – «Воскресение». Позвольте: а кто воскресает у Льва Толстого? Нехлюдов, ибо, по мысли Толстого, пала вовсе не Катюша, – она, которую столкнули в грязь, не запачкалась, – пал нравственно Нехлюдов. Но именно воскресения Нехлюдова мы и не видели. Быть может, это и нельзя показать на сцене. Дореволюционные инсценировщики были, во всяком случае, последовательны – свое драмоделие они называли: «Катюша Маслова». И в Художественном театре это был спектакль не о Нехлюдове, а о Катюше. Но тогда к чему – сами по себе интересные и значительные – сцены в деревне и у графини Чарской, в которых Катюша отсутствует и в которых центр тяжести опять-таки отнюдь не Нехлюдов, а Матрена, мужики, мальчишки, графиня Чарская и Мариэтт? В инсценировке не оказалось стержня. Это ряд на живую нитку сметанных сцен с могучим толстовским текстом, сцен, прослоенных комментариями чтеца. Но на такой высоте была режиссура (Немирович-Данченко и Судаков), так до жестокости ярки были сцены на суде и в тюрьме, так потрясающе читал Качалов, так чудодейственно хороша была Еланская в своей вершинной роли – роли Катюши, до того верен Толстому был ее внешний и внутренний облик (даже глаза у нее были, как у толстовской Катюши – «черные, как мокрая смородина»), так искренна она была в каждой реплике, в которой трепетала вся ее истерзанная душа, так естественна была она в своем надрыве, так ощутима была смятенность, взбудораженность, взвихренность ее чувств, и до того отгранены были все эпизодические фигуры – от графини Чарской до судейских, тюремных надзирателей и арестанток, что и критика в свое время (если только память мне не изменяет) прошла мимо многих изъянов и недостатков инсценировки и зритель их не замечал, – вопреки инсценировке актеры и режиссура создали один из лучших спектаклей послереволюционного МХАТ.
Станицына московский зритель запомнил после того, как он сыграл Разумовского в «Елизавете Петровне». Были в станицынском Разумовском и природный ум, и ширь размаха, и украинский юмор, и хитреца, и преданность Елизавете – преданность не только фаворита императрице, но и преданность любимой женщине, своей «голубоньке».
В «Днях Турбиных» он играл эпизодическую роль генерала фон Шратта. Это была скульптурная лепка образа. Бронированное спокойствие, тупость, сочетавшаяся с тяжеловесным остроумием, маска добродушия, прикрывающая механическую жестокость, способность в любую минуту выпустить когти… А несколько сезонов спустя Станицын бесподобно сыграл в «Мертвых душах» блаженствующего бездельника губернатора, вышивающего по тюлю и распевающего игривым старческим козлетончиком чувствительный романсик.
В «Трех сестрах» Станицын – Андрей Прозоров был одной из наиболее чеховских фигур. Удивительно проникновенен, задушевен он был в самой трудной для исполнителя роли Андрея сцене – в конце третьего действия, когда он сначала пытается доказать Ольге и Ирине, что он во всем прав, но быстро сбивается с уверенного тона, потому что совесть мучает его, – ему горько от сознания, что он исковеркал жизнь себе, испортил жизнь сестрам, – и в конце концов теряется, путается, обрывает себя, и вдруг у него со слезами раскаяния вырывается прямо из души:
– Милые мои сестры, дорогие сестры, не верьте мне, не верьте.
В «Плодах просвещения» Станицын играл Звездинцева. И снова – полное совпадение замысла авто pa и замысла актера, «прямое попадание»: этакая безобидная, доверчивая, барственная размазня.
Ливанов играл в «Днях Турбиных» петлюровского сотника Галаньбу и гетмана Скоропадского. Но не этими двумя ролями славен Ливанов.
Ливанов запоминался в роли князя Шаховского в «Царе Федоре»… Открытая, широкая, во все лицо, улыбка, сверкающая ровной белизной зубов. И шуба и душа – все нараспашку. Хитрить, что-то таить в себе он не способен. Что он в этот миг чувствует, все отражается на его красивом лице. Как будто это его имел в виду автор «Царя Федора», когда писал свое известное стихотворение:
Коль любить, так без рассудку, Коль грозить, так не на шутку, Коль ругнуть, так сгоряча, Коль рубнуть, так уж сплеча.Шаховской – Ливанов и чару единым духом осушит, и в кулачном бою не сробеет, за свою невесту готов буйну голову на плахе сложить и потянуть за собой на гибель и виноватых и правых, людей, которых он особенно чтит, если ему покажется, что они чинят ему козни.
И вот Ливанов – юноша казах Хусаин Кимбаев из «Страха». Он входит к профессору Бородину и на секунду столбенеет от радостного изумления при виде такого множества книг.
Сколько хороших книг!
Один хищный бросок – и он у книжных полок. Оп тянется к ним своими длинными, гибкими, ухватистыми руками, он жадно ощупывает их, а потом с укоризной обращается к Бородину:
Смотри, товарищ, пыль на книгах. Не читаешь? Книги зря стоят … Нельзя книгам стоять.
Тяга к знаниям, преодолевающая все препоны, – вот что было написано на лице у Кимбаева – Ливанова. Ему еще нелегко дается наука. Хусаин – Ливанов чистосердечен и не стыдится в этом признаться. Он схватывается за голову, болезненно морщась:
Болит голова. Ночью овцы врозь бегут. Буквы врозь бегут, поймать трудно.
Но упорство у него железное, хватка тигриная, и зритель верил: знания от Кимбаева не разбегутся, он их поймает, каких бы усилий это ему ни стоило.
Способность к воплощению людей разных «племен, наречий, состояний» была у Ливанова поразительна. Чувственный, развратный аристократ граф Альмавива из «Женитьбы Фигаро» нашел себе в лице Ливанова не менее удачного исполнителя, чем яростно рвущийся к свету казах Кимбаев. Ливанов не огрублял графа. Он сочетал с похотливостью аристократическую утонченность. Это был обольстительный распутник с знойной кровью в жилах.
Кудряшом – Ливановым, как и его Шаховским, можно было залюбоваться. Тут тоже чувствовалась удаль дерзкая, удаль молодецкая, но удаль, головы не теряющая. Широта натуры уживалась с конторщицкой сметкой. В Кудряше – Ливанове, помимо всего остального, очень чувствовался волжанин, у речного простора выросший, чувствовалось, что его кудри не раз трепал вольный ветер, что не раз его лодочка чернела в волнах. И говорил он по-волжски певуче. И в любовных сценах он весь был как песня. Ему все не сиделось на месте, в нем играла каждая жилка. Он посиживал на лавочке, но стоило затрезвонить колоколам, – и он в такт трезвону потирал и скрипел сапогом о сапог.
А в «Мертвых душах» он победил своего предшественника – Москвина. Для Москвина это была одна из многих ролей. У Ливанова Ноздрев стал, выражаясь языком прежних театральных критиков, коронной ролью. Он играл Ноздрева много лет с неуменьшавшимся аппетитом. И каждый раз выискивал новые краски, каждый раз что-то еще придумывал – в духе и во вкусе Гоголя. Ливановский Ноздрев – это общественное явление. И все это было бы уморительно смешно, когда бы не было так страшно. В конце сцены, происходящей у него в имении, с Ливанова – Ноздрева спадала оболочка – оболочка пусть и нечистого на руку враля, всегда готового сплутовать, смошенничать, но в общем все-таки довольно безобидного, плута, с которым надо только держать ухо востро, не зазевываться и ворон не считать, – в конце сцены с Чичиковым это был уже не просто жох, хват, буян, сорванец, это был разбойник, лиходей, тем более опасный, что внешность у него рубахи-парня, души-человека.
В разгар работы Художественного театра над новой постановкой «Дяди Вани» (1947) у меня состоялся долгий разговор о Чехове-драматурге с Литовцевой, ставившей «Дядю Ваню» вместе с Судаковым под руководством Кедрова. Разговор этот состоялся у нее в кабинете. Я задал ей вопрос:
– Что вас как режиссера влечет к Чехову?
– Его неисчерпаемая глубина, – ответила Нина Николаевна. – Сколько бы вы ни работали над каким-нибудь куском его пьесы, у вас никогда нет ощущения, что вы все раскрыли до конца. За словами его персонажей неизменно присутствует то, что на языке нашего театра именуется «вторым планом». Вскрыть этот «второй план», помочь актеру найти верное самочувствие для каждого эпизода – в этом и состоит важнейшая задача режиссера, работающего над Чеховым. Если внутреннее состояние найдено правильно, то словесная оболочка срастается с ним уже без труда. Сейчас я вам приведу пример этой чеховской двупланности.
Нина Николаевна взяла со стола томик пьес Чехова и, быстро отыскав нужный отрывок, начала читать.
Я словно присутствовал на репетиции чеховской пьесы. Это был образец режиссерского мастерства. Я слышал характерные интонации чеховских героев. Их как будто бы случайные переходы от темы к теме вдруг прояснялись, получали внутреннее оправдание.
Одна из исполнительниц роли Ирины в Художественном театре, Литовцева прочла ту сцену из второго действия «Трех сестер», когда Ирина, вернувшись с телеграфа, куда она поступила работать, усталая, раздраженная, рассказывает о том, что она ни с того ни с сего нагрубила одной даме.
– Это не случайная усталость и не случайное раздражение, как может показаться с первого взгляда, – пояснила Литовцева. – Вообще у Чехова ничего случайного нет. Здесь у Ирины впервые проскальзывает сомнение в полезности ее труда, хотя она и не говорит об этом прямо. Раньше она утверждала, что самое важное в жизни – это работа. Но постепенно она убеждается, что если у человека нет четкого мировоззрения, если он не поставил перед собой определенной цели, то и труд его становится бессмысленным и не может дать удовлетворения. Вот это первое сомнение в правильности избранного пути и должна здесь донести до зрителя актриса, играющая Ирину. А что такое толкование не предвзято – это доказывают реплики других сестер, да и все творчество Чехова, в нем ведь существует целая система тематических перекличек. Вспомните слова Маши: «Или знать, для чего живешь, или же все пустяки», вспомните слова Ольги в финале пьесы: «Еще немного, и мы узнаем, зачем мы живем, зачем страдаем … Если бы знать, если бы знать!» Вспомните, наконец, профессора из повести «Скучная история», гибнущего оттого, что у него нет «общей идеи».
Я уже указывала вам на одну из особенностей чеховского творчества: выражаясь его же словами, стоит вам взяться за один конец цепи, как сейчас же отзовется в другом. В любой его пьесе идейные мотивы тесно переплетены между собой и перекликаются с идейными мотивами других его произведений. Стремлением вырваться из тусклой обыденщины в Москву, которая является символом всего изящного, символом полной, бьющей ключом жизни, охвачены почти все герои «Трех сестер», – даже старый Ферапонт бредит Москвой. Правда, у него представление о Москве в соответствии с общим кругом его представлений принимает комический характер, но и он мечтает о чем-то грандиозном, не похожем на крошечный мирок провинциального городка. А теперь заглянем в «Дядю Ваню»: даже жалкий старик Телегин – и тот одержим идеей, что если люди будут любить друг друга, то жизнь станет прекрасной. А когда на вопрос Астрова: «Те, которые будут жить через сто-двести лет после нас, помянут ли нас добрым словом?» – старая нянька Марина отвечает: «Люди не помянут, зато бог помянет», то в ее словах нам слышится своеобразно выраженная твердая вера в мировую справедливость. Недаром Астров говорит ей: «Вот спасибо. Хорошо ты сказала».
Эти слова Литовцевой, которые я за ней записывал, я привожу здесь потому, что, по-моему, Литовцева, ученица Немировича-Данченко и Станиславского, на нескольких примерах продемонстрировала истинно мхатовский подход к Чехову, а истинно мхатовский, станиславско-немировичевский подход к Чехову представляется мне единственно верным. Во всяком случае, пока что всякие попытки порвать с традициями Художественного театра в трактовке Чехова или сыграть Чехова, не располагая для этого крупными силами, попытки, имевшие место как в стенах самого Художественного театра, так и вне его, оканчивались крахом и у взыскательного, искушенного зрителя, которого на мякине не проведешь, вызывали возмущение.
Всеобъемлющих явлений в искусстве не бывает. Не всякий Сезам послушался бы приказа Художественного театра. Суровая в своей страстности романтика Шиллера, фейерверочная романтика Гюго, стальной, не греющий блеск комедий Скриба, облитая горечью и злостью романтика драм Лермонтова или плакатная броскость Маяковского – все это для него не в коня корм. Но есть авторы и пьесы, в свое время нашедшие себе на сцене Художественного театра совершенное воплощение.
Каждая пьеса Чехова – это рояль. Если хоть одна клавиша в нем западает, это отзывается на всем спектакле.
В возобновленном на сцене Художественного театра «Вишневом саде» (1928 год), пока не переболтался состав исполнителей, ни одна клавиша не западала – вплоть до роли Яши, в котором Добронравов подчеркивал нахальство, а Грибов – плутовство.
Мы знаем, какой скромностью отличался Станиславский.
При чтении «Моей жизни в искусстве» можно подумать, что вся эта жизнь, за редкими исключениями, представляла собой цепь ошибок, заблуждений и неудач. Тем знаменательнее гордые слова, какие написал Станиславский об этой постановке «Вишневого сада» в черновом наброске статьи (1928), им не озаглавленной: «Не смущаясь тем, что нас считали отсталыми, я упорно занимался в тиши своего кабинета, твердо веруя, что придет и мое время. Оно настало. Самый большой, почти небывалый успех в прошлом сезоне у молодых современных зрителей имела старая пьеса „Вишневый сад“. Нас вызывали 26 раз. Это был ор, триумф такой, какого я не испытывал ни в Америке, ни в Берлине, ни у нас в России. При гастролях театра в Ленинграде у нас повторилось то же».[38]
«Вишневый сад» (режиссер – Станиславский, сорежиссер – Литовцева) был самой чеховской из послереволюционных постановок МХАТ и такой же ансамблевой, как «Дни Турбиных».
Я писал о Раневской – Книппер-Чеховой, о Гаеве – Качалове, о Лопахине – Леонидове, о Фирсе – Тарханове.
Лучшим Трофимовым из всех мною виденных был В. А. Орлов. Про иных пианистов говорят, что у них «мягкое туше». Вот такое «мягкое туше» было у Орлова. Чехов – автор Орлова. И какую из чеховских ролей ни вспомнишь в его исполнении, будь то милый, нелепый, кристальной душевной чистоты «вечный студент» Петя Трофимов, или упоенный своим обывательским благополучием Кулыгин, или, наконец, дядя Ваня, высшее достижение Орлова, – все они у него звучали в чеховском музыкальном ключе.
О дяде Ване Литовцева сказала:
– Из дяди Вани мог бы выйти если и не Достоевский, как он сам говорит о себе, то, во всяком случае, большой человек.
В дяде Ване – Орлове был ощутим именно большой человек. Вот почему мы, зрители, так сочувствовали ему, когда из души его вырывался стон:
– Пропала жизнь!..
В этой роли у Орлова паузы были не менее значительны, чем реплики и монологи. Убедившись, что Елена Андреевна не любит его, он молча стоит, прислонившись к дереву и приподняв голову, как приподнимает голову человек, который сдерживается, чтобы не крикнуть от боли. Между бровями залегла сумрачная складка. А в глазах такая глубокая-глубокая грусть, такая тоска, такая горькая обида – от непонятости, от неразделенности своего высокого чувства! В глазах Орлова читалась судьба дяди Вани – одаренного неудачника. То был один из наиболее выразительных, один из самых волнующих моментов в игре Орлова.
На заре артистической юности Орлова мы не могли не полюбить его за Гаврилу из «Горячего сердца», которого он играл честным, простоватым, безответным малым с таким же горячим, как и у Параши, сердцем. Яков Бардин – не главная роль во «Врагах» Горького, но благодаря своему искусству целостного, безостаточного вживания в образ Орлов превращал ее в одну из центральных. Он так прощался с Татьяной, такой был у него уходящий, потусторонний взгляд, что, если кто-либо из публики и не читал пьесы, он чувствовал, что Яков Бардин прощается не только с Татьяной, но и с жизнью, что он решился покончить с нею все счеты.
Одна из самых моих больших и глубоких привязанностей не только в Художественном театре, но и в театре вообще – это Бендина.
Уже в Фаншетте из «Женитьбы Фигаро» она показала, сколько в ней непосредственности, какое очарование в этой плутовочке. Ее Тильтиль весь был овеян воздухом сказки. Бендина играла взаправдашнего мальчика, играла без травестийного присюсюкиванья – и так она всегда играла детей. Без всякой зависти, самозабвенно любовалась она елкой в богатом доме, не задумываясь о том, почему так несправедливо устроен мир. А зрителя она заставляла задуматься.
Какие хорошие, не лгущие, вопрошающие, горевшие пытливым умом были глаза у ее Нади из «Врагов», когда она говорила:
– …мне страшно!.. Вдруг все как-то спуталось, и я уж и не понимаю… где хорошие люди, где – дурные?
И с такой юной горячностью, не знающей сделок с совестью, требующей прямого и ясного ответа на «проклятые вопросы», бросала она в лицо жандарму Бобоедову:
– Закон, власти, государство… Фу, боже мой! Но ведь это для людей?.. Так это же никуда не годится, если люди плачут. И ваши власти и государство – все это не нужно, если люди плачут!
В роли Дорины из «Тартюфа» Бендина была настоящая мольеровская горничная, смышленая, бедовая, задорная резвушка, девушка-огонь.
Как ни хороша была Бендина в Фаншетте, в Тильтиле, в Людмиле из «Квадратуры круга», в Суок из «Трех толстяков», в Наде, в Дорино, все же наивысший ее взлет – это Ленька из рассказа «Страсти-мордасти», включенного в горьковский спектакль под общим названием «В людях». Бендинский Ленька – это чудом выросший в подвале, который занимает его мать, торгующая своим телом, паклюжница Фролиха, необыкновенной красоты цветок. Грязь к нему не пристает. Ленька все понимает, и это наложило на него печать серьезности и грустной задумчивости, но он остается неиспорченным ребенком. Он перенял у окружающих его людей грубые, скверные слова, но произносит он их не смакуя и не вкладывая в них похабного смысла. Мать свою он любит, несмотря ни на что, любовью снисходительной и покровительственной.
– Она без меня жить не может, – говорит он о ней с нежной улыбкой. – Она ведь добрая, только пьяница… А она – хорошая…
Как обрадовался этот больной, сухоногий мальчонка, когда Алексей принес ему незатейливых игрушек – коробочек!
– Вот так коробочки! – весь светясь не по-детски тихой радостью, восклицает он.
Самая страстная его мечта – побывать «в чистом поле», которое он представляет себе смутно:
– Ничего нет, только трава да цветы. Мамка, ты бы вот нашла тележку, да свезла меня в чистое поле! А то – издохну и не увижу никогда.
В «Страстях-мордастях» рассказ ведется от лица автора. Автор пишет о Леньке: «…хотелось зареветь… от невыносимой, жгучей жалости к нему».
Именно это чувство и внушала своей игрой Бендина. И – каюсь: я ревел ревмя.
В Художественном театре меня почти на каждом спектакле изумляло внимание режиссуры к небольшим, даже к выходным, проходным ролям.
Стоит мне вспомнить «Любовь Яровую» – и в памяти тотчас всплывает Чир в исполнении Калинина. Ох, до чего жуток был этот добровольный доносчик с лицом скопца, доносчик по призванию, наушничавший и красным и белым, старавшийся придать своим колючим и приметливым глазкам благочестивое выражение!
Не могу я забыть в «Днях Турбиных» и Тальберга – Вербицкого с его как бы выцветшими, пустыми глазами себялюбца, в которых отражались то чувство неловкости, то кичливая заносчивость, то животный страх, с его нервной привычкой слегка почесывать ногтем щеку, как верно подметил Николка – чем-то действительно напоминавшего крысу – крысу, убегавшую с тонущего корабля.
Стоит мне вспомнить «Смерть Пазухина» – и в памяти вырисовывается отставной подпоручик Живновский – Готовцев, в глазах у которого одна мечта:
– …нам бы хоть выпить, что ли, дали – тоска берет-с! Заворовался в свое время подпоручик, стал пить горькую, – и вот теперь он приживальщик, на побегушках у старого купца Пазухина, терпит всевозможные унижения, в шутах гороховых при купце состоит.
– И после этакой-то жизни в Крутогорск попал! – замечает не без ехидства старик Пазухин. – По купцам ходит, старое платьишко вымаливает! Ин дай ему, Анна Петровна, сертучишко старый, там залежался…
Живновский – Готовцев всей своей позой выражает подобострастие и угодливость:
– Приму с благодарностью-с… всякую лепту приму! Старый чулок пожалуете, и тот приму…
А чуть погодя с ним происходит – правда, мимолетная – метаморфоза.
– А что, брат, – продолжает Пазухин, – если бы тебя полицмейстером-то к нам сделали, ведь ты бы нас, кажется, всех живьем так и поел.
Живновский – Готовцев приосанивается, с грозной лихостью крутит усы и произносит в ответ одно лишь зловещее:
– Гм… Но за этим междометием нам видятся и поборы, и взятки, и розги, и мордобой.
Живновский – Готовцев нечист и скор на руку. Его так и тянет, так и подмывает по старой привычке влепить кому-нибудь изрядного туза. В четвертом действии он пристает к Прокофию Ивановичу, имея в виду Фурначева:
– Прокофий Иванович! будь благодетелем, позволь, сударь, его разложить?
– Да прикажи ты, сударь, душу на нем отвести?
Руки у него чешутся, да вот горе-то: теперь они у него коротки. Остается ему только «потешать» толстосумов «за хлеб, за соль», как говорит про него Живоедова. И он врет небылицы:
– Бывал я и в Малороссии – ну, там насчет фруктов хорошо: такие дыни-арбузы есть, что даже вообразить трудно! Эти хохлы там их вместо хлеба едят, салом закусывают!
И тут Живновский – Готовцев изображал, как на Украине будто бы едят арбузы и дыни: он медленно запихивал воображаемый кусок то за одну, то за другую щеку.
Готовцев играл человека опустившегося и нравственно и физически, способного снести всяческое глумление, способного кого угодно продать и выдать не дороже, чем за копейку. Он сделал из Живновского одну из самых заметных, типичных и колоритных фигур в спектакле.
Стоит мне вспомнить мхатовские «Плоды просвещения» – и в памяти моей неизменно возникают Гросман – Петкер и Старый повар – Попов.
Гросман – Петкер проделывал все спиритические пассы, «вибрировал», вращал белками, как бы священнодействуя. И лишь по временам на краткий миг в глазах его загорались насмешливые искры, выдавая умного, искусного шарлатана. Еще более тонкую штучку представлял собой его адвокат из «Анны Карениной», с ловко разыгранным увлечением ловивший моль, а в это время сверливший посетителя своим наметанным, быстро оценивающим адвокатским глазом.
На Старого повара тяжко было смотреть, когда он «маялся».
– Кухарка! пор-рюмочки! Христа ради, говорю, понимаешь ты – Христом прошу! – осипшим от пьянства голосом молит он.
Но вот 3-й мужик замечает:
– Народ слабый. Жалеть надо, – и у Старого повара взметнулась все время тлевшая в его сердце ненависть к господам.
– Как же, пожалеют они, черти! Я у плиты тридцать лет прожарился. А вот не нужен стал: издыхай, как собака!.. Как же, пожалеют! – с безнадежным ожесточением хрипит он.
– Да не поддамся я! – восклицает он немного погодя, но видно, что это минутная вспышка. Куда уж ему! Слава богу, если кончит свои дни на печке, где его из милости держит кухарка, а ежели кто заметит – из господ или из слуг – вытолкают взашей, и околевай под забором!
Так врывалась в комедию бунтарская, трагическая нота. Всего несколько раз свешивал с печи свою всклокоченную голову Старый повар – Попов, показывал свое отечное, посинелое лицо, произносил слова то умоляюще, то озлобленно, но за всем этим, сквозь все это зритель видел целую жизнь.
Горький поставил Художественный театр в один ряд с Третьяковской галереей и Василием Блаженным. И он имел на это полное право.
В Малом театре
Массалитинова, Рыжова, Пашенная, Смирнова
Едва лишь я переношусь мыслью в Малый театр 30-х годов – и память мне уже рисует Варвару Осиповну Массалитинову и Варвару Николаевну Рыжову.
Я, в ту пору постоянный зритель Малого театра, нередко присутствовал при тех словесных боях, которые они вели между собой на сцене, при их пререканиях и перекорах. Были они очень разные и по обличью, и по внутреннему своему строю, и эта их непохожесть во время боевых схваток, как, например, в «Жене» Тренева, где Массалитинова играла злыдню, а Рыжова – язву, усиливала комический эффект.
В «Воеводе» Островского Массалитинова играла мамку Недвигу. В ее Недвиге было что-то от каменной бабы. Всем поведением, всеми позами она оправдывала прозвище своей героини. Она вся была – чинная, величавая неподвижность. Она потатчица от природы, она мирволит девушкам, оттого что она им сочувствует. Она говорит Ульяне:
Да ты бы Не все грозой, а иногда и лаской; И дуги гнут не вдруг, а прежде парят.Но это ее потворство проистекает еще и из ее грузной неповоротливости, ленивой и сонливой медлительности. Ей и не охота и лень следить и надзирать за девушками. Она предпочитает, неторопливо нанизывая слова, рассказывать им сказки. Но предел ее вожделений – это сон. И в ее борьбе со сном было что-то сказочно-былинное и преуморительное. Вот она встрепенулась:
Ах, батюшки! Вот так меня и клонит, Так и валюсь и тычусь носом.Чтобы не заснуть, она начинает рассказывать сказку, но в полудремоте плетет несуразицу:
Жили два брата, Да мать брюхата, Да отец на днях…Спохватывается, опоминается:
Постой! Не так. Я что загородила!Опять начинает нести околесную, вновь спохватывается:
Тьфу! пропасть! Не налажу, да и только, — То про Фому начну, то про Ерему.Постепенно сон долит, обволакивает ее, в последнее мгновение ей мерещится Домовой, она собирается с силами, успевает только крикнуть ему:
Аминь, аминь, рассыпься! Чур меня! —и засыпает глубоким сном.
«Воеводу», этот «Сон на Волге», окутывает сказка. «Воевода» выплыл из речного тумана. В нем все колышится, зыблется, явь вливается в сон, а сон – в явь. Недвига – Массалитинова была мамушкой-сказочницей, убаюкивающей других и прежде всего самое себя. Всем своим поведением в этой картине она подготавливала зрителя к появлению Домового. И восприятие зрителя двоилось: то ли это сонная греза Недвиги, то ли впрямь по покоям бродит Домовой и навевает на людей сон.
Полной противоположностью Недвиге – Массалитиновой была Ульяна – Рыжова, бой-баба, недреманное и злое око Воеводы. Воевода ею доволен:
Не надо беса, Когда ты здеся. Нравом ты свирепа, Ну и гляди медведем и свирепствуй!Недвига ее терпеть не может:
Ах, волк те съешь и с потрохом! Откуда Такое зелье взяли? На лес взглянет — Так лес завянет.Перед Воеводой Ульяна – Рыжова ходит на задних лапках, выслуживается, подлаживается, лебезит, егозит, поет Лазаря:
Продли бог веку Тебе на целом свете. Сиротинку Не забываешь.А с подчиненными она не знает иных средств обхождения, кроме окрика и ременного кнута. Но сильнее рабьей угодливости, сильнее человеконенавистничества в Ульяне – Рыжовой – корыстолюбие. Разжалобить ее немыслимо, ее можно только подкупить. И когда Марья Власьевна одаривает ее, Ульяна на верху блаженства. Сперва она скрепя сердце отказывается от летника, хотя и поглядывает на него загоревшимися глазами:
Что ты! Бог с тобою! Не надо, нет! Куда мне! Совесть зазрит.Но соблазн слишком велик, и Ульяна нерешительно, борясь с собой, произносит:
Уж разве взять? Подарок-то хорош!.. И то возьму.В благодарность за летник она идет на уступку:
Поноровлю за это… … в терему что хочешь, то и делай.Лед тронулся. Марья Власьевна приносит ей телогрею. Ульяна – Рыжова зажмуривается от греха, но лукавый силен, глаза у нее сами собой открываются, и тут наша Ульяна не взвидела света от радости:
Вот чудо, так уж чудо!Она наряжается, охорашивается, и так повернется, и этак. А перстень довершает дело. Следует милостивое разрешение Марье Власьевне завтра в сумерки выйти в сад послушать соловья.
В Недвиге Массалитинова живописала сонную одурь, засасывающую трясину сна. Но эта роль в ее репертуаре стоит особняком. Обычно она играла совсем не сонь и не тихонь.
Играя Манефу из «На всякого мудреца», прикидываясь бесноватой, юродивой, тараща прощелыжье-злобные бельма, с нарочитой грубостью, оттого что юродивая должна грубить всем подряд, включая и «благородных» (иначе какая же она юродивая? Ей веры тогда настоящей не будет), она выкрикивала складную дичь.
И в этом спектакле, как и в «Воеводе», Рыжова являла собой контраст Массалитиновой. Манефа – Массалитинова перла напролом. Ее сила заключалась в наглости. Глумова – Рыжова была из тех проныр, которые и без мыла куда хочешь влезут. Все в ней дышало подхалимством, начиная с наружности: выражение лица, позы, ужимочки. Глумова – Рыжова – искусная подлиза. В разговоре с Клеопатрой Львовной она сперва пытается вызвать жалость к своему сыну, потом пускается на лесть. «Какое у вас сердце-то ангельское!» – восклицает она, умильно склонив голову набок и подперев щеку ладонью.
Потом, учуяв, что Клеопатра Львовна имеет особые виды на ее сына, она начинает под сурдинку наигрывать на этой ее струнке, и только когда для нее становится очевидно, что Мамаева «клюнула», прибегает к уже достаточно прозрачным намекам, а затем, оставив себе на всякий случай лазейку, идет ва-банк. Но старая пройдоха предусмотрительна. Удостоверившись, что к ее речам отнеслись благосклонно, она все же не забивает лазейку:
– …чувства-то его детские, – с извиняющей сына заискивающей улыбочкой заключает она и, прикинувшись дурой-бабой, якобы это она все от глупости выболтала, уходит, вполне достигнув своей цели.
До чего же занятно было следить за струйчатой игрой Рыжовой в этой сцене, за излучинами ее интонаций, за быстрыми изменениями ее лица!
Обе они – и Рыжова и Массалитинова – выказывали широту и психологического и социального диапазона. Достаточно представить себе Массалитинову – Недвигу и Массалитинову – Манефу. Рыжова с непогрешимой внутренней убедительностью играла и такое зелье, как Ульяна, и такую «казанскую сироту», как Глумова, и кухарку Авдотью из «Растеряевой улицы» (пьесы, которую артист Малого театра Нароков написал по «Нравам Растеряевой улицы» Глеба Успенского), зуб за зуб сцеплявшуюся со своим барином, и богом убитое существо Анфису из «Волков и овец».
Массалитинова была самая что ни на есть «мамушка» из полуисторической-полусказочной пьесы Островского, самая что ни на есть мещанка в «Жене» Тренева, самая что ни на есть проходимка в «Мудреце» Островского, и она же была самая настоящая барыня, помещица в Гурмыжской из «Леса» – не светская львица, а именно барыня из медвежьего угла, из лесной глуши, лицемерка, бездушная тиранка и сквалыга, омерзительная в своем похотливом влечении стареющей женщины к мальчишке Буланову. Рыжова одинаково колоритно играла старую салопницу в «Мудреце» и заправскую кухарку с кухарочьими ухватками и замашками в «Растеряевой улице».
Я не знаю, какова была весна Пашенной. Я не видел самых ярких ее летних ролей: в «Растеряевой улице» и в «На бойком месте». Смутно помню ее в мелодраме «За океаном» Якова Гордина, в малоудачной нароковской инсценировке «Разгрома» Фадеева, в которой она играла Варю. Для меня лучшей ее порой оказалась поздняя осень.
Пашенная добивалась предельной выразительности, не прибегая ни к каким, даже самым скромным, эффектам. Вскользь брошенный взгляд, взлет бровей – и зрителю все ясно.
Ее Кукушкина из «Доходного места» преисполнена самоуверенности и глубочайшего почтения к себе.
У меня чистота, у меня порядок… – это ее припев, который она произносит с самоупоенным вызовом всему свету.
Несмотря на возраст, она все еще высокого мнения о своих женских качествах.
… я еще не старая женщина, могу партию найти, – кокетливо строя глазки воображаемому поклоннику, говорит она Юлиньке.
Наставления дочерям Кукушкина – Пашенная произносила опять-таки с уверенностью в незыблемости своей правоты, в своей рассудительности и высокой нравственности.
Кукушкина – Пашенная была женщина энергичная, напористая. Когда она говорила Юсову про Жадова:
Вот как женится, да мы на него насядем, так и с дядей помирится, и служить будет хорошо, – то в ее тоне слышалась не пустая угроза. Верилось, что уж коли такая теща «насядет», то зятю придется ой-ой как солоно!
Кукушкина – Пашенная вполне откровенна со своими дочерьми, но, когда нужно, она способна притвориться кем угодно. Эта злющая баба мелким бесом рассыпается перед Юсовым. Можно подумать, что она – само простодушие и само радушие.
Вот только с Жадовым она долго роли не выдерживает. Когда Жадов просит у нее руки Полины, она разыгрывает отчаяние. Но радость «сбыть с рук» дочку так велика, что она не в силах ее скрыть, успокоение наступает стремительно.
В четвертом действии она как фурия врывалась в квартиру Жадовых и с непритворным ожесточением накидывалась на Полину.
– Мерзко мне, сударыня, мерзко бывать у вас… – говорила она, всем своим видом выражая гадливое возмущение. – Нищенство, бедность…
– Бывают же такие мерзавцы на свете! – восклицала она, с особым смаком выговаривая слово «мерзавцы», а затем делала ход конем – «наседала» на Полину:
– Не я ли тебе твердила: не давай мужу потачки, точи его поминутно, и день и ночь: давай денег да давай, где хочешь возьми да подай.
Этот свой монолог Пашенная произносила с воодушевлением, с убежденностью женщины, которая испытала, проверила все эти средства на деле и потому вправе подать такого рода совет. И тут мы рисовали себе, как она в былое время точила своего несчастного супруга и, быть может, уложила его преждевременно в могилу.
И неизменный восторг у зрителей вызывал ее последний монолог, обращенный поначалу к Полине, но целиком направленный против Жадова, преисполненный ложноклассического пафоса, произносившийся ею с «дрожементом» в голосе и с трагической жестикуляцией:
– Плачь, плачь, несчастная жертва, оплакивай свою судьбу!
Васса Железнова – роль не только заглавная, но и по существу своему главная. Как опытный хормейстер неусыпно следит за тем, чтобы аккомпанемент помогал солисту, так режиссер Зубов заботился о том, чтобы аккомпанемент у Пашенной был безукоризненный. Достаточно вспомнить Шамина в роли мужа Вассы, заживо разложившегося и все-таки цепляющегося за свою животную жизнь («Под землей жить буду, а – буду!»). Достаточно вспомнить Жарова, исполнявшего роль братца Вассы, в котором цинизм и алчность сглодали все человеческое. Достаточно вспомнить ее дочерей: Наталью – Евстратову, с глубоким душевным надломом, и ясную, тихую Людмилу – Еланскую-младшую. Достаточно вспомнить Анну – Обухову, наперсницу Вассы, сподвижницу во всех ее темных делах, «наушницу» и «стервозу», как определяет ее брат Вассы. Достаточно вспомнить, наконец, Пятеркина – Сергеева, из молодых да раннего, который ради корысти все, что хочешь, единым духом спроворит («Да он – архиерея украдет…», – говорит о нем не лишенный проницательного остроумия Храпов), цинизм которого, в отличие от хладнокровного, бестревожного цинизма Храпова, просквожен непоседливым ухарством и лихачеством человека, чья конечная цель маячит еще далеко-далеко.
Кто видел «Вассу Железнову», тот, уж верно, не забудет «Птичку божию», которую Храпов, Людмила и Пятеркин пели на «глас шестый», со строго-церковной благоговейной торжественностью, и которая затем переходила у них в судорожно-разудалую, исполненную гнетущего веселья «Барыню».
И вот на этом фоне вырисовывается Васса – Пашенная. Она – умница. Хищный ум так и сверкает в ее живых, пронизывающих глазах – глазах крупного дельца, привыкшего с первого взгляда определять сову по полету, добра молодца по соплям. Она десятью головами выше своего окружения, либо лишенного ее орлиной зоркости, либо внутренне чахлого, хлипкого. Недаром всем существом своим ненавидящая ее Рашель отдает ей должное:
Вы же – умная…
Корни ее глубоко сидят в почве той среды, из которой она вышла. Она – не из рода, а в род.
Грозный огонь загорался у нее в глазах, когда Рашель говорила ей:
Я – мать!
А я – бабушка! – отвечала Васса – Пашенная. – Свекровь тебе. Знаешь, что такое свекровь? Это – всех кровь. Родоначальница.
Она пускается на всевозможные махинации, она совершает одно преступление за другим во имя рода, во имя его дальнейшего благоденствия и процветания. Ее брату Храпову только бы пожить в свое плотское, низменное удовольствие, а после него хоть трава не расти. Васса – Пашенная смотрит далеко вперед. С искренней, выстраданной гордостью, превозмогая усталость, которая сидит у нее в костях, говорит она Рашели:
… я полтора десятка лет везу этот воз, огромное хозяйство наше, детей ради, – везу. Какую силу истратила я! А дети… вся моя надежда, и оправдание мое – внук.
Натура у нее неподатливая, характер властолюбивый. Она предпочитает действовать напрямик, приступает к делу сразу, без изворотов.
Вы даже можете выдать меня жандармам, – бросает ей Рашель.
И опять у Вассы загорается дикий огонь в глазах, а говорит она с ледяным спокойствием:
– И это могу. Все могу. Играть так играть.
На всем протяжении пьесы, начиная с того момента, когда она требует от мужа, чтобы он отравился, Пашенная показывает, какая у Вассы выдержка, несмотря на то, что она – человек лютых страстей и сатанинской гордости.
Васса не приукрашивает ни себя, ни действительность. Жизнь ей подобных внушила Вассе отвращение к людям, разожгла в ней человеконенавистничество.
– …люди-то хуже зверей! Хуже! Я это знаю! – с клокотавшей в груди яростью говорила Пашенная. – Люди такие живут, что против их – неистовства хочется.
Как она вспыхнула вдруг при этих своих словах:
– Ну, это слишком жирно будет для прокурора, чтобы я ему кланялась. Платить – согласна, а кланяться – нет!
Она способна пойти и на унижения, но только в крайних случаях, когда поставлена на карту честь семьи. Добиваясь от мужа, чтобы он покончил с собой, иначе семье не избыть позору и сраму, она говорила:
– Хочешь, на колени встану? Я! Перед тобой! В этих двух коротких восклицаниях: «Я! Перед тобой!» – Васса —
Пашенная выражала всю бездну своего презрения к такому ничтожеству, как ее муж, все безграничное свое высокомерие.
И только когда появлялась Людмила, лицо Пашенной прояснялось, смягчалось, светилось светом материнской любви, которую она выражала с какой-то скупой, суровой и стыдливой ласковостью.
В Вассе – Пашенной все время ощущалась беспощадная, могучая сила, и падала она мертвая, как валится срубленное под корень кряжистое и раскидистое дерево, которое еще за секунду перед тем, как в него с размаху врубился топор, было полно соков, было полно шумной и неугомонной жизни.
И – последняя ее роль: Кабаниха в «Грозе»… Ну, конечно, Пашенная не упустила в тексте Островского ни одного междометия, в котором проявляется Кабанихино жестокосердие, но впервые на моих глазах актриса, исполнявшая Кабаниху, по завету Станиславского, «играя злую, искала, где она добрая». Пашенная неназойливо, в подтексте, мимическими полунамеками давала почувствовать зрителям, что единственно, кого Кабаниха в целом свете любит, – это сына своего Тихона, любит любовью тиранической, деспотической, но все-таки любит. Этим Пашенная достигала двух целей. Вот где разгадка ее отношения к Катерине, как бы говорила она. Иначе остается непонятным, за что же, собственно, она уж такой людоедской ненавистью ненавидит безответную Катерину. Она ненавидит ее за то, что ее любит Тихон. Кроме того, эта не подчеркивавшаяся, а лишь кое-где проступавшая, пробивавшаяся ревнивая любовь к сыну оттеняла Кабанихину свирепость, делала ее образ более сложным, а значит, и более жизненным, правдивым.
Когда я поделился этим впечатлением с одним счастливцем, видевшим в Кабанихе Ольгу Осиповну Садовскую, он отметил, что и Ольга Осиповна выделяла эту черту в Кабанихе. Это лишь доказывает, что Пашенная, как всякий умный человек, в буквальном смысле слова век жила, век училась и знала, у кого и чему следует учиться.
На том представлении «Грозы», на котором я присутствовал, Пашенная, очевидно, сознававшая, что конец ее близок, прощально кланялась публике, выражавшей ей свою благодарную любовь. После того как спектакль кончился, я подошел к самой рампе и видел, как по лицу растроганно улыбавшейся Пашенной градом катились слезы…
Я познакомился с бывшей артисткой Малого театра, вдовой Николая Ефимовича Эфроса, Надеждой Александровной Смирновой, когда она жила «на покое» в Тарусе. В 28-м году Надежда Александровна по состоянию здоровья оставила сцену. Театральная Москва устроила ей торжественные проводы. Для прощального спектакля Надежда Александровна выбрала «На всякого мудреца довольно простоты» и сыграла Турусину. Спектакль был поставлен объединенными усилиями режиссера Малого театра Платона и режиссера Художественного театра Лужского. В спектакле были заняты могучие силы обоих театров: Москвин, Качалов, Массалитинова, Рыжова, Климов. Во время чествования Качалов огласил приветственное письмо, с каким обратился к Смирновой Станиславский.
Летом 39-го года я попросил Надежду Александровну устроить домашний концерт. Надежда Александровна готовилась к нему как к публичному выступлению, хотя публики было – «ты, да я, да мы с тобой». Играла она без грима, костюмы только отдаленно намекали на эпоху и на положение действующих лиц. В первом отделении мы увидели Надежду Александровну в сцене Марии Стюарт с Елизаветой, – обе роли она когда-то играла в театре. Эта сцена мне почему-то видится тускло. Во втором отделении она сыграла сцену царицы Марфы из хроники Островского «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», – эту роль она тоже играла в театре.
И тут я в первый и в последний раз увидел актрису – героиню, актрису с трагическим темпераментом.
Через порог шагнула старуха в полумонашеском одеянии. В выражении ее лица, во взгляде, ушедшем внутрь, в полупотухших глазах, в полуопущенной голове, в скрещенных на груди руках угадывались монашеская отрешенность от мира, монашеское смирение. Но сквозь отрешенность и смирение проступала все еще не выплаканная скорбь. И вдруг при воспоминании об Угличе голос у этой монахини, как будто бы все уже простившей, со всеми мысленно примирившейся, зазвенел местью, а стоило Басманову ей пригрозить – и в ней проснулась царица, да какая: под стать Иоанну Грозному:
Пугать меня – жену царя Ивана, Того Ивана, перед кем вы прежде, Как листья на осине, трепетали! Я не боялась и царя Бориса, Не побоюсь тебя, холоп!Но вот Марфа наедине с Самозванцем – и вихрь страстей, поднявшийся в ее душе, утихает. Не почести ей нужны – ей нужен кто-то, кого она могла бы по-матерински прижать к груди. И ради этого счастья она обманывает и себя и других. На все жертвы готовую материнскую любовь выражали не только и даже не столько глаза артистки, сколько ее руки, с неутолявшейся много-много лет нежностью обнимавшие воображаемого сына.
О Мейерхольде
В театр Мейерхольда я обыкновенно ходил с мыслью: что придумает в этой пьесе Мейерхольд? Каковы-то у него будут мизансцены там-то и там-то? Почти в любом спектакле проступала обворожающая сила его – автора, как без излишней скромности величал себя на афишах и в программах Мейерхольд.
Что осталось у меня в памяти от «Дамы с камелиями», которую Мейерхольд к вящему недоумению критики и «мейерхольдовской» публики почти не перекроил, не удлинил и не обузил и в которой он принарядил свою обычно голую сцену?
… Зелень, цветы, весеннее солнце, освещающее счастливую любовь Маргариты и Армана. Внезапно ясное небо затягивается тучами. Этот исчерна-синий цвет, от которого сразу жухнет зелень, предвещает приход отца Армана.
… Маргарита сидит спиной к зрителям. Отец Армана произносит свой монолог – монолог неумолимого прокурора – стоя лицом к публике. Когда же начинает говорить Маргарита, он садится. Теперь обвиняет она. Теперь на скамье подсудимых он. В ее распоряжении только одно средство обвинения – сила ее чувства к Арману, которое она противопоставляет трусливой и лживой морали его отца. То, как произносили монологи актер и актриса, стерлось в моей слуховой памяти. Мизансцены зрительная память в себя вобрала.
И – последнее действие. Приход Армана. Маргарита в белом платье – в таких белоснежных платьях идут к венцу, и в таких платьях девушек кладут в гроб – отбегает к рампе, поворачивается лицом к Арману. Руки у нее медленно вытягиваются – словно растут крылья. И вот они уже выросли, и в последнем, предсмертном своем порыве она, как птица, летит к Арману.
Писавшие о Мейерхольде сравнивали его с различными представителями фауны. Его лицо легко поддавалось окарикатуриванию, и карикатуристы этим пользовались. Доля меткости в уподоблениях есть. Мейерхольд отчасти похож на карикатурах. И только отчасти похож он и на лучших своих портретах.
Когда я смотрел «Даму с камелиями», спектакль имел шумный успех у зрителей. Публика устроила артистам овацию. Артисты в свою очередь, повернувшись вполоборота к публике, устроили овацию кому-то невидимому, находившемуся в правой кулисе. Наконец на сцене появился Мейерхольд. И меня точно опалило молнией. Я не задерживался взглядом на отдельных, крупных чертах его лица. Я обнял его взглядом всего, целиком. И мне было ясно одно: в нескольких шагах от меня стоит особенный, необыкновенный человек, сверхмощного творческого напряжения. В обыденной своей жизни, а быть может и в своей жизни в искусстве, – мелькало у меня в голове, пока я ему аплодировал, – он, наверное, не свободен от слабостей, дурных качеств, пороков: все это тоже читается у него на лице, но в иные часы и минуты, когда призывает его к себе Аполлон, этот человек преображается.
Вот таким преображенным, просветленным предстал он тогда передо мной, таким и запомнился мне навсегда…
… Многовато было у Мейерхольда псевдоноваторской шелухи, которую он сам же впоследствии с недоуменным отвращением выплевывал. Широко известна история с зелеными париками в «Лесе», и я на ней останавливаться не буду. Кстати о «Лесе». Таким же «зеленым париком», но так до конца и не снятым, я считаю в этом спектакле превращение помещика Милонова в священника. Зачем?.. Ведь Гурмыжская не святоша, это не Мурзавецкая. Да и словарь Милонова, и построение его фраз характерны именно для прекраснодушного помещика, каковое прекраснодушие, вероятно, не мешало ему круто расправляться с подвластными, а никак не для духовного лица. Внешний облик мейерхольдовского персонажа не соответствовал его речевому колориту.
И еще кстати о «Лесе». Пров Михайлович Садовский предъявил Мейерхольду запоздалый и потому неуместный, но справедливый упрек: почему у него в «Лесе» не оказалось леса? С исчезновением леса, составляющего основу пейзажа пьесы Островского, исчезал ее первый план. Беда, если театр, забывая о втором плане, увязнет в первом, допустим – в бытовом; беда, если он все свое внимание уделит финансовым операциям Чичикова, связанным с покупкой мертвых душ, и не покажет, что сами-то герои – мертвые души. Но, отрываясь от корней, второй план исчезает в облаках. Автор автору рознь. У Островского, как и у Тургенева, обстановка, в которой действуют их герои, имеет для них огромное значение. Они связаны с ней множеством незримых нитей, она влияет на формирование их характеров, а следовательно, и на их судьбу. Вот почему в 1909 году Художественный театр развернул в «Месяце в деревне» пейзаж и интерьер Добужинского, который, как никто из тогдашних художников, чувствовал русскую усадьбу 40-х годов прошлого века, а год спустя свел интерьер и пейзаж к выразительным мазкам в «Братьях Карамазовых». Вот что такое подлинное новаторство, вот что такое ощущение стиля воплощаемого на сцене автора! «Дремучесть» героев «Леса» неотделима от дремучести обступившей их чащи.
Мейерхольд в «Лесе», как и в некоторых других постановках, не столько прокладывал новые пути, не столько задумывался над идеей и стилем пьесы, сколько полемизировал и боролся со всем и со вся, сколько старался во что бы то ни стало быть ни на кого не похожим, старался ошарашить, огорошить зрителя. К сожалению, стремление к эпатажу в нем жило, оно ему мешало, оно его стреноживало. О такого рода явлениях в искусстве верно писал Аполлон Григорьев: «Отпор всегда бывает резок, как чистая противоположность, груб и сух, как голая мысль; в отпоре все бывает пересолено, все сделано (курсив Ап. Григорьева), а не рождено; но отпор прав в своем источнике, то есть в отрицании, и потому сухие порождения правой и честной мысли имеют иногда успех…».[39]
В пренебрежении к первому плану «Леса» сказался режиссер, не изживший символизма с его стремлением de realibus ad realiora:[40] все внимание – на символику, а то, из чего вырастает символ, можно или завуалировать, или не показать вовсе. Что Мейерхольд основательно штудировал исследование о Гоголе Мережковского, это для меня стало неопровержимо ясно после того, как я посмотрел его «Ревизора». Хлестаков – Гарин был, конечно, черт «Мережковский», обыденный черт пошлости, вравший не вдохновенно, как у Гоголя, напротив, – это был черт изолгавшийся, уставший от вранья, требовавший подсказки от своего двойника, которого ввел Мейерхольд. Мейерхольдовского «Ревизора» в свое время описывали подробно, ему был посвящен хвалебный сборник статей, в котором не случайно принял участие Андрей Белый. Цветовая, световая и мизансценическая выдумка Мейерхольда била в этом спектакле радужным водометом. Как хорош был эпизод со «сном городничихи», когда отовсюду выскакивали офицеры, когда оказывалось, что и на шкафу тоже офицер, когда они пели «Мне все равно…» и когда один из них не выдерживал и пускал себе пулю в лоб от любви к Анне Андреевне! И весь спектакль пронизывал принцип множественности, корнями своими уходивший в один из гоголевских стилевых принципов. Уж ежели офицеры, так чтобы они выскакивали отовсюду. Уж ежели двери, так чтобы их было как можно больше и чтобы они распахивались одновременно. Если в «Лесе» без увеличительного стекла было видно, насколько Островский и Мейерхольд друг другу чужие, то в «Ревизоре» – при всех заскоках «автора спектакля», при том, что чувство меры ему подчас изменяло (чего стоил Добчинский, выносивший горшок за Анной Андреевной!), – было заметно, что Мейерхольд здесь ставит себе целью не только «дать отпор», что он любит Гоголя вдумчивой любовью. Он уловил, что Гоголь не только весь светится, но и весь звучит. Мейерхольд в спектакле еще усиливал гоголевский звук. Частного пристава Уховертова он заставлял рапортовать городничему через три «р»: «Г о р о д н и ч и й. А Держиморда где?
– Деррржиморррда поехал на пожарррной тррру-бе».
Мне рассказывал историк русской литературы Александр Леонидович Слонимский, принимавший участие в постановке «Ревизора» как консультант-гоголевед: актер, исполнявший роль почтмейстера, на репетиции пятого действия, характеризуя Хлестакова, переставил слова, – видимо, он не придавал этой перестановке никакого значения. Он сказал так, как обыкновенно произносится употребленное почтмейстером выражение:
– Ни то, ни сё, черт знает что такое! Мейерхольд вспылил:
– А у Гоголя – ни сё, ни то! Это разница. У Гоголя через этот обмен репликами проходит рифма.
И в самом деле, заглянем в Гоголя:
«Г о р о д н и ч и й. Что ж он, по-вашему, такое?
П о ч т м е й с т е р. Ни сё, ни то; черт знает что такое!
Г о р о д н и ч и й. Как ни сё, ни то? Как вы смеете называть его ни тем, ни сем, да еще и черт знает чем?»
Мейерхольд заботился в этом спектакле и об освежении комических эффектов. Так, Бобчинский и Добчинский не выпускали, как обыкновенно, всех своих зарядов сразу; напротив, оба говорили медленно, смакуя не идущие к делу подробности, с многозначительным и таинственным видом переливая из пустого в порожнее и таким образом доводя нетерпение слушателей до точки кипения.
Из всего виденного мною у Мейерхольда я больше всего люблю вторую редакцию «Горя от ума», когда спектакль перестал называться «Горе уму» и приобрел каноническое название, когда исчезла сцена в тире и прочие водоросли и ракушки, налипшие на этот корабль.
Мейерхольд, как видно, принял в соображение замечание Пушкина, смысл которого сводится к следующему: Грибоедов – умница, чего нельзя сказать об его главном герое, ибо умный человек не стал бы метать бисер перед свиньями.
Мейерхольд начинал второе действие с эпизода «отцов и детей». На левой половине сцены – «царство отцов»: Фамусов, Скалозуб и, в этом эпизоде – «без речей», князь Тугоуховский в парике, с косой, похожий лицом на Павла Первого. Справа – Чацкий в окружении молодых офицеров (будущих декабристов) и человека в штатском, в очках, загримированного под Чаадаева. Один из офицеров читает вслух: «Любви, надежды, тихой славы…» Тема одиночества Чацкого, явственно различимая в первых явлениях, здесь снимается. Со своими инвективами, направленными против Фамусовых и Скалозубов, Чацкий обращается к единомышленникам. Тем самым эти инвективы приобретают не только обличительное (Фамусовых не проймешь – уж больно толстокожи), но и непосредственно агитационное значение. А вот когда Чацкий впервые вбегает на сцену и, заранее уверенный, что сейчас увидит ту, ради которой он «людей и лошадей знобил», произносит: «Чуть свет уж на ногах! и я у ваших ног», – Софьи на сцене-то и нет. Она, узнав о приезде Чацкого, поспешила удалиться в соседнюю комнату. Растерянный, разочарованный, Чацкий, то слоняясь, как неприкаянный, по комнате, переговаривается с ней через стену, то подходит к клавесинам и что-то тихо и печально наигрывает. Так с первого появления Чацкого звучит мотив его одиночества в доме Фамусова, мотив неразделенности его чувства к Софье.
Мейерхольдовский Чацкий снят с котурн. В первом действии он мил, прост; нам, зрителям, с ним легко. На нем современный костюм, меж тем как все прочие действующие лица – в стильных костюмах эпохи. Это различие в одежде призвано подчеркнуть его положение «белой вороны» в фамусовском кругу.
Сплетню о сумасшествии Чацкого Мейерхольд вел в бешеном темпе. Через сцену тянулся стол, за которым сидело все общество. И один другому, наклоняясь, шептал слова, которые у Грибоедова говорит г. N:
– Ты слышал? – Что? – Об Чацком? – Что такое? – С ума сошел! – Пустое!Сказав: «Пустое!», сосед мгновенно поворачивался к своему соседу, сидевшему от него по другую сторону, и между ними происходил тот же краткий и стремительный обмен репликами – с небольшой вариацией, если это были дамы. Сплетня облетала сцену не только ощутимо, но и как бы зримо. Внезапно появлявшийся и обрывавший сплетню Чацкий произносил монолог о мильоне терзаний «над грудой рюмок, дам, старух».
Пьеса у Мейерхольда заканчивалась не монологом Фамусова, а монологом Чацкого с заключительной строкой:
«Карету мне, карету!»Мейерхольд поступил так в данном случае не только из желания подчеркнуть, что это пьеса о Чацком и что пьесу должен заканчивать истинный ее герой, хотя эта забота у него была: он так строил спектакль, что каждое действие заканчивалось у него словами Чацкого. Мейерхольд, видимо, рассудил, что Чацкий при всей своей горячности человек благовоспитанный, правила приличия соблюдающий, и он не остался бы у Фамусова после того, как Фамусов, в сущности, выгнал его. Мейерхольд увел со сцены Фамусова и всех прочих и оставил его наедине с Софьей. И еще Мейерхольд руководствовался, должно быть, соображением, что столь решительно настроенный Фамусов, останься он на сцене, не дал бы Чацкому рта раскрыть. Мейерхольд пошел на жертву, и на большую жертву, отняв у Фамусова возможность ужаснуться тому, что будет говорить о нем княгиня Марья Алексевна. Но он знал, во имя чего идет на жертву.
Любопытна и оригинальна была трактовка образа Молчалина. Молчалин – Геннадий Мичурин представлял собой красавца мужчину, было на что посмотреть! Он – наряднее и красивее Чацкого. Красота его – пошлая красота, но Софья еще слишком юна, чтобы в этом разобраться. Когда нужно, он угождал и собаке дворника, но, если таковой надобности не встречалось, он держался не без достоинства. Если б он только и делал, что сгибался в дугу, это оттолкнуло бы от него Софью. Чувствовалось, что он уже «свой» в фамусовском кругу. А диалог с Чацким он, стоя прямо против него и опираясь, как и Чацкий, на тумбочку, вел с полным сознанием своего превосходства, вел его, как поединок, заведомо зная, что он защищен надежно и что у его пистолета хороший бой.
Во внешнем рисунке роли Скалозуба (его играл Боголюбов) Мейерхольд придал ему сходство с петухом. Взбитый хохол, напоминавший гребень, довершал сходство. Разговаривая с дамами, Скалозуб по-петушиному описывал полукруг. Мейерхольдовская Хлёстова была «зловещая старуха», «пиковая дама» с декольте, отвратительно обнажавшим ее увядшие прелести.
Андрей Белый в поэме «Первое свидание» употребляет выражение: «навеять атмосферы». Мейерхольд навеял в спектакле «Горе от ума» исторической атмосферы, раздвинул рамки пьесы, чтобы видней было эпоху. В «Горе от ума» у него мелькнули будущие подлинные декабристы. Опасный пустомеля Репетилов примазался к этому движению. Мейерхольд показывал зрителям, по каким каналам шли сведения о заговоре в высшие сферы.
В «Ревизоре» вкрапление сцен с Растаковским и Гибнером, сцен, отвергнутых Гоголем, потому что они замедляли течение пьесы, замедляли течение спектакля, выглядело режиссерской причудой. Реплики Гибнера, который изъясняется по-немецки, для части зрителей и вовсе пропадали, пропадали вместе с Хлестаковским: «…вы мне giebt теперь, а я вам после назад отгибаю». Репетилов у Мейерхольда произносил обращенные к Скалозубу слова о Лахмотьеве не по каноническому тексту комедии:
Что радикальные потребны тут лекарства…а в первоначальной редакции:
Что за правительство путем бы взяться надо…И здесь предпочтение, отданное первоначальной редакции, оправдывалось замыслом спектакля.
Репетилов оборачивается и с ужасом видит, что его подслушивает, прячась за дверью, некто в маске. Затем некто снимает маску и с добродушно-зловещим смехом обращается к Репетилову:
Извольте продолжать, вам искренно признаюсь, Такой же я, как вы, ужасный либерал! И оттого, что прям и смело объясняюсь, Куда как много потерял!Это Загорецкий. А мы уже знаем, что Загорецкий не только мошенник и шулер, – он еще и «переносить горазд».
И последнюю реплику Репетилов у Мейерхольда обращал не к своему лакею, а к Загорецкому:
Куда ж теперь направить путь? А дело уж идет к рассвету. Поди, сажай меня в карету, Вези куда-нибудь.Оба уходили обнявшись.
Зрителю предоставлялось дорисовать в своем воображении, что сейчас они заедут в ночной трактир и Репетилов все выболтает доносчику.
Если бы да кабы… И все-таки человек волен строить догадки и предположения. Не только многознаменательный доклад – «Мейерхольд против мейерхольдовщины», но и весь ход творческой жизни Мейерхольда (отчасти «Свадьба Кречинского», «Дама с камелиями», вторая редакция «Горя от ума») приводят меня к убеждению, что Мейерхольд, сохранив все драгоценное, что он накопил за время своих исканий, вышел бы на столбовую дорогу искусства. Это многих славных путь. Разница лишь в долготе поисков. Но это путь Некрасова, в юности приникавшего к бенедиктовскому роднику. Это путь Блока – путь от Прекрасной Дамы и «эллинов сонных» к печали русских нив. Это путь Есенина, скоро откланявшегося имажинизму. Это путь Станиславского, невредимо прошедшего и сквозь мейнингенство и сквозь леонид-андреевскую и гамсуновскую мистику. Это путь ученика Мейерхольда – Игоря Ильинского, который, не позабыв уроков, преподанных ему учителем, пришел к щепкинско-станиславской правде.
Литературные концерты
В Москве 20-х годов я бывал наездами. Но я знал, что зала Политехнического музея завоевала себе популярность не меньшую, чем московские театры. Там проходили шумные диспуты на литературно-театральные темы, там читали стихи поэты, там выступали артисты, там, по словам Антокольского,
На собственный голос дивясь, На эстраде кричал Маяковский.(«Коммуна 71 года. Вступление»)
Я переехал в Москву в тот год, когда Маяковского не стало, но в конце 30-х годов я слышал в той же зале Асеева, читавшего первые главы своей поэмы «Маяковский начинается».
Я слышал, как Алексей Толстой читал в Политехническом музее только что напечатанные им главы второй книги «Петра». Толстой читал по-особенному – то почти на церковный распев: «Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон»; то аппетитно, вкусно, смакуя бытовые подробности, смакуя сдобный разговор. Когда читал смешные места, сам оставался серьезным, а публика покатывалась. У сидящего в президиуме Пильняка от смеха очки съезжали на кончик носа.
В 30-х годах Москва была по-прежнему облеплена афишами, извещавшими об именных литературных концертах артистов, о творческих вечерах современных поэтов, о литературных концертах, посвященных великим писателям прошлого (Шекспиру, Пушкину, Достоевскому), и как раз в эту пору завоевали любовь слушателей мастера художественного слова, выступавшие обыкновенно в Клубе МГУ, в Бетховенском зале Большого театра, в зале Политехнического музея.
Помню вечера Достоевского.
7 января 1931 года я был в Политехническом музее на одном из таких вечеров. Он начался с краткого вступительного слова, сказанного президентом Государственной Академии художественных наук Петром Семеновичем Коганом, а затем Лужский прочел монолог Федора Павловича – «За коньячком» (роль Федора Павловича считалась одной из лучших в обширном репертуаре Лужского), Степан Кузнецов – монолог Мармеладова, Москвин – Опискин и Лужский – Ростанев исполнили диалог из «Села Степанчикова», в заключение Качалов прочел «Кошмар» и о «клейких листочках».
Лужский тотчас после начальной фразы: «А убирайтесь вы, иезуиты, вон…» – подводил нас к самому краю головокружительной бездны самооплевывающего, в этом самооплевании находящего удовлетворение и в то же время трусливого цинизма. Предложения решительнейших мер борьбы с религией («А все-таки я бы с твоим монастырьком покончил. Взять бы всю эту мистику да разом по всей русской земле и упразднить…») перемежаются настойчивым: «Алешка, есть бог?» «Иван, а бессмертие есть, ну там какое-нибудь; ну хоть маленькое, малюсенькое?» Это – и со страхом, но и с надеждой. На протяжении небольшого монолога Лужский разверзал пучину душевной скверны, обнажал душевный тлен, душевный распад «сладострастника» Федора Павловича.
Много лет спустя в разговоре с Изралевским я, вспомнив этот вечер, допустил неосторожную обмолвку.
Лужский читал «За коньячком» как большой актер, – сказал я.
А почему вы говорите как большой актер? – ворчнул Борис Львович. – Лужский и был большим актером, – расстановисто добавил он.
Монолог Мармеладова в исполнении Степана Кузнецова – это была трагедия бедного человека, падшего, но и в падении своем не теряющего ни чувства собственного достоинства, ни сознания безмерной своей вины перед близкими, ни способности сострадать, ни способности любить, любить до боли нежно. С неисследимой глубиной отчаяния произносил эти слова Степан Кузнецов:
Ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти.
– Милостивый государь, милостивый государь, ведь надобно же, чтоб у всякого человека было бы такое место, где б и его пожалели!
А вот другой вечер Достоевского, состоявшийся тоже в Политехническом музее 11 декабря 1932 года. Как я уже говорил, попал я туда по приглашению одного из немногих профессоров, ради кого мне стоило проучиться несколько лет в институте. Когда я уже, «кончив курс своей науки», выпорхнул из института, о моем эстетическом воспитании продолжал заботиться большой ученый, пушкинист и достоевист Леонид Петрович Гроссман. На вечере он прочел два отрывка из своего романа о Достоевском «Рулетенбург», затем Леонидов прочел заключительную сцену из «Идиота» и последнее слово подсудимого из «Братьев Карамазовых», Берсенев – речь адвоката Фетюковича из того же романа, Журавлев – новеллу «Бобок», Гиацинтова – отрывок из «Белых ночей», Качалов – «Кошмар» и «Клейкие листочки».
Берсенев играл модного, самовлюбленного, привыкшего к успеху, самого себя заслушивающегося, как соловей, столичного адвоката, приехавшего в Скотопригоньевск, чтобы пустить пыль в глаза провинциа-лишкам, а главное, конечно, чтобы еще раз прогреметь на всю Россию, в глубине души совершенно равнодушного к судьбе своего подзащитного, в глубине души уверенного в его виновности и с огненным снаружи, но с холодным внутри пафосом доказывающего его невиновность. Словом, Берсенев с помощью едва уловимых интонационных оттенков играл «аблаката – нанятую совесть», как, пользуясь народным определением, обозвал «столичную штучку» Иван Карамазов («Бунт»).
Журавлев читал разговор мертвых «Бобок» – читал в стремительном темпе, в темпе presto. Сухой стук костей слышался в его четком стаккато: «Бобок! Бобок!» Вернее понять подтекст этой новеллы, вернее передать ее совершенно особенный стиль, по-моему, невозможно.
«Бобок» – это поздний Достоевский. «Белые ночи» – одно из лучших произведений раннего, «докаторжного» периода в творчестве Достоевского. Гиацинтова в полной мере давала зрителям ощутить щемящий лиризм этой повести, точнее – «истории Настеньки», трепетность ее первого, нерассуждающего чувства. Такая беспомощная обида, такая тоскующая, растерянная безнадежность звучала в ее голосе, когда она произносила эти слова:
– Теперь он приехал, я это знаю, и его нет, нет!..
Однажды некие староверы начали жаловаться Качалову на Яхонтова, на то, что он «фокусничает».
Быть может, они имели в виду его «чудесные сплавы» «Медного Всадника», «Шинели» и «Белых ночей» в одну композицию под названием «Петербург».
Быть может, они имели в виду немыслимых размеров ножницы, которыми кроил Петрович Акакию Акакиевичу шинель.
Или пение «Мне грустно потому, что я тебя люблю…» в начале лермонтовской «Казначейши».
Как бы то ни было, Качалов обратился к жалобщикам с отповедью:
– Яхонтов все может себе позволить, потому что читает он гениально.
Приведенный разговор происходил в присутствии Надежды Александровны Смирновой, мне его передавшей.
Слова о Яхонтове прекрасно характеризуют Качалова, читавшего, как и Яхонтов, Блока, Есенина, Маяковского и, однако, отдававшего ему восторженную дань, ибо Качалов не знал, что такое едкая, точно серная кислота, актерская зависть. И эти же слова математически точно, без малейшего преувеличения, определяют искусство Яхонтова.
Яхонтов одинаково мастерски читал и стихи и прозу. Стихи он читал выразительно, как актер, и мелодично, как поэт. Он воссоздавал биение ритмического пульса, его частоту и наполнение. Он настраивал свой голосовой инструмент на любой лад и без труда переходил от разговорного к размышляющему, от напевного к ораторскому. Он с ненавязчивой четкостью вырисовывал голосом рифмы, особенно тщательно, когда читал таких поэтов, как Владимир Маяковский, создававших рифмы изысканные, свежие, дерзкие.
Еще одно необычайное свойство Яхонтова: он читал «за женщин», пожалуй, еще лучше, чем за мужчин.
В композиции «Петербург» он читал историю Настеньки из «Белых ночей» так же чудесно, как читала ее Гиацинтова. В композиции «Настасья Филипповна» он был, во всяком случае, не менее убедителен, чем Борисова. В «Евгении Онегине» Владимир Николаевич Яхонтов особенно задушевно исполнял «партию» Татьяны.
Яхонтов мог бы сказать о себе словами пушкинского Скупого рыцаря: «Что неподвластно мне?» Он одинаково чутко улавливал подтекст и классических и современных писателей. Его сильной стороной был милый, лукавый юмор. Стоит только вспомнить, как он читал «Графа Нулина» или «Казначейшу». Стоит только вспомнить, с какой доброй улыбкой читал он стихотворение Маяковского «Краснодар»:
Вымыл все февраль и вымел — не февраль, а прачка, и гуляет мостовыми разная собачка.И дальше он изображал повадки собак разных пород.
У Яхонтова была сложная, с неисчислимыми ответвлениями композиция «Маяковский начинается», – в одноименную поэму Асеева Яхонтов вкрапливал стихи Хлебникова и главным образом самого Маяковского. «Юбилейное» влекло за собой некрасовского «Генерала Топтыгина». После строк Маяковского о Некрасове Яхонтов как доказательство того, что Некрасов действительно «мужик хороший», читал его «Генерала Топтыгина», и было видно, что ему самому доставляет наслаждение читать эту уморительную балладу. Начав читать ее в ритме не спеша катящихся саней, Яхонтов, лукаво улыбаясь одними глазами, от удовольствия помахивал в такт левой рукой.
Душе Яхонтова была внятна, близка и элегическая грусть.
Стоит вспомнить, как он заклинал пушкинскими стихами. В эти мгновения он был одно всепоглощающее чувство:
Я тень зову, я жду Лейлы! Ко мне, мой друг, сюда, сюда!Когда Яхонтов читал эти строки, у него было такое лицо, что казалось: он всю свою душу вкладывает в эту тихую, но обладающую магической силой мольбу.
Подвластен был ему и разящий, испепеляющий сарказм.
Стоит вспомнить, как он вместе с Достоевским издевался над Тоцким. Подвластен был ему и смех сквозь слезы.
Стоит вспомнить, как он читал позднего Зощенко. Подвластно было Яхонтову и «высокое парение».
Стоит вспомнить, с какой властительной силой взывал он к пророку:
Восстань, пророк, и виждь, и внемли…Впервые я увидел и услышал чтение Яхонтова и Ильинского весной 1938 года, в Клубе МГУ. На этом литературном концерте они выступали поочередно: в первом отделении выступил сначала Ильинский, потом Яхонтов, во втором – сперва Яхонтов, потом Ильинский. В конце вечера под неистовые аплодисменты публики, подавляющее большинство которой составляла молодежь, Яхонтов и Ильинский обменялись крепким дружеским рукопожатием, потом обнялись и расцеловались.
Несмотря на взаимное тяготение, Яхонтов и Ильинский резко отличались друг от друга и репертуаром и манерой исполнения. Их сближала тема, у Ильинского-чтеца – центральная, у Яхонтова – одна из важнейших: трагедия униженного и оскорбленного человека. Это – тема яхонтовского «Петербурга»: тема Евгения, у которого «строитель чудотворный», «Медный Всадник», растоптал своими копытами его маленькое, незатейливое счастье, тема Акакия Акакиевича («Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»), тема героя и героини «Белых ночей». Наконец, это тема рассказов позднего Зощенко.
Яхонтов и Ильинский как бы поделили между собой Маяковского и Зощенко. Яхонтов читал главным образом лирику Маяковского. Ильинский читает такие стихотворения Маяковского, в которых сатирическое начало выступает с наибольшей рельефностью («Прозаседавшиеся», «Подлиза»). Ильинского влечет к себе ранний, веселый Зощенко, переживавший период «Антоши Чехонте», и Зощенко – писатель для детей, автор «Елки». Яхонтова влек к себе Зощенко – мыслитель-гуманист.
В рассказе Зощенко «Поминки» человека, преисполненного самых благих намерений, ни за что ни про что оскорбили.
«И когда он ушел, я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выгнали его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверно, берегут их и лелеют. И уж во всяком случае не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: „Не бросать!“ или „Осторожно!“
«Засим я подумал, что не худо бы и на человечке что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: „Фарфор!“, „Легче!“
Глаза Яхонтова, грустные от природы, выражали, когда он читал заключительные строки зощенковского рассказа, кровную обиду за Человека, в голосе его слышался негромкий, печальный, задумчивый зощенковский гнев.
В один из предвоенных вечеров, посвященных Зощенко, Яхонтов огласил брошенную ему записку: «Владимир Николаевич, зачем вы читаете такого пошлого писателя, как Зощенко?» Яхонтов побледнел от негодования. Дрожащим голосом он сказал анониму:
– Товарищ! Как вам не стыдно? Зощенко – замечательный художник слова, такой глубокий, такой человечный!
Всплеск сочувственных аплодисментов покрыл его слова.
На вечерах, посвященных Лермонтову, чтение «Казначейши» Яхонтов начинал с того, что тихонько напевал: «Мне грустно потому, что я тебя люблю…»
Без этого вполне можно было обойтись, и, вероятно, Яхонтов со временем отказался бы от этого, как отказался Ильинский от некоторых «трючков» в «Золотом петушке». Но Яхонтов это искупал и чтением самой «Казначейши», и чтением «Завещания», где с видимым спокойствием и тайною грустью лирический герой говорил о том, что он вот-вот покинет землю, и предсмертные свои слова пропитывал ядом упрека той, которая была ему дороже всех сокровищ:
Пускай она поплачет … Ей ничего не значит…Ораторию «Смерть поэта» Яхонтов почти целиком переключал в лирический план. Чувствовалось в исполнении Яхонтова, что поэт переживает гибель Пушкина не только как удар для России, но и как свое, глубоко личное горе. Он точно стоял у гроба, вглядывался в дорогие черты и произносил свой внутренний, монолог, ничего не видя вокруг.
Он говорил сам с собой:
Замолкли звуки чудных песен, Не раздаваться им опять…Он произносил эти слова с тоской невосполнимой утраты, нет, более того: в ужасе, что такие звуки могли замолкнуть. А начиная со строки:
А вы, надменные потомки… —крутой перелом. Яхонтов как бы опоминался. Горе рождало возмущение против тех, из-за кого пушкинские звуки умолкли.
Последний раз я слышал Яхонтова перед самой войной в Клубе МГУ. Он читал только Блока – «Двенадцать» и лирику. Его толкование «Двенадцати» требовало от слушателя напряженного раздумья.
Он читал поэму, время от времени перекатывая папиросу из одного угла губ в другой, как бы от лица одного из «двенадцати», с устремленными в дальнюю даль глазами, не делая сильного упора на стихах-лозунгах («Революционный держите шаг! Неугомонный не дремлет враг», «Вперед, вперед, Рабочий народ!»), промахивая их, как скорый поезд – полустанки, словно давая понять, что лозунги – это временное, преходящее, что дело не в них и даже не в «двенадцати», а в том космически-огромном и преобразующем, что свершается сейчас в России, а благодаря революционной России и на всей земле, более того – в целой вселенной. По Яхонтову, «двенадцать» не вполне сознают, что происходит вокруг них, не ведают, что они творят, – за них, их руками творит История.
И всю поэму Яхонтов читал на фоне слитного гула от крушения старого мира, который слышался самому Блоку, когда он писал свою поэму. Нет, я совсем не так выразился. Не фоном, а первым планом для Яхонтова была музыка революции, ветер на всем белом свете, ветер с красным флагом, разыгравшаяся вьюга, пылящая пурга, и в этой вьюге мелькали «двенадцать» со своей Катькой.
Для Яхонтова Маяковский был прежде всего лирик, автор «Про это», автор «Разговора на одесском рейде», где Яхонтов создавал полную иллюзию переклички разноголосых пароходных гудков, автор «Мелкой философии на глубоких местах», финал которой Яхонтов читал, глядя тоскующими глазами в пространство и медленно проводя рукою в воздухе мягкую линию:
Я родился, рос, кормили соскою, — жил, работал, стал староват… Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова.С горькой и страстной иронией читал Яхонтов строки из «Тамары и Демона»:
Стою, и злоба взяла меня, что эту дикость и выступы с такой бездарностью я променял на славу, рецензии, диспуты. Мне место не в «Красных нивах», а здесь, и не построчно, а даром реветь стараться в голос во весь, срывая струны гитарам.Яхонтов не гнушался иллюстративным жестом, если он подкреплял интонацию. И с яростной обидой за поэта Яхонтов трижды делал такое движение, как будто он рвет струны, а голос его передавал глуховатый, носовой звук порванных струн.
Читая строки из стихотворения Маяковского «Красавицы»:
Аж на старом на морже только фай да креп-де-шин, только облако жоржет, —Яхонтов пробегал руками вдоль тела, рисуя волнистые складки, какими ниспадали платья на «старых моржах».
Такие выразительные руки, как у Яхонтова, я видел потом только у Вертинского.
С молящей задушевностью, которая у Маяковского, как и у Гейне, появляется всегда неожиданно, в гневном, юмористическом или ироническом контексте (а то как бы, упаси бог, не заподозрили в слезливости!), произносил Яхонтов в «Тамаре и Демоне» эти строки:
Любви я заждался, мне 30 лет. Полюбим друг друга. Попросту.Крестьянин Есенин и горожанин Маяковский любили животных.
Асеев говорил мне, что Маяковский мог по-детски расплакаться, увидев на улице беспризорную собачонку, и унести ее к себе.
Одна из наибольших удач в исполнительском искусстве Качалова – «Песнь о собаке» Есенина. Одна из наибольших удач в исполнительском искусстве Яхонтова – «Хорошее отношение к лошадям» Маяковского.
Яхонтов с гадливой ненавистью читал эти строки:
… за зевакой зевака, штаны пришедшие Кузнецким клёшить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал: Лошадь, упала! Упала лошадь! — Смеялся Кузнецкий.Ненависть сменялась горестным участием:
Подошел и вижу — за каплищей каплища по морде катится, прячется в шерсти…И вдруг на лице Яхонтова засвечивалась знакомая нам подбадривающая улыбка:
Лошадь, не надо. Лошадь, слушайте — чего вы думаете, что вы их плоше? Деточка, все мы немножко лошади, каждый из нас по-своему лошадь.Тут, по словам Есенина, воистину каждый стих лечил душу зверя.
А мажорная концовка стихотворения, которую Яхонтов произносил веско и убежденно, расширяла его рамки, превращала его и в «хорошее отношение к людям»:
… и стоило жить, и работать стоило.Стихотворение «Еду» Яхонтов читал в радостном темпе перронной суеты отошедшего в манящую даль поезда:
Засвистывай, трись, врезайся и режь сквозь Льежи и об Брюссели.И вдруг – мысль о Родине… Лицо у Яхонтова искажено как бы и физической, а не только душевной болью:
Но нож и Париж, и Брюссель, и Льеж тому, кто, как я, обрусели.Тоска по Родине рождает требующую немедленного претворения в жизнь мечту:
Сейчас бы в сани с ногами — в снегу, как в газетном листе б … Свисти, заноси снегами меня, прихерсонская степь …Это Яхонтов произносил на фоне бурана, а затем буран, бушевавший где-то далеко-далеко, неприметно сменялся пением:
Вечер, поле, огоньки, дальняя дорога, сердце рвется от тоски, а в груди тревога.Лейтмотив этого стихотворения – любовь к Родине, любовь ничем не заменимая, не восполнимая, не вознаградимая, незаглушимая, неистребимая, любовь, которая умирает вместе с человеком. И когда Яхонтов читал «Еду» так, как только он один и читал лирику Маяковского, да и лирику вообще, я мысленно благодарил его от полноты моей русской души, русской во всех ее уголках, излучинах и тайниках.
Игорь Ильинский
Смехом и слезами помогать добру и правде.
Игорь ИльинскийЯ увидел Игоря Ильинского впервые осенью 1933 года в Театре имени Мейерхольда, помещавшемся тогда в начале улицы Горького (где теперь Театр имени Ермоловой), на премьере «Свадьбы Кречинского» в роли Расплюева.
До этого я знал Ильинского только по фотографиям да по отзывам критиков и рецензентов.
В 1926 году при входе в Художественный театр мы с моей матерью купили журнал «Новый зритель». С его обложки на меня, прищурившись, смотрел Аркашка – Ильинский, блаженно и нагловато попыхивавший папиросой.
Я представлял себе Счастливцева иначе. В выражении лица этого Аркашки мне почудилось что-то не просто задорное и озорное, а залихватское, более того: хулиганское. Этому впечатлению, вероятно, способствовало то, что я слышал о мейерхольдовском «Лесе» вообще, а слышал я о нем тогда только дурные отзывы, которые можно свести к одной фразе: Мейерхольд корежит классиков.
Было, однако, во всем облике Аркашки – Ильинского и нечто яркое, пусть и непривычное, пусть несколько раздражающее, пусть и несогласное с моим детским представлением о Счастливцеве, но, во всяком случае, занятное, притягательное, невольно задерживающее на себе внимание.
Так – по мудрой прихоти судьбы – впечатление от первого похода в московский театр, да еще в самый мой заочно любимый, сплелось у меня в памяти с впечатлением от фотографии Ильинского в роли Счастливцева. Этот номер журнала я увез домой как реликвию, долго потом от доски до доски перечитывал и всякий раз напряженно всматривался в Аркашку – Ильинского: что-то меня к нему все же влекло.
Театр имени Мейерхольда я долго обходил стороной.
Но вот осенью 1933 года Театр имени Мейерхольда поставил «Свадьбу Кречинского» с незадолго до того перешедшим к Мейерхольду из Малого театра Юрьевым в заглавной роли. Юрий Михайлович, живший тогда в той же квартире, что и я, пригласил на премьеру гостившую у дочери Ермоловой Татьяну Львовну Щепкину-Куперник, а вместе с ней и меня. Татьяна Львовна была отнюдь не та спутница, которая могла бы настроить меня на мейерхольдовский лад. Она говорила, что идет на спектакль только чтобы не обидеть Юрия Михайловича.
Поначалу спектакль мне не понравился. Недоумение вызвала первая же мизансцена, из коей явствовало, что Атуева посягает на невинность Тишки.
– Начинается! – услышал я негодующий шепот Татьяны Львовны.
В первом действии меня поразил только Юрьев. До этого вечера мне на него не везло. Я видел его в пьесах-сезонках, сгоревших, по народному выражению, так, что даже дым от них не пошел, – во «Вьюге» Шимкевича и в «Смене героев» Ромашова, там он казался мне большим кораблем, севшим на мель, – да в отрывках из «Манфреда» и «Маскарада» в концертном исполнении, где он был, на мой взгляд, слишком холоден, слишком «надмирен». А тут можно было подумать, будто Сухово-Кобылин писал роль Кречинского для Юрьева – она словно была сшита по его мерке. Юрьев оставался в Кречинском по-юрьевски барственным, по-юрьевски живописным, по-юрьевски скульптурным. Он по-юрьевски элегантно носил костюм, держал в руках цилиндр и тросточку, был по-юрьевски изящен в каждом движении, жесте, в походке. Но, в отличие не только от Манфреда, но даже от Арбенина, Кречинский Юрьева был человек с кровью в жилах. То был авантюрист по призванию, расчетливый и обольстительный хищник. Он пускается на авантюры, конечно, в первую очередь, ради наживы, но не только ради нее, а и ради «любви к искусству», ради любви к риску. Он находит «упоение» в том, чтобы стоять «бездны мрачной на краю». Его любимое занятие – обдумывать, соображать, прикидывать в уме, взвешивать pro и contra. Изящество поз, столь характерное для Юрьева как артиста, оправдывалось тем, что Кречинский все время рисуется, даже перед Расплюевым, – это один из его приемов, это его шулерский крап, это его маска, с годами приросшая к лицу.
… Второе действие. Комната в квартире Кречинского. В окно сочится рассвет – белесый, мутный, больной. Справа, на переднем плане, сидят какие-то подозрительные угрюмые личности. Одна из них закутана в плед. Это аферисты, сподвижники Кречинского. Один из них носит характерную фамилию – Крап. В пьесе Сухово-Кобылина их нет. Они созданы фантазией Мейерхольда и введены в спектакль, чтобы показать среду, ближайшее окружение Кречинского, чтобы показать, что у него дело поставлено на широкую ногу, что он главарь целой шайки, а еще, по-видимому, для того, чтобы Федор говорил свой монолог, обращаясь не к публике, а к партнерам. Мейерхольд был врагом, кажется, только этой условности: врагом монолога наедине с самим собой. В начало второго действия «Ревизора» Мейерхольд вводил «персонаж без речей» – девчонку, трактирную судомойку, которой Осип все и рассказывал про своего непутевого барина.
Но вот раздается стук. Федор поднимается по лестнице, отворяет кому-то дверь. Этот «кто-то» входит спиной, спиной, согнутой в три погибели. Котелок на этом существе измят.
Да что это вы? Разве что вышло? – спрашивает Федор.
В ответ пришибленное, потрепанное существо издает звук «хррр». Не прерывая этого гортанного, хоркающего звука, оно неторопливо, уныло спускается по длинной лестнице, и только когда оно добирается до последней ступеньки, непонятный звук внезапно переходит в смачный плевок:
Хрр, тьфу!.. вот что вышло!
Это не было клоунадой только ради клоунады. Это была действительно клоунада, неожиданная и потому смешная, но – характерная для Расплюева. Он шулер и – по совместительству – шут. И до того въелось в него это шутовство (как в Кречинского позерство – ведь они оба актеры: и мастер и подмастерье), что он, только что потерпевший в игорном доме полнейшее фиаско да к тому же еще и жестоко избитый, по привычке мрачно фиглярничает. Этой смелой, однако с образом в противоречие не вступающей, как раз наоборот – образом подсказанной выдумкой Ильинский меня покорил. Я сразу, с первой же сцены поверил ему.
Самый сильный момент во всей роли Расплюева оказался и самым сильным моментом в исполнении Ильинского. Кречинский, обмозговав дельце, приходит в веселое расположение духа на радостях. Он устраивает целое представление. Он издевается над Расплюевым, он пугает его тем, что он, Кречинский, бежит, а сюда нагрянет полиция, и его, раба божия, в тюрьму да с бубновым тузом на спине – по Владимирке. Согласно мизансцене Мейерхольда, Кречинский – Юрьев не только запирает Расплюева – он распинает его у лестницы, прямо против публики, вместе с Федором привязывает его веревкой к перилам, затем уходит и запирает за собой дверь.
Расплюев, распятый, опутанный веревкой, насмерть запуган резвящимся барином. Все лицо Расплюева морщится, он часто-часто мигает глазами и по-старчески жалко и беспомощно хлюпает носом. Этот приживальщик, этот бездомник вдруг затосковал по «гнезду», по «птенцам».
После мейерхольдовской «Свадьбы Кречинского» я видел немало хороших спектаклей и хороших актеров, видел превосходную игру в других ролях самого Ильинского, однако это старческое хлюпанье Расплюева и его монолог о «птенцах» и «гнезде» до сих пор у меня в ушах. До сих пор это остается одним из незабываемо сильных и наиболее трогательных моих театральных впечатлений. С этого дня я, не изменив моим театральным привязанностям, по-прежнему благоговея перед искусством Художественного и Малого театров, стал частым посетителем Театра имени Мейерхольда вплоть до самого его закрытия. С этого же дня я навсегда полюбил Ильинского.
В моем внезапном порыве зрительской любви, как я убедился впоследствии, не было ничего чудесного. Несмотря на отдельные, чуждые мне приемы, которыми пользовался в Расплюеве Ильинский, Я – тогда еще смутно – почувствовал в нем мой любимый тип актера: актера-реалиста, полнокровного, смелого, наблюдательного, изобретательного, вдумчивого, душевно щедрого, человечного. Вот почему приход Ильинского в Малый театр меня нисколько не удивил, напротив – я воспринял это как нечто строго закономерное. Более того: творческий путь Ильинского до Малого театра мне теперь представляется интересной, порой захватывающе интересной, но все же только предысторией.
И в первой сцене с шулерами; и в издевательстве Кречинского над Расплюевым; и в третьем действии, происходившем в нанятой Кречинским кухмистерской, до жути пустой, где все фальшивое, все ненастоящее, все с чужого плеча, где в желтом тумане двигаются призрачные фигуры переодетых музыкантами шулеров и аферистов, которым Расплюев с увлечением рассказывает о «подвиге» Кречинского; и в сцене с Муромским, когда Расплюев – Ильинский, чтобы занять Муромского и в то же время чтобы утолить свою потребность в возвышенном – а такая потребность в нем, как ни странно, живет, недаром знающий его насквозь Кречинский замечает, что у него «какая-то чувствительность», – услаждал его слух, сам себе аккомпанируя на клавесине: «Лет шестнадцати, не боле, Погулять Лиза пошла И, гуляя в чистом поле, Птичек пестреньких нашла»; и в трагедии обманутого доверия, которую переживают Лидочка и ее отец, Сухово-Кобылин дорастал в мейерхольдовском спектакле до Достоевского. Все фигуры, вплоть до ювелира-ростовщика, все мизансцены Мейерхольд заливал тем резким, фантастическим светом, каким озарены люди и вещи в «Идиоте» или в «Игроке». Но самым «достоевским», глубже всего остального западавшим в душу моментом спектакля запечатлелся в моей памяти монолог Расплюева – Ильинского о «гнезде» и о «птенцах», ибо в нем звучала боль за обиженного, беззащитного человека.
Гуманизм – одна из важнейших черт в творческом облике Ильинского и один из главных источников его актерского обаяния.
После Расплюева Ильинский-актер и Ильинский-чтец создал галерею образов бедных людей, чье достоинство было попрано «сильными мира сего», чью жизнь они разбили вдребезги, чей душевный мир они загрязнили и опустошили, чье нравственное существо они искалечили.
Ильинский не причесывает и не приглаживает ни Шмагу, ни Счастливцева, ни тем более Расплюева, но он стремится в каждом из них найти человеческие черты. Он не оправдывает падших – он призывает к ним милость зрителей. И в этом смысле Ильинский – глубинно русский художник, продолжатель традиций Пушкина и Гоголя, Щепкина и Прова Садовского, Достоевского и Льва Толстого.
Взгляните на фотографию Ильинского в роли Расплюева, где он снят с игральной картой в руке. Да, конечно, плут, да, конечно, шут. Но приглядитесь пристальнее. Какое жалкое у этого гаера лицо! Какие страдальческие у этого шулера глаза! Как он нуждался! Как он мыкался! Как он бедствовал! Как много претерпел он на своем веку оскорблений, унижений, глумлений, телесных и душевных увечий! И в слова о «гнезде» и о «птенцах» Ильинский вкладывал всю тоску Расплюева о своем угле, тоску человека, которому за всю его жизнь никто, наверное, не сказал доброго слова и которому, в свою очередь, не о ком позаботиться и некого пригреть.
– Судьба! За что гонишь? – восклицает Расплюев – Ильинский. Эти слова зазвучали у Ильинского в спектакле Малого театра (1971) с неизмеримо большей силой отчаяния и укора.
Расплюев 33-го года был у Ильинского легкомысленнее, добродушнее и безобиднее в своем шаромыжничании и прощелыжничании. Расплюев 71-го не сменит «стезю порока» на «стезю добродетели». Путь к честной жизни ему заказан. Он целует Кречинскому руку не только в надежде на милость – он целует ее из рабьего обожания. Это пес, виляющий хвостом и лижущий руку господину, который только что его побил. Восторг перед полетом мошеннического воображения своего повелителя живет в Расплюеве – Ильинском бок о бок с холуйским презрением к нему, прорывающимся, как только фортуна словно бы изменяет Михаилу Васильевичу.
– А денег-то, брат, нет, – замечает Расплюев – Ильинский про себя, своими воровскими глазками уничтожающе глядя на Кречинского.
Переходы от трусости к нахальству совершаются в душе Расплюева – Ильинского с поразительной быстротой. Кречинский, предвкушая удачу, принимает непринужденную позу на канапе. Расплюев – Ильинский, пользуясь добрым расположением духа, в каком сейчас находится «маг и волшебник», разваливается рядом с ним на другом канапе.
Кречинский посылает Расплюева к Лидочке с букетом и за булавкой. Расплюев – Ильинский твердо уверен, что он в грязь лицом не ударит. И он показывает Кречинскому, как будет он вести себя у Муромских: он важно прохаживается по комнате, вихляя задом, – по его мнению, это и есть самая настоящая походка барина.
Вот он возвращается от Муромских. И куда девался подобострастный и угодливый помощник обер-афериста, для которого он, не жалея своих боков, карты передергивает и у которого он и на побегушках и на посылках! Весь его внешний облик выражает торжество победителя. Он играет полой своего пальтишка, как испанский гранд – плащом.
Нет, такому Расплюеву вручи только бразды хоть какого-нибудь правления, и он – можете быть уверены – себя распокажет! Он выместит на невинных все претерпенные им издевательства. Он будет гнуть в дугу бесправный и подневольный люд, как сгибают сейчас его самого. Дайте срок – и цветочки пока еще невинной расплюевской наглости превратятся в ягодки. Ильинский увидел за Расплюевым то, что он еще не совсем явственно различал, играя в спектакле Мейерхольда: он увидел расплюевщину. От его теперешнего Расплюева тянется нить прямехонько к Расплюеву из «Смерти Тарелкина», получившему местечко в полиции, дающему волю рукам, берущему и с живого и с мертвого, доводящему до томления, до смертного страха попавшихся ему в лапы.
Сухово-Кобылин отвел Расплюеву в «Свадьбе Кречинского» сравнительно небольшое пространство, но зато он наделил его колоритной и многослойной речью, и в этой речи отражаются все черты расплюевского характера, все превратности его судьбы.
Язык Расплюева по широте своего словесного диапазона не имеет себе равных в русской драматургии. Все эти его «посадят на цепуру» и «до фундаменту рехнулся» после первых представлений «Свадьбы Кречинского» стали крылатыми выражениями. Язык Расплюева впитал в себя жаргон завсегдатаев игорных притонов, жаргон матерых шулеров, жаргон городского отребья. В нем нет-нет да и пробьется народная струя. Порой в нем слышатся отголоски церковных песнопений, отзвуки «сердцещипательных» романсов и романов. В него проникают и «красоты» барского слога. И вот этот расплюевский затейливый сплав превыспренней витийственности с озорством просторечия и с жаргоном уголовного сброда так и сверкает, так и переливается у Ильинского!
Расплюев – Ильинский о только что перенесенной им кулачной расправе рассказывает вкусно и до того картинно и живо, что зрителю кажется, словно он был ее очевидцем. Временами, размышляя о своих злоключениях, Расплюев – Ильинский впадает в мрачный пафос. При виде денег, принесенных Кречинским, он сначала отплевывается, как от сатанинского наваждения, а затем одаривает их ласковыми именами. Они у него и «родимые», и «голубчики», и «ласточки», и «малиновки». Всю нежность, какая была отпущена Расплюеву природой, он перенес с живых существ на деньги. И тут речь Расплюева – Ильинского, сладострастно перебирающего кредитки, звучит напевно, как будто он читает им акафист, и на лице его написано своего рода эстетическое наслаждение.
Ничего не упустил Ильинский в Расплюеве: ни смешного, ни трагического, ни жалкого, ни омерзительного, ни самобытного, ни типического, ни его холопских, ни его властолюбивых повадок. Он тонкими приемами дает понять зрителю, во что вымахивали расплюевы, когда нищета сменялась для них пусть даже тусклым «блеском», когда после падения они достигали «величия» квартального надзирателя.
Счастливцева Ильинский играл в трех постановках «Леса». Его «ранний» Аркашка, сыгранный в Театре имени Мейерхольда, – это был мастерский эскиз к Аркашке Островского. Аркашка – озорник, сорванец: вот чем прежде всего привлекал он тогда Ильинского. В спектакле 1974 года, который он же и ставил, Ильинский в главном не изменил трактовке образа, какой он создал в 1939 году на сцене Малого театра, но он пошел еще дальше и в глубь и в ширь внутреннего мира Аркашки. В этом Аркашке осталось и озорство, но теперь оно не заглушает других его черт, гораздо более характерных и существенных.
Перед нами человек, судьба которого находится в вопиющем противоречии с его сценическим псевдонимом. Он не вылезает из беспросветной нужды. Им помыкают все, кому не лень, даже Несчастливцев. Смех Счастливцева – Ильинского – это целая гамма смеха. Это смех то детски беспечный, то вымученный, из желания позабавить других (не зря Несчастливцев называет его «шутом гороховым»), а заодно отвлечь от мрачных дум и себя самого, то смех, больше похожий на плач. Рассказ Счастливцева – Ильинского о том, как его закатывали в ковер, потому что ему нечем было укрыться в мороз, а потом раскатывали, нельзя слушать без щемящей обиды за человека.
Счастливцев – Ильинский говорит о себе: «Я смирный, смирный-с…» – и что-то бесконечно жалкое, роднящее его с униженными и оскорбленными героями Достоевского, слышится сейчас в его тоне. Ильинский имеет право подчеркнуть это родство (у Островского много перекличек с Достоевским, особенно в «Лесе» и в «Бесприданнице»). Но и чувство собственного достоинства все еще живет в этом забитом существе. Несчастливцев предлагает ему сыграть у Гурмыжской роль его лакея. Счастливцев – Ильинский уязвлен этим предложением. «Да ведь я горд, Геннадий Демьяныч… и у меня есть амбиция», – говорит он дрожащим голосом. В конце концов он соглашается, но после внутренней борьбы. И вознаграждает себя тем, что с комической величественностью шествует за Несчастливцевым.
Из мейерхольдовского спектакля Ильинский перенес в новую постановку «Леса» ужение рыбы. Аркашка забрасывает в реку удочку, затем вытаскивает ее из воды и осторожно – как бы не упустить! – снимает с крючка воображаемую рыбу, которая словно трепыхается и бьется у него в руках.
О втором сценическом варианте своего Хлестакова И. В. Ильинский писал в статье «Драматург – режиссер»:
«Отказываясь от излишеств, от засоряющих… деталей, я ни в коем случае не хотел засушить или обеднить образ; все краски, которые, мне казалось, способствуют его раскрытию, я оставляю».
Слова Ильинского о Хлестакове сохраняют свою силу и по отношению к его нынешнему Аркашке. Рыбная ловля символизирует тоску Аркашки по жизни на лоне природы, уживающуюся в нем с бродяжьим духом. Аркашка не прочь сплутовать, и все же душа у Аркашки, по его собственному признанию, возвышенная, тут он не прилгнул. И ужение рыбы – это Аркашкина иллюзия, его самоутешение, хотя и быстролетное. Чайник с рыбой он роняет в воду. В мейерхольдовском спектакле такого печального финала Аркашкиного самообмана не было. Там была лишь забавная мизансцена, дававшая возможность Ильинскому показать зрителям, насколько картинен его жест.
Да, душа у Счастливцева возвышенная, и эту возвышенность Ильинский раскрывает в Аркашке. В каком-то театре Аркашка «стяжал», по выражению Несчастливцева, бутафорские ордена, нужда научила его «плясать, скакать и песенки петь». И, конечно, когда он убеждается, что денежки от Несчастливцева и от него уплыли и мечта о поездке на тройке разлетелась в прах, он мрачнеет. Но не надолго. Он ликует, слушая обличительный монолог Несчастливцева. Жертвенный порыв Несчастливцева передается и ему. На лице у него – отсвет несчастливцевского великодушия. Ничего, что троечка – тю-тю, что опять придется по образу пешего хождения пробираться из Вологды в Керчь. Несчастливцев сделал доброе дело и морально уничтожил «сов и филинов»: скаредов, выжиг, развратников, тиранов, ханжей. Вот сейчас Счастливцев счастлив – счастлив тем, что взяло верх добро, счастлив тем, что унижены унижающие. Уходит он вслед за Несчастливцевым из дома Гурмыжской, полный презрения к хозяйке и ко всем, кто с ней. Только выражает он это свое презрение как умеет – напуская на себя важность и пренебрежительно дрыгая ногой: паясничанье всосалось в его плоть и кровь.
Когда настройщик Муркин из рассказа Чехова «Сапоги», который читает на своих литературных концертах Ильинский, с умоляюще-недоуменной улыбкой, недоуменной оттого, что ему все представляется ясным как дважды два, а его почему-то не хотят понять, пытается втолковать актеру Блистанову свою законную просьбу – вернуть ему сапоги, которые тот взял по ошибке, и приводит, с его точки зрения, самый веский довод: «… я человек болезненный, ревматический… мне доктора приказали ноги в тепле держать» – мы живо представляем себе этого пожилого человека, целый день бегающего по всяким генеральшам шевелицыным, чтобы заработать на кусок хлеба, робкого, запуганного, поневоле перед всеми заискивающего, которому то и дело приходится увертываться от ударов судьбы, над которым безнаказанно может измываться любое, чуть-чуть выше его стоящее лицо. И как бы мы несколько минут спустя ни заливались хохотом над «Синей бородой» и королем Бобешем в изображении Ильинского, при последней фразе: «Известно только, что Муркин потом, после знакомства с Блистановым, две недели лежал больной и к словам „Я человек болезненный, ревматический“ стал прибавлять еще: „Я человек раненый…“ – на лицах у слушателей появляется улыбка, но улыбка горькая.
Под любой с виду непривлекательной или же смешной оболочкой кладоискатель Ильинский отыскивает душевные сокровища. Его Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, о которых он с такой любовью рассказывает на своих литературных концертах, вовсе не «небокоптители». Конечно, в наружности старосветских помещиков, в их привычках, в образе жизни много смешного, много нелепого. Но у этих смешных людей редкостный дар – дар любви и заботы: вот что показывает и доказывает всем своим исполнением Игорь Ильинский.
Много спустя после того, как Ильинский начал читать эту повесть Гоголя, Пришвин написал в своей «Фацелии»: «…в смешных старичках с их поющими дверями Гоголю чудилась возможность гармонической и совершенной любви людей на земле».
Мне не известно, бывал ли Пришвин на концертах Ильинского и навеяна ли эта мысль его исполнением «Старосветских помещиков». Вернее всего, что нет. В таком случае, это любопытное совпадение, довольно частый в искусстве случай переклички больших талантов. Слова Пришвина Ильинский мог бы взять эпиграфом к своему чтению, ибо они кратко и точно выражают его понимание повести Гоголя, его отношение к ее героям.
Как колоритна гоголевская бытопись в воспроизведении Ильинского! Как много у него вкусных и сочных подробностей! Как выпуклы характеры! Как слиты в его чтении конкретность и эмоциональность пейзажа («…ряды… фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишен и яхонтовым морем слив…»; «…когда прекрасный дождь роскошно шумит…»)! И вместе с тем как сильно звучит в передаче Ильинского голос самого Гоголя, его моральный пафос, его лиризм! А Гоголь начинает свою повесть с признания, что он очень любит скромную жизнь своих героев. Этот мотив то настойчиво повторяется: «…все это для меня имеет неизъяснимую прелесть… более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков…»; «На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие…»; «Я до сих пор не могу позабыть двух старичков, которых, увы! теперь уже нет, но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются… Грустно! мне заранее грустно!», – то уходит в подпочву, в подтекст, то снова выбивается на поверхность: «Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей…»; «…радушие и готовность… были следствие чистой, ясной простоты их добрых бесхитростных душ»; «Я любил бывать у них…»; «… я всегда бывал рад к ним ехать»; «Добрые старички!»; «Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь»; «…она думала только о бедном своем спутнике…» Нет, ни Гоголь, ни Ильинский не считают Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну «небокоптителями». Напротив, они полагают, что старички по-своему украшали жизнь не только друг другу, но и тем, кто с ними общался, что и в буквальном и в переносном смысле чем они были богаты, тем и рады.
Да, Афанасий Иванович Товстогуб – человек ограниченный. Да, умственный его кругозор не шире его дворика. Настоящие его мечты, а не те, которыми он дразнит жену, не перелетают за забор. Да, Афанасий Иванович и днем и даже ночью размышляет о том, «чего бы такого поесть». Вся его хозяйственная деятельность сводится к тому, что он «засеменит, увидев гусей, и махнет на них платочком: „Пошли, гуси…“ Его остроумие проявляется лишь в том, что он, с добродушным лукавством подмигивая, „подшучивает“ над Пульхерией Ивановной. Но Пульхерия Ивановна умирает, и мы видим потрясенного горем человека. ссссИвановны Афанасий Иванович – Ильинский говорит:
– Вот вы и погребли ее… Пауза. Он силится сдержать слезы. Потом взгляд, обращенный к небу:
– Зачем? По одному этому взгляду, каким Ильинский смотрит ввысь, можно судить о том, как много пережил за эти дни Афанасий Иванович, можно определить меру его страданий. Всю свою жизнь не выходивший из круга детски-наивных религиозных представлений, смешанных с суевериями, он под влиянием горя, внезапно расширившего его горизонт, перевернувшего ему душу, задумывается над смыслом человеческого существования.
«Какого горя не уносит время?» – спрашивает вместе с Гоголем Ильинский. А вот горя Афанасия Ивановича оно не унесло.
Проходит пять лет – мы снова видим Афанасия Ивановича, уже одряхлевшего, опустившегося, живущего полудремотной жизнью. Но едва у этого старика, «которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов», возникает привычная и характерная для него ассоциация: подали любимое блюдо Пульхерии Ивановны, и он сейчас же вспоминает о ней. Какую жаркую печаль читаем мы тогда в тускнеющих глазах Афанасия Ивановича – Ильинского!
Нет, не случайно Гоголь настойчиво повторяет слово «казалось». Казалось – на поверхностный взгляд. Казалось потому, что у Афанасия Ивановича жизнь текла ровно, спокойно, и тихим огоньком горела его большая любовь к Пульхерии Ивановне. Но вот налетела буря – вспыхнуло жаркое пламя печали, вспыхнуло и горело до тех пор, пока он сам не угас.
В течение многих лет, еще с довоенного времени, я не пропускал почти ни одного литературного концерта Игоря Владимировича Ильинского и могу засвидетельствовать, что не было при мне такого случая, когда бы аудитория – самая при этом разная – осталась безучастной к судьбе Карла Иваныча из «Отрочества» Льва Толстого – старого учителя, привыкшего к семье Иртеньевых, полюбившего Николеньку и Володю как родных детей и вдруг получившего приказ от господ идти на все четыре стороны.
Ильинский, разумеется, читает рассказ Карла Иваныча без грима, но – колдовство перевоплощения! – перед нами с первой минуты старик немец, немец с головы до пят. В каждой складке его лица сквозят добродушие, великодушие и затаенная грусть, приглушенно звучащая уже в первой фразе: «Я был нешаслив ишо во чреве моей матери».
Этот мешковатый тугодум, в котором безусловно есть и что-то комическое, умеет сильно и глубоко чувствовать, – таков он у Толстого и таков он у Ильинского. Любовь к матери Карл Иваныч проносит через всю свою жизнь, полную незаслуженных обид, испытаний и горестей. При словах: «Одна моя добрая маменька любила и ласкала меня», которые Карл Иваныч – Ильинский выговаривает со сдержанной нежностью, лицо его проясняется. При воспоминании о том, как ему, только что вернувшемуся из плена, сообщают, что мать все плачет о нем, он взволнованно поправляет воображаемые очки. Карл Иваныч рассказывает дальше… Входит мать, и он в конце концов не выдерживает. Лицо у него светлеет, и весь он сейчас – порыв долго не находившей себе утоления сыновней любви: «Маменька! – я сказаль, – я ваш Карл!» Тут Карл Иваныч – Ильинский на секунду закрывает лицо руками, потом снимает воображаемые очки и не спеша протирает их. И больше ничего. Никакой патетики в голосе. А у меня, слушателя, подступает к горлу ком.
Критики единодушно хвалили Ильинского в роли Акима из «Власти тьмы». В самом деле, это такое исполнение, каких немного в истории театра любой страны. Вот он, лохматый, сивобородый, слегка ссутулившийся от многолетнего тяжкого крестьянского труда, хотя еще бодрый и крепкий. Из себя невидный, невзрачный. Мужичок как мужичок. Мужичок-вахлачок. Да еще и косноязычный вдобавок. А какую Ильинский раскрывает в нем душевную высоту, красоту, какую чуткость и проницательность!
Один из самых сильных моментов в игре Ильинского – паузы. Взгляд и весь его облик делают молчание красноречивее любого обличительного монолога, красноречивее самой страстной филиппики.
После того как Никита перекрестился на образ, что ничего такого у него с Мариной не было, Аким – Ильинский смотрит на сына взглядом, с каждым мгновением все глубже уходящим к нему в душу. Убедившись, что Никита солгал, он отворачивается. Эту убежденность Аким – Ильинский не выражает в словах – она читается на его хмуром лице.
Аким сидит на печке, а в это время куражится пьяный Никита, из-за него ссорятся бабы, Никита выгоняет жену, все это происходит на глазах у девочки Анютки. И сложный взгляд Акима – Ильинского, взгляд его умных, добрых и строгих глаз, выражает сейчас скорбное и брезгливое осуждение этому семейному неблагополучию, этой скверности, которая завелась в доме у «Микишки»; ему «дюже гнусно» быть в этом доме, ему обидно за сына, ему обидно за человека: как может человек дойти до такой «пакости»! В чистых глазах Акима – Ильинского светится его чистая душа. А душа у него так чиста, что ему, имеющему дело с отхожими местами и выгребными ямами, противно сидеть за одним столом с Никитой – он им гнушается, он им брезгует:
Не могу я, тае, с тобой чай пить.
И этот долгий немой укор Акима – Ильинского подготавливает его бунт в конце явления и его уход:
Пусти, не останусь. Лучше под забором переночую, чем в пакости в твоей. Тьфу, прости господи!
Ильинский сострадает расплюевым и шмагам, счастливцевым и муркиным. Но он знает и других бедных людей, не согнувшихся, не смирившихся, ни перед кем не унижавшихся, всю жизнь прошедших с высоко поднятой головой. Тех людей Ильинский жалеет; привлекая к ним сочувствие зрителей и слушателей, он тем самым обличает социальную несправедливость, изуродовавшую их. Этими же он любуется, этими он гордится.
Он читает стихотворение Бернса в переводе Маршака, и перед нами – лирический герой Бернса, честный бедняк, дышащий душевным благородством, запечатленным в каждой его черточке:
Кто честной бедности своей Стыдится и все прочее, Тот самый жалкий из людей, Трусливый раб и прочее;презирающий чины, знаки отличия и всякие земные блага, ибо ни чести, ни ума они не заменяют; твердо помнящий, что самое большое сокровище – это золотое сердце человека; несокрушимо уверенный в том, что
… будет день, Когда кругом Все люди станут братья!Та же плебейская гордость, только менее темпераментная, звучит у Ильинского, когда он читает «Старый фрак» Беранже.
Какое у него сейчас прекрасное лицо! Какая строгая грусть читается в его глазах! И какой высокий душевный строй у этого бедняка, всю жизнь не расстающегося со своим старым фраком! Какая глубина чувства! И какая благородная сдержанность в его выражении!
Старый фрак дорог ему по воспоминаниям – по воспоминаниям о той, единственной, которую он так же беззаветно любит и сейчас, хотя ее давно уже нет на свете.
Она тебя заштопала …Секундная пауза.
… зашила …Голос было дрогнул на слове «зашила» – уж очень ясно, ясно до осязаемости, вырисовался перед ним за этой подробностью весь ее облик, но тут наступает душевный перелом. Если в жизни человека была такая любовь, то уже ничто не страшно, не страшна и сама смерть, ибо любовь торжествует над смертью – вот что хочет сказать Ильинский своим исполнением «Старого фрака».
Один из героев «Сельской хроники» Твардовского, «балагур, знаменитый табакур», печник Ивушка, скромно, казалось бы, незаметно проживший свой век, так же «скромно, торопливо» из жизни ушел и, однако, оставил по себе долгую и добрую память. Оставил же он по себе такую светлую память не только потому, что этот труженик дорожил честью, что он был мастером своего дела, что все сложенные им печки могли стоять «без ремонту двадцать лет», а и потому, что уж больно хороший человек был Ивушка, потому что он
…при каждом угощенье Мог любому подарить Столько ласки и почтенья, Что нельзя не закурить.И кто хоть раз видел Ивушку – Ильинского, тот уже не забудет ласкового прищура этих по-стариковски чуть-чуть грустных глаз, этой мудрой улыбки, этого разлитого во всех его движениях спокойствия, какое бывает у людей, сызмала живших в ладу со своею совестью.
Защита обездоленных и обойденных, защита не назойливая, осуществляемая тонкими художественными средствами, поиски того золота, что на беглый взгляд не блестит, поиски золота самородного, душевного под неприглядной, как будто бы ничего не обещающей поверхностью, под грубоватой иной раз корою, за смешным или заурядным обличьем, раскрытие богатого внутреннего мира у честных бедняков, у простых душ во флоберовском смысле этого выражения, – такова одна ипостась гуманистической сути Ильинского. Другая ее ипостась – сатира. Осмеивая зло, Ильинский служит добру; осмеивая кривду, он служит правде не менее верно, чем когда вызывает у зрителей слезы сочувствия к униженным и оскорбленным. И сколько их, кого Ильинский заклеймил и пригвоздил к позорному столбу, а в их лице – сколько выставленных на по-глядение и осмеяние общественных пороков и уродств: Загорецкий, Хлестаков, Мурзавецкий, Крутицкий, Юсов, городничий, показанные на сцене Малого театра; «Хамелеон» из одноименного чеховского рассказа, «пустоплясы» из сказки Щедрина «Коняга», «лазоревый полковник» из поэмы Ал. К. Толстого «Сон Попова», «Прозаседавшиеся» Маяковского, показанные на эстраде; Присыпкин, сыгранный в Театре имени Мейерхольда.
До Ильинского я знал нескольких Хлестаковых. Помню в этой роли Остужева. К сожалению, он увидел в Хлестакове убогого захолустного фата. Помню Эраста Гарина. Он играл интересно. Но это был Хлестаков, увиденный глазами Мейерхольда, который, в свою очередь, смотрел на него глазами символистов: это был Хлестаков с изрядной примесью мережковской мистики и чертовщины. Помню Мартинсона: это была высокоталантливая эксцентриада. Подлинно гоголевским Хлестаковым мне представляется Ильинский. Он не пренебрег ни одним указанием Гоголя; каждым из них он воспользовался, но не механически, а применительно к особенностям своего дарования.
«Чем более исполняющий эту роль покажет чистосердечия и простоты, тем более он выиграет», – указывает Гоголь в «Замечаниях для господ актеров».
Ильинский принял это указание Гоголя не только к сведению, но и – в буквальном смысле слова – к исполнению.
Детское чистосердечие – вот что бросается в глаза при знакомстве с его Хлестаковым.
Второе действие. Прогулявшись от нечего делать по городу, он возвращается к себе в номер. Долгая пауза, во время которой мы успеваем его разглядеть. Да это же юнец с наивными синими глазами! Вот первое от него впечатление.
Убеждая трактирного слугу принести ему пообедать, он опять-таки с детской наивностью восклицает:
– Посуди сам, любезный, как же? ведь мне нужно есть. Этак могу я совсем отощать. Мне очень есть хочется.
В устах Хлестакова – Ильинского это самый веский, самый неопровержимый аргумент.
Когда городничий при первой с ним встрече оправдывается:
– Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которую я будто бы высек, то это клевета, ей-богу клевета, – Хлестаков – Ильинский, восприняв это и как намек и как угрозу, инстинктив
но хватается за соответствующее место. По всей вероятности, его самого еще недавно порол батюшка, а может, еще и выпорет, если верить Осипу. И недаром он потом с таким сочувственным и почтительным вниманием оглядывает тыл помянутой вдовы, когда она ему жалуется, что ее «так отрапортовали: два дни сидеть не могла».
Разумеется, Хлестаков – Ильинский – фитюлька, елистратишка, но в то же время и столичная штучка, в некотором роде comme il faut. И благодаря этому становится понятным, почему на него клюют и такая продувная бестия, как городничий, и жохи-чиновники, и Анна Андреевна. Изящество его манер особенно отчетливо проявляется в любовных дуэтах и в дуэте с почтмейстером, дуэте фата провинциального, который старается показать Хлестакову, что он тоже не лаптем щи хлебает, и фата все-таки столичного, пусть и невысокой пробы.
Хлестаков в изображении Ильинского – пошляк. О чем бы он ни рассуждал, чего бы он ни коснулся – пошлость сочится у него из всех пор.
Душа моя жаждет просвещения, – изрекает Хлестаков, и сейчас же взгляд на носок щегольского ботинка, которым он слегка покачивает, и игра лорнеткой: вот они, по Хлестакову, непременные атрибуты просвещения!
Один этот взгляд Ильинского и эти его движения дают возможность глубже заглянуть внутрь Хлестакова, нежели иные многолистные исследования.
Хлестаков слышит звон, да не знает, где он. Ему попадались в повестях, в стихотворениях, в песнях выражения: «древесная сень», «речные струи», и он склеивает из них бессмысленную «сень струй». Ильинский дорисовывает его портрет еще одним мазком, и это опять одна из счастливых находок, которыми обильно творчество Ильинского. Хлестаков мог от кого-нибудь слышать, что Державин дожил до глубокой старости. Ну, значит, все великие писатели – старики, – со свойственной ему легкостью в мыслях решает он. И, изображая Пушкина, Ильинский по-стариковски шамкает:
Да так, брат… так как-то вщё…
Но у этого пошляка, у этого неуча несомненное обаяние и талант, да, талант: талант лжи. Хлестаков «лжет с чувством», замечает Гоголь в «Письме к одному литератору». И вранье Хлестакова – Ильинского – вранье непроизвольное, вдохновенное. Это ложь, в которую он сам верит. Это езда на санках с крутой горы, и лишь по временам он опоминается. «Боже мой! Что же это я горожу?» – написано в такие секунды на лице у переводящего дух Ильинского, например, после фразы: «Мне
Смирдин дает за это сорок тысяч». Мгновенная заминка, и опять под уклон.
Тот же «ряд волшебных изменений милого лица» – в предпоследней сцене Хлестакова. При недоуменных вопросах городничего и его намеке на состоявшееся обручение с Марьей Антоновной – быстролетное замешательство, и вот он уже вывернулся:
– А это… На одну минуту только… на один день к дяде… Комильфотность, внешнее обаяние и талант лжи – вот что прежде всего заморочивает и задуривает головы многоопытному городничему, чиновникам и такой, хотя и уездной, а все же гранд-даме, какова городничиха.
Хлестаков, по определению Гоголя, которое он дает в «Письме к литератору», натура только «отчасти подленькая». И не Хлестаков – Ильинский берет взятку, а она его. В сцене с Аммосом Федоровичем он еще «взяточник поневоле», он лишь потом входит во вкус, так же как он постепенно, видя, что его слушают и верят, расправляет крылья в сцене вранья. «Идея» взятки – это тоже плод вдохновения, как и вранье, как и его начальственный тон. Он замечает в кулаке у судьи бумажку, смотрит на нее сосредоточенным взглядом, и только тут его осеняет, осеняет с такой же внезапностью, с какой на него снизошло вдохновение, когда он только что, в такт упрекам, которыми осыпала Марью Антоновну мамаша, укоризненно покачивал головой, и вдруг попросил у мамаши благословения на брак с ее ветреной дочкой, или когда ему нужно во что бы то ни стало придумать причину отъезда. Словом, как говорит Гоголь в «Предуведомлении», «в нем все сюрприз и неожиданность».
Будь Хлестаков у Гоголя и у Ильинского зауряд-взяточником, он бы так ловко не провел чиновников, и они бы так постыдно не попались впросак. Они смутно чувствуют, что пусть даже он и прилгнул, а все-таки он им не свой брат.
Хлестаков Ильинского – это и сосулька и comme il faut, и трус и наглец. Уже в приказаниях Осипу пойти к хозяину трактира и выпросить у него обод он колеблется между робким и властным тоном. Он умасливает трактирного слугу, но стоило ему добиться своего, и он стремительно наглеет, он уже с полным сознанием своего превосходства ругает и хозяина и слугу:
– Ну, хозяин, хозяин… Я плевать на твоего хозяина!.. Мошенники, канальи… Подлецы!
Властные нотки прорываются у него уже при первой встрече с городничим, несмотря на отчаянный страх, – недаром городничий пугается. Как и в случае со взяткой, во время приема чиновников его сначала «осеняет», а потом он уже входит во вкус, разыгрывая важную птицу. Заметил, что ненароком, неожиданно для самого себя, нагнал страху на Хлопова: «Оробел, ваше бла… преос…» – «Оробели? А в моих глазах точно есть что-то такое, что внушает робость», и уже с Земляникой он прямо начинает с официально-сухого: «Здравствуйте, прошу покорно садиться». А уже с Добчинским Хлестаков – Ильинский позволяет себе и рассеянный взор и отрывисто-начальственный лай:
– Хорошо, пусть называется! Это можно… Я об этом постараюсь, я буду говорить… я надеюсь… все это будет сделано, да, да…
«Легкости в мыслях» у Хлестакова – Ильинского соответствует легкость поз и движений. С какой юношеской гибкостью перевешивается он через подоконник, чтобы взять у жалобщиков просьбу!
Ильинский вообще на диво пластичен. Как изящно скользил он на воображаемых коньках по воображаемому льду, когда читал с эстрады стихотворение Маршака «Лодыри и кот»!
Образ Хлестакова, созданный Ильинским, как видим, сложный, но таков он и у Гоголя – и в замысле, и в выполнении. «У Хлестакова ничего не должно быть означено резко», – настаивает Гоголь в «Письме к литератору». Чувства, ощущения Хлестакова – Ильинского переходят одно в другое, переливаются, зыблются, дробятся. Поистине это, как там же выразился Гоголь, «совокупление в одном лице… разнородных движений».
В изображении городничего (постановки 52-го и 66-го гг.) Ильинский решительно порывает с шаблоном, но не из стремления во что бы то ни стало не походить на своих предшественников, а во имя слияния своего замысла с замыслом авторским. Это драгоценное, это редкостное свойство Ильинского – раскрывать свою индивидуальность, не идя наперекор авторской воле. Ильинский стряхнул с городничего пыль трафарета. Мы привыкли к тому, что по сцене ходит бурбон, солдафон с неизменно низким лбом, с волосами, растущими чуть ли не от переносицы, в посадке головы которого есть что-то бычье, крупный телосложением, но мелкий внутри, и как же он нам надоел! Стал бы Гоголь писать о таком человеке пьесу! Стал бы он об него руки марать!
Городничий обзывает купцов архиплутами и протобестиями. В изображении Ильинского сам городничий – именно архиплут и протобестия, потому что таков он у Гоголя. В минуту крушения всех чаяний своих и упований городничий признается: «…мошенников над мошенниками обманывал, пройдох и плутов таких, что весь свет готовы обворовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул!..» В том отчаянии, в каком находится сейчас городничий, человеку не до бахвальства. Таков, конечно, и в самом деле «послужной список» Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского. У многих исполнителей городничего, низводивших его до степени тупого мужлана, этот монолог звучал пустым хвастовством, таким же несусветным враньем, как вранье Хлестакова, но только мрачным и надрывным. Городничему – Ильинскому, слушая его монолог, веришь беспрекословно.
«Черты лица его грубы и жестки, как у всякого, начавшего тяжелую службу с низших чинов».
Это указание автора обратило на себя внимание, кажется, всех исполнителей роли городничего, но мало кто – во всяком случае, на моей зрительской памяти – воспользовался другим его замечанием: городничий – «очень неглупый по-своему человек». В глазах городничего – Ильинского все время поблескивает ум – сугубо практичный, низменный, пошлый (городничий очень неглуп по-своему), но лукавый и проницательный. Этот человек наделен от природы деловой сметкой, бойкой смекалкой – таково впечатление от первой же встречи зрителей с городничим – Ильинским. Но его недюжинный ум, по выражению Гоголя, «более всего озабочен тем, чтобы не пропускать того, что плывет в руки… Из-за этой заботы он стал притеснителем». Его ум озабочен тем, как бы достичь доступных ему вершин житейского благополучия, как бы выкрутиться из любого затруднительного положения.
Городничий – Ильинский поверил сбивчивому рассказу двух «трещоток» и «сорок». На всякого мудреца довольно простоты… Он оглушен, ошеломлен. Но как скоро оправляется от удара этот бывалый человек! Его ум встрепенулся и заработал в определенном, нужном ему направлении. Городничий озабочен тем, как бы ублажить мнимого ревизора, и эту напряженную работу мысли мы читаем сейчас на лице у городничего – Ильинского. Все тот же плутовской ум написан у него на лице, когда он во втором действии выслушивает жалобы Хлестакова на притеснения, чинимые ему в гостинице («Дудки, мол, меня не проведешь, не на такого напал!»). И в последнем действии, убедившись, что Хлестаков – сосулька, он не проявляет ни малейшего интереса к тому, как Хлестаков разделывает под орех чиновников. Городничий погружен в мрачное раздумье. Он мучительно ищет выхода.
Городничий Ильинского – мастер своего дела. Стоит понаблюдать за тем, как он дает Хлестакову первую взятку. Он и дает ее и словно бы не дает. Протянул дрожащую руку, показал деньги – и скорей их на стол. В случае чего – «упаси бог, у меня и в мыслях того не было, сам не знаю, как они тут очутились». Хлестаков «клюнул» – и лицо городничего выражает блаженство и умиление.
Ильинский не упустил из виду намека Гоголя на то, каким был жизненный путь Антона Антоновича. Глядя на городничего – Ильинского, живо представляешь себе, что прежде чем Антон Антонович достиг в этом городе высшей власти, ему вдоволь пришлось накланяться. Да и теперь еще ему приходится рассыпаться мелким бесом, как только в город заглянет даже и не весьма высокое начальство. При первом знакомстве городничего – Ильинского с Хлестаковым раболепство сквозит у него во всем: и в осторожном покашливании, когда он входит к Хлестакову, и в «верноподданническом», «без лести преданном», хотя и не лишенном некоторой осанистости, выгибе холопской спины.
В третьем действии он сначала слушает вранье Хлестакова с насмешливым самодовольством («Теперь ты, братец, у меня в руках»). Пока речь идет об успехах Хлестакова на литературном поприще, у городничего почтительно-скучающая мина. Он только показывает за спиной дорогого гостя кулак дочке, когда она посмела усомниться в том, что автор «Юрия Милославского» – Хлестаков. Но мало-помалу, когда Хлестаков переходит к своим успехам на поприще служебном, выражение лица у городничего становится все серьезнее, обеспокоеннее, встревоженнее. Наконец он не выдерживает и вскакивает с места. Его, видавшего всякие виды, взяла оторопь. Он испытывает сейчас то самое состояние, о котором потом со свойственной ему образной меткостью расскажет жене: «…как будто или стоишь на какой-нибудь колокольне, или тебя хотят повесить». Сперва он дрожит, только чтобы угодить гостю, но после того, как Хлестаков хвалится, что когда он проходит по департаменту, то в департаменте «просто землетрясенье, все дрожит и трясется, как лист», дрожь наигранная переходит у него в естественную. Выражение тревоги сменяется выражением благоговейного, священного ужаса. И с каким чувством он, когда «высокая особа» уже изволила започивать, дает квартальному, зацепившемуся ногой за стул, увесистого пинка в зад!
Городничий Ильинского – натура в своем роде артистическая. Он – великолепный актер. Во втором действии Антон Антонович только что показал, какой он искусный взяткодатель, а вот он изображает на своем лице радушие и хлебосольство: «У меня в доме есть прекрасная для вас комната… Не сердитесь – ей-богу, от простоты души предложил… А уж я так буду рад! А уж как жена обрадуется! У меня ужо такой нрав: гостеприимство с самого детства, особливо если гость просвещенный человек. Не подумайте, чтобы я говорил это из лести, нет, не имею этого порока, от полноты души выражаюсь». Если бы не хитрые искорки в глазах, о городничем – Ильинском можно было бы сейчас подумать, что это душа-человек. Гоголевский городничий непременно должен быть наделен таким талантом, иначе он так ловко не околпачивал бы вышестоящих лиц. Но вот городничий – Ильинский прогоняет трактирного слугу, который лезет со своим дурацким счетом: «Пошел во è ун, тебе пришлют». Маска добродушного хлебосола спадает. Оловянные глаза, верхняя губа наползает на нижнюю. Слугу как сдунуло. И тут нам становится ясно, скольких городничий раздавил как муху.
Городничий и у Гоголя и у Ильинского наблюдателен. Опять-таки не будь у него этой особенности, он бы так не преуспел в жизни: чтобы суметь надуть, всегда надо видеть и знать, с кем имеешь дело. Городничий – Ильинский в первом действии отчитывает Луку Лукича Хлопова за непорядки в подведомственных ему учебных заведениях. Но ведь он не просто отчитывает, не просто распекает, он тут же, мимоходом, набрасывает портреты учителей, и, благодаря его рассказу, эти лица стали для нас такими же действующими лицами, как, скажем, Держиморда или Христиан Иванович Гибнер. Ильинский с такой выразительностью мимики и жеста изображает и того «поборника просвещения», который, взошедши на кафедру, корчит рожу и утюжит бороду, и того темпераментного историка, который, дойдя до Александра Македонского, ударяет стулом об пол, что теперь мы уже представляем их себе с совершенной отчетливостью. Зная за гоголевским городничим эту его склонность к живости рассказа, к рельефности и выпуклости изображения, Ильинский после слов: «А подать сюда Землянику!» – держит воображаемую ягодку на ладони, затем подносит ко рту и тут же выплевывает: «Вот, дескать, был Земляника – и нет Земляники». Этот момент в исполнении Ильинского заставляет вспомнить, как он, играя в Театре имени Мейерхольда Аркашку, не без труда вдевал несуществующую нитку в ушко несуществующей иголки, и зрители ясно видели, как он что-то зашивал в своем туалете, затем перекусывал нитку, а иголку втыкал в подкладку своего сюртучишки.
В наблюдательности, в любви к живописным подробностям у городничего – Ильинского сказывается его аппетит к жизни. В нем, кстати сказать, угадывается заядлый охотник, любитель покушать. Надо видеть, как этот чревоугодник, плотоядно выпятив губы, пытается вообразить две рыбицы: ряпушку и корюшку, «такие, что только слюнка потечет, как начнешь есть».
Жизненные соки в нем далеко еще не иссякли. Он все делает со смаком, с азартом. Как стремительны его сборы перед поездкой в гостиницу! У, какую рожу состроил он Бобчинскому, когда того угораздило вместе с сорвавшейся с петель дверью грохнуться на пол в присутствии «ревизора», которого Антон Антонович только-только начал обхаживать!
«Когда играешь злого, – ищи, где он добрый», – учил Станиславский. Эти слова не следует понимать упрощенно и уплощенно. Вовсе это не значит, что Станиславский требовал во что бы то ни стало искать в каждом злодее мягкосердечие. Станиславский познал на собственном творческом опыте, что актер не должен забывать о том, какие возможности таит в себе светотень: тень оттеняется, углубляется, становится еще более сумрачной на фоне светового пятна.
Чтобы пояснить свою мысль еще на одном примере из театральной жизни, позволю себе небольшое отступление.
Одно из потрясающих моих театральных впечатлений – «Кармен» в Оперном театре имени Станиславского, последний – но какой головокружительной высоты! – взлет режиссерского гения того, кто основал этот театр и в чью честь он был назван!
Перед нами была Испания не козьма-прутковская («Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте Инезилью, кастаньетов пару»), а самая что ни на есть подлинная: вихревая, грозовая и захолустно-сонная, возвышенная и низменная, романтичная и прозаическая, коварная и наивная, пышная и убогая, бескорыстная и торгашеская, – такая, какою написал ее Мериме и какою изобразил ее в звуках Бизе. Недаром Мейерхольд призывал своих последователей учиться на этом спектакле.
То же и искусство слова: подлинные художники почитают за великий грех мазанье одной краской. Какую мощь приобретают в их руках языковые контрасты! Как усиливает эмоциональный накал «подключенный» к лирической сети прозаизм!
Ильинский показывает, что городничий – хищник крупный и тем более опасный. Но в согласии с тем, каков городничий у Гоголя, городничий Ильинского отходчив, не памятозлобен: «…злобного желанья притеснять в нем нет», – предуведомляет Гоголь. В начале пьесы Антон Антонович дает взбучку каждому чиновнику по очереди, но после необходимой с его точки зрения распеканции (если б не угроза ревизии, он и не подумал бы их пробирать) остывает – остывает и в силу отходчивости и при мысли о поруке, которая его с этими людьми связывает. Я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из исполнителей городничего так вел сцену с купцами, как ведет ее Ильинский, но ведет он ее воистину и вправду по-гоголевски. До этой сцены Ильинский успел показать, сколь жесток может быть сей градоправитель – поперек дороги ему не становись, под горячую руку но попадайся. Но здесь он не злобствует, не брызжет бешеной слюной. Да и чего ему, собственно говоря, неистовствовать? До неистовства он дойдет немного погодя, когда уверится, что его едва ли не впервые оставили в дураках. А сейчас он убежден, что сделался птицей «высокого полета, черт побери!». «Уж когда торжество, так торжество!» И с него «довольно сего сознанья». В своем кратковременном торжестве победителя городничий – Ильинский упивается не столько местью, сколько именно торжеством. Он предвкушает встречу с купцами («Теперь уж я задам перцу всем этим охотникам подавать просьбы и доносы… Вот я их, каналий!») – предвкушает с таким же точно аппетитом, с каким предвкушает отведать корюшки. Он готовится к представлению, как настоящий актер (а мы уже знаем, что городничий Гоголя и Ильинского – прирожденный актер, и притом довольно широкого диапазона). Он получает видимое удовольствие от своей игры и от производимого ею эффекта. Он тешит душеньку. Оп упивается унижением своих недругов. Он оригинально, виртуозно ругает их на чем свет стоит. Он и ругается-то по-особенному, на свой салтык, он и в бранном лексиконе проявляет даровитость и самобытность. Он пушит купцов со вкусом, так что городничиха только ахает. При помощи красноречивых жестов он недвусмысленно дает купцам понять, что бы он с ними сделал, если б к нему не привалило такое счастье. Не нагрянь настоящий ревизор, Антон Антонович содрал бы с них по малой мере семь шкур, но иные способы мести, пожалуй, в ход не пустил бы: «Я бы вас… Ну да бог простит! полно! Я не памятозлобен; только теперь смотри держи ухо востро!»
Своеобычное, заключенное в весьма узкие рамки добродушие городничего Ильинский опять-таки вычитал у Гоголя. В отличие от своей мелочной супруги, Антон Антонович «готов стараться», не прочь оказать по старой памяти услугу какому-нибудь Коробкину – услугу, понятно, пустячную и притом в кои веки раз:
– Почему ж, душа моя? иногда можно!
В «Письме к одному литератору» Гоголь писал, что «для таланта, каков у Сосницкого, ничего не могло остаться необъясненным» в роли городничего. То же самое можно сказать и об Ильинском.
Гоголь указывает актерам, что у городничего «переход от страха к радости, от низости к высокомерию довольно быстр, как у человека с грубо развитыми склонностями души». Ильинский не прошел мимо и этого указания.
Мы уже наблюдали смену выражений на его лице в сцене хлестаковского вранья. А вот он слушает письмо Хлестакова к Тряпичкину, и как быстро недоверчивое пренебрежение сменяется у него отчаянием, отчаяние – раздумьем о своей дальнейший судьбе, раздумье – снова отчаянием, и как бурно, точно прорвавшая плотину вода, хлынуло оно у него и затопило берега! Он страшен в приливах злобы, страшен он и в этом взрыве отчаяния, тем более сильном и тем более для него трагичном, что в случае с Хлестаковым ему изменили никогда прежде не подводившие его здравый смысл и наблюдательность, что его оставила с носом не какая-нибудь продувная бестия – это все-таки было бы не так обидно, а «елистратишка», вертопрах.
Ильинский создал образ цельный в своей сложности, гоголевский в своей трагикомической сущности, образ верный психологически, радующий глаз своей бытовой живописностью и характерностью. Это Антон Антонович Сквозник-Дмухановский с ему одному присущей повадкой и хваткой, это типичный николаевский служака и это вневременный символ безудержного, беспощадного и тлетворного произвола.
У Юсова – Ильинского многое уже в прошлом. Он уже не пляшет с тою молодцеватостью, с тою лихостью, с какой, должно полагать, плясал во время оно. Юсов – Ильинский как бы намечает все телодвижения пунктиром, он словно показывает: вот как я плясал, когда молод был.
Говорят, что Степан Кузнецов плясал молодо («дай-ка, дескать, тряхну стариной»). Охотно верю, что у него это получалось отлично. Такая трактовка возможна, тем более что победителя не судят. Однако трактовка Ильинского мне представляется более близкой к замыслу Островского. Вспомним, как в третьем действии после пляски Юсов расчувствовался и расфилософствовался: «Я теперь только радуюсь на божий мир! Птичку увижу, и на ту радуюсь, цветок увижу, и на него радуюсь: премудрость во всем вижу».
Такое размягченное любомудрие разводят обыкновенно старики, которые перешли уже некую грань, которых и ноги плоховато слушаются и у которых вообще уже нет былой прыти и удали.
Когда-то Юсов – Ильинский долго и упорно клевал по зернышку, но все это позади. В своей сфере он важная шишка. Вот отчего до Белогубова он снисходит: его благополучие, его величие представляются ему столь прочными, что сидение в трактире в компании мелких чиновников, к которым он относится отечески-покровительственно, не может, по его разумению, бросить на него и самомалейшей тени. Вот отчего он слушает рацеи Жадова чаще всего с тупо-скучающим видом (дескать, «Не любо не слушай!» «Слыхали! – мол. – Хорошо поешь – где-то сядешь!»), с видом человека, всему и всем знающего цену, в том числе Жадову. Сколько величественного, но по существу беззлобного презрения в этом поклоне задом, который отвешивает ему в первом действии Юсов – Ильинский со словами: «Ну что ж делать, ошиблись, извините, пожалуйста, не знали ваших талантов». Злобствовать он считает ниже своего достоинства.
В трактире Юсов выходит из равновесия, но ведь он в подпитии. Да и потом, Жадов разозлил его не столько своими суждениями, сколько тем, что не захотел выпить с ним и с Белогубовым, погнушался ими. Да нет, даже и не этим. Разозлило Юсова то, что Жадов в его присутствии смеет читать газету, а еще больше – сама газета. Юсов в исполнении Ильинского – человек неглупый, человек проницательный. Он верхним чутьем учуял, что Жадов сам по себе ему не опасен, что в конце концов он склонит непокорную голову, – опасны те веяния, о которых разглагольствует Жадов, опасны и необоримы те новые идеи, которыми Жадов «заражен». А идеи и веяния в его, Юсова, затуманенном винными парами мозгу олицетворяет сейчас газета, вернее всего, ни в чем перед вышневскими и юсовыми не повинная. И он с привязчивостью пьяного сначала косится на газету, потом схватывает ее с жадовского столика, комкает, швыряет на пол, топчет ногами, и, так как учинить над ней что-либо непотребное в публичном месте неудобно, то он льет на нее из бутылки пиво – это апофеоз юсовского презрения, на сей раз – желчного, и опять-таки своего рода пунктир («что бы я сделал с ней дома!»).
Юсов – Ильинский тактичен. Он знает, как и с кем себя вести, он знает свое место, не забывается. Сановито проходит мимо лакея Вышневского, небрежно бросает ему: «Доложи-ка, Антоша», но стоит лакею сказать: «Пожалуйте», – и Юсов сам мгновенно превращается в лакея, втягивает голову в плечи, становится как бы ниже ростом и – петушком, петушком – прошмыгивает к своему принципалу и благодетелю. И Аристарху Владимирычу он внимает с благоговением, жадно ловит каждое его слово, когда оно доступно его пониманию, когда оно вызывает в нем непосредственное сочувствие или когда оно учит его уму-разуму, а ведь Юсов из тех, которые полагают, что кашу маслом не испортишь, которые всегда рады поучиться не такому уж простому искусству наживы.
В 1952 году в статье «Драматург – режиссер» Ильинский рассказал о своей работе над ролью:
«Искусство сцены отличается от литературы и кино, живописи и других видов искусства главным образом тем, что в нем никогда не ставится точка. Художник написал картину, сделал последний мазок, и на выставке она уже существует самостоятельно, без него. Так же с кинофильмами: закончена съемка, монтаж – и шествует по экранам уже завершенный фильм, существуя независимо от создавших его актеров, режиссеров.
Другое дело театр. Спектакль, роль никогда не бывает сделана раз навсегда. Каждый раз, когда на сцене идет этот спектакль, актер творит роль заново. В этом есть очень большое преимущество для нас: драматический актер все время, от спектакля к спектаклю имеет возможность работать над более точным и интересным воплощением играемого образа. Это, конечно, ни в коем случае не значит, что в театре можно показывать сырой, неготовый спектакль или недоделанную роль, – я говорю только о возможности и необходимости в готовом спектакле, не отходя от его режиссерского замысла, искать все более правильную и точную его реализацию. Четырнадцать лет играю я Хлестакова и до сих пор не перестаю работать над этим образом».
Вот так и роль Юсова от спектакля к спектаклю выбрасывала у Ильинского все новые и новые побеги, обогащалась ценными подробностями, новыми находками, как всегда у Ильинского, ярко театральными, броскими и характерными.
И вот так – от концерта к концерту – углубляет и освежает Ильинский то, что читает с эстрады.
2 января 1968 года я записывал на радио свое выступление, посвященное ему. Потом записывался Ильинский. В который раз читая рассказ Чехова «Пересолил», он внезапно впал в отчаяние. С виноватым и убитым видом обернулся ко мне и пролепетал:
– Нет, у меня ничего не выйдет! В глазах слезы, как у прилежного мальчика, у которого не выходит задача по алгебре. Затем углубился в себя, беззвучно зашевелил губами, потом заговорил вслух и прочел рассказ с таким аппетитом, будто читал его впервые. И тут же нашел новую интонацию для концовки: «Дорога и Клим ему уже не казались опасными». Он произнес, эту фразу как полувопрос, с облегченным удивлением: мол, чего же было бояться?..
Щедрин в сказке «Коняга» вывел пустоплясов. Метил он в либеральных болтунов с народническим отливом. Какие фальшивые модуляции слышны в голосе Ильинского, каким бенгальским огнем горят у него глаза, когда он изображает пустоплясов, славословящих Конягу:
– Смотрите, как он вытягивается, как он перед ними ногами упирается, а задними загребает! Вот уж именно дело мастера боится! Упирайся, Коняга! Вот у кого учиться надо! Вот кому надо подражать!
И вдруг – страшный в своей остервенелой злобе взгляд и окрик, от которого кровь леденеет в жилах:
– Н-но, каторжный, н-но! Это окрик управляющих, помещиков, старост, старшин, становых, исправников, губернаторов.
Ильинский великолепен, когда он, читая поэму Ал. Конст. Толстого «Сон Попова», изображает пустобая-министра, грошовый либерализм которого мгновенно линяет, как скоро он усматривает нечто предосудительное в поведении безобиднейшего Тита Евсеевича Попова; Ильинский великолепен и когда он изображает самого Попова с его гаммой чувств и ощущений. Но его шедевр, одна из вершин его актерского и чтецкого искусства – это жандармский полковник.
На сцене Малого театра Ильинский язвяще и жаляще играл Загорецкого. Это был не просто сплетник, хотя бы и злостный, и не только отъявленный мошенник, плут, как рекомендует его Платон Михайлович. Прежде всего это был соглядатай, наушник.
А на эстраде Ильинский показал нам повелителя загорецких.
У этого человека стеклянные глаза, в которых нет ни проблеска человечности, втянутая верхняя губа, глухой замогильный голос, и при таком выражении лица и при таком тембре – инфантильное невыговаривание «р» и «л», и от этой его картавости становится только еще жутче.
Я в те года, когда мы ездим в свет, Знау вашу мать. Она быуа святая, —вкрадчивым piano начинает он, зловеще потирая одну руку об другую, но мало-помалу вкрадчивый тон «уазоевого поуковника» делается все грознее и грознее. И наконец, видя, что все мирные средства с «надменным санкюотом» исчерпаны, полковник берет устрашающее forte:
… не то, даю вам суово, Ч’ез поучаса вас изо всех мы сиу …Ильинский наделен даром внушать ужас, возбуждать ненависть и отвращение, трогать до слез и вызывать неудержимый смех. Именно ужасом веет от концовки «Как яблочко румян…» Беранже в его чтении, веет дыханием близкой смерти. Прерывистое, захлебывающееся бормотание токаря (рассказ Чехова «Горе»), выражающее его растерянность, его беспомощность перед внезапно свалившимся на него несчастьем, – это не менее удачная находка, чем инфантилизм выговора у полковника из Третьего отделения.
Ну, а теперь послушаем совсем иную скороговорку.
На эстраде бедовый мальчуган. Начинает он рассказывать бойко и уверенно, в глазах у него сверкает задор. Но его рассказ о доме, который построил Джек, обрастает новыми подробностями, темп его убыстряется и увлекает за собой мальчугана. Мальчуган как будто и сам уже не рад, что начал рассказывать, а остановиться нельзя, и он с искаженным лицом добегает до конца строфы, переводит дыхание – и опять строчит как из пулемета:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота, Который пугает и ловит синицу, Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, который построил Джек.Дикция у Ильинского такова, что, несмотря на бешеный темп, для слушателей не пропадает ни один звук.
Оглянется с опаской мальчуган, не слышит ли хозяйка, и – сначала медленным шепотом:
А это старушка, седая и строгая…И опять понесся, и тут уж только по выразительным движениям губ догадываешься, о чем в этот именно миг они шепчут – стремительно и чуть слышно.
Посетителей литературных концертов Ильинского я уже несколько раз назвал слушателями. Название не точное. Это и слушатели и зрители одновременно. Ильинский и на эстраде остается актером. Чтецов не перевоплощающихся он не любит.
Никакой принципиальной разницы между его выступлениями на сцене и на эстраде нет. Его литературные вечера – это театральные представления, только без декоративного фона и без бутафории. Ильинский выступает без грима, в своем обычном костюме, и подчас в одной и той же вещи ему приходится играть несколько ролей. Все это сильно усложняет его задачу. Но такова гибкость его голоса и мимики, так много-говорящи его жесты, что вспомогательные средства ему не требуются.
В «Сапогах» Игорь Ильинский на глазах у зрителя превращается то в боязливого, мнительного настройщика Муркина, то в заспанного и угрюмого коридорного Семена, то в охрипшего с перепою актера-простака «короля Бобеша», то в играющего голосом, самовлюбленного Нарцисса – «первого любовника» Блистанова, он же – «Синяя Борода», который после того, как Муркин в присутствии простака нечаянно выдал тайну («первый любовник» провел ночь с супругой «простака»), разыгрывает оскорбленную добродетель, петушится и, показывая на Муркина, ни живого, ни мертвого от страху, рычит: «Я из него бифштекс сделаю, уа-а-а!..» Весь он тут, плохой мелодраматический актер с завываниями, с метаниями по сцене, Дон Жуан из уездной глуши и нахальный лгун.
Художественные подробности, художественные мелочи, подсмотренные и подслушанные Ильинским у самой жизни, у живых людей, сразу же создают ему атмосферу зрительского доверия.
Возница из чеховского рассказа «Пересолил» понукает у него лошадь: «Но-а!» В этом «но-а» я слышу знакомые с детства голоса возниц, с которыми мне доводилось совершать многоверстные путешествия на телеге по унылым большакам и тряским проселкам.
Эти его художественные подробности, и бытовые (недаром Ильинский любит таких актеров-«жанристов», как Варламов, Давыдов, Грибунин) и психологические, не пришиты к тому или иному действующему лицу, они – естественное выявление его внутреннего облика, и они дополнительно характеризуют его.
Трусишка-землемер из рассказа Чехова «Пересолил», фанфарон поневоле, из страха, что на него нападут но дороге разбойники, а чего доброго и сам возница, корчит из себя отчаянного храбреца и наигранно-небрежным тоном спрашивает:
Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?
За этим следует притворный зевок в руку – это, мол, он так задал вопрос, между прочим, из любопытства.
Чем ему страшнее, тем больше он хорохорится, а чем больше хорохорится, тем ему страшнее. И чем фанфаронистее его похвальба, тем сильнее он заикается от страха. И из этого диссонанса вырастает дополнительный комический эффект:
– …силы у меня, словно у… у… у… быка…
… у каждого по пи… пи… пистолету…
Читая рассказ Чехова «Оратор», Ильинский, изображая главного героя, произносящего речь на похоронах, делает приличествующую случаю торжественную физиономию и время от времени, как бы под наплывом мыслей, прерывает речь многозначительными паузами. Но в том-то и беда оратора, что он силится хоть что-нибудь из себя выдавить, мыслей у него никаких нет, и его паузы то и дело повисают в воздухе.
Мнимый врач из «Ночи перед судом» Чехова в трактовке Ильинского – квинтэссенция пошлости. Перебирая босыми ногами, он предлагает даме из-за ширмы персидский порошок от клопов с таким видом, точно он поет серенаду и протягивает ей букет цветов.
Читая басню Крылова «Вельможа», Ильинский намеренно русифицирует образ. У этого «сатрапа» русские интонации, русская артикуляция, русский выговор. И нам становится ясно, что Крылов только по цензурным соображениям сделал своего вельможу персом, что это вынужденный маскарад, что на самом деле это какой-нибудь наш столоначальник.
«Слона и Моську» Ильинский заканчивает тем, что поднимает ногу и исчезает словно за подворотней. Если хотите, это озорство, но озорство не ради озорства. Вот чем обыкновенно кончаются проявления удали у четвероногих и двуногих мосек – таков смысл жестикуляционной концовки, придуманной Ильинским.
Читая «Как яблочко румян…», Ильинский после каждой строфы с рефреном смеется в ритме рефрена, и это придает всему исполнению какой-то особенный, французский колорит.
«Речь его течет гладко, ровно, как вода из водосточной трубы…» – характеризует Чехов ораторское искусство Запойкина. Ильинский произносит: «водосточной трубы», чуть дотрагиваясь до согласных. Этот звукообраз создает у слушателей представление о влажной текучести речи «оратора».
Ильинский-чтец исчерпывает до дна заложенные в тексте возможности для дорисовки внутреннего и внешнего облика действующих лиц. С этой целью он часто играет авторскую речь, как бы вкладывает ее в уста героев.
Строки из стихотворения Твардовского «Про Данилу», относящиеся к подгулявшему ради праздника старику, Ильинский поет старчески-пьяноватым голосом:
И никак не мо-о-жет Дед угомони-и-ться.Называя возраст Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, Ильинский одновременно показывает, каковы они с виду. Афанасий Иванович – сплошное добродушие; на лице у Пульхерии Ивановны написана забота, наивная ласковость и приветливость.
Когда Ильинский доходит до того места, где говорится, что Афанасий Иванович «любил подшутить» над Пульхерией Ивановной, лицо у него расплывается в улыбке, и он лукаво подмигивает.
Рассказывая о том, как гость Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны «с значительным видом» сообщал, что «француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта», Ильинский, придав своему лицу грозное выражение, залихватски покручивая воображаемый ус и надсадно кашляя, набрасывает портрет этого гостя, воинственный азарт которого не вяжется с его по-стариковски натужным кашлем.
Описывая внешность Муркина, и не просто описывая, но и тут же перевоплощаясь в него, Ильинский слова «с ватой и ушах» произносит жалобным козлетоном этого «болезненного» человека.
Читая о том, как Моська, увидевши Слона, начала метаться, и лаять, и визжать, и рваться, Ильинский произносит эти глаголы, если можно так выразиться, моськиным голосом, – он их отрывисто, тонко, с привзвизгом пролаивает.
В «Золотом петушке» Ильинский рисует нарастающее смятение царя Дадона: сыновья пропали, он идет с войском их разыскивать, но не встречает на своем пути «ни побоища, ни стана, ни надгробного кургана», затем видит шатер, побитую рать, лежащую в ущелье, потом двух своих мертвых сыновей.
Вдруг шатер Распахнулся… и девица, Шамаханская царица, Вся сияя как заря, Тихо встретила царя.Слова «шамаханская царица» он произносит как бы от лица Дадона, с глубоким вздохом восторга, и восторженный этот вздох стоит обстоятельного описания прелестей ее и красот.
В басне Михалкова «Заяц во хмелю» Ильинский по-львиному рыкливо зевает:
Пра-аснулся ле-е-ев… —становясь в то же время разительно похожим на льва. Так, ухватившись за два слова авторской ремарки, он мимикой и голосом рисует пробуждение хищника.
Как много может высказать взгляд Ильинского, в этом нас убеждает его Аким. Но такой же безмолвный взгляд Фомы Фомича Опискина в финале «Села Степанчикова» – взгляд, украдкой обращенный на полковника Ростанева после того, как Фому простили и он вынужден принять участие в семейном торжестве, взгляд, в котором и черная зависть и угроза отомстить за временное поражение, – в своем роде стоит взгляда Акима.
В глазах у Мурзавецкого застыло желание выпить. О чем бы он ни говорил, что бы ни делал, тайная дума его – «ночью и днем все об одном».
Об Афанасии Ивановиче Ильинский говорит, что когда-то он был «молодцом», «он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну», и в это время лицо Ильинского принимает молодцеватое выражение, он приосанивается, но эта молодцеватость, эта бравость Афанасия Ивановича видна зрителям как бы сквозь дымку его воспоминаний.
В «Горе» Чехова Ильинский не показывает странных глаз жены токаря, он показывает горестное изумление в глазах самого токаря, внезапно по этим странным глазам догадавшегося, что его старуха смертельно больна.
А вот каков у Ильинского жест: Афанасий Иванович – Ильинский ест воображаемый арбуз. Он с наслаждением кусает его сладкую мякоть, мы видим, как липкий сок течет у него по подбородку и стекает на отворот халата. Афанасий Иванович вытирается рукавом.
Попов – Ильинский, которому приснился страшный сон, – «поздравить он министра в именины в приемный зал вошел без панталон», за что был немедленно переправлен в «дом, своим известный праведным судом», и там со страху оговорил лучших своих друзей, – наконец просыпается. В окно к нему заглядывает солнечный весенний день, а на спинке кресла преблагополучно висят панталоны.
То был лишь сон! О счастие! о радость! Моя душа как этот день ясна. Не сделал я Бодай-Корове гадость! Не выдал я агентам Ильина! —вне себя от счастья восклицает Попов – Ильинский, делая при этом вид, что натягивает сперва одну штанину, потом другую, натягивает ликующе, потому что ведь в штанах-то все и дело: раз штаны на месте, стало быть, все это ему снилось – и гнев министра, и недвусмысленные угрозы жандармского полковника, и как он себя там гадко повел с перепугу.
Ильинский-сатирик, Ильинский-юморист, Ильинский-психолог, Ильинский-лирик, Ильинский-бытописатель, Ильинский-портретист, Ильинский-пейзажист. К этому еще надо добавить: Ильинский – художник-анималист. И в анималистической живописи Ильинский остается верен себе, и тут его образы резко индивидуализированы. Степенный положительный котище, который усовещивает лодырей (стихотворение Маршака «Лодыри и кот»), совсем не похож на крыловскую кошку-хищницу, которая поймала соловья («Кошка и Соловей»), смотрит на него с вожделением, а когда соловей начинает в когтях у нее трепыхаться, ударяет его лапой с требованием: «Не трепещи!» – да еще предлагает ему спеть. Кошку сменяет надутая, сонная, тупая свинья из басни Крылова «Свинья», свинью – забиячливая, нахальная, уморительная моська, моську – перепуганный и по-детски оправдывающийся зайчишка: «Ну как тут было не напиться?» («Заяц во хмелю»).
В творчестве Ильинского, как во всяком классическом произведении искусства, постоянно находишь что-нибудь новое, прежде не замеченное, как бы часто ты ни видел его в одной и той же роли, как бы часто ты ни посещал его литературные концерты. Глаза у Ильинского зоркие, слух – изощренный, и каждый раз он на что-нибудь да раскроет тебе твои близорукие глаза, каждый раз заставит прислушаться к не долетавшим до тебя голосам жизни.
У меня накопилось довольно много книг с автографами. Одни из самых отрадных для меня надписей – это надписи, сделанные мне Игорем Ильинским на двух изданиях его книги воспоминаний «Сам о себе». Вот одна из его надписей:
«Дорогому другу Николаю Михайловичу Любимову с благодарностью за его внимание и за то, что он укреплял мою веру в себя, которую я порой терял. Игорь Ильинский. 3 марта 74 г.»
… Мог ли я думать, что получу книгу с такой надписью, когда в 33-м году впервые шел в Театр Мейерхольда на спектакль с участием Игоря Ильинского, уверяя себя, что ничего доброго из этого «Назарета» не было и быть не может?..
Лето 38-го, 39-го и 40-го годов я провел в Тарусе, захватывая и раннюю осень; приезжал несколько раз зимой и ранней весной. Часто виделся с Надеждой Александровной Смирновой, особенно осенью, когда, бывало, схлынет волна ее родных и знакомых, когда разлетится стайка порхавшей вокруг нее московской театральной, «гитисовской» молодежи, и в зимнюю пору, когда жизнь в Тарусе булькала под сугробами, когда в городе оставались тарусяне, а так называемые «тарусоиды» в Москве, а кое-кто и в Ленинграде, жили мечтой о весенней встрече с Тарусой.
В ту пору, когда я познакомился с Надеждой Александровной, я, не закрывая глаз на обмеление Художественного театра (такие спектакли, как «Достигаев и другие», «Половчанские сады», «Тартюф», «Трудовой хлеб», несмотря на отдельные актерские удачи, особого восторга во мне не вызывали), в теории был воинствующим «художественником». Да таковым я и остался. Я и теперь отдал бы целые театры за один удар леонидовского грома, за один качаловский клейкий, распускающийся весной листочек, за молитву Луки – Москвина о новопреставленной Анне, за несколько туров вальса, который танцевала Книппер-Чехова в третьем действии «Вишневого сада», за ту сцену из «Дней Турбиных», где гибнет Алексей – Хмелев, и за следующую сцену, где весть об его гибели доходит до Елены – Соколовой, за то, как философствовал за коньячком Федор Павлович – Лужский. Но теперь я на огромном расстоянии смутно различаю красоту искусства Малого театра былых времен, ощущаю, как мне ее недостает, как безгранично много я потерял, оттого что не видел его корифеев. А тогда я вызывающе щеголял афоризмом собственного изделия: «Русский театр открылся в октябре девяносто восьмого года». До этого, мол, были гастрольные выступления гениальных артистов Малого и Александринского театров. Бухнул я это и Надежде Александровне и вот что услышал в ответ:
Ты знаешь, как я люблю Станиславского: Станиславского-актера, Станиславского-режиссера, Станиславского-человека. Мы были с ним очень близки, и с ним, и с Марьей Петровной. Два лета провели вместе за границей, и Станиславский первые мысли о своей системе диктовал Эфросу. И все-таки я вот что тебе скажу: когда в спектакле Малого театра принимали участие Марья Николаевна Ермолова, Ольга Осиповна Садовская, Лешковская, Ленский, Южин, Михаил Провыч Садовский, то никакой Станиславский им был не нужен. Они несколько раз сойдутся, пошепчутся, и у них рождаются такие дивные спектакли, как «Таланты и поклонники», «Волки и овцы». Это уж, милый мой, не гастрольное выступление, как ты выражаешься, Ермоловой в «Орлеанской деве», – это был самый настоящий ансамбль.
22 июля 74-го года я услышал от Игоря Владимировича Ильинского такие слова:
В начале века Станиславский создал великий театр.
Теперь я думаю, что оба правы. Победителей не судят. А кто эти победители – актеры, бывшие одновременно и режиссерами спектаклей (ибо полноценный спектакль – явление коллективного творчества и без режиссера или без режиссеров так же невозможен, как оркестр без дирижера), Станиславский, святое имя которого мне так же дорого, как имена Пушкина и Достоевского, или Немирович-Данченко, которому мы обязаны тем, что он заразил своей любовью к Чехову Станиславского и в содружестве со Станиславским и артистами Художественного театра создал театр Чехова, тем, что он разглядел в Достоевском драматурга и вместе с артистами и сорежиссером Лужским создал один из лучших спектаклей XX века («Карамазовы»), – это для меня, хотя и влюбленного в театр, но самого обыкновенного, рядового зрителя в конечном итоге не столь уж существенно.
Я чувствовал себя вполне удовлетворенным, когда присутствовал при полном слиянии актерского образа с авторским, когда режиссеры освещали мне самую-самую глубь драматического произведения. Расхождения с авторским замыслом я скрепя сердце «прощал» только Мейерхольду. Станиславский как-то обронил золотые слова, смысл которых сводится к следующему: Мейерхольд талантлив даже в своих заблуждениях. Но право на заблуждения надо заслужить. Мейерхольд возмещал заблуждения искрометностью и быстрокрылостью своей фантазии, кипучестью темперамента, широтою взгляда, обнимавшего творчество автора в целом, и его время, своей тонкой и разносторонней культурой, вобравшей в себя и знание истории, и знание литературы, и знание живописи, и знание музыки, своей интеллигентностью в высшем смысле этого слова и тем, что, при всем своем эгоцентризме (временами ох как мешавшем ему!), он больше всего на свете любил искусство, а не себя в нем. Но вот уж «уцененным Мейерхольдам» я их выкрутас и вытребенек не прощал.
Можно подумать, что именно театральных лженоваторов в первую очередь имел в виду Лев Толстой, беседуя с Гольденвейзером: «…когда нет настоящего таланта (курсив здесь и дальше мой. – Н. Л.), и начинают стараться во что бы то ни стало сделать что-то новое, необыкновенное, тогда искусство идет к чертовой матери» (Г о л ь д е н в е й з е р Л. Вблизи Толстого).
И, конечно, в первую очередь театральных лженоваторов имел в виду Шаляпин, когда писал в статье «Прекрасно и величественно»:
«В новом искусстве, пока что, к сожалению, много нарочитости, надуманности.
Искусство настоящее этой нарочитости не допускает и не прощает» (курсив везде Шаляпина. – Н. Л.).
4 ноября 65-го года я побывал в Ереване у художника-поэта Мартироса Сергеевича Сарьяна. Вернувшись в гостиницу, я записал мысли, высказанные им в разговоре со мной.
Вот одна из них:
«Искусство должно идти от души. А когда художник придумывает для того, чтобы удивить, – это уже не искусство».
Одним из моих университетов были встречи с Эдуардом Багрицким, Сергеевым-Ценским, Борисом Пастернаком, Маршаком. Одним из университетов и школой высокой морали был для меня Театр. Преподанное мне я не всегда усваивал как должно, но повинны в том отнюдь не наставники, а время от времени ослабевавшая и подводившая ученика восприимчивость.
Лингвистические мемуары
От автора
«Лингвистические мемуары» представляют собой составлявшийся мной в течение многих лет словарь синонимов. И опять-таки это не словарь, составленный ученым-лингвистом, а «литературная кладовая», как назвал свои записные книжки Чехов, – кладовая, где русские слова и обороты речи, услышанные мной где-либо и уцелевшие в памяти, слова и обороты речи, найденные при чтении книг, расставлены по полочкам так, чтобы мне было как можно удобнее этой кладовой пользоваться, – так, как расставляет книги не библиотекарь-профессионал, а библиофил-коллекционер. Ни на какую научность она не претендует. Объять необъятное, как известно, задача непосильная, ко всестороннему охвату сокровищ русского языка я, конечно, не стремился. «Прогалин» в моем «лесу» много. И даже обильно представленные в моем словаре синонимические вариации здесь даны в сильно урезанном виде. Я пополнял свою кладовую «по мере надобности». К примеру, в «Дон Кихоте» и в «Гаргантюа и Пантагрюэле» много поединков и сражений – вот почему большое место занимают в моем словаре связанные с ними синонимы, найденные мною в «Истории государства Российского» Карамзина, в «Истории Пугачева» Пушкина, в воспоминаниях Дениса Давыдова. Я перевожу главным образом «литературные памятники», вот почему за помощью я обращаюсь преимущественно к русским писателям более или менее далекого прошлого. «Табель о рангах» в моем словаре не соблюдена. В нем отсутствуют примеры из крупных и очень мною любимых писателей, и вместе с тем у меня можно найти примеры из писателей третьестепенных и полузабытых – значит, они «пошли на потребу» мне и, быть может, пойдут другим. И еще я преследовал цель – дать в книге побольше примеров из сравнительно редко перечитываемых произведений великих художников слова: да не удивит читателей, что Пушкин-прозаик представлен у меня здесь, в моих «верных сундуках», шире Пушкина-поэта. Разумеется, я постоянно и с благодарностью пользуюсь словарями Срезневского, Да
ля, так называемым «словарем Ушакова» и 17-томным словарем, изданным Академией наук (1948–1968), и почти не ввожу в свой словарь синонимы, имеющиеся там в изобилии. Мой словарь – всего лишь подспорье. На большее он не претендует. И все же я позволю себе повторить то, на чем настаиваю в своих очерках и беседах о художественном переводе, – повторить с полной ответственностью, ибо проверил это на своем многолетнем опыте: с помощью «литературной кладовой» наш язык непрерывно освежается и обогащается. «Литературная кладовая» помогает раскрыть перед читателем словесные россыпи подлинника. Без ее помощи трудно воссоздать его языковое богатство. И без нее всегда есть риск – смазать словесный колорит эпохи, сместить временную дистанцию, осовременить язык писателей минувших и давно минувших времен.
Осуждены – и это знаем сами – Мы расточать, а не копить.
Анна АхматоваТолько б вырвать из хаоса нужное слово!
АнтокольскийРодина
Родина-мать, родная земля, отечество, отчизна, отчий край, край родной, край родимый, родная сторона, сторонка, родные края, места, родная почва.
Внешний мир
Картина природы, вид, ландшафт, пейзаж.
Небо
«В небесах торжественно и чудно…» (Лермонтов, «Выхожу один я на дорогу»); «Свод неба мраком обложился…» (Пушкин, «Вадим»); «…необъятный небесный свод раздался, раздвинулся еще необъятнее…» (Гоголь, «Майская ночь, или Утопленница»); «Не темнеют неба своды…» (Языков, «Пловец»); «…Аполлон Поднял вечное светило В первый раз на небосклон» (Баратынский, «Последний Поэт»); «Звездный Воз дорогу кажет В поднебесье чистом…» (Багрицкий, «Дума про Опанаса»); «…голубой, неизмеримый океан… куполом нагнувшийся над… землею…» (Гоголь, «Сорочинская ярмарка»).
Вода
Болото, трясина, топь.
Ручей, родник, источник, ключ, поток.
Водная поверхность, гладь, ширь, пространство, пустыня. Глубина, глубь. Стремнина, быстрина.
Зыбь, рябь («…ветерок… крупной рябью подергивал водную поверхность». – Аксаков С. Т., «Детские годы Багрова-внука»[41]).
Зыби («… зыби, зыблемые ветром …» – Андрей Белый, «Первое свидание»), волнение («Ветер ревел, разводя волнение». – Станюкович, «Вокруг света на „Коршуне“).
Волны, валы («… мутные валы ходили по всему пруду …» – Аксаков С. Т., «Детские годы»; «Плещут волны …» – Пушкин, «Прозерпина»); «Густыми барашками море полно…» (Багрицкий, «Арбуз»). Вспененные волны. «Всплески белого прибоя…» (А. К. Толстой, «Боривой»).
Разлив. Половодье. Полая вода начала сбывать.
Лес
Лес частый, густой, темный, глухой, дремучий, непроходимый, непролазный, дебристый.
Глушь (лесная), глухомань, куща, пуща, чаща, чащоба, заросли, дебри, мелколесье, перелесок, поросль, кустарник.
Купа деревьев.
Поляна, прогалина. Лес редеет.
Дерево кряжистое, тенистое, широковетвистое, раскидистое, густолиственное, увешанное плодами, сгибающееся под тяжестью плодов, отягченное, переобремененное плодами.
Цветенье, цвет (липовый, калиновый, кленовый), цветень («Мой цветень и листва моя…» – Случевский, «Какая ночь!»).
Деревья в цвету.
Бурелом, валежник.
Листопад («Лес совсем уж стал сквозистый…» – Бальмонт, «К зиме»). Палый лист. Жухлый лист.
Поле
Поля, нивы (тучные, злачные), жнивье, ржаное поле, полевая даль (С.-Щедрин, «Господа Головлевы»), «…кругом стлались поля…» (там же).
Пастбища (тучные), пажити (тучные), выгон. Вспаханное, распаханное поле, пашня.
Лужайки, луговины, луга (травянистые), покосы (сенные).
Зеленя, всходы, озимые, яровые.
Хлеба
Хлеба колосятся, созревают, вызревают, доспевают, поспевают, наливают («…волнуется и наливается рожь». – Фет, «Степь вечером»).
Рельеф местности
Дали, просторы.
Выемка, впадина, углубление, выбоина, колдобина, рытвина, канава, буерак, ухаб, яма, ров, лощина, ложбина, овраг (глубокий), расселина, водомина, низина, равнина, долина (злачная), дол («Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами». – Пушкин, «Метель»).
Бугор, косогор, пригорок, изволок, взгорок, взгорье, холм, взлобок (вершина холма), предгорье, гора, подошва, подножье горы, горный кряж, плоскогорье, горная цепь, цепи гор, гряда гор (холмов), горные отроги, вершины, горный хребет, хребты, верхи, гребни, выси гор, темя гор, сердце гор, скала, утес, обрыв, откос, отвес, стремнина, круча, крутизна, бездна, пропасть, провал, яр.
Уступы гор.
Ступенчатые, обрывистые горы. «Перед нами – все скалы и скалы, отвесные, спускающиеся к морю» (Константин Коровин, «Новая Земля»).
Гора лесистая, покрытая (поросшая, заросшая) кустарником, лесом. Теснина, горловина.
О береге
Отлогий, пологий, крутой («Левый берег… круто возвышался над речкой…» – Тургенев, «Бретер»), утесистый, скалистый.
Подъем
«…слегка поднимались к горизонту поля» (Бунин, «Натали»); «Огромная волнистая равнина идет, все повышаясь, от моря к Альпийским предгорьям и незаметно переходит в них, в их первые холмы» (Бунин, из вариантов к «Жизни Арсеньева»); «Дорога… полого поднималась…» (Короленко, «По пути»), «…равнина, отлого поднимавшаяся к высокому ветряку на горизонте» (Бунин, «Птицы небесные»); крутой подъем.
Спуск
Дорога шла вниз; «Лесной овраг полого спускался к… Оке…» (Горький, «Отшельник»); крутой спуск, склон, скат.
Дорога
Большая дорога, большак, проселочная дорога, проселок. Обочина. Обочь (сбочь) дороги.
Дорога делает (крутой) поворот; в этом месте, где дорога делает поворот…; дорога заворачивает в лес; деревня скрылась за поворотом. Развилина (развилка) дорог.
Весенняя и осенняя распутица. Гололедица, гололедка. Проталина. Полынья. Слякоть. Невылазная грязь.
Города и селения
Город был весь на виду (как на ладони); «…город, живописно расположенный амфитеатром по склону большой горы…» (Станюкович, «Пропавший матрос»).
Провинция (глубокая, глухая), захолустье, трущоба, глушь, медвежий угол, дыра, дичь («…везде была та же дичь…» – Гоголь, «Вий»); «Несколько деревень оживляли окрестность» (Пушкин, «Дубровский»); «Окрестные деревеньки с полями и рощицами составляют приятный вид» (Карамзин, «Письма русского путешественника»[42]).
Облака, тучи
Облачное небо; облачный день.
Гряда облаков, туч («…облаков густых с заката до востока Лениво тянется лиловая гряда». – Фет, «Приметы»).
Небо в облаках; небо, подернутое облаками.
«Всходили робко облака На небо зимнее, ночное…» (Тютчев, «Глядел я, стоя над Невой…»).
Облака находят, нашли, наплывают, плывут.
«И ярким золотом и чистым серебром Змеились облаков прозрачных очертанья…» (Фет, «На Днепре в половодье»). Облака клубятся, несутся.
Хмурится; небо нахмурилось; небо пасмурное, ненастное, предгрозовое, грозовое, все в тучах.
Тучи надвинулись, насунулись; «…черные тучки… нависли над местом сражения…» (Толстой Л. Н., «Война и мир»[43]); тучи ползут, ходят («Тучи ходят низко, низко над… землею…» – Короленко, «Смерть якута»), собираются («…черные тучи собрались со всех сторон…» – Лажечников, «Последний Новик»), тянутся («Тянутся по небу тучи тяжелые…» – Минский, «Серенада»), затягивают, небо затянуло тучами («Небо все затянуло» (без дополн.) – Короленко, «В пустынных местах»), «… небо заволакивало тяжелыми облаками» (Гончаров, «Обломов»), «… небо застлала огромная туча …» (Лажечников, «Последний Новик»); «Небо обложилось черными тучами …» (Гончаров, «Обрыв»), «Туча раскинулась по всему небу …» (Короленко, «В пустынных местах»), «Тучи вились и развивались черными клубами; наконец они слились в темную массу, оболочившую небо, начали спускаться на землю грядами …» (Лажечников, «Последний Новик»); туча разразилась грозой.
Ветер гнал (разгонял, разогнал) тучи; туча свалилась; «Туча сдвинулась с полнеба» (Лажечников, там же); тучи разошлись, рассеялись; облака (тучи) не расходились, не расходятся, расходились, расходятся, редеют (Пушкин, «Редеет облаков летучая гряда» – начальная строка неозагл. стих.).
Солнечный и лунный свет в борьбе с облаками и тучами
«…солнце то взглянет и заблещет, то снова занавесится тучами…» (Лесков, «Соборяне»); туча застила свет, заслонила, накрыла солнце.
Просветы; разрывы облаков, туч («В разрывы облак солнце блещет…» – Фет, «Весенний дождь»), прорывы между облаков, туч, прозоры, прогалины, прогалы.
Солнце, луна спрятались, ушли в тучу, выглянули из-за туч, проглянули («Я… любовался седыми облаками, сквозь которые проглядывала луна…» – Карамзин, ПРП).
Небо посветлело, расчистилось, очистилось, прояснилось; расчистило («Расчистило на западе…» – Бунин, «Грамматика любви»), разъяснивается, разгулялось, распогодилось, погода разгулялась.
Время дня
«Уже полдневная пора Палит отвесными лучами…» (Тютчев, «Снежные горы»).
Засветло. Полусвет вечерней зари. Рассветная полутьма. День склонялся (клонился) к вечеру. «День уже вечерел…» (Лажечников, «Последний Новик»); «Смотри, как запад разгорелся Вечерним заревом лучей…» (Тютчев, начальная строка неозагл. стих.); «После светлого летнего дня наступил ясный и тихий вечер; заря пылала…» (Тургенев, «Затишье»), «Заря полнеба обнимала…» (Майков А. Н., «Машенька»).
Вечерело, под вечер, перед вечером, завечерело, свечерело («День свечерел…» – Некрасов, «Уныние», «…совсем свечерело» – Бунин, «Последняя весна»), ввечеру.
Перед заходом солнца, заход солнца, предзакатное солнце, на закате, закат («Свет заката еще брезжил…» – Бунин, «Птицы небесные»). Смеркалось, смерклось, стемнело. Заря потухла, догорала, угасала, померкла. Солнце садится, село, зашло. «Улетел последний отблеск дня…» (Тютчев, «Накануне годовщины…»).
«День давно погас, и вечер, сперва весь огнистый, потом ясный и алый, потом бледный и смутный, тихо таял и переливался в ночь…» (Тургенев, «Ася»).
Сумерки ложатся, «…спустились сумерки…» (Гоголь, «Мертвые души»[44]). «Сумерки сгущались…» (Достоевский, «Бесы»); «Густеет сумрак» (Майков А. Н., «Ночь на жнитве»); «Были уже густые сумерки…» (Гоголь, МД); «…сумерки… вползли в окна и сгустились по дальним углам» (Куприн, «На переломе»); «…весь этот край был погружен в… ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял…» (Бунин, «Маленький роман»). Глухая полночь, ночь.
Лунный свет, сияние. Полумесяц. Лунный серп. Новолуние. Полный месяц (луна), полнолуние. Луна (месяц) на ущербе.
Вызвездило. О звездном небе. «Все звездами, все огнями Бездны синие горят» (Хомяков, «Звезды»), «…небо… звездами усеяно…» (Шмелев, «Человек из ресторана»), «Звезды меркнут и гаснут» (Никитин, «Утро»).
Затемно. Дорассветная темнота (Тютчев, «Я знал ее…»), «Передрассветный сумрак долог…» (начальная строка неозагл. стих. Федора Сологуба).
Полусвет утренней зари. Светает. Свет зари брезжит («…утренняя заря чуть брезжила…» – Бунин, «Тишина»). Чуть свет. Заря, день, утро занимается, заря занялась, разгорается. Восход солнца, рассвет, рассветный час. Небо, «сонное, бесцветное, начинало пробуждаться, принимая окраску зари. Уже розовым просвечивали только что неподвижные, тронувшиеся в путь перистые облака» (Шмелев, «Гражданин Уклейкин»). Темнота, сумерки редеют. Солнце взошло, рассвело, ободнялось («На улице совсем ободнялось…» – Бунин, «Безумный художник»), солнце взошло. На рассвете, на заре, на зореньке.
Спозаранок, раным-рано, допозна, дотемна.
Погода
Погода дождливая, ненастье, непогода, непогодь, непогожий, ненастный день, вечер, сумерки, ночь, лето, осень, день. День облачный, пасмурный, хмурый.
Утренник. Подморозило. Холод (до костей пробирает), холода (завернули), холодище, морозит, морозно, мороз лютый, жгучий («Жгуч мороз трескучий …» – Никитин, «Жена ямщика»), «… трещат морозы …» (Пушкин, «Евгений Онегин»), на холоде, на морозе, с морозу («… пришел он с морозу…» – Шмелев, «Человек из ресторана»). Стужа, стынь («…в стынь… будет… веселиться юность русских деревень…» – Есенин, «Мелколесье»), заморозки.
Холодный, морозный, студеный («… в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел, был сильный мороз». – Некрасов, «Крестьянские дети»).
Оттепель, ростепель, капель. Дружная весна.
Потеплело, тепло, теплынь; теплые утра, дни, вечера, ночи; ведро; ясный, безоблачный, погожий день, лето, осень; парило; солнце горело, припекало, пекло, жгло, палило; на солнцепеке; жарко, жара (палящая), жарища, жарынь, зной (томительный, палящий), бездождье, душно, духота, духотища.
Жара спала, свалила («Жар свалил, повеяло прохладой…» – Аксаков И. С., «Бродяга»).
Погода (долго) не продержится, не простоит; погода неустойчивая, переменчивая; погода портится, хмурится.
Устойчивая погода, погода продержится, установилась.
Ветер
«…повеял ветерок…» (Карамзин, ПРП); ветер задувает; «…резкий ветерок уже упорно тянул…» (Аксаков С. Т., «Детские годы»); ветер опахнул; «…Дон, взлохмаченный ветром» (Шолохов, «Тихий Дон»). Ветер слабый, тихий, легкий, сильный, буйный, порывистый, теплый, свежий, холодный, пронизывающий, обжигающий; ветер свежел, усиливался, крепчал, дул порывами, налетел, бушевал; буря, вихрь, ураган, смерч, шквал, шторм; ветер стихал, стих, утих, улегся («…подымался и улегся снова На закате легкий ветерок…» – Аксаков И. С., «Бродяга»), упал.
Ветер свищет, гудит, ревет.
«…ветер крутил пыль…» (Гончаров, «Обрыв»); «…ветер гнал по степи… шары перекати-поля…» (Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»); ветер трепал (что-нибудь), лепил. На ветру.
Туманы
Дымка, полумгла, мгла, мга, пар; туман, полоса туманов, марево, струится марево.
«Повитый мглой, высокий бор…» (Ершов, «Ночь»), «Ветер мглистый и ненастный…» (Тютчев, первая строка неозагл. стих.), «Утро туманное, утро седое…» (Тургенев, «В дороге»), «Когда мои мечты… найдут тебя за дымкою туманной…» (Фет, «Когда мои мечты…»).
Туман, пар поднимается; «… с полей восходит пар…» (Гончаров, «Обломов»); «…туман Встает с полей…» (Фет, «Тихонько движется мой конь…»); ложится («Ложился на поля туман…» – Пушкин, «Евгений Онегин»); «По реке… стлался туман» (Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»); застилает землю; падает («Уж как пал седой туман на синее море…» – народная песня), густеет, расплывается, рассеивается, развеивается, улетучивается, испаряется, исчезает.
Дождь
Дождичек, дождик; перепадают дожди; полоса дождей; дождь мелкий, косой, редкий, частый, спорый, крупный, сильный, обложной, обломный, проливной; ливень, проливень.
Дождь собирается, накрапывает, моросит (моросило), сеет, сеется («…дождь сеялся на поля…» – Гоголь, «Страшная месть»), идет, пошел, пошел сильнее, шел не переставая, брызжет, побрызгал, припустил, разошелся, зарядил, полил, дождит, льет, поливает, льет ливмя, как из ведра, хлынул, хлещет, лупит, стучит, барабанит (в окна, по крыше), шумит. От дождя заплаканные, слезящиеся окна. «Дождь редел» (Бунин, «Грамматика любви»), стихал, утих, отшумел, прошел, перестал.
Гроза
Предгрозье; гроза собирается, надвигается; «Чу! за белой, дымной тучей Глухо прокатился гром; Небо молнией летучей Опоясалось кругом…» (Тютчев, «В душном воздуха молчанье…»); гроза разразилась, пронеслась. «Замолкнул гром, шуметь гроза устала…» (начальная строка неозагл. стих. А. К. Толстого).
Молния
Сполохи, зарницы.
Молния вспыхнула, сверкает.
Блеск молнии.
Гром
Гром погромыхивает, гремит, громыхает, грохочет.
Удар грома, громовые раскаты, далекие (отдаленные), глухие раскаты грома. Собирается гроза.
Снег, лед
Иней, изморозь, снежинки, крупа, мокрый снег, снежная пыль, снежный прах («Вскрутился к небу снежный прах…» – Блок, «Двенадцать»), поземка, метель, метелица, вьюга («Разыгралась… вьюга…» – Блок, там же), снежная буря, пурга («…пылит пурга» – там же), буран; пороша, глубокий снег, наст.
Снег выпал, пошел; снег порхает, перепархивает, падает, повалил (хлопьями, клоками), «…повалил гуще» (Короленко, «Феодалы»), «Мело, мело по всей земле…» (Пастернак, «Зимняя ночь»), намело сугробы, замело дороги. Под ногами хрустит, скрепит снег. Пушистый снег. Талый снег. Утоптанный снег.
Снежный покров.
«Нетронутой белизной сиял снег» (Лидин, «Отступник»). Снег подтаивает, тает, стаял.
«Морозец затянул лужи тонкой коркой льда…» (Шолохов, «Тихий
Дон»).
Лед взломало. Льдины плывут. Ледоход.
Тень, темь
Тени ложатся («…зубчатой и широкой Каймою тень легла от сосен в лунный свет» (Фет, «Постой, здесь хорошо!»), падают («…черное пятно тени, падавшей от… куста…» – Тургенев, «Дворянское гнездо»), тянутся («Одна сторона улицы была залита лунным светом, а другая чернела от теней; длинные тени тополей и скворешен тянулись через всю улицу, а тень от церкви, черная и страшная, легла широко и захватила ворота… и половину дома». – Чехов, «Бабы»), потянулись («…через двор по росистой траве потянулись тени от деревьев и колодезного журавля». – Там же), протянулись («…еще длиннее и темнее От сидящих протянулись тени». – Майков А. Н., «Бальдур»), растягиваются («…на… ржи растянулись вечерние тени». – Чехов, «Дом с мезонином»), стелятся («Солнце медленно уходило в горы; широкая тень стлалась по Донцу от них». – Бунин, «Святые Горы»), набегают («…быстро-быстро со стороны духана и темного кипариса набегала вечерняя тень…» – Чехов, «Дуэль»), пробегают («…тени от облаков… пробегали по насыпи». – Чехов, «Страхи»), бегут («От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи – от всего побежали длинные тени». – Гончаров, «Обломов»), сгущаются, густеют.
Предметы бросают, отбрасывают тень («… освещенные окна, бросающие на дорогу длинные колыхающиеся тени». – Илья Сургучев, «Счастье»; «… на полу … тени от рам». – Илья Сургучев, «Осенние скрипки»; «Вы – тени от лампы!» – Багрицкий, «Папиросный коробок»).
Полутьма, полумрак, сумрак, мрак, темнота, темень, темь, потемки, впотьмах, в потемках; сумрачный, мрачный, темный.
Тьма черная, полная, глухая, непроглядная, кромешная.
Светотень
«…солнце светило ярко, и его лучи были густы и желты… Продираясь сквозь чащу соснового бора, они играли кое-где на стволах, на ветвях, выхватывая их из белого, одноцветного и сверкающего сумрака» (Короленко, «Мороз»); «Огненные искры посыпались… на темные пади и ущелья, вырывая из синего холодного сумрака то… дерево, то верхушку утеса, то горную полянку…» (Короленко, «Последний луч»); «Широкая равнина лежала внизу в бледной темноте» (Бунин, «На хуторе»).
Просветы (просветы «…золотыми пятнами тлели на густом пологе сосновой хвои…» – Короленко, «В пустынных местах»), проблески, промельки, струя, струйка света («…Анна Михайловна… могла разглядеть тусклую струйку сумеречного света…» – Короленко, «Слепой музыкант»), полоса, полоска, полосы света («…Маргарита увидела лежащую на полу перед нею полоску света под… темною дверью». – Булгаков, «Мастер и Маргарита»; «…на горе… протянулась полоса света». – Чехов, «Мужики»; «… в полосе света показалась пара». – Илья Сургучев, «Мельница»; «…они шли медленно, то минуя сильно освещенное место, то вступая в полосу света…» – там же; «…дверь, из которой на мгновение упала в тенистый двор полоса света, захлопнулась». – Бунин, «Осенью»).
Снопы света. Вспышка света. Языки пламени.
Отсвет («Красные отсветы ложились на… крыши… падали на реку…» – Короленко, «Художник Алымов»), отблеск («Отблеск огня пробегал… по ее светлым волосам…» – Короленко, «Государевы ямщики»), скользит («…по… вершинам бора… еще скользили красноватые отблески солнца». – Короленко, «В пустынных местах»), угасает («На проплывающем облачке угасают последние слабые отблески» – там же), падает, теряется («…отблеск света падал на пол и терялся в темноте». – Короленко, «История моего современника»;[45] «Я целую лунный отблеск на твоем лице». – Брюсов, «В склепе»); блик играет, переливается («Лучи солнца играли, переливали на щебне, на зелени, на стволах». – Короленко, «С двух сторон»; «… играл и … переливался светло-золотой живой блик». – Куприн, «Юнкера»); падает, рассыпается («…сверху, из купола, падали и рассыпались по всей середине храма яркие блики света». – Станиславский, «Моя жизнь в искусстве»); перелив света мигает («…огонь замирал трепетными переливами». – Короленко, «В пустынных местах»).
Свет
Мерцание, излучение, свечение, сияние, сверкание, блеск, блистание, озарение («Вся улица чернела от народа в зловещем, необычном озарении». – Бунин, «В поздний час», сцена пожара), рдение, горение, пылание («…запад – в пыланиях…» – Вяч. Иванов, «Лебеди»).
Посветлело, светло, светло как днем.
«Направо едва-едва светил закат…» (Бунин, «На чужой стороне»), «…окна светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла…» (Гиляровский, «Москва и москвичи»), «Луна освещает приморские дали…» (Георгий Иванов, «Строка за строкой»), «…синее пламя зловещим блеском озаряло комнату» (Гончаров, «Обрыв»), «Полный месяц обливал землю матовым серебряным блеском» (Достоевский, «Скверный анекдот»), солнце осияло, облило, залило («…солнце… залило багровым светом… стену…» – Толстой А. Н., «Миссионер»), «Сквозь волнистые туманы Пробирается луна, На печальные поляны Льет печально свет она» (Пушкин, «Зимняя дорога»), «Из окон льет яркий солнечный свет» (Чехов, «Горе»), «…разливался… свет заката…» (Толстой А. Н., «Убийство Антуана Риво»), «Снег… переливал… алмазами…» (Чехов, «Кошмар»), «Косые лучи… переливались в… окнах часовни» (Короленко, «В дурном обществе»), «…окна отливали ярким светом…» (Чехов, «На подводе»), «В стране угрюмой и суровой, Где, отливаясь на снегах, По долгим зимам блеск багровый Колышется на небесах…» (Майков А. Н., «Ломоносов»), «…колыхаясь и сверкая на солнце, икона плывет в воздухе…» (Короленко, «За иконой»), «…косые лучи побежали вдоль улицы, поблескивая на закрытых окнах» (Короленко, «Смиренные»), «…окна домов блестели переливчато…» (Тургенев, «Вешние воды»), «Холодно и ярко сияло на севере над тяжелыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо…» (Бунин, «Антоновские яблоки»), «…солнце искрилось в… морозных окошках» (Толстой А. Н., «Детство Никиты»); свет струится («Пусть струится над твоей избушкой Тот вечерний несказанный свет» (Есенин, «Письмо матери»), мреет («Мреет сизая даль». – Горький, «Городок»); «… дрожащие струи марева…» (Шолохов, «Тихий Дон»); «…звезды мерцали и переливались…» (Короленко, ИМС), «Солнце совсем зашло, только промеж дальних крыш… еще тлела на небе огненно-багровая полоска» (там же), «…видел одинокую зеленую звезду, теплившуюся бесстрастно…» (Бунин, «Поздний час»), «…рдели светло-золотые клены» (Бунин, «Учитель»), «Края облаков горели пурпурным золотом…» (Короленко, «С двух сторон»), «…вспыхнули алым глянцем изгибы реки…» (Бунин, «На край света»), «…город… пламенел и сверкал синими, белыми, желтыми огнями» (Короленко, «Без языка»); «что-то излучает, изливает, струит свет» (Минский, «Не утешай меня…»); «…кое-где отсвечивали ярким блеском серебряные яблоки паникадила…» (Толстой А. К., «Князь Серебряный»), «Маленькие окна отсвечивали кое-где желто-красным пятнышком лампадки…» (Гиляровский, «Москва и москвичи»), «В полутьме что-то тускло отсвечивало» (Булгаков, «Мастер и Маргарита»), «…огонь… отсвечивается в речке» (Гоголь, «Пропавшая грамота»), «…стали отблескивать валуны…» (Булгаков, «Мастер и Маргарита»); свет зажигает отблески; солнце «…заиграло… на золоченых шпилях церквей…» (С.-Щедрин, «Губернские очерки»), «Лунный свет скользил по рельсам…» (Чехов, «Страхи»), «..лучи солнца… дробятся на граненом хрустале» (Гончаров, «Обрыв»), «Солнце… золотило края… облаков…» (Чехов, «Встреча»); снег «золотится от солнца» (Чехов, «Рано!»); озлащает («Пурпурный луч мерцающей денницы Ее античный профиль озлащал». – Майков А. Н., «Две судьбы»), позлащает («…темнеет широкая, темно-зеленая липовая аллея с позлащенными заходящим солнцем вершинами». – Терпигорев (Атава), «Оскудение»), румянит («Утренняя заря румянит снежную равнину…» – Загоскин, «Юрий Милославский»), обагряет («Гор громады… Восток пурпурный обагрял». – Майков А. Н., «Иафет»), ложится («Дневной свет… полосами ложился на… ковры». – Чехов, «Пустой случай»), лежит («…свет лежал на лозах, на… тычинках, на… земле… и на стене…» – Тургенев, «Ася»), идет («…свет шел из слегка отворенной двери…» – Чехов, «Враги»), падает («Свет… падал на бледное лицо ее…» – Лажечников, «Ледяной дом»), бросает («…просвечивая то тут, то там сквозь солому и бросая на потолок… мутно-красные, дрожащие полосы света, медленно разрасталось и приближалось гудящее пламя к устью…» – Бунин, «В поле»), проблескивает («…тополи гулко качались, и из-за них проблескивали окна…» – Короленко, «В дурном обществе»), просачивается («Рассеянный свет просачивался из-за гор…» – Короленко, «Последний луч»), прокрадывается («… в щель неплотно сдвинутых гардин прокрадывался луч света…» – Короленко, «Детская любовь»), проникает («Солнце едва проникает сквозь густые ветви». – Короленко, «В пустынных местах»), проступает («… сквозь мглу … проступали вершины … берегового хребта …» – Короленко, «Черкес»), пробивается («… через отверстие в ставне пробивается … полоска света …» – Илья Сургучев, «Родители»), прорезывается («… сквозь фиолетовую мглу прорезались кое-где огоньки города». – Короленко, «В Крыму»), прорывается («Слабый свет Лишь тонких нескольких лучей Прорывался в темный кабинет». – Майков А. Н., «Суд предков»), пронизывает («… солнце так и пронизывало крепкими косыми лучами зеленые слегка подмерзшие стекла в окнах нашей палаты». – Достоевский, «Записки из Мертвого дома»), заглядывает («Солнце … заглядывало … в окна …» – Короленко, «За иконой»), вливается («… в мою комнату утром вливалось солнце …» – Константин Коровин, «Меценат»), льется («Сквозь цветные стекла больших окон … лился … свет». – Булгаков, «Мастер и Маргарита»), затопляет («… солнце затопляло … рощу светом …» – Тургенев, «Затишье»), хлынул («Багряный хлынул свет!» – Ахматова, «А вы, мои друзья последнего призыва!»).
В свете, в свету, под светом, в блеске, в лучах, на пламени
«…мы ехали… в холодном, прозрачном и колеблющемся свете метели…» (Толстой Л. Н., «Метель»); «Никита подошел к… освещенному окну, в свете которого блестели перепархивающие снежинки…» (Толстой Л. Н., «Хозяин и работник»); «Все в свету поднялись Апеннины…» (Случевский, «Monte Pincio»); дорога, «…змеясь под светом выглянувшей луны, ползла… к скалам» (Короленко, «Феодалы»); «Мастер шел… в блеске первых утренних лучей…» (Булгаков, «Мастер и Маргарита»); «…крыши домов, блестящие… в лучах солнца…» (Толстой Л. Н., «Анна Каренина»); «Резко зачернелись они (сучья. – Н. Л.) на внезапно вспыхнувшем пламени…» (Тургенев, «Бежин луг»).
Световые определения
Слабый, смутный, тусклый, неясный, неверный, расплывчатый, неопределенный, мутный («В мутной месяца игре…» – Пушкин, «Бесы»), смутный, призрачный.
Мерцающий, светящийся, светоносный, светозарный («…месяц светозарный…» – Тютчев, «В толпе людей…»), сияющий, осиянный («…бамбук, осиянный луной». – Георгий Иванов, «Ты томишься в стенах голубого Китая»), яркий, резкий, сверкающий, блестящий, блистающий, блистательный, лучистый, лучезарный («Последний лучезарный день потух». – Фет, «Тополь»), искристый («Вспыхнут искристым мерцаньем Влажно темные глаза …» – Полонский, «Зимняя невеста»), искрящийся, искрометный, огненный, огнистый, пламенеющий, пламенный.
Смутно, расплывчато, неясно, ясно, явственно, четко, отчетливо, отчетисто, резко, выпукло, рельефно.
Высветление
Виднеется (чуть, неясно, ясно), выдается, выказывается («…дальние горы выказывались грознее и яснее…» – Гончаров, «Фрегат „Паллада“), выделяется („Пирамиды… мягко и четко выделялись… фиолетовыми конусами“. – Бунин, „Свет Зодиака“), отделяется („Костер горел ярко, и чем ближе я подъезжал к нему, тем все резче отделялось пламя от нависшего над ним мрака“. – Бунин, „Костер“), выступает („…крыши, заборы… деревья, скворечни выступали все яснее из темноты…“ – Толстой А. Н., „Голубые города“), означается («…сиреневый цвет (платья. – Н. Л.) еще виднее означал яркую белизну… руки». – Гоголь, «Невский проспект»), «Означились кедров стволы». – Пастернак, «Рождественская звезда»), обозначается («…кругом темнота… чуть обозначается блестящий самовар». – Лесков, «Котин доилец и Платонида»), вырезывается («…вырезывались на ярком свете… мачты кораблей…» – Жуковский, «Воспоминание о торжестве»), рисуется («…березы отчетливо рисовались своими висящими ветвями…» – Толстой Л. Н., «Анна Каренина»), обрисовывается («…дремучий бор… обрисовался на пламенеющем востоке». – Загоскин, «Юрий Милославский»), вырисовывается («…чуть освещенная снизу, вырисовывалась на фоне горы белая колоколенка…» – Короленко, «Наши на Дунае»), вычерчивается («…за окнами было весенне-мирное небо, с охровой полоской у горизонта, и на нем вычерчивались… прутья кротегуса и сирени…» – Пильняк, «Лесная дача»).
Тона и полутона
Тон («Какие нежные тона – сначала розового, потом фиолетового вечернего неба!» – Гончаров, «Фрегат „Паллада“), полутон, оттенок, переход („…вышивка… зелеными и синими шелками всевозможных тонов, нежнейших оттенков и… незаметных переходов из цвета в цвет“. – Куприн, „Колесо времени“), „…розовый нежный оттенок… на перьях фламинго перед переходом в белый цвет“. – Там же), отлив („…солнца отливы Играют в кудрях золотистых“. – Лермонтов, „На светские цепи…“), перелив, краска („…за легкою дымкой, едва смягчающей переливы красок, виднеется… цепь… гор“. – Короленко, „Над лиманом“), окраска, расцветка.
«Солнце село. Запад пылал… пожаром ярко-пурпуровых и огненно-золотистых красок; немного выше эти горячие тона переходили в дымно-красные, желтые и оранжевые оттенки, и только извилистые края… облаков отливали расплавленным серебром; еще выше смугло-розовое небо незаметно переходило в нежный, зеленоватый, почти бирюзовый цвет» (Куприн, «Ночлег»).
Запахи
Повеяло, овеяло, потянуло, тянет, пахнуло; «Запахи ото всюду понеслись» (Аксаков И. С., «Бродяга»).
Пахнет, припахивает, отдает, отзывает, пропиталось запахом, благоухает, воняет.
Смрад, вонь, зловоние, благовоние («Нет в цветах благовонья». – Бальмонт, «Осень»).
Тишина
Тишина (глубокая, глухая, мертвая), затишье, тишь, молчание, безмолвие, беззвучие, немота («Есть немота – то гул набата Заставил заградить уста». – Блок, «Рожденные в года глухие…»).
Тихий, безмолвный, беззвучный, бесшумный.
Примолк, приумолк («Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?» – Пушкин, «Зимний вечер»), умолк, смолк, утих, приутих, замер.
Звук
Лепет, шепот, говорить пошепту, вполголоса, во весь голос; крик, стон, стенание, вопль; голосить, кричать истошным, диким, не своим голосом, во всю мочь, что есть мочи орать (благим матом); визг, взвизгивание, выкрик, вскрик, окрик, возглас, клик, восклицание, шум (голосов), гомон, говор, галдеж, вой, рев; писк, щебет, чириканье, гам; гул, рокот, ропот, завывание, грохот, гром («Гром пошел по пеклу…» – Гоголь, «Пропавшая грамота»), громыхание, скрип, скрежет, лязг, дребезжание, треск, хруст, постукивание, стук, стукотня, бухание, тарахтение, звякание, звон, гудение, гуд, жужжание, журчание.
Волн неистовых прибоем. Беспрерывно вал морской С ревом, свистом, визгом, воем Бьет в утес береговой …(Тютчев, «Море и утес»).
Эхо («…только эхо Откликается…» – Блок, «Двенадцать»), эхо перекатывалось, отголосок, отзвук, отзвучие («…кто-нибудь и где-то Во мне отзвучия своей тоске найдет…» – Случевский, «Горит, горит без копоти и дыма…»), отзыв («На каждый звук ее (жизни. – Н. Л.) призывный Отзывной песнью отвечай…» – Веневитинов, «Итак, гонись за жизнью дивной…»).
Звук наполняет пространство; «Степь полнилась скрипом телег» (Толстой А. Н., «Петр Первый»), издали доходит, доносится, долетает до слуха, прельщает, касается слуха, пленяет, услаждает, тешит, увеселяет, лелеет слух («Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел…» – Лермонтов, «Выхожу один я на дорогу…»).
Звук неприятен; режет слух; «…несносный для ушей шум» (Карамзин, ПРП).
Различать, улавливать, разбирать, расслышать звук.
Звук отдается («Позвякиванье колокольчика отдавалось в бору противоположного берега». – Короленко, «Искушение»), раздается («…каждый звук раздавался в… лесу…» – Бунин, «Антоновские яблоки»), выделяется («…в… напряженной тишине выделился звук…» – Короленко, «Соколинец»), носится («…тишина нарушалась… звоном колокольчика, который гулко носился в воздухе, отдаваемый эхом ущелья». – Короленко, «Убивец»), расстилается («Звуки колокола в тишине черной ночи дрожащим гулом расстилались по воздуху и доходили до… слуха». – Погорельский, «Лафертовская маковница»), распространяется, рвется («… в окно рвался шум и грохот улицы…» – Короленко, «Без языка»).
Глушить звук («…ковер глушил всякий звук». – Булгаков, «Ханский огонь»), приглушать, заглушать, покрывать.
Звук тихий, слабый, чуть (едва, еле) слышный, едва (еле) различимый, глухой, неясный, шепчущий, шепотливый, шуршащий, щебечущий, чирикающий, гомонящий, гамящий, неопределенный, слитный, определенный, четкий, отчетливый, отчетистый, гулкий, звонкий, резкий, отрывистый, протяжный, тягучий, заунывный («Заунывный ветер гонит Стаю туч на край небес». – Некрасов, «Перед дождем»), неумолкающий, несмолкаемый, немолчный, частый, дробный, мерный, сильный, шумный, шумящий, шумливый, рокочущий, громкий, громоподобный, грохочущий, воющий, завывающий, ревущий, скрипящий, режущий, скрежещущий, лязгающий, дребезжащий, хрустящий, стукотливый, тарахтящий, звенящий, пискливый, писклявый, гудящий, жужжащий.
Иррациональности
Волшебные чары, чародейство, волшебство, колдовство, ведовство, ворожба, волхвование.
Кудесник, волшебник, чародей, колдун, ведун, волхв, чаровница, ворожея.
Горний мир, горняя обитель, мир иной, потусторонний, загробный, за гробом.
Промысел, Провидение, Всевышний, Вседержитель, Зиждитель, Создатель, Творец, Предвечный, Отец Небесный, Царь Небесный, Спаситель.
Сатана, падший ангел, князь тьмы, дух зла, злой, нечистый дух, нечистый, лукавый, черт, бес, вражья, нечистая сила, сатанинское наваждение.
От детства до старости
С малых лет, сызмала, сызмальства, с малолетства, с самого нежного возраста.
Смолоду, измлада.
Во цвете лет; юность цветущая, лета цветущие, «в цветущей поре» (Лесков, «Колыванский муж»).
На возрасте, в зрелом возрасте, в совершенных летах, средних лет, не первой молодости; человек пожилой; прийти, вступить в (совершенный) возраст; почтенного возраста, почтенных лет, в преклонных годах, в преклонном возрасте, в годах, на склоне дней, под старость, дожить до глубокой старости, на старости лет, на закате дней.
Временные понятия
За последнее время, последнее время, некоторое время, одно время, первое время, на первых порах, первоначально.
Время от времени, временами, по временам, порой, подчас, иной раз, иногда, изредка.
В иных (некоторых, редких) случаях. Случалось, что… Бывало и так…
Кое-когда; нет-нет да и…
На (короткое) время, временно.
Изо дня в день, со дня на день, с минуты на минуту.
Давным-давно, когда-то, некогда, прежде, в прежнее время, раньше, в старину, встарь, бывало, бывалыча, в былые годы, в былое время, в бывалочное время (Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»), в былые (давно прошедшие, стародавние, незапамятные времена).
До сих пор, до сей поры (вплоть) до настоящего времени, пока что, до поры до времени.
Недавно, не так давно, давеча, намедни, на днях, на сих днях, только что.
В наше (настоящее, теперешнее, нынешнее) время, в наши дни.
В ближайшее время, в ближайшем (недалеком) будущем, вот-вот.
Некоторое (малое) время спустя («Малое время спустя и в избе колокольчик-то услыхали». – Короленко, «Убивец»), немного погодя, спустя, мало спустя («Однако ж мало спустя он ободрился». – Гоголь, «Ночь перед Рождеством»; «А он мало спустя опять зашипел…» – Лесков, «Очарованный странник»), в непродолжительном (не в долгом) времени, невдолге («…невдолге проиграл все». – С.-Щедрин, «Господа Головлевы»), не сегодня-завтра, того и гляди.
В дальнейшем, со временем, с течением времени, с годами, с возрастом.
Вскоре, в скором времени; «В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка…» (Гоголь, МД), вскорости.
Когда-нибудь, впоследствии, много (долго) спустя, по прошествии…
Издревле, исстари, издавна, искони, испокон веков, с давних пор, с незапамятных времен.
Год от году, день ото дня, день за днем, с каждым днем, час от часу («…мне час от часу становилось лучше». – Пушкин, «Капитанская дочка»).
Изредка, не часто, не (далеко не) всегда. Нередко, часто, почасту, зачастую. Постоянно, непрерывно, беспрестанно, безостановочно, бесперебойно, без (передышки) остановки, бесконечно, не переставая, поминутно, ежеминутно, то и дело, то и знай.
Нимало, не медля, немедленно, без промедления, тот же час, сей же час, тотчас же, сейчас же, мигом, в мгновение ока, моментально, сию же минуту, тут же.
Судьба
Участь, жребий, удел, рок, доля («В моей скучной доле», «В моей низкой доле»), судьба горькая, горестная, плачевная («Моя судьба еще ли не плачевна?» – Грибоедов, «Горе от ума»), счастливая; судьбина горькая, горестная; превратность, удары судьбы, коловратность жизни, счастья; благоприятное стечение обстоятельств, счастливый случай, счастливая случайность, счастливая звезда.
Смерть и самоубийство
Умереть, уйти от жизни, отправиться на тот свет, оставить свет, перейти, переселиться в мир иной, отойти (в вечность), испустить дух, последний вздох, заснуть, почить вечным сном («Твой ребенок опочил». – Блок, «В глубокой далекой спаленке…»), окончить (скончать) дни свои («…скончав дни свои в цветущих летах…» – Карамзин, «История государства Российского»[46]), «окончить течение дней» (Муравьев, «Романс»), преставиться; его нет в живых, на свете, его не стало; приказать долго жить, отдать Богу душу; Бог послал по его душу; убраться, протянуть ноги, отдать концы, окочуриться, загнуться, сыграть в ящик, дать дуба.
Покончить с собой, покончить жизнь самоубийством, покончить все счеты с жизнью, наложить на себя руки.
Жизнь человека
Жилье
Постройка, построение (храма).
Здание, сооружение, жилище, помещение, пристанище, обиталище.
Дом, домик, домишко, изба, избушка, избенка, хижина, лачуга, хибарка, халупа, развалюшка.
Дом стоял на краю (города, села), на отлете, на отшибе.
«Дом вытянулся в длину…» (Гончаров, «Обрыв»); «…дом одной стороной выходил на… канал, а другой в противоположную улицу» (Гончаров, «Май месяц в Петербурге»).
Комната, комнатенка, комнатушка, конура, каморка, клетушка, покои, палаты, хоромы, чертог.
«…дом… выходил на улицу пятнадцатью окнами» (М.-Сибиряк, «Приваловские миллионы»); окна были обращены (выходили) в сад; «…за двумя окнами во двор и за большим окном в сад… стояла… лунная ночь…» (Бунин, «Таня»); окно с частым переплетом; «Окна… пропускали много света…» (Аксаков С. Т., «Детские годы»); «Отпотевшие запыленные окна скупо пропускали свет» (М.-Сибиряк, «Великий грешник»).
Надворные постройки.
Звено (заборы, ограды).
Воротина, верея.
Обстановка, меблировка, мебель.
Пожитки, добро, добришко, вещи, предметы домашнего обихода, утварь, скарб.
Носильные вещи, одежда, одеяние, облачение (церковн.).
Одежда ветхая, подержанная, богатая, нарядная, роскошная.
Одежда облачает, облекает, обтягивает, обрисовывает, выступает (шея выступала из воротника), охватывает («Синее шерстяное платье охватывало ее стройную фигуру…» – М.-Сибиряк, «Нужно поощрять искусство»). Костюм хорошо на нем сидит. Кофточка очень ей шла. Одета к лицу, по моде.
Ручной труд
Мастерить, смастерить, изготовить, выделывать, вырабатывать; переделывать, переиначивать; приладить, пригнать, подогнать, пригородить, вколотить, приколотить, прибить, вбить, припаять; выстроить, пристроить, надстроить, расстроить, настроить, отстроить, отстроиться.
О трапезах
Обед прошел в молчании; ужин прошел скучно; «Ужин… прошел как-то натянуто…» (М.-Сибиряк, «Общий любимец публики»), весело, оживленно.
Родственники, земляки, однолетки, знакомые
Родные, родня, сродник, родич.
Соотечественник, сородич, соотчич, согражданин, земляк. Ровесник, сверстник, однолеток, одногодок, погодок. Хороший, близкий, короткий знакомый, короткий, искренний приятель.
Завести знакомство, свести (близкое) знакомство, быть знакомым, быть коротко знакомым, быть близким знакомым, поддерживать знакомство, сблизиться, сойтись близко, на короткую ногу.
Быть в хороших, добрых, милых, приятельских отношениях, приятельствовать, хорошо относиться к кому-нибудь, быть хорошим с кем-нибудь.
Сословия, звания, посты, власти, приближенные
Монах, инок, чернец, черноризец, схимник, затворник, мних (церковнослав.).
Должностные, вышестоящие, высокопоставленные, влиятельные лица, начальство, начальники, представители власти, власть имущие, власти предержащие, сильные мира сего, заправилы, тузы, значительное лицо, высокие особы, важные особы, персоны, «важная птица», «шишка», высшие чины, высшие сферы.
Вожак, верховод, коновод, атаман, главарь, глава, вождь.
Государственный деятель, муж.
Вельможа, сановник, барин, важный барин.
Особа царского (королевского) рода, венценосец, венценосная, венчанная, коронованная, высочайшая особа. Повелитель, правитель. Владыка, властитель, властелин.
Монарх, самодержец, властодержец, единовластитель. Царить, властвовать, владычествовать, державствовать. Клика, синклит.
Приверженец, сторонник, последователь, поборник, ревнитель.
Соратник, сподвижник, единомышленник, соучастник, сообщник, приспешник, пособник, присный, «иже с ним» (церковнослав.).
Знать, высшая знать, высшие круги, свет, высший свет, высшее, светское, великосветское общество, полусвет («дама полусвета»).
Человек знатный, родовитый, сановный, чиновный, из высшей, из титулованной знати, из высшего сословия, из хорошей семьи, благородного происхождения, происходить, родиться от благородных родителей («Я родился от честных и благородных родителей…» – Пушкин, «История села Горюхина»), со связями.
Занимать высокое положение, занимать положение в обществе, пользоваться влиянием, весом, быть «со связями».
Господа большой руки, средней руки (Гоголь, МД), высокого полета, марки, сортом ниже, «человек ниже меня по положению», невысокого полета, невысокой пробы, марки, небольшого калибра, низкого пошиба, мелкота, мелюзга, мелкая сошка, служня, мелкотравчатый, мелкоплавающий, незнатного происхождения, простого (низкого) звания, низкой доли («… человек, в низкой доле рожденный», «меньшая братия». – Гоголь, МД), низкого сословия, низкого (низшего) состояния («люди самого низкого состояния». – Карамзин, ПРП), захудалый, худородный, безродный, без роду-племени, безвестный, темного происхождения.
Имущественное положение
Имущество, состояние, достояние.
Жалованье, заработок, заработная плата, приработок.
Обеспеченный (вполне), с достатком, со средним, с большим достатком, у него водятся деньжонки, при деньгах, состоятельный (весьма), зажиточный, тугая мошна, богач, толстосум, денежный мешок, богач, богач изрядный, преизрядный, богатей, богатый-пребогатый, богатейший, богач страшный, страшнейший, первейший, неслыханный, «денег куры не клюют», «миллионщик».
Неимущий, без средств, бедняк, бедняга, горемыка, оборвыш, оборванец, голоштанник, голяк, нищеброд, нищая братия, голодранец, голь (перекатная, непокрытая), голытьба, гольтепа.
Как складывается жизнь
Жизнь веселит, радует, улыбается.
Обездоленный человек, потертый, потрепанный, помятый жизнью; опустившийся; жизни не рад.
Выбиться из нужды, процветать, преуспевать, благоденствовать, наслаждаться жизнью, жить в довольстве, в свое удовольствие, припеваючи.
Жизнь в тягость.
Не выбиться из нужды, нуждаться, прозябать, обеднеть, бедствовать, находиться в бедственном положении, терпеть бедствия, лишения, влачить жалкое существование, «не до жиру, быть бы живу», положить зубы на полку, вылететь в трубу, оскудеть, разориться, захудать, впасть в нищету, обнищать, не вылезать из нужды еле сводить концы с концами, с куска на кусок перебиваться (Островский, «Не было ни гроша, да вдруг алтын»).
События в жизни страны
Война, бой
Войско, армия, воинство, рать.
Воинская часть, воинское соединение, подразделение, боевая единица.
Боец, воин, воитель, ратоборец.
Командир, начальник, военачальник, вождь.
Военные действия, воинские действия («Досадуя на замедление воинских действий, Борис…» – Карамзин, ИГР), военные движения («О военных движениях не имеем еще никакого известия». – Пушкин, письмо П. В. Нащокину от 26 июня 1831 г.).
Бой, сраженье, битва, побоище, резня, сеча, столкновение, схватка, стычка, сшибка, свалка.
Начать войну, военные действия, пойти войной, сражаться, драться, биться, противоборствовать, воинствовать, ратоборствовать.
Вступить («Рейсдорл… хотел на другой день выступить против Пугачева». – Пушкин, «История Пугачева»).
Двинуть (войско, рать).
Подступить, подступать («Пугачев несколько раз подступал под Оренбург…» – Пушкин, «История Пугачева»). Сцепиться, схватиться, переведаться.
Бой начался. «Сражение завязалось» (Пушкин, «История Пугачева»).
Вступить в дело, завязать дело («Арьергард уже вступил в дело». – Денис Давыдов, «Сражение при Прейсиш-Эйлау»). Быть в деле, побывать в деле.
Теснить, потеснить, оттеснить.
Напирать («…неприятель продолжал напирать сильнее и сильнее». – Денис Давыдов, «Воспоминания о сражениях»). Приступ, натиск, наступление, атака. Набег, налет, наскок. Отбить, отразить натиск, приступ. Сидеть в осаде, снять осаду.
Расположиться станом, лагерем («…Пугачев со своими силами расположился лагерем на… лугах». – Пушкин, «История Пугачева»). Отбросить (на исходные позиции).
Ударить («…Михельсон ударил на мятежников…» – Пушкин, «История Пугачева»); ударить во фланг. Опрокинуть.
Смять («Мстислав напал стремительно и смял рать черниговскую». – Карамзин, ИГР).
Расстроить ряды неприятеля, привести в расстройство (Пушкин, «История Пугачева»).
Смешать ряды неприятеля. Рассеять, растрепать (войско, ряды).
Боевой порядок, строй. Расположиться, выстроиться боевым порядком («Петр … выстроился в боевой порядок». – Пушкин, «История Петра»).
Общественное благоустройство и неустройство; общественная жизнь
Узаконение, положение, законоположение, установление, уложение, правопорядок («Хотеть… Труда со всеми сообща и заодно с правопорядком». – Пастернак, «Столетье с лишним…»).
Правосудие; отправлять правосудие.
Образ правления, государственное, общественное, гражданское устройство, государственный строй. Сословие, состояние.
Права, преимущества, льготы, выгоды, вольности, свободы.
Социальное положение (Достоевский, «Униженные и оскорбленные», «Братья Карамазовы»). Социальные основы (Достоевский, «Братья Карамазовы»).
Состояние, направление, расположение умов («…всеобщее расположение умов». – Карамзин, ИГР). Образ, уклад, строй жизни.
«Невинные и чистые нравы» (Карамзин, «Аркадский памятник»). Чистота нравов (Нарежный, «Два Ивана»; Пушкин, «Евгений Онегин»; Чехов, «Рассказ неизвестного человека»). Простота нравов. Исправление нравов (Карамзин, «Похвальное слово Екатерине»). Очищение, улучшение нравов («…лучшие и приятнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов…» – Пушкин, «Капитанская дочка»). Смягчение нравов. Послабление нравов (Лажечников, «Ледяной дом»). Повреждение нравов. Развращение нравов (Гоголь, «Ночь перед Рождеством»). Порча нравов.
Безвластие, безначалие, беззаконие; несогласие, неустройство, нестроение, шатость; «…кризис брожения умов и желаний…» (Достоевский, «Иностранные события»).
Беспорядки; восстание, встань (древнерусск.).
Наведение, поддержание, охрана порядка; принятие надлежащих мер в разных областях государственного устройства; проведение мероприятий («финансовых мероприятий» – Достоевский, «О государственном долге»).
Нововведения, преобразования, новшества.
Литература и искусство
Живость вымысла, бедность вымысла. Правда жизни.
«Сходство описаний с природою» (Нарежный, «Российский Жилблаз»).
«Резко очерченный тип» (Достоевский, «Маленькие картинки (в дороге)»).
«Психологический анализ» (Тургенев, «Клара Милич»). Ход рассказа, поэмы, пьесы. Живость рассказа, разговора.
Точность выражения (Пушкин, «Бал» Баратынского»), картинность выражения.
Отделка (подробностей).
Простота, сила, изящество слога; «свежесть слога» (Пушкин, «Баратынский»); слог «чистый и свободный» (Пушкин, «Три повести» Н. Павлова»).
Сила, музыка света.
Чувство цвета, цветовое ощущение.
Свежесть, оркестровка, сочетание красок; звучные краски («…душа лежала к примитивам с их… звучными красками…» – Рерих, «Собирательство»).
Сила тона («Темпера… не давала силы тона». – Рерих, «Живопись»), мягкость тона. «Воздушность и звучность тонов…» (Рерих, «Живопись»), «…драпировки… теплого, но не яркого тона…» (Станиславский, «Моя жизнь в искусстве»).
Четкие уверенные линии. Музыка линии.
Скупость, уверенность, мягкость, резкость, сочность яркого мазка.
Внешний облик человека; движения
Коренастый, широкоплечий (раздаться в плечах), широкий в кости, в плечах, плечистый, видный, видный из себя, крепкого телосложения, жилистый, здоровенный, ражий, дюжий, крепыш, здоровяк.
Осанистый, представительный. Невзрачный, плюгавый, плюгавец, заморыш, замухрышка, мозгляк.
Высокого, огромного, громадного роста, высокий, высоченный, рослый, крупный, длинноногий, долговязый, верзила, дылда, «под потолок ростом».
Невысокий, низкорослый, низенький, приземистый, коротышка, карапуз.
Тонкий (в поясе), изящный, гибкий, стройный, статный, ладный; он был хорошо сложен.
Сутуловатый, сутулый («…бродяга Сутулится…» – Блок, «Двенадцать»), согнутый, согнувшийся, горбящийся, сгорбившийся, согбенный.
Склонный к полноте, плотный, пухлый, полный, располневший, упитанный, солидный, дородный, тучный, пышнотелый, толстый, дебелый, грузный, сырой, рыхлый, мясистый, жирный, сытый, разжиревший, заплывший жиром, отъевшийся, откормленный, раздобревший, одутловатый, обрюзгший, отяжелевший, оплывший (о лице), опухший, «в теле», «вошла в тело», «расплылась», «раздалась», «расползлась», «разнесло», крупнолицый, толстомордый, мордастый, толстобрюхий, толстопузый, толстяк, толстушка, толстуха, брюхан, «поперек себя толще».
Худой, худощавый, сухощавый, сухопарый, поджарый, спавший с лица, осунувшийся, со впалыми щеками, испитой, исхудалый, изможденный, изнеможенный, изнуренный, отощавший, истощенный, «в чем душа», «кожа да кости», костлявый, хилый, тощий, щуплый, тщедушный, слабосильный, хлипкий, дохлый, квелый, с помятым, измятым, потертым лицом («Вон у тебя лицо помято…» – Гончаров, «Обломов»; «…господин… с сильно потертым лицом…» – там же).
Живой, подвижной, резвый, юркий, вертлявый, неугомонный, прыткий, шустрый, разбитной, верткий, непоседа, проворный, провор, вьюн, живчик, хлопотун, вострушка, егоза.
Вялый, сонный, апатичный, малоподвижный, неповоротливый, мешковатый, неловкий, нескладный, «нескладеха», неуклюжий, увалень, «тюлень», «медведь», «труперда», сиволдай, телепень.
Благообразный, недурен (собой), миловидный, смазливый, миленький, славненький, хорошенький, хорош собой, пригожий, красивый, красавец, красотка, красавица, раскрасавица, красавчик, красавец-мужчина, раскрасавец, писаный красавец, писаная красавица.
Неказистый, неприглядный, некрасивый, дурнушка, безобразный, уродливый, урод, уродина, чучело, чудище, страшилище, образина, морда, рожа, харя.
Голова
Посадка, постановка, наклон, очерк головы («… очерк головы у ней так чист и тонок…» – Фет, «Ее не знает свет…»).
Поднять голову, оторваться (от книги), полуобернуться, отвернуться, вскинуть, вздернуть голову, тряхнуть головой, нагнуть, пригнуть, наклонить, опустить, повесить, понурить, закинуть, запрокинуть голову, покрутить, помотать головой, склонить, клонить голову, голову клонило («…клонило голову набок». – Чехов, «Черный монах»), свесить голову (набок, на грудь), уронить голову на руки, обнять, обхватить, сдавить руками голову, схватиться за голову, втянуть, вжать голову в плечи.
Волосы
Пряди, локоны, кольца, колечки, завитки, завитушки, начесы, кудри, кудряшки, кудерьки, пучки, вихры, космы, патлы, клоки, клочки, лохмы. Курчавый, кудрявый.
Волосы прямые, плоские, волнистые, курчавые.
Светловолосый, белокурый, белобрысый, русый, темноволосый, черноволосый, чернявый.
Волосы распущенные, взбитые, взлохмаченные, взъерошенные, растрепанные, всклоченные, встопорщенные.
«Волосы ее слегка развились…» (Тургенев, «Накануне»); «…красиво собранные волосы спускались на лоб…» (М.-Сибиряк, «Нужно поощрять искусство»); «…волосы ее падали длинными локонами вдоль щек…» (Тургенев, «Первая любовь»); «…ее… волосы… падали крупными завитками на шею и уши» (Тургенев, «Ася»); «…вьющиеся густыми кольцами темно-русые волосы…» (Толстой Л. Н., «Два гусара»); «…волосы колечками завивались» (Тургенев, «Рассказ отца Алексея»); «…взбитые начесы светло-русых волос…» (Станюкович, «Нянька»); «… с рассыпанными по… плечам… кудрями…» (Тургенев, «Вешние воды»); «Тяжелые космы черных волос упали ей на лицо…» (Тургенев, «Несчастная»); волосы свисали на лоб, топорщились, торчали, стояли дыбом, растрепались, остриженные ежиком волосы.
Нечесаный, растрепанный, встрепанный, взъерошенный, лохматый, косматый, патлатый, вихрастый. Подобрать, отбросить волосы.
Черты лица
Черты лица грубые, мягкие, тонкие («Борис был высокий белокурый юноша с правильными тонкими чертами спокойного и красивого лица». – Толстой Л. Н., ВИМ; «…черты лица обострились и утончились». – Булгаков, «Белая гвардия»).
Овал лица («…очаровательно круглившийся овал лица…» – Гоголь, МД).
Очерк лица (М.-Сибиряк, «Любовь»).
Лоб
Лоб покатый, крутой, высокий, чистый, правильный (Гоголь, МД), выпуклый, узкий, низкий («Лоб у него был узкий, высокий, с зализами…» – Тэффи, «Страшный гость»), шишковатый.
Морщины на лбу («Вдоль лба и поперек его собрались морщины…» – Гоголь, МД). На лбу «вздулись ветки жил» (Шолохов, «Тихий Дон»).
Брови
Хмурить / сдвинуть брови. Нахмуриться, насупиться.
Нос
Курносый, вздернутый нос.
Дышать, выдыхать, вбирать; хлюпать, шмыгать, шмурыгать. Раздувать ноздри. Нос заострился.
Подбородок
«…резко очерченный подбородок…» (Чехов, «Анна на шее»); «…подбородок выдавался вперед» (Чехов, «Красавицы»).
Губы, рот
Склад рта, линии рта, углы губ, рта.
«Линии… рта были… тонко изогнуты» (Толстой Л. Н., ВИМ).
«…довольно тонкие губы, красиво обрисованные…» (Достоевский, «Униженные и оскорбленные»).
«…тонкие губы с красивым, резким выгибом…» (Тургенев, «Клара Милич»).
В углах губ (рта) горькая складка, «…от концов больших изогнутых губ легли вниз две брезгливые складки» (Куприн, «Трус»). «Губ углы приподняты немного…» (Павел Васильев, «Стихи в честь Натальи»).
Протянуть, подставить губы, впиться губами.
Поджать, выпятить, оттопырить губы.
Отхлебывать (медленно, маленькими глотками, понемножку) из стакана чай («Отхлебывая из стакана чай, он делал карандашом пометки». – Чехов, «Огни»).
Глаза
Глаза длинные, продолговатые («…зеленый, продолговатый, Очень зорко видящий глаз». – Ахматова, «Рисунок на книге стихов»); удлиненный разрез глаз.
Глаза навыкате.
Глаза с поволокой.
Большеглазый, глазастый, пучеглазый; подслеповатый. Чуть косящие глаза. Глаза мутные, водянистые.
Глаза ввалились. Глаза ясные, тусклые, потухшие. Глаза воспаленные. Бельма, «шары», («налить шары»). Гляделки, глаза-щелки. Ввалившиеся глаза.
Действенность и дальновидность взгляда
Бегающие глазки; глаза бегают.
Устремить, направить, обратить взгляд (взор), вперить взор, взирать, воззриться; смотреть в одну точку, в пространство; взгляд его остановился на… упал на…; задержать, остановить, приковать взгляд; смотреть внимательно, пристально, уставиться, заглядеться, смотреть кому-нибудь в лицо, смотреть прямо на кого-нибудь, на что-нибудь, смотреть прямо перед собой, смотреть в упор, упереться глазами в кого-нибудь, во что-нибудь, разглядывать, глазеть, запускать глазенапа; поднять, вскинуть глаза на кого-нибудь, на что-нибудь, поднять глаза (от бумаги, от книги), впитывать, вбирать взглядом, впиться, вонзиться глазами, взглядом, пожирать глазами, смотреть во все глаза, не спускать, не отрывать глаз, глаз не оторвешь, смотреть не отрываясь, неотрывно, не поднимать глаз (от бумаги, от книги), не отводить глаз от кого-нибудь, от чего-нибудь, не сводить глаз («С Вороны глаз не сводит». – Крылов, «Ворона и Лисица»), не мочь наглядеться, глазеть; пялить, таращить, выпучить, вылупить глаза, отвести глаза в сторону, оторвать глаза, взгляд от кого-нибудь, от чего-нибудь, присматриваться, засматривать кому-нибудь в лицо, всматриваться, насмотреться, искать, шарить глазами, углядеть, найти взглядом («… нашел его взором …» – Булгаков, «Мастер и Маргарита»), отыскивать глазами («Он отыскал в толпе глазами меня…» – Гончаров, «Поездка на Волге»), высматривать, высмотреть, выглядеть глаза, проглядеть все глаза, следить глазами, взглядом за кем-нибудь, за чем-нибудь, проводить взглядом, обмениваться взглядами, переглядываться, встретиться глазами (их взгляды встретились), поймать на себе чей-нибудь взгляд, бросать, метнуть взгляд, подсматривать, водить, поводить глазами («И у них денег нет!» – подумал Обломов, с ужасом поводя глазами по стенам…» – Гончаров, «Обломов»), провести глазами, провести взглядом, провести взгляд («…провела по рядам зрителей взгляд…» – Тургенев, «Клара Милич»), обвести глазами, бродить, побродить глазами, взглядом («Полезнов внимательно поглядел ему в глаза, побродил взглядом по… лбу…» – С.-Ценский, «Львы и солнце»), обежать, пробегать глазами, облететь взглядом («…Иван Андреевич мигом облетел взглядом все ложи второго яруса…» – Достоевский, «Чужая жена и муж под кроватью»), блуждать глазами, взглядом («Взгляд ее задумчиво блуждал по деревьям». – Гончаров, «Обломов»), скользить, скользнуть глазами, взглядом («…стала скользить… глазами по лицам…» – Достоевский, «Бесы»), перевести глаза на кого-нибудь, на что-нибудь, пробегать глазами с… на… смотреть через кого-нибудь, через что-нибудь, («…глядя через… широкий двор, через пруд и голый молодой березняк, и через большое поле… я видел… кучу бурых изб…» – Чехов, «Жена»; «…через плечо поглядела ей в лицо…» – Чехов, «Володя большой и Володя маленький»; «Она… мельком, через плечо своего кавалера, видела, как отец… обнял даму…» – Чехов, «Анна на шее»); смотреть поверх голов; осмотреть кого-нибудь, что-нибудь, окинуть, охватить взглядом, обнять взором, озирать, обозревать, простирать взор («Простри свой взор окрест себя…» – Жуковский, «Могущество, слава и благоденствие России»), смотреть вокруг, по сторонам, осмотреться, озираться; куда ни глянь, куда ни кинь (ни кинешь взгляд, взор), куда ни посмотришь, куда ни взглянешь, ни оглянись, ни обратишь взор; что мог окинуть глаз («Везде кругом, что мог окинуть глаз, лежал… снег». – Толстой Л. Н., «Метель»); куда только хватает глаз («Сколько глазом захватишь…» – С.-Ценский, «Печаль полей»); насколько хватал глаз («…все вокруг, насколько хватал глаз, было еще ясно видно…» – Бунин, «Поздний час»); «Перед ним лежало видное глазу на полверсты ровное, ярко-белое полотно дороги…» (Куприн, «Белый пудель»).
Глядеть в пол, в землю, уткнуться в книгу, в пол («Митя уткнулся глазами в пол». – Достоевский, «Братья Карамазовы»), глядеть под ноги, уставить глаза в пол, в землю, потупить глаза, взгляд, взор, потупиться, глядеть долу, в потолок, уставить глаза в потолок, закатить глаза, возвести очи горе, провожать глазами, взглядом, смотреть вслед, коситься, смотреть искоса, исподлобья, украдкой, вскользь, мельком, мимоходом; проникать, пронизывать, сверлить, буравить, пронзать взглядом; узнать с первого взгляда.
Определения взгляда
Взгляд затуманившийся («…туманится твой взгляд». – Щепкина-Куперник, «Гадание»), мечтательный, задумчивый, вдумчивый («…эти взгляды серых вдумчивых глаз, осененных длинными ресницами…» – Станюкович, «Жрецы»), сосредоточенный, ушедший внутрь, остановившийся (с остановившимися глазами), отсутствующий, рассеянный, оцепенелый, невидящий, медленный, неподвижный, долгий, безжизненный, сонный, вялый, пустой (пустые глаза), тусклый, угасающий, гаснущий, потухающий, угасший, померкший, потухший, тупой, холодный, стеклянный, остекленелый, мутный, рассеянный, блуждающий, беглый, поверхностный, быстрый, скользящий («Шатов мгновенным, едва скользнувшим взглядом посмотрел на нее…» – Достоевский, «Бесы»), косой, косвенный, внимательный, пристальный, упорный, зоркий, пытливый, любопытный («…взгляд был беспокойный, любопытный и очевидно недоумевающий». – Достоевский, «Бесы»), жадный, плотоядный, похотливый, напряженный («Обломов… погрузил напряженный, испытующий взгляд в ее глаза». – Гончаров, «Обломов»), изучающий, прощупывающий, оценивающий, пронизывающий, ищущий, проницательный, проникающий в душу, тяжелый, вопросительный, ожидающий, выжидающий, недоверчивый, подозрительный, настороженный, сторожкий, хитрый, острый, приметливый, сверлящий, колющий, буравящий, колючий, пронзительный («…пронзительные, долгие взгляды ее черных глаз». – Достоевский, «Униженные и оскорбленные»), жгучий, огненный, покорный, равнодушный, безразличный, безучастный, отрешенный, отчужденный, участливый, сочувственный, сострадательный, несмелый, робкий, боязливый, пугливый, изумленный, испуганный, смелый, обезоруживающий, вызывающий, дерзкий, нахальный, наглый, удивленный, недоуменный, тоскливый, сиротливый, грустный, печальный, унылый, неулыбчивый («Губ нецелованных, глаз неулыбчивых Мне не вернуть никогда». – Ахматова, «Вместо мудрости – опытность …»), недовольный, сердитый, мрачный, сумрачный («… сумрачно глядит». – Тургенев, «Баллада»), смотреть исподлобья, взгляд хмурый, суровый, угрюмый, неприязненный, враждебный, злобный, злой, грозный, дикий, жуткий, страшный, воспаленный, пламенный, безумный, бешеный, отчаянный, остервенелый, исступленный («…остановился Кириллов, неподвижным, исступленным взглядом смотря перед собой». – Достоевский, «Бесы»), надменный, гордый, презрительный, пренебрежительный, насмешливый, ехидный, уничтожающий, убийственный, спокойный, успокоенный, уверенный, полный решимости, неуверенный, растерянный, озабоченный, «с деловым видом», тревожный, встревоженный, испуганный, смеющийся, веселый, радостный, счастливый, торжествующий, ликующий, понимающий, заговорщецкий, добрый, доброжелательный, притягательный, приветливый, ласковый, нежный, любящий, любовный, обожающий, восхищенный, восторженный, страстный.
Игра света и тени в глазах
Влажный блеск в глазах; «…взор ее и потемнел и заблистал…» (Тургенев, «Рудин»); «… в его… казавшемся холодным лице засветилось что-то доброе и ласковое» (Станюкович, «Вокруг света на „Коршуне“); глаза сверкали (недобрым) огнем, загорелись („…почти крикнул адмирал… взглядывая на него… внезапно загоревшимися глазами“. – Станюкович, там же); разгорелись („У кумушки глаза и зубы разгорелись…“ – Крылов, „Лисица и Виноград“); сияли, лучились, „…блестели лучистым, ярким блеском“ (Толстой Л. Н., ВИМ).
Впечатление от взгляда
Угадываться (в ее глазах угадывалась грусть), читаться («… в глазах читалась апатия». – Чехов, «Шведская спичка»).
Изумлять, ласкать, тащить, обольщать, прельщать, очаровывать, пленять взор («…взор мой теряется в бесчисленных красотах видимой мною страны, освещаемой вечерним солнцем». – Карамзин, ПРП; «Как хороши, как свежи были розы В моем саду! Как взор прельщали мой!» – Мятлев, «Розы»).
Глаз отдыхал на …
Приятно, любо, любо-дорого смотреть, есть на что посмотреть.
Слух
Прислушиваться, чутко вслушиваться, напрягать слух, превратиться в слух, слушать носом и ушами.
Улыбка, усмешка
Полуулыбка. Улыбка кривая, натянутая («Офицеры… натянуто улыбаясь… раскланялись…» – Чехов, «Поцелуй»), слабая («Монах… слабо улыбнулся». – Чехов, «Черный монах»), медленная («Катя… медленно улыбнулась». – Толстой А. Н., «Сестры»), долгая, длительная («В его улыбке странно-длительной…» – Брюсов, «Демон самоубийства»), открытая, доверчивая, широкая, задорная, игривая, насмешливая («…насмешливая улыбка не сходила с губ его». – Достоевский, «Подросток»), равнодушная («Чуть заметная равнодушная усмешка… тронула губы Ивана…» – Булгаков, «Мастер и Маргарита»), грустная, печальная, задумчивая, застенчивая, горькая, принужденная («Тедеоновский принужденно улыбнулся». – Тургенев, «Дворянское гнездо»), насильственная, насильная («Она подняла лицо и, насильно улыбаясь, смотрела на него». – Толстой Л. Н., «Анна Каренина»), деланная, притворная; «Приторно-лукавая улыбка растягивала ее… губы…» (Тургенев, «Ася»), слащавая, хитрая; «Плутоватая улыбка показалась на лице Свидригайлова и все более расширялась» (Достоевский, «Преступление и наказание»); «…болезненная улыбка выдавилась на губах его» (Достоевский, там же); напряженная (Тургенев, «Три портрета»; «Его… лицо стало некрасивым от напряженной улыбки». – Чехов, «Страх»), довольная, приветливая, радостная, счастливая, восторженная.
Улыбка появилась (показалась) на губах (устах), блуждала («Улыбка глубокой радости блуждала на ее губах…» – Тургенев, «Три встречи»), бродила («На губах ее бродила загадочная улыбка…» – Гончаров, «Литературный вечер»), засветилась («На… лице ее засветилась улыбка…» – Достоевский, «Братья Карамазовы»), «… с лица ее… не сходила мягкая… улыбка…» – Чехов, «Студент»), «…на лице сияла улыбка» (Достоевский, «Бесы»).
С прояснившимся лицом, улыбаться во все лицо (Чехов, «По делам службы»), распускать по лицу улыбку («Лицо распустилось в улыбку». – М.-Сибиряк, «Вокруг ракитова куста»), морщить лицо в улыбку (Чехов, «Полинька»), осклабиться, растаять, расплыться в улыбке.
«… усмешка кривила его губы …» (Достоевский «Братья Карамазовы»); «Странная улыбка искривила его лицо …» (Достоевский, «Преступление и наказание»); «… на губах ее кривилась улыбка» (Достоевский, «Бесы»); «Бессонов искривил усмешкой … губы …» (Толстой А. Н., «Сестры»).
«… губы раздвинулись в широкую улыбку …» (Гончаров, «Слуги старого века»); «… лицо его стало медленно раздвигаться в улыбку …» (Достоевский, «Братья Карамазовы»); «Длинная усмешка раздвинула его лицо» (там же); «… рожа … раздвинулась … улыбкой» (Достоевский, «Бесы»); «… обида раздвинула ее губы в улыбку» (Глеб Алексеев, «Лукреция Сигарева»), «… рот его раскрылся в улыбке» (Глеб Алексеев, «Грибок»); «… губы сложены в грустную улыбку» (Чехов, «Живая хронология»); «Державные уста змеилися улыбкой» (Толстой А. К., «Старицкий воевода»).
«… горькая усмешка скользнула по его губам» (Тургенев, «Накануне»), «Злая усмешка дергала ее губы» (Толстой А. Н., «Гиперболоид инженера Гарина»).
Вызвать на лицо улыбку («Сделав над собой видимое усилие, она вызвала на лицо улыбку…» (Лесков, «На ножах»).
«…улыбка тотчас возвратилась на его лицо». – Пушкин, «Пиковая дама».
С улыбкой, с улыбочкой, с усмешкой, с усмешечкой, с ухмылкой, с ухмылочкой.
«Улыбка сошла с губ Кириака…» (Лесков, «На краю света»), «…улыбка исчезла с его лица…» (Толстой Л. Н., «Анна Каренина»), «Улыбка постепенно сползла с его лица…» (Булгаков, «Театральный роман»), «…улыбка слетела с лица…» (Булгаков, «Белая гвардия»), «…даже… улыбку он убрал с лица» (там же).
Согнать с лица, смахнуть с лица, стереть с лица улыбку («Это известие согнало улыбку с лица Ивана Васильевича». – Булгаков, «Театральный роман»).
Музыка лица[47]
Измениться в лице. Лица на нем нет. Сквозить, мелькнуть, проскользнуть («Чувство глубочайшего омерзения мелькнуло… в чертах молодого человека». – Достоевский, «Преступление и наказание»; «Он кинул на меня взгляд, в котором проскользнуло сомнение…» – Короленко, «Феодалы»). В лице прорывается какое– то чувство, лишь дышит («…его лицо дышало уверенностью и самодовольством». – Короленко, там же); выступить («На лице солдата выступили изумление, негодование и жалость». – С.-Ценский, «Поляна»); на лице изображалось («Радость изобразилась на его лице». – Пушкин, «Капитанская дочка»); разлиться по лицу («… по всему лицу разлился ровный, спокойный свет …» – Гончаров, «Обломов»); обличать, свидетельствовать о… указывать на… говорить о… высказываться («Черты лица ее … выражали искренность чувств и твердость, но вместо прежнего спокойствия в них высказывалась … затаенная боль и тревога». – Тургенев, «Яков Пасынков»); сказываться («…такая горькая печаль, такая глубокая усталость сказывалась в каждой ее черте…» – Тургенев, «Первая любовь»); означаться («На всех лицах означалась душевная тревога…» – Лажечников, «Басурман»); обозначаться («…что-то насмешливое чуть-чуть обозначалось в лице ее…» – Достоевский, «Идиот»); быть написанным на лице, вызвать на чьем-нибудь лице какое-либо чувство, выражение, принять то или иное выражение, придать своему лицу то или иное выражение, показаться («… в выражении некоторых лиц показалось… что-то двусмысленное…» – Гоголь, МД). «Лица у всех натянутые, торжественные» (Чехов, «У предводительши»). «…беззаботное выражение слетает с лица его…» (Гоголь, МД). По его лицу прошла тень.
Шея
Изгиб, поворот шеи («…шеи лошадиный поворот». – Багрицкий, «Происхождение»).
Плечи
Повести, пожать плечами, пожиматься (от холода, от сырости), подергивать плечами («Плечи его судорожно подергивались». – Гончаров, «Обыкновенная история»), «…зябко передернуть плечами». – Шолохов, «Тихий Дон»), повести (презрительно) плечами, приподнять, поднять плечи, вскинуть плечи, плечами («Митя… вскинул… плечами». – Достоевский, «Братья Карамазовы»), говорить через плечо («Как есть разбойники», – шепнул мне Филофей через плечо». – Тургенев, «Стучит!»), («…он пересчитал деньги и… спросив меня через плечо: взять ли полную порцию… вышел из комнаты». – Достоевский, «Записки из подполья»).
Бедра, бока
Хлопнуть себя по бедрам; перевернуться на другой бок, ворочаться с боку на бок.
Руки, ладони, локти, кулаки
Расставить руки, размахивать руками, жестикулировать, закрыть лицо руками, всплеснуть руками, положить руки под голову, закинуть руки за голову, заложить руки за спину, заложить руки в карманы, сложить, скрестить руки на груди, сцепить руки, отнять свою руку от лица («Митя отнял от лица руки…» – Достоевский, «Братья Карамазовы»), отнять чью-нибудь руку от лица («Он… отнял ее руку от (ее. – Н. Л.) лица…» – Гончаров, «Обломов»), отвести свою или чью-нибудь руку, отдернуть, высвободить свою руку, отпустить, выпустить чью-нибудь руку, сжимать, стискивать кому-нибудь руки, ломать (себе и другим) руки, заламывать руки, подпереть обеими руками голову, подпереть щеку рукой, подпереться рукой, опереться головой на руку, положить подбородок на руки, опереться подбородком на руки, обнять, обхватить колени руками, бить в ладоши, похлопывать ладонями от холода, поддерживать ладонями голову, подпереть ладонью (ладонями) голову, щеку, опереться подбородком на ладонь, глядеть из-под ладони (из-под руки), защитить, заслонить, прикрыть глаза ладонью от солнца, приставить ладонь щитком к глазам, приподняться на локтях, облокотиться (на колени, на стол), упереться локтями в колени, подпереть кулаками голову, упереться кулаками в щеки, подпереть кулаками щеки, подбородок.
Грудь
Грудь впалая, широкая, колесом. Выпятить грудь.
Объятия
Притягивать к себе, заключать в объятия, сжать, сдавить, душить, стиснуть в объятиях, обхватить, обвить рукой чей-нибудь стан, шею. Выскользнуть, высвободиться, вырваться из объятий.
Ноги
Высвободить из-под себя, поджать, подобрать под себя, подогнуть ноги, положить нога на ногу, закинуть, завернуть нога на ногу, перекладывать ногу на ногу, подобрать под себя ноги, топтаться (на одном месте), переминаться с ноги на ногу, разминать ноги.
Поступь тяжелая, плывущая, важная, величавая.
Походка важная, степенная, чинная, твердая, уверенная, ровная, легкая, мелкая («Походка у нее была мелкая, подпрыгивающая…» – Чехов, «Рассказ неизвестного человека»), танцующая, виляющая, торопливая, летящая, молодцеватая, упругая, пружинистая, нервная, нетвердая, неуверенная, развинченная, расхлябанная, с развальцем.
Шаг медленный (замедлить шаг), неспешный, неторопливый, тихий, спокойный, укороченный («Санин приблизился к Джемме … укорачивая … шаг …» – Тургенев, «Вешние воды»), развалистый, мерный, размеренный, четкий, отчетливый, отчетистый, бодрый, легкий, тяжелый, грузный, большой («Король ходит большими шагами …» – Пушкин, «Видение короля»), широкий, быстрый, уторопленный («… Лемм уторопленным шагом направился к воротам …» – Тургенев, «Дворянское гнездо»; «Уторапливает шаг …» – Блок, «Двенадцать»); торопкий (Шолохов, «Тихий Дон»).
Пройтись, шагать, расхаживать, ходить взад и вперед, шагать из угла в угол («… Никифор … шел … сбоку саней …» – Толстой А. Н., «Детство Никиты»), идти, не разбирая дороги («Нож! Нож! – повторял он, широко шагая по грязи и по лужам, не разбирая дороги». – Достоевский, «Бесы»), бродить без цели, идти куда глаза глядят.
Шум, шорох шагов («Шорох шагов затих …» – Данилевский, «Мирович»).
Отдаваться, раздаваться («Он … прислушивался к своим шагам, которые одиноко и гулко раздавались в темной аллее …» – Чехов, «Расстройство компенсации»; «Далеко отдавались шаги в опустевшем пространстве». – Григорович, «Деревня»; «… шаги звучно раздавались под сводами …» – Толстой Л. Н., «Альберт»).
Бег
Пробежать, бежать бегом, мчаться, духом домчимся («… пять верст всего, духом домчимся …» – Гоголь, МД), нестись, носиться (как угорелый), лететь, полететь, припуститься, бежать со всех ног, улепетывать, ускакать, удирать, улизнуть, дунуть, дернуть, унести ноги, давай Бог ноги, дать стрекача, стречка, стрельнуть («… Настенька стрельнула в кусты …» – Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели»), задать лататы, утечь, броситься врассыпную, наутек, побежать (пуститься) вдогонку, бегать наперегонки, взапуски, дать тягу, драла, пуститься стремглав, бежать во весь опор, во весь мах, во всю прыть, во весь дух, что есть духу, во все лопатки, вихрем, стрелой, со всех ног, опрометью, без оглядки, сломя голову, так, что сверкали пятки, ног под собой не чувствовать, только его и видели, и след простыл, и был таков, поминай как звали, ищи с ветром в поле, ищи-свищи.
Брести, ковылять.
Обратить, обратиться в бегство («К вечеру Святополк обратился в бегство». – Карамзин, ИГР); пуститься, удариться в бегство, спастись бегством.
Разные телодвижения
Сесть поглубже, поудобнее.
Примоститься, притулиться, прикорнуть, приложиться, прижаться, прильнуть, припасть (лбом), приникнуть («… бессонный Рылеев к окошку приник …» – Антокольский, «Тишина»), прижать лоб («Прижав … лоб к стеклу …» – Зощенко, «Сирень цветет»).
Откинуться, отвалиться на спинку стула (кресла). Развалиться (на кровати, на диване, в кресле).
Опираться всей тяжестью на чью-нибудь руку, повиснуть на чьей-нибудь руке.
Склониться на стол, над книгой, шитьем, склониться к кому-нибудь на грудь.
Нахохлиться, сгорбиться, съежиться, скорчиться, приосаниться. Юркнуть, прошмыгнуть, проскользнуть. Ворваться, вломиться, влететь.
Падение
Упасть навзничь, повалиться, лежать навзничь, упасть плашмя, ничком, растянуться, («…об порог задел ногой И растянулся во весь рост». – Грибоедов, «Горе от ума»), повалиться, свалиться с ног, опрокинуться, полететь, шлепнуться, грохнуться, сверзиться, брякнуться, падать так, что и костей не соберешь, низринуться, низвергнуться, грянуться оземь.
Движения при столкновении, при опасности
Посторониться, отойти в сторону, уступить (дать дорогу), пропустить. Столкнуться, натолкнуться, наткнуться, налететь.
Увернуться, отстраниться, отшатнуться, податься назад, раздаться, расступиться, попятиться, шарахнуться, отскочить, отпрянуть, отбежать.
Движения человека в толпе
Оттеснять, оттирать, раздвигать, расталкивать толпу.
Потолкаться, пробираться, проталкиваться, протискиваться; шнырять в толпе, сквозь толпу; продираться, пробиться (вперед), протесниться.
Втиснуться в толпу, замешаться в толпу, в толпе. Загородить дорогу, стать поперек дороги.
Движения толпы, сборища
Кутерьма, сутолока, суматоха, толкотня, толчея, суетня, давка. Столпиться, сгрудиться, сбиться в кучу, скучиться, тесниться, напирать (сзади напирали), наседать.
Окружить, обступить, притиснуть, стиснуть, смять.
Повалить («Народ повалил на площадь …» – Пушкин, «Капитанская дочка»).
Толпа заполонила, наводнила, запрудила, затопила улицу. Зашевелиться, задвигаться, прийти в движение («Все в лагере пришло в движение …» – Пушкин, «Путешествие в Арзерум»). Дом ломился от народа.
Драка, побои, потасовка, расправа, поножовщина
Шлепок, тумак, подзатыльник, поджопник, колотушка, рукоприкладство, мордобой, пощечина (влепить пощечину), затрещина (звонкая), оплеуха (увесистая; закатить оплеуху), зуботычина.
Обрушиться, кинуться с кулаками, колотить, отколотить, побить, прибить, избить (до полусмерти), бить смертным боем, куда ни попало (Клычков, «Князь мира»), по чему ни попало (там же), по чем ни попало (Клычков, «Сахарный немец»), по чем попало (Чехов, «Палата № 6»), колотить чем попало (Гоголь, «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»), чем попадя (Бунин, «Старуха»); учить, поучить, всыпать, свистнуть, съездить, стукнуть, трахнуть, огреть, засветить фонарь, хватить, смазать, злобыстать, двинуть; наломать, обломать бока, пощупать ребра, дать, надавать по шее, накостылять шею, поставить шейный пластырь, натереть, намять холку; влепить тулумбаса; пинать, дать пинка, дать под зад коленом; тузить, дать туза, тычка, вздрючить, охаживать, отдубасить, вздуть, отдуть, взгреть, взбутетенить, отколошматить, измолотить, отделать, оттрепать, отхолить, отпотчевать, угостить, усахарить, задать трепку, взбучку, вытрясти душу, звездануть; дать, заехать, залепить в ухо; заехать в рыло; оттаскать волосы, за вихры, вцепиться в волосы, дать волосяного деру; задать таску, выволочку; расквасить нос, дать по сопатке («Хлобысть по сопатке …» – Багрицкий, «Дума про Опанаса»); дать в зубы, съездить по зубам, пересчитать зубы; надавать по мордасам; треснуть по башке, проломить голову, раскроить, размозжить череп; тюкнуть, расшибить, сшибить, опрокинуть; лупить, сечь, высечь, пороть, выпороть, стегать, драть, выдрать, отодрать, отходить, отчихвостить, отхлестать, всыпать горячих, взбодрить, лупцевать, исполосовать; ожечь, полоснуть плетью, кнутом; ударить, полоснуть, садануть ножом; ухлопать, ухайдакать («Как раз ухайдакал!» – Крюков А., «Рассказ моей бабушки»), укокошить, прихлопнуть, вышибить дух («и дух вон»), уходить на смерть, забить до смерти, пристукнуть, уложить, положить на месте, прикончить, добить, порешить.
Остановка
Стать вполоборота («… обернись И стань вполоборота». – Светлов, «Песня»). Вытянуться в струнку. Стоять «смирно» (команда). Стоять как истукан.
Физические состояния
Дыхание
Дыхание короткое, прерывистое, затрудненное, частое, учащенное, стесненное, тяжелое, свистящее, шумное, ровное, спокойное, легкое.
Пыхтеть, сопеть, задыхаться, запыхаться, дышать жарко («Наклонился, дышит жарко…» – Городецкий, «Весна»), тяжело, с трудом дышать; ему трудно дышать, больно, нечем дышать; ловить ртом воздух.
Стеснять, спирать дыхание.
Тесно в груди, ему стало душно, ему не хватало воздуха. Захватило дух, дух захватывает.
Дыхание перехватывает («У Ивана Ильича опять перехватило дыхание». – Толстой А. Н., «Сестры»); дыхание пресеклось («Пресекло у меня дух…» – Достоевский, «Братья Карамазовы»), («…дыхание гостьи сперлось». – Гоголь, МД).
Отдуваться, отдышаться, передохнуть, перевести дух.
Зрение
В глазах рябило, помутилось, потемнело, все поплыло перед глазами, в глазах замелькали круги, зеленые круги пошли перед глазами.
Кровообращение
Кровь бросилась в голову, ударила в лицо, прилила к щекам, залила щеки, отлила от щек.
Глаза налились кровью.
Кровь стынет в жилах, остановилась («Вся кровь во мне остановилась». – Пушкин, «Борис Годунов»). Бросило в жар.
«… кровь стучала у меня в висках» (Тургенев, «Часы»).
Дрожь
Дрожать (всем телом), дрожмя дрожать, трепетать.
Дрожь пробежала по телу; (легкий) озноб пробежал по телу.
Его трясло, знобило. Зуб на зуб не попадает.
Вздрогнуть, содрогнуться.
Трепыхаться.
Ощущение холода
Пожиматься, дрожать, трястись от холода.
Мерзнуть, дрогнуть, продрогнуть, замерзнуть, застыть, холодеть, заледенеть, оледенеть, закоченеть, окоченеть, окостенеть.
Румянец, краска
Покраснеть (густо), пойти красными пятнами, раскраснеться, зардеться, побагроветь, вспыхнуть румянцем («…бледное лицо девочки вспыхивало румянцем». – Короленко, «В дурном обществе»), залиться, заняться («…бледное лицо вдруг занялось… румянцем…» – М.-Сибиряк, «Между нами»), гореть румянцем («…лицо у нее так и горело румянцем». – М.-Сибиряк, там же), пылать румянцем («…щеки ее запылали румянцем…» – Гончаров, «Обломов»).
«…румянец пробился на щеках…» (Гончаров, «Обрыв»), «…чуть заметный румянец окрасил ее бледные щеки» (М.-Сибиряк, «Человек с прошлым»), «…на лице ее еще ярче выступил зловещий чахоточный румянец» (Станюкович, «Похождение одного матроса»), «на щеках ее играл болезненный румянец…» (Писемский, «Боярщина»), «Щеки покрылись живым румянцем…» (Лермонтов, «Menschen und Leidenschaften»[48]), «Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи» (Достоевский, «Униженные и оскорбленные»), «Румянец, разлитый по всему ее лицу …» (Тургенев, «Дневник лишнего человека»); лицо отливало (густым) румянцем; румянец во всю щеку; «кровь с молоком»; «… яркий румянец, пробиваясь сквозь … бледную кожу ее щек, подступал к самым глазам» (Станюкович, «Червонный валет»); румянец выделялся («Его лицо было сердито и бледно, только на щеках пятнами выделялся румянец». – Короленко, «Слепой музыкант»), выступал («Легкий румянец пятнами выступал на ее бледном лице…» – Тургенев, «Бретер»), горел, разгорелся («Людмила… с разгоревшимся румянцем на щеках…» – Жуковский, «Три пояса»).
Краска набежала («…легкая краска набежала на лицо». – Лажечников, «Басурман»), «…на лице то выступит, то прячется краска…» (Гончаров, «Обрыв»), «…краска не сходила с ее лица…» (Достоевский, «Идиот»), «…краска бросилась ей в лицо» (Достоевский «Преступление и наказание»), краска стыда.
Вогнать в краску.
Вызвать краску на лицо («…они (слова. – Н. Л.) будут… вызывать краску стыда на лицо ваше…» – Островский, «Богатые невесты»). Краска сошла, сбежала с лица.
Сердце (буквальные и переносные значения)
Сердце стучало, заколотилось, сильно, учащенно забилось; с бьющимся (сильно) сердцем…
Сердце щемило, ныло, заныло, ноет. С стесненным сердцем…
На сердце налегла грусть, печаль, тоска, кручина; на сердце тяжесть; на сердце кошки скребут; сердце не на месте; сердце (больно) сжалось, дрогнуло, екнуло, упало, зашлось, замерло («…все ли благополучно?» – подумал Ростов, с замиранием сердца останавливаясь…» – Толстой Л. Н., ВИМ).
Отлегло от сердца.
Сердце запрыгало, готово выпрыгнуть из груди.
Обморочное состояние и возвращение к действительности
Почувствовать дурноту, лишиться чувств, потерять сознание, впасть в бессознательное состояние, в беспамятство, упасть без сил, без чувств, в обморок; стало нехорошо, дурно. В глазах потемнело, темно.
Без сознания, без памяти. В забытье, замертво.
Прийти в себя, в сознание, опомниться, очнуться, опамятоваться, очувствоваться.
Привести в чувство.
Болезнь
Недомогание, недуг, заболевание, болезнь, хворь, хвороба. Недомогать, кукситься, киснуть, перемогаться, занедужить, занемочь, заболеть, захворать.
Нездоровится, неможется, «не по себе».
Ненормальное душевное состояние и выздоровление
Странности, чудачества, безрассудство, сумасбродство, дурачества, дикие, безумные выходки.
Умопомешательство, умопомрачение.
«Не в себе», «не все дома», «голова не в порядке», не в полном разуме, не в полном рассудке, не в здравом, не в своем уме, ум за разум зашел, помутился рассудок, помрачился разум, на него «находит», «накатило», он – «того».
Шалый, шальной, взбалмошный, сумасброд, безумец.
Ненормальный, слабоумный, невменяемый, полоумный, душевнобольной, помешанный, умалишенный, сумасшедший, безумный.
Затмение, умственное расстройство, помешательство, безумие, умоисступление.
Ум пошатнулся, помрачился, помутился.
Тронуться, лишиться рассудка, потерять рассудок, обезуметь, свихнуться, рехнуться, выжить из ума, повредиться в уме, вздуриться, помешаться, сойти с ума, спятить.
Просветление, проблески, просветы.
Очухаться, образумиться, опамятоваться, очувствоваться, прийти в разум, в совершенный разум (употр. и в смысле: достичь высокого умственного развития), находиться в совершенном уме, в полном разуме, в своем уме.
Опьянение
Выпивка, попойка, гульба, кутеж, пирушка, пир горой. Винопийство, возлияние, пьянство.
Не враг бутылке, горазд выпить, выпить не дурак, кутила, гуляка, пьянчуга, выпивоха, пьяница (горький), пропойца, забулдыга, бражник.
Выпить лишнее, хватить лишнего, выпить для прочищения глотки, залить за галстук, подгулять, осушить, опорожнить, пропустить (для бодрости), клюкнуть, хлопнуть, дербалызнуть, дерябнуть («… дерябнул хороший стакан …» – Лесков, «Левша»), трахнуть, пройти по… приложиться, тяпнуть винца, опрокинуть, чекалдыкнуть, захмелеть, напиться (пьяным), упиться, перепиться (об одном и о нескольких), наклюкаться, насандалиться, накачаться, натянуться, насосаться, насвистаться, надрызгаться, нализаться, нарезаться (Гоголь, МД), назюзюкаться, налакаться, натрескаться, налимониться, надраться, нагрузиться («…где ты это нагрузился?» – Пушкин, «Капитанская дочка»), хлестать, хлобыстать, налить шары, лыка не вязать, на ногах не держаться, тянуть, потягивать (винцо), куликать, кутить, кутнуть (напропалую), гулять, гульнуть, пьянствовать, винопийствовать, бражничать, дуть, глушить, спиться с круга.
Под хмельком, навеселе, на взводе, вполпьяна, под парами, под мухой, под градусом, в подпитии, в подвыпитии, во хмелю.
Его разобрало, развезло.
Пьян мертвецки, вдребезги, вдрызг, влоск, напиться до бесчувствия, до чертиков, до зеленого змия.
Спьяна, с пьяных глаз, под пьяную руку, в пьяном виде, по пьяной лавочке.
Хмель из головы не вышел.
С похмелья, с перепою.
Пьяным-пьяно, хоть купайся в вине, вина – хоть залейся, море разливанное.
Аппетит
Чревоугодник, обжора, объедала, лакомка, сластена. Дразнить, возбуждать, утолять, отбивать, портить аппетит. Объедаться, обжираться, есть за обе щеки, так, что за ушами трещало, уписывать, уплетать.
Сон, бессонница, пробуждение
Полудрема, полудремота, дремота, дрема, первосонье, полусон (в полусне), сон спокойный, мирный, безмятежный, блаженный, дурной, тяжелый, беспокойный, тревожный, мертвый.
Клонит ко сну, одолевает дремота, глаза слипаются, сон сомкнул глаза, смежил веки, осилил, одолел, пересилил, сморил.
Сквозь сон, спросонья, спросонок, впросонках.
Погрузить в сон, забыться (беспокойным, тревожным, сладким, глубоким, крепким, мирным, безмятежным, беспробудным, непробудным, мертвым) сном, спать как убитый, сном праведника, без задних ног, просыпу.
Нагнать, навевать сон («Ночь пролетала над миром … Тихие сны навевая…» – Плещеев, Летние песни, 6).
Сон не шел к нему, ему не спалось, сон бежал от него, от его глаз, сон у него прошел, отлетел от его глаз, сна ни в одном глазу.
Гнать от себя, от кого-нибудь сон, бороться со сном, осилить, пересилить дремоту, сон, стряхнуть дремоту («…сон стряхнул дремоту…» – Гончаров, «Обломов»).
Проснуться; пробудиться, восстать, воспрянуть от сна.
Проявления душевного состояния
Плач
Хныкать, нюнить, рюмить, распустить нюни, всплакнуть, плакать (горькими, горючими) слезами, плакаться, расплакаться, плакать в три ручья, не осушая глаз, пролить, пустить слезу, прослезиться, прошибла слеза, глаза на болоте, на мокром месте, разливаться, обливаться слезами, дать волю слезам, исходить, захлебываться слезами, утопать в слезах, реветь, реветь ревмя, плакать навзрыд, рыдать, разрыдаться.
Выплакать, оплакать, излить в слезах.
«…на глаза просятся слезы…» (Короленко, ИМС); слезы подступают к глазам, слезы выступили на глаза, в глазах стояли слезы; взор затуманился слезою; взор застилает слеза; слезы текли, катились, лились, струились, хлынули; слезы градом, слезы душили.
Смех
Раскаты смеха, взрывы хохота.
Смех беззвучный, раскатистый, дружный, неудержимый, визгливый; дикий, громовой хохот.
Прыскать, фыркать, не удержаться от смеха, давиться хохотом. Смех разбирает, душит.
Фыркнуть, прыснуть, хихикать, похохатывать, смеяться, расхохотаться, хохотать во все горло, смеяться до упаду, трястись от хохота, корчиться от смеха, надрывать животы от смеха, покатиться, покатываться со смеху, кататься от смеха, закатываться, заливаться хохотом, лопнуть от смеха, гоготать, реготать.
Смеяться неискренним, насильственным смехом.
Свойства
Голос, манера говорить
Голос нежный, мягкий, спокойный, вкрадчивый, теплый (Куприн, «Черный туман»); слабый, тихий, глухой, хриплый, сиплый, сдавленный, упавший, дрожащий, звонкий, дребезжащий, надтреснутый, гнусавый, скрипучий, визгливый, зычный, громкий, густой, раскатистый.
Запинаться, мычать, буркнуть, бубнить себе под нос, произносить слова в нос, бормотать, лопотать, произносить внятно, без запинки, раздельно, с расстановкой, расстановисто («… расстановисто и настойчиво произнес Обломов». – Гончаров, «Обломов»), нарочито медленно; цедить слова, подчеркивать, отчеканивать слова; напирать на слова, делать упор на словах, растягивать, цедить слова, говорить скороговоркой, ворчнуть, шипеть.
Способности
Память
Врезаться, зарониться в память, задержаться, остаться, сохраниться, запечатлеться, отпечататься, откладываться, вырисовываться, выдаваться в памяти («…этот день резко выдавался в ее памяти». – Станюкович, «Наши нравы»), хранить, сохранить, держать, задержать, закрепить, воссоздать, восстанавливать, возобновлять, воскрешать в памяти, вернуться памятью к… мелькнуть, проноситься, искать, перебирать, рыться в памяти, залегать в памяти, западать в память, уцелеть в памяти, прилипнуть к памяти («Коридор с синими лампами, прилипший к памяти…» – Булгаков, «Мастер и Маргарита»), прийти, привести на память, напрягать память.
Изгладиться, выпасть, выветриться, уплыть из памяти. Воспоминания оживают, воскресают. Память ему изменила. В памяти были еще живы, еще свежи… В памяти вставали, восставали, всплывали, воскресали. Память сохранила…
Я так живо помню … Мне живо вспомнилось … Стерлось в памяти … Память отшибло.
Воображение
Воображение ленивое, сильное, живое, богатое, беспокойное, неугомонное, больное, пугливое, встревоженное, растревоженное, горячее, разгоряченное, разгоревшееся, горячечное, пылкое, пламенное, воспламененное, воспаленное, расстроенное, мрачное, необузданное (Пушкин, «Пиковая дама»), разнузданное, развращенное, грязное; тугое, короткое (Куприн, «Лесная глушь»).
Сила, живость, пылкость, игра воображения.
Напрягать воображение, дать волю воображению.
Вызывать, создавать, рисовать в воображении; перенестись воображением.
Рисоваться, предстать, оживить, воскресать в воображении.
Воображение его (ясно) представилось, рисовалось, открылось, явилось, предносилось.
Возникнуть в воображении, создавать в воображении, вставать («… в ее воображении… вставали… люди…» – Чехов, «Именины»), мелькать, промелькнуть, проноситься, пронестись, жить («…эта красота жила только неделю в его воображении…» – Гончаров, «Обломов»), сменяться («…мрачные эпизоды в его воображении начали сменяться более отрадными». – Горбунов И. Ф., «Мысли вслух на парадном подъезде»).
Воображение у него заиграло, разыгрывалось («У детей… легко разыгрывается… воображение…» – Терпигорев (Атава), «Проданные дети»); «Воображение его все разыгрывалось и разыгрывалось». – Горбунов, «Мысли вслух…»).
Наполнять воображение («…ржаное поле наполняло мое воображение…» – Аксаков С. Т., «Детские годы»), развлекать («…общество… в котором я… очутился, сильно развлекало мое воображение». – Пушкин, «Капитанская дочка»), завладеть, овладеть («Несчастная эта мысль овладела постепенно воображением Софьи Николаевны». – Аксаков С. Т., «Семейная хроника»), занять, сильно занимать, пленять, поразить («…занять и поразить воображение читателя». – Пушкин, «Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, как иностранной, так и отечественной»), сильно подействовать на воображение, говорить (много) воображению, врезаться в воображение.
Преследовать воображение, возбуждать, дразнить, раздразнить, подзадоривать (Чехов, «Калхас»), раздражать («… в ней вся прелесть не являлась сразу… а пряталась и раздражала воображение…» – Гончаров, «Обрыв»), распалять, растревожить, взволновать, воспламенять, разгорячать, пугать (Чехов, «Страхи»), мучить, терзать воображение («…Швабрин… терзал мое воображение». – Пушкин «Капитанская дочка»).
Казаться, чудиться, привидеться, мерещиться, грезиться, мниться, метиться.
Раздумье
Умственный, мысленный взор, мысленное окно, внутреннее зрение.
Призадуматься, впасть, погрузиться в задумчивость, в (глубокое, мрачное, тяжелое) раздумье, в размышления, углубиться в мысли, размышления, крепко, мрачно задуматься («…Клочков… мрачно задумался». – Чехов, «Анюта»); он весь ушел в свои мысли; уноситься мыслью, мыслями, остаться один на один со своими мыслями, утвердиться в мысли (Бунин, «Жизнь Арсеньева»), основаться в мысли, утвердить кого-либо в мысли.
Надумать, придумать, задумать, замыслить, измыслить, выдумать.
Не допускать мысли; ему не приходило в голову…; он об этом и не помышлял; ума не приложить.
Ему пришла в голову мысль; у него шевельнулась, мелькнула, блеснула мысль; невеселые, мрачные, беспокойные, тревожные мысли лезли в голову; «Смутные мысли бродили в его голове…» (Вельтман, «Приключения, почерпнутые из моря житейского»); мысли вихрем проносились у него в голове.
У него мелькнула мысль; ему вздумалось; у него на уме. Зародилась, закралась, затаилась мысль.
Собирать мысли, собираться с мыслями, не в силах собрать мысли, собраться с мыслями, приводить мысли в порядок («…мысли его пришли в порядок…» – Писемский, «Боярщина»).
Раздумывать(ся), обдумывать, соображать, прикидывать в уме, раскинуть умом, перебирать в уме, продумать, напрягать мысль, шевелить мозгами, ломать себе голову.
Вдуматься, осмыслить, осознать («…если осознать ее (благую весть. – Н. Л.)… разве будет она тогда благая?» – С.-Ценский, «Благая весть»), обмозговать, понять, постичь, уяснить себе, взять в толк, уразуметь.
Рассудить, склоняться, прийти к мысли, по зрелом размышлении…
Пришло в голову, на ум, взбрело на ум, вспало на ум («Ему вспало на ум, что… отряд… фуражиров перебрался в Долину…» – Лажечников, «Последний Новик»).
Засела (гвоздем) в голове мысль, запала в голову мысль, забрать себе, вбить себе в голову, держать в мыслях, втемяшилось, мыслями его завладел, не выходит из головы, не мог отделаться от мысли, мысли его были заняты, мысли его были далеко, он был занят мыслью, своими мыслями, эта мысль не давала ему покою.
Не идет на ум, вылетело из головы, из ума вон, выкинуть из головы.
Мысли путались, мешались. Мысли скачут. Направление мыслей («…мысли его вскоре приняли другое направление». – Пушкин, «Дубровский»), мысль его начала работать в другом направлении; течение мыслей («…по какому-то странному течению мыслей, оба становились перед образами…» – Чехов, «Душечка»); дать другое (новое) направление мыслям («…воспоминание о грустном зрелище дает новое направление мыслям…» – Короленко, «Над лиманом»); оборот мыслей («…мысли мои… приняли другой оборот». – Тургенев, «Андрей Колосов»).
Переменить мысли («…невеста… скоро переменила мысли…» – Карамзин, ИГР).
Раздумать, передумать, отдумать, отказаться от мысли.
Подать мысль, навести на мысль, на размышления, привести к мысли.
Выйти из задумчивости, «очнуться от раздумья» («…очнувшись от глубокого раздумья…» – Достоевский, «Бесы»), вызвать, вывести из задумчивости («Голос матери… вызвал… барышню из… минутной задумчивости». – Толстой Л. Н., «Два гусара»).
Чувства
Смущение
Оробеть, смутиться, сконфузиться, смешаться, стесняться, застыдиться, устыдиться, чувствовать себя неловко, испытывать чувство неловкости, чувствовать, ощущать (некоторую) неловкость, чувствовать себя неуверенно, замяться, немного помяться; осечься, растеряться, потеряться («Он стоял на крыльце дома Карениных как потерянный…» – Толстой Л. Н., «Анна Каренина»); «…проговорил он с совершенно потерянным видом» (Достоевский, «Идиот»); «Совсем потерявшийся Ганя отрекомендовал ее сперва Варе…» (там же); окончательно растеряться; в нерешительности, в нерешимости, в (полном) недоумении, в (крайнем) замешательстве, в смятении, в волнении, в расстройстве чувств, «в растрепанных чувствах».
Чувство неловкости, стесненности, связанности, скованности.
Привести в смущение («… в смущение приводит Человека вал морской …» – Баратынский, «Последний Поэт»).
Изумление
Быть в недоумении, быть удивленным, изумленным, озадаченным, сбитым с толку, сраженным, пораженным (как громом), потрясенным, ошеломленным, огорошенным, ошарашенным.
Удивиться, подивиться, даться диву, изумиться, поразиться, прийти в удивление, в изумление.
Опешить, обомлеть, оторопеть, остолбенеть, одеревянеть, окаменеть, оцепенеть («Ганя оцепенел от испуга». – Достоевский, «Идиот»), похолодеть, застыть, оледенеть, обмереть, замереть (на месте), помертветь, отупеть, ошалеть, очуметь, одуреть, обалдеть. Глаза на лоб полезли (от изумления).
Привести в недоумение, в удивление, в изумление; повергнуть в изумление.
В безмолвном изумлении («…смотря в безмолвном изумлении на происходящее…» – Жуковский, «Нечто о привидениях»).
Любопытство
Возбудить, вызвать, подстрекнуть («В анониме было… много подстрекающего любопытство…» – Гоголь, МД), подзадорить любопытство. Меня разбирало, мучило любопытство. Проявлять, выказывать любопытство.
«Любопытство мое сильно было возбуждено» (Пушкин, «Выстрел»). Любопытство превозмогло, взяло верх.
«…любопытство мое было насыщено…» (Толстой Л. Н., «Детство»). Удовлетворить чье-нибудь любопытство.
Волнение и успокоение
Внешнее спокойствие.
Волнение; томление, волнение духа («Тентетников пришел в… волнение духа…» – Гоголь, МД), беспокойство («…беспокойство его достигло крайних пределов». – Достоевский, «Записки из Мертвого дома»), тревога.
Возбуждение, приподнятое состояние, взвинченность, надрыв, подъем духа, душевный подъем, избыток, полнота чувств, порыв, прилив (бодрости), наплыв (счастья).
Переворот в душе, душевный перелом.
Взволноваться, разволноваться, переволноваться, прийти в волнение («…все приходит в волнение…» – Жуковский, «О происшествиях 1848 года»).
Обеспокоиться, забеспокоиться, встревожиться, бить тревогу, возбудиться, всполошиться, переполошиться, всполохнуться, всколыхнуться, расходиться («Что ты, сердце мое, расходилось?» – Некрасов, начальная строка неозагл. стих.).
Страстное желание; томиться, гореть, загореться желанием.
Гореть нетерпением («Государь… горит нетерпением тебя увидеть…» – Лажечников, «Басурман»), сгорать от нетерпения, терзаться нетерпением.
Страстное нетерпение (Лесков, «Обнищеванцы»).
Ему не терпелось, его подмывало, тянуло, влекло.
Потерять самообладание, выйти из себя, быть вне себя, не помнить себя.
Сам не свой.
Успокоиться, утихомириться, угомониться, притихнуть, присмиреть. «Волнение пошло на убыль, улеглось» (Шолохов, «Тихий Дон»).
Обида
Обида, оскорбление; поношение. Коробить, задевать (за живое), кольнуть. Подковырнуть, обидеть, уязвить, оскорбить.
Нелюбовь, злоба
Нелюбовь, неприязнь, неприязненное чувство, досада, раздражение, возмущение, враждебное чувство, негодование, гнев, злость, злоба (слепая, жгучая, бешеная, дикая, лютая), озлобленность, озлобление, ожесточение, ярость, бешенство, свирепость, свирепство, неистовство, исступление, озверение.
Месть, мщение.
Не лежит душа к кому-нибудь, недолюбливать; невзлюбить, терпеть, не мочь видеть; не выносить, не переваривать, ненавидеть.
Быть в натянутых отношениях, не в ладах, не ладить, надуться, досадовать, сердиться, рассердиться, осердиться, осерчать, «зло берет», быть на ножах, «точить когти», «иметь зуб» на кого-нибудь, сорвать на ком-нибудь злость, отомстить, выместить злобу, в отместку…
Раздражиться, разозлиться, обозлиться, озлиться, окрыситься, прогневаться, разгневаться, гневаться, пылать гневом, «туча тучей», негодовать, злобствовать, яриться, разъяриться, ожесточиться, остервениться, взбелениться, взбеситься, разбушеваться, прийти в бешенство (в ярость), кипятиться, вскипеть, выйти из себя, из себя вон, вспылить, вспыхнуть, разгорячиться, распалиться, рассвирепеть, свирепствовать, неистовствовать, буйствовать, буянить, лютовать, озвереть, вызвериться, остервенеть, осатанеть, рвать и метать, метать громы и молнии.
Всердцах, с сердцем, срыву, в раздражении, в запальчивости, со злости, в гневе, в бешенстве, в ярости, в порыве ярости.
В душе у него все кипело. Его взорвало.
Злоба душила его, бурлила, клокотала.
Презрение, отвращение
Пренебрежение, презрение, отвращение, брезгливость, брезгливое чувство, омерзение, гадливость, гадливое чувство, физическое отвращение.
Пренебрегать, брезговать, гнушаться.
Самолюбие
Тешить самолюбие.
Задеть, ущемлять самолюбие, (больно), ударить по самолюбию, бить по самолюбию.
Гордость
Гордость, гордыня, надменность, высокомерие, заносчивость, чванство, кичливость, спесь, фанаберия, гонор, самомнение, самоуверенность, самонадеянность, самодовольство, самомнение, самолюбование, самовлюбленность, самоупоение.
Гордец, кичливец.
Гордиться, загордиться, возгордиться, возомнить о себе, возмечтать о себе, много о себе думать, много о себе понимать, возноситься, напустить на себя важность, важничать, заноситься; спесивиться («Сам же… навязался… да еще и спесивится…» – Пушкин, «Борис Годунов»), воротить, задрать нос, зазнаться, фордыбачить, форсить.
Смотреть свысока, сверху вниз.
Покровительственный, снисходительный (тон, вид).
Сомнения
Закрались сомнения. Нахлынули сомнения. Заронить сомнение. Разрешить, «решить сомненье» (Крылов, «Квартет»), рассеять сомнение.
Страх
Опаска, опасение, боязнь, испуг, перепуг, оторопь, страх, жуткое чувство, жуть, ужас.
Побаиваться, оробеть, струсить, перетрусить, струхнуть.
Берет оторопь, напал страх, боязно, страшно, жутко, он пришел в ужас, «душа в пятки ушла», натерпеться страху, поджилки дрожат.
Тяжелые чувства
Горечь, горькое чувство, грусть («Теснится ль в сердце грусть …» – Лермонтов, «Молитва»; «Грусть пала мне на душу …» – Достоевский, «Записки из Мертвого дома»), грустное чувство, печаль, угрызения совести, расстройство чувств, неприятное чувство, тяжелое предчувствие, тяжелое чувство, тяжелые переживания, надлом (душевный), тоска (гложет, грызет), кручина, уныние, скорбь (лютая, злая), «нож острый», душевная боль, мука, отчаяние; порыв, первый приступ отчаяния, туга (древнерусск.: «По Руси – туга и горе». – Майков А. Н., «Емшан»).
Загрустить, опечалиться, тосковать, расстраиваться, закручиниться («Что же ты закручинился?..» – Пушкин, «Борис Годунов»), крушиться, сокрушаться, приуныть, тужить («Горько плача, потужи…» – Федор Сологуб, «Чадом жизни истомленный…»), унывать, изнывать, убиваться, падать духом, отчаиваться, впасть в отчаяние, томиться, пригорюниться, огорчаться, горевать, страдать, терзаться, мучиться, не находить себе места (от тоски, от горя).
Тоскливо, грустно, тяжело, горько, больно, тошно, сердце не на месте, тяжесть на сердце, тяжело на сердце, на душе.
Не в духе, в дурном расположении духа, настроении.
Борьба физической и душевной бодрости с физическим бессилием и душевной усталостью
Бессилие, усталость, усталь, утомление, переутомление, изнеможение.
Обессилеть, выбиться из сил, раскиснуть, не стоять, не держаться на ногах, валиться с ног.
Силы его оставили, изменили ему; не по силам, не под силу, невмоготу, невмочь, «…сморенные смертельной усталостью… спали бойцы…» (Артем Веселый, «Россия, кровью умытая»).
Из кожи вылезть, в лепешку расшибаться, выворачиваться наизнанку.
Через силу, собрав последние силы, из последних сил, напрягая отчаянные (последние, нечеловеческие, сверхъестественные) усилия.
Внутренняя борьба, душевный разлад.
Присутствие, бодрость духа, выдержка, самообладание.
Преодолеть, побороть, перебороть, превозмочь, осилить (смущение, волнение, робость, страх), не потерять самообладания, (стараться) не выдать волнение, овладеть собой, сдержаться, крепиться, взять себя в руки, держать себя в руках, на вожжах, выдержать характер, собраться духом, не терять присутствия духа, воспрянуть духом, воодушевиться, взыграть, возвеселиться, возрадоваться духом.
Наслаждение, радость
Удовольствие, утеха («… в царство тени Ты ушел, утешный мой…» – Ахматова, «Вновь подарен мне дремотой…»), отрада («Вспоминали мы с отрадой Царскосельские сады» (там же); «Ты одна мне помощь и отрада…» – Есенин, «Письмо матери»), услада, наслаждение, блаженство, упоение («Возрожденье, упоенье И доверчивость любви…» – Фет, «Возвращение»), нега («Я вспомню речи неги страстной…» – Пушкин, «Евгений Онегин»), жизнерадостность, веселость, радость, восторг, ликование, счастье.
Наверху блаженства, на седьмом небе. Утопать в блаженстве.
Дружба, любовь, страсть, волокитство, распутство
Дружба, дружество, дружеское расположение.
Друг старый, старинный, испытанный, преданный, верный, близкий, закадычный, задушевный, искренний, лучший, друг-приятель.
Подружиться, сдружиться, дружить, быть в (большой) дружбе с кем-нибудь, водить дружбу, быть на дружеской ноге, «водой не разольешь», души не чаять в ком-нибудь.
Привязанность, симпатия, предмет (увлечения), «слабость», дама сердца, владычица души (сердца).
Влюбленность, увлечение, влечение, нежное чувство, нежность, любовь (возвышенная, чистая), беззаветная, безграничная, самоотверженная; страсть, ухаживание, волокитство, вожделение, прелюбодеяние, похоть, блуд.
Приласкать, приголубить, миловать.
Быть неравнодушным (ной), увлечься, влюбиться, страстно, безумно, «по уши», обожать, боготворить.
Втюриться, врезаться, заглядываться на… кокетничать, заигрывать, флиртовать, ухаживать, приударить, любезничать, волочиться, приволокнуться, увиваться, затеять роман, развлекаться, резвиться, забавляться, миловаться, слюбиться, голубиться; баловаться, спознаться, спутаться, связаться, снюхаться, завести интрижку, разводить шуры-муры, фигли-мигли, гулять (на стороне, от мужа), спать, полеживать, валяться, блудить; вступить в связь, находиться в связи, быть в близких отношениях с кем-нибудь, сойтись, жить, сожительствовать.
Веление, позыв плоти; телесное сближение; чувственность («… все лицо выражало чувственность …» – Тургенев, «Накануне»); сладострастие, сластолюбие, любострастие; мысли нескромные, грешные, греховные, нечистые, грязные; сладострастные вожделения («Когда бы я уже не могла возбуждать в тебе сладострастных вожделений …» – Карамзин, «София»); желания греховные, нечистые, бесстыдные («… если б я его бесстыдное желание решилась утолить …» – Пушкин, «Анджело»).
Любовные думы, мысли («Мысль любовну истребляя …» – Пушкин, «Капитанская дочка»), мечтания, резвости («Любовных резвостей своих летописатель». – Муравьев, «Послание о легком стихотворении»), мучения; взаимная нежность; влечение сердца, души; нежная, усладительная взаимная привязанность; склонность сердечная, нежная, взаимная, взаимная привязанность, страсть; «От вас я без души…» (Загоскин, «Благородный театр»); «И все-таки я в вас без памяти влюблен» (Грибоедов, «Горе от ума»); сердечный огонь; жар томный, сердечный, любовный («…ты чувствуешь любовный жар в крови». – Судовщиков, «Неслыханное диво»); «…дикой страсти жар мятежный…» (Лермонтов, «Menschen und Leidenschaften»), «Люблю тебя со всем пламенем первой страсти» (там же), «…взаимный пламень двух сердец…» (там же); «…восторги страсти нежной…» (Пушкин, «Эвлега»); сладострастный восторг; «Упоение счастья и пламенной любви…» (Лажечников, «Последний Новик»); пылать желанием, любовью, страстью.
Сердечные дела, обстоятельства, любовные похождения.
Нрав, наклонности, умственные способности
Скрытый, замкнутый, необщительный, нелюдимый, «бука», «дичок», «дикарь (рка)», «бирюк».
Искренний, чистосердечный, простосердечный, открытый, откровенный, «душа нараспашку», непосредственный, наивный, простой, простодушный, простак.
Беспристрастный, справедливый, нелицеприятный.
Прямой, прямолинейный, прямодушный.
Льстец, льстивец, ласкатель, «лесть изгибистая» (Судовщиков, «Неслыханное диво»).
Прихлебатель, лизоблюд, подлиза, прихвостень, подхалим, подлипало, низкопоклонник.
Неискренний, двоедушный, криводушный, двуличный, нелицеприятный, лицемерный, фальшивый, двурушник, «и нашим и вашим», лжец, лгун, лгунишка, враль, врунишка, брехун, брехло.
Раболепствовать, пресмыкаться, подделываться, подлаживаться, подлизываться, подмазываться, подхалимничать, низкопоклонничать, лебезить, распластываться.
Хвастун, хвастунишка, похвальбишка, бахвал, самохвал, чехвал.
Сердцеед, дамский угодник, поклонник, повеса, волокита, ветреник, вертопрах, «ветер в голове», вздыхатель, обожатель, женолюб, ходок (Островский, «На бойком месте»), бабник, распутник, развратник, сластолюбец, прелюбодей, блудник, блудодей; юбочник, потаскун, миленок, хахаль (Попов, «Анюта»).
Ветренник (ца), бесстыдник (ца), срамник (ца), срамец, вертихвостка, женщина безнравственная, доступная, непотребная, распутная, развратная, продажная, публичная, падшая, гулящая; девица легкого, сомнительного поведения, сударка, девка (уличная), потаскушка, шкура (барабанная), шкуреха, шлюха, паскуда, тварь, курва, лахудра, блудня.
Мот, транжира.
Расчетливый, прижимистый, жадный, жадина, жадюга, мелочный, алчный, корыстолюбивый, сребролюбивый, сребролюбец, приобретатель, стяжатель, любостяжатель, скупой, скупец, скупердяй, скряга, скопидом, сквалыга, жадюга, скаред, скалдырник, крохобор, жмот, жила, выжига, кулак, живоглот, лихоимец, мздоимец.
Сочувствие, соболезнование, добротолюбие, доброделание, самопожертвование, самоотверженность.
Дружелюбный, добродушный, ласковый, человеколюбивый, любвеобильный, благожелательный, незлобивый, незлопамятный, отходчивый, снисходительный (к людским слабостям), услужливый, обязательный, участливый, отзывчивый, милосердный, милостивый, милостивец, сострадательный, жалостливый, сердечный, мягкосердечный, добрый, добросердечный, сердобольный, душевный, самоотверженный, щедрый, тороватый, бескорыстный, благодетель, добряк, «добрая душа», приветливый, гостеприимный, радушный.
Тихий, мирный, миролюбивый, умиротворяющий, миротворный, смирный, смиренный, кроткий, покорный, послушный, безропотный, безответный, мягкий. «Он казался нрава тихого и скромного …» (Пушкин, «Метель»).
Суровый, строгий, крутой.
Спокойный, уравновешенный.
Раздражительный, сердитый, желчный, «желчевик», гневливый, горячий, «горячка», «порох», вспыльчивый, запальчивый.
Чуткий, чувствительный, восприимчивый, впечатлительный, душевно ранимый, человек с тонкой душевной организацией.
Равнодушный, безучастный, безразличный.
Уступчивый, отходчивый, сговорчивый, покладистый, уживчивый. Задорный, задористый, задиристый, задира, забиячливый, забияка, драчун.
Недобрый человек, холодный, черствый, сухой, «сухарь», бездушный, бессердечный, неумолимый, жесткий, жестокий, жестокосердный, безжалостный, беспощадный, бесчеловечный, злобный, злющий, злюка, злыдень (дня), свирепый, лютый, кровожадный, человеконенавистник, людоед, зверь, неистовый, изверг, изверг естества, изверг рода человеческого, лихой человек, злодей, лиходей, разбойник, душегуб, «… содетель бесчисленных лютейших бед …» (Жуковский, «Добродетель»), «гроза», «бич», «наказание Божие», «исчадие ада».
Тонкость ума, умственное развитие
Умный, «ума палата», благоразумный, рассудительный, трезвый, здравомыслящий, осторожный, осмотрительный, предусмотрительный, проницательный, зоркий, дальновидный, прозорливый, ясновидящий.
Толковый, сметливый, смышленый, понятливый, сообразительный, догадливый, смекалистый, башковитый.
Изворотливый, находчивый, хитроумный, оборотистый, изобретательный, предприимчивый, деловитый, деятельный, деловой, деляга, делец.
Неразумный, неблагоразумный, безрассудный, легкомысленный, рассеянный, забывчивый, несобранный.
Разгильдяй, слюнтяй, ротозей, разиня, шляпа, губошлеп, рохля, недотепа, растяпа, растрепа, тряпка, мямля, «тюфяк», размазня, простофиля, фофан, баба, «юбка» (Гоголь, МД).
Межеумок, недоумок, человек недалекий, недальнего ума, простоватый, тугодум, тупой, тупица, тупоумный, тупоголовый, бестолковый, безалаберный, пустоголовый, пустельга, безголовый, безмозглый, «умом не блещет», полудурье (Островский, «Не было ни гроша, да вдруг алтын»), «звезд с неба не хватает», глупый, глупец, глупыш, дурашка, придурковатый, дурашливый, дурачок, «с придурью», дурак (круглый, набитый, петый, непроходимый), дурень, дурачина, дурья голова, дуреха, дурища, дурак дураком, дурачье (собират.), осел, болван, остолоп, олух (Царя Небесного), оболдуй, балда, оболтус, дубина (стоеросовая), чурбан, полено, бревно, дуботол (ка), «мозги набекрень».
Человек трудолюбивый, преданный своему делу, мастер своего дела, мастеровитый, на все руки мастер; труженик (ница), работяга, «золотые руки»; работать не за страх, а за совесть, без отдыха, без устали, не покладая рук, не разгибая спины, сбиваться с ног, гнуть спину, горб; работа, дело спорится, кипит в руках («Как у дюжей скотницы работа, Дело у весны кипит в руках». – Пастернак, «Март»).
Нерадивый, ленивец, лентяй, лодырь, бездельник, лежебока, байбак, тунеядец, дармоед, шалопай, балбес, лоботряс, пентюх, шалопут, шалберник, шалыган, гультяй, праздношатайка.
Щеголь, франт, лев, шаркун, хлыщ, фат, пшют, ферт, форсун (Шмелев, «Гражданин Уклейкин»).
Спокойный, степенный, уравновешенный, положительный, обстоятельный, хладнокровный, невозмутимый, твердый, волевой, своевольный, своенравный, непокорный, непоколебимый, несгибаемый, неукротимый.
Мужественный, решительный, стойкий, бесстрашный, отважный, смелый, доблестный, смельчак, храбрый, храбрец, удалой, удалец.
Застенчивый, боязливый, несмелый, конфузливый, робкий, опасливый, пугливый, приниженный, пришибленный, угнетенный.
Нерешительный, неуверенный (в себе, в своих силах), малодушный, трусливый, трусоватый.
Неустойчивый, слабонервный, слабохарактерный, слабовольный, безвольный, бесхарактерный, мягкотелый, бесхребетный, бескостный, дряблый, изнеженный.
Человек порядочный, благородный, великодушный, добродетельный, высоконравственный, (безукоризненно) честный, строгих правил, кристально чистый, светлая личность, чистая, святая душа, с возвышенной душой.
Хитрость, плутовство, неверность, коварство, измена, предательство, вероломство, низость, гадость, подлость, пакость.
Хитрец, хитрюга, проныра, пролаза, продувная бестия, плутяга, пройдоха, «хорош гусь», «гусь лапчатый», «червонный валет», «палец в рот не клади», прощелыга; пройда (Лесков, «Жемчужное ожерелье»).
Без правил, негодник, негодяй (ка), мерзавец (вка), подлец, подлянка (арх.), подлюга, сквернавец (вка), тварь, дрянцо, дрянь, поганец (нка), паршивец (вка), паскудник (ца), пакостник, прохвост, гадина, гад, шкура, стервец (ва), мразь, рвань, сволочь, шушера, шушваль, шваль, шантрапа.
Поведение
Соревнование: кто? кого?
Тягаться, угнаться, не отстать, настоять на своем, не уступить, не удасть, не дать спуску, выдержать сравнение, оставить позади, перевесить, взять верх, превзойти, пересилить, осилить, перещеголять, затмить, возобладать, восторжествовать, заткнуть за пояс, дать сто очков вперед, переплюнуть, утереть нос.
Помощь, приют, ласка, строгости
Подаяние, дар, щедроты.
Сделать доброе дело, оказать благодеяние, сделать, явить, оказать, послать, ниспослать милость; доставить удовольствие, сделать одолжение, оказать любезность; осыпать дарами; изливать дары на кого-нибудь; удовлетворить, удовольствоваться; благотворить, ублаготворить; угодить, ублажать, угобзить; вывести из затруднения, из затруднительного положения, протянуть руку помощи, не оставить в беде, выручить из беды, пособить горю, охранить, защитить, оградить, уберечь, оборонить, избавить, заступиться, вступиться за кого-нибудь, спасти.
Облагодетельствовать, покровительствовать, привечать, приютить, обогреть, пригреть, обласкать.
Отчитать, проработать, выговаривать, отругать, распечь, разнести, дать взбучку, головомойку, намылить голову, шею.
Доверие
Отдать кого-нибудь, на чье-нибудь попечение.
Поручить себя или кого-нибудь чьим-нибудь заботам, попечению; вверить кому-нибудь себя, свою или чью-нибудь жизнь, судьбу.
Устное общение
Словоохотливый, красноречивый, речистый, говорливый, разговорчивый, говорун, краснобай.
Болтун, пустомеля, пустозвон, пустобай, пустоболт, пустобрех, суеслов, словоблуд, трещетка, балаболка, «язык без костей».
Неразговорчивый, молчаливый, молчун.
Исходить (излетать) из уст, вертеться на языке, срываться с языка.
Доверить, вверить, поверить, поведать, выдать, открыть, разгласить тайну, посвящать в тайну.
Огласить, предать огласке, обнародовать; сказать, объявить во всеуслышание; довести до (всеобщего) сведения, распустить язык, разблаговестить, раззвонить, трубить, раструбить, трезвонить, растрезвонить.
Узнать стороной, от кого-то, со слов… под рукой, выпытать, разузнать, сведать («…народ, сведав о переходе войска за Оку, денно и нощно молился в храмах». – Карамзин, ИГР), вызнать, прознать, дознаться, выведать, расспросить, выспросить, разведать («Все разведай и поутру Приходи и дай мне знать». – Полонский, «Солнце и Месяц»), проведать, прослышать, доведаться (Лесков, «Обнищеванцы»), выудить.
Излагать, рассказать, пересказать, сообщить, уведомить, осведомить, оповестить, известить, ставить в известность, дать знать. Да будет вам известно, было бы вам известно, к вашему сведению, довожу до вашего сведения, знайте, знаете что…
Изрекать, вещать, разглагольствовать, пуститься в рассуждения, распространяться, разливаться соловьем.
Языком трепать, чесать языки, точить лясы, тараторить, трещать, все уши прожужжать.
Проговориться, сболтнуть, проболтаться, разболтаться, выболтать, все выложить.
Выпалить, ляпнуть, брякнуть, бахнуть, бухнуть.
Распускать, распространять слухи; сплетничать, насплетничать на кого-нибудь, распускать, разносить, переносить, разводить сплетни, судачить, прохаживаться на чей-нибудь счет, пересуживать, перемывать косточки, трепать чье-нибудь имя, злословить.
Толки, пересуды, сплетни, кривотолки.
Ложь, вранье, враки, оговор, наговор.
Сплетники, наушник, шептун, шепотник, злые языки.
Доносчик, доказчик, слухач.
Наговорить на кого-нибудь, оболгать, налгать, наврать, наплести, оговорить, оклеветать, возвести напраслину, поклеп, наклепать, ославить, очернить, обнести кого-нибудь.
Переговариваться, перешептываться, шушукаться.
Говорить колкости, подпускать шпильки.
Перебить, прервать, оборвать, обрезать, срезать, отбрить, одернуть. Между ними завязался разговор.
Встрять, ввязаться, вмешаться (в разговор), вставить слово, ввернуть словечко.
Вызвать на откровенный разговор. Пускаться в откровенности.
Разговор вертелся вокруг последних событий.
«… разговор принял другое направление» (Гончаров, «Обрыв»).
«Кистер… внезапно переменил разговор» (Тургенев, «Бретер»).
«Разговор… скоро переменился…» (Достоевский, «Идиот»).
«…разговор… переходил от одного предмета к другому» (Тургенев, «Андрей Колосов»), перешел на другое.
«Вы не докончили вашей мысли…» (Писемский, «Боярщина»).
«…разговор все более и более оживлялся» (Толстой Л. Н., ВИМ).
«…говорил государь, все более и более воодушевляясь» (Толстой Л. Н., там же).
Разговорились, будто век были знакомы.
Слово за слово, они разговорились.
«Тары да бары…»
«…разговор сделался общим…» (Карамзин, ПРП).
Разговор не клеился, не вязался («Долго не вязался между ними разговор…» – Писемский, «Тюфяк»), оборвался.
Ругательства, угрозы
Разрази тебя гром! Будь ты неладен! Нелегкая тебя побери! Прах тебя возьми! Пропади ты пропадом! Чтоб тебе пусто было! Чтоб тебе ни дна ни покрышки! А, чтоб! Ну тебя! Ну тебя ко всем чертям! «Провал тебя возьми!» (Николаев, «Самолюбивый стихотворец»), «Пострел их побери!» (Судовщиков, «Неслыханное диво»). Пропасти на вас нет! Тьфу, пропасть, фу ты, дьявол! Дьявольщина! Проклятье! А, черт! Черт бы тебя взял, побрал! Уходи подобру-поздорову! Проваливай! Пошел прочь, вон! Убирайся вон! Марш отсюда! Убирайся откуда пришел, на все четыре стороны, пока цел!
Прочь! Прочь с глаз моих! Чтоб духу твоего здесь не было, чтоб ноги твоей здесь больше не было! Не смей попадаться мне на глаза! Лучше на глаза не попадайся!
Тебе говорят? Кому говорят? Я что сказал? Смотри ты у меня! Погоди ты у меня! Ты у меня дождешься! Своих не узнаешь! Со мной не шути! Со мной, брат, шутки плохи!
Восклицания
Полно! Помилуйте! Помилосердствуйте! Опомнитесь! Бог с вами! Что вы! Да будет вам! Да ну вас! Шутить изволите! Пустое! Полно дурачиться, врать! Вот так так! Вот тебе раз! Ну и ну! Нет, каково!
Не тут-то было! Куда! Какое там! Как же, дожидайся! Ну вот еще! Как бы не так! Шалишь! Черта с два! Ишь ты! Дудки! Ну уж это извините!
Не на такого напали! Руки коротки! Какой нашелся! Нашли дурака! Держи карман шире!
Свят, свят, свят! С нами крестная сила! Силы небесные! Господи Боже мой! «Господи, твоя воля!» (Квитко-Основьяненко, «Пан Халявский»). Господи, сохрани и помилуй! Боже правый, милостивый, милосердный!
Речевой обиход
Как я рад, счастлив вас видеть! Как поживаете, живете-можете? Как дела? Как ваше здоровье? «…здорово ли живешь?» (Судовщиков, «Неслыханное диво»), Все ли вы в добром здоровье? Здравствуйте! Мое (нижайшее) почтение! Почет и уважение! Доброго здоровья! Здорово! Наше вам! Прощайте! До скорого (ближайшего, приятного) свидания! Желаю здравствовать! Честь имею кланяться! Будьте здоровы! Всего хорошего, доброго, наилучшего! Всех благ! Счастливо оставаться! Счастливо!
Выражение согласия
Вы правы, это верно, это правда, то правда, и то правда; что правда, то правда, ваша правда («Ваша правда, так надо играть». – Пастернак, «Мейерхольдам»), совершенная правда, справедливо, совершенно справедливо, вот именно, то-то и оно-то, «Истинно и праведно в Писании сказано…» (Чехов, «Хирургия»), воистину и вправду.
Уверения
Уверяю вас, смею вас уверить, можете быть уверены, можете мне поверить, будьте уверены, поверьте, поверите ли, уж вы мне поверьте, ручаюсь головой, даю голову на отсечение.
Повествовательные приемы
Случилось, однако ж, так… Нужно ж было случиться… «Случилось Соловью на шум их прилететь» (Крылов, «Квартет»).
«Как я думала, так и сделала» (Чулков, «Пригожая повариха»).
«…обращаюсь к моему рассказу» (Пушкин, «Станционный смотритель»).
«…оставим Чуба изливать свою досаду и возвратимся к кузнецу…» (Гоголь, «Ночь перед Рождеством»).
«Полагаю, однако ж, не излишним заметить…» (Пушкин, «Гробовщик»; «…не излишним считаю сказать…» – Лесков, «Владычный суд»).
«С этим намерением пришпорил Бруно вороного» (Марлинский, «Замок Венден»); «С такими мыслями подъехал он к роще» (Писемский, «Боярщина»); «В таких мыслях воротился он домой…» (Достоевский, «Идиот»).
«Разговаривая таким образом, они… все-таки продвигались» (Соллогуб В. А., «Тарантас»); «Рассуждая таким образом, мы дошли до террасы» (Достоевский, «Село Степанчиково и его обитатели»).
Борис Любимов Послесловие
В руках у читателя завершение воспоминаний Н. Любимова «Неувядаемый цвет». Как и предыдущие части, третий том писался в разные годы. Завершающие главы, посвященные Церкви, церковному пению и священнослужителям принадлежат к ранним опытам мемуарной прозы Н. Любимова.
Судьба Церкви в эпоху хрущевских гонений – одна из самых мучительных тем жизни Н. Любимова в эти годы. Тем более трудная, что среди его окружения, не считая семьи, почти не было людей, с которыми можно было бы поделиться своей болью. Исключение из союза писателей Пастернака возмутило многих, но закрытие или снос того или иного храма, снятие с работы или арест того или иного священнослужителя не привлекало внимание правозащитников в конце 50-х – начале 60-х годов – таковых, в сущности, и не было. Судьбы Церкви находились вне поля зрения либеральной и прогрессивной интеллигенции того времени, пожалуй, вплоть до публикации «Мастера и Маргариты» и широкого хождения в самиздате очерка А. Солженицына «Пасхальный крестный ход». Рассказать о том, что составляло смысл жизни, доставляло наибольшее наслаждение – о духовной, эстетической, бытовой стороне, казалось бы, навсегда уходящей Церкви, не нужной молодому мыслящему поколению – вот одна из «сверхзадач» ранних мемуарных проб Н. Любимова, завершающих его воспоминания. Если бы меня спросили, что он больше всего в жизни любил, я бы ответил – Церковь и литературу, и после некоторой заминки добавил бы театр.
Центральной фигурой послевоенной литературы для него стал Пастернак, что еще больше усилилось после личного знакомства с ним, и особенно после нобелевской драмы и первой и последней совместной работы: Пастернак перевел «Стойкого принца» Кальдерона для редактируемого Н. Любимовым двухтомника пьес испанского драматурга. Мало кто знает, что Пастернак должен был перевести и три пьесы Лопе де
Вега по инициативе Н. Любимова. Смерть Пастернака не позволила ему, насколько я знаю, даже приступить к этой работе.
Что же касается театра, то увлечен им он был только в юности и молодости. Послевоенный театр он ненавидел всеми силами своей души, за редкими исключениями, а когда с середины 50-х годов туда пришли новые веяния, его, в общем, в театр не потянуло, и он бывал в нем от случая к случаю.
Вообще его воспоминания можно было бы пространственно представить в виде некоей колбы с огромным отверстием, в которое вливаются впечатления детства, отрочества, юности и ранней молодости, почти не входят впечатления зрелости и совсем не входит старость – как раз та часть жизни, которая принесла ему и относительное материальное благополучие, некоторую известность, награды, возможность увидеть если не свет, то по крайней мере, Россию в границах империи от Прибалтики до Улан-Удэ (как это ни парадоксально, но крупнейший переводчик иностранной литературы ни разу в жизни не был западнее Прибалтики). В годы моего детства у нас почти никто не бывал в гостях и из-за нищеты, и из-за чудовищной коммунальной тесноты, и из-за того, что говорить на своем языке можно было с двумя-тремя близкими друзьями – первое новое лицо, которое побывало у нас дома и к которому я был допущен в возрасте лет пяти, был Корней Иванович Чуковский, пришедший поздравить сравнительно молодого литератора с выходом перевода сервантесовского «Дон-Кихота» и предполагаемого выдвижения на Сталинскую премию, не состоявшегося из-за смерти Сталина. С начала 50-х годов он расширил круг знакомств, но не счел нужным описать новых друзей и знакомых столь подробно, сколь близких и родных первых тридцати лет жизни, жизни между двумя мировыми войнами. И уж совсем он не коснулся как мемуарист того, что называется «личной жизнью».
В последнее десятилетие его жизни, когда свободного времени у него было побольше, я много раз приставал к нему с просьбой продолжить воспоминания, захватив и 60-е и 70-е годы. Отец всякий раз уходил даже от обсуждения самой возможности сделать это. Получилось, что быт и бытие первых тридцати-сорока лет его жизни, описаны им достаточно подробно, учитывая его необыкновенную память. Вторая половина жизни отца, в которую сделано всё то, что им сделано, почти не вошла в мир его книги. Я часто думаю о том, что если бы после войны, незадолго до моего рождения или немного позже, его бы арестовали и он сгинул бы в ГУЛАГе, от него бы осталась фраза Багрицкого: «Коля Любимов – славный парень, переводчик Мериме». Несколько пьес Мериме – его ранний опыт, завершенный им еще до ареста, и чудовищные испаноязычные романы, которые он переводил в конце 30-х – начале 40-х годов (недавно я мучительно заставлял себя их читать из сыновнего почтения и невольно думал: «мне и читать-то это противно, какого же было ему переводить!»), вот и всё его «литературное наследство» к сорока годам жизни. Издание «Дон Кихота» в его переводе дало Н. Любимову литературное имя, уважение коллег (впрочем, не только уважение, но и зависть), дало ему с тех пор возможность переводить то, что он хочет за одним исключением – в начале 60-х годов отсутствие возможности работать для души заставило его перевести роман современного французского писателя Армана Лану, отношение к которому он выразил в надписи, сделанной мне:
Нам жизнь велением судьбин На краткий миг дана, Так не читай же, милый сын, Вот этого говнаи как-то приодеть себя и свою семью. Моя первая детская шубка была куплена с «Дон Кихота» (заодно уж процитирую первую надпись на книге, полученную от отца в подарок, когда я был еще дошкольником: «Усердному читателю моих переводов Борису Николаевичу Любимову – от благодарного переводчика. Н. Любимов. Москва. 22.1.1954». Надпись сделана на издании комедии Бомарше «Безумный день или Женитьба Фигаро»).
Перед издателем воспоминаний Н. Любимова стоят и текстологические проблемы. Первый том воспоминаний Н. Любимов успел подготовить к печати сам. Второй и третий приходится готовить издателю. Если книга писалась в течение примерно пятнадцати лет, то на ее доработку ушли следующие пятнадцать лет жизни Н. Любимова. Менялось название книги, композиция, делались вставки его чудовищным почерком, унаследованным от моей бабушки и переданным мне. Отдельные персонажи, эпизоды, реплики то вставлялись в текст, то изымались. Полученное от земляка письмо включалось в текст воспоминаний, требовало комментариев и дополнений.
Кроме того, текст формировался по-разному, в зависимости от разных причин. Опубликованная о писателе статья могла включаться в текст неопубликованных воспоминаний. Напротив – театральные воспоминания, первоначально входившие во второй том, были опубликованы в 1982 году и зажили своей отдельной жизнью (вот почему в настоящем издании они печатаются после основного текста воспоминаний). Текст театральных воспоминаний был напечатан с сокращениями, и далеко не всегда можно определить, где эти сокращения вызваны цензурой внешней или внутренней, а где являются результатом сознательной авторской правки. Не делая попыток опубликовать воспоминания за рубежом, Н. Любимов старался во всех своих статьях 70—80-х годов, будь то о переводе или о русских писателях, вставлять фрагменты из написанных воспоминаний, заживших там своей жизнью. Остается надеяться, что издателю удастся опубликовать и сборник статей Н. Любимова о русских писателях, подготовленный им в начале 90-х годов, но так и не изданный вместе с хранящимися в его архиве неопубликованными статьями. Пока же издатель счел возможным включить в настоящее издание составленный Н. Любимовым для себя «словарь», готовившийся им годами и изданный после его смерти крохотным тиражом.
… Я часто проезжаю мимо дома, в котором прожил первые десять лет своей жизни, посматриваю на окна, за которыми я играл в солдатики, сидя на подоконнике, а в соседней, упомянутой Н. Любимовым одиннадцатиметровой комнатушке, выходящей окном в двор-колодец между двумя домами, с утра до вечера сидел мой отец, переводя Сервантеса, Мольера, Бомарше, Рабле, Шиллера, редактируя Лопе де Вега, под перебранки, мат и драки соседей. В этой квартире, в сущности, и закончилась всё то, что стало темой и сюжетом воспоминаний Н. Любимова. Писал он их уже в других квартирах, в другой трети жизни, которые сами по себе могли бы и заслуживают стать предметом других воспоминаний.
16 апреля 2007 года
Иконы Божией Матери
«Неувядаемый цвет»
Примечания
1
Лежнев А. Современники. Литературно-критические очерки. Круг, 1927.С. 46–47.
(обратно)2
Там же. С. 38.
(обратно)3
Там же. С. 51–52.
(обратно)4
Лежнев А. Об искусстве. М.: ГИХЛ, 1936. С. 12.
(обратно)5
Гумилев Н.С. Письма о русской поэзии. Пг.: Мысль, 1923. С. 159.
(обратно)6
Курсив мой. – Н. Л.
(обратно)7
Первоначальный вариант: «Она разгоралась мгновенной скирдой…».
(обратно)8
Впоследствии строки из «На Страстной»:
И стук рессор и черный флер Весеннего угараПастернак заменил:
И воздух с привкусом просфор И вешнего угара. (обратно)9
Русской песне (франц.).
(обратно)10
Пастернак имеет в виду «Когда на последней неделе…».
(обратно)11
Моей жене.
(обратно)12
Впоследствии Пастернак изменил эту строчку так:
Волненье после шторма… (обратно)13
Милой маме (франц.).
(обратно)14
В письме это слово подчеркнуто.
(обратно)15
Тоже.
(обратно)16
В письме это слово подчеркнуто.
(обратно)17
Тоже.
(обратно)18
Молодая гвардия. 1940. № 5. С. 15–16.
(обратно)19
Пастернак Б. Избранные переводы. М.: Советский писатель, 1990.
(обратно)20
Этого-то мне и надо (франц.).
(обратно)21
Неточная цитата из поэмы В. Л. Пушкина «Опасный сосед».
(обратно)22
В газете слова, данные мною в разрядку, напечатаны жирным шрифтом. – Н. Л.
(обратно)23
В преамбуле к этому решению читаем: «В ряде районов добровольность заменяется принуждением к вступлению в колхозы под угрозой раскулачивания, под угрозой лишения избирательных прав и т. п. В результате в число раскулаченных попадает иногда часть середняков и даже бедняков, причем в некоторых районах процент „раскулаченных“ доходит до 15, а процент лишенных избирательных прав – до 15–20. Наблюдаются факты исключительно грубого, безобразного, преступного обращения с населением со стороны некоторых низовых работников, мародерство, дележка имущества, арест середняков и даже бедняков и т. п.».
(обратно)24
В Богоявленский собор на Елоховской площади.
(обратно)25
Флоренский П. Храмовое действо как синтез искусства // Маковец. № 1. М., 1922.
(обратно)26
Соловьев С. М. История России. Т. 17. Гл. 2.
(обратно)27
Он скончался в Перемышле в 1977 году. Ему был 91 год.
(обратно)28
Ключевский В. О. Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства // Речь на собрании Московской Духовной Академии в память Преподобного Сергия. 1892.
(обратно)29
М. П. Гайдай ошибся: не Чайковский, а Глинка в письме к Булгакову.
(обратно)30
Изд. «Посев», Франкфурт-на-Майне, 1973.
(обратно)31
В голом виде (франц.).
(обратно)32
Гольденвейзер А. Б. Вблизи Толстого. М.: Худож. Лит., 1959.
(обратно)33
Здесь и далее я выделяю курсивом слова, на которых Качалов делал упор.
(обратно)34
Из воспоминаний об А. П. Чехове и Художественном театре. Собрал Л. А. Сулержицкий // Шиповник. Кн. 23. 1914. С. 191.
(обратно)35
Василий Иванович Качалов. М.: Искусство, 1954. С. 24.
(обратно)36
24 апреля 1932 г. Булгаков писал Павлу Сергеевичу Попову: «Топорков играет Мышлаевского первоклассно».
(обратно)37
В этом месте Ершов чуть-чуть отступал от канонического текста пьесы.
(обратно)38
Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. М.: Искусство, 1959. С. 246.
(обратно)39
Григорьев Ап. Критический взгляд на основы, значение и приемы современной критики искусства // Собр. соч. / Под ред. В. Ф. Саводника. Вып. 2. М., 1915. С. 96.
(обратно)40
От реальности к высшей реальности (лат.).
(обратно)41
В дальнейшем сокращено – «Детские годы».
(обратно)42
В дальнейшем – ПРП.
(обратно)43
В дальнейшем – ВИМ.
(обратно)44
В дальнейшем – МД.
(обратно)45
В дальнейшем – ИМС.
(обратно)46
В дальнейшем – ИГР.
(обратно)47
Тургенев, «Андрей Колосов» (перевод выражения Байрона из «Абидосской невесты»).
(обратно)48
«Люди и страсти» (нем.).
(обратно)

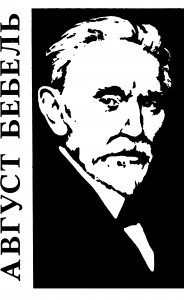


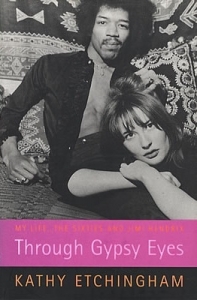


Комментарии к книге «Неувядаемый цвет: книга воспоминаний. Т. 3», Николай Михайлович Любимов
Всего 0 комментариев