Эрнст Юнгер В стальных грозах
От редакции
Издательство приступает к необычному предприятию – изданию серии «Дневники XX века». Культурная ценность этого начинания несомненна: перед читателем предстанет духовная культура и человеческая мысль с ее необычной стороны. Дневники, даже если их создатели и лелеяли в глубине души перспективу последующей публикации, тем не менее несут на себе признаки сокровенности, интимности, искренности, т. е. все те черты, которые в нашем представлении связаны с пониманием подлинности мысли, чувств, переживаний и отношений. А этого как раз и не хватает нашей формализованной и инструментализированной культуре и сплющенной до потребительской одномерности жизни. Но в этом случае редакция обрекает себя на встречу с непредсказуемыми и едва ли всегда разрешимыми трудностями и теоретического, и практического свойства. Если иметь в виду практическую сторону дела, то чего только будет стоить огромная работа по выявлению репертуара дневников и их авторов! Ведь это не тот род литературы, который лежит на поверхности. Дневники и подобные им записи пишутся в скрытности, рукописи хранятся в семейных архивах, в государственных хранилищах, нередко слабо разработанных, в иных, порой случайных и неожиданных местах. Трудно предположить, где их придется искать. Конечно, в первую очередь редакция займется переводом и изданием (или переизданием) тех дневников, мемуаров и произведений других жанров, близких мемуаристике, которые либо вовсе неизвестны российскому читателю, либо в силу различных обстоятельств были давно позабыты или изначально представляли собой библиографическую редкость.
Свой первый выбор мы остановили на знаменитых записках Эрнста Юнгера «В стальных грозах», впервые появившихся в Германии в 1920 г. как переработанные фрагменты дневника участника первой мировой войны и затем многократно там же переизданные, а также переведенные на все основные европейские языки, кроме русского. Надеемся, что эту книгу российский читатель встретит с искренней заинтересованностью, тем более что высокие художественные достоинства и заложенный в записках интеллектуально-эмоциональный комплекс освободили их от неблаготворного воздействия конъюнктуры и времени. Да и личность их автора способна поразить воображение даже тех, кто уже давно привык ничему не удивляться. Достаточно сказать, что, прожив почти 103 года, Э. Юнгер (он умер в 1998 г.) не растерял ни творческой жизни, ни телесных сил к ее воплощению. Кайзеровский офицер, отмеченный высшим орденом Германии, участник фашистского движения, имевший личные контакты с главарями режима и затем отошедший от него настолько, что подозревался в антигитлеровском заговоре 20 июля 1944 г., писатель, произведения которого были запрещены к изданию и распространению в послевоенной Западной Германии, но в конце концов признанный ее центральной культурной и интеллектуальной фигурой, достойной того, чтобы лидеры Европы, включая президентов Франции, Италии, Германии и других стран, почитали долгом и честью выражать ему свое уважение, – разве только этих обстоятельств жизни Э. Юнгера не достаточно, чтобы заинтересовать российского читателя?
Стоит указать и на теоретическую трудность затеваемого дела. Европейская мемуаристика возникла на рубеже XVI–XVII вв. Ее истинный расцвет приходится на XVII столетие, а ее родиной стала Франция. Этому делу, нередко превращавшемуся в подлинное увлечение, отдали дань многие политические и военные деятели, государственные мужи и частные лица, представители клира и миряне. Свои наблюдения оставили нам и люди, наделенные художественным вкусом – и безыскусные простодушные наблюдатели внешних событий и нравов, передавшие свои замечания и мысли незатейливым слогом; люди, склонные к глубокому самоанализу, интересовавшиеся только своим внутренним миром, отразившие тончайшие оттенки своих чувств и самые сокровенные побуждения – и поверхностные фиксаторы событий, люди, безразличные к внутренней стороне своих собственных поступков и еще менее склонные признать таковую у окружающих, кроме грубого своекорыстия, интриги или циничного расчета. Нередко мемуары превращались в многотомные сочинения, где дотошно описывались детали быстротекущего времени, но опускалось главное. Но чаще всего это были небольшие записи, ставшие бесценными историческими памятниками, отразившими жизнь в ее самом существенном отношении. Некоторым мемуарам суждено было стать памятниками высокой литературы, образцами стиля и вершинами национальной словесности.
За протекшие четыре столетия своего существования этот род литературы претерпел существенное изменение. Он возник в обстановке разложения феодального общества, в котором человек был соотнесен прежде всего со своим сословием, родом занятий, происхождением и традицией, – следовательно, выступал в обличье некоей коллективности, представлял групповые ценности, добродетели и достоинства. Он принадлежал им, и только потом уже, и то далеко не всегда, – себе.
На смену этому общественному организму пришел новый порядок жизни, именуемый ныне буржуазным, в котором человек утверждался в первую очередь как индивидуальность, как некая монада, сосредоточенная на своем личном интересе. Это было общество людей, занятых устройством своей собственной жизни, воспринимающих ее как уникальную и абсолютную ценность. Групповое, общественное отходило на второй план, становилось фоном. Внутренний же мир, сотканный из переживаний, надежд, страхов, вожделений, достойных и недостойных поползновений, зависти, ненависти, обид и злорадства, несправедливых пристрастий, раненого самолюбия, неудовлетворенной мести, беспочвенных мечтаний и циничных расчетов, обретал значимость той единственной сферы истинной жизни, в которой совершались самые важные для человека события и процессы.
Во внешней жизни человек лишь утверждал себя, подчиняя себе ее возможности, но она все же оставалась лишь частью, и иногда не самой важной, самореализации человека. Если прежде он апеллировал к внешним факторам для объяснения своих проблем, то теперь, замыкаясь на самом себе, он представал вместе с этим загадкой самому себе. Главной проблемой для человека становился он сам. Мемуары, дневники, письма служили объективированной формой или способом выражения субъективного и сокровенного содержания. Его главным мотивом стал поиск личностью своей идентичности, подлинности, нахождения себя.
У начал этой интимной одиссеи стоял блаженный Августин со своей «Исповедью». Как известно, его напряженный драматичный путь к самому себе завершился успешно. Он нашел себя в благодати, ниспосланной христианским Богом. Но не так благополучно обстоит дело с нашим современником. Предоставленный самому себе, человек в начале своего нового общественного бытия еще ощущал себя частицей какого-то важного общего порядка вещей, носителем некоего космического начала и через капилляры своей индивидуальной духовности стремился проникнуть в смыслы высшего закона жизни. Но с ходом развития общества и культуры, в силу какого-то магического закона эти опыты оказывались все менее удачными. Все чаще человек начинал воспринимать свою индивидуальность, замкнутость, предоставленность самому себе как абсурдность своего бытия. Одиночество, покинутость становились неотвратимым уделом человека нашего времени. Чтобы выразить себя, заявить о себе, о своем присутствии здесь, он вынужден был прибегать ко все более трагическим жестам, одним из которых стало его собственное существование. В результате происходящих сдвигов объективные жанры искусства становились все более субъективными и по форме, и по содержанию.
Если литература становилась исповедальным жанром, обретая нередко структуру и стилистику интимных записок, дневника, то классические формы интимной литературы постепенно деградировали. Тип культуры и способ общественной жизни, формы общения способствуют неуклонному спаду потребности вести дневники, писать письма, иным способом фиксировать свои мысли, чувства, оценки. Современный человек вообще стоит перед перспективой разучиться писать, лишиться уменья изъяснять свои переживания, излагать занимающие его побуждения. Трудно представить себе человека, склонившегося по вечерам над дневниковыми записями. Кто бы он мог быть по своему социальному положению, роду занятий? Досуг пожирает телевизор, письмо заменено телефонным звонком, факсом, в лучшем случае – поздравительной открыткой.
Итак, жанр исповеди, жанр дневника, стал вырождаться. Но до этого за указанные четыре столетия он прошел такой путь развития и филиации, в результате которых возникло бесчисленное количество техник и форм самовыражения в записанном слове. Грани между классическими литературными жанрами и мемуаристикой с их подчеркнутой нелитературностью и повышенным психологизмом становились все более проблематичными и в наше время, пожалуй, стерлись. И в этом – немалая теоретическая трудность нашего предприятия. Удастся ли из необозримого материала выбрать тот, в котором личная судьба и самовыражение стали главным предметом их авторов, который соответствовал бы заявленному намерению издавать мемуарную литературу в точном понимании этого выражения, покажет время. А пока смеем предположить, что читателя будет интересовать судьба нашего ушедшего столетия, представленная в драме личной жизни, в оценке нашего несовершенного современника, зафиксированной в самом драматическом и непосредственно-искреннем по самой сути литературном роде – дневнике и воспоминании.
Эрнст Юнгер: от воображения к метафизике истории Ю. Н. Солонин.
Российскому читателю впервые предоставлена возможность «вживую» воспринять одно из знаменитейших произведений немецкой литературы XX в. Перед ним – «В стальных грозах» Эрнста Юнгера (1895—1998). «Вживую» – потому что в нескольких отечественных изданиях прежних лет по истории немецкой литературы был дан всего лишь некий «коктейль» из литературоведческого анализа и идеологических оценок этого произведения, как и всего творчества его создателя. Причем, как было принято в те годы, суждения представлялись даже без цитирования каких-либо фрагментов. Этим знакомство и ограничивалось.[1]
Эта книга, впервые опубликованная за счет автора в 1920 г., выдержала бесчисленное количество изданий у себя на родине, а затем и почти на всех европейских языках и некоторых азиатских. Трудно объяснить, почему не был сделан ее русский перевод в 20-х годах, когда условия еще не были столь жесткими, ведь до 1923—1924 гг., и даже позднее, в нашей стране появлялись некоторые книги неприемлемых западных писателей и философов. Но в последующем, конечно, не могло быть и речи об издании чего бы то ни было, вышедшего из-под пера Э. Юнгера, поскольку его идеологические и политические позиции, рассмотренные сквозь классово-политическую оптику тех лет, бесспорно должны были быть отнесены к разделу крайне реакционных, а точнее, фашистских.
Нельзя сказать, что для этого не было оснований. Связь с фашизмом была вменена Э. Юнгеру в вину и западными аллиантами, в частности англичанами, настоявшими на запрете изданий его произведений в западных зонах оккупации и даже подвергшими его домашнему аресту, впрочем непродолжительному, сразу же после своего вторжения в Германию. Но настоящей писательской изоляции Э. Юнгера никогда не было, и постепенно популярность его росла как в Германии, так и на Западе вообще. Только в социалистических странах он был неизвестен или, точнее, известен специфически, вне контекста своих сочинений. Впрочем, опираясь на фундаментальный библиографический справочник произведений Э. Юнгера, следует отметить, что рассматриваемая нами книга в 1935 г. была переведена в Польше, а в 1936 г. – в Румынии. Но тогда то были другие страны. Некоторое исключение все-таки составила Румыния, где в 60-е годы были переведены и другие сочинения Э. Юнгера.[2]
Насколько известно, первым художественным произведением Э. Юнгера, появившемся в русском переводе, был его фантастический роман «Гелиополис», по жанру относимый к антиутопиям.[3] Публикацию препровождало эссе, претендующее, помимо обычной скромной цели – дать необходимый минимум надежных сведений о неизвестном авторе, еще и на пересмотр, исправление и истинную оценку дел и личности Э. Юнгера. Безапелляционно развязную манеру эссе можно было бы благодушно не принимать во внимание, отнеся ее к оправданной горячности в деле восстановления попранной истины, если бы не важная деталь: автор эссе считал Э. Юнгера почившим в 1990 г., хотя тот продолжал здравствовать еще целых 8 лет, и не только здравствовать, но и творить. Наконец, «Иностранная литература» недавно дала две последние главки из книги «В стальных грозах».[4] Возможно, это и весь «русский Юнгер». Впрочем, стоит еще указать на справочную литературу философского направления, дающую общую оценку умственной ориентации Юнгера, представленной работами социально-философского жанра[5] и несущей на себе отпечаток изменившейся духовной ситуации в России.
И еще одно вступительное замечание. В 1978 г. в Германии появилось небольшое издание «Книги, которые всколыхнули столетие».[6] Оно представляло собой сборник рецензий, появившихся в разные годы в немецкой прессе как отклик на наиболее значительные явления интеллектуальной жизни. Среди почти трех десятков книг, удостоившихся признания в качестве духовных оснований культуры нашего времени, названа и книга Э. Юнгера «Рабочий. Господство и гештальт» (1932). Нечего и говорить, что ее известность в нашей стране была ничуть не больше, чем предыдущей. Мир переживал и осваивал социальные идеи, которые никак не затрагивали духовную жизнь нашего общества. Сложилась странная картина: некий представитель европейской культуры XX в., создавший по общему признанию шедевр художественной литературы, а затем развивший будоражащую мысль социально-философскую доктрину, оказался недостаточно значительным, чтобы быть удостоенным внимания советского человека. Информационная стерилизация общества, всегда интенсивно переживавшего интеллектуальные продукты мировой духовной культуры, неизбежно должна была породить эффект бумеранга. Он оказался столь сильным, что снес своей силой сам политический режим.
Кто же такой на самом деле Эрнст Юнгер, что собой представляет его художественное и интеллектуальное творчество и какое место в нем принадлежит, в частности, книге «В стальных грозах»? Собственно говоря, отвечая на вторую часть вопроса, мы в значительной мере ответим и на первую, ибо как бы ни были отъединены творения от своих творцов, приобретая свой собственный способ существования, до момента этого расщепления и отчуждения они едины. А для Э. Юнгера это тем более верно, если иметь в виду несомненное единство жизни, мысли и дела, которым была отмечена его личность.
* * *
Годы жизни и деятельности Эрнста Юнгера – это весь XX век. Указанные годы жизни – не ошибка. Он действительно прожил более ста двух лет: родился 29 марта 1895 г. в Гейдельберге и скончался 17 февраля 1998 г. в больнице небольшого швабского городка Ридлинген, недалеко от Штуттгарта. Именно здесь в исключительных по красоте и здоровому климату местах Верхней Швабии прошли последние четыре с небольшим десятилетия его долгой жизни. Летом 1950 г. Э. Юнгер поселяется в маленьком городке, почти деревне, Вильфинген, где в уединении и покое, прерываемых, впрочем, частыми выездами в различные турне и деловые поездки или приездами разного рода и звания гостей, он предавался своим литературным и научным трудам.
Если пометить 1920 г. как начало его творчества, что является, конечно же, не очень точной точкой отсчета, то оно продолжалось едва ли не 78 лет. Удивительный факт! Все, знавшие Э. Юнгера, отмечали необычную витальность его натуры. С годами его умственные способности не ослабевали. Художественное творчество оставалось столь же насыщенным, и его продукты не содержали признаков старческого несовершенства. На склоне более чем почтенных библейских лет он был способен к экспериментаторству и освоению новых литературных жанров. Его мысль была ясной и острой, а средства ее выражения – всегда свежими и точными. Достойно удивления и то, что это была жизнь, не поддерживаемая никакими оздоровительными техниками, целительными процедурами, воздержаниями и диетами, с уклонениями от рискованных контактов и видов деятельности. Первую мировую войну Э. Юнгер провел в окопном сидении, сменяемом яростными атаками, риск смерти был его повседневностью. Не уклонялся он и от радостей жизни, свойственных молодости и непритязательному быту первых трех десятилетий существования. В начале 20-х он пробует на себе действие наркотиков – обычная практика среди людей тогдашнего художественного мира, стремящихся раздвинуть границы опыта и войти в новые духовные состояния. После войны он подвергает себя воздействию знаменитого препарата ЛСД, опять-таки с этой же целью. Но ничто не подорвало заложенных в его организме жизненных сил. В день столетнего юбилея он как обычно курил и вкушал свои любимые вина.
Эрнст Юнгер родился в семье, лишенной избыточных средств существования. Предки его были людьми труда и скромных жизненных притязаний. Вестфалия и Нижняя Саксония, окрестности Ганновера – вот места их исконного обитания. Его дед по отцовской линии Христиан Якоб Фридрих Кламор Юнгер, таково было его полное имя, первый оторвался от семейной традиции ремесленного занятия и сделался учителем арифметики и природоведения младших классов. Ему удалось перебраться в Ганновер и завести пансион, обеспечивший семье скромное, но надежное благополучие. Здесь в 1878 г. родился отец Эрнста Юнгера – Эрнст Георг Юнгер. Ему будущий писатель был обязан больше, чем рождением и обычными родительскими заботами. В нескольких случаях вмешательство отца оказывало решающее и всегда благотворное воздействие на повороты судьбы сына.
Старший Юнгер готовил себя к ученой карьере. Областью его интересов была химия. В Гейдельбергском университете под руководством известного химика Виктора Мейера он защитил докторскую диссертацию. Но в конце XIX столетия в представлении трезвомыслящего бюргерства химия не представлялась сферой, гарантировавшей жизненный успех и обеспеченное существование. По совету практичного отца он решает заняться чем-то более определенным, и таким занятием стало аптечное дело. Отец Юнгера сделался аптекарем, приобретя устойчивую репутацию солидного человека хорошим знанием дела, трезвостью суждений и обязательностью. Что-то из этих фамильных качеств перешло и к сыну, хотя последний в целом был человеком иной жизненной установки.
В произведениях Юнгера, особенно в дневниках и мемуарах, отцу отводится много места. Он предстает человеком, вполне соответствующим требованиям XIX в., века позитивизма, естествознания и трезвой рассудительности. Жизненным идеалом людей того времени было стремление обрести личную и материальную независимость, хорошо отлаженный быт и ясные представления о конечных целях и устремлениях: ничего недостижимого, туманного и не проверенного расчетом. Странным образом некоторые из этих черт отложились в структуре личности и психике Эрнста Юнгера. К ним мы отнесем решительность, некоторую замкнутость, которая воспринималась то как снобизм, то, что более удивительно в применении к потомку мелких бюргеров, как аристократический эстетизм. Любовь к миру природы, увлечение естествознанием, присущие Э. Юнгеру, тоже имеют свои родовые корни.
Отец часто менял места жительства и свои дела, переезжая из одного города в другой. За ним ехала и его все более увеличивающаяся семья. В целом она была дружной и сплоченной. Семейные фотографии Юнгеров уверяют нас в том, что согласие, мир, уважение и, возможно, легкая дружелюбная ирония неразрывно связывали всех ее членов, источающих здоровье и удовлетворение жизнью. Частые переезды имели последствия для Эрнста Юнгера: он не мог закрепиться ни в одной школе, а это, в свою очередь, избавило его от восприятия традиций немецкой школьной системы с ее консерватизмом и отупляющей дрессурой. Он сменил девять (!) учебных заведений, нигде не блеснув успехами.
Эрнст Юнгер родился в Гейдельберге, где его отец завершал свою недолгую научную карьеру. Он был старшим из пяти оставшихся в живых детей. Среди них особо надо выделить Георга Фридриха (1897—1977), также ставшего известным литератором и культур-философом.[7] Братьев связывали не только родственные узы, но и нечто более значительное: единомыслие, конгениальность творческих идей и близость психических типов. Когда родился самый младший из братьев – Вольфганг (в 1908 г.), небо Европы посетила комета Галлея. Отец предсказал, что именно ему выпадет счастье увидеть ее снова. Увы, из всех братьев он умер раньше всех (в 1975 г.), а во второй раз увидеть комету посчастливилось именно Эрнсту, для чего он предпринял специальную поездку на Дальний Восток.
Отец занял в писательской судьбе сына особое место. Он присутствует в его воспоминаниях и парративах как постоянный оппонент. Для Э. Юнгера отец воплощал некоторые принципиальные культур-философские и жизненные принципы не просто прошлого века, но иной культуры, иного мировоззрения, с которыми его сын порвал и в которых не видел смысла. Техника, наука, понимаемая как средство достижения комфорта жизни, орудия преображения мира по меркам житейской целесообразности, какими они воспринимались людьми прошлого века, уже не составляли в интеллектуальном круге нового поколения основания оптимизма. Позитивистская идея прогресса и линейного историзма выглядели наивными атрибутами упрощенного воззрения. Новое мышление творило историзм по канонам, идейные корни которых тонули в смутных глубинах неоромантической философии жизни с ее культом героя, жертвенности, жизни как борьбы, когда личная жизнь не является самой большой ценой, с верой в преображения и перевоплощения, из коих рождается новый мир, но по извечным формам бытия. В основе его лежали принципы «вечного возвращения», органичной целостности истории, существующей не как дурная формальная смена эпох и стадий, а производящей формы бытия в культурных типах. Ее структурируют гештальты, смену которых бессмысленно трактовать в терминах законосообразности и рациональной осмысленности исторического процесса. Отец – это символическая персонификация эпохи, культурного типа, с которыми Юнгер находился в постоянном интеллектуальном диалоге и взаимоотталкивании.
Школьные годы Э. Юнгера (1901—1914) – это время первого структурирования пока еще слаборазвитой психической стороны личности и ее эмоционального выражения. Как уже было сказано, он не блистал усердием и знаниями. В нем рано проснулось чувство личной и духовной независимости, беспокойное стремление к ее утверждению, а также неприязнь к рутине и опосредованному отношению к миру. Жажда нового, необычного, жажда непосредственного вхождения в самую глубину происходящего наполняет его. Это далеко не обычный юношеский романтизм, быстро развивающийся под дуновениями отрезвляющего ветра жизни. Юноша не только творит фиктивный мир фантастической жизни, где главным является приключение, но и пытается жить в нем как в реальности. Он включается в молодежное движение «кочующих птиц» (Wandervogel), распространившееся к началу века по всей Германии. Туристические походы, лагерная жизнь, сопровождаемая непременными атрибутами в виде костра и песен, создали особую, хотя и неглубокую субкультуру приключенческой жизни, которой полностью предался юноша Юнгер. Он дополняет ее чтением, особенно его интересует сказочная и фантастическая литература: книги Майн Рида, Фенимора Купера, сказки Шахерезады, «Дон-Кихот», «Робинзон Крузо», описания путешествий и открытий. Казалось бы, обычный набор юношеского чтения, но все дело было в способе отношения к нему, т. е. к тому содержанию, которое они несли.
У Юнгера оно было самым серьезным. Фантастическое и мистическое он стал воспринимать как коренные свойства реальности, без которых мир неполон. Их он разрабатывал всю свою жизнь, свидетельства чему – и его поэтика, и его философия истории. Следы интенсивных занятий фантастическим миром восточных сказок мы встречаем даже на закате его жизни, например в рассказе «Проблема Аладдина». В монографической повести «Авантюрное сердце» (“Das Abentencrliche Herz”, 1929) мы встречаем самопризнание Юнгера о роли книг в формировании его внутреннего мира. Реальность явно не отвечала воображению юноши.
Несмотря на активное участие в молодежном движении «кочующих птиц», Юнгер оставался духовно одиноким. Возможно, он ощущал условный и временный характер этого движения, не формирующего настоящую жизнь. И он решается на необычный шаг, осмысление которого навсегда останется важной сюжетной и интеллектуальной характеристикой его творчества. Никогда в последующем жизнь и грезы не столкнулись в таком резком противостоянии, как это случилось в течение нескольких недель, последовавших за поступком, отнюдь не имевшим массовых выражений среди немецкого юношества и, однако же, типичным для духовной жизни времени, шедшего под знаком напряженного ожидания срыва, чуда, катастрофического разрешения монотонности бытия. Этому событию в будущем будет посвящено не одно литературное биографическое произведение Э. Юнгера. «Я охотно возвращаюсь мыслями к тому времени незадолго до войны, когда я однажды забросил за ближайший забор свои учебники, чтобы отправиться в Африку», – писал он. Случилось это осенью 1913 г., на пороге окончания школы и получения аттестата зрелости. Юноша переправляется через Рейн, в рекрутской конторе французского города Верден записывается добровольцем в Иностранный легион и через Марсель направляется в Африку, в Алжир.
Почему была выбрана Африка, объяснить не трудно. Открытие Черной Африки – страны, полной загадок, очарования, нетронутой фантастической природы, диковинных растений и зверей, – в Германии последнего десятилетия прошлого века было обычной темой научной и популярной литературы, уличных и семейных разговоров. Был в этой теме и политический мотив. Именно в Африке Германия искала удовлетворения своих запоздалых колониальных претензий. Именно в стране грез, какой только и могла предстать Африка в воображении юноши, он и видел полное воплощение своих идеалов: «Африка была для меня воплощением первобытности, единственно возможной ареной (Schauplatz) для жизни в том формате, в котором я мысленно только и полагал ее вести». Конечно, в его планы не входила служба в Иностранном легионе, – путь его лежал дальше места дислокации казарм. Но реальность оказалась и суровей и сильнее. Предпринятое бегство из казарм не удалось, впереди маячила перспектива безрадостной службы в заброшенном городке среди унылых африканских пустынь и в обстановке ничтожного, одуряющего общения с грубыми сослуживцами.
И здесь сказалась спасительная предприимчивость отца. Он не потерял самообладания, быстро установил место пребывания беглеца и связался с компетентными службами в Берлине, добившись возвращения незадачливого путешественника. Более того, отец настоял на том, чтобы перед возвращением сын сфотографировался на память о своей африканской авантюре в мундире легионера. Карточка сохранилась доныне.
Любопытно, что при совсем других обстоятельствах и при других побудительных мотивах в Алжире в Иностранном легионе почти за четверть века до описываемых событий оказался русский человек Л. О. Лосский, впоследствии знаменитый философ. Это свое приключение и его странности он описал в «Воспоминаниях» (Мюнхен, 1968).
Если Африка и разочаровала Э. Юнгера, то это не сказалось на его отношении к военной службе вообще. Впрочем, в милитаризирующейся Германии тех лет избежать ее было практически невозможно. Военная служба для многих молодых людей была желанным поприщем приложения их честолюбия. Статус военного в общественном сознании стоял выше статуса чиновника и едва ли имел конкурентов. Для Юнгера же особое значение имело отношение к военному делу Ницше. Именно к годам учебы относится первое знакомство Юнгера с сочинениями этого философа, переросшее в нечто большее, чем увлечение. Все началось, кажется, с «Происхождения трагедии», которая открыла Юнгеру мир древнегреческой мифологии. Всей Германии была известна служба Ницше в артиллерии, а также то чувство гордости, которое испытывал он от этого факта своей биографии. Такая санкция военного ремесла стоила многого. И вскоре произошло событие, предоставившее наилучшую возможность испытать прочность едва завязывающихся жизненных убеждений, – наступил август 1914 г.
При рассматривании физиогномического ландшафта XX столетия мы, современники его конца, фатально не принимаем во внимание первую мировую войну, которая в сознании ее участников – вольных и невольных – утверждалась как Великая война. Они – лучше чем мы, удаленные от нее пластами революций, разрух, трагедий лагерей, второй мировой, трагедиями правового террора, националистических войн, ядерных угроз, – ощутили ее пороховой характер. Именно она разорвала культурно-историческую континуальность совершенствования цивилизации и миропорядка. Перейдя по законам формальной хронологии из XIX в XX столетие, европейский человек не ощутил никаких перемен. Он все так же верил в ненарушимость законов развития и совершенствования общественных систем, в расширение сферы господства разумных начал бытия, в нравственное улучшение человеческих отношений, основанных на благоразумии, здоровом эгоизме и сотрудничестве. Науки открывали полезные свойства природы и законы управления ею, изобретения одно за другим создавали удобные улучшения жизни и облегчали труд. Жизнь шла, как хорошо отлаженная машина, что особенно явственно ощущалось в Германии с ее отлаженным бытом. И кого могло особенно волновать то, что иногда происходило среди художников и поэтов, о чем иногда появлялись книги людей-философов, чувства и мысли которых всегда отличались странностями и неуемной страстью к шокирующим сюжетам.
А между тем структуры жизни XIX столетия незримо сбивались с предначертанных им способов движения, группировались в какие-то странные формы, законы которым никакая наука установить не могла. Общественная мысль их не воспринимала. Но именно они питали мысль и воображение тех людей, чьи суждения не принято было считать достойными внимания. Среди них были именно творцы нового искусства, создатели нового философствования, борцы за новый строй жизни. Все они были бунтарями если не по нраву, то по смыслу того, чем они занимались. Крайне не согласные между собой в идеалах, они представляли единство в том, что касалось оценок действительности, осознания катастрофичности разрешения противоречий мира в борьбе, революциях, крушениях и смертях. Они знали, что надвигаются потрясения.
Нежданно нагрянувшая война стала первым звеном в цепи этих потрясений, перевернувших социальный порядок Европы и только таким образом введших ее в новый век. Все самые важные интеллектуальные открытия наступившего века были связаны с этой войной. Именно под ее воздействием социальной философии пришлось отказаться от идеи прогресса, а в сменяющих ее философиях культуры мощно утвердилась логика абсурда жизни, истории и человеческой экзистенции. Первая мировая война во многих отношениях оказалась явлением более значительным, чем вторая, хотя последняя принесла больше разрушений, выявила более глубокие, запредельные глубины падения человека. В этом последнем пункте вторая мировая несомненно дала абсолютный опыт дегуманизации, который еще был не под силу ее предшественнице, – она только начала эксперименты с человеческим материалом. Но лишь после 1945 г. фундаментальный культурный итог истории был подведен словами Т. Адорно: «После Освенцима истории больше не существует». Интеллектуал потерял моральное право мыслить. Другoe дело, что он предпочитал не замечать этого запрета, продолжая поучать и звать.
Из опыта первой мировой войны и в результате нее в социальный мир был введен принцип тотальности: тотальное разрушение, тотальное господство, тотальная идеология, тотальная война и т. д. Здесь не место принимать в расчет тонкие суждения о философской генеалогии этого принципа, имеющих, впрочем, впечатляюще немецкие корни. Без опыта первой великой войны XX в. он бы не вышел из интеллектуальных пробирок европейской философии. Смысл принципа – не в слиянии имеющихся потенций и сил индивида и частных сообществ в единство ради достижения желательного результата, это удел коллективизма, коммунализма, наконец, кооперации. Тоталитаризм состоит в том, что выражающий его принцип захватывает человека целиком с корнями его бытия и извлекает из него те силы, о существовании которых он и не ведал, а их потеря лишает человека его сущностного измерения, переводя их в план инструментального бытия. Именно эта война положила конец рационалистическому оптимизму. И сколько бы раз в течение последующих десятилетий он ни возрождался, он всегда имел несколько рахитичный вид, уродливо выдаваясь какой-то односторонностью, – сциентизмом, технократизмом и пр.
Но вместе с тем закончилась и классическая эпоха буржуазной Европы, родившей этот рационализм с идеей прогресса, организации и эффективного взаимодействия. Констатируя этот факт, все тот же Адорно замечает: «Ужас в том, что у буржуа не нашлось наследника». Здесь имеется в виду исторический, метафизический ужас при осознании того, что социальные парадоксы классического общества распались. Их последовательная смена в исторических трансформациях общества остановилась. Вместе с этим стали меняться социальные основы господства и сам его механизм. Социальная философия и политическая мысль создали квазисоциальных заместителей, легитимирующих господство или идею господства выводить из сферы социальной практики в иные порядки реальности. Здесь уместно обмолвиться о том, что Э. Юнгер был одной из ключевых фигур в этой интеллектуальной работе. Его концепция универсального рабочего (гештальт рабочего), слившего в тотальном единстве все виды своей энергии с преобразованной в мощи техники интеллектуальной силой, стала важным фактором развития социально-философской мысли 30-х годов.
Под впечатлением войны изменилось представление о сущности человека и его месте в универсальном порядке вещей. Реальный в своей повседневности человек перестал интересовать политика, мыслителя, художника. Он стал для них слишком банальным. Литература XIX в. пришла к проблеме «маленького человека». Его частная жизнь, наполненная треволнениями и заботами, состоящая из таких ничтожных, но таких важных событий, стала источником свойственного ей попечительного и сострадательного гуманизма. Новый век отметил свое отношение к обыденному человеку в своеобразной терминологии: «массовый человек». Его культура – массовая, его общение – это массовые коммуникации, через них приходит доступная ему массовая идеология. Истинной философией нового века стал не марксизм (глубокое заблуждение!), а психоанализм с его бесчисленными производными и ответвлениями. Он безапелляционно и с величайшим упорством доказывает насельнику XX в., что все его возвышенные мечты и устремления, все изысканнейшие плоды культуры и художеств, благороднейшие порывы души и сердца суть не что иное, как коренящиеся на первичной энергии эротического переживания сублимации (отклонение и переключение).
Основным подходом к человеку отныне стали его декомпозиция, деконструкция, имеющие установку на разрушение облагораживающей магии возвышенного и нравственного. Их место занимает брутальное и низменное как истинные основы сущности человека. Но потеря интереса к реальному историческому человеку немедленно компенсировалась усиленным вниманием к долженствующему человеку. Европейская мысль энергично пошла по пути специфической педагогической утопии – теории создания нового человека. Он стал объектом попечения всех тотальных идеологий XX столетия, но и гуманизм вне политических рамок уделил этой проблеме немало внимания. Идеал новой личности культивировался и в эстетических салонах, и в кружках вроде окружения Стефана Георге, и в «школе мудрости» культур-философа Г. Кайзерлинга. Мечтания о нем изложил в арийской теории X. С. Чемберлен, к этому же сюжету подойдет в свое время и Э. Юнгер.
Но все эти следствия войны станут реальностью много десятилетий спустя после ее окончания, а в начале августа 1914 г. ее объявление было воспринято как очистительная буря, после которой вновь должны были наступить безмятежные дни спокойной обеспеченной жизни. Необходимо было отстоять великую немецкую культуру, дать отпор варварам, посягающим на ее высшие и нетленные достояния. Энтузиазм охватывает и еще вчерашнего гимназиста Э. Юнгера. Его описанию будут посвящены первые страницы его дневников, а также их литературная версия «В стальных грозах». Известно, что доброволец Э. Юнгер – позже этим же путем пойдет и его младший брат Фридрих – был приписан к 73-му фузильерскому полку, в котором он и провел всю войну, временно покидая его только из-за ранений. О всех обстоятельствах фронтовой жизни мы знаем из многочисленных дневниковых записей Юнгера, обработанных и опубликованных далеко не в полном объеме, а только так, как их представил сам автор.
На фронт прибыл не только восторженный патриот, искатель необыкновенной героической жизни, но и человек, приготовившийся к наблюдению и пониманию происходящего. Первая часть его личности постепенно растворялась и трансформировалась в череде кровавых повседневных трудов и превратностях тяжкой солдатской жизни. Из восторженного юнца получился опытный, отважный окопный боец, у которого храбрость, соединенная с хладнокровным расчетом и дерзостью, сформировала исключительный психический склад, в последующие годы производивший неизгладимое впечатление на всех, кто встречался с Э. Юнгером. Вторая же часть личности, напротив, углублялась и изощрялась. Из простого наблюдателя и фиксатора событий скоро сформировался мыслитель, с удивительной способностью выходящий за пределы беспорядочных импульсов впечатлений и потрясений в сферу объективированных структур переживаний и состояний людей и событий.
На фронт торопились, боясь не успеть к концу войны. «Фронт ждал нас. Тяжело нагруженные, но радостные как в праздничный день, маршировали мы на вокзал. В моем пиджачном кармане находилась маленькая книжечка; она предназначалась для моих ежедневных заметок. Я знал, что вещи, которые нас ожидают, будут неповторимыми, и я направлялся к ним с высочайшим любопытством». Остается удивляться упорству и настойчивости, с какими Э. Юнгер неуклонно, почти изо дня в день делал записи, пристраиваясь в самых неподходящих местах при любых обстоятельствах, едва выдавался миг, позволявший отвлечься от непосредственных солдатских дел. В этом сказалась и фамильная черта и самовоспитующая роль железной воли. Существует свидетельство, что побуждение к ведению фронтовых дневников исходило от отца, который предвидел возможность их последующего использования. Он хранил их, знакомился с их содержанием, обсуждал в письмах к сыну. Известны 14 таких книжек. Именно они легли в основу творчества Э. Юнгера первых двух послевоенных десятилетий, пока новые впечатления существенно их не дезактуализировали.
Развеивание романтического флера войны, ее изнурительные будни не обескуражили юношу. Нам не вполне ясно, имел ли он честолюбивые поползновения. Но думается, что сын аптекаря без основательного военного образования едва ли мог рассчитывать на серьезную военную карьеру. Э. Юнгер ее и не сделал. Войну он закончил в чине лейтенанта. Но и это звание он смог получить, опять-таки последовав благоразумному совету отца пройти краткосрочные курсы младших офицеров. Зато лейтенантом Э. Юнгер был необыкновенным. Войну он провел в северовосточной части Франции в районе Шампани и Лотарингии. Активное участие в боях и окопных стычках стоили ему 14-ти ранений.
* * *
Итак, «В стальных грозах». Первое сочинение никому не известного в литературном мире человека, – новичка в самом точном смысле слова, лишенного всякой литературной выучки. И сразу же удача. В чем ее причина?
Из необозримой литературной массы, художественными средствами осваивавшей, необыкновенный опыт войны и появившейся сразу после ее окончания, лишь очень немногое осталось в памяти нашего века. Художественным вещам повезло больше. Некоторые их создатели в свое время были кумирами. Стоит назвать только имена Э. – М. Ремарка и Э. Хемингуэя, владевших воображением людей моего поколения. Иное дело – мемуарная, хроникальная, документальная и дневниковая литература. Казалось бы, события, переданные в ней с фактической точностью и неподдельной эмоциональностью непосредственного переживания, должны были произвести большее впечатление и тем самым обеспечить этому жанру прочное положение в литературной истории. Однако этого не случилось. Литература этого рода оказалась более подверженной забвению, чем те художественные фикции, которые своим происхождением нередко были обязаны не столько непосредственному опыту их создателей, сколько использованию чужих документальных свидетельств чужих впечатлений, страданий и горестей.
К этому редкому исключению принадлежат и юнгеровские военные дневники. Но дневники ли это? В строгом смысле слова дневниками были те окопные тетради, которые Э. Юнгер вынес вместе со своим фронтовым скарбом. То, что нам известно теперь под несколько претенциозным названием «В стальных грозах», явилось литературной обработкой первичных записей, выборочных событий и их специфической акцентовки. Но даже этих обработок было несколько. Кажется, только фантастический роман «Гелиополис» (1949) да еще «Рабочий» не подвергались правкам и переработкам при их последующих переизданиях. Все остальные свои вещи, готовя их к новому изданию, Э. Юнгер в той или иной мере подвергал правкам. А те из них, которые покоились на дневниковых материалах, нередко представляли собой существенно другие произведения.
Уже второе издание, последовавшее в 1922 г., подверглось переработке, а вышедшее в 1935 г. шестнадцатое (!) издание представляло собой уже четвертую версию первоначального текста.[8] Таким образом, мы имеем перед собою не дневники в точном смысле этого слова, хотя читатель и увидит материал, расположенный в хронологической последовательности и, следовательно, не подвергнутый каким-то формальным внешним ухищрениям, в результате которых порядок событий иногда представляет собой причудливую фантастическую связь или комбинацию смещенных временных блоков. Но эта внешняя незатейливость архитектоники текста от записи первых фронтовых впечатлений новичка в декабре 1914 г. до сдержанно-патетического аккорда последней фразы, представляющей собой телеграмму начальника дивизии, извещающего находящегося в тыловом госпитале автора о присвоении ему высшего ордена Германии, – лишь условная рамка, ибо структура текста держится не на внешней хронологии, а на том внутреннем сцеплении событий, на той эмпирически неуловимой детерминации разворачивающегося деяния, имя которому – война. Подчиняясь ей, люди преображаются, в их душах незримо прорастает смысл их приобщенности к магии неведомого трагического и величественного процесса.
Разгадке этого первого и самого главного в художественном отношении произведения Э. Юнгера посвящено много работ. Росло мастерство Э. Юнгера, накапливался писательский опыт, обреталась большая художническая свобода, в результате которых появились, возможно, более совершенные произведения, но ни одному из них не суждено было потеснить этот первый его шедевр. Исследователи пытались ответить и на вопрос о его жанре. Возможно, в специальном смысле вопрос этот и немаловажен. Но дневниковая форма не должна вводить нас в заблуждение. Э. Юнгер менее всего хотел предстать в роли исторического свидетеля великого события. В столь же малой степени он претендовал на представление психологического портрета участников войны, на проникновение во внутренние психические комплексы людей, для которых убийство и смерть стали их долгом. Наконец, Э. Юнгер не стремился быть и не стал бытописателем фронтовых окопных будней. Именно эта установка обрекла на забвение основную массу авторов военных очерков и воспоминаний. Для тех, кто пережил войну, узнаваемость собственных ощущений в этой литературе была излишней, а переживания, которые они хранили в глубинах своей души и памяти, никем не могли быть воспроизведены ни в своей интенсивности, ни в своей сущности. Интимность и нераскрываемость стали для многих не чем иным, как единственным залогом своей человеческой ценности, значимости и достоинства. Насколько социальная стоимость этих характеристик была ничтожна, настолько они были значимы как основание духовной жизни соответствующей эпохи.
Таким образом, записи о войне человека, занимавшего в ней столь ничтожное место, рисковали быть вообще незамеченными. Но этого не случилось. Они были выделены и вошли в литературную и духовную историю нашего века. И причиной этому была не их историческая достоверность. За дневниковой формой тогдашний, да и нынешний, читатель угадывает совсем иной род произведения, говорящий о чем-то несравненно более существенном, чем индивидуальная судьба фронтового офицера. Эта существенность заключена в некой незримой внутренней ткани, которая угадывается за экспрессивной своеобразной поэтикой юнгеровских записей. Ее мы обозначили как метафизику войны, данную в личном опыте. И если этот личный опыт идентифицирован сотнями тысяч людей, то тем самым признан сущностно верным глубинный смысл их совокупного дела, к которому они были приобщены поневоле, которое существовало в них и через них, распадаясь на бесчисленное множество мелких рутинных поступков и действий, но которое тем не менее подчиняло их и делало исполнителями независимо от их воли. Юнгер эту метафизику еще только угадывает, она не дана ему в полноте своего проявления и еще долго не могла быть в такой же полноте им осознана. Но она насыщала эстетику его произведения и выводила из сферы литературной заурядности.
Говоря о «Стальных грозах», ощущаешь давление какой-то апофатики. Естественнее и легче указывать, чем они не обладают. В них нет морализаторства, докучливой нравоучительности. Они лишены поучений, дотошных анализов правильности командирских решений, суждений о правилах боя, об ошибках и неверных планах, нет, наконец, «социальных выводов» и назидательности. Война уже в прошлом. Но она дана как всегда настоящее событие, поэтому оказываются невозможными оценки, которым мы никогда не верим, ибо они относятся к тому, что уже безразлично к ним как прошлое, и поэтому лишены смысла. Центральной фигурой является сам автор, т. е. Эрнст Юнгер. Но произведение не носит характера размышлений о себе, ностальгических воспоминаний, преломления событий сквозь кристалл личной восприимчивости, хотя все элементы этих признаков дневникового жанра здесь присутствуют. Именно отсюда мы черпаем сведения о некоторых реальных биографических фактах, о семье Эрнста Юнгера; здесь названы реальные лица, описаны реальные события. И тем не менее у нас нет оснований считать автора представителем «субъективного жанра».
В книге нет колорита объяснений, поиска причин, копания в догадках, мусора мелочных наблюдений; автор нашел такую форму бесстрастного отношения к ужасам войны, к факту уничтожения и смерти, что его нельзя обвинить ни в цинизме, ни в безразличии. И это при всем том, что в произведении нет проклятий войне, таких типичных для социального и интеллигентного гуманизма, нет подчеркнутой демонстрации сочувствия или жалости к страдающему человеку. Но нет и апофеоза войны в духе популярного в те годы вульгарного ницшеанства, хотя причины, приведшие Э. Юнгера на фронт, были во многом типичны для восторженной массы его однолеток и современников. Они сменились, но не разочарованием и пессимизмом, обычно следующими за восторженными аффектациями, а некой иной установкой, которую можно было бы назвать установкой «работника войны», если учесть смысл в последующие годы созданной Э. Юнгером интерпретации гештальта, или образа рабочего, в трактате «Рабочий».
В годы, когда Юнгер работал над «Стальными грозами», идея этого гештальта еще только слабо утверждалась в смутных, не всегда четких художественных метафорах и образах. Но она уже не позволяла видеть в войне только социально-политический факт, которого могло бы и не быть. Следует отметить, справедливости ради, что тем не менее улавливается некая эстетизация войны и смерти, некоторое отстраненное безразличие к разрушениям и гибели, которые со временем в более яркой образности предстанут в дневниках периода второй мировой войны. Таким образом, мне представляется, что особенностью юнгеровской установки является выход к объективности через субъективные формы реального существования. Возможно, этим определяется ощущаемый нами внутренний динамизм «Гроз». Он – не в описании хода военных действий, ведущих к поражению Германии. Именно это здесь и не представлено. Динамизм выражается в том, что война, выступая вначале в неразвитых, незрелых начальных формах, постепенно разворачивает свою сущность, подчиняя своей власти и энергии всех действующих лиц по обе стороны линии фронта. Молодые новобранцы, многие из которых пришли на войну любительски, следуя легкомысленным порывам, расстаются с иллюзиями не потому, что война их разочаровывает своей неромантической дегероической сущностью, оказываясь грязным делом, в которое втянули доверчивых простаков прожженные политические игроки, а потому, что она оказывается сущностно иным явлением, постепенно постигаемым срастающимся с ним человеком. Война требует особых качеств и ведет к преображению человека, и он начинает жить и чувствовать совершенно иначе, чем другие люди, которым не открылось чудовищное обаяние войны.
Итак, эта книга представляет собой опыт постижения войны в том ее значении, какого она прежде не имела ни в жизни, ни в истории, ни в сознании людей. Техника становится ее адекватной формой выражения. Индивидуально мотивированный поступок, личный героизм теряют свой смысл, оказываются ненужными.
Название книги несколько вычурное. Но оно же и верное. На ее страницах действительно много железа: пуль, мин, гранат, шрапнели, осколков, другой металлической амуниции. Но «стальные грозы» это нечто большее, чем масса металла, поражающего человека. Это – феноменальность войны в ее наиболее развитой форме, в форме техники. И в отношении к ней человек должен встать в ином обличье своих способностей, чтобы не быть ее невзрачной, недостойной внимания жертвой. Приемлемо ли такое истолкование знаменитой книги – судить ее читателям.
Эрнст Юнгер В стальных грозах
В меловых окопах Шампани
Поезд остановился в Базанкуре, небольшом городке Шампани. Мы высадились. С невольным трепетом вслушивались мы в медлительные такты разворачивающегося маховика фронта, – в мелодию, которой предстояло на долгие годы стать привычной для нас. Где-то далеко по серому декабрьскому небу растекался белый шар шрапнели. Дыхание боя чувствовалось повсюду, вызывая в нас странную дрожь. Знали ли мы, что он поглотит почти всех нас – одного за другим – в дни, когда неясный шум вдали взорвется беспрерывно нарастающим грохотом?
Мы покинули аудитории, парты и верстаки и за краткие недели обучения слились в единую, большую, восторженную массу. Нас, выросших в век надежности, охватила жажда необычайного, жажда большой опасности. Война, как дурман, опьяняла нас. Мы выезжали под дождем цветов, в хмельных мечтаниях о крови и розах. Ведь война обещала нам все: величие, силу, торжество. Таково оно, мужское дело, – возбуждающая схватка пехоты на покрытых цветами, окропленных кровью лугах, думали мы. Нет в мире смерти прекрасней… Ах, только бы не остаться дома, только бы быть сопричастным всему этому!
«В колонны становись!» Разогретая фантазия успокоилась на марше по тяжелой глинистой земле Шампани. Ранец, патроны и оружие давили, как свинец. «Короче шаг! Всем стоять!»
Наконец мы достигли деревни Оренвиль, стоянки 73-го стрелкового полка, – одного из самых жалких селений в той местности: пятидесяти домишек из кирпича или мелового камня у окруженного парком поместья.
Движение по деревенской улице представляло собой для привычного к городскому порядку глаза чуждую картину. Лишь изредка попадались робкие и оборванные жители, повсюду – солдаты в заношенных, потрепанных мундирах, с выдубленными непогодой, большей частью обрамленными бородой лицами. Они еле плелись куда-то либо стояли группками у домов и встречали нас, новичков, шутливыми возгласами. У одних ворот дымилась благоухающая гороховым супом полевая кухня, окруженная дежурными с брякающими котелками. Казалось, жизнь течет здесь замедленней и глуше. Это ощущение еще больше усугублялось видом приходящей в упадок деревни.
Проведя первую ночь в крепком сарае, мы были распределены во дворе замка адъютантом полка, старшим лейтенантом фон Бриксеном. Я был причислен к девятой роте.
Наш первый день на войне не мог пройти, не оставив о себе решающего впечатления. Мы сидели в отведенной нам для постоя школе и завтракали. Вдруг рядом что-то глухо затряслось, а солдаты из всех домов устремились к краю деревни. Мы последовали их примеру, толком не зная зачем. Опять над нами прозвучал особый, прежде никогда не слышанный шелест, потонув затем в ужасающем грохоте. Меня удивило, что люди сбивались на бегу в группы, как перед страшной опасностью. Вообще, все казалось мне немного комичным, как бывает, когда вокруг творятся вещи, тебе самому не вполне понятные.
Вслед за тем на пустынной деревенской улице появились закопченные фигуры, тащившие на брезенте или на перекрещенных руках темные свертки. С угнетающим ощущением нереальности я уставился на залитого кровью человека с перебитой, как-то странно болтающейся на теле ногой, беспрерывно издававшего хриплое «Помогите!», как будто внезапная смерть еще держала его за горло. Его внесли в дом, с которого свисал флаг Красного Креста.
Что же это было? Война выпустила когти и сбросила маску уюта. Это было так загадочно, так безлично… И не то чтобы думалось о враге – таинственном, коварном существе где-то там. Это совершенно новое для нашего опыта событие произвело такое впечатление, что требовались усилия для его связного осмысления. Как будто что-то привиделось средь ясного дня.
Снаряд разорвался вверху у портала замка и швырнул кучу камней и осколков ко входу, как раз когда вспугнутые первыми выстрелами обитатели устремились из арки ворот. Он поразил тринадцать из них, в том числе и маэстро Гебхарда, хорошо памятного мне еще по концертам на променаде в Ганновере. Привязанная лошадь, прежде людей почуявшая опасность, вырвалась на несколько секунд раньше и проскакала, невредимая, во двор замка.
Хотя обстрел мог возобновиться каждую минуту, какое-то властное любопытство тянуло меня к месту несчастья. Недалеко от портала, куда попал снаряд, болталась дощечка, на которой рука какого-то шутника написала слова: «Гиблый уголок». Похоже, замок был уже известен как опасное место. Улица краснела лужами крови, продырявленные каски и ремни лежали вокруг. Тяжелая железная дверь портала была искромсана и изрешечена осколками, тумба была обрызгана кровью. Я чувствовал, что глаза мои как магнитом притягивает к этому зрелищу; глубокая перемена совершалась во мне.
В разговоре с товарищами я заметил, что этот эпизод многим сильно поубавил воинского энтузиазма. О том, что он подействовал и на меня, говорили многочисленные ошибки слуха, заставлявшие меня принимать громыхание каждой проезжавшей мимо повозки за роковой звук злосчастной гранаты.
Впрочем, это вздрагивание при каждом внезапном и неожиданном звуке сопровождало нас потом всю войну. Катился ли мимо поезд, падала ли книга на пол, раздавался ли ночной крик – сердце сразу замирало в ощущении большой неведомой опасности. Это было знаком того, что человек четыре года провел под боевым пологом смерти. Ощущение это так глубоко проникло в темную область, лежащую за гранью сознания, что при всяком нарушении обыденности смерть словно выскакивала в окошечко, подобно тем механизмам, где изображающий предостережение привратник регулярно появляется над циферблатом с песочными часами и серпом в руках.
Вечером того же дня наступил долгожданный момент, когда мы, тяжело нагруженные, двинулись на боевые позиции. Через торчащие в таинственном полумраке развалины деревни Бетрикур путь вел нас к одинокому, запрятанному в еловой чаще охотничьему домику, «фазаннику», где находился резерв полка, к которому вплоть до этой ночи была приписана девятая рота. Ее командиром был лейтенант Брамс.
Нас приняли, распределили по отделениям, и мы очутились в кругу бородатых, покрытых засохшей глиной парней, приветствовавших нас с известной долей иронии, но дружелюбно. Нас расспрашивали о том, что слышно в Ганновере и не пора ли уже войне идти к концу. Затем разговор, однообразный и скупой, но которому мы жадно внимали, вертелся вокруг траншей, полевой кухни, линии укреплений, гранатного боя и прочих предметов позиционной войны.
Спустя какое-то время перед дверью нашего похожего на хижину пристанища раздался крик: «Выступать!» Мы разобрались по отделениям, и по команде «заряжай, на предохранитель ставь!» я с тайным сладострастьем вогнал обойму боевых патронов в магазин.
Потом за рядом ряд, наступая на гряды, молча шли вперед по ночному, усеянному пятнами леса ландшафту. Иногда раздавался одиночный выстрел или вспыхивала с шипением ракета, чтобы, призрачно и кратко осветив мир вокруг, погрузить его в еще большую темноту. Слышалось монотонное звяканье оружия и шанцевого инструмента, прерываемое предупреждением: «Внимание, проволока!»
Затем – звон падения и проклятья: «Черт! Не разевай пасть, крутом воронки!» Вмешался капрал: «Тихо, дьявол вас забери! Думаете, у француза дерьмо в ушах?» Заторопились вперед. Неизвестность ночи, мигание сигнальных ракет, полыхание ружейного огня вызывают возбуждение, которое странно бодрит. Изредка прохладно и тонко около уха пропоет шальная пуля, чтобы затеряться в пространстве. Как часто после этого первого раза в полумеланхолическом, полувозбужденном состоянии шагал я по вымершим ландшафтам к передовой!
Наконец мы скрылись в одной из траншей, белыми змеями вившихся в ночной темноте к позиции. Там я очутился вдруг между двух поперечин. Одинокий и замерзший, я напряженно уставился на ряд сложенных перед окопом елок, в которых фантазия рисовала мне всякого рода обманчивые призраки, тогда как какая-то заблудшая пуля проскакивала сквозь ветки и пролетала, щебеча, дальше. Единственным разнообразием в это бесконечно длившееся время стало то, что за мной зашел один из товарищей постарше и мы с ним неловко пробирались по узкому, длинному ходу на форпост, где опять-таки обозревали лежащую перед нами местность. На два часа нам позволили забыться усталым сном в холодной меловой норе. Когда засерело утро, я оказался таким же бледным и вымазанным глиной, как и прочие, как будто я уже долгие месяцы вел эту кротовью жизнь.
Позиция полка тянулась по меловой поверхности Шампани против деревни Ле-Года. Справа она прислонялась к растерзанному леску – все, что осталось после гранатного боя, далее шла зигзагами по гигантским полям сахарной свеклы, откуда торчали красные штаны убитых в атаке французов, и кончалась руслом ручья, через который во время ночных вылазок поддерживалась связь с 74-м полком. Шумел ручей, проходя через плотину разрушенной, окруженной сумрачными деревьями мельницы. В его водах уже несколько месяцев лежали мертвецы французского колониального полка с лицами, будто из почерневшего пергамента. Неприятное место, когда луна ночами бросала сквозь разорванные облака неверные тени, а в бормотание воды и шум тростника, казалось, вмешивались странные звуки.
Служба была самой напряженной, какую только можно себе представить. Жизнь начиналась с ранним рассветом, когда весь состав уже должен был стоять в траншее. С десяти часов вечера до шести часов утра разрешалось спать одновременно двум человекам от отделения, – таким образом, каждому доставалось по два часа ночного сна. Хотя обычно из-за ранней побудки, поисков соломы и других дел он длился всего несколько минут.
Постовые находились либо в окопе, либо забирались в многочисленные норы, связанные с позицией прорытыми длинными ходами сообщения; своеобразная охрана, из-за ее опасного положения в ходе позиционной войны вскоре отмененная.
Эти бесконечные, ужасно изнуряющие ночные дежурства в ясную погоду и даже в мороз были еще сносны, но они становились мучительными, если, как обычно в январе, шел дождь. Когда сырость проникала сперва сквозь натянутый над головой брезент, затем под шинель и мундир и часами стекала по телу, мы впадали в такую тоску, что ее не мог облегчить даже шлепающий звук шагов приближающейся смены. Утренние сумерки освещали изнуренные, измазанные мелом фигуры, которые, стуча зубами и с бледными лицами, падали на гнилую солому протекающих блиндажей. Эти блиндажи! То были прорытые в мелу, открытые в сторону окопов норы, с нарами из досок, присыпанные горстью земли. После дождей в них капало еще много дней спустя. Наверняка, это черный юмор снабдил их соответствующими табличками: «сталактитовая пещера», «мужская баня» и тому подобное. Пытавшимся обрести в них отдых приходилось высовывать ноги в траншею в качестве неминуемого капкана для проходящих. При таких обстоятельствах о сне днем, конечно, не могло быть и речи. Кроме того, надо было два часа отстоять на дневном посту, чистить траншею, носить еду, кофе, воду и всякое другое.
Понятно, что эта бесприютная жизнь оказалась для нас очень суровой, особенно потому, что большинству из нас настоящая работа была до сих пор известна только понаслышке. К тому же нельзя сказать, чтобы нас здесь встретили с той радостью, на какую мы рассчитывали. Старослужащие, скорее, пользовались всяким случаем взять нас в форменный оборот, и всякое тягостное или внезапное поручение само собой доставалось новичкам. Этот пришедший на войну еще из казармы и не улучшавший нашего настроения обычай исчезал, впрочем, после первого же совместного боя, когда мы сами уже считали себя старослужащими.
Время, пока рота находилась в резерве, не было особенно уютным. Мы стояли тогда в «фазаннике» или в роще Иллер в покрытых еловыми ветками землянках, чья пропитанная туманом земля хотя бы излучала приятное тепло испарений. Иногда приходилось просыпаться в луже на дюйм глубиной. И хотя я до тех пор только понаслышке знал, что такое ломота, уже через несколько дней этой всепроникающей влаги чувствовал боль во всех суставах. Во сне было ощущение, будто железные пули бродят по всему телу. Ночи же служили не для сна: их использовали для углубления многочисленных ходов между окопами. В полнейшей тьме, если не светил француз, приходилось с упорством сомнамбулы следовать по пятам копающего впереди, – только бы не было отрыва и затем часами длившегося блуждания в лабиринте окопов. Землю, впрочем, копать было легко: за тонким слоем глины и перегноя прятался мощный пласт мела, мягкую структуру которого кирка прорезала без труда. Иногда выскакивали зеленые искры, – это сталь натыкалась на попадавшиеся в камне кристаллы железного колчедана величиной с кулак. То были сросшиеся в шар кубики, сверкавшие при ударе золотым блеском.
Лучом света в этом скудном однообразии было ежевечернее прибытие к краю рощи полевой кухни, от которой при открывании котла распространялся сытный дух гороха с салом и прочих чудесных вещей. Однако и здесь имелось свое темное пятно, – сушеные овощи, которые разочарованные гурманы обзывали «колючкой» или «потравой полей».
В своем дневнике от 6 января я нахожу такое замечание: «Вечером притащилась кухня и привезла «поросячье пойло» из застывшей репы». Четырнадцатого числа, напротив, возбужденный клик: «Сытный гороховый суп! Четыре порции до отвала! Болел живот от сытости. Ели на спор. Обсуждалось, в каком положении можно больше натолкать. Я был за стоячее».
В изобилии раздавали розоватый шнапс, наливаемый в крышки котелков. Он отдавал спиртом, однако в холодную сырую погоду был в самый раз. Табак также шел крепких сортов, но по норме. Образом солдата тех дней, каким его запечатлела моя память, был часовой, стоявший у амбразуры в остроконечной серой каске, со сжатыми кулаками в карманах длинной шинели, пыхающий своей трубкой над ружейным прикладом.
Лучше всего были выходные дни в Оренвиле, когда мы отсыпались, чистили вещи и занимались учениями. Рота стояла в крепком сарае, входом и выходом из него служили похожие на куриный насест лестницы. Хотя помещение было набито соломой, в нем стояли печи. Как-то ночью я подкатился к одной из них и проснулся лишь благодаря усилиям энергично тушивших меня товарищей. К своему ужасу я обнаружил, что мой мундир сильно обуглился сзади, так что долгое время пришлось разгуливать в костюме на манер фрака.
Короткое пребывание в полку основательно лишило нас иллюзий, в которых мы выросли. Вместо ожидаемых опасностей были грязь, работа и бессонные ночи, для преодоления коих требовался тот род мужества, к которому мы были мало расположены. Еще хуже была скука, для солдат более убийственная, чем смерть.
Мы с надеждой ждали атаки, выбрав, однако, для нашего здесь появления самое неудачное время: всякое движение на фронте прекратилось. Мелкие тактические действия проводились лишь в той мере, в какой служили расширению позиций или наращиванию огневой мощи обороны. За несколько недель до нашего прибытия некая рота после слабой артподготовки отважилась на одну из таких локальных атак на отрезке в какие-то сто метров. Французы угробили нападающих, из которых лишь единицы добрались до своих проволочных заграждений. Несколько оставшихся в живых пережидали ночь, прячась в ямах, чтобы под защитой темноты вернуться на исходные позиции.
Постоянное людское перенапряжение объяснялось еще и тем, что ведение позиционной войны, требовавшей сил на устройство быта в других условиях, было для нас вещью новой и неожиданной. Великое множество постов и непрерывные земляные работы в большинстве своем были не нужны и даже вредны. Не в мощных укреплениях было дело, а в силе духа и бодрости людей, стоявших за ними. Постоянное углубление траншей, может, и уберегло чью-то голову от выстрела, но в то же время, однако, создавало зависимость от защитных сооружений и привычку оставаться в безопасности, от которой потом было трудно отказаться. Усилия, направленные на поддержание укреплений в должном порядке, все увеличивались, но самым неприятным было наступление оттепели, превращавшее схваченные морозом меловые стенки траншей в бесформенное месиво.
Правда, мы слышали в окопах свист пуль, пару раз получили несколько снарядов из реймских фортов, но эти мелкие военные происшествия далеко не оправдывали наших ожиданий. Впрочем, таившаяся за этими незначительными событиями кровавая действительность иногда давала о себе знать. Так, 8 января в «фазанник» попал снаряд и убил батальонного адъютанта, лейтенанта Шмидта. Говорили, что командир артиллерии французов, руководивший обстрелом, будто бы оказался владельцем этого охотничьего домика.
Артиллерия стояла сразу же за позициями, даже на передовую линию было выдвинуто боевое орудие, заботливо упрятанное под брезент. Разговаривая с «пушкарями», я услышал, к своему удивлению, что свист пуль беспокоил их гораздо сильнее, чем попадание снаряда. Так всегда: опасности собственной профессии воспринимаются более спокойно и кажутся менее страшными.
К началу 27 января с двенадцатым ударом в полночь мы трижды прокричали мощное «ура!» в честь нашего кайзера и по всему фронту, сопровождаемые неприятельскими орудиями, запели «Славься ты в венце победы…».
В эти дни случилось неприятное событие, чуть было не приведшее мою военную карьеру к преждевременному бесславному концу. Рота находилась на левом фланге; утром после бессонной ночи мне пришлось отправиться вдвоем с товарищем на пост. Из-за холода я накинул на голову одеяло, что было запрещено, и прислонился к дереву, поставив винтовку в кусты. Услышав внезапно шум сзади, я хватился винтовки, – она исчезла! Дежурный офицер подкрался ко мне и потихоньку вытянул ружье. В качестве наказания он самовластно послал меня, вооруженного лишь киркой, в сторону французской линии постов, метров на сто вперед, – детская затея, едва не стоившая мне жизни. Как раз во время этого нелепого наказания группа из трех волонтеров проползала широкой полосой камыша у края ручья и так неосторожно шуршала в высоких зарослях, что сразу была замечена французами и обстреляна. В одного из них – его звали Ланг – попали, и мы никогда его больше не видели. Поскольку я находился совсем близко, известная часть общего залпа, нередко применяемого в то время, пришлась и на меня; ветки ивы, у которой я стоял, хлестали меня по лицу. Я стиснул зубы и из упрямства не двигался с места. Меня забрали с наступлением сумерек.
Мы от души радовались, когда нам сообщили, что мы окончательно покидаем эту позицию, и отпраздновали наше прощание с Оренвилем в большом сарае крепким пивом. 4 февраля 1915 года, после подмены нас Саксонским полком, мы вышли на Базанкур.
От Базанкура до Гаттоншателя
В Базанкуре, пустынном городке Шампани, роту разместили в школе, которая стараниями наших людей, одержимых любовью к порядку, за короткое время приобрела вид мирной казармы. Был там и дежурный унтер-офицер, будивший всех по утрам минута в минуту, и дневальный, и ежевечерние поверки, устраиваемые ротными командирами. Каждое утро роты отправлялись на окрестные пустыри, где усердно занимались строевой подготовкой. Через несколько дней я был освобожден от этой службы, – мой полк послал меня в военную школу в Рекувранс.
Рекувранс – укромная, окруженная ласкающими взор меловыми холмами деревенька, куда со всех полков нашей дивизии съехались молодые люди, чтобы пройти основательную подготовку под руководством специально подобранных для этого офицеров и унтер-офицеров. Мы, из 73-го, многим в этом смысле были обязаны исключительным дарованиям лейтенанта Хоппе.
Жизнь в этом заброшенном местечке слагалась из странной смеси казарменной муштры и академической свободы; свобода объяснялась тем, что большая часть команды всего несколько месяцев тому назад еще населяла аудитории и кафедры немецких университетов. Днем воспитанников шлифовали по всем правилам военного искусства, а вечером они вместе со своими наставниками собирались вокруг огромных, доставленных из маркитантской лавки Монкорне бочек, чтобы столь же основательно покутить. Когда разные подразделения под утро высыпали из пивных, меловые домики казались соучастниками студенческого вальпургиева действа. Начальник наших курсов, капитан, имел при этом педагогическое обыкновение гонять нас в последующие дни с удвоенным рвением. Как-то раз мы без перерыва прошагали 48 часов подряд, и вот почему: мы почитали своей обязанностью провожать нашего капитана до самой квартиры. В один прекрасный вечер это важное поручение было доверено мертвецки пьяному парню, который всегда напоминал мне магистра Лаукхарда. Он вскоре вернулся и, сияя от радости, доложил, что вместо постели доставил «старика» в конюшню.
Наказание не замедлило последовать. Едва мы добрались до своих квартир и начали было уже укладываться на покой, как в местной охране забили тревогу. Ругаясь последними словами, мы застегнули ремни и помчались на плац. Старик уже стоял там в наисквернейшем расположении духа и развивал бурную деятельность. Он приветствовал нас возгласом: «Пожар! Горит охрана!»
На глазах у изумленных жителей из пакгауза выкатили брандспойт, привинтили шланг и затопили здание охраны искусно выбрасываемыми струями воды. На каменных ступенях лестницы стоял наш старик, все более распаляясь, командуя операцией и выкриками сверху подстрекая всех к неустанной деятельности. Иногда он обрушивал свой гнев на какого-нибудь солдата или местного жителя, особенно его раздражавшего, и отдавал приказ немедленно его увести. Несчастных тут же оттаскивали за соседний дом, убирая подальше с глаз. На рассвете мы все еще стояли, едва держась на ногах, рядом с водокачкой. Наконец нам позволено было уйти, чтобы приготовиться к экзерцициям.
Когда мы прибыли на строевой плац, старик был уже на месте, гладковыбритый, свежий и бодрый, дабы с особым жаром приняться за нашу тренировку.
Отношения между нами были исключительно товарищескими. Я завязал тесное знакомство, которое еще больше укрепилось в боях, с такими замечательными молодыми людьми, как Клемент, павший при Монши, или художник Теббе, павший при Камбре, или же братья Штейфорт, погибшие на Сомме.
Мы жили по трое или четверо и вели общее хозяйство. С особенным удовольствием вспоминаю я наш ежевечерний ужин, состоявший из яичницы и жареной картошки. По воскресеньям мы баловали себя местным кушаньем – крольчатиной или цыпленком. Однажды хозяйка, поскольку продукты для ужина закупал я, выложила передо мной целую пачку бон, которые оставила ей реквизирующая команда. Это были настоящие блестки народного юмора: например, как стрелок такой-то, оказав знаки внимания дочери такого-то семейства, реквизировал у них для поддержания мужской силы 12 яиц.
Жители удивлялись, что мы, простые солдаты, довольно бегло говорили по-французски. Иногда из-за этого случались забавные истории. Так, однажды мы с Клементом сидели у деревенского цирюльника и кто-то из очереди, обратясь к цирюльнику, который как раз обрабатывал Клемента, сказал на глухом диалекте шампанских крестьян: “Eh, coupe la gorge avec!”,[9] проведя ребром ладони по своей шее.
К его ужасу Клемент невозмутимо ответил: “Quant a moi, j'aimerais mieux la garder”,[10] тем самым выказав самообладание, подобающее воину.
В середине февраля мы, из 73-го, неожиданно получили известие о значительных потерях у Перта и сокрушались, что не были в эти дни вместе с товарищами. Ожесточенная оборона нашего полкового подразделения в «котле ведьмы» принесла нам почетное наименование «львы Перта», сопровождавшее нас на всех участках Западного фронта. Кроме того, мы были знамениты и как «гибралтарцы», благодаря голубой повязке, которую мы носили в память о нашем предшественнике, Ганноверском Гвардейском полке, оборонявшем эту крепость с 1779 по 1783 год от французов и испанцев.
Весть о несчастье застала нас среди ночи, когда мы бражничали, как обычно, под председательством лейтенанта Хоппе. Один из бражников, длинный Беренс – тот самый, что выгрузил старика в конюшне, – оправившись от первого шока, хотел уйти, «так как пиво потеряло для него всякий вкус». Однако Хоппе остановил его, заметив, что это не в солдатских правилах. Хоппе был прав: сам он через несколько недель погиб при Лез-Эпарже перед линией обороны своей роты.
21 марта, после небольшого экзамена, мы вернулись в полк, снова расположившийся в Базанкуре. К тому времени он, после торжественного парада и прощальной речи генерала фон Эммиха, отсоединился от частей десятого корпуса. 24 марта мы перебазировались в окрестности Брюсселя, где вместе с 76-м и 164-м полками составили 111-ю пехотную дивизию, в частях которой и прослужили до конца войны.
Наш батальон расселили в городке Эринн, среди по-фламандски уютного ландшафта. 29 марта я совсем неплохо отпраздновал здесь свой двадцатый день рождения.
Несмотря на то что у бельгийцев в домах хватало места, нашу роту, из соображений какой-то ложной осмотрительности, засунули в большой, со всех сторон продуваемый сарай, по которому в холодные мартовские ночи со свистом гулял резкий морской ветер.
В остальном же пребывание в Эринне было для нас отдохновением; хоть гоняли и часто, но довольствие было хорошим и продукты можно было купить задешево.
Жители, наполовину состоявшие из фламандцев, наполовину же из валлонцев, относились к нам с большим радушием. Я частенько беседовал с владельцем кабачка, истовым социалистом и вольнодумцем, сорт которых в Бельгии совершенно особый. В пасхальное воскресенье он пригласил меня на праздничный обед, даже не подумав взять с меня плату за напитки. Вскоре мы все перезнакомились и в свободные вечера кочевали по хуторам, разбросанным по всей округе, чтобы в кухнях, вычищенных до блеска, посидеть у низеньких печек, на круглой плите которых помещался большой кофейник. Говорили по-фламандски и нижнесаксонски.
К концу нашего пребывания погода установилась прекрасная, она завлекала на прогулки по очаровательным, прорезанным многочисленными ручейками окрестностям. Ландшафт, украшенный распустившимися за ночь желтыми калужницами, живописно дополняли раздетые догола солдаты, которые, положив белье на колени и расположившись по обоим берегам обрамленного тополями ручья, с усердием предавались ловле вшей. Будучи до поры до времени избавлен от этой напасти, я помогал своему ротному товарищу Припке, гамбургскому коммивояжеру, запихивать тяжелый камень в его шерстяную жилетку, населенную так же густо, как некогда платье затейливого Симплициссимуса, для верности отправляя ее в ручей. Поскольку мы внезапно оставили Эринн, то жилетка эта, должно быть, сгнила там себе преспокойно.
12 апреля 1915 года мы перебазировались и для обмена шпионами направились кружным путем через северное крыло фронта в окрестности поля боя при Марс-ла-Туре. Рота заняла привычную для нее квартиру-сарай в деревне Тронвиль – скучном, составленном из каменных коробок с плоскими крышами и без окон, типичном для Лотарингии захолустном местечке.
Из-за воздушных налетов мы большей частью оставались в густонаселенном месте, но все же изредка выезжали в знаменитые, расположенные поблизости города Марс-ла-Тур и Гравелотт. В каких-то ста метрах от деревни шоссе, ведущее в Гравелотт, было перекрыто заграждением, рядом с которым валялся разбитый французский пограничный столб. По вечерам мы часто доставляли себе мучительное удовольствие, совершая прогулки в Германию.
Наш сарай был таким ветхим, что мы с трудом удерживали равновесие, чтобы не провалиться сквозь прогнившие доски на гумно. Как-то вечером, когда наша группа под председательством благодушного капрала Керкхофа, стоя у яслей, занималась раздачей пищи, от балочного перекрытия отвалилась огромная дубовая чурка и с грохотом полетела вниз. К счастью, она застряла над нашими головами между двумя глинобитными стенками. Мы отделались испугом, только наша добрая порция мяса оказалась под грудой взметнувшегося вверх и осевшего мусора. Едва мы после этого дурного предзнаменования заползли в свою солому, как раздался грохочущий стук в ворота, и голос фельдфебеля, возвещающий тревогу, сорвал нас с постели. Сначала, как всегда в таких случаях, – мгновение тишины, а затем – полная суматоха и ругань: «Куда подевалась моя каска? Где вещмешок? Пропали сапоги! Кто спер мои патроны? Эй, ты, Август, заткни глотку!»
Наконец все было готово, и мы маршем отправились на вокзал в Шамбле, откуда через несколько минут отъехали на поезде, шедшем в Паньи-сюр-Мозель. На рассвете взобрались на Мозельские высоты и остановились в Прени, – очаровательной горной деревушке, над которой высились остатки крепости. На этот раз наш сарай оказался каменным строением, набитым душистым сеном из горных трав, сквозь его щели мы могли любоваться виноградниками на склонах Мозельских гор и городком Паньи, расположенным в долине и часто простреливаемым. Иногда снаряды рвались прямо в Мозеле, вздымая водяные столбы высотою с башню.
Теплая весенняя погода действовала на нас поистине оживляюще и в свободные часы побуждала к долгим прогулкам по великолепной холмистой местности. Мы пребывали в таком приподнятом настроении, что перед тем как отправиться на покой, успевали еще вдоволь потешиться. Одной из наших любимых шуток было вливать в рот храпунам воду или кофе из походной фляги.
Вечером 22 апреля мы выступили из Прени, прошли более тридцати километров до деревни Гаттоншатель, не имея, несмотря на тяжелое снаряжение, ни одного отставшего на марше, и справа от знаменитой Гранд-Транше, прямо в лесу, разбили палатки. По всем признакам, на следующий день намечалось сражение. Нам раздали индивидуальные пакеты, дополнительные мясные консервы и сигнальные флажки для артиллерии.
Вечером я еще долго сидел на пеньке, окруженном пышно цветущими синими анемонами, полный предчувствий, знакомых солдатам всех времен, пока не пробрался по рядам спящих товарищей к своей палатке, а ночью мне снились сумбурные сны, в которых главную роль играла мертвая голова.
Наутро я об этом рассказал Припке, и он выразил надежду, что череп принадлежал французу.
Лез-Эпарж
Молодая зелень леса поблескивала в лучах утреннего солнца. Мы пробирались потайными тропами по направлению к узкому ущелью за передовой линией. Было объявлено, что после артподготовки 76-й полк пойдет на двадцатиминутный штурм, а мы должны стоять наготове в качестве резерва. Ровно в 12 часов наша артиллерия открыла яростный огонь, многократным эхом отдававшийся в лесных ущельях. Впервые мы услышали это тяжеловесное слово: ураганный огонь. Мы сидели на ранцах, бездеятельные и возбужденные. Посыльный бросился к ротному командиру. В спешке доложил: «Первые три окопа наши, захвачено шесть орудий!» Как молния вспыхнуло «ура!» Явилось бесшабашное настроение.
Наконец прибыл долгожданный приказ. Длинной шеренгой мы потянулись на передовую, откуда доносилось неясное потрескивание ружейных выстрелов. Дело принимало серьезный оборот. Со стороны лесной тропы, в ельнике, слышался рокот глухих ударов, ветки и земля с шумом срывались вниз. Кто-то, струсив, под принужденные смешки товарищей бросился на землю. И тут по рядам скользнул предупреждающий зов смерти: «Санитары, вперед!»
Вскоре мы поравнялись с тем местом, куда попал снаряд. Пострадавших уже унесли. На кустах вокруг воронки висели окровавленные клочья мяса и одежды, – странное, цепенящее зрелище, наводящее на мысли о душегубе с красной спиной, который нанизывает свою добычу на колючки терновника.
На Гранд-Транше отряды ускорили шаг. У обочины шоссе скорчившись сидели раненые и просили воды; в обратном направлении, тяжело дыша, шли пленные с носилками; кто-то, бравады ради, галопировал среди огня. Снаряды и справа и слева трамбовали мягкую землю; тяжелые ветки, отламываясь от стволов, падали вниз. Посреди дороги лежала мертвая лошадь с зияющими провалами ран, рядом с ней дымились ее внутренности. Это величественное и кровавое зрелище сопровождалось необузданной, необъяснимой веселостью. Прислонившись к дереву, стоял бородатый ополченец: «Братцы, поднажмите, француз улепетывает! «
Мы добрались до развороченных боем владений пехоты. Местность вокруг исходного рубежа атаки была вырублена снарядами догола. На взорванном промежуточном поле, повернувшись в сторону врага, лежали жертвы; цвет их серых шинелей едва отличался от цвета земли. Огромная фигура с красной от крови бородой неподвижно глядела в небо, вцепившись ногтями в рыхлую землю. В воронке от снаряда метался парень, и желтизна, знак надвигавшейся смерти, проступала в его чертах. Наши взгляды были ему, по-видимому, неприятны, равнодушным движением он натянул шинель себе на голову и затих.
Мы отделились от колонны, шедшей на марше. Поблизости непрерывно, с шипением и свистом, по крутым траекториям проносились снаряды, взрывы вздымали землю лесной прогалины. Пронзительный заливистый свист полевых гранат я нередко слышал и под Оренвилем, и теперь он не казался мне особенно опасным. Напротив, тот порядок, в котором наша рота продвигалась развернутым маршем по обстреливаемой местности, таил в себе что-то успокаивающее; я думал про себя, что так еще куда ни шло, я ожидал худшего. Наперекор очевидным фактам я оглядывался в поисках мишеней, которым предназначались снаряды, не подозревая, что это по нам стреляли изо всех сил.
«Санитара!» У нас был первый мертвец. Стрелку Штельтеру шрапнелью перебило сонную артерию. Три пакета иссякли в мгновение. За несколько секунд он истек кровью. Рядом самонадеянно затрещали два орудия, вызвав еще более сильный ответный огонь. Лейтенант артиллерии, на переднем участке искавший раненых, был сбит с ног взметнувшимся перед ним дымовым столбом. Он медленно поднялся и с подчеркнутым спокойствием вернулся назад. Мы смотрели на него с восхищением.
Смеркалось, когда мы получили приказ о дальнейшем наступлении. Дорога вела сквозь густой, насквозь простреленный подлесок в нескончаемую траншею, которую отступающие французы забросали разным хламом. Вблизи деревни Лез-Эпарж нам пришлось, так как мы здесь были первыми, прорубать позицию прямо в камнях. Наконец я нырнул в какой-то куст и заснул. Сквозь полусон я видел, как высоко надо мной снаряды неизвестной артиллерии вычерчивают в небе дуги своими искрящимися запалами.
«Вставай, приятель, мы уходим!» Я проснулся в мокрой от росы траве. Сквозь свистящую автоматную очередь мы ринулись обратно в нашу траншею и заняли оставленную французами позицию на опушке леса. Сладковатый запах и застрявший в проволочном заграждении сверток привлекли мое внимание. В предрассветном тумане я выскочил из траншеи и очутился возле съежившегося французского трупа. Сгнившее тело рыбьего цвета зеленовато светилось из разодранной униформы. Обернувшись, я в ужасе отпрянул: рядом со мной, у дерева, примостилась какая-то фигура. На ней была блестящая французская кожаная куртка, а на спине – все еще набитый до отказа ранец, увенчанный круглым котелком. Пустые глазницы и редкие кисточки волос на черно-коричневом черепе выдавали, что передо мной был мертвец. Другой сидел, перекинув туловище через колени, будто его внезапно сломило. Вокруг лежали еще дюжины трупов, сгнивших, оцепенелых, ссохшихся в мумии, застывших в жуткой пляске смерти. Французы месяцами выдерживали такую жизнь возле павших товарищей, не имея возможности их похоронить.
Перед полуднем солнце прорезало туман и излучало ласковое тепло. Недолго поспав на дне траншеи, я, одержимый любопытством, решил осмотреть опустевший, накануне захваченный окоп. Его дно было покрыто горами провизии, боеприпасов, остатками снаряжения, оружием, письмами и газетами. Блиндажи походили на разграбленные лавки старьевщика. Вперемешку с хламом лежали трупы храбрых защитников, ружья которых все еще торчали в амбразурах. Из расстрелянного балочного перекрытия свисало зажатое в нем туловище. Голова и шея были отбиты, белые хрящи поблескивали из красновато-черного мяса. Постигнуть это было нелегко. Рядом лежал на спине совсем еще молодой паренек, его остекленевшие глаза и стиснутые ладони застыли в положении прицела. Странно было глядеть в эти мертвые, вопрошающие глаза, – ужас перед этим зрелищем я испытывал на протяжении всей войны. Его карманы были вывернуты наизнанку, и рядом лежал бедный ограбленный кошелек.
Не высвеченный огнем, я прошелся вдоль разоренной траншеи. Это было короткое время предобеденного отдыха, которое я научился ценить на полях сражения как единственную передышку. Я использую его, чтобы все осмотреть спокойно и не спеша. Чужое вооружение, темнота блиндажей, пестрое содержимое ранцев – все было новым и загадочным. Я засунул в карман французские боеприпасы, расстегнул шелковистую плащ-палатку и добыл завернутую в синий плат флягу, чтобы через три шага все это снова бросить. Нарядная, в полоску, рубашка, лежащая рядом с развороченным офицерским вещмешком, соблазнила меня: я быстро стянул с себя униформу и с ног до головы переоделся в новое белье, радуясь приятному щекотанию по коже свежей ткани.
Одевшись во все новое, я отыскал в траншее солнечное местечко, сел на балку и штыком открыл круглую жестянку мясных консервов, собираясь позавтракать. Затем закурил и пролистал разбросанные повсюду французские журналы; часть их, как явствовало из даты, была заброшена в окопы за день до Вердена.
С невольным ужасом вспоминаю, как во время этого завтрака я пытался развинтить странный маленький аппарат, лежавший передо мной у края траншеи, который по необъяснимым причинам я принял за «штурмовой фонарь». И только позднее я понял, что вещь, рассматриваемая мною, была ручной гранатой без предохранителя.
Все явственней грохотала немецкая батарея, расположенная в перелеске у самого окопа. Железный ответ врага последовал незамедлительно. Внезапно я вскочил, вспугнутый мощным грохотом сзади, и увидел, что вверх круто ползет дымовой конус. Еще непривычный к звукам войны, я был не в состоянии отличить свист, шипение и треск собственных орудий от грохочущих разрывов вражеских гранат, падающих со все более короткими промежутками, и составить из всего этого единую картину. Прежде всего я никак не мог уяснить, отчего снаряды летят со всех сторон так, что их свистящие траектории, казалось, беспорядочно скрещиваются над лабиринтом маленьких окопных участков, по которым мы были разбросаны. Этот эффект, причин коего я не знал, беспокоил меня и озадачивал. Механизму сражения я противостоял еще как новичок, как рекрут, – волеизъявления битвы казались мне странными и неслаженными, как события на другой планете. При этом страха как такового у меня не было; чувствуя себя невидимкой, я не мог представить, чтобы кто-то в меня целился и мог попасть. И, вернувшись в свое отделение, я с полным равнодушием стал наблюдать за нейтральной полосой. Это было мужество неопытности. В своем дневнике, как и позже в подобные дни, я описывал то время суток, когда обстрел либо затихал, либо усиливался вновь.
К полудню орудийный огонь разросся в буйный танец. Вокруг нас непрерывно вспыхивало. Белые, черные и желтые облака смешивались друг с другом. Особенно жутко рвались снаряды, испускающие черный дым и именуемые старыми вояками «американскими, или угольными, ящиками». Дюжины запалов подпевали им, щебеча наподобие канареек. Своими вклинивающимися голосами, в которых воздух переливался трелями флейт, они звенели сквозь неумолчный грохот разрывов, как маленькие медные куранты или особая разновидность механических насекомых. Было как-то странно, что мелкие лесные птицы, похоже, не обращали никакого внимания на этот стократно усиленный шум: они мирно сидели над клубами дыма в расстрелянных снарядами ветвях деревьев. В короткие мгновения тишины звучали их завлекающие зовы и беззаботное ликование; казалось даже, что шумовой поток, бушевавший вокруг, их еще более возбуждает.
В те моменты, когда снаряды сыпались гуще, команда подбадривала себя призывами к бдительности. На обозреваемом мною коротком участке траншеи, из стен которого выломились большие глиняные глыбы, царила полная боевая готовность. Ружья со снятыми предохранителями лежали в амбразурах, и стрелки внимательно прощупывали дымящуюся местность. Иногда они поглядывали по сторонам, чтобы убедиться в наличии связи, и улыбались, встречаясь взглядом со знакомыми.
Мы с одним товарищем сидели на скамейке, выбитой в глиняной стене траншеи. Вдруг доски амбразуры, через которую мы вели наблюдение, затрещали, и пуля врезалась в глину между нашими головами.
Постепенно появились и раненые. Хоть и невозможно было обозреть все, что происходило в окопном лабиринте, но все чаще повторяемый клик «Санитара! «служил знаком того, что обстрел не прошел даром. Иногда возникала торопливая фигура со свежей, ярко белеющей повязкой на голове, шее или запястье и исчезала в сторону тыла. Это значило, что товарищ должен сделать вслед ему второй выстрел из суеверия, согласно которому легкое попадание зачастую только предшествует тяжелому.
Мой товарищ, доброволец Коль, сохранял северное хладнокровие, словно специально придуманное для таких положений. Он жевал и разминал сигару, которая никак не хотела загораться, и взирал на все с сонным выражением лица. Не утратил он спокойствия и тогда, когда за нашей спиной внезапно застрочило так, словно разрядили тысячи ружей. Выяснилось, что лес был охвачен пожаром. Огромные языки пламени с треском взбирались вверх по древесным стволам.
Во время этих событий меня терзали странные заботы. Я завидовал старым «львам Перта» из-за их приключений в «котле ведьмы», которых меня лишило пребывание в Рекуврансе. Поэтому, когда «угольные ящики» особенно рьяно устремлялись в наш угол, я спрашивал Коля, принимавшего участие в том действе:
– Послушай, это как в Перте?
К моему огорчению он каждый раз отвечал, небрежно махая рукой:
– Ничего похожего!
Когда же обстрел усилился настолько, что наша глиняная скамья под ударами черных чудовищ заходила ходуном, я снова заорал ему в ухо:
– Теперь-то уж точно, как в Перте?
Коль был честный солдат. Он сначала поднялся, испытующе поглядел во все стороны и к моему удовлетворению прорычал:
– Теперь скоро!
Его ответ наполнил меня глупейшей радостью, предвещая мне первый, настоящий бой!
В тот же миг на углу нашего участка траншеи возник человек: «Всем проследовать налево!» Мы передали приказ дальше и зашагали вдоль изъеденной дымом позиции. Как раз только что вернулись раздатчики еды, и сотни одиноких котелков уже дымились на бруствере. Кому хотелось теперь есть? Целая толпа раненых с пропитанными кровью повязками и возбужденными боем бледными лицами протискивалась между нами. Наверху, вдоль края траншеи, торопливо проносили в тыл одни носилки за другими. Предчувствие тяжелых времен громадой стояло перед нами. «Потише, ребята, у меня рука!» «Живей, парень, не отставай!»
Я узнал лейтенанта Зандфоса, в полной прострации и с выпученными глазами бежавшего вдоль окопа. Длинная белая повязка вокруг шеи придавала ему странно беспомощную осанку, так что в этот момент он показался мне похожим на утку. Это было как во сне, когда страшное предстает в маске смешного. Потом мы пробежали мимо полковника фон Оппена, который, засунув одну руку в карман мундира, давал указания своему адъютанту. «Да, дело принимает серьезный оборот», – пронеслось у меня в голове.
Траншея кончалась в перелеске. Нерешительно стояли мы под мощными буками. Из густой поросли деревьев появился предводитель нашей колонны, лейтенант, и крикнул старшему унтер-офицеру: «Рассыпаться в направлении заходящего солнца и занять позицию. Донесения доставлять мне в блиндаж у поляны». Чертыхаясь, тот принял команду.
Мы рассыпались и, полные ожидания, залегли в мелкие канавы, вырытые нашими предшественниками. Посреди шутливых возгласов раздался душераздирающий вой. В двадцати метрах за нами из белого облака вихрем выбились комья земли и, взлетев вверх, застряли в ветвях. Многократное эхо прокатилось по лесу. Мы тревожно уставились друг на друга, наши тела, подавленные чувством полного бессилия, прижались к земле. Выстрелы следовали один за другим. Подлесок наполнился удушливым газом, чад окутал верхушки, деревья и ветки с шумом рушились на землю, слышались громкие вопли. Мы вскочили и вслепую, подгоняемые вспышками и воздушной волной, сдавливавшей уши, помчались, перебегая от дерева к дереву, ища укрытия, и, как затравленные звери, кружились вокруг огромных стволов. В блиндаж, к которому многие устремились и куда направился и я, угодил снаряд, сорвавший балочный настил, и тяжелые деревянные чурки закружились по воздуху.
Вместе с унтер-офицером, едва переводя дыхание, я, как белка, в которую швыряют камни, поспешил укрыться за мощным буком. Автоматически, подгоняемый все новыми взрывами, я бежал за моим начальником, который время от времени оборачивался, и, дико уставившись на меня, орал: «Что за штучки? Нет, что это за штучки?» Внезапный всполох огня прокатился по корневищам, и резкий толчок в левое бедро повалил меня ниц. Я думал, это был ком земли, но теплая, обильно льющаяся кровь не оставляла сомнений в том, что я ранен. Позднее выяснилось, что тонкий и острый осколок разорвал мне мягкие ткани, разрядив сперва свою ярость о мой бумажник. Разрез, подобный бритвенному, прежде чем повредить мускулы, расщепил грубую кожу по меньшей мере на девять лоскутов.
Я сбросил ранец и помчался к траншее, из которой мы вышли. С разных сторон обстрелянного участка леса к ней лучеобразно стекались раненые. Проход в нее, загороженный телами тяжелораненых и умирающих, был настоящим кошмаром. До пояса оголенная фигура с разодранной спиной сидела, прислонившись к стене траншеи. Другая, у которой с затылка свисал треугольный лоскут, непрерывно издавала пронзительные, душераздирающие вопли. Здесь царила великая боль, и я впервые, через некую демоническую щель, заглядывал в недра ее владений. А взрывы не прекращались.
Мое сознание полностью изменило мне. Бесцеремонно сбивая всех с ног и несколько раз в спешке падая навзничь, я наконец выкарабкался из адской толчеи траншеи на волю. Я мчался, как разгоряченная лошадь сквозь чащобу, по тропам и прогалинам, пока не рухнул на каком-то участке леса неподалеку от Гранд-Транше.
Уже смеркалось, когда мимо меня прошли два санитара, осматривающие местность. Они погрузили меня на носилки и отнесли на прикрытый стволами санитарный пост, где я, вплотную прижавшись к другим раненым, провел ночь. Врач, уже без сил, стоял посреди свалки стонущих людей, – перевязывал, делал уколы и спокойным голосом произносил ободряющие слова. Я натянул на себя шинель убитого солдата и погрузился в сон, пронизываемый странными видениями начинающейся лихорадки. Проснувшись среди ночи, я при свете фонаря увидел врача все еще за работой. Какой-то француз безостановочно издавал оглушительные вопли, и раздраженный голос рядом со мной буркнул: «Чертов француз! Пока не поорет, не успокоится». Тут я снова уснул.
На следующее утро, когда меня уносили, осколком продырявило парусину между моими коленями.
Вместе с другими ранеными меня погрузили в одну из санитарных машин, курсировавших между полем боя и главным перевязочным пунктом. Галопом проскочили мы по Гранд-Транше, все еще находившейся под огнем тяжелой артиллерии. Скрытые серыми стенами палаток, мы слепо катились сквозь опасность, сопровождавшую нас топотом гигантских шагов.
На одних носилках, на которых нас сажали в машину как хлебы в печь, лежал, невыносимо страдая, солдат с простреленным животом. Каждого из нас он просил прикончить его из пистолета, висевшего в санитарной машине. Все молчали. Мне еще предстояло познакомиться с этим ощущением, возникающим всякий раз, когда дорожная тряска ударом молота колотит по тяжелой ране.
Главный перевязочный пункт помещался на лесной поляне. По земле были разбросаны длинные ряды соломы, прикрытые зелеными ветками. Приток раненых красноречиво говорил о том, что битва шла серьезная. При виде главного врача, генерала, посреди кровавого водоворота проверявшего, как идет служба, у меня снова сложилось странное и трудноописуемое впечатление, возникающее всякий раз, когда видишь человека, погруженного в элементарные страхи и переживания, но с муравьиным хладнокровием выстраивающего свой распорядок.
Насладясь кушаньями и напитками, покуривая сигарету, я лежал посреди длинного ряда раненых на снопе соломы с тем чувством легкости, которое приходит, когда сдашь экзамен, пусть даже и не на отлично. Короткий разговор соседей, подслушанный мною, заставил меня призадуматься.
– Что у тебя, приятель?!
– Прострелен мочевой пузырь.
– Очень больно?
– Да ерунда. Но вот что с этим теперь не повоюешь…
Еще до обеда нас доставили в церковь деревни Сен-Морис, где размещался сборный пункт раненых. Там уже стоял готовый к отправке санитарный поезд, за два дня переправивший нас в Германию. Лежа на койке, можно было глядеть на поля, где уже вовсю хозяйничала весна. За нами добросовестно ухаживал тихий человек, приват-доцент философии. Первая услуга, оказанная им, состояла в том, что он перочинным ножиком разрезал на моей ноге сапог. Есть люди, наделенные особым даром ухаживать за больными; уже одно его очертание – за книгой, при свете ночника, – было целительным для меня.
Поезд привез нас в Гейдельберг.
При виде обрамленных цветущими вишневыми деревьями берегов Неккара меня охватило необычайно сильное чувство родины. До чего же хороша была эта страна, поистине достойная того, чтобы проливать за нее кровь и жертвовать жизнью. Я еще никогда так сильно не ощущал ее очарования. Благие и строгие мысли пришли мне на ум, и я впервые начал догадываться, что эта война была чем-то большим, чем просто великой авантюрой.
Битва при Лез-Эпарже была для меня первой. И была она не такою, какой я ее себе представлял. Я участвовал в крупных боевых действиях, ни разу не встретившись ни с одним противником. И только много позже я пережил столкновение, кульминацию боя, когда атакующие войска появились прямо на открытом пространстве, на несколько решительных, смертельных мгновений нарушив хаотическую безвидность поля битвы.
Души и Монши
Рана зажила за четырнадцать дней. Я был отпущен в резервный батальон, располагавшийся в Ганновере, и оттуда, взяв кратковременный отпуск, поехал домой, чтобы снова научиться ходить.
– Запишись в юнкера, – предложил мне отец, когда мы в один из первых дней поутру прогуливались по саду, наблюдая, как набухают почки на фруктовых деревьях; и я последовал его совету, хотя в начале войны звание простого стрелка, державшего ответ только перед самим собой, казалось мне привлекательнее.
И вот из полка меня отправили в Дебериц на военные курсы, которые я закончил через шесть недель в чине фенриха. Судя по тому, что сотни молодых людей стекались сюда из разных земель Германии, страна пока не испытывала недостатка в добротных военных кадрах. И если в Рекуврансе я прошел одиночную подготовку, то здесь нас обучали различным способам, какими передвигают малые соединения на боевом участке.
В сентябре 1915 года я вернулся в полк. Я сошел с поезда у резиденции дивизионного штаба, деревни Сен-Лежер, и во главе небольшого резервного подразделения направился маршем в Души – расположение нашего полка. Перед нами полным ходом разворачивалось осеннее наступление французов. На фоне просторной местности фронт выделялся длинным клубящимся облаком. Над головой трещали пулеметы авиаэскадр. Если какой-либо французский самолет – чьи пестрые кокарды, казалось, ощупывали землю, словно глаза бабочек, – пролетал слишком низко, я со своим небольшим отрядом искал укрытия под деревьями, росшими вдоль шоссе. Зенитки протягивали по воздуху длинные шнуры белых пушистых хлопьев, и то здесь то там пашню взрывали со свистом падающие осколки.
Этот небольшой марш сразу дал мне возможность применить новые знания. Вероятно, нас высмотрели из одного из многочисленных привязных аэростатов, желтые покрышки которых светились на западной стороне, и, едва мы собрались свернуть в деревню Души, прямо перед нами подпрыгнула черная кегля гранаты. Снаряд попал в ворота небольшого местного кладбища, расположенного у самого шоссе. Здесь я впервые научился угадывать ту секунду, когда на непредвиденное событие нужно отвечать немедленным решением.
– Влево – рассредоточиться, марш, марш!
Колонна быстро распределилась по окрестным полям; я велел ей снова собраться, все время забирая влево, и кружным путем повел ее в деревню.
Души, где располагался 73-й стрелковый полк, было деревушкой, ни большой, ни маленькой, и война ее пока щадила. Приютившаяся среди холмов Артуа, она стала для полка во время его полуторагодовалой позиционной войны в той местности вторым эшелоном, местом отдыха и восстановления сил после тяжелых боевых действий на передовой. Каким же это было утешением, когда в темные дождливые ночи нас встречал своим мерцанием одинокий фонарь, освещавший вход в деревню! Снова были крыша над головой и простая надежная постель в сухом помещении. Можно было спать, не опасаясь, что тебя каждые четыре часа будут выгонять в ночную тьму, и не вскакивать по первому сигналу боевой тревоги, преследующей даже во сне. В первый же день, искупавшись и очистив костюм от окопной грязи, мы почувствовали себя так, словно заново родились. На ровных луговых площадках мы экзерцировали и проделывали всякие упражнения, чтобы размять задеревеневшие кости и снова пробудить дух общности в одичавших за долгие ночные бдения солдатах. Это возвращало нашим телам гибкость и придавало силы для предстоящих испытаний. В первое время роты поочередно ходили на передовую для ночных шанцевых работ. Такое вдвойне утомительное занятие было позднее отменено по распоряжению нашего предусмотрительного полковника фон Оппена. Надежность позиции зиждется на бодрости и неисчерпаемом мужестве ее защитников, а не на бесполезном сооружении подходных путей и глубине окопов.
В свободные часы Души дарила своим серым обитателям некоторые развлечения. Многочисленные столовые изобиловали яствами и напитками; была читальня, кофейня, а рядом и кинозал, искусно встроенный в большой сарай. У офицеров были превосходно оборудованное казино, и в саду, перед домом священника, – кегельбан. Часто устраивались ротные празднества, на которых начальники и команда соревновались друг с другом в возлияниях, вспоминая добрые традиции немецкой старины. Не могу забыть и мясные пиры, жертвами коих были ротные свиньи, прекрасно откормленные отбросами походных кухонь.
Поскольку население все еще находилось в деревне, то использовали каждый клочок земли. Какая-то часть бараков и жилых блиндажей была устроена в садах; большой фруктовый сад в центре деревни был превращен в церковную площадь, другая же площадь, так называемый Эммихплац, – в сад для гуляний. На Эммихплац, в двух прикрытых стволами блиндажах, располагались цирюльня и зубоврачебный кабинет. Большой луг возле церкви служил кладбищем, куда почти ежедневно направлялась какая-нибудь рота, под звуки траурного марша провожая в последний путь одного или нескольких товарищей.
Так на развалинах крестьянской деревушки за какой-нибудь год вырос огромный паразит – целесообразно устроенный военный город. Трудно было увидеть за ним прежнюю мирную картину. В деревенском пруду драгуны купали своих лошадей, в садах упражнялась пехота, повсюду на лужайках загорали солдаты. Все строения развалились, и только необходимое для войны содержалось в безупречном порядке. Так, заборы и изгороди были сломаны или снесены, чтоб не мешать сообщению, зато на каждом углу блестели огромные щиты с дорожными знаками. Крыши рушились, домашней утварью топили печи – и в то же время возводились телефонные станции и загорался электрический свет. Прямо из погребов прорывали штольни, чтобы во время обстрела предоставить жителям надежное убежище; вырытая земля небрежно ссыпалась в сады, громоздясь там кучами. Во всей деревне не было никаких оград и ни одного частного владения.
Французы были размещены в казармах при выходе в сторону Монши. Дети безмятежно играли у порогов готовых вот-вот развалиться домов, и согбенные старики пробирались сквозь этот новый порядок, с жестокой бесцеремонностью лишивший их крыши, под которой они прожили всю жизнь. Молодые люди каждое утро должны были являться на поверку, и местный комендант, обер-лейтенант Оберлендер, добросовестно исполнявший свои обязанности, распределял их по группам для разметки деревни. С жителями мы встречались, только когда приносили им для стирки белье или покупали у них масло и яйца.
Одной из достопримечательностей этого солдатского города были двое осиротевших маленьких французов, прибившихся к нашей части. Оба мальчика, восьми и двенадцати лет, одетые в шинели защитного
цвета, свободно говорили по-немецки. О своих соотечественниках, подражая солдатам, они говорили только презрительно, – «шангели».[11] Их заветным желанием было сопровождать роту на позицию. Мальчики безупречно овладели строевой подготовкой, отдавали приветствие старшим, становились во время поверок на левый фланг и просили увольнительную, увязываясь за дежурным по столовой, шедшим за покупками в Камбре. Когда второй батальон на несколько недель отправился на курсы в Кеант, одному из мальчиков, которого звали Луи, полковник фон Оппен приказал остаться в Души; во время марша его действительно никто не видел, по прибытии же батальона на место мальчишка, сияя от удовольствия, вдруг выпрыгнул из фургона, в котором прятался. Старшего позднее послали в Германию, в школу унтер-офицеров.
Всего в часе пути от Души располагалась Монши-о-Буа, – деревня, где нашли прибежище обе резервные роты полка. Осенью 1914 года за нее велись ожесточенные бои; в конце концов она досталась немцам, и бой, застряв в узком полукольце вокруг развалин некогда богатого места, постепенно истощился.
Дома были выжжены и разгромлены, запустелые сады изборождены снарядами, а фруктовые деревья сломаны. Каменный хаос с помощью окопов, колючей поволоки, баррикад и бетонированных опорных пунктов был приспособлен для обороны. Улицы можно было обстреливать из пулеметного блиндажа, расположенного в центре, – из так называемого форта Торгау. Другим опорным пунктом был «форт Альтенбург», – полевое укрепление справа от деревни, приютившее взвод резервной роты. Для обороны был важен и случайно открытый нами карьер, откуда в мирное время брали меловой камень для строительства домов. Ротный повар, уронив однажды ведро в колодец, спустился за ним и заметил углубление, вытянутое наподобие пещеры. Место обследовали и, продолбив еще один вход, открыли пространство, где могло укрыться значительное число бойцов.
На одинокой возвышенности по дороге в Рансар находилась руина, бывший кабачок, названный из-за широкого обозрения фронта “Bellvue”,[12] – место, которое, несмотря на его опасное расположение, я особенно любил. С него открывались дали опустошенной земли, мертвые деревни соединялись дорогами, на которых не было ни одной машины и ни одного живого существа. На заднем плане можно было разглядеть расплывчатые очертания Арраса, – города, покинутого жителями, а дальше, справа, блестели меловые воронки от огромных минных разрывов в Сен-Элуа. Опустели и поросшие сорняками поля, по которым тянулись огромные тени облаков, и туго сплетенная сеть окопов набрасывала на них свои желтые и белые петли, впадающие в подходные пути, как в длинные шнуры железнодорожных составов. То тут, то там вился дым от снаряда, будто вытолкнутый призрачной рукой, и развеивался ветром; или облачко шрапнели висело над пустыней, как большая, белая, медленно таявшая снежинка. Пейзаж был мрачным и фантастическим, война стерла с местности ее уютную прелесть и запечатлела в ней свои медные черты, пугающие одинокого созерцателя.
Пустынность и безмолвие, время от времени прерываемые глухими звуками орудий, еще более усиливались печальной картиной разрушения. Разодранные ранцы, ружья с отбитыми прикладами, ошметки разной утвари – и, ужасающим контрастом, детская игрушка; тут же взрыватель, глубокие воронки от издохших снарядов, бутылки, жнейки, порванные книжки, разбитая посуда, ямы – зловещая темнота которых выдавала погреб, где, может быть, лежали скелеты несчастных обитателей дома, обглоданные усердными в своей прожорливости крысиными ордами, – персиковое деревцо, лишенное опоры и беспомощно простиравшее руки, в конюшнях – еще привязанные цепями скелеты домашних животных, в опустелом саду – ямины и зеленеющие меж ними, затерянные в сорняках перья лука, полынь, ревень и нарциссы, на соседних полях – хлеб, сложенный в скирды с налившимися зерном колосьями, – все это было рассечено наполовину засыпанной траншеей и овеяно запахом пожарища и распада. Скорбные мысли невольно посещают солдата, ступившего на развалины такого селения, когда он вспоминает о тех, кто еще недавно здесь хозяйничал.
Боевая позиция, как я уже сообщал, полукругом огибала деревню, соединяясь с ней рядом траншей. Она была разделена на два участка – Монши-Юг и Монши-Запад. Эти участки в свою очередь подразделялись на шесть рот от А до F. Дугообразная форма позиции давала англичанам хорошую возможность фланкировки, и, ловко используя ее, они приносили нам большие потери. В этом им помогало спрятанное сразу же за их линией орудие, стрелявшее мелкой шрапнелью, вылет и попадание которой сливались в один звук. Как молния среди ясного неба вспыхивал вдоль окопа сноп свинцовых пуль, что требовало особой бдительности постового.
Пройдемся теперь по самой позиции, какой она была в то время, чтобы усвоить некоторые ходовые выражения.
Чтобы проникнуть на передовую, для краткости называемую окопом, мы сначала должны ступить на один из многочисленных подходных путей, назначение которых – прикрытие подхода к боевой позиции. Таким образом, эти окопы, протяженностью часто в целые километры, ведут к вражескому стану, но, чтобы их нельзя было обстрелять по всей длине, их прорыли зигзагообразно или слегка искривленно.
После пятнадцатиминутного марша мы прорезаем параллельную первой вторую линию, где продолжается сопротивление, если боевой окоп взят.
Сразу видно, что сам боевой окоп отличается от примитивных сооружений, возникавших в начале войны. Это уже не просто окоп; его подошва тянется на глубине в два или три человеческих роста в нетронутом грунте. Защитники, таким образом, ходят по ней, как по основанию шахты; чтобы осмотреть местность и открыть по ней огонь, они должны подняться по ступеням или широким деревянным лестницам к постовому входу, имеющему вид длинного бруствера, который так врыт в землю, что стоящий на нем возвышается над грунтом на высоту своей головы. Каждый стрелок стоит на своем посту в более или менее укрепленной нише, пряча голову за пакет с песком или стальной щит. Собственно обзор осуществляется через крошечные амбразуры, куда просунут ружейный ствол. Большие массы земли, извлеченные из окопа, сложены за линией в виде вала, служащего одновременно тыловым прикрытием; в этот земляной вал встроены возвышающиеся над ним пулеметные площадки. С лобовой стороны окопа землю, наоборот, тщательно расчищают, чтобы освободить пространство для стрельбы.
Перед окопом и вдоль него тянется, часто изломанно, заграждение, – сеть туго сплетенной колючей проволоки, которая позволяет спокойно расстреливать захватчика из постовых ниш.
Заграждение опутано высокой травой, которая уже заселила опустелые поля новой и инородной порослью. Дикорастущие цветы, обычно поодиночке разбросанные среди злаков, теперь завладели всем пространством; повсюду буйно разрослись низкие кустарники. Затянулись травой и тропы, но они пока еще четко выделяются стелющимися по ним круглыми листьями подорожника. В этой чаще птицам привольно, – будь то куропатки, чей странный призывный клич часто слышен по ночам, или жаворонки, чье многоголосое пение оглашает пространство вместе с первыми лучами солнца.
Чтобы уберечь окоп от фланкировки, он проведен меандрически, то есть как бы отскакивает назад равномерными излучинами. Эти отскакивающие назад участки образуют поперечины, которые принимают на себя снаряды, поступающие сбоку. Таким образом, боец со спины прикрыт тыльным траверсом, с боков – поперечинами, а наружная стенка окопа называется бруствером.
Для отдыха предназначены блиндажи, из простых земляных ям постепенно переросшие в настоящие, замкнутые жилые помещения с балочным перекрытием и дощатыми стенами. Высотою блиндажи – в человеческий рост и так встроены в землю, что их пол лежит вровень с подошвой окопа. Над балочным перекрытием находится, таким образом, еще один, достаточно массивный, земляной слой, выдерживающий легкие и средние попадания. Но при тяжелом обстреле эта земляная покрышка легко берет на себя ту же роль, которую в мышеловке играет кирпич, и лучше спрятаться куда-нибудь поглубже в штольню.
Штольни укреплены надежными деревянными рамами: первая вставлена на высоте подошвы в переднюю стенку окопа и образует вход в штольню; каждая последующая расположена на тридцать сантиметров ниже, так что вскоре достигает укрытия. Так образуется лестница, ведущая в штольню; на уровне тридцатой ступеньки, таким образом, уже девять, а с учетом глубины окопа – даже двенадцать метров земли над головой. Рамы несколько большего размера приделаны к лестнице под прямым утлом; они образуют жилое помещение. Поперечные соединения создают подземные переходы; ответвления, ведущие в сторону вражеской позиции, используются для прослушивания и подрывных работ.
Все вместе можно себе представить как мощную, снаружи кажущуюся вымершей земляную крепость, внутри которой идет регулярная постовая и трудовая служба и где в считанные секунды после боевой тревоги все стоят на своих местах. Не следует, однако, тамошнее настроение рисовать себе слишком романтическим; там, скорее, царят сонливость и инертность – следствия близкого соседства земли.
Меня причислили к шестой роте и через несколько дней после прибытия во главе отделения я выступил на позицию, где был тут же встречен огнем английских гранатометов. Это были ручные гранаты из ломкого железа, форму которых лучше всего сравнить с одним из шаров, отрезанных от стофунтовой гантели. Их взрыв был глухим и невнятным и часто маскировался под пулеметный огонь. Жуткое чувство испытал я, когда вдруг, совсем рядом, что-то загорелось, ярко осветив окоп, и нас сотрясла зловещая взрывная волна. Люди быстро втащили меня в блиндаж нашего отделения, к которому мы как раз приблизились. Сидя внутри, мы еще раз пять или шесть ощутили удары тяжелых мортирных снарядов. Мина, собственно говоря, не попадает, она «садится»; этот осмотрительный способ разрушения весьма неприятно действует на нервы. Когда на следующее утро я проходил по окопу, то повсюду видел большие, разряженные ручные гранаты, развешанные перед блиндажами, как сигнальные гонги.
Участок С, где располагалась рота, более других выдавался вперед. Наш ротный командир, лейтенант Брехт, в начале войны спешно прибывший из Америки, был человеком, как раз наиболее подходящим для такой обороны. Его бесшабашная натура постоянно искала опасности и привела его в конце концов к героической смерти.
Наша окопная жизнь протекала размеренно. Вот каким был распорядок дня, неизменный в течение восемнадцати месяцев, если только обычная перестрелка не перерастала в атаку с воздуха.
Окопный день начинается с наступлением сумерек. В семь часов человек моего отделения подымает меня от послеобеденного сна, идущего мне в запас в преддверии ночного бдения. Я застегиваю ремень, засовываю ракетницу и ручные гранаты в портупею и покидаю сравнительно уютный блиндаж. При первом прохождении хорошо знакомого участка проверяю, все ли часовые на своих местах. Шепотом обмениваемся паролями. Тем временем наступает ночь; серебрясь, ввысь поднимаются первые осветительные ракеты, и напряженные глаза всматриваются в нейтральную полосу. Между консервными банками, набросанными на укрытие, шурша пробегает крыса. К ней со свистом присоединяется другая, и вскоре уже повсюду кишат шныряющие тени, хлынувшие из разрушенных деревенских погребов или простреленных штолен. Охота за ними – излюбленное развлечение во время одинокой постовой службы. В качестве приманки кладешь кусочек хлеба и на него нацеливаешь ружье, или же в норы насыпаешь порох из неразорвавшихся снарядов и поджигаешь. Визжа, крысы с опаленной шкурой прыскают оттуда. Это отвратительные существа, у меня все время перед глазами их блудливое мародерство в деревенских погребах. Однажды, когда теплой ночью я прохаживался по руинам Монши, они таким неправдоподобно могучим потоком извергались из своих засад, что земля походила на живой ковер, на котором точками высверкивалась белая шкура альбиносов. В окопах приютились и кошки, потянувшиеся сюда из разрушенных деревень, – им приятна человеческая близость. Большой белый кот с простреленной передней лапой, как привидение шныряет по ничейной земле и, по-видимому, водит дружбу и с теми и с другими.
Возвращаюсь к рассказу об окопной службе. Отклонения от темы тут неизбежны, легко становишься разговорчивым, чтобы скоротать темную ночь и бесконечно тянущееся время. В тех же целях я захожу к какому-нибудь бывалому вояке или унтер-офицеру и со вниманием слушаю их ничем не примечательную болтовню. Часто меня, как фенриха, втягивает в благодушную беседу дежурный офицер, которому так же одиноко и неуютно. Он снисходит даже до приятельского тона, говорит доверительно и с жаром, вытаскивая на свет заповедные мечты и желания. И я охотно вступаю в беседу, потому что и на меня давят тяжелые, черные стены окопа, и я в этом зловещем одиночестве тоскую по человеческому теплу и участию. Ночью от земли веет каким-то особым холодом; это холод духовного рода. Точно так же тебя начинает бить дрожь, едва ты пересекаешь незанятый участок окопа, куда полагается ступать только патрулю, и, когда по ту сторону колючей проволоки попадаешь в ничейную страну, дрожь переходит в легкий озноб, так что слышно, как зубы стучат. Манера, в которой романисты описывают этот озноб, часто неверна; в нем нет ничего насильственного, скорее он похож на слабый электрический ток. Его так же мало замечают, как и говорение во сне. И он тотчас проходит, едва начинается действительно что-то серьезное.
Беседа становится вялой. Мы устаем. Сонно прислоняемся к поперечине и неподвижно смотрим на сигарету, горящую в темноте.
На морозе приплясываешь, переминаясь с ноги на ногу, чтобы не замерзнуть, так что твердая земля от топота гудит. В холодные ночи слышен беспрерывный кашель, разносящийся далеко вокруг. Когда пробираешься по нейтральной полосе, то кашель – первый признак вражеской линии. Иногда часовой насвистывает или тихо напевает что-нибудь, создавая зловещий контраст, если крадешься к нему со смертоносными целями. Часто идет дождь, тогда печально стоишь, подняв воротник шинели, под козырьком у входа в штольню и прислушиваешься к однообразному падению капель. Едва услышишь шаги начальника, идущего по мокрому дну траншеи, – быстро проходишь чуть-чуть дальше, резко поворачиваешься, щелкаешь каблуками и докладываешь: «Унтер-офицер стрелковой службы. На участке без перемен!» Ибо стоять у входа в штольню запрещено.
Мысли блуждают. Глядя на луну, думаешь о чудесных, уютных днях, проведенных дома, или о большом городе там, далеко, где в этот час выходят из кафе и фонари освещают оживленную ночную суету центральных улиц. Кажется, что когда-то видел все это во сне – в какой-то неправдоподобной дали.
Вдруг перед самым окопом что-то зашевелилось, две проволоки звякнули, коснувшись друг друга. Вмиг улетучиваются мечтания, чувства обостряются до боли. Взбираешься на пост, посылаешь ракету: ни единого звука. Наверно, это был заяц или куропатка.
Иногда слышишь, как противник копошится у своего заграждения. Тогда посылаешь ему целую очередь, пока не разрядишь весь патронник. И не только потому, что приказ есть приказ, но и удовольствия ради. «Теперь они там прижаты. Может, и уложил кого-нибудь». Мы тоже каждую ночь тянем проволоку, и у нас частенько бывают раненые. Тогда эти гнусные свиньи, англичане, удостаиваются нашей отборной ругани.
В некоторых местах позиции, например у взрывных камер, посты расположены не далее чем в тридцати метрах друг от друга. Иногда здесь завязываются личные знакомства; Фрица, Вильгельма или Томми узнаешь по его манере кашлять, свистеть или петь. То и дело слышатся короткие оклики, не лишенные грубоватого юмора: «Эй, Томми, ты еще здесь?» – «Да!» – «Спрячь голову, приятель, стреляю!»
Вдруг следом за глухим выстрелом раздается свистящий, вибрирующий звук. «Внимание, мина!» Все устремляются к ближайшему входу в штольню и прислушиваются. Грохот от разрыва мины совсем другой, он действует на нервы гораздо сильнее, чем граната. В нем вообще есть что-то хищное, хитрое, что-то от личной ненависти. Мины – коварные существа. Ружейные гранаты по сравнению с ними – миниатюрные изделия. Как стрелы вылетают они из вражеского окопа и несут с собой боеголовки, изготовленные из красно-бурого металла, который, дабы производить более эффективное разрывное действие, разграфлен наподобие плиток шоколада. Когда в определенных местах ночного горизонта появляются их всполохи, все часовые вскакивают с постов и исчезают в укрытии. По своему долгому опыту они точно знают, где стоят орудия, направленные на участок С.
Наконец светящийся циферблат показывает, что два часа прошло. Скорей будить смену – и в блиндаж. Может быть, подносчики еды принесли письма, посылки или газеты. Испытываешь удивительное чувство, читая вести из родного дома с его мирными заботами, пока тени от мигающих свечей скользят по низким, неотесанным балкам. Соскоблив щепкой грубую грязь со своих сапог и вытерев ее о ножку грубо сколоченного стола, я ложусь на койку и натягиваю на голову одеяло, чтобы часа четыре «всхрапнуть», как говорится на здешнем жаргоне. Снаружи с монотонной повторяемостью по укрытию хлопают снаряды, мышь пробегает по лицу и рукам, не нарушая сна. Не беспокоит меня и более мелкая живность – за несколько дней до этого мы основательно прокурили блиндаж.
Еще дважды меня вырывают из сна, и я иду справлять службу. К концу последнего дежурства светлая полоска на востоке возвещает о наступлении нового дня. Очертания окопа становятся резче; в серых рассветных сумерках он производит впечатление несказанной заброшенности. Жаворонок поднимается ввысь; я воспринимаю его трели как раздражающее меня навязчивое противоречие. Прислонившись к поперечине, без малейшего восторга, тупо смотрю на мертвое, оцепленное колючей проволокой предполье. Нет, последние двадцать минут никогда не кончатся! Наконец в траншее гремят котелки вернувшихся раздатчиков кофе: 7 утра, ночное дежурство закончилось.
Я спускаюсь в блиндаж, пью кофе и моюсь в жестянке из-под бисмарковой селедки. Это меня бодрит и у меня пропадает желание спать. В 9 часов я уже снова должен построить и распределить свое отделение на работу. Мы – настоящие мастера на все руки, окоп ежедневно предъявляет нам тысячу требований. Мы роем глубокие штольни, строим блиндажи и бетонные убежища, готовим проволочные препятствия, создаем мелиоративные устройства, обшиваем, укрепляем, устраняем, удлиняем и срезаем, засыпаем выгребные ямы – короче, со всем управляемся сами. А почему бы и нет, разве не все сословия, профессии и сферы деятельности послали сюда своих представителей? Чего не может один – может другой. Вот совсем недавно, когда я ковырялся в штольне нашего отделения, один горняк взял у меня из рук мотыгу и сказал: «Все время загребайте снизу, герр фенрих, сверху грязь полетит сама!» Странно, что такой простой вещи я до сих пор не знал. Но здесь, среди пустынной местности, когда ты с железной неотвратимостью вынужден искать защиты от снарядов, укрываться от ветра и непогоды, мастерить себе стол и постель, строить печи и лестницы, скоро научаешься использовать и свои руки. Привыкаешь ценить работу руками.
Ровно в час дня из кухни, устроенной в одном из погребов Монши, в больших котлах, молочниках и ведрах из-под повидла приносят еду. Питание отличается военным однообразием, но его хватает, если, конечно, раздатчиков не «припудрит сверху» и они не расплескают половину по дороге. После еды остается время для сна или чтения. Незаметно приближаются и те два часа, которые предусмотрены для дневной службы. Они проходят намного быстрее, чем ночные. Наблюдаешь за хорошо знакомой вражеской позицией в бинокль или стереотрубу и время от времени постреливаешь из оптического ружья по головам, торчащим, как мишени. Но будь осторожен, у англичанина тоже острые глаза и хорошие бинокли.
Вдруг кто-то из часовых падает, обливаясь кровью. Выстрел в голову. Товарищи отрывают от его мундира пакет и делают перевязку. «Не имеет смысла, Вилли». «Эй, да он не дышит!». Потом приходят санитары и оттаскивают его на перевязочный пункт. Носилки резко натыкаются на угловатую поперечину. Едва они исчезают из виду, как все снова становится на свои места. Несколько бросков земли на алую лужу – и каждый идет заниматься своим делом. Только новичок еще стоит с бледным лицом, прислонившись к обшивке. Он старается уразуметь, что же произошло. Так неожиданно, так внезапно, эдакий зверский налет… Этого не может быть, это невероятно! Бедняга, тебя поджидают еще и не такие штучки.
Но зачастую все не так уж плохо. Некоторых обуревает настоящий охотничий азарт. Не без злорадства следят они за попаданиями собственной артиллерии во вражеский окоп. «Во дает!». «Черт, гляди, как поливает! Бедняга Томми! Придется ему поплакать!». Не без удовольствия посылают на ту сторону ружейные гранаты и легкие мины, раздражая пугливых. «Эй, ты, прекрати шуточки, нам и так хватает перца!». Но это не мешает придумывать, как с помощью катапульты собственного изобретения получше запустить ручную гранату или с помощью какой-нибудь адской машины поразить ничейную территорию. А иногда прорезают узкую улочку в заграждении перед своим постом, заманивая какого-нибудь доверчивого разведчика в эту удобную лазейку, или же, прокравшись на ту сторону, привязывают к проволоке колокольчик и из собственного окопа дергают его за длинную веревку, чтобы взбудоражить английского часового. Война для них – веселая затея.
Час послеобеденного кофе проходит иногда очень приятно. Фенрих часто составляет компанию одному из ротных командиров. Все идет по чину; тон и форма беседы не переходят за рамки, определенные служебной иерархией.
На скатерти из мешковины даже матово поблескивают две фарфоровые чашки. Затем денщик ставит на шаткий стол бутылку и два стакана. Разговор становится интимней. Любопытно, что и здесь отыгрываются на ближнем. Сплетни цветут пышным цветом, во время же послеобеденных визитов они расцветают еще пышней. Почти как в небольшом гарнизоне. Начальники, товарищи по оружию и подчиненные подвергаются обстоятельной критике, и новый слух за какое-нибудь мгновение уже обежал блиндажи взводных командиров всех шести боевых участков от правого до левого фланга. И наблюдающие офицеры, которые через подзорную трубу, вооружившись блокнотом, прощупывают всю полковую позицию, вносят сюда свою лепту. Позиция роты наглухо не закрыта; все время идет сквозное сообщение. В тихие утренние часы появляются штабные и распространяют вокруг себя деловую суету, – к большому неудовольствию солдата, улегшегося, наконец, после ночного дежурства, и на устрашающий клич «Герр дивизионный командир в окопе!» снова в положенном облачении выбегающего из штольни. Следом приходят офицеры – саперы, строители и мелиораторы – и ведут себя так, будто окоп только для того и создан, чтоб было где выполнять их распоряжения. С меньшим радушием встречают офицера-корректировщика, устраивающего репетицию заградительного огня, ибо едва он удаляется вместе со своей стереотрубой, которую он деловито, как насекомое щупальцы, высовывает то там, то сям, как сразу же дает о себе знать английская артиллерия, и за все отдувается пехотинец. Затем являются командиры передовых отрядов и шанцевых подразделений. Они допоздна просиживают в блиндаже командира взвода, пьют грог, курят, играют в польскую лотерею и под конец, как полчища крыс, убирают все подчистую. Перед наступлением ночи по окопу шарит некий человечек, подкрадывается к часовым, крича им в самое ухо: «Газовая атака!» – и отсчитывает, сколько секунд занимает натягивание противогаза. Это – офицер противохимической защиты. Среди ночи – снова стук в дощатую дверь блиндажа: «Не спите еще, приятель? Быстро распишитесь в получении двадцати рогаток и шести рам!» Пришли ответственные за материальную часть. И такое хождение туда-сюда, по крайней мере в спокойные дни, не прекращается ни на минуту, исторгая у несчастного обитателя штольни вздох: «Постреляли бы, что ли, а то никакого покоя нет». И действительно, несколько увесистых попаданий разряжают обстановку; во всяком случае, никто больше не пристает, и нет этой нудной бумажной возни.
– Герр лейтенант, разрешите идти, у меня через полчаса служба!
Снаружи в заходящих лучах солнца блестят глиняные валы насыпей, окоп уже погрузился в тень. Скоро взлетит первая осветительная ракета и ночной дозор займет свои посты.
Будни позиционной войны
Так проходили наши дни, – в напряженном однообразии, прерываемом кратким отдыхом в Души. Но и на позиции выпадал иногда хороший час. Часто в мирном ощущении надежности своего укрытия я сидел за столом маленького блиндажа, чьи грубые, дощатые, увешанные оружием стены отдавали Диким Западом, пил чай, курил и читал, пока ординарец хлопотал у крошечной печки, наполнявшей помещение запахом подсушенного хлеба. Какому окопнику не знакомы такие минуты? Снаружи слышатся тяжелые, мерные шаги караула, монотонный оклик раздается, когда часовые должны разминуться в окопе. Притупившийся слух с трудом различает никогда не затихающий ружейный огонь, короткие удары бьющих по укрытиям пуль или сигнальные ракеты, шипящие и исчезающие у основания светового столба. Тогда я доставал из планшета свою записную книжку и кратко заносил в нее события дня.
Так со временем появилась в моем дневнике своего рода хроника участка С, – маленького, изрезанного углами куска линии фронта, где мы обосновались, знакомого нам до каждого заброшенного окопа, до каждого разрушенного блиндажа. Здесь под возведенными из глины холмиками покоились тела павших товарищей, здесь на каждой пяди земли разыгрывалась драма, за каждым бруствером поджидал рок, днем и ночью выхватывающий без разбору свою жертву. И все же все мы ощущали свою принадлежность нашему участку, срослись с ним. Нам был известен он, тянувшийся черной лентой по заснеженному ландшафту, пропитанный в полуденный час одурманивающими запахами царящего вокруг цветочного буйства или окутанный в проникающий до самых темных углов призрачный свет полной луны, в котором попискивающие шайки крыс вели свою тайную жизнь. Веселые, сидели мы долгими летними вечерами на его глиняных завалинках, и теплый воздух уносил к противнику деловитый стук или песни родины; мы кидались через завалы, рубили заграждения, когда смерть молотила по окопам своей стальной дубиной и дым вяло выползал из разоренных глиняных стен. Полковник не однажды собирался направить нас в более спокойную часть позиции, и каждый раз рота как один человек просила разрешения остаться на участке С. Привожу здесь короткую выдержку из моих наблюдений, записанных в те ночи у Монши.
7 октября 1915 г. Стоял в дозоре у нашего блиндажа с часовым отделения, когда пуля сдвинула ему фуражку со лба на затылок, не задев головы. В то же самое время у заграждения были ранены двое саперов. Одному пуля рикошетом задела обе ноги, другому прострелила ухо.
Чуть позже часовому на левом фланге прострелило обе скулы. Кровь тугими струями хлестала из раны. В довершение несчастья сегодня на наш участок пришел еще и лейтенант фон Эвальд принять подкоп N, находившийся всего в пятидесяти метрах от траншеи. Когда он повернулся, чтобы снова спуститься к нашим постам, выстрелом в затылок ему разнесло череп. Он умер мгновенно. На дне траншеи лежали куски черепа. Потом еще один был легко ранен в плечо.
19 октября. Участок среднего взвода был забросан шестидюймовыми снарядами. Одного швырнуло воздушной волной на сваю крепления траншеи. У него оказались тяжелые внутренние повреждения, кроме того, ему осколком перебило артерию на руке.
8 утреннем тумане, занимаясь починкой проволочного заграждения на правом фланге, мы обнаружили труп француза месячной давности.
Ночью были ранены двое наших тянувших провод людей. У Гутшмидта прострелены обе руки и еще верх бедра, у Шефера – колено.
30 октября. Ночью из-за ливня обвалилась вся линия бруствера и смешалась с водой в вязкую кашу, превратившую траншею в глубокую трясину. Единственное утешение, что англичанам было не лучше: мы смотрели, как усердно они вычерпывали воду из своих окопов, а так как мы стояли повыше, избыток нашей влаги катился еще и на них. Нами были пущены в ход снайперские винтовки.
Обвалившиеся стены окопа открыли ряд трупов от боев еще прошлой осени.
9 ноября. Стоял с ландштурманом Вигманом перед «фортом Альтенбург», когда залетевшая пуля пробила его штык, повешенный через плечо, и тяжело ранила в тазовую кость. Английские пули с их легко расщепляющимися концами действуют как разрывные.
В остальном же пребывание в этом маленьком, затерянном среди ландшафта земляном укреплении, где я стою со своей частью взвода, предоставляет большую свободу движения, чем на передовой. От фронта нас прикрывает небольшая возвышенность, за нами местность подымается к Аденферскому лесу. В пятидесяти метрах, за укреплением, находится наше походное, с точки зрения тактики не особо удачно расположенное отхожее место, представляющее собой лежащий на двух козлах, вроде петушиного насеста, широкий брус, под которым тянется длинная яма. Солдату по душе основательно угнездиться тут, то ли читая газету, то ли, на манер канареек, учреждая тут общее токовище. Отсюда по фронту тянутся все эти бродящие смутные запахи, известные повсеместно под названием «сортирный дух». Но уют здесь в значительной мере нарушен тем, что место, хоть оно и не просматривается, может быть задето косвенным огнем, долетающим сюда через плоскую возвышенность. При сильном обстреле ее вершины пули пролетают по лощине на уровне груди, и, только распластавшись по земле, можно быть в безопасности. Случается, во время одного и того же сидения не раз приходится более или менее одетым бросаться на землю, пропуская над собой пулеметную очередь, похожую на гамму. Что, конечно, служит поводом для всяческих шуток.
К прочим видам разнообразия, предлагаемых этим постом, относится также охота на всякую живность, особенно на рябчиков, в великом множестве обживших опустевшие поля. За отсутствием охотничьего ружья нам приходится очень близко подкрадываться к потерявшим бдительность «кандидатам в жаркое» и отстреливать им пулей голову, что, впрочем, сильно уменьшает количество мяса для котелка. Однако приходится соблюдать осторожность, чтобы в пылу преследования не высунуться из лощины, что моментально обращает охотника в дичь, получающую из траншей свою порцию боевого огня.
Крыс мы истребляем мощными капканами. Животные, однако, столь сильны, что с великим шумом пытаются высвободиться из металла. Тогда мы кидаемся из блиндажей, устраивая им каюк с помощью дубины. Мы изобрели своего рода охоту даже на пришедших поживиться нашим хлебом мышей: она состоит в том, что в винтовку закладывается выпотрошенный патрон с бумажной пулей.
И наконец, с одним унтер-офицером мы выдумали еще чрезвычайно волнующую, но не совсем безопасную спортивную стрельбу, а именно: во время тумана мы собираем неразорвавшиеся большие и малые снаряды, иные до центнера весом, которых в изобилии по всей местности. Расставив их в отдалении, как кегли в ряд, и спрятавшись за амбразурой, мы открываем огонь, и нам не нужен человек, проверяющий мишень, так как попадание – удар по взрывателю – моментально обнаруживает себя ужасающим грохотом, еще многократно усиливающимся, если задета «вся девятка», когда один за другим взрываются снаряды всей серии.
14 ноября. Ночью мне снилось, что пуля пробила мне руку. Днем поэтому все время ждал чего-то в этом роде.
21 ноября. Вел группу копателей от «форта Альтенбург» к участку С, когда ландштурман Динер поднялся на выступ стенки траншеи, чтобы накидать земли на перекрытие. Едва он появился наверху, как прогремевший из подкопа выстрел прострелил ему череп, и Динер упал мертвым на дно траншеи. Он был женат и имел четверых детей. Его товарищи еще долго ожидали у амбразур, чтобы отплатить кровью за кровь. Они плакали злыми слезами. Англичанин, произведший смертельный выстрел, казалось, был их личным врагом.
24 ноября. Один человек из пулеметной роты получил на нашем участке тяжелое ранение в голову. Другому из нашей роты спустя полчаса выстрел пехотинца оцарапал щеку.
29 ноября. Наш батальон двинулся на четырнадцать дней к лежащему на этапе дивизии городку Кеанту (получившему позднее кровавую славу), чтобы заняться учениями и предаться радостям тыловой жизни. Во время нашего пребывания там я узнал о производстве меня в лейтенанты и переводе во вторую роту, где мне довелось пережить много веселых и горьких дней.
В Кеанте и соседних городках местные коменданты частенько звали нас на свои беспробудные попойки, и у нас был случай взглянуть на ту почти неограниченную власть, с какой эти князьки правили своими подчиненными и жителями. Наш ротмистр называл себя «королем Кеанта» и появлялся каждый вечер, приветствуемый поднятием правой руки и громогласным «Да здравствует король!». За столом, где он в качестве капризного монарха правил до рассветных сумерек, любой проступок против этикета и его в высшей степени запутанного устава был наказуем добавочной порцией пива. Мы, фронтовики, конечно, как новички отключались очень быстро. На следующий день ротмистр являлся после обеда еще слегка в тумане, чтобы проехать в двуколке по своим владениям и нанести визиты соседним «королям», обильно принося жертвы Бахусу и достойно готовясь таким образом к вечеру. Это называлось «устраивать набег». Однажды он затеял ссору с «королем Инши» и послал конного жандарма объявить о начале распри. После некоторых боевых действий, во время которых два отряда конюхов даже перестреливались комьями земли из маленьких, укрепленных проволокой окопов, «король Инши» был так неосторожен, что позволил себе увлечься баварским пивом в столовой Кеанта и при посещении места уединения был застигнут и пленен. Ему пришлось откупаться тонной пива. Так закончилась вражда двух властителей.
11 декабря я отправился из тыла на передовую, чтобы представиться лейтенанту Ветье, командиру моей новой роты, занимающей попеременно со старой шестой ротой участок С. Собираясь спрыгнуть в траншею, я испугался изменений, произошедших на позиции за наше четырнадцатидневное отсутствие. Она разверзлась огромной, на метр в глубину заполненной жижей лоханью, в которой состав вел тоскливо плещущееся существование. Утопая по бедра, я с грустью вспоминал о круговом застолье у «короля Кеанта». Бедные мы фронтовые свиньи! Почти все блиндажи обвалились, все штольни были затоплены. В последующие недели нам пришлось безостановочно работать, чтобы добраться хоть до какой-то земли под ногами. А пока я вместе с лейтенантами Ветье и Бойе обитал в штольне, со свода которой, несмотря на подвешенный брезент, текло как из лейки, так что ординарцам приходилось раз в полчаса ведрами носить воду наверх.
Когда на следующее утро, насквозь промокший, я вышел из штольни, я не мог поверить своим глазам. Местность, носившая до сих пор на себе печать смертного запустения, приобрела ярмарочный вид. Солдаты обеих сторон выбрались из этой ужасающей жижи на брустверы, и уже на пространстве между проволочными заграждениями завязался оживленный обмен шнапсом, сигаретами, мундирными пуговицами и прочими вещами. Масса фигур в хаки, до сих пор лишь изредка показывающихся из английских окопов, ошеломляла, как призрачное видение среди ясного дня.
Вдруг раздался выстрел и один из наших людей свалился мертвым в грязь, после чего обе партии, точна кроты, исчезли в своих траншеях. Я отправился в ту часть нашей позиции, которая находилась напротив английского подкопа, и прокричал, что хочу говорить с офицером. Несколько англичан действительно ушли и вскоре привели из командирского окопа молодого человека, отличавшегося, насколько я различал в бинокль, более затейливой фуражкой. Мы вели переговоры сперва на английском, потом более бегло на французском, солдаты вокруг внимательно нас слушали. Я упрекнул офицера в коварстве, с каким был убит наш человек, на что он ответил, что выстрел был произведен не из его, а из соседней роты. “Il y a cochons aussi chez vous!”[13] – сказал он, и как раз в это время пули, посланные из соседнего с нами участка, пролетели совсем близко от его головы, на что я незамедлительно принял меры, исчезнув в укрытии. Но мы еще долго разговаривали в той манере, которую можно было бы назвать спортсменской вежливостью, и в заключение вполне могли бы обменяться подарком на память.
Чтобы расставить все точки над “i”, мы торжественно объявили продолжение войны по истечении трех минут после окончания переговоров, и после его “Guten Abend!” и моего “Au revoir!” я, несмотря на сожаление моих людей, дал залп по заградительному щиту, за которым укрывался англичанин, после чего сразу последовал ответный удар, чуть не выбивший у меня из рук винтовку.
Впервые ситуация позволила мне обозреть пространство перед подкопом, так как обычно в этом опасном месте никто не рисковал высунуть даже край фуражки. Я обратил внимание на лежащий прямо у нашей проволоки французский скелет, белые кости которого мерцали под лохмотьями голубого мундира. По кокардам английских фуражек мы установили, что против нас стоял Индостано-Лестерширский полк.
Сразу же после этих переговоров наша артиллерия дала несколько залпов по вражеской позиции, после чего у нас на глазах по полосе отчуждения пронесли четверо носилок; к моей радости в этот момент не последовало нового залпа с нашей стороны.
Во время войны я всегда стремился относиться к противнику без ненависти и оценивать его соответственно его мужеству. Моей задачей было преследовать врага в бою, чтобы убить, и от него я не ожидал ничего иного. Но никогда я не думал о нем с презрением. Когда впоследствии к нам попадали пленные, я всегда считал себя ответственным за их безопасность и старался сделать для них все, что было в моих силах.
Погода к Рождеству становилась все более безотрадной; нам пришлось установить в окопах помпы, чтоб хоть как-то обуздать воду. Во время этого потопа значительно выросли, естественно, и наши потери. Так, в своем дневнике от 12 декабря я нахожу: «Сегодня мы похоронили в Души семерых наших людей, и снова убиты еще двое». От 23 декабря: «Грязь и мерзость поглотили все. Сегодня утром с грохотом и свистом у входа в мой блиндаж разорвался мощный снаряд. Пришлось поставить троих, с трудом вычерпывавших воду, ручьем хлынувшую в блиндаж. Наша траншея безнадежно залита, тины – до пупа, чувство отчаяния! На правом фланге показался мертвец, пока видны лишь ноги».
Рождественский вечер мы провели на позиции. Стоя в жидкой грязи, люди пели рождественские песни, заглушаемые английскими пулеметами. В Рождество мы потеряли одного человека из третьего взвода: ему попали в голову при перестрелке. Вскоре англичане сделали попытку к дружескому сближению, выставив на бруствер рождественскую елку, которую, однако, наши озлобившиеся люди смели несколькими выстрелами, на что томми незамедлительно ответили. Так что Рождество прошло довольно неуютно.
28 декабря я снова был комендантом «форта Альтенбург». В этот день одному из моих лучших людей, стрелку Хону, осколком снаряда оторвало руку. Другой, Хайгеттинг, был тяжело ранен в бедро одной из множества шальных пуль, шнырявших по нашему лежащему в низине земляному укреплению. А также мой верный Август Кеттлер – первый из множества моих денщиков – на пути в Монши, откуда он собирался принести мне еду, пал жертвой шрапнели, распластавшей его на земле с пробитой трахеей. Когда он уходил с котелком, я говорил: «Август, смотри, как бы тебя не ранило на дороге!». «Ну что вы, герр лейтенант». И вот меня позвали, и я увидел его хрипящим на земле прямо перед моим блиндажом. Каждым вздохом он втягивал в грудь воздух через рану на шее. Я велел его забрать. Август умер несколько месяцев спустя в лазарете. В этом, как и во многих других случаях, болезненнее всего было ощущение, что раненый не может говорить и только глядит на хлопочущих вокруг него беспомощными глазами затравленного зверя.
Дорога из Монши к «форту Альтенбург» вообще стоила нам крови. Она проходила по заднему склону вдоль незначительной складки на местности, лежащей в пятистах метрах от нашей передовой линии. Противник, вероятно на основании аэрофотосъемок, рассматривал дорогу как действующую и считал своим долгом прочесывать ее пулеметами или забрасывать шрапнелью. И хотя рядом шла траншея и нам было строго-настрого приказано пользоваться только ею, по дороге тащились все кому не лень с привычным равнодушием бывалых солдат, без всякого прикрытия. Как правило, все сходило с рук, но одну или две жертвы судьба выхватывала ежедневно, что в целом составило ощутимую цифру. И тут же у сортира ручкались заблудшие пули, залетавшие сюда со всех сторон, так что приходилось, не совсем одетым и махая газетой, укрываться в чистом поле. Тем не менее незаменимое сооружение продолжало нерушимо стоять все в том же месте.
Январь тоже был месяцем напряженной работы. Каждое отделение рытьем, ведрами и помпой избавлялось от жидкой грязи вблизи своего блиндажа и, обретя твердую почву под ногами, старалось наладить сообщение с соседями. В Аденферском лесу, месте стоянки нашей артиллерии, команды лесорубов очищали от сучьев молодые деревья и раскалывали их на длинные поленья. Стены траншеи затесывали и обшивали деревянными щитами. Были устроены также многочисленные стоки, канавы и водосборники, и вскоре мы вновь обрели сносные условия жизни. Особенно эффективны были водосборники, снабженные направляющими воду глиняными покрытиями, распределяющими поток по гигроскопичному меловому слою.
28 января 1916 года один человек из моего взвода был ранен осколком разбившейся о заградительный щит пули. 30-го еще один получил пулю в бедро. Когда 1 февраля нас сменили, на всех ближних дорогах велся сокрушительный огонь. Шрапнель упала к ногам стрелка Юнге, бывшего штукатура из моей прежней шестой роты, но не взорвалась, а занялась длинным языком пламени, как из горелки, – Юнге унесли с тяжелыми ожогами.
В те же дни один хорошо знакомый мне унтер-офицер из шестой, брат которого незадолго до того погиб, был смертельно ранен найденной миной: он отвинтил взрыватель и, заметив, что вытряхнутый зеленоватый порох весь обгорел, сунул в отверстие тлеющую сигарету. Мина, естественно, взорвалась, нанеся ему пятьдесят ран. Так или подобным образом мы ежеминутно несли потери по легкомыслию, бывшему следствием беспрестанного общения со взрывчатыми материалами. Неудобным соседом в этом отношении был лейтенант Поок, обживший одинокий блиндаж в запутанном клубке траншей позади левого фланга. Он натащил туда кучу огромных неразорвавшихся снарядов и развлекался отвинчиванием взрывателей, разбирая их затем на мелкие детали, как часовой механизм. Всякий раз, проходя мимо этого зловещего обиталища, я разгонял большое число окружавших его зрителей. Часто люди выбивали медное направляющее кольцо снаряда, чтобы переделать его в браслет или нож для бумаги, и тогда тоже происходило что-нибудь в этом роде.
В ночь на 3 февраля после напряженного пребывания на позиции мы снова были в Души. На следующее утро я сидел в блаженном ощущении наступившего покоя у себя на квартире на Эммихплац и наслаждался кофе, как вдруг чудовищный взрыв снаряда – сигнал ко всеобщему обстрелу – раздался прямо у моей двери, швырнув оконную раму в комнату. В мгновение ока я очутился в погребе, куда уже с поразительной скоростью прибежали все остальные жильцы дома, представлявшие собой самое жалкое зрелище. Поскольку погреб до половины был выстроен над землей и отделен от сада лишь тонкой стеной, все сбились в кучу в узком коротком проходе к бомбоубежищу, строительство которого началось лишь пару дней назад. Сквозь спрессованные тела в темный угол, движимая инстинктом животного, протискивалась моя овчарка. Вдали из одного и того же места глухо слышалась череда выстрелов, за ними спустя секунд тридцать последовал свист и вой приближавшихся тяжелых снарядов, оборвавшийся грохотом взрыва возле нашего домика. Воздушная волна проникла в окна погреба, комья земли и осколки барабанили по черепичной крыше, лошади в конюшне храпели и били копытами. К тому же еще скулила собака и громко, будто ему собирались удалить зуб, вскрикивал толстый музыкант, слыша приближающийся свист.
Наконец ненастье кончилось и нам можно было выйти наружу. Разоренная деревенская улица ожила, точно потревоженный муравейник. Моя квартира выглядела растерзанной. Прямо у стены погреба земля в нескольких местах была перепахана, садовые деревья сломаны, а посреди створа ворот издевательски лежал неразорвавшийся снаряд. Крыша была вся продырявлена. Сильным взрывом срезало половину трубы. Рядом в ротной канцелярии меткий осколок пробил стены и большой платяной шкаф, изрешетив офицерские мундиры, хранившиеся там до отпуска на родину.
8 февраля на участок С обрушился сильный огонь. Еще ранним утром в блиндаж моего отделения на правом фланге, в качестве неприятного сюрприза для его обитателей, упал неразорвавшийся снаряд нашей же артиллерии, продавив дверь и опрокинув печь. Это так удачно закончившееся происшествие было отражено в карикатуре, где восемь человек над чадящей печкой были изображены прижатыми разбитой дверью, тогда как в углу злорадно ухмылялся неразорвавшийся снаряд. Затем после полудня были обстреляны еще три блиндажа; к счастью, легко был ранен в колено один человек, так как все, кроме постовых, собрались в штольне. На следующий день стрелок Хартман из моего взвода был смертельно ранен в бок огнем фланкирующей батареи.
25 февраля особое впечатление произвела на нас одна смерть, вырвавшая из наших рядов превосходного товарища. Незадолго до смены я получил у себя в блиндаже сообщение о том, что только что в соседней штольне погиб волонтер Карг. Я отправился туда и увидел, как часто уже бывало, людей из подразделения, стоящих у неподвижного тела, которое лежало на пропитанном кровью снегу со сведенными судорогой руками, с уставившимися в сумеречное зимнее небо стеклянными глазами, – снова жертва батареи с фланга! Когда начали стрелять, Карг был в окопе и тотчас спрыгнул в штольню. Снаряд так неудачно разорвался на краю окопа, что большой осколок швырнуло в совершенно закрытый ход в штольню. Воображавшему себя уже в безопасности Каргу попало в затылок, – это была быстрая, внезапная смерть.
Фланкирующая батарея вообще работала в этот день в полную силу. Примерно раз в час она давала один-единственный устрашающий залп, и прямо по окопу мело осколками. За шесть дней с 3 по 8 февраля это стоило нам трех смертей, троих тяжело – и четверых легкораненых. Хотя батарея стояла, должно быть, максимум в полутора километрах от нас на склоне горы у нашего левого фланга, наша артиллерия была не в состоянии заставить ее замолчать. Мы пробовали увеличить количество и высоту защитных поперечин, ограничив тем самым эффективность попадания снарядов по возможности меньшими участками траншеи. Места, просматриваемые с высоты, мы маскировали сеном или ветошью. Мы даже укрепляли посты балками или плитами из железобетона. Вполне хватало усиленного передвижения по окопам, чтобы поощрять тактику англичан, желавших то там, то здесь без особого расхода боеприпасов прищучить противника.
С началом марта вся эта мерзость осталась позади. Стало сухо, и траншея была чисто обшита досками. Каждый вечер я сидел в блиндаже у своего маленького стола и читал или болтал, если кто-нибудь был в гостях. Вместе с командиром роты нас было четверо офицеров, мы жили очень дружно. Каждый день мы пили кофе в блиндаже то у одного, то у другого или ужинали часто с парой бутылок, курили, играли в карты и вели солдатские беседы. Здесь же я узнал, что селедка с картофелем в мундире и топленым жиром – непревзойденная еда. Эти уютные часы в блиндаже уравновешивают в памяти иные дни, полные крови, грязи и труда. Они были возможны только в этот длинный, относительно спокойный период на позиции, где мы обжились и обзавелись почти мирными привычками. Нашей особой гордостью была строительная деятельность, ею мы занимались без всякого принуждения. Трудясь без отдыха, мы вырыли в глинистом меловике одну за другой тридцатиступенчатые штольни и соединили их перекрестными галереями, так что легко могли пробираться на глубине шести метров под землей с правого на левое крыло нашего взвода. Любимым моим детищем был шестидесятиметровый ход от моего блиндажа до командирского, от которого вправо и влево, как от подземного вестибюля, отходили складские и жилые отсеки. Это сооружение по достоинству было оценено в последующих боях.
Когда после утреннего кофе – к нам даже почти регулярно приходили газеты – свежевымытые, с дюймовой линейкой в руках мы встречались в окопе, то сравнивали достижения наших участков, касаясь в разговоре рам для штолен, типов блиндажей, сроков работ и тому подобного. Любимым предметом обсуждения было строительство моего «алькова», маленького спального места, которое должно было быть вырезано в сухом мелу и выходило бы в подземный коридор, – своего рода лисья нора, где можно было проспать и самый конец света. Для матраца у меня была припасена тонкая проволочная сетка, стены я собирался устлать особой тканью от мешков с песком.
1 марта, когда мы с ополченцем Икманом стояли за брезентом, совсем рядом раздался выстрел; осколки, не задев, пролетели мимо нас. Присмотревшись, мы обнаружили, что несколько кусков железа, омерзительно острых и длинных, разрезали брезент. Люди называли эти предметы трещоткой или картечью, так как они представляли собой не что иное, как рой осколков, который вдруг со свистом начинал носиться вокруг.
14 марта прямым попаданием шестидюймового снаряда в соседний участок справа убило трех человек и тяжело ранило еще троих. Один из убитых бесследно исчез, другой дочерна обгорел. 18-го постового у моего блиндажа задел осколок, разорвал ему щеку и отсек мочку уха. 19-го на левом фланге стрелок Шмидт был тяжело ранен выстрелом в голову. 23-го справа от моего блиндажа был убит выстрелом в голову стрелок Ломан. В тот же вечер часовой сообщил мне, что у проволочного заграждения находится неприятельский патруль. С несколькими людьми я вылез из траншеи, но ничего не обнаружил.
7 апреля на правом фланге стрелок Крамер был ранен осколком пули в голову. Ранения такого рода из-за разлетающихся при малейшем столкновении английских пуль происходили очень часто. Во второй половине дня окрестности моего блиндажа в течение нескольких часов забрасывали тяжелыми снарядами. Световой колодец завалило, и при каждом разрыве град крепкой глины летел в отверстие, что, впрочем, не помешало нам пить кофе.
Затем у нас была дуэль с безумно храбрым англичанином, чья голова виднелась над краем траншеи максимум в ста метрах от нас. Он насолил нам своими невероятно меткими, нацеленными на амбразуру выстрелами. Я отражал огонь с несколькими людьми. Все же одна точно нацеленная пуля ударилась о край нашей амбразуры, брызнув песком в глаза и слегка задев шею осколком. Мы, однако, тоже не дали маху: высовываясь, коротко целились и снова исчезали. Вслед за тем раздался выстрел по винтовке стрелка Шторха, чье лицо, задетое по крайней мере десятком осколков, все кровоточило. Следующий выстрел вырвал кусок у края нашей амбразуры. Затем еще один разбил зеркало, в которое мы наблюдали. Но мы были удовлетворены, когда наш противник после нескольких, точно положенных на глиняную приступку у его лица выстрелов бесследно исчез. Напоследок тремя выстрелами я смел заградительный щит над насыпью, откуда этот отчаянный парень всегда появлялся.
9 апреля два английских летчика несколько раз пролетали над нашими позициями. Весь состав кинулся из блиндажей и яростно палил в воздух. Стоило мне сказать лейтенанту Зиверсу: «Только бы не проснулась фланкирующая батарея!» – как сразу железные ошметки засвистели у нашего уха, и мы прыгнули в ближайшую штольню. Зиверс стоял у входа; я посоветовал ему пройти дальше, и – раз! – к его ногам на влажную глину шлепнулся, в ладонь шириной, еще дымящийся осколок. В придачу мы получили еще несколько шрапнельных снарядов, черные шары которых с огромной силой разрывались над нашими головами. Один человек был ранен в плечо осколком с булавочную головку, причинившим ему, однако, довольно сильную боль. За это я влепил англичанам в траншею несколько «ананасов», то есть пятифунтовых мин, напоминающих формой этот изысканный фрукт. Словно по молчаливому уговору стороны ограничивались огнестрельным оружием, применение же взрывчатых веществ возвращалось противнику сторицей. К сожалению, у противника было достаточно пуль, чтобы сохранять долгое дыхание в перестрелке.
После этого ужаса мы выпили в блиндаже у Зиверса несколько бутылок красного вина, так взбодривших меня, что, несмотря на яркий лунный свет, я возвращался в свое жилище поверху. Вскоре я потерял направление, попал в воронку от снаряда и услышал голоса англичан, работавших у себя в траншее. Нарушив их покой парой гранат, я быстро скрылся в своей траншее, наткнувшись при этом рукой на торчащий шип одного из наших славных капканов. Они состояли из четырех железных лезвий, на одно из которых я и напоролся. Мы ставили их на крысиные тропы.
Вообще у проволочных заграждений в эти дни царила оживленная деятельность, не лишенная доли мрачного юмора. Так, один из наших патрульных был подстрелен своими же людьми, – он заикался и не смог сразу произнести пароль. Другой, пропраздновав до полуночи на кухне в Монши, перелез через заграждение и открыл огонь против своей же собственной линии. Когда он отстрелялся, его втащили внутрь траншеи и надлежащим образом избили.
Начало битвы на Сомме
В середине апреля 1916 года я был откомандирован в Круазиль, городок за линией фронта, на курсы обучения, проходившие под личным руководством командира дивизии генерал-майора Зонтага. Это были теоретические и практические занятия по ряду военных дисциплин. Особенно увлекательными были тактические конные выезды, которыми руководил майор фон Яроцки. Частые вылазки и осмотры земляных сооружений в тылу – нам, привыкшим пренебрежительно глядеть на все лежащее позади передовой линии, давали понятие о безмерном труде, совершаемом за спиной сражающихся войск. Мы посетили бойню, провиантские склады и оружейную мастерскую в Буаэле, лесопильню, саперный парк в Бурлонском лесу, молочную ферму, свиноферму и мыловарню в Инши, самолетный парк и пекарню в Кеанте. По воскресеньям мы ездили в близлежащие города Камбре, Дуэ и Валансьен, «чтоб снова взглянуть на женщин в шляпках».
С моей стороны было бы не очень хорошо, если б в этой книге, где столько крови, я умолчал бы о маленьком приключении, в котором сыграл довольно комическую роль. Однажды зимой, когда наш батальон гостил у «короля Кеанта», я первый раз в качестве молодого офицера был назначен проверять посты. Заблудившись на новом месте, я зашел в крошечный одинокий домик, чтобы узнать, как добраться до небольшого поста у вокзала. Единственным обитателем его оказалась семнадцатилетняя девушка по имени Жанна; ее отец недавно умер и она хозяйничала там одна. Отвечая на мой вопрос, Жанна засмеялась и сказала: “Vous etes bien jeune, je voudrai avoir votre devenir”.[14] Из-за воинственного тона, каким были сказаны эти слова, я дал ей имя Жанны д'Арк и не раз потом во время окопных боев мысленно возвращался к одинокому домику.
Как-то вечером в Круазиле я ощутил внезапное желание съездить туда верхом. Я велел седлать коня, и городок вскоре остался позади. Был майский вечер, как нарочно придуманный для такой поездки. Клевер лежал тяжелым бордовым ковром на окаймленных цветущим терновником лугах, а у въезда в деревню в сумерках светились гигантские канделябры цветущих каштанов. Я поехал через Булькур и Экус, не подозревая, что два года спустя среди совершенно изменившегося ландшафта я буду вынужден штурмовать зловещие развалины деревень, в этот вечер так мирно лежащих в окружении прудов и холмов. На маленькой станции, которую я тогда проверял, жители сгружали баллоны с газом. Я поздоровался и немного понаблюдал за ними. Вскоре передо мной появился знакомый домик с забрызганной красно-коричневыми круглыми пятнами мха крышей. Я постучался в закрытые ставни.
– Qui est la?
– Bon soir, Jeanne d'Arc!
– Ah, bon soir, mon petit officier Gibraltar![15]
Меня встретили так приветливо, как я и ожидал. Привязав лошадь, я вошел. Мне пришлось разделить ужин: яйца, белый хлеб и масло, выглядевшее очень аппетитно на листе капусты. В подобных обстоятельствах не ждут приглашения: сразу приступают к действию.
Все было бы прекрасно, если бы потом, когда я вышел на улицу, передо мной не мигнул фонарик и полевой жандарм не спросил мои документы. Мой разговор с жителями, внимание, с каким я рассматривал баллоны с газом, мое непонятно в каком качестве появление в этом слабо занятом войсками районе – все это возбудило подозрение в шпионаже. Естественно, я забыл свою солдатскую книжку, и меня пришлось отвести к «королю Кеанта», восседавшему, как обычно, во главе застолья.
У «короля» знали толк в подобных приключениях. Личность моя была удостоверена. Меня пригласили в компанию.
На этот раз «король» предстал в другом свете. Было уже поздно. Он рассказывал о девственных тропических лесах, где он долгое время руководил строительством железной дороги.
16 июня мы снова были отпущены генералом в войска с небольшим обращением, из коего мы поняли, что готовится крупное наступление врага на Западном фронте, левый фланг которого будет находиться приблизительно напротив нашей позиции. Это была битва на Сомме, тень ее уже легла на нас. Ею должен был завершиться этот первый, и самый легкий, этап войны. Теперь мы словно вступали в новую войну. Все, что мы до сих пор, сами того не подозревая, переживали, – было попыткой выиграть войну устаревшими полевыми схватками и неудачей, которую эта попытка потерпела в позиционной войне. Теперь нам предстояла битва с участием техники с ее колоссальными резервами. К концу 1917 года она, в свою очередь, сменилась планомерной технической войной, образ которой пока еще был неясен.
То, что в воздухе что-то носится, стало ясно по возвращении в полк, когда товарищи рассказали о растущем беспокойстве на участке. Англичане выслали, впрочем без успеха, против участка С мощный патруль. После артподготовки мы ответили налетом трех офицерских патрулей на так называемый окопный треугольник, взяв при этом какое-то число пленных. Пока я отсутствовал, лейтенанта Ветье ранило в руку шрапнельной пулей, однако вскоре после моего прибытия он опять принял руководство ротой. Мой блиндаж также изменился, – из-за попадания он стал вполовину меньше. Во время вышеупомянутого патрулирования англичане забросали его ручными гранатами. Моему заместителю удалось протиснуться через световой колодец наружу, а его денщик погиб. Брызги крови еще виднелись большими бурыми пятнами на досках обшивки.
20 июня мне поручили подслушать у неприятельского окопа, не занят ли противник минерными работами; в полночь вместе с фенрихом Вольгемутом, ефрейтором Шмидтом и стрелком Партенфельдером я перебрался через наше довольно высокое проволочное заграждение. Согнувшись, прошли мы первый отрезок и поползли по густо заросшей полосе обеспечения. Детские воспоминания из Карла Мая пришли мне в голову, пока я скользил на животе по росистой траве и сквозь заросли чертополоха, осторожно стараясь избегать всякого шума, так как из сумрака в пятидесяти метрах впереди темной линией выступали английские окопы. Огонь отдаленного пулемета почти отвесно падал на нас; временами в небо взмывала осветительная ракета и бросала свой холодный свет на неуютную землю.
Неожиданно за спиной раздалось сильное шуршание, две тени прошмыгнули в сторону окопов. Пока мы готовились к броску, они бесследно исчезли. Грохот ручных гранат в английских окопах дал понять, что это наши люди пересекли нам дорогу. Мы медленно поползли дальше.
Вдруг рука фенриха сжала мою руку: «Внимание направо, совсем близко, тихо, тихо!». Вслед за тем я услышал справа от нас, метрах в десяти, мерный шум в траве. С внезапной отчетливостью, как часто бывает в такие мгновения, я осознал наше положение. Мы двигались все время вдоль английских заграждений, враг услышал нас и вышел из окопов обследовать нейтральную полосу.
Незабываемы эти мгновения ночной разведки. Зрение и слух обострены до предела, приближающийся шум чужих шагов в высокой траве обретает невероятную, почти роковую силу, – это захватывает целиком. Дыхание делается прерывистым, приходится подавлять в себе желание кашлянуть. С коротким металлическим щелчком отскакивает предохранитель пистолета, – звук, бьющий по нервам. Зубы скрипят на шнуре запала ручной гранаты. Столкновение будет кратким и смертельным. Охватывает дрожь под воздействием двух мощных чувств: растущего азарта охотника и страха его жертвы. Весь мир заполнен тобой, опустошенным темным ощущением ужаса, нависшего над пустынной местностью.
Несколько смутных фигур вынырнуло прямо перед нами. Донесся шепот. Мы повернули к ним головы. Я услышал, как баварец Партенфельдер закусил лезвие кинжала.
Они приблизились к нам на несколько шагов и начали работать у проволоки, не замечая нас. Мы медленно отползли далеко назад, не спуская с них глаз. Смерть, стоявшая в нетерпеливом ожидании меж двух групп людей, удалилась, недовольная. Спустя некоторое время мы поднялись и пошли дальше, пока не прибыли благополучно на свой участок.
Удачный исход нашей вылазки окрылил нас до того, что мы решили в следующий вечер выйти снова, чтобы раздобыть пленного. Я отдыхал всю вторую половину дня, пока грохот взрыва возле моего блиндажа не заставил меня вскочить. Англичане выпустили фугас, который, несмотря на незначительный шум при запуске, был такой тяжелый, что осколки его начисто срезали сваи обшивки с дерево толщиной. Проклиная все, я слез со своего “coucher”[16] и отправился в окоп, но, увидев там снова летящий по дуге черный шар снаряда, с воплем «Снаряд слева!» исчез в ближайшей штольне. Снарядами всех сортов и размеров в ближайшие недели нас угощали так щедро, что уже выработалась привычка: проходя по траншее, одним глазом глядеть в воздух, другим – на вход в ближайшую штольню.
Ночью с тремя спутниками я снова проползал у окопов. Мы передвигались по-пластунски вплотную к английским укреплениям, прячась за отдельные пучки травы. Спустя некоторое время появилось несколько англичан, тянувших катушку проволоки. Они остановились прямо перед нами, поставили катушку, щелкая вокруг нее ножницами и шепотом переговариваясь. Мы, как змеи, скользнули ближе, быстро перебросились словами не громче выдоха. «Сперва гранату – и берем одного!» – «Их же четверо!» – «Да ведь их всех прихлопнет!» – «Заткнись ты!» – «Тсс!». Но было уже поздно: когда я снова взглянул, англичане как ящерицы скользнули под свою проволоку и исчезли в траншее. Настроение спало. От мысли, что они сейчас принесут на позицию пулемет, стало пресно во рту. Остальные опасались того же. Под шум и лязг оружия мы на животе отползли назад. В английских окопах было оживленно. Суета, мельтешение, быстрый шепот. Пшш… Осветительная ракета. Стало светло как днем; мы пытались спрятать головы в пучки травы. Еще одна ракета. Болезненное ожидание. Хочется провалиться сквозь землю, а еще лучше – находиться в любом другом месте, только не в десяти метрах от постов противника. Еще ракета. Пенг! Пенг! Знакомый резкий оглушительный звук нескольких с близкого расстояния произведенных винтовочных выстрелов. «Ага, нас обнаружили!»
Ни с чем не считаясь, подбадривая себя громким криком, мы рискнули на бег ради жизни, вскочили и ринулись под брызжущим во все стороны огнем к нашей позиции. После нескольких прыжков я споткнулся и упал в маленькую, почти плоскую воронку от гранаты, пока трое других, считавших, что со мной покончено, пронеслись мимо. Я вжался в землю, подтянул голову к коленям и предоставил пулям пролетать надо мной в высокой траве. Неприятны были также кусочки тлеющего магния с падающих осветительных ракет, иногда догоравших совсем близко от меня, – от них я отмахивался фуражкой. Наконец стрельба ослабела и, спустя четверть часа, я покинул свое убежище, двигаясь сперва медленно, потом быстро как только несли меня ноги. Так как месяц тем временем зашел, я перестал что-либо видеть и не знал, где находится ни английская, ни немецкая сторона. Даже характерные руины мельницы в Монши не виднелись больше на горизонте. Временами с той или другой стороны с устрашающей резкостью проносились над землей пули. В конце концов я залег в траву и решил дождаться рассвета. Вдруг совсем рядом послышался шепот. Я снова изготовился к бою и, как осторожный человек, издал несколько натуральных звуков, из которых трудно было различить, немец я или англичанин. На первый же оклик на английском я решил ответить гранатой. К моей радости выяснилось, что передо мной мои люди, уже отстегнувшие ремни, чтобы забрать мой труп. Некоторое время мы сидели вместе в воронке и радовались счастливому свиданию. Потом мы отправились в наши окопы, до которых добрались после трехчасового отсутствия.
В пять часов утра я уже нес окопную службу. На участке первого взвода перед своим блиндажом стоял фельдфебель X. Когда я удивился, что вижу его в такой ранний час, он рассказал, что подстерегает большую крысу, лишающую его по ночам сна своей возней. При этом он обозревал свой до смешного маленький блиндаж, который он окрестил «виллой Леберехт Хюнхен».
Стоя друг подле друга, мы услышали глухой выстрел, не возвещавший на сей раз ничего опасного. За день до этого X. чуть не убило большим снарядом, и потому, испугавшись, он метнулся ко входу в ближайшую штольню, проехал на заднице первые пятнадцать ступенек, а на последних пятнадцати – трижды перекувырнулся через голову. Стоя у входа, я от смеха позабыл про снаряды и штольни, услышав, как бедная жертва оплакивает неудачную охоту на крысу, потирая тело в разных местах и пытаясь вправить вывихнутый палец. Несчастный поведал мне, что вчера, когда его вспугнул снаряд, он как раз ужинал. Вся его еда отправилась к черту, а кроме того, он уже вчера весьма чувствительно скатился по лестнице.
После этого развеселившего меня происшествия я отправился в свой блиндаж, но мне так и не довелось уютно подремать. Утром со все более короткими промежутками нашу траншею обстреливали снарядами. К обеду началось уже что-то несусветное. Я установил наш миномет и взял на прицел вражеские окопы. Впрочем, это был довольно слабый ответ на тяжелые снаряды, которыми нас буквально испахали. Обливаясь потом, мы сидели на корточках на нагретой жарким июньским солнцем глине малого углубления траншеи и посылали врагу мину за миной. Так как и это не укротило англичан, мы с Ветье отправились к громкоговорителю и после некоторого размышления послали следующий крик о помощи: «Бабка харкает нам в окоп. Здоровенные сгустки. Нужна картошка, крупная и мелкая!» Этой тарабарщиной мы пользовались, когда опасались, что нас подслушает противник. Незамедлительно от старшего лейтенанта пришел утешительный ответ, что сию секунду прибудет толстый усатый вахмистр в сопровождении нескольких малых ребят, и тут же с неслыханным грохотом во вражескую траншею пронесся наш тяжелый, в два центнера, снаряд, несколько раз поддержанный шквалом беглого огня полевой артиллерии, так что остаток дня мы провели спокойно.
Но на следующий день танцы завязались еще покрепче. С началом стрельбы по своему подземному коридору я отправился во второй окоп, а оттуда – в траншею, где был установлен наш миномет. Мы открыли огонь, отвечая на каждый фугас миной. После того как мы обменялись приблизительно сорока снарядами, вражеский наводчик, казалось, стал вести пристрелку специально по нам. Снаряды ложились то справа, то слева от нас, что, впрочем, не мешало нам трудиться дальше, пока один из них не направился прямо к нам. В последний момент мы рванули за пусковой шнур и кинулись прочь так быстро, как только могли. Только я влетел в залитый грязью, опутанный проволокой окоп, как чудовище лопнуло прямо за моей спиной. Мощная воздушная волна швырнула меня через моток колючей проволоки в наполненную зеленоватой жижей воронку, град крепких комьев глины барабанил по мне. Полуоглушенный, не соображающий, в какую сторону идти, я поднялся. Штаны и сапоги были порваны колючей проволокой. Лицо, руки и мундир были густо перемазаны глиной. На колене кровоточила длинная ссадина. С трудом дотащился я через окопы до своего блиндажа, чтобы передохнуть.
Впрочем, вражеские снаряды не причинили большого вреда. Траншея была в нескольких местах разрушена, громко глаголивший миномет разнесен, «виллу Леберехт Хюнхен» окончательно доконало прямым попаданием. Ее несчастный владелец уже сидел внизу в штольне, иначе пришлось бы ему при таких обстоятельствах сверзиться в третий раз.
Всю вторую половину дня стрельба продолжалась без перерыва, превратившись к вечеру из-за бесчисленного множества цилиндрических снарядов в ураганный огонь. Эти снаряды в форме валика наши называли «снарядами из бельевой корзины», так как иногда казалось, будто кто-то вытряхивает их корзинами с неба. Лучше всего можно представить себе их, если вспомнить скалку с двумя короткими ручками для приготовления лапши. Их выпускали из особых, вроде револьвера, станин, и они бултыхались в воздухе с неуклюжим шелестом, издали похожие на копченые колбасы. Они шли так плотно, что их наземный взрыв напоминал воспламеняющийся ракетный заряд. И хотя фугасы были более разрушительны, эти более действовали на нервы.
В напряженном ожидании сидели мы у входа в штольни, готовые оружием и гранатой встретить любого пришельца, но спустя полчаса огонь начал стихать. Ночью было еще два огневых налета, во время которых наши посты неизменно несли дозор, чтобы выстоять. Как только огонь стих, взмывающие вверх многочисленные ракеты высветили выскакивающих из штолен защитников, и бешеный огонь убедил врага, что в наших окопах еще есть жизнь.
Несмотря на огневое безумие, мы потеряли только одного человека – стрелка Дирсмана, которому при ударе снаряда о щит размозжило череп. Еще один был ранен в спину.
И в течение дня, сменившего эту беспокойную ночь, многочисленные огненные вихри готовили нас к близкой атаке. Наша траншея время от времени простреливалась и сделалась почти непроходимой из-за отбитого дерева обшивки. Также завалило часть блиндажей.
Командир подучастка прислал на передовую сообщение: «Перехвачен телефонный разговор англичан: они точно описывают бреши в наших проволочных заграждениях и вызывают «стальной шлем». Означает ли это слово тяжелые снаряды, еще не известно. Будьте готовы!»
Итак, грядущей ночью мы решили быть все время настороже и договорились пристрелить любого, кто на оклик «алло» не назовет свое имя. Каждый офицер зарядил свою ракетницу одной красной ракетой, чтобы сразу дать знать артиллерии.
Ночь в самом деле была еще более бурной, чем прошлая. Огневой налет в 2:15 в особенности превзошел все предыдущие. Град тяжелых снарядов вокруг моего блиндажа. В полном вооружении стояли мы на лестнице в штольню, свет маленьких огарков отражался мерцанием в мокрых заплесневелых стенах. Через вход вползал голубой дым. С потолка крошило землей. Бум! «Черт возьми!» – «Спичку, спичку!» – «Гаатовсь!» Сердце колотилось у горла. Руки, не слушаясь, освобождали капсюль гранаты. «Это последний» – «Пошел!» Когда мы ринулись к выходу, упал еще один снаряд со сдерживающим зажиганием. Нас швырнуло воздушной волной обратно. Тем не менее, хоть еще и спускались с великим шумом последние железные птички, все посты уже были заняты командой. Ворох ракет как днем осветил завешанную густым пологом дыма нейтральную полосу. В этих мгновениях, когда весь состав в наивысшем напряжении стоял за бруствером, было что-то таинственное; они напоминали ту перехватывающую дыхание, следующую за поднятым занавесом секунду, когда вдруг обрывается музыка и всю сцену заливает свет.
Несколько часов этой ночи я провел, прислонившись ко входу в мой блиндаж, обращенный в сторону вражеской линии, и поглядывая на часы, чтобы сделать записи об обстреле. Я наблюдал за постовым – человеком в годах, отцом семейства, иногда освещаемым сполохами разрывов, стоявшим надо мной совершенно неподвижно за своим орудием. Когда огонь утих, мы понесли еще одну потерю: стрелок Нинхюзер внезапно упал со своего места на посту и с грохотом скатился по лестнице штольни к ногам товарищей, стоявших внизу наготове. Обследовав жуткого пришельца, они нашли маленькую рану на лбу и кровоточившее отверстие над правым соском. Так и осталось неясным, ранение или стремительное падение было причиной смерти.
К концу этой ужасной ночи нас сменила шестая рота. В том особом состоянии угнетенности, какое вызывает рассвет после бессонной ночи, прошли мы по линиям траншей на Монши и оттуда – к выдвинутой на окраину Аденферского леса второй позиции, предложившей нашим глазам широкий обзор начала битвы на Сомме. Участки фронта слева от нас были окутаны белым и черным дымом, башнями вырастали места попадания тяжелых снарядов, над ними сверкали сотни молний разрывающейся шрапнели. Только пестрые ракеты – немой призыв к артиллерии о помощи – выдавали, что на позициях еще была жизнь. Впервые я увидел огонь, сравнимый лишь со стихиями природы.
Когда мне удалось, наконец, в этот вечер отоспаться, мы получили приказ грузить в Монши тяжелые снаряды и напрасно прождали всю ночь какой-то застрявший транспорт, пока англичане отвесным огнем пулеметов и прочесывавшей улицы шрапнелью, к счастью безуспешно, покушались на нашу жизнь. Особенно злил меня классный пулеметчик, так высоко веером строчивший в воздух, что пули под действием силы тяжести еще быстрее отвесно падали вниз. Так что не было никакого смысла укрываться где-нибудь за стеной.
В эту ночь противник явил нам пример всей тщательности, с какой он вел наблюдение. На второй позиции, приблизительно в двух тысячах метров от врага, перед одной еще не устроенной складской штольней выросла гора мела. Англичане сделали из этого, к сожалению, верный вывод: ночью эту кучу следовало бы замаскировать – и обстреляли ее шрапнелью, тяжело ранив трех человек.
Утром мой сон опять был спугнут приказом вести взвод на участок С для шанцевых работ. Мои подразделения находились внутри шестой роты. Несколько человек я отвел в Аденферский лес, чтобы занять их там рубкой деревьев. На обратном пути к позиции я зашел в свой блиндаж поспать с полчасика – но напрасно! В этот день не видать мне было покоя! Едва я стащил сапоги, как со стороны Аденферского леса услышал бойкий огонь нашей артиллерии. Тут же у входа в траншею появился мой денщик Паулике и заорал вниз: «Газовая атака!»
Я выхватил противогаз, влез в сапоги, застегнул пояс, помчался наружу и увидел там гигантское, плотным беловатым туманом висевшее над Монши облако газа, которое, подгоняемое слабым ветром, катилось к разрушенному до основания пункту 124.
Поскольку мой взвод был в основном на передовой, а атака была весьма вероятна, было не до размышлений. Перепрыгнув через препятствия второй позиции, я помчался вперед и вскоре очутился в газовом облаке. Колющий запах хлора мгновенно убедил меня, что речь идет не о дымовой завесе, как я сперва думал, а действительно о сильном боевом газе. Я надел противогаз, но тотчас же сорвал его, так как при быстром беге мне не хватало воздуха. К тому же стекла запотели и стали совершенно непрозрачными. Все это мало соответствовало «занятиям по газовой атаке», которые я сам довольно часто проводил. Поскольку колотье в груди уже ощущалось, я старался по крайней мере как можно быстрее пересечь облако. На окраине деревни мне пришлось еще прорываться через линию заградительного огня, разрывы которого, руководимые многочисленными облаками шрапнели, образовали длинную, с равными промежутками цепь над опустелыми, давно нехожеными полями.
Артиллерийский огонь на подобной открытой местности, где можно свободно передвигаться, действует и физически, и морально совершенно по-другому, чем в населенном пункте или на позиции. Итак, я мгновенно оставил за собой линию огня и очутился в Монши, находившейся под бешеным шрапнельным огнем. Ливень пуль, выгоревших снарядов, взрывателей с шипением валился на сучья плодовых деревьев в одичавших садах и барабанил по стенам домов.
В одном из блиндажей, вырытых в садах, я нашел своих ротных товарищей Зиверса и Фогеля; они разожгли костер и наклонялись к очистительному пламени, чтобы избавиться от действия хлора. Я принимал участие в их занятии, пока не выгорел огонь, и затем двинулся к нашим форпостам по траншее номер шесть.
Пробираясь, я видел мелких зверей, умерщвленных хлором, в изобилии лежащих на дне траншеи, и думал: «Сейчас начнется заградительный огонь, и если ты будешь тащиться так и дальше, сидеть тебе тут без прикрытия как мыши в ловушке». Тем не менее я положился на свое неисправимое спокойствие.
И в самом деле, случилось так, что всего в пятидесяти метрах от ротного блиндажа я попал в новый, еще более сильный огневой налет, при котором, казалось, было совершенно невозможно не задетым преодолеть этот короткий отрезок траншеи. К счастью, я увидел одну из тех ниш, которые выкапывались в стенках траншей для связных. Три рамы от штольни – не много, но все-таки лучше, чем ничего. Я вжался в нишу и стал пережидать ненастье.
Кажется, я отыскал самый крохотный утолок. Легкие и тяжелые снаряды, бутылки с зажигательной смесью, шрапнель, «трещотки», гранаты всех сортов – я уже не соображал, что это там жужжало, бухало и грохотало. Мне вспомнился простодушный капрал в лесу у Лез-Эпаржа и его крик ужаса: «Господи! Да что же это за штучки?»
Временами уши совершенно глохли средь общего, сопровождаемого огнем адского грохота. Беспрерывное пронзительное шипение рождало ощущение, будто сотни тяжелых снарядов несутся друг за другом с невероятной скоростью. Затем с коротким тяжелым толчком упал неразорвавшийся снаряд, так что земля вокруг затряслась. Шрапнель рвалась дюжинами, нежно, как хлопушка, выпуская свои пули плотным облаком, а отработанные оболочки с шипением валились следом за ними. Если рядом ударял снаряд, сверху на меня сыпался всякий мусор, а осколки со свистом впивались в землю.
Но все же это звучание легче описать, чем вынести, ибо каждый отдельный звук проносящегося железа сознание связывало с мыслью о смерти. Итак, я сидел на корточках в своей норе, заслонив рукой глаза, и перебирал в уме все возможные виды попаданий. Мне кажется, я нашел сравнение, довольно точно передающее ощущение ситуации, в которую я попадал довольно часто, как всякий солдат на этой войне. Надо представить себя крепко привязанным к столбу, и что некто, размахивая тяжелым молотом, все время угрожает вам. Молот то удаляется в размахе, то свистит перед вами, почти касаясь черепа, потом задевает столб, так что летят осколки, – именно это соответствует ощущению, которое переживает находящийся вне укрытия посреди сильного обстрела. К счастью, подспудное чувство, как это бывает во время игры, говорило мне: «все-будет-хорошо», что действует успокаивающе, даже если на то нет достаточных оснований. Так закончился и этот обстрел, и я продолжил свой путь, торопясь еще больше.
На передовой люди были заняты, согласно многократно тренировавшемуся «поведению при газовой атаке», тем, что смазывали свои винтовки, дула которых совершенно почернели от газа. Фенрих с грустью показал мне свою новую портупею, утратившую серебристый блеск и ставшую зеленовато-черной.
Поскольку у противника все было спокойно, я опять отошел со своими подразделениями. В Монши мы увидели множество сидящих перед медпунктом людей, пораженных газом; они прижимали руки к бокам, стонали и задыхались, глаза их слезились. Все это было совсем не безобидно. Некоторые из них скончались через несколько дней в ужасных мучениях. Нам пришлось вынести газовую атаку чистого хлора – отравляющего вещества, разъедающего и сжигающего легкие. С этого дня я решил никогда не выходить без противогаза. До сих пор с неописуемым легкомыслием я частенько оставлял его в блиндаже, используя футляр в качестве сумки для бутербродов. На обратном пути я зашел что-нибудь купить в столовой второго батальона и увидел там расстроенного малого посреди кучи разбитых товаров. Снаряд пробил потолок, влетел в лавку и обратил ее сокровища в удивительную мешанину из повидла, вытекших консервов и зеленого мыла. С чисто прусской тщательностью хозяин выставил счет убыткам на сумму 82 марки 58 пфеннигов.
Вечером мой взвод, находившийся до этого на второй позиции, из-за неопределенности боевой ситуации был подтянут к деревне, получив местом пребывания рудник. В многочисленных нишах мы устроили подобие лагеря и зажгли гигантский костер, выведя дым в шахту колодца к великому гневу ротных поваров, задыхавшихся наверху, когда они тянули свои ведра с водой. Сочинив отличный грог, мы расселись у костра на меловых плитах, пели, пили и курили.
Приблизительно в полночь на боевой дуге у Монши разразился адский спектакль: дюжинами трезвонили сигнальные колокола, палили сотни орудий и беспрестанно взмывали вверх зеленые и белые ракеты. Затем начался наш заградительный огонь, тяжелые снаряды грохотали, оставляя за собой шлейфы огненных искр. Всюду, где в нагромождении развалин обитала хоть одна живая душа, раздавался протяжный крик: «Газовая атака! Газ! Га-аз! Га-а-аз!»
В свете ракет ослепительный газовый поток прокатывался по черным зубчатым силуэтам стен. Сильный запах хлора ощущался и в руднике, поэтому мы зажигали у входа большие пучки соломы, едкий дым которых выгонял нас из нашего убежища и заставлял размахивать шинелями и кусками брезента, очищая воздух.
На следующее утро мы с изумлением осматривали следы, оставленные газом. Большая часть растений увяла, повсюду лежали мертвые кроты и улитки, а размещенным в Монши лошадям конный связной обтирал слезившиеся глаза и исслюнявленные морды. Рассеянные повсюду пули и осколки покрылись благородной зеленой патиной. В самом Души следы облака были еще заметнее. Пострадавшие жители собрались перед жильем полковника фон Оппена и требовали противогазов. Их посадили на грузовые автомобили и отправили в тыловые населенные пункты.
Всю следующую ночь мы провели в руднике; вечером пришло распоряжение, чтобы в 4:15 мы получили кофе, так как английский перебежчик сообщил, что в 5 часов начнется атака. Действительно, едва вернувшиеся с кофе дежурные нарушили наш сон, как снова раздалось уже знакомое: «Газовая атака!» Снаружи в воздухе висел сладковатый запах, – на этот раз нас наградили фосгеном. На линии Монши бушевал ураганный огонь, вскоре, однако, затихший.
За этим неспокойным часом последовало освежающее утро. Из траншеи номер шесть на деревенскую улицу вышел лейтенант Брехт с рукой на окровавленной перевязи, с ним шли человек с примкнутым штыком и пленный англичанин. Брехт был с триумфом принят в штаб-квартире Запада и рассказал следующее.
В 5 часов англичане выпустили из баллонов газ и дым и вслед за тем сильно бомбили траншею снарядами. Как обычно, наши люди еще во время огня выскочили из укрытий, потеряв при этом более тридцати человек. Потом появились спрятанные за дымовой завесой два усиленных английских патруля, один из которых проник в траншею и прихватил с собой раненого унтер-офицера. Другой патруль был прихлопнут еще у проволочных заграждений. Единственного англичанина, преодолевшего препятствие, Брехт, бывший до войны плантатором в Америке, ухватил за пояс и со словами “Come here, you son of a bitch!”[17] принял в свои объятия. Этот единственный получил стакан вина и полуиспуганно и полуизумленно глядел на только что еще пустую деревенскую улицу, кишевшую теперь разносчиками еды, санитарами, связными и ротозеями. Это был высокий, совсем юный парень с золотистыми волосами и свежим детским лицом. «Какое несчастье, приходится убивать таких парней!» – думал я, глядя на него.
Вскоре у перевязочного пункта собрался длинный поезд носилок. С юга Монши прибыло множество раненых, так как в роте участка Е врагу ненадолго удалось осуществить прорыв. Один из прорвавшихся был, должно быть, отчаянным парнем. Незамеченный, он спрыгнул в траншею и помчался вдоль нее за спинами постовых, наблюдавших за местностью впереди. Он по очереди набрасывался сзади на ограниченных в поле зрения из-за противогазов постовых и, оглушив часть из них ударами приклада, так же незамеченным вернулся на английскую линию. Когда приводили в порядок траншеи, нашли восьмерых с размозженными затылками.
Приблизительно пятьдесят носилок, на которых лежали стонущие в окровавленных бинтах люди, установили перед несколькими навесами из рифленой жести, где врач с засученными рукавами делал свое дело.
Юный паренек, сизые губы которого дурным предвестием выделялись на снежно-белом лице, лепетал: «Я тяжело… Я никогда уже… Я… должен… умереть». Толстый унтер-офицер глядел на него и время от времени бормотал утешительное: «Ну, ну, приятель!»
(…) На следующий день мы, наконец, на несколько дней снова вернулись в нашу любимую деревню. В тот же вечер мы отпраздновали удачный исход этой маленькой акции несколькими заслуженными бутылками вина.
1 июля на нас возложили печальную обязанность похоронить часть наших убитых на церковном дворе. Тридцать девять деревянных гробов, на неструганых досках которых карандашом написали имена, опустили в могилу. Священник начал словами: «Вы – гибралтарцы и воистину стояли как скала в бушующем море!» – а в конце добавил: «Они славно сражались».
Лишь в эти дни я по-настоящему научился ценить людей, с которыми мне предстояло вместе сражаться еще два года. Я имею в виду акцию англичан, вряд ли даже упомянутую в армейских сводках: с ней нам пришлось столкнуться на участке, вообще не предназначавшемся для крупной атаки. Собственно говоря, от состава всякий раз требовалось сделать всего несколько шагов, а именно преодолеть короткий отрезок, отделяющий посты от входов в штольню. Но шаги эти надо было сделать в тот момент кульминации огня, который предваряет атаку и который надо уметь ощутить. Людская волна, в эти ночи часто, и даже без приказа, кидающаяся за брустверы сквозь яростный огонь, являла собой пример высокой и в то же время бескорыстной человеческой самоотверженности.
С особой силой в моей памяти запечатлелась картина растерзанной, дымящейся позиции, которой я проходил сразу после атаки. Дневные посты уже были на местах, но траншеи еще не были приведены в порядок. На постах еще лежат павшие и тут же, будто выросшая из этих тел, у орудий стоит новая смена. Странный шок вызывал вид этих групп. На мгновение будто исчезала разница между жизнью и смертью.
Вечером 3 июля мы вернулись на передовую. Было относительно спокойно, но чувствовалось, что что-то носится в воздухе. В лощине у неприятеля приглушенно, но беспрерывно звучал молот, будто обрабатывали металл. Часто мы перехватывали предназначенные для английского офицера инженерных войск на передовой тайные переговоры о газобаллонах и взрывных работах. С раннего утра и до поздних сумерек английские самолеты несли службу по созданию плотного воздушного заграждения перед своим тылом. Норма дневного обстрела траншей стала заметно больше, чем обычно.
Произошла подозрительная смена целей обстрела, будто нащупывались новые батареи. И все-таки 12 июля нас сменили, – мы так и не успели пережить ничего неприятного и остались в резерве в Монши.
Вечером 13-го наши блиндажи в садах были обстреляны корабельным десятидюймовым орудием, мощные снаряды которого мчались по строго отлогой траектории. Они разрывались с поистине ужасающим грохотом. Ночью нас разбудили сильный огонь и газовая атака. Мы сидели в блиндаже вокруг печки, в натянутых противогазах, кроме Фогеля, не нашедшего своего. Он совался во все утлы, бегал туда-сюда, пока злорадствующие приятели сообщали, что запах газа все время усиливается. Наконец я дал ему свой запасной дыхательный патрон, и он час просидел на корточках за нещадно чадящей печкой, с жалобной гримасой зажимая нос и впиваясь в свой вкладыш.
В тот же день я потерял двоих людей из своего взвода, они были ранены в деревне. Хассельман – навылет в руку, Машмайеру шрапнельной пулей прострелило шею.
В эту ночь атаки не последовало. Тем не менее полк понес утраты – около двадцати пяти убитыми и много человек ранеными. 15-го и 17-го нам пришлось выдержать еще две газовые атаки. 17-го нас сменили, и в Души мы перенесли еще два тяжелых обстрела. Один случился прямо посреди совета офицеров у майора Яроцки, проходившего в плодовом саду. Несмотря на опасность, забавно было видеть, как почтенное собрание, оберегая носы, порскнуло в разные стороны, продираясь сквозь живые изгороди, и мгновенно исчезло во всевозможных укрытиях. В саду моей квартиры снарядом убило маленькую восьмилетнюю девочку, рывшуюся в помойной яме.
20 июля мы вернулись на позицию. 28-го я с фенрихом Вольгемутом, ефрейторами Бартельсом и Биркнером договорились идти в патруль. Собственно не было никакой иной цели, кроме как побродить у заграждений, поглядеть, нет ли чего нового на ничейной земле, так как жизнь на позиции опять поскучнела. К вечеру сменивший меня офицер шестой роты, лейтенант Браунс, пришел в гости ко мне в блиндаж с несколькими бутылками хорошего вина. Около полуночи окончили мы наши посиделки, я вышел в окоп, где уже в тени поперечины собрались мои спутники. Отыскав себе несколько хороших гранат, в самом радужном настроении перелез я через проволоку, слыша «ни пуха ни пера!», посланное Браунсом вослед.
Вскоре мы подкрались к вражеским укреплениям. Как раз перед этим мы обнаружили в высокой траве довольно толстый, хорошо заизолированный провод. Я счел находку важной и поручил Вольгемуту отрезать кусок и прихватить его с собой. Пока он за отсутствием иного инструмента мучился над этим со своими сигарными ножницами, что-то тренькнуло в проводе прямо перед нами. Возникли несколько англичан, которые начали работать, не замечая наших вжавшихся в траву фигур. Памятуя о печальном опыте последней разведки, я выдохнул едва слышно: «Вольгемут! Гранату туда!» – «Герр лейтенант, пусть они еще поработают» – «Это приказ, фенрих!»
Дух прусской казармы не замедлил сказаться и в этой пустыне. С фатальным ощущением человека, ввязывающегося в безнадежную авантюру, слышал я сухой скрип выдираемого взрывателя и видел, как Вольгемут, чтобы не высовываться, пустил гранату по земле. Она застряла в кустарнике, на полпути к англичанам, ничего, казалось, не замечавших. Несколько мгновений напряженного ожидания. Крррах! Молния осветила пошатнувшиеся фигуры. С отчаянным криком: “You are prisoners!”[18] – как тигры ринулись мы в белое облако. Беспорядочное действо разыгралось в доли секунды. Я наставил свой пистолет в чье-то лицо, светившееся мне навстречу из темноты, как бледная маска. Какая-то тень с пронзительным криком метнулась к проволочному заграждению. Это был такой дикий вскрик, вроде: «Уааа-э!», который может издать только человек, увидевший привидение. Слева от меня разрядил свой пистолет Вольгемут. Ефрейтор Бартельс в замешательстве швырнул гранату.
С первым же выстрелом обойма выскочила из ручки моего пистолета. Надсаживаясь в крике, стоял я перед англичанином, с ужасом вжимавшимся в колючую проволоку, и тщетно нажимал спусковой крючок. Выстрела не было, – все было как в беззвучном сне. В окопе перед нами меж тем зашевелились. Раздались окрики. Затрещал пулемет. Мы отпрыгнули назад. Снова стоял я в воронке, направив пистолет на возникшую прямо за мной тень. На сей раз отказ пистолета был к счастью: это был Биркнер, которого я считал давно пробежавшим мимо. Дальше мы неслись к своим окопам.
У наших заграждений пули свистели так, что пришлось прыгнуть в заполненную водой и спутанную проволокой воронку от снаряда. Раскачиваясь на матраце из колючей проволоки над поверхностью воды, я слышал, как пули жужжали, пролетая надо мною, точно мощный пчелиный рой, а ошметки проволоки и осколки мели по дну воронки. Спустя полчаса, когда огонь утих, я перелез через наши препятствия и спрыгнул в траншею, радостно встреченный друзьями. Вольгемут и Бартельс были уже здесь. Спустя полчаса появился и Биркнер. Всех переполняла радость по поводу благополучного исхода, сожалели только, что и на этот раз вожделенный пленник ускользнул от нас. То, что эпизод подействовал возбуждающе, я ощутил сразу, как только, стуча зубами, залез на нары в блиндаже и, несмотря на полное изнеможение, не мог уснуть. Я хорошо знал это ощущение предельной готовности, когда в теле будто действовал маленький электрический звонок. На следующее утро я с трудом ходил, ибо через одно мое колено, носившее уже несколько памятных отметин, тянулся большой порез от проволоки, а в другом засел осколочек от гранаты, брошенной Бартельсом.
Эти краткие вылазки, когда приходилось крепко держать себя в руках, служили хорошим средством закалить характер и нарушить однообразие окопного бытия. Для солдата главное – не скучать.
11 августа вокруг деревни Берль-о-Буа бродила черная верховая лошадь, угробленная с трех выстрелов каким-то ополченцем. Английский офицер, от которого она убежала, вряд ли мог спокойно наблюдать эту сцену. Ночью стрелку Шульцу в глаз попал осколок пули. В деревне тоже прибавилось потерь, так как начисто срезанные артиллерийским огнем стены все меньше защищали от вслепую строчивших пулеметов. Мы начали копать траншеи через деревню и воздвигать в опасных местах новые стены. В одичавших садах созрели ягоды, которые были тем слаще, что лакомиться ими приходилось под жужжание залетавших сюда пуль.
12 августа было долгожданным днем, когда я мог во второй раз за время войны ехать в отпуск. Но едва я отогрелся дома, как мне вслед пришла телеграмма: «Вернуться немедленно, подробности в комендатуре Камбре». Через три часа я уже был в поезде. На пути к вокзалу мимо меня прошли три девушки в светлых платьях, с теннисными ракетками под мышкой, – озаренный сиянием жизни прощальный привет, надолго задержавшийся в моей памяти.
21-го я снова был в знакомой местности, дороги кипели в связи с уходом третьей и прибытием новой дивизии. Первый батальон находился в деревне Экуз-Сен-Мен, ее развалины нам предстояло штурмовать два года спустя.
Паулике, дни которого тоже были сочтены, встретил меня. Он сообщил, что молодые люди из моего взвода уже раз двадцать справлялись, не вернулся ли я. Это известие живо взволновало меня и наполнило уверенностью. Насколько можно было судить, я в жаркие дни, ожидающие нас, не только был причислен начальством к свите, но имел и личные активы.
На ночь меня с восемью другими офицерами разместили на чердаке пустующего дома. Вечером мы еще долго не спали и за неимением ничего более крепкого пили кофе, который готовили нам две француженки из соседнего дома. Мы знали, что на сей раз нам предстоит битва, каких еще не знала мировая история. Мы жаждали победы не менее, чем войска, два года назад перешедшие границу, но были, пожалуй, опаснее их как более искушенные в бою. При этом мы были в отличном, самом веселом расположении духа, и такие слова, как отступление, были нам неведомы.
Увидевший участников этого жизнерадостного застолья должен был бы признать, что позиции, доверенные им, будут заняты, только если всех ее защитников перестреляют.
И именно этому суждено было свершиться.
Гийемонт
23 августа 1916 года нас поместили в грузовики, и мы отправились в Ле-Месниль. Мы уже знали, что должны осесть в легендарном центре битвы на Сомме – деревне Гийемонт, но несмотря на это настроение было отличным. Шутки, при общем смехе, перебрасывались с одной машины на другую.
Во время одной остановки шофер, заводя машину, раздробил себе большой палец. Вид этой раны вызвал у меня, всегда чувствительного к подобным вещам, почти тошноту. Тем удивительнее, что в последующие дни я был в состоянии вынести вид тяжелых увечий без всякого волнения. Это пример того, как целостный смысл определяет отдельные житейские впечатления.
С наступлением темноты мы вышли маршем из Ле-Месниля в направлении Сайи-Сайизеля, где батальон, расположившись на просторном лугу, снял ранцы и приготовил боевое снаряжение.
Впереди грохотали раскаты артиллерийского огня небывалой силы, тысячи сверкающих молний превращали западный горизонт в сплошное море бушующего огня. Непрерывным потоком возвращались раненые с бледными, осунувшимися лицами, часто бесцеремонно оттесняемые в кювет орудиями, с грохотом проносившимися мимо, или колоннами с боеприпасами.
Связной Вюртембергского полка представился мне, чтобы отвести мой взвод в знаменитый городок Комбль, где мы временно должны были оставаться в качестве резерва. Это был первый немецкий солдат, на котором я видел стальную каску, и он тотчас показался мне жителем некоего нового, таинственного и сурового мира. Сидя рядом с ним в кювете, я жадно расспрашивал его о житье-бытье на позиции и услышал монотонный рассказ о длящемся целыми днями сидении в воронках без всякой связи и подходных путей, о беспрерывных атаках, о полях, усеянных трупами, о жажде, доводящей до безумия, о повальной смерти среди раненых и о многом другом. Обрамленное кантом стальной каски, его неподвижное лицо и монотонный, сопровождаемый шумом фронта голос производили на нас жуткое впечатление. За какой-то короткий срок в чертах этого вестника, который должен был сопровождать нас во властилище огня, запечатлелось клеймо, отличавшее его от нас чем-то, чего нельзя было выразить словами.
– Упадешь – останешься лежать. Никто не поможет. Никто не знает, вернется ли живым. Атаки – каждый день, но не прорваться. Всем ясно, что бой идет не на жизнь, а на смерть.
В этом голосе не осталось ничего, кроме великого мужского безразличия. С такими мужами можно идти в бой.
По широкой улице, при лунном свете белой лентой пролегавшей по темной местности, мы шагали навстречу канонаде, оглушительный рев которой становился все непомерней. Оставь надежду позади себя! Особую мрачность этому ландшафту придавало то, что все его дороги, как светящиеся жилы, проступали в лунном свете и что на них было не видать ни единой живой души. Мы шагали по ним, как по мерцающим тропам ночного кладбища.
Вскоре справа и слева от нас разорвались первые снаряды. Речи стали тише и наконец совсем смолкли. Каждый прислушивался к нарастающему вою снарядов с тем особым напряжением, которое наделяет слух крайней остротой. Прохождение Фрегикур-Ферма, небольшой группы домов перед кладбищем Комбля, стало для нас первым испытанием. В этом месте мешок, в который был забран Комбль, уже туго затянулся. Каждый, кто хотел войти в город или оставить его, должен был прорываться здесь, поэтому непрекращающийся огонь непомерной силы, подобный лучам зажигательного стекла, был сосредоточен именно на этой жизненно важной артерии. Командир уже предупредил нас об этом пресловутом перевале; мы прошли по нему быстрым маршем, видя, как все вокруг с треском рушилось.
Над руинами, как и всюду над опасными зонами этой области, стоял густой смрад разлагающихся трупов, ибо огонь был таков, что о погибших уже никто не заботился. Речь шла о жизни и смерти, и когда я, проходя здесь, ощутил этот запах, то нисколько не удивился, – он был неотъемлемой принадлежностью данной местности. Впрочем, это тяжелое и сладковатое дыхание вовсе не казалось омерзительным; более того, оно возбуждало, смешиваясь с едкими парами взрывчатки, – то было состояние восторженной прозорливости, какое может вызывать только величайшая близость смерти.
Я сделал здесь одно наблюдение, и за всю войну, пожалуй, только в этой битве: бывает такая разновидность страха, который завораживает, как неисследованная земля. Так, в эти мгновения я испытывал не боязнь, а возвышающую и почти демоническую легкость; нападали на меня и неожиданные приступы смеха, который ничем было не унять.
Комбль, насколько можно было судить в кромешной тьме, был уже не поселком, а всего лишь его скелетом. Дрова, беспорядочно валявшиеся между развалинами, и вышвырнутая на дорогу домашняя утварь красноречиво говорили о том, что разрушение произошло совсем недавно. Преодолев несметные горы мусора с быстротой, подогретой очередной порцией шрапнели, мы добрались до нашей квартиры – большого, изрешеченного пулями дома, где я поселился с тремя подразделениями; два же других устроились в подвале разрушенного дома, расположенного напротив.
Уже в четыре часа нас подняли с нашего ложа, кое-как составленного из обломков кроватей, и отправили получать стальные каски. Заодно мы нашли в нише погреба целый мешок кофейных зерен, – открытие, имевшее своим последствием усердную варку кофе.
Позавтракав, я немного осмотрелся. За короткий срок стараниями тяжелой артиллерии мирный этапный городок превратился в арену кошмара. Целые дома прямым попаданием были вмяты в землю или разворочены изнутри, так что комнаты вместе с обстановкой парили над хаосом, как театральные декорации. Из некоторых развалин несло трупным смрадом, ибо первый внезапный налет застал жителей врасплох, похоронив многих под руинами, прежде чем они успели выбежать из домов. У одного порога лежала маленькая мертвая девочка, распростертая в луже крови.
Больше всего досталось площади перед разрушенной церковью напротив входа в катакомбы – древнего пещерного коридора со взорванными нишами, в которых теснились почти все штабы боевых группировок. Рассказывали, будто жители в самом начале налетов кирками расчистили замурованный вход, в течение всей оккупации утаиваемый от немцев.
От улиц остались только узкие тропинки; змеясь, прорезали они мощные нагромождения из балок и каменной кладки. В развороченных садах погибло несметное количество фруктов и овощей.
После обеда, который мы сварили из неприкосновенных запасов, бывших у нас в изобилии, и который, как всегда, завершился крепким кофе, я улегся в кресло, чтобы отдохнуть. Из разбросанных вокруг писем я выяснил, что дом принадлежал владельцу пивоварни Лесажу. В комнате стояли раскрытые шкафы и комоды, валялись перевернутый умывальник, швейная машина и детская коляска. На стенах висели разбитые картины и зеркала. На полу, беспорядочной грудой метровой высоты, лежали вывороченные из столов ящики, белье, корсеты, книги, газеты, ночные столики, осколки, бутылки, ноты, ножки от стульев, юбки, пальто, лампы, занавески, подоконники, вырванные из петель двери, кружева, фотографии, картины, писанные маслом, альбомы, расколотые сундуки, дамские шляпы, цветочные горшки и разодранные в клочья обои.
Сквозь разбитые вдребезги окна виднелся изрытый снарядами четырехугольник опустевшей площади, заваленной ветками покореженных лип. Этот хаос впечатлений дополнялся беспрерывным артиллерийским огнем, бушевавшим вокруг этого места. Время от времени шум перекрывался мощным разрывом пятнадцатидюймового снаряда. Осколки тучами летали над Комблем, хлопали о ветки деревьев или падали на те немногие крыши, которые еще уцелели, срывая с них листы шифера.
После полудня огонь достиг такой невероятной силы, что в ушах стоял сплошной чудовищный гул, поглощавший все остальные звуки. Начиная с семи часов площадь и дома вокруг каждые полминуты обстреливались шестидюймовыми снарядами. Среди них было множество неразорвавшихся, короткие, неприятные удары которых сотрясали дом до самого основания. Мы все это время сидели на обитых шелком креслах вокруг стола, оперев голову на руки, и считали минуты между взрывами. Остроты произносились все реже, наконец замолчали и самые лихие из нас. В восемь часов, после двух прямых попаданий, рухнул соседний дом; обвал дунул вверх мощным облаком пыли.
Между девятью и десятью часами огонь забился в дикой, бешеной ярости. Земля тряслась, небо казалось гигантским кипящим котлом.
Сотни тяжелых батарей грохотали вокруг Комбля и в нем самом, беспорядочные снаряды с шипением и воем проносились над нашими головами. Все было окутано густым дымом, сквозь который высвечивались пестрые ракеты – вестники беды. Голова и уши болели так, что мы могли обмениваться только отрывистыми, похожими на рык фразами. Способность к логическому мышлению и чувство собственного достоинства, казалось, оставили нас. Ощущение неотвратимого и неизбежного вставало перед нами, как встреча с прорвавшейся стихией. Один из унтер-офицеров третьего взвода впал в буйное помешательство.
В десять часов этот адский карнавал начал утихать и перешел в ровный ураганный огонь, в котором, правда, все еще тонули единичные выстрелы.
В одиннадцать прибежал связной и принес приказ вывести взводы на церковную площадь. Потом мы соединились с двумя другими взводами для выступления на позицию. Для доставки продовольствия снарядили еще четвертый взвод под командованием лейтенанта Зиверса. Его люди окружили нас, когда мы, торопливо перекликаясь друг с другом, собрались в опасном месте, и снабдили хлебом, табаком и мясными консервами. Зиверс навязал мне целый котелок масла, пожал на прощание руку и пожелал всем самого наилучшего.
Затем мы выступили, построившись в затылок друг другу. У каждого был приказ непременно равняться на впередистоящего. Еще при выходе из поселка наш командир заметил, что заблудился. Невзирая на сильный шрапнельный огонь, мы были вынуждены вернуться. Затем короткими перебежками двинулись вдоль белой полосы, путеводной нитью проложенной через поле и разбитой взрывами на мелкие отрезки. Часто останавливались в самых неподходящих местах, если командир терял верное направление. Вдобавок ко всему, чтобы не терять друг друга из виду, было запрещено ложиться.
Тем не менее первый и третий взвод вдруг исчезли. Вперед! Оба подразделения застряли в ложбине, которая жестоко обстреливалась. Ложись! Омерзительный, навязчивый запах не оставлял сомнений, что проход этого места стоил не одной жертвы. После смертельно опасной пробежки мы попали во вторую ложбину, где был спрятан блиндаж командующего, сбились с пути и в угнетенном состоянии духа повернули назад. Примерно в пяти метрах от лейтенанта Фогеля и от меня в заднюю насыпь попал снаряд среднего калибра и, разорвавшись с глухим грохотом, забросал нас огромными комьями земли, обдав волнами смертельного ужаса. Наконец командир нашел дорогу, определив направление по наиболее заметному скоплению трупов. Один из погибших лежал на меловом откосе, раскинув руки наподобие креста, – какая фантазия могла изобрести дорожный знак, более подходящий для такого ландшафта?
Вперед! Вперед! Люди совсем обессилели от бега, но мы подбадривали их жесткими окриками, выжимая последние силы из изможденных тел. Раненые, напрасно взывая о помощи, валились направо и налево в воронки от снарядов. Дальше, не спуская глаз с идущего впереди, пробирались через траншею глубиной по колено, образованную цепью огромных воронок, в которых покойники лежали один подле другого. Нехотя ступала нога по мягким, податливым телам, чья форма скрывалась от глаз темнотой. Вот и раненого, выбежавшего на дорогу, постигла участь быть раздавленным сапогами безоглядно шагающих вперед.
Да еще этот сладковатый запах! Не выдержал и мой связной, маленький Шмидт, постоянный спутник на опасных тропах, и стал пошатываться. Я вырвал у него из рук ружье, причем добрый малый даже в этот момент попытался из вежливости сопротивляться.
Наконец мы добрались до передовой, плотно занятой притаившимися в ямах людьми; когда они узнали, что пришла смена, их бесцветные голоса задрожали от радости. Баварский фельдфебель, сказав пару слов, передал мне участок и ракетницу.
Участок моего взвода образовывал правое крыло полковой позиции и состоял из плоского ущелья, превращенного снарядами в лощину, которая в нескольких сотнях метров влево от Гийемонта и чуть меньше вправо от Буа-де-Трона врезалась в открытую местность. От правого соседа, 76-го пехотного полка, нас отделяло незанятое пространство, в котором из-за непомерно жестокого огня никто не мог находиться.
Баварский фельдфебель вдруг бесследно исчез, и я остался совершенно один, с ракетницей в руке, посреди жуткой, изрытой воронками местности, которую зловеще и таинственно скрывали стелющиеся по земле пары тумана. За мной послышался приглушенный, неприятный шум; с удивительной трезвостью я определил, что он исходил от огромного, начавшего разлагаться трупа.
Поскольку я даже приблизительно не знал, где находится противник, то отправился к своим ребятам и велел ни на минуту не терять боевой готовности. Никто не спал; я провел ночь с Паулике и обоими связными в «лисьей норе», пространство которой не превышало одного кубического метра.
Когда рассвело, незнакомая местность постепенно предстала перед изумленным взором.
Лощина оказалась всего лишь рядом огромных воронок, наполненных клочьями мундиров, оружием и мертвецами; местность вокруг, насколько хватало обзора, вся была изрыта тяжелыми снарядами. Напрасно глаза пытались отыскать хоть один жалкий стебелек. Разворошенное поле битвы являло собой жуткое зрелище. Среди живых бойцов лежали мертвые. Раскапывая «лисьи норы», мы обнаружили, что они располагались друг над другом слоями. Роты, плечом к плечу выстаивая в ураганном огне, подкашивались одна за другой, трупы засыпались землей, подбрасываемой снарядами, и новая смена тут же заступала на место погибших. Теперь подошла наша очередь.
Лощина и поле за нею были усеяны немцами, переднее поле – англичанами. Из насыпей торчали руки, ноги и головы; перед нашими норами лежали оторванные конечности и тела; для того чтобы скрыть обезображенные лица, на некоторые из них накинули шинели или плащ-палатки. Несмотря на жару, никто и не подумал предать их земле.
Деревня Гийемонт, казалось, исчезла бесследно; только белесое пятно на изрытом поле обозначало место, где меловой камень домов был размолот в пыль. Прямо перед нами, скомканный, как детская игрушка, находился гийемонтский вокзал, а далеко за ним – превращенный в щепу Дельвильский лес.
Едва занялся день, как пожаловал английский летчик и коршуном закружился над нами в бреющем полете, так что мы все разбежались по норам и затаились там. Зоркий глаз разведчика все же высмотрел нас, так как вскоре вверху завыли тягучие, глухие звуки сирены, следующие друг за другом через краткие интервалы. Они походили на зовы сказочного существа, которое зловеще парит над пустыней.
Через некоторое время батарея приняла сигналы. Тяжелые снаряды один за другим, свистя по отлогой траектории, разрывались с невероятной яростью. Мы бездеятельно торчали в наших убежищах, время от времени закуривая и снова отшвыривая сигару, и вполне сознавали, что каждую минуту можем быть засыпаны землей. У Шмидта большим осколком разорвало рукав мундира.
При третьем ударе обитатель соседней норы был засыпан мощным попаданием. Мы его тотчас откопали; тем не менее масса земли так сдавила его, что он чуть не задохнулся, его лицо осунулось и походило на маску мертвеца. Это был ефрейтор Симон. Несчастье сделало его благоразумным: когда люди при дневном свете расхаживали на виду у летчиков, из отверстия его норы, завешанной брезентом, слышался бранчливый голос и высовывался грозящий кулак.
В три часа пополудни с левого фланга явились мои часовые, объявив, что держаться больше не могут, так как их норы разгромлены. Мне пришлось собрать всю свою решительность, чтобы снова отправить их на посты. Ведь я, находясь в опаснейшем месте, обладал самой высшей властью, какую только можно себе представить.
Около десяти часов вечера на левом фланге полка начался огневой штурм, который через двадцать минут перекинулся и на нас. За короткое время мы были накрыты сплошным облаком пыли и дыма, но большинство попаданий приходилось на территорию либо перед самым окопом, либо позади него, если нашу развороченную лощину можно было удостоить таким названием. Во время бушующего вокруг нас урагана я обошел участок своего взвода. Люди, с каменной неподвижностью и с ружьями наперевес, стояли у переднего склона лощины и не отрываясь глядели вперед. Время от времени при вспышке осветительной ракеты я видел, как сверкал ряд касок и ружей, и меня наполняло чувство гордости, что я командую горсткой людей, которых можно уничтожить, но нельзя победить. В такие мгновения человеческий дух торжествует над властительнейшими проявлениями материального мира, и немощное тело, закаленное волей, готово противоборствовать самым страшным грозам.
В соседнем взводе слева фельдфебель X., незадачливый крысолов из Монши, собравшись запустить белую световую ракету, промахнулся, и красный заградительный сигнал, подхваченный всеми флангами, с шипением поднялся к небу. Наша артиллерия тут же открыла огонь, так что любо-дорого было смотреть. Из воздуха с воем падала одна мина за другой и разбивалась перед нами так, что осколки взлетали искрами. Смесь из пыли, удушливых газов и смрадного испарения поднятых взрывной волной трупов клокочущим вихрем вздымалась из воронок.
После этой оргии уничтожения огонь потек по своему обычному руслу. Судорожный выстрел одного человека запустил в действие всю мощную военную махину.
X. не повезло еще раз; в ту же ночь, заряжая пистолет, он запустил себе пулю в голенище и с тяжелыми ожогами был доставлен на санитарный пункт.
На следующий день сильно дождило, что не было лишено для нас приятности, так как пыль улеглась, ощущение сухости во рту уже было не таким мучительным, а большие иссиня-черные мухи, которые огромными хлопьями, похожими на темные бархатные подушки, скапливались в солнечных местах, исчезли, рассеявшись. Почти целый день я просидел на дне своей норы, курил и, несмотря на окружающую обстановку, ел с большим аппетитом.
На следующее утро стрелок моего взвода Книке получил ружейное ранение в грудь, задевшее и позвоночник, так что у него отнялись ноги. Когда я пришел его проведать, он лежал в своей норе совершенно спокойный. Вечером его потащили сквозь артиллерийский огонь, и когда носильщики побежали в укрытие, он получил еще и перелом ноги. На перевязочной площадке он скончался.
После обеда меня окликнул солдат моего взвода и предложил, перекинув винтовку через оторванную ногу англичанина, взять под прицел территорию перед гийемонтским вокзалом. Сотни англичан спешно пробирались через плоскую траншею, не обращая внимания на слабый ружейный огонь, который я тут же направил на них. Эта сцена была знаменательной, она показала неравенство средств, бывших у нас в распоряжении. Если бы мы отважились на то же самое, то наши подразделения были бы уничтожены в считанные минуты. В то время как с нашей стороны не показывался ни один аэростат, у них одновременно скапливалось свыше тридцати, образуя крупную, светящуюся желтизной виноградную гроздь; неусыпно следили они за каждой движущейся мишенью, которая появлялась на развороченной местности, чтобы тотчас направить туда добрую порцию железа.
Вечером большой осколок, жужжа, попал мне в область желудка; к счастью, он уже заканчивал свою траекторию и, сильно ударившись о застежку ремня, упал на землю. Это повергло меня в такой шок, что только озабоченные возгласы моих спутников, протягивающих мне фляжки, напомнили мне об опасности.
Едва начало смеркаться, как перед участком первого взвода появились двое английских подносчиков еды, явно сбившихся с дороги. Они благодушно приближались; один держал круглый бачок с едой, у другого в руке был продолговатый котел с чаем. Обоих застрелили с близкого расстояния; туловище одного из них запрокинулось в лощину, а ноги остались лежать на насыпи. Пленных брали неохотно: как перетаскивать их через зону заградительного огня, когда и сам едва с этим справляешься?
Около часу ночи меня растолкал Шмидт, вырвав из тяжелого сна. Взволнованный, я вскочил и схватился за ружье. Пришла смена. Мы ей передали все, что нужно, и как можно скорее покинули это дьявольское место.
Едва мы ступили в плоскую траншею, как нас тут же обдал первый шрапнельный огонь. Пуля прострелила моему направляющему запястье, откуда резво брызнула кровь. Он зашатался и стал клониться набок. Я схватил его за руку, заставил, несмотря на стоны, встать и только в санитарном блиндаже возле штольни командующего сдал с рук на руки.
В обоих ущельях обстановка была острой. Мы едва переводили дыхание. Худшим местом оказалась долина, куда мы попали и где без конца рвались шрапнель и легкие снаряды. Бабах! Бабах! – грохотал вокруг нас железный ураган, рассыпаясь дождем искр в ночи. Уиииии! Новая очередь! У меня перехватило дыхание, так как за доли секунды по тому вою, который становился все отчетливее, я определил, что отклонившаяся траектория снаряда должна была закончиться на мне. Тут же, возле моей ступни, ухнул тяжелый снаряд, взметнув мягкие комья глины. И именно он не разорвался!
Здешняя обстановка предоставляла прекрасную возможность повысить авторитет офицера. Повсюду, пробираясь сквозь мглу и огонь, спешили отряды, либо идущие на смену, либо уже отстоявшие ее, частично сбившиеся с дороги, стонущие от возбуждения и усталости; среди всего этого раздавались возгласы, приказы и, монотонно повторяясь, протяжные крики о помощи забытых в воронках раненых. Заблудшим в этой бешеной беготне я объяснял дорогу, вытаскивал людей из ям, грозил тем, которые не желали подниматься, непрерывно выкрикивал свое имя, чтобы всех подтянуть к себе, – и чудом доставил свой взвод обратно в Комбль.
Из Комбля, минуя Сайи и Гувернеман-Ферм, мы должны были направиться к Эннуйскому лесу и встать там лагерем. Только теперь наша усталость дала о себе знать. Мы брели по дороге, тупо уставившись в землю, время от времени оттесняемые к обочинам автомобилями и колоннами с боеприпасами. В пылу болезненной раздражительности я убеждал себя, что грохочущие машины мчались так близко к краю назло нам, и не раз ловил свою руку, хватавшуюся за кобуру.
После марша мы разбили палатки и только тогда бросились на жесткую землю. Пока мы стояли в этом лесу, дождь все время лил как из ведра. Солома, втащенная в палатки, начала гнить, и многие заболели. Мы, пятеро ротных командиров, не очень страдали от сырости, сидя по вечерам на своих чемоданах вокруг пузатых бутылок, невесть откуда взявшихся. Красное вино в этом случае – незаменимое лекарство.
В один из таких вечеров гвардия в ответном штурме атаковала деревню Морепа. Пока обе артиллерии яростно сражались друг с другом на протяженном пространстве, разразилась ужасная гроза, и, совсем как у Гомера в битве людей с богами, взбунтовавшаяся земля состязалась с бунтующим небом.
Через три дня мы снова двинулись на Комбль, где я со своим взводом занял четыре небольших подвала. Эти погреба были построены из меловых блоков и имели закругленную форму узких, удлиненных бочек, – они обещали надежное укрытие. По-видимому, когда-то их владельцем был винодел, – по крайней мере я так объяснил себе то обстоятельство, что они были украшены небольшими, выдолбленными в стене каминами. Я назначил часового, и мы вытянулись на куче матрасов, принесенных сюда нашими предшественниками.
В первый день было сравнительно тихо, и я имел возможность побродить по опустелым садам и пограбить увешанные превосходными персиками шпалеры. Блуждая, я забрел в дом, огороженный высоким забором, принадлежавший, по всей видимости, любителю красивых старинных вещей. В комнатах по стенам была развешана целая коллекция искусно расписанных тарелок, обнаруживающих вкус жителя Нормандии, и офорты; вдоль стен стояли кропильницы и деревянные скульптуры святых. В больших шкафах громоздился старинный фарфор, на полу валялись миниатюрные тома в кожаных переплетах, среди них – редкое старинное издание «Дон-Кихота». И все эти сокровища были обречены на тление. Я бы охотно взял себе что-нибудь на память, но стал бы похож на Робинзона со слитком золота; здесь эти вещи ничего не стоили. Так в какой-нибудь мануфактуре погибали целые рулоны наилучших шелков, брошенных на произвол судьбы. Стоило только подумать о пылающей перемычке у Фрегикур-Ферма, которая держала эту местность на запоре, как тут же становился лишним всякий новый багаж.
Когда я добрался до своего жилища, мои ребята, вернувшиеся из такой же прогулки по местным садам, изготовили из овощей, мясных консервов, картошки, гороха, моркови, артишоков и разной зелени суп, в котором спокойно могла стоять ложка. Пока мы ели, в дом влетел снаряд, и еще три разорвались поблизости, после чего нас оставили в покое. От переизбытка впечатлений наши чувства сильно притупились. В доме уже произошло что-то кровавое, так как в средней комнате на груде мусора высился грубо сколоченный крест с вырезанным на дереве целым списком имен. На следующий день из дома коллекционера я принес связку иллюстрированных приложений к “Petit Journal”;[19] расположившись в уцелевшей комнате, разжег подручной мебелью камин и при свете огонька начал читать. То и дело приходилось качать головой, так как мне попались номера, изданные во времена Фашодского инцидента. Пока я читал, рядом с нашим домом через равномерные промежутки ухнули четыре снаряда. Приблизительно в семь часов я перевернул последнюю страницу и направился в помещение перед входом в погреб, где мои люди готовили на небольшой плите ужин.
Едва я появился, перед дверью дома раздался резкий треск, и в то же мгновение я почувствовал сильный удар в левую голень. С древним солдатским возгласом: «Схлопотал пулю!» я скатился, не выпуская изо рта трубки, вниз по ступенькам погреба.
Быстро зажгли свет и расследовали, в чем дело. Как и всегда в таких случаях, я, глядя в потолок, так как самому смотреть было неприятно, выслушал сначала доклад. Сквозь обмотку зияла дыра с зазубринами, из которой вытекала тонкая струйка крови. С другой стороны выпирало круглое утолщение застрявшей под кожей шрапнельной пули.
Поставить диагноз было несложно, – типичное ранение, обеспечивающее отправку на родину, не слишком легкое, но и не тяжелое. За это можно было уцепиться как за последнюю возможность побывать в Германии. Попадание было каким-то уж очень коварным, потому что шрапнель взорвалась по ту сторону кирпичной стены, огибающей наш дом. Снаряд пробил в ней круглое окошко, перед которым стояла кадка с олеандром. Таким образом, сначала предназначенная мне пуля влетела в дыру, просверленную снарядом, затем, прорвав листья олеандра, пересекла двор, пробила дверь и, попав в сени, из всех стоявших там ног выбрала именно мою. Было ровно четверть восьмого.
Наскоро наложив повязку, мои ребята перенесли меня через улицу, беспрерывно обстреливаемую, в катакомбы и сразу же положили на операционный стол. Пока лейтенант Ветье, спешно прибежавший сюда, держал мне голову, главный штабной врач ножом и ножницами извлекал пулю, в конце поздравив, так как свинец застрял прямо между большой и малой берцовой костью, не задев их самих. “Habent sua fata libelli et balli”,[20] – провозгласил старый студент-корпорант, передавая меня санитару для перевязки.
Еще до наступления сумерек, пока я вот так лежал на носилках в одной из катакомбных ниш, меня, несказанно обрадовав, навестили свои, чтобы попрощаться. Ненадолго зашел и дорогой моему сердцу полковник фон Оппен.
Вечером вместе с другими ранеными меня отнесли к выезду из деревни и погрузили в санитарную машину. Не обращая внимания на крики жителей, шофер, перепрыгивая через воронки и другие препятствия, мчался по шоссе, по которому в районе Фрегикур-Ферма все еще сильно били снаряды, а затем его машину сменила другая, доставившая нас в церковь деревни Фен. Смена автомобилей происходила глубокой ночью у одинокой группы домов, где врач проверил наши повязки и определил, куда направить дальше. Сквозь начинающуюся лихорадку я разглядел еще молодого человека, совершенно седого, который с удивительной бережностью занимался нашими ранами.
Церковь Фена была заполнена сотнями раненых. Сестра милосердия рассказала мне, что за последние недели в этом месте их перебывало более тридцати тысяч. По сравнению с такими цифрами я со своим жалким ранением показался себе вовсе ничтожным.
Из Фена вместе с четырьмя другими офицерами я был переведен в небольшой лазарет, устроенный в одном из бюргерских домов Кантена. Когда нас выгружали, во всех домах дребезжали стекла; это был именно тот час, когда на штурм Гийемонта англичане бросили все силы своей артиллерии.
Когда выносили моего соседа, я услышал один из тех безжизненных голосов, которые не забываются:
– Пожалуйста, скорее врача, – я очень болен, у меня газовая флегмона.
Этим словом обозначалась опаснейшая форма заражения крови; осложняя ранение, она губила и жизнь.
Меня внесли в палату, где двенадцать коек так тесно были прижаты друг к другу, что создавалось впечатление, будто комната наполнена одними белоснежными подушками. Большинство ранений были тяжелыми, и царила кутерьма, в которой я, будучи в бреду, принимал какое-то нереальное участие. Вскоре после моего появления молодой парень с повязкой на голове в виде тюрбана вскочил со своей постели, как бы собравшись произнести речь. Я ожидал какого-нибудь особого курьеза, как вдруг он повалился так же внезапно, как и вскочил. Его кровать при общем скорбном молчании выкатили через маленькую темную дверь. Моим соседом был офицер-сапер: находясь в окопе, он наступил на взрывную шашку, и та плюнула в него острым языком пламени, как из горелки. На его искалеченную ногу надели прозрачный марлевый колпак. Впрочем, у него было хорошее настроение и он радовался, что нашел во мне внимательного слушателя. Слева от меня лежал совсем еще юный фенрих, которого потчевали красным вином и яичным желтком: у него была крайняя степень дистрофии, какую только можно было себе представить. Когда сестра поправляла его постель, она поднимала его, как перышко; под кожей у него проступали все кости, что есть в человеческом теле. Однажды вечером сестра спросила у него, не хочет ли он написать своим родителям, и я понял, что это означает; действительно, в ту же ночь и его кровать увезли через темную дверь в мертвецкую.
Уже на следующий день я был в санитарном поезде, увозившем меня в Геру, где в гарнизонном лазарете мне был уготован превосходный уход. Ровно через неделю, в один из вечеров, я тайно улизнул оттуда, но все время озирался, боясь попасться на глаза главному врачу.
Здесь я подписался на военный заем в размере трех тысяч марок – все, чем я владел, – чтобы их больше никогда не увидеть. Пока я держал купюры в руках, на них слетела небольшая ракета, отделившаяся от нечаянно пущенного сигнального огня, – зрелище, явно стоившее не меньше миллиона.
* * *
Вернемся еще раз в ту страшную лощину, чтобы полюбоваться последним актом, которым завершаются подобные драмы. Вот, что рассказали немногие уцелевшие раненые и среди них – мой связной Отто Шмидт.
После моего ранения командование взводом принял мой заместитель, фельдфебель Хайстерманн, за несколько минут доставивший отряд в изрытую воронками местность Гийемонта. Не считая нескольких людей, раненных еще во время марша и по мере сил вернувшихся в Комбль, команда бесследно исчезла в огненных лабиринтах боя.
Взвод, приняв смену, снова расположился в уже знакомых «лисьих норах». Брешь на правом фланге благодаря непрерывному огню на уничтожение расширилась настолько, что стала необозримой. На левом фланге тоже появились дыры, так что позиция полностью походила на остров, опоясанный мощными потоками огня. Из таких же больших и малых островов, постепенно сливающихся друг с другом, состоял весь участок в широком смысле этого слова. Штурм натолкнулся на сеть, петли которой стали слишком широкими, чтобы его поймать.
Так, в нарастающем беспокойстве прошла ночь. Под утро явился патруль 76-го полка, состоящий из двух человек, пробирающихся сюда с невероятными усилиями. Он тут же исчез в огненном море, а вместе с ним исчезла и последняя связь с внешним миром. Огонь все яростней перекидывался на правый фланг и постепенно увеличивал брешь, вырывая из линии одно гнездо сопротивления за другим.
Около шести часов утра Шмидт, собравшись позавтракать, пошел за котелком, который хранил перед входом в старую нору, но смог найти только сплющенный, продырявленный кусок алюминия. Вскоре обстрел возобновился и начал обретать яростную силу, что было верным признаком близкого штурма. Появились самолеты и, как падающие на добычу коршуны, стали кружиться над самой землей.
Хайстерманн и Шмидт – единственные обитатели крошечной земляной пещеры, которая до сих пор выстаивала каким-то чудом, – поняли, что настал момент приготовиться к бою. Когда они вышли в лощину, наполненную дымом и пылью, то обнаружили себя среди совершенной пустыни. За ночь огонь сровнял с землей последние жалкие укрытия, отделявшие их от правого фланга, и тех, кто был внутри, похоронил под массами рухнувшей земли. Но и по левую от них руку край лощины оказался совершенно оголенным. Остатки гарнизона, в том числе и команда пулеметчиков, укрылись в узком, прикрытом только досками и тонким слоем земли блиндаже с двумя ходами, врытом в заднюю насыпь примерно посредине лощины. В это последнее прибежище и ринулись Хайстерманн со Шмидтом. Но по дороге туда исчез фельдфебель, у которого в тот день как раз был день рождения. Он остался за поворотом, чтобы никогда больше не появиться.
Единственный человек, пришедший в блиндаж с правого фланга, был ефрейтор с забинтованным лицом; вдруг он сорвал с себя повязку, обдав людей и оружие потоком крови, и лег на землю, чтобы умереть. Все это время мощь огня непрерывно нарастала; в переполненном блиндаже, где давно уже не произносили ни слова, каждый момент ожидали прямого попадания.
Дальше по левому флангу еще несколько человек из третьего взвода вцепились в свои воронки, в то время как вся позиция справа, начиная с бывшей бреши, давно уже разросшейся до необозримой пропасти, была размолота. Эти люди, очевидно, первыми увидели английские разведывательные отряды, выступившие вслед за последним сокрушительным огневым ударом. Во всяком случае, о приближении противника гарнизон был предупрежден криками, раздавшимися слева от него.
Шмидт, пришедший в блиндаж последним и поэтому ближе всех сидевший к выходу, первым оказался в ущелье. Он попал под шрапнельный огонь разорвавшегося снаряда. Сквозь рассеивающееся облако он разглядел справа, как раз на месте прежней норы, которая была нам надежной защитой, несколько притаившихся фигур в хаки. В то же мгновение противник плотными рядами ворвался на левый фланг позиции. Но что происходило по ту сторону передней насыпи, из глубины лощины было не разглядеть.
В этом поистине отчаянном положении последние обитатели блиндажа, и прежде всех фельдфебель Зиверс с еще уцелевшим пулеметом и его командой, выскочили наружу. В считанные секунды орудие установили на дне ущелья и навели на противника. Как только наводчик, положив руку на патронную ленту, приготовился нажать на рукоятку заряжания, из-за передней насыпи полетели английские гранаты. Оба стрелка рухнули возле своего пулемета, не успев выстрелить. Всех, кто выскакивал из блиндажа, тут же встречали винтовочные выстрелы, так что за несколько мгновений оба входа широким кольцом обнесли тела убитых.
Первый же гранатный залп повалил на землю и Шмидта. Один осколок попал ему в голову, другими оторвало три пальца. Он остался лежать с вдавленным в землю лицом вблизи блиндажа, который еще долгое время притягивал интенсивный ружейный и пулеметный огонь.
Наконец все стихло; англичане завладели и этой частью позиции. Шмидт, быть может, последняя живая душа во всем ущелье, слышал шаги, возвестившие о приближении захватчика. Сразу же над самой землей раздались гулкие ружейные выстрелы и взрывы ручных гранат, которыми очищали блиндаж. Но, несмотря на это, под вечер из него выбрались еще несколько уцелевших, прятавшихся в надежно защищенном углу. Они составили группу немногих пленных, попавших в руки штурмовых отрядов. Английские санитары собрали их и унесли.
Пал вскоре и Комбль, – после того как затянули мешок у Фрегикур-Ферма. Его последние защитники, сидевшие во время обстрела в катакомбах, были уничтожены в бою за церковные развалины.
Затем в этой местности наступило затишье, пока мы снова не захватили ее весной 1918-го.
У Сен-Пьер-Вааста
Проведя четырнадцать дней в лазарете и столько же в отпуске, я снова отправился в полк, позиция которого находилась у Дену, близ знаменитой Гранд-Транше. Там мы остались на два дня, а еще два дня пробыли в старинном горном местечке Гаттоншатель. Затем с вокзала Марс-ла-Тура снова отчалили в направлении Соммы.
В Боэне нас выгрузили и расквартировали в Бранкуре. Этот район, где мы потом бывали еще не раз, населяют землепашцы, но почти в каждом доме есть ткацкий станок. Ткачеством в этой полосе промышляют с древних времен.
Я квартировался у одной супружеской пары, у которой была довольно-таки хорошенькая дочка. Мы делили с ними две комнаты, составлявших весь домик, и по вечерам я должен был проходить через их общую семейную спальню.
Отец семейства в первый же день попросил меня составить жалобу местному коменданту на соседа, так как тот, схватив его за горло, не только поколотил, но и со словами “Demande pardon!”[21] грозился убить.
Когда я однажды утром собрался выйти из своей комнаты, чтобы идти на службу, хозяйская дочка заперла дверь снаружи. Я принял это за шутку и с силой надавил изнутри, так что дверь сорвалась с петель и я не знал, что с нею делать. Вдруг перегородка упала, и красавица, к нашему обоюдному смущению и восторгу матери, предстала передо мной в костюме Евы.
Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь столь мастерски ругался, как эта «роза Бранкура», когда соседка обвиняла ее, будто в Сен-Кантене она жила на одной весьма сомнительной улице. “Ah, cette plure, cette pomme de terre pourrie, jetee sur un fumier”,[22] – извергала она, в бешенстве бегая по комнате и выставив вперед руки наподобие когтистых лап в поисках подходяшего предмета для утоления своей ярости.
Вообще нравы в этом местечке были солдафонскими. Однажды вечером я отправился навестить своего товарища, квартировавшего у означенной соседки, – дюжей фламандской красавицы, прозванной мадам Луизой. Я пошел садами и в небольшом окошке увидал мадам Луизу, блаженно сидящую за столом перед большим кофейником. Вдруг отворилась дверь, и в комнату, как сомнамбула и к моему изумлению не более тщательно, чем сомнамбула, одетый, вошел постоялец этой уютной квартирки. Не говоря ни слова, он схватил кофейник и по-хозяйски уверенно влил себе прямо из носика в рот порядочную порцию кофе. После чего так же молча удалился. Почувствовав, что могу только помешать этакой идиллии, я тихонько убрался восвояси.
Здесь царила свобода нравов, странно контрастируя с сельским укладом жизни. Скорее всего, дело было в ткачестве, так как в городах и местностях, где властвует веретено, дух всегда иной, чем, например, в селениях, где живут кузнецы.
Поскольку все роты были распределены по разным деревням, то вечером мы собирались маленьким кружком. В наше общество входили лейтенант Бойе, командир второй роты, лейтенант Хайльман, мрачный вояка, у которого пулей был выбит глаз, фенрих Горник, перебежавший впоследствии к парижским летчикам, и я. Ежевечерне наша трапеза состояла из вареной картошки и консервного гуляша, после чего на стол кидались карты и ставилось несколько бутылок «Польского всадника» или «Зеленых померанцев». Беседой всегда владел Хайльман, принадлежавший к людям, которым вечно все не так. Вечно ему доставались второразрядные квартиры, ранения его всегда были второй степени тяжести и даже похоронные процессии, в которых он принимал участие, были не лучшего сорта. Только его родная Верхняя Силезия составляла исключение: там были самые большие деревни, самые большие товарные станции и самые глубокие шахты в мире.
В предстоящих боевых действиях мне было поручено исполнять должность командира разведки, и мой разведывательный отряд в составе двух унтер-офицеров и четырех солдат был предоставлен в распоряжение дивизии. Особые задания подобного рода мне не очень импонировали, потому что я со своей ротой составлял единую семью и перед боем покидал ее неохотно.
8 ноября под проливным дождем батальон направился в покинутую жителями деревню Гоннелье. Оттуда отряд откомандировали в Льерамонт под начало командира дивизионной разведывательной службы ротмистра Бекельмана. Ротмистр занимал вместе с нами – четырьмя командирами разведывательных отрядов, двумя офицерами-наблюдателями и своим адъютантом – просторный дом священника, где мы расселились по разным комнатам. В один из первых вечеров в библиотеке завязался долгий разговор о мирной инициативе, якобы предложенной немцами, и Бекельман, являвший собой ярко выраженный тип командира, положил этому конец, заявив, что слово «мир» солдату во время войны запрещается даже произносить.
Наши предшественники ознакомили нас с позицией дивизии. Каждую вторую ночь мы отправлялись на передовую. Наша задача состояла в том, чтобы точно определить позицию, проверить соединения и повсюду войти в курс дела, в случае угрозы тотчас распределив отряды по участкам и выполнив особые поручения. Участок, определенный мне в качестве рабочей зоны, лежал левее Сен-Пьер-Ваастского леса, в непосредственной близости от «безымянного леса».
Ночная местность была болотистой и пустынной и часто содрогалась от грохота тяжелых огневых ударов. Все время взмывали вверх желтые ракеты, которые рвались в воздухе, стекая вниз огненными струями, своим цветом странно напоминая мне звук альта.
В первую же ночь, из-за кромешной тьмы, я заблудился в болотах Тортильбаха и чуть не утонул. Местами топь действительно была бездонной; не далее как прошлой ночью в огромной воронке, скрытой под трясиной, бесследно исчезла конная повозка с боеприпасами.
Благополучно выбравшись из этой глухомани, я попытался пробраться в безымянный лес, в окрестностях которого шел слабый, но непрерывный обстрел. Довольно беззаботно шагал я по направлению к нему, так как приглушенный звук разрывов вызывал у меня подозрение, что там впустую расстреливались никуда не годные патроны. Вдруг слабый порыв ветра принес сладковатый запах лука, и в то же время в лесу раздались голоса: «Газ, газ, газ!» Вдалеке эти возгласы звучали как-то странно, тонко и жалобно, напоминая пение цикад.
Как выяснилось на следующее утро, в эти самые минуты в лесу, в порослях которого зависли густые и вязкие облака фосгена, уйма людей погибла от отравления ядовитыми газами.
Со слезящимися глазами, спотыкаясь, я побрел к Вокскому лесу, где, ничего не видя из-за запотевших стекол противогаза, метался от одной воронки к другой. Эта ночь из-за неоглядности и неуютности своих пространств показалась мне особенно жуткой. Когда во тьме натыкаешься на часовых или на отбившихся от своей части солдат, возникает леденящее душу чувство, будто общаешься не с людьми, а с бесами. Бродишь, как по огромному плато по ту сторону привычного мира.
12 ноября, уповая на лучшее и получив задание установить связи с кратерной позицией, я совершил второй поход на передовую. Минуя цепи релейных постов, упрятанных в норах, я устремился к своей цели.
Эта позиция носила свое имя по праву. Гребень холмов перед деревней Бранкур был усеян бесчисленными кратерами, в некоторых из них сидели люди. Из-за своей уединенности, нарушаемой только свистом и грохотом снарядов, местность производила впечатление зловещей пустыни.
Через некоторое время я потерял связь с цепью воронок и повернул назад, чтобы не попасться в руки французам, и на обратном пути натолкнулся на знакомого офицера из 164-го полка, который не советовал мне разгуливать в темноте. Поэтому я быстро пересек «безымянный лес», спотыкаясь о глубокие воронки, вывороченные деревья и почти непроходимое нагромождение сбитых веток.
Когда я вышел на опушку, заметно посветлело. Покрытое воронками поле расстилалось передо мною без каких-либо признаков жизни. Я растерялся, – безлюдные пространства на войне всегда подозрительны.
Вдруг просвистела пуля, пущенная невидимым стрелком, и попала мне в обе голени. Я бросился в соседнюю воронку и перевязал раны носовым платком, так как свой пакет я, конечно, опять забыл. Пуля прострелила мне правую и задела левую икру.
Соблюдая крайнюю осторожность, я снова дополз до леса и, ковыляя, побрел сквозь сильнейший обстрел к медицинскому пункту.
Незадолго до этого я вновь имел случай убедиться в том, что удача на войне зависит от ничтожных обстоятельств. Приблизительно в ста метрах от перекрестка, к которому я устремился, меня окликнул командир шанцевого отряда, мой товарищ по девятой роте. Не прошло и минуты, как прямо у перекрестка разорвался снаряд, чьей жертвой я бы обязательно стал, если бы не эта встреча. Подобные события не были случайностью.
Когда стемнело, меня положили на носилки и доставили в Нурлу. Там меня ждал ротмистр с автомобилем. На шоссе, освещенном вражескими прожекторами, шофер вдруг затормозил. Дорогу преграждало какое-то темное пятно. «Не смотрите!» – сказал Бекельман, держа меня за руку. Это был отряд пехотинцев во главе с командиром, которых накрыл прямой снаряд. Бойцы, казалось, спали дружным и мирным сном.
В доме священника я принял участие в совместном ужине, то есть меня уложили на диван в общей комнате и угостили бутылкой красного вина. Но вскоре эта идиллия была нарушена благословением, которого ежевечерне удостаивался Льерамонт. Местные обстрелы особенно неприятны, и мы спешно переместились в погреб, какое-то время прислушиваясь к шипению железных посланцев, пока оно не завершилось грохотом разорвавшихся в садах и в балочных перекрытиях снарядов. Завернув в одеяло, меня первого потащили вниз. И в ту же ночь отправили в полевой лазарет Виллере, а оттуда – в военный лазарет Валансьена.
Лазарет был устроен в гимназии недалеко от вокзала и вмещал свыше четырехсот тяжелораненых. Ежедневно в сопровождении глухой барабанной дроби из главного портала выходила похоронная процессия. Средоточием солдатских мук был просторный операционный зал. Стоя перед рядом столов, врачи правили свое кровавое ремесло. Здесь ампутировали ногу, там вскрывали череп или отдирали от раны заскорузлую повязку. Помещение, пронизанное слепящим светом, оглашалось воплями и стенаниями, пока сестры в белых халатах с инструментами или перевязочным материалом быстро сновали между столами.
Рядом со мной, в агонии, лежал фельдфебель, потерявший ногу; у него было тяжелое заражение крови. Беспорядочные приступы жара сменялись у него ознобом, и температурная кривая скакала, как горячая лошадь. Врачи старались поддержать его жизнь шампанским и камфарой, но чаша весов все явственней клонилась к смерти. Удивительно, что он, совершенно отсутствующий в последние дни, в час смерти обрел полную ясность и отдал некоторые распоряжения. Он попросил сестру прочесть свою любимую главу из Библии, затем попрощался со всеми нами, извинившись, что ночью из-за приступов лихорадки мешал нам спать. Наконец он прошептал, пытаясь придать голосу шутливый оттенок: «Нет ли у вас чуток хлебца, Фриц?» – и через несколько минут умер. Последняя фраза относилась к нашему санитару Фрицу, пожилому человеку, чье просторечие мы обычно передразнивали, оттого нас это и поразило, – ведь умирающий явно хотел нас позабавить. Я впервые почувствовал, какая это великая вещь – смерть.
В этот раз на меня напала тоска, чему, безусловно, способствовало и воспоминание о той первозданной трясине, где я был ранен. Каждый день пополудни я, прихрамывая, прогуливался вдоль берегов пустынного канала, находившегося вблизи лазарета. Особенно меня удручало, что я не участвовал со своим полком в штурме Сен-Пьер-Ваастского леса, – блистательном сражении, которое состоялось в эти дни и принесло нам сотни пленных. За четырнадцать дней раны наполовину закрылись, и я вернулся в полк.
Дивизия занимала все ту же позицию, которую я оставил из-за ранения. Когда мой поезд въезжал на станцию Эпеги, послышалось несколько взрывов. Измятые и искореженные товарные вагоны, лежавшие возле рельс, не оставляли сомнения в том, что дело здесь было нешуточным.
«Что произошло?» – спросил меня капитан, сидевший напротив, по всем признакам только что прибывший из дома. Не затрудняя себя ответом, я распахнул дверь купе и скрылся за железнодорожной насыпью, в то время как поезд проехал еще какой-то кусок дальше. К счастью, эти взрывы были последними. Из пассажиров никто не пострадал, только из вагона для скота вывели несколько истекающих кровью лошадей.
Поскольку до марша мне было еще далеко, то я получил должность офицера-наблюдателя. Наблюдательная позиция находилась на обрывистом склоне между Нурлу и Муалэном. Она состояла из встроенной стереотрубы, через которую я наблюдал за хорошо мне знакомой передовой. При усилении огня, разноцветных ракетах или других особых событиях я должен был звонить в штаб дивизии. Целыми днями я мерз на крошечном стуле, глядя в бинокль средь ноябрьского тумана, и только иногда, пробуя связь, доставлял себе тем самым скудное развлечение. Если проволока бывала порвана, то я должен был ее залатать, призвав на помощь своих дозорных. В этих людях, чья деятельность на поле боя была едва заметна, я открыл особую породу безвестных тружеников в полосе смертельной опасности. В то время как любой другой спешил убежать из зоны обстрела, линейный дозор незамедлительно и по-деловому устремлялся именно туда. Денно и нощно он разыскивал еще теплые от разрывов воронки, чтобы сплести воедино концы разорванной проволоки; эта деятельность была столь же опасной, сколь и незаметной.
Наблюдательный пункт был встроен в местность так, что в глаза не бросался. Снаружи была видна только узкая щель, наполовину скрывавшаяся высокой травой. Поэтому сюда долетали только случайные снаряды, и мне было очень удобно из своего надежного укрытия следить за поведением отдельных людей и малых отрядов, которые едва замечаешь, если сам идешь под обстрелом. При этом мне казалось, особенно в час сумерек, что передо мной – большая степь, населенная разнообразными животными. Когда же в места, обстреливаемые с равномерными промежутками, устремлялись все новые и новые пришельцы, которые, внезапно бросаясь на землю, тут же вскакивали, чтобы вновь мчаться с величайшей скоростью, – меня не отпускало сравнение с коварно-зловещим ландшафтом. Это впечатление, может быть, оттого было таким сильным, что я, как некий выдвинутый вперед орган чувств командования, мог спокойно наблюдать за происходящим. Мне, собственно, ничего другого и не оставалось, как ждать начала атаки.
Каждые двадцать четыре часа меня сменял другой офицер, и я отдыхал в Нурлу, расположенном поблизости, где в большом винном погребе была устроена сравнительно уютная квартира. Я иногда вспоминаю долгие, меланхолические ноябрьские вечера, которые я, покуривая трубку, проводил в одиночестве перед камином небольшого погреба с бочкообразными сводами, в то время как снаружи, в заброшенном парке, с голых каштанов сыпались капли дождя и с длинными промежутками нарушал тишину гулкий разрыв снаряда.
18 ноября дивизия получила смену, и я снова соединился с полком, стоявшим вторым эшелоном в деревне Фреснуа-ле-Гранд. Там я вместо лейтенанта Бойе, находившегося в отпуске, принял командование второй ротой. Во Фреснуа полк получил четыре недели безмятежного отдыха, и каждый старался воспользоваться им в полной мере. Рождество и Новый год праздновались ротой на широкую ногу, и пиво и грог лились в изобилии. В роте были и те пятеро, с кем я праздновал прошлогоднее Рождество с окопах Монши.
Вместе с фенрихом Горником и своим братом Фрицем, который в качестве фаненюнкера на шесть недель приехал в полк, я занимал салон и две спальных комнаты у одного мелкого французского рантье. Здесь я немного оттаял и часто приходил домой только на рассвете.
Как-то утром, когда еще в полудреме я валялся в постели, ко мне зашел один приятель, чтобы вместе идти на службу. Пока мы болтали, он поигрывал моим пистолетом, лежавшим, как обычно, на ночном столике, и чуть не вогнал мне в голову пулю. Я рассказываю это потому, что во время войны часто был свидетелем смертельных ранений из-за неосторожного обращения с оружием, – такие случаи особенно досадны.
В первую же неделю состоялся смотр полка дивизионным командиром, генерал-майором Зонтагом; за заслуги при взятии Сен-Пьер-Ваастского леса он собирался поощрить полк многочисленными наградами. Когда я парадным маршем провел перед ним свою вторую роту, мне показалось, что полковник фон Оппен что-то генералу обо мне докладывает. Через несколько часов мне было приказано явиться на квартиру дивизионного штаба, где генерал вручил мне Железный Крест I степени. Я тем более обрадовался этому, что боялся какого-нибудь нагоняя. «Вы частенько получаете ранения, – приветствовал меня генерал, – поэтому я придумал для Вас пластырь».
17 января 1917 года меня на четыре недели откомандировали из Фреснуа во французский учебный лагерь Сиссон-у-Лаона в школу ротных командиров. Благодаря начальнику нашего отделения, капитану Функу, учеба доставляла нам удовольствие. Он обладал талантом из немногих правил выводить великое множество военных предписаний; эта методика всегда очень действенна, в какой бы области ее ни применять.
Зато кормили здесь весьма убого. Картошка стала большой редкостью; день изо дня, открывая в нашей огромной столовой крышки, мы находили в мисках водянистую похлебку из брюквы. Скоро на эти желтые дары земли мы больше не могли смотреть. И все же они лучше своей репутации, – если, конечно, их сперва хорошенько потушить с куском свинины, не пожалев при этом и перца. А этого как раз и не было.
Отход от Соммы
В конце февраля, после короткого отсутствия, я снова соединился со своим полком, который уже несколько дней занимал позицию у руин Виллер-Карбонеля, и принял командование восьмой ротой.
Марш к боевым окопам шел по извилистой, неуютной и пустынной долине Соммы; через реку вел старый и уже сильно поврежденный мост. Другие подходные пути были проложены в виде длинных, узких гатей через болото, расстилавшееся в долине; по ним нужно было пробираться сквозь густые, шуршащие заросли камыша и пересекать безмолвные, черно поблескивающие водные пространства. Когда на этих отрезках взрывались снаряды и высокими струями вздымали вверх болотную воду или когда по поверхности болота секли автоматные очереди, не оставалось ничего иного, как только стискивать зубы: шли, как по канату, по обеим сторонам которого не было никаких укрытий. Поэтому вид расстрелянных одиноких паровозов, как фантомы стоявших на железнодорожных путях на высоком берегу по ту сторону реки, возвещая о конце нашего марша, вызывал у нас чувство облегчения.
В долине находились деревни Бри и Сен-Крис. Башни, от которых уцелела единственная узкая стена, в чьих отверстиях играл лунный свет, груды развалин с беспорядочно торчащими балками и отдельные оголенные деревья на снегу, расписанном свежими черными воронками, обрамляли дорогу, как неподвижные металлические кулисы, а за ними, казалось, зловещим призраком притаилось пространство.
Окопы, долгое время утопавшие в грязи, были снова приведены в надлежащий порядок. Командиры взводов рассказали мне, что какое-то время им приходилось сменять часовых только при осветительных ракетах, дабы не подвергнуться опасности утонуть. Ракета, пущенная поперек окопа, означала «пост сдал», другая, пущенная обратно, – «пост принял».
Моя штольня находилась примерно в пятидесяти метрах за передней линией в поперечном окопе, где, кроме меня и моего небольшого штаба, еще обитал отряд, предоставленный в мое личное распоряжение. Штольня была сухой и хорошо оборудованной. У обоих выходов, завешанных брезентом, стояли маленькие железные печки с длинными, выходящими наружу трубами; через них, бывало, при тяжелых обстрелах с неприятным грохотом сыпались комья земли. От жилого коридора под прямым углом ответвлялось несколько коротких слепых ходов, вдоль которых тянулись крошечные кельи. Одна из них и была моей квартирой. Кроме узкой койки, стола и нескольких ящиков из-под гранат, используемых вместо сидений, обстановка состояла только из немногих интимных предметов, спиртовки, подсвечника, котелка и личного снаряжения.
Здесь мы по вечерам, – у каждого под сиденьем двадцать пять боевых патронов, – собирались на часок поболтать. Компанию мне составляли оба ротных офицера, Хамброк и Айзен, и я смею думать, что в этих подземных бдениях нашего кружка, всего в трехстах метрах от врага, было что-то оригинальное.
Хамброк, по профессии астроном и большой любитель Гофмана, длинно рассказывал о своих наблюдениях за Венерой, которая якобы в своем исконном блеске с Земли никогда не видна. Он был маленького роста, тощий как спица, рыжий и с лицом, усеянным желтыми и зеленоватыми веснушками, поэтому ему и присвоили прозвище «маркиз Горгонзола». За годы войны он приобрел своеобразные привычки, например, целый день спал, а оживал только к вечеру, и частенько в полном одиночестве, как привидение, бродил перед немецкими или английскими окопами. У него была также сомнительного свойства манера тихо подкрадываться к часовому и у самого его уха внезапно запускать сигнальную ракету якобы для проверки храбрости. К сожалению, для войны его здоровье было слабоватым, поэтому и погиб он от пустячного ранения, вскоре полученного при Фреснуа.
Айзен был таким же низкорослым, но упитанным, и, поскольку он вырос в семье переселенца в теплом климате Лиссабона, постоянно мучился простудой. По этой причине он кутал голову в большой, в красную полоску носовой платок, который накидывал поверх стальной каски и завязывал узлом под подбородком. Кроме того, он любил обвешивать себя оружием: так, помимо винтовки – с ней он никогда не расставался – у него отовсюду торчали разные ножи, пистолеты, гранаты, а за пояс был засунут фонарь; поэтому, столкнувшись с ним в окопе, сперва можно было подумать, что видишь перед собой некое подобие армянина. Какое-то время он еще носил в карманах брюк лимонки, пока однажды вечером из-за этой привычки с ним не случилась одна неприятность, вызвавшая у нас бурное веселье: как-то раз он рылся у себя в кармане, чтобы достать оттуда курительную трубку, запутавшуюся в кольце лимонки, отчего у той сработал спусковой механизм. Внезапно раздался хорошо знакомый, приглушенный треск, за которым последовало длящееся три секунды тихое шипение сгорающего запала. Пытаясь в панике вытащить эту штуковину, чтобы зашвырнуть ее за край укрытия, он до такой степени запутался в кармане собственных брюк, что давно был бы разорван на куски, если бы не сказочное везение, ибо как раз этот патрон и не сработал. Почти без сил и в холодном поту, он никак не мог поверить, что остался жив.
Для него это была только отсрочка, потому что и он через несколько месяцев остался лежать на поле битвы под Лангемарком. И у него воля опережала телесные возможности; он был и близорук, и туговат на ухо, и, как вскоре выяснилось, его нужно было сначала поворачивать лицом к противнику, чтобы дать возможность пострелять.
Слабые здоровьем люди всегда более сердечны, чем трусоватые здоровяки, и за несколько недель, проведенных на позиции, это проявлялось неоднократно.
Если эту часть фронта и можно было считать относительно спокойной, то мощные огневые удары, которые вдруг сыпались на окопы, недвусмысленно говорили о том, что артиллерия не дремала. К тому же англичанам нельзя было отказать в любопытстве: не проходило и недели, чтобы их разведывательные подразделения то хитростью, то силой не пытались подглядеть, что делается у нас. Ходили разные слухи о некоей великой «сверхмощной войне техники», которая по весне готовила нам совсем другие сюрпризы, чем те, что стали привычными после битвы на Сомме. Чтобы смягчить первую силу удара, мы провели обширную очистку территории. Вот некоторые события того времени.
1 марта 1917 года. После обеда благодаря ясной погоде огонь сильно оживился. Особенно старалась тяжелая батарея, под наблюдением аэростата совершенно сровняв с землей участок моего третьего взвода. Чтобы дополнить свою позиционную карту, я во второй половине дня пошлепал туда по затопленному до краев «безымянному окопу». По дороге я видел, как на землю опускалось огромное, желтое солнце, влача за собой длинное, черное облако дыма. Немецкий летчик задел злосчастный аэростат, и тот мгновенно загорелся. Преследуемый яростным огнем наземной обороны, резко петляя, летчик благополучно улизнул.
Вечером ко мне зашел ефрейтор Шнау и доложил, что под блиндажом его отряда вот уже четыре дня идет какое-то постукивание. Я передал о своем наблюдении дальше и получил донесение саперной команды, которая, применив подслушивающее устройство, не нашла ничего подозрительного. Позднее мы узнали, что вся позиция была заминирована.
5 марта рано поутру к нашему окопу подошел отряд и начал перерезать колючую проволоку. По сигналу часового прибежали лейтенант Айзен и еще несколько человек и швырнули гранаты, после чего налетчики бросились бежать, оставив двоих на земле. Один из них, молодой лейтенант, умер сразу; другой, сержант, был тяжело ранен в руку и в ногу. Из бумаг офицера явствовало, что его звали Стоукс и что он был приписан к Образцовому Второму стрелковому полку Великобритании. Одет он был очень тщательно, и черты его лица, сведенного смертной судорогой, выражали ум и энергию. В его записной книжке я не без умиления обнаружил уйму адресов лондонских девушек. Мы похоронили его позади нашего окопа и поставили на могиле простой крест, на котором я сапожными гвоздями выбил его имя. Это событие послужило мне уроком, что не всякая вылазка заканчивается так благополучно, как мои предыдущие.
На следующее утро англичане отрядом в пятьдесят человек, после короткой артиллерийской подготовки, захватили участок соседней роты, которой командовал лейтенант Райнхардт. Захватчики подкрались к проволоке и – после того как один из них начищенной до блеска бляхой, прикрепленной к обшлагу, подал световой сигнал для английских пулеметов, заставляя их замолчать, – с остатками гранат бросились к нашему окопу. Лица у всех были вымазаны сажей, чтобы как можно меньше выделяться в темноте.
Наши люди встретили их столь умело, что только одному из них удалось проникнуть в окоп. Он тут же прорвался ко второй линии, где и был, отвергнув предложение сдаться, расстрелян. Преодолеть проволоку удалось только двоим: одному лейтенанту и одному сержанту. Лейтенанта, несмотря на броню под мундиром, уложили на месте, так как пистолетная пуля, пущенная Райнхардтом с близкого расстояния, вогнала весь этот броневой щит ему в тело. Сержанту осколком гранаты почти оторвало обе ноги, но, невзирая на это, он со стоическим спокойствием стискивал зубами трубку, пока не умер. И здесь, как и всюду, где мы сталкивались с англичанами, нам было отрадно видеть столь безупречное мужество.
После столь успешного начала, в ожидании обеда, я прохаживался по окопу и на одном из постов увидел лейтенанта Пфаффендорфа, который через стереотрубу руководил стрельбой своих минометов. Подойдя к нему, я тотчас увидел англичанина, шедшего по укрытию за третьей вражеской позицией и своей униформой цвета хаки с коричневым отливом резко выделявшегося на фоне горизонта. Я выхватил у ближайшего часового винтовку, поставил шестисотый визир, прицелился, наведя на голову, и спустил курок. Англичанин сделал еще три шага, потом упал навзничь, словно у него из-под туловища выдернули ноги, взмахнул несколько раз руками и скатился в воронку, из которой еще долго виднелся его коричневый рукав.
9 мая англичане снова утрамбовали наш участок по всем правилам стрелкового искусства. Уже рано утром я был разбужен сильной огневой атакой и, схватив пистолет, в сонном дурмане выскочил наружу. Отдернув брезент у входа в штольню, я увидел, что было еще совсем темно. Яркие вспышки снарядов и со свистом летевшая грязь тотчас согнали с меня сон. Я помчался по окопу, не встретив ни единой живой души, пока не наткнулся на лестницу, ведущую в штольню, к которой притулился бесхозный отряд бойцов, жавшихся друг к другу, как курицы во время дождя. В этих случаях отличное действие оказывает прусская взбучка: разгоняя дрянь малодушия в других, она разгоняет ее и в тебе самом. Я взял ребят с собой, мобилизовав тем самым окоп. Где-то, к моей радости, раздавался писклявый голос маленького Хамброка, который действовал подобным же образом.
Когда огонь стих, я в подавленном состоянии духа отправился в свою штольню, где мое дурное настроение было подогрето телефонным звонком из командного пункта.
– Черт побери, что у вас там происходит? Почему не снимаете трубку?
Телефон – превосходная вещь, но главным в бою является все-таки сам бой.
После завтрака обстрел возобновился. На этот раз англичанин сыпал на позицию удары медленно, но планомерно. Это, наконец, надоело; по подземному переходу я отправился в гости к маленькому Хамброку, поглядел, есть ли у него что выпить, и сел с ним играть в двадцать одно. Иногда игра прерывалась страшным грохотом, комья земли летели через дверь и печную трубу. Горловина штольни была взорвана, обшивка раздавлена, как спичечный коробок. Временами по шахте распространялся едкий запах горького миндаля, – неужто парни стреляли синильной кислотой? Вот тебе и на! Один раз я вынужден был удалиться; так как без конца мешали тяжелые снаряды, пришлось делать еще четыре захода. Следом к нам ворвался паренек и сообщил, будто бы отхожее место прямым попаданием разнесено в щепки; это побудило Хамброка к уважительному замечанию о моей везучести. На что я ответил: «Задержись я там, у меня было бы теперь не меньше веснушек, чем у Вас».
К вечеру огонь прекратился. В том настроении, какое у меня всегда бывало после тяжелых обстрелов и какое я могу сравнить разве что с чувством легкости после грозы, я шел вниз по окопу. Он выглядел пустынным, целые куски были сровнены с землей, пять горловин смяты. Было много раненых, я пошел их проведать и нашел их относительно бодрыми. Прямо в окопе лежал мертвец, прикрытый плащ-палаткой. Этому человеку, когда он стоял в самом низу лестницы, длинным осколком оторвало левое бедро.
Вечером пришла смена.
13 марта я получил от полковника фон Оппена почетное поручение: во главе двух отрядов патрулировать участок роты вплоть до полного отхода полка за Сомму. Каждый из участков передней линии должен был, под руководством офицеров, патрулироваться подобным же образом. Сами участки, начиная с правого фланга, были отданы в подчинение лейтенантам Райнхардту, Фишеру, Лореку и мне.
Деревни, которые мы проходили на марше, выглядели, как большие дома умалишенных. Роты в полном составе опрокидывали и разламывали стены или сидели на крышах, разбивая кирпичи. Валились деревья, летели оконные стекла, тучи дыма и пепла поднимались вокруг от огромных свалок – короче говоря, шла великая оргия уничтожения.
Повсюду, в костюмах и женских платьях, брошенных жителями, с цилиндрами на головах, с невероятным энтузиазмом сновали люди. В пылу разрушительной изобретательности они выискивали в домах центральные балки, привязывали к ним канаты и, помогая своему трудоемкому делу ритмичными выкриками, тянули, пока не обваливался весь дом. Другие размахивали мощными кувалдами и разбивали подряд все, что ни попадалось, начиная с цветочного горшка на подоконнике и кончая изящной стеклянной конструкцией зимнего сада.
Все деревни, до самой линии Зигфрида, представляли собой груду развалин, каждое дерево было срублено, улицы заминированы, колодцы отравлены, ручьи и речки перегорожены, погребы взорваны или начинены спрятанными в них бомбами, все запасы и металлы вывезены, шины спущены, телефонные провода смотаны, все, что могло гореть, сожжено; короче, страну, ожидавшую наступления, мы превратили в пустыню.
Среди многочисленных сюрпризов, приготовленных нами для наших преемников, некоторые отличались особо изощренным коварством. Так, при входах в дома и подвалы были протянуты почти невидимые, толщиной в конский волос проволоки, которые при малейшем прикосновении воспламеняли спрятанную за ними взрывчатку. В некоторых местах улиц были вырыты узкие шахты и в них опускался большой снаряд; его закладывали тяжелой дубовой доской, а сверху снова прикрывали землей. В доску вбивался гвоздь, почти касающийся запала. Толщина досок была рассчитана таким образом, чтобы марширующие подразделения могли проходить по ним беспрепятственно; при первом же грузовике или орудии доски прогибалась, и снаряд взрывался. Особо свирепыми были бомбы с часовым механизмом, врытые глубоко в подвалы отдельных зданий, оставшихся неповрежденными. Это были большие бомбы, металлической стенкой разделенные на две части. Одна камера наполнялась взрывчаткой, другая – кислотой. После того как эти дьявольские яйца зарывали, кислота в течение недель разъедала стенку и вызывала взрыв. Одна такая бомба отправила на воздух Бапомскую ратушу, не оставив в живых ни единой твари, и как раз в тот момент, когда власти предержащие съехались туда для празднования новоселья.
Итак, 13-го вторая рота оставила позицию, которую я занимал с двумя своими отрядами. Этой же ночью человек по имени Кирххоф выстрелом в голову был уложен на месте. По странному стечению обстоятельств на протяжении длительного времени этот злосчастный выстрел был единственным, которым нас угостил неприятель.
Я сделал все возможное, чтобы ввести врага в заблуждение относительно нашей силы. На укрытие в разных местах бросали землю, и наш пулемет строчил то на правом, то на левом фланге. Несмотря на это, огонь был жидковатым, когда летчики-наблюдатели обшаривали позицию или когда шанцевый отряд проходил по вражескому тылу. Поэтому в разных местах перед нашим окопом появлялись патрули и подолгу возились с проволокой.
Накануне отхода я чуть не погиб, и самым досадным образом. Шальной снаряд, пущенный из зенитки, просвистел с огромной высоты и разорвался на поперечине, к которой я беспечно прислонился. Воздушной волной я был отброшен прямо в люк противоположной штольни, где, к немалому удивлению, внезапно обнаружил себя.
17-го утром появились признаки близкой атаки. В переднем, обычно не занятом и сильно заболоченном английском окопе послышалось чавканье множества сапог. Смех и многочисленные возгласы явно говорили о том, что эти люди хорошо смочили себя и изнутри. Темные фигуры приблизились к нашему заграждению и выстрелами были отброшены назад, одна фигура со стоном рухнула наземь и затихла. Я построил своих людей в каре у входа в одну из траншей и пытался ракетами осветить нейтральную полосу сквозь начавшийся артиллерийский и минометный обстрел. Так как белые ракеты у нас скоро иссякли, то мы запустили целый фейерверк разноцветных. Когда в пять часов прибыл приказ на эвакуацию, мы спешно взорвали гранатами блиндажи, поскольку заранее не снабдили их, хотя бы частично, своими гениально сконструированными адскими машинами. Напоследок я уже не смел притронуться к ящикам, дверям и даже ведрам, чтобы нечаянно не взлететь на воздух.
В назначенное время все патрули, отчасти уже втянутые в гранатную перестрелку, отошли в сторону Соммы. Когда мы последними пересекли долину, мосты по приказу саперных отрядов были взорваны. На нашей позиции все еще бушевал ураганный огонь.
Только через несколько часов в районе Соммы появились первые вражеские отряды. Мы отошли за все еще недостроенную линию Зигфрида; батальон расквартировали в деревне Леокур, расположенной на Сен-Кантенском канале. Я со своим денщиком занимал маленький, уютный домик, где в сундуках и комодах еще хранился скарб изгнанных из деревни жителей. В качестве одной из примечательных черт наших людей я хотел бы упомянуть, например, такую: мой денщик, верный Книгге, несмотря на уговоры не сдвинулся с места, чтобы перейти спать в теплую комнату, но во что бы то ни стало желал остаться в холодной кухне. Эта скромность, свойственная жителям Нижней Саксонии, облегчала командиру общение с командой.
В первый же свободный вечер я пригласил друзей на бокал глинтвейна, употребив все оставленные хозяином пряности, так как наш патруль за операцию по отходу заслужил не только похвалу высшего командования, но и двухнедельный отпуск.
В деревне Фреснуа
На этот раз мой отпуск, начавшийся через несколько дней, не прерывался. В своем дневнике я читаю краткую, но выразительную запись: «Отпуск провел хорошо; после того как я умру, мне не в чем будет себя упрекнуть». 9 апреля 1917 года я снова прибыл во вторую роту, расквартированную в деревне Меринье близ Дуэ. Радость свидания была нарушена внезапной тревогой, для меня особенно неприятной, так как мне дали поручение отвести боевой обоз в Бомон. Сквозь ливень и снежную пургу я ехал во главе колонны автомашин, крадучись пробиравшейся по шоссе, пока мы наконец в час ночи не прибыли на место.
Кое-как расселив людей и пристроив лошадей, я отправился на поиски квартиры для себя, но все до крошечного уголка было занято. Наконец одному служащему полевого интендантства пришла в голову неплохая мысль предложить мне свою постель, так как он сам дежурил на телефоне. Не снимая сапог, в том, в чем был, я бросился на постель, а он рассказывал мне, как англичане отбили у баварцев высоту Вимы и еще большой кусок территории. Несмотря на его гостеприимство, было заметно, что ему вовсе не по душе превращение его тихой этапной деревеньки в сборный пункт боевых подразделений.
На следующее утро батальон выступил навстречу канонаде в деревню Фреснуа. Там я получил приказ соорудить наблюдательный пункт. На западном краю деревни, взяв с собой нескольких людей, я отыскал домик, в крыше которого велел пробить окошко для наблюдения. Свои апартаменты мы переместили в подвал; во время уборки нам попался мешок картошки, – приятное дополнение к нашему скудному рациону. Так что Книгге каждый вечер варил мне картошку в мундире. Кроме того, лейтенант Горник, надзиравший со своим взводом за уже освобожденной деревней Виллерваль, прислал мне в качестве товарищеского подарка большую порцию ливерной колбасы и несколько бутылок красного вина, добытых из оставленного в спешке продовольственного лагеря. Отряд, который я тотчас снарядил, оснастив его для перевозки добытых сокровищ детскими колясками и другим транспортом такого же рода, к сожалению, должен был по непредвиденным обстоятельствам вернуться, так как англичане уже оцепили деревню плотной линией оборонительных сооружений, Позднее Горник мне рассказывал, что как только в деревне, уже занятой неприятелем, обнаружили большой винный склад, начались такие вольготные кутежи, что не знали, как их прекратить. В дальнейшем в таких случаях мы разбивали бутыли и подобные емкости выстрелом из пистолета.
14 апреля я получил задание соорудить в деревне пункт сбора донесений. Для этой цели мне предоставили пеших связных, велосипеды, телефоны, сигнальную станцию, наземный телеграф, почтовых голубей и цепь постов с ракетными установками. Вечером я разыскал подходящий подвал со встроенной в него штольней и в последний раз отправился в свое жилище на западном краю деревни.
Ночью мне несколько раз чудился глухой треск и крик моего денщика, но я только пробормотал, не в силах проснуться: «Пусть их стреляют!» – и перевернулся на другой бок, хотя пыль в помещении стояла, как в меловом карьере. На следующее утро меня разбудил племянник полковника фон Оппена, маленький Шульц, закричав: «Послушайте-ка, ведь у Вас весь дом разнесли!» Когда я поднялся и осмотрел повреждения, то обнаружил, что в крышу попал тяжелый снаряд, уничтожив все жилые помещения вместе с наблюдательным пунктом. Будь запальник чуть-чуть погрубее, взрыв влепил бы нас в стены подвала, да так, что «пришлось бы соскабливать ложкой и хоронить в котелке», как гласило соответствующее фронтовое выражение. Шульц рассказал мне, что при виде разгромленного дома его связной якобы произнес: «Еще вчера тут жил один лейтенант, пойдем поглядим, что от него осталось». Книгге был вне себя, недоумевая, как можно так крепко спать.
До полудня мы переселились в новый подвал. На пути туда нас чуть не раздавили обломки рухнувшей колокольни, бесцеремонно взорванной саперной командой, чтобы сбить с толку вражескую артиллерию. В соседней деревне забыли даже предупредить двойной пост, который вел из местной колокольни наблюдение. Чудом удалось вытащить людей из-под обломков целыми и невредимыми. В то же утро на воздух взлетела еще дюжина колоколен.
В нашем просторном подвале мы обустроились вполне сносно, натащив туда разной мебели, какая только попалась под руку. Что было не по вкусу – сжигали.
В эти дни над нами разыгрался ряд жестоких воздушных боев, которые почти каждый раз заканчивались поражением англичан, так как над местностью кружила бомбардировочная эскадрилья Рихтхофена. Часто пять-шесть самолетов друг за другом вдавливались в землю или, сбитые, пылали, как факелы. Однажды мы видели, как из самолета вылетел пилот и, описав широкую дугу, черной точкой рухнул на землю отдельно от своей машины. Неотрывное глазение вверх таило в себе и опасности: так один солдат из четвертой роты падающим осколком был смертельно ранен в шею.
18 апреля я навестил вторую роту на позиции, дутой опоясывающей деревню Арло. Бойе рассказал мне, что у него пока всего один раненый, так как планомерный обстрел, который вели англичане, каждый раз давал возможность отхода с обстрелянных участков.
Пожелав ему всего самого наилучшего, я живо покинул деревню, спасаясь от непрестанно ухающих тяжелых снарядов. В трехстах метрах от Арло я остановился, чтобы полюбоваться взмывающими ввысь облаками взрывов, которые, смотря по тому, размалывали ли они кирпичные постройки или вздымали землю из садов, были окрашены то в красные, то в черные тона, смешанные с нежной белизной хлопающей шрапнели. Но когда группы легких снарядов начали падать на узкие тропинки, соединяющие Арло с Фреснуа, я отказался от дальнейших наблюдений и быстро покинул поле, чтобы не «подвергать себя смерти», как обычно говорили во второй роте.
Подобные прогулки, которые я растягивал иногда до городка Энин-Льетара, я совершал довольно часто, так как в первые две недели, несмотря на многочисленный штат, мне не удалось передать ни одного донесения.
Начиная с 20 апреля Фреснуа обстреливали 12-дюймовыми орудиями, чьи снаряды рвались с адским шипением. После каждого взрыва деревню окутывало огромное, красно-коричневое пикриновое облако, выраставшее, как гриб. Даже неразорвавшиеся снаряды слегка сотрясали землю. Солдат девятой роты, настигнутый во дворе замка подобным снарядом, был высоко подброшен над деревьями парка, и, шлепнувшись о землю, переломал себе все кости.
Как-то вечером, съезжая на велосипеде с холма по направлению к деревне, я заметил знакомое красно-коричневое облако, поднимающееся вверх. Я слез с велосипеда и стал посреди поля, спокойно дожидаясь конца обстрела. Приблизительно через три секунды после каждого взрыва раздавался мощный грохот, к которому присоединялось многоголосое свистение и щебетание, словно приближалась плотная птичья стая. Затем сыпались сотни осколков и пылью вздымали сухую землю. Спектакль повторился неоднократно, и каждый раз я ждал этого относительно медленного приближения осколков с мучительным любопытством, не лишенным, однако, и приятности.
Пополудни деревня обстреливалась орудиями различного калибра. Несмотря на опасность, я не мог оторваться от слухового окна своего дома; зрелище отдельных подразделений и связных, торопливо снующих по обстреливаемой местности, то и дело бросающихся на землю и со всех сторон окруженных вихрями земли, было поистине захватывающим. Вот так, заглядывая судьбе в карты, легко забываешь про собственную безопасность.
Когда после окончания одного из таких огненных испытаний – а иначе их не назовешь – я возвращался в деревню, снарядом расплющило еще один погреб. Из-под дымящегося помещения откопали только три трупа. У самого входа в разодранном мундире ничком лежал мертвец; голова у него была оторвана и кровь стеклась в лужу. Когда санитар, собравшись вынуть ценные вещи, перевернул его лицом вверх, показался обрубок руки, на котором торчал лишь большой палец.
Со дня на день артиллерия все более оживлялась и исключала всякое сомнение в близком штурме. 27-го в полночь я получил телефонограмму: “67 von 5 a m.”, что на нашем шифре означало: «с 5 часов утра повышенная боевая готовность».
Чтобы достойно встретить предстоящие напасти, я тут же лег, но едва начал засыпать, как в дом угодил снаряд, расплющив переборку лестницы, ведущей в погреб, и вся каменная кладка обрушилась внутрь помещения. Мы вскочили и побежали в штольню.
Когда, удрученные и усталые, при свете свечи мы сидели на лестнице, ко мне вбежал командир моих сигнальщиков, чья станция, а вместе с ней и две ценные сигнальные лампы, были разгромлены еще вчера, и доложил: «Герр лейтенант, в погреб дома № 11 попал прямой снаряд, под развалинами люди!» Поскольку в этом доме у меня было два связных и три телефониста, я, взяв с собой нескольких человек, поспешил на помощь пострадавшим.
Там, в штольне, я нашел одного ефрейтора и одного раненого и услышал от них следующее: когда первые залпы прогремели подозрительно близко, четверо из пятерых обитателей решили спуститься в штольню. Один из них спрыгнул тут же, один продолжал спокойно лежать, двое же других стали натягивать сапоги. Самый предусмотрительный и самый безразличный, как это и водится на войне, остались невредимы; первый вообще не был ранен, тот же, который спал, получил осколок в бедро. Трое других были разорваны снарядом, пролетевшим сквозь стенку погреба и разорвавшимся в противоположном углу.
После этого рассказа я на всякий случай закурил сигару и вошел в наполненное дымом помещение, посредине которого почти до потолка высилась беспорядочная груда разбитых коек, соломенных матрацев и других предметов мебели. Вставив несколько свечей в швы кладки, мы приступили к скорбному обряду. Ухватившись за торчащие из развалин ноги, мы вытащили трупы наружу. У одного была оторвана голова, и шея лежала на туловище, как большая, окровавленная губка. Из обрубленной руки второго высовывалась размозженная кость, а мундир был пропитан кровью, вытекшей из большой раны в груди. У третьего из распоротого живота вытекли внутренности. Когда мы его вытаскивали, в страшную рану с отвратительным шумом воткнулась расколотая доска. Какой-то ординарец что-то по этому поводу заметил, но мой денщик словами: «Помолчи, не до болтовни теперь!» – урезонил его.
Я составил перечень ценностей, которые мы у них нашли. Это было жуткое занятие. Свечи красноватым пламенем мерцали сквозь густой чад, пока оба мои помощника передавали мне бумажники и серебряные предметы, словно совершая какое-то тайное, темное действо. На лица мертвецов осела мелкая, желтая кирпичная пудра, придавая им вид неподвижных восковых масок. Мы накинули на них одеяла и поспешили вон из погреба, завернув раненого в плащ-палатку. Подбадривая девизом стоиков: «Стисни зубы, приятель!» – мы потащили его сквозь неистовый шрапнельный огонь к медицинскому пункту.
Вернувшись в свое жилище, я сделал сначала несколько глотков шерри-бренди, чтобы прийти в чувство. Вскоре снова начался оживленный обстрел, прогнав нас в штольню, ибо у всех перед глазами еще стоял наглядный пример того действия, какое артиллерийский огонь может оказывать на погреб.
В 5 часов 14 минут за какие-то доли секунды огонь достиг небывалой силы. Наша информационная служба хорошо предусмотрела события. Штольня, в которой мы сидели, раскачивалась и тряслась, как корабль во время шторма; вокруг с грохотом раскалывалась каменная кладка и трещали соседние дома, валившиеся под ударами снарядов.
В 7 часов я поймал светограмму бригады, адресованную второму батальону: «Требуем немедленно прояснить ситуацию». Через час запыхавшийся связной принес донесение: «Неприятель занял Арло, Арлоский парк. Восьмая рота предприняла контратаку, пока все. Рохоль, капитан».
За время трехнедельного пребывания во Фреснуа это было единственное, хотя и очень важное, сообщение, которое я передал по своей мощной системе связи. Теперь, когда моя деятельность обрела такую ценность, артиллерия вывела из строя почти все мои установки. Сам я сидел под огненным колпаком, как пойманная мышь. Оказалось, что сооружение этого сборного пункта донесений не имело смысла; пункт получился сверхцентрализованным.
Благодаря этой поразившей меня догадке я вдруг понял, почему с некоторых пор по стенам били пули, пущенные с такого близкого расстояния.
Едва мы осознали, какие большие потери понес полк, как обстрел возобновился с удвоенной силой. Книгге стоял на верхней ступеньке последним, когда громовой удар возвестил, что англичанам удалось шарахнуть по нашему погребу. Благодушного Книгге увесистый камень ударил по загривку, но больше он не потерпел никакого урона. Наверху же все было разбито вдребезги. Дневной свет проглядывал к нам сквозь два велосипеда, прижатых ко входу штольни. Присмиревшие, мы переместились на нижнюю ступеньку, но глухие толчки и грохочущие камни убеждали нас в ненадежности нашего убежища.
Чудом еще работал телефон; я представил начальнику дивизионной службы связи наше положение и получил приказ перебраться вместе с людьми в близлежащую санитарную штольню.
Мы упаковали самое необходимое и вознамерились покинуть штольню через второй, пока еще уцелевший выход. Хотя я не скупился на приказания и угрозы, люди из телефонной роты, мало приспособленные к бою, так долго копались, не решаясь выйти из-под защиты штольни на открытый огонь, что и этот выход, размолотый снарядом, рухнул. К счастью, никто не пострадал, только жалобно взвыла наша маленькая собачка, и с тех пор мы ее больше не видели.
Рывком отбросив велосипеды, загораживающие выход из погреба, мы на четвереньках переползли через груду развалин и сквозь узкое отверстие в стене выбрались наружу. Не тратя времени на рассматривание тех невероятных изменений, которые претерпела местность всего за несколько часов, мы помчались к выходу из деревни. Едва последний выскочил из ворот, как в дом уже снова угодил мощный снаряд.
Пространство между деревенской околицей и санитарной штольней было опоясано кольцом заградительного огня. Легкие и тяжелые снаряды с ударными, дистанционными и замедленно действующими взрывателями, неразорвавшиеся снаряды и шрапнель сливались друг с другом в бешеное действо, дикое для зрения и слуха. Посреди него, огибая справа и слева адский котел деревни, продвигались отряды подкрепления.
Во Фреснуа земляные столбы вышиной с колокольню ежесекундно следовали один за другим, стремясь перещеголять друг друга. Как по волшебству, дома поочередно проглатывались землей; обрушивались стены, срывались фронтоны, и оголенные стропила летели на воздух, размалывая соседние крыши. Над белесыми испарениями плясали тучи осколков. Глаза и уши, как зачарованные, были прикованы к этой круговерти уничтожения.
В санитарной штольне мы провели еще два дня, страдая от тесноты, так как, кроме моих людей, в ней помещались еще два батальонных штаба, сменные отряды и неизбежные «отставшие». Толкотня у входов, где люди кишели, как пчелы перед летками пчелиного улья, не могла остаться незамеченной. Вскоре по полевой дороге, проходившей мимо деревни, снаряды хлопали уже каждую минуту, настигая бесчисленных жертв, так что крики, подзывавшие санитаров, не умолкали. Из-за этой проклятой пальбы я лишился четырех велосипедов, которые мы оставили около входа в штольню. Скрученные в какие-то немыслимые конструкции, они улетучились невесть куда.
Перед входом, застывший и молчаливый, завернутый в свою плащ-палатку, все еще в роговых очках, лежал командир восьмой роты, лейтенант Лемьер, принесенный сюда его людьми. Пуля попала ему в рот. Его младший брат через несколько месяцев погиб точно от такого же ранения.
30 апреля я передал дела своему преемнику из сменного 25-го полка, и мы двинулись на Флер – сборный пункт первого батальона. Оставив слева известковый карьер «Ше-бон-тан», изрытый глубокими воронками, мы, радуясь от души чудесному дню, шли, не торопясь, через поле в Бомон. Взор снова наслаждался красотой земли, наконец-то избавившись от невыносимой тесноты затхлой штольни, и легкие пьянились ласковым весенним воздухом. Оставив грохот пушек позади, мы могли сказать:
Свой день Создатель сотворил Для высших радостей, не для сраженья.Во Флере я обнаружил, что квартира, предназначенная мне, была занята несколькими этапными фельдфебелями, которые под предлогом, что сторожат жилье для некоего барона X, отказывались освободить место, однако они не учли крайнее нетерпение усталого и раздраженного фронтовика. Я велел своим спутникам без всяких церемоний выбить дверь, и, после небольшой потасовки на глазах испуганных обитателей дома, прибежавших сюда в ночном облачении, господа полетели вниз по лестнице. Учтивость Книгге зашла так далеко, что он швырнул вослед им и их высокие сапоги. После этой небольшой атаки я забрался в нагретую постель, уступив одну ее половину своему бездомному другу Киусу. Сон на таких «мебелях», о которых мы уже успели забыть, оказался для нас столь благотворным, что на следующее утро мы проснулись «свежи, как прежде».
Поскольку первый батальон за прошедшие бои пострадал не сильно, то настроение было вполне жизнерадостным, когда мы отправились на вокзал в Дуэ. Оттуда мы поехали к узловой станции Безиньи, недалеко от которой находилась деревня Серен, где мы должны были остановиться на несколько дней для отдыха. Радушное население приютило нас, и уже в первый вечер из многих домов доносился веселый шум товарищеских пирушек.
Такие возлияния после успешной битвы почитались у древних воинов лучшей памятью о ней.
И если десять из дюжины погибали, то двое оставшихся с убийственным постоянством собирались в первый же вечер, чтобы в тишине поднять бокал вина за павших товарищей и с шутками обсудить пережитое. Напастям, в которых выстояли, – грубоватый солдатский юмор; тем, которые еще предстоят, – глоток из непочатой бутылки, пусть смерть и ад усмехались бы при этом, лишь бы вино было добрым. Таков был праведный воинский обычай с древнейших времен.
Прежде всего он научил меня ценить офицерскую трапезу. Здесь, где собирались носители фронтового духа и воинский авангард, концентрировалась воля к победе, обретая форму в очертаниях суровых и закаленных лиц. Здесь оживала стихия, выявляющая, но и одухотворяющая дикую грубость войны, здоровая радость опасности, рыцарское стремление выдержать бой. На протяжении четырех лет огонь постепенно выплавлял все более чистую и бесстрашную воинскую касту.
На следующее утро ко мне явился Книгге и зачитал приказы, из которых я к полудню уяснил, что должен принять командование четвертой ротой. Сражаясь в этой роте, осенью 1914-го пал нижнесаксонский поэт Герман Лёнс.
Против индусов
6 мая 1917 года мы снова шли маршем к хорошо знакомому Бранкуру, а на следующий день двинулись через Монбреэн, Рамикур и Жонкур к линии Зигфрида, покинутой нами месяц тому назад.
Первый вечер был бурным; потоки воды низвергались на затопленную равнину. Затем ряд прекрасных, теплых дней примирил нас с нашим новым местопребыванием. Я весь отдался наслаждению великолепным ландшафтом, не обращая внимания на белые шары шрапнели и рвущиеся снаряды. Восприятие весны в эти годы было крепко связано с мыслью о развивающихся боевых действиях; признаки грядущего большого наступления были такими же составляющими, как сияние неба и молодая зелень.
Наша позиция образовала выступ в форме полумесяца перед Сен-Кантенским каналом, за ним лежала знаменитая линия Зигфрида. Не могу понять, зачем нам нужно было залегать в узких, неудобных меловых траншеях, имея за спиной такой мощный, колоссальный бастион.
Передняя линия вилась по равнине, испятнанной отдельными группами деревьев и разрисованной нежными красками ранней весны. Можно было безнаказанно расхаживать впереди и сзади траншеи: выставленные далеко вперед полевые посты охраняли позицию. Эти посты были сучком в глазу у противника; не проходило и ночи, чтобы он либо силой, либо хитростью не пытался избавиться от этих маленьких отрядов.
Впрочем, первые наши дни на позиции проходили в приятном покое, погода была настолько прекрасна, что теплые ночи люди проводили валяясь на траве. 14 мая нас сменила шестая рота, и мы двинулись направо от горящего Сен-Кантена к месту отдыха Монбреэн – большой деревне, мало пострадавшей от войны и обещавшей нам уютный постой. 20-го в качестве резервной роты мы заняли линию Зигфрида. Нетронутая лесная свежесть окружала нас, все дни напролет просиживали мы в устроенных на склоне беседках, купались и катались на лодках по каналу. В это время, вытянувшись в траве, я с наслаждением прочел всего Ариосто.
Недостатком таких образцовых позиций являются, однако, частые визиты начальства, значительно нарушающие уют жизни в окопах. Впрочем, моему левому флангу, граничащему с основательно потрепанной деревней Белленглиз, не приходилось жаловаться на недостаток огня. Уже в первый день одному из моих людей шрапнельная пуля угодила в правую ягодицу. Когда я, извещенный об этом, поспешил к месту происшествия, раненый в ожидании санитаров с весьма довольным видом сидел на своем левом полушарии и уплетал гигантскую порцию повидла.
25 мая мы сменили двенадцатую роту на ферме Рикеваль. Эта ферма, прежде бывшая поместьем, теперь служила местом пребывания одной из четырех рот позиции. В ее ведении были рассеянные по тылу три пулеметные базы. Эти в шахматном порядке сгруппированные за позицией боевые гнезда были первой попыткой более гибкой обороны.
Ферма лежала самое большее в тысяче пятистах метрах за передовой линией, тем не менее ее окруженные заросшим парком дома остались нетронутыми. Она была густо обжита, так как штольни еще только предстояло строить. Цветущий шиповник в аллеях парка и прелесть окрестностей сообщали нашему пребыванию вблизи фронта тот оттенок радостного сельского наслаждения жизнью, в котором французы знают толк. В моей спальне свила себе гнездо пара ласточек, уже ранним утром начинавшая шумное кормление своих ненасытных чад.
Вечером я взял из угла свою трость и пошел по узким полевым тропинкам, извивавшимся по холмистому ландшафту. Изуродованные поля были покрыты цветами, пахнувшими жарко и дико. Изредка по дороге попадались отдельные деревья, под которыми, надо думать, любили отдыхать селяне. Покрытые белым, розовым и темно-красным цветом, они походили на волшебные видения, затерявшиеся в одиночестве. Война осветила этот ландшафт героическим и грустным светом, не нарушив его очарования; цветущее изобилие казалось еще более одурманивающим и ослепительным, чем всегда.
Среди такой природы легче идти в бой, чем на мертвых и холодных зимних ландшафтах. Откуда-то проникает в простую душу сознание, что она включена в вечный круговорот и что смерть одного, в сущности, не столь уж значительное событие.
30 мая эта идиллия для меня окончилась, так как отпущенный из лазарета лейтенант Фогеляй снова принял командование четвертой ротой. Я отправился со своей старой второй ротой на переднюю линию.
Наш участок улицы Римлян до так называемого артиллерийского окопа занимали два взвода. Командир роты вместе с третьим взводом находился за маленьким уклоном, приблизительно в двухстах метрах. Оттуда торчала крошечная дощатая будка, в ней я и устроился вместе с Киусом, уповая на безнадежную тупость артиллеристов. Одной стороной будка прилепилась к маленькому, обращенному в сторону выстрелов склону, три других были открыты врагу с флангов. Каждый день, как только в качестве утреннего привета начиналась стрельба, между владельцами верхней и нижней нары происходил приблизительно следующий диалог.
– Послушай, Эрнст!
– Гм?
– По-моему, стреляют.
– Ну давай еще полежим. По-моему, это последний.
Спустя пятнадцать минут:
– Слушай, Оскар!
– Да?
– Этому не будет конца. По-моему, шрапнель пробила стену. Давай-ка встанем. Их корректировщик как с цепи сорвался!
Сапоги мы по крайнему своему легкомыслию снимали. Пока мы вставали, все прекращалось, и можно было в свое удовольствие сидеть за крошечным столиком, попивая скисший от жары кофе и выкуривая утреннюю сигару. В полдень в насмешку над английской артиллерией мы загорали на брезенте перед дверью.
Да и вообще в нашей будке было много занятного. Пока мы предавались сладкому безделью на проволочных сетках наших нар, по земляной стене сновали дождевые черви, с немыслимым проворством исчезавшие в своих дырах при малейшей тревоге. Угрюмый крот сопел иногда из своей норы, немало способствуя оживлению нашего затянувшегося послеобеденного отдыха.
12 июня я с группой в 20 человек должен был занять принадлежащие ротному участку полевые посты. В поздний час мы покинули позицию и теплым вечером зашагали по протоптанной тропе, вившейся по волнистой местности. Сумерки так сгустились, что мак на одичавших полях с ярко-зеленой травой налился странным насыщенным цветом. Из прозрачной темноты все пронзительнее выступал мой любимый оттенок: черно-красный, – яростный и грустный одновременно.
Так, занятые каждый своими мыслями, увешанные оружием, бесшумно двигались мы по цветочному ковру и спустя двадцать минут достигли цели. Шепотом приняли дежурство, тихо расставили посты, и смененная нами команда исчезла в темноте.
Полевые посты упирались в небольшой, но крутой склон, в котором наспех были выкопаны подобия лисьих нор. За спиной сливался с ночью буйно заросший перелесок, отделенный от этого склона широкой, метров в сто, луговиной. Прямо и слева высились два холма, по которым проходила английская позиция. На одном из них были руины с многообещающим названием «ферма Вознесение». Ложбина между этими холмами вела к противнику.
Там и наткнулся я, расставив посты, на вице-фельдфебеля Хакмана и нескольких человек из седьмой роты. Они собирались патрулировать. Хотя, собственно говоря, я не имел права бросать свои полевые посты, я все же присоединился к ним в качестве наблюдателя.
Применив изобретенный мною способ продвижения, мы перебрались через два перегораживающих дорогу проволочных заграждения и достигли, странным образом не наткнувшись ни на один пост, вершины холма, где справа и слева были слышны голоса занятых шанцевыми работами англичан. Позднее мне стало ясно, что противник убрал своих часовых, чтобы не подвергать их опасности при огневом налете на наши полевые посты, о чем я еще расскажу.
Упомянутый мною способ продвижения состоял в том, что на местности, где мы могли в любую минуту наткнуться на врага, я приказывал патрульным по очереди проползать вперед, так что в этот момент опасности подвергался лишь тот, на чью долю выпадал риск быть подстреленным сидящей в засаде охраной, тогда как другие, скрытые в отдалении, готовились к решительному вмешательству. Я не делал исключения в этих предприятиях и для собственной персоны, хотя и считал, что мое присутствие в патруле важно само по себе. Впрочем, офицеру на войне приходится иногда нарушать правила тактики по соображениям момента.
Мы обогнули несколько занятых шанцевыми работами отрядов, к сожалению, отделенных от нас плотной полосой препятствий. Когда после краткого совещания было отвергнуто предложение немного странного фельдфебеля – выдать себя за перебежчика первому вражескому часовому и вести с ним переговоры, пока мы не окружим его, – мы двинулись обратно к полевым постам.
Эти мелкие вылазки всегда действуют возбуждающе, – кровь бежит быстрее, мысли рождаются сами собой. Решив провести в мечтаниях всю эту мягкую ночь, я поднялся на вершину склона и, расстелив шинель, устроил себе гнездышко в высокой траве. Потом, старательно пряча огонь, зажег трубку и предался своим фантазиям. Посреди одного из самых прекрасных воздушных замков меня вспугнул странный шелест в перелеске и на лугу. Находясь вблизи врага, всегда ждешь засады, и удивительно, что в эти моменты, даже слыша ничем не примечательные звуки, все равно сразу чувствуешь: что-то не так!
Вслед за тем явился ближайший часовой: «Герр лейтенант, только что семьдесят англичан прошли по направлению к опушке!»
Слегка удивившись точности цифры, я с находившимися рядом четырьмя моими людьми на всякий случай залег наверху обрыва в высокой траве, чтобы следить за развитием событий. Через несколько секунд я увидел отряд, который приближался, шурша в траве. Мои люди направили на них оружие, а я негромко спросил: «Кто тут? «Оказалось, что это был унтер-офицер Тайленгердес – надежный старый вояка, собравший свою встревоженную группу.
Спешно подошли и другие группы. Я распорядился составить цепь флангами к обрыву и к перелеску. Через минуту люди стояли, примкнув штыки. Определив направление и желая дать наставление стоящему за мной человеку, я услышал в ответ: «Я – санитар». Он надежно затвердил свои обязанности. В очередной раз успокоенный насчет прусской дисциплины, я велел трогаться.
Пока мы пересекали луговину, град шрапнельных пуль пронесся над нашими головами. Тем самым противник поместил нас под огневой купол, стремясь отрезать нас от находящихся позади наших соединений. Мы невольно перешли на бег, чтобы преодолеть смертельный угол перед лежащим впереди холмом.
Вдруг смутная тень выросла передо мной из травы. Я выхватил ручную гранату и с криком метнулся ей наперерез. К своему ужасу при вспышке взрыва я узнал унтер-офицера Тайленгердеса, незаметно проползшего вперед и наткнувшегося на проволоку. К счастью, он остался невредим. Тут же рядом с нами прозвучал еще более сильный грохот английских гранат, и шрапнельный огонь достиг максимальной плотности.
Моя цепь распалась и исчезла в направлении к обрыву, сильно обстреливаемому, я же с Тайленгердесом и тремя верными людьми остались на месте. Внезапно один из них толкнул меня: «Вон англичане!»
На освещенном лишь разлетающимися искрами лугу передо мной, как во сне, встала двойная цепь фигур, поднимающихся с колен, чтобы идти вперед. Я сразу определил офицера, отдающего на правом фланге приказ. И друг и враг равно онемели от неожиданности и внезапности этой встречи. И мы сделали единственное, что нам оставалось: сорвались с места без единого выстрела со стороны ошарашенного противника за нашей спиной.
Мы вскочили и ринулись к обрыву. И хотя я споткнулся о коварно натянутую в высокой траве проволоку и перекувырнулся, я все-таки благополучно добрался до него и собрал своих возбужденных людей, оказавшихся там, в единую, связанную суровой необходимостью цепь.
Наше положение было таково, что мы сидели под куполом огня, точно под опрокинутой корзиной. По всей вероятности, продвигаясь вперед, мы помешали отряду, который должен был окружить нас. Мы лежали под обрывом на узкой, разбитой полевой дороге. Плоского углубления, оставленного колесами, было достаточно, чтобы укрыть нас от винтовочных выстрелов, ибо в минуту опасности жмешься к земле, как ребенок к матери. Мы держали оружие по направлению к лесу, то есть английские линии оставались за нами. Это беспокоило меня больше, чем все, что происходило в лесу, поэтому во время следующих событий я посылал иногда дозорного на верх обрыва.
Вдруг огонь разом смолк. Едва уши смогли привыкнуть к ошарашивающей тишине, как в подлеске рощи раздался повторяющийся шум и треск.
– Стой! Кто тут? Пароль?!
В продолжение пяти минут мы с ревом выкрикивали пароль первого батальона: «малыш и кружка», что означало: «шнапс и пиво», – выражение, бывшее на языке у каждого ганноверца, но ответом нам были только странные, невнятные выкрики. Наконец я решился отдать приказ открыть огонь, хотя некоторые утверждали, что слышали немецкие слова. Пули двадцати моих винтовок неслись к перелеску, дребезжали патронники, и вскоре мы стали различать в чаще стоны раненых, При этом я не мог отделаться от слабого ощущения неуверенности: могло случиться, что мы вели огонь по собственному прибывшему на помощь подкреплению.
Успокаивало лишь то, что навстречу нам сверкали только желтые язычки пламени, но и они вскоре прекратились. Один из нас получил пулю в плечо, санитар занялся им. «Стой!» Команда дошла не сразу. И вот огонь стих. Напряжение немного спало.
Снова крики о пароле. С трудом перебирая английские фразы, я прокричал несколько раз убедительный призыв: “Come here, you are prisoners, hands up!”,[23] на что последовал многоголосый ответ, в котором мои люди различили нечто вроде «месть, месть!». Одинокий стрелок вышел на опушку и направился к нам.
Один из нас имел глупость прокричать ему «пароль!», на что тот в нерешительности остановился и повернул назад.
– Хлопни его!
Дюжина выстрелов; фигура, оседая, скользнула в траву.
Это маленькое происшествие наполнило нас чувством удовлетворения. С опушки снова донесся рой голосов; похоже, нападающие подбадривали друг друга, чтобы выйти навстречу неизвестному противнику.
В предельном напряжении уставились мы на темнеющую опушку. Начинало светать, над лугом поднимался легкий туман. И нам предстала картина, какую в этой войне прицельного оружия редко можно было наблюдать. Из темноты подлеска отделились тени и вышли на открытый луг. Пять, десять, пятнадцать, целая цепь. Дрожащие руки освободили рычаг предохранителя. Тени приблизились на пятьдесят метров, на тридцать, на пятнадцать… Огонь!! Треск выстрелов раздавался в течение минуты.
Вдруг крик: «Внимание, слева!». Оттуда к нам спешила группа нападающих; шедший впереди гигант, с револьвером в вытянутой руке, размахивал белой булавой. «Левая группа, левое плечо вперед!». Люди сгрудились и стоя встретили нападающих. Некоторые из них, в том числе и командир, рухнули под встретившим их огнем. Другие исчезли бесследно так же быстро, как и появились.
Пора было наступать. С примкнутыми штыками и отчаянным «ура!» мы штурмовали лесок. Гранаты полетели в густые заросли, и вот уже наш полевой пост безраздельно принадлежал нам, но увертливый враг так и не был захвачен. Мы собрались на соседнем ржаном поле и уставились друг на друга, глядя в бледные от бессонной ночи лица. Сияя всходило солнце. Жаворонок забрался высоко и злил нас своими трелями. Мы были приблизительно в том же настроении, в каком игравший всю ночь человек бросает карты на стол, в то время как прохладный утренний воздух из распахнутых окон мешается с застоявшимся сигарным дымом.
Пока мы прикладывались к фляжкам и передавали сигарету, мы слышали, как противник с громко стонущими ранеными удалялся по ложбине. Однажды на мгновение показалась даже вся процессия, впрочем, оно было слишком кратким, чтобы успеть им добавить.
Я решил вернуться на место боя. С луга, откуда мы били по цепи стрелков, доносились чужие стоны и крики. Они напоминали кваканье лягушек, несметно появляющихся в лугах после грозы. В высокой траве мы обнаружили нескольких убитых и трех раненых; хватая нас за руки, они взывали к милости. Казалось, они были уверены, что мы их прикончим. На мой вопрос: “Quelle nation?”[24] – один ответил: “Pauvre Radschput!”[25]
Итак, перед нами были индусы, явившиеся из-за моря, чтобы на этом Богом забытом куске земли крушить черепа ганноверским стрелкам. Их хрупкое телосложение было, однако, плохо для этого приспособлено. На таком коротком расстоянии пуля обладает действием взрывчатки. Часть из индусов уже на земле была ранена по второму разу, так что след от пули тянулся по всему их телу. Ни один не получил меньше двух пуль. Мы подобрали их и потащили к нашей траншее. Поскольку они кричали, как будто их режут, мои люди заткнули им рты и пригрозили кулаком, дабы привести их в чувство. Один умер уже по дороге. Но его все равно взяли с собой, так как за голову каждого пленного – живого или мертвого – была назначена цена. Двое других, стремясь снискать наше расположение, беспрерывно кричали: “Anglais pas bon!”.[26] Почему они говорили по-французски, мне было толком не ясно. В этом шествии, в котором визг пленных мешался с разбирающим нас смехом, было что-то превобытно-воинственное и варварское.
В траншее рота, слышавшая шум боя и сама накрытая заградительным огнем, встретила нас ликованием. Наш трофей был оценен по достоинству. Теперь мне удалось несколько успокоить пленных, которым, кажется, порассказывали о нас всякие ужасы. Постепенно они оттаивали и называли свои имена. Одного звали Амар Сингх. Затем я вместе с Киусом, сделавшим дюжину снимков, вернулся в нашу хижину и предложил ему отметить этот день обширной яичницей.
Наше маленькое сражение было отмечено в приказе по дивизии. Мы с командой в двадцать человек доблестно противостояли многократно превышающему нас отряду, зашедшему к нам с тыла, хотя при численном перевесе противника существовала инструкция отступать. Но об этом не могло быть и речи: слишком уж жадно ждал я во время скуки позиционной войны подобных ситуаций, бывших истинной отрадой для воинского духа.
Могу с удовлетворением сказать, что благодаря моей быстроте принятия решения, а также личному примеру, вражескому командиру были уготованы большое разочарование и ранняя могила. Мы на равных мерялись с ним силами, как это бывает на офицерских учениях в гарнизоне, только здесь не было холостых патронов.
Если участникам Первого Арианского стрелкового доведется прочесть эти строки, я хочу засвидетельствовать свое уважение к войску, имеющему таких командиров, как старший лейтенант, против которого я имел честь сражаться.
Впрочем, выяснилось, что помимо раненых у нас есть еще одна потеря. Речь идет о человеке, больше не годном к полевой службе, так как предыдущее ранение оставило в нем болезненное чувство страха. Мы хватились его только на следующий день; полагаю, страх погнал его в ржаные поля, и там какая-нибудь пуля его прикончила.
На следующий вечер я получил приказ снова занять полевые посты. Поскольку противник уже мог там укрепиться, мы двумя отрядами, как клещами, охватили перелесок. Один отряд вел Киус, другой – я. Здесь я впервые применил особый способ приближения к опасному пункту, состоявший в том, что мы друг за другом по широкой дуге окружали это место. Если пункт оказывался занятым, то правый и левый изгибы образовывали фланкирующий огневой фронт. После войны я ввел этот способ, под названием «змейка», в пехотно-боевой устав.
Оба фланга встретились у обрыва без всяких приключений, не считая того, что Киус чуть не пристрелил меня, взводя курок своего пистолета.
Врага нигде не было видно, только из ложбины, где мы с фельдфебелем Хакманом производили разведку, нас окликнул часовой, выпустил осветительную ракету и обстрелял. Мы взяли этого дерзкого молодого человека на заметку до следующей нашей вылазки.
На месте, где мы прошлой ночью отражали атаку с фланга, лежали три трупа. Это были два индуса и офицер-англичанин с двумя золотыми звездами на погонах, то есть старший лейтенант. Его ранило в глаз. Пуля, выходя, пробила ему висок и раздробила край каски – она находится теперь в моем собрании подобных предметов. В правой руке он еще держал обрызганную кровью булаву, левая сжимала большой шестизарядный кольт, в барабане которого еще оставалось два патрона. Со взведенным курком мы положили его на тело офицера.
В последующие дни я заметил еще какое-то число скрытых в зарослях трупов, – свидетельство тяжелых потерь противника, омрачавшее наше пребывание на полевом посту. Работая как-то в зарослях, я услышал странный шипящий и булькающий звук. Я подошел ближе и наткнулся на два трупа, вследствие жары, казалось, пробудившихся для какой-то призрачной жизни. Ночь была душной и тихой. Как прикованный, долго стоял я перед жуткой находкой.
18 июня пост опять подвергся атаке; на этот раз все обошлось не столь благополучно: люди разбежались и их невозможно было собрать. Один из них, унтер-офицер Эрдельт, в помрачении кинулся прямо к обрыву, скатился вниз и оказался в гуще засевших там индусов. Он метнул гранату, но индийский офицер схватил его за воротник и вытянул по лицу проволочной нагайкой. Потом у него отняли часы. Подталкиваемый подзатыльниками, шел он с ними на марше. Ему все же удалось убежать, когда индусы бросились на землю под настильным огнем. После долгих блужданий за вражеской линией фронта он, с лицом в толстых шрамах, вновь пришел на нашу линию.
Вечером 19 июня я с маленьким Шульцем, десятью людьми и легким пулеметом вышел в дозор с этого уже ставшего для меня постылым места, чтобы нанести визит часовому, так бойко проявившему себя в ложбине. Мы продвигались от ложбины; Шульц со своими людьми справа, я – слева, с условием прийти на помощь друг другу, если один из отрядов обстреляют. Время от времени прислушиваясь, мы ползли вперед по траве и зарослям дрока.
Вдруг раздалось щелканье выдергиваемого и вновь заталкиваемого патронника. Мы прилипли к земле. Видавший виды патрульный сумеет понять неприятные чувства следующих за тем секунд, когда утрачиваешь свободу действий и ждешь, как поступит противник.
Выстрел разорвал давящую тишину. Я лежал за кустиком дрока и выжидал. Товарищ справа от меня метнул гранату в ложбину. Мгновенно перед нами вспыхнула линия огня. Отвратительно резкий звук выстрелов говорил о том, что стрелки залегли всего в нескольких метрах от нас. Я понял, что мы попали в ловушку, и велел отступать. Вся команда вскочила и с безумной торопливостью ринулась назад. И в это время заговорили винтовки с нашего левого фланга. Посреди этой пальбы я утратил всякую надежду на то, что нам удастся выбраться живыми. Сознание все время ждало пули. Смерть охотилась на нас.
Где-то рядом с пронзительным «у-рр-я!» на нас выскочил отряд. Позднее маленький Шульц признавался мне, что на секунду ему показалось, будто какой-то тощий индус, размахивая ножом, появился у него за спиной и чуть не схватил его за шиворот.
Вдруг я упал, и унтер-офицер Тайленгердес перелетел через меня. Каску, пистолет и гранату я потерял. Быстрее отсюда! Наконец мы добрались до спасительного обрыва и приникли к земле. Тут же явился Шульц со своими людьми. Задыхаясь, он сообщил, что с наглым малым на посту он, по крайней мере, рассчитался. Вслед за тем двое людей притащили с собой стрелка Ф., раненного пулей в обе ноги. Все остальные были целы.
Хуже всего было то, что человек, которому был поручен пулемет, споткнувшись о раненого, бросил свое оружие на произвол судьбы.
Пока мы обо всем этом судили и рядили, планируя вторую вылазку, начался артиллерийский огонь, живо напомнивший мне страшное смятение ночью 12 июня. Я оказался на обрыве один с раненым, который, ползя ко мне, протягивал руки и умолял: «Герр лейтенант, не бросайте меня!»
К моему прискорбию мне пришлось его оставить и заняться расстановкой полевых постов. Я разместил караулы в специальных углублениях на опушке леса, но был от души рад, когда занялось утро, не принеся с собой ничего нового.
Следующий вечер мы провели на том же месте, пытаясь отобрать свой пулемет, однако подозрительный шум, который мы услышали при разведке, говорил о том, что в засаде снова сильный противник.
Нам было велено силой завладеть утраченным оружием, а именно: в 12 часов ночи после трехминутной огневой подготовки мы должны были напасть на вражескую охрану и отыскать пулемет.
Я сделал хорошую мину при плохой игре и сам произвел днем расчет дистанции для артиллерии.
В 11 часов мы с моим товарищем по несчастью Шульцем были опять на том зловещем участке земли, где нам уже довелось пережить столько бурных часов. Запах разложения в душном воздухе невыносимо усилился. Мы посыпали убитых хлорной известью, взятой с собою в мешках. Белые пятна, как саваны, выступали из темноты.
Операция началась с того, что пули из наших же пулеметов летали у наших ног и ударялись в обрыв. Из-за этого между мной и маленьким Шульцем, устанавливавшим орудие, возник яростный спор. Мы примирились только тогда, когда Шульц обнаружил меня в кустах с бутылкой бургундского, которым я пытался поддержать себя в этой опасной авантюре.
В условленное время просвистел первый снаряд; он разорвался в пятидесяти метрах за нами. Не успели мы удивиться столь странной стрельбе, как уже второй снаряд воткнулся в обрыв возле нас, обдав фонтаном земли. На сей раз мне некого было проклинать: я сам вел пристрелку.
После столь малообнадеживающего зачина мы двинулись вперед, скорее из чувства чести, чем надеясь на успех. Нам повезло: в этот час охраны, по-видимому, не было на местах, а то нашим уделом стал бы далеко не любезный прием. К сожалению, пулемета мы не нашли, впрочем, мы не очень долго его искали.
На обратном пути Шульц и я снова обменивались мнениями: я – насчет установки его пулеметов, он – о пристрелке орудий. Я пристреливался так точно, что происшедшее казалось мне непостижимым. Лишь позднее я узнал, что каждое орудие ночью стреляет ближе и что, задавая расстояние, я должен был накинуть метров сто. Затем мы обсуждали самое важное в этой операции – рапорт. Мы так ловко его составили, что все остались довольны.
На следующий день нас сменили войска другого дивизиона. Пререкания окончились.
Мы вернулись на время в Монбреэн и оттуда двинулись маршем в Камбре, где пробыли почти весь июль.
В следующую ночь, после того как нас сменили, мы потеряли участок полевых постов.
Лангемарк
Камбре – тихий, сонный городок в провинции Артуа, с его именем связаны некоторые исторические воспоминания. Древние узкие улочки змеятся вокруг осанистой ратуши, изъеденных временем городских ворот и множества церквей, в которых проповедовал великий Фенелон. Мощные башни высятся над лабиринтом остроконечных крыш. Широкие аллеи ведут к ухоженному парку, который украшает памятник летчику Блерио.
Его жители – спокойные, приветливые люди, ведущие в просторных, скромных на вид, но богато обставленных домах уютное существование. Многие рантье поселяются здесь на закате жизни. Недаром у городка есть титул – la ville des millionaires:[27] еще перед самой войной здесь их насчитывалось более сорока.
Великая война вырвала тихое гнездо из его сказочной дремы, превратив в очаг гигантской битвы. Торопливая новая жизнь загремела по тряской мостовой, задребезжали маленькие окна, а за ними притаились испуганные лица. Чужие парни опустошали заботливо наполненные погреба, бросались в просторные, красного дерева кровати, постоянной своей суетой нарушая блаженный покой обывателей, которые, собираясь группами посреди потревоженной округи, шепотом передавали друг другу всякие страсти и достоверные слухи о близости окончательной победы их соотечественников.
Войска жили в казарме, офицеров разместили на Рю-де-Линье. За время нашего присутствия эта улица стала похожа на студенческий квартал: переговоры через окна, ночное пение и маленькие приключения – вот чем мы занимались.
Каждое утро на большом плацу возле деревни Фонтен, ставшей впоследствии знаменитой, проводились учения. Мои обязанности были мне по душе: полковник фон Оппен доверил мне формирование и обучение штурмовой группы.
Моя квартира была в высшей степени приятной; хозяева, симпатичная супружеская пара ювелиров Планко-Бурлон, редко упускали случай прислать мне наверх к обеду что-нибудь вкусное. Вечером мы вместе пили чай, играли в триктрак и болтали. Чаще всего, естественно, обсуждался трудный для ответа вопрос: зачем люди ведут войны.
В эти часы добрый мсье Планко с удовольствием делился всякими побасенками праздных и охочих до шутки обитателей Камбре, вызывавших громовой хохот на улицах, в кабачках и на рынке в былые времена. Все это напоминало мне дядюшку Беньямина, любителя подобных вещей.
Так, однажды некий проказник послал всем без исключения горбунам в округе приглашение явиться к нотариусу по поводу дела о наследстве. В назначенный час, спрятавшись за окном стоящего напротив дома вкупе с несколькими друзьями, он наслаждался редкостным зрелищем: семнадцать разъяренных, орущих кобольдов наседали на несчастного нотариуса.
Хороша была также история о живущей неподалеку старой карге, отличавшейся как-то странно искривленной шеей. Лет двадцать назад все знали ее как девушку, во что бы то ни стало желавшую выйти замуж. Шестеро молодых людей сговорились, и каждый заручился с охотой данным разрешением просить ее руки у родителей. В ближайшее воскресенье подкатил вместительный экипаж, в котором сидели все эти шестеро, каждый с букетом в руке. Девица в ужасе заперлась в доме, тогда как шалуны учинили на улице форменное безобразие на потеху соседям.
Или такая историйка: молодой, пользующийся дурной славой камбрезиец появляется на рынке и спрашивает у крестьянки, указывая на круглый, мягкий, аппетитно посыпанный зеленым луком сыр:
– Почем этот сыр?
– Двадцать су, сударь. Он дает ей двадцать су.
– Теперь этот сыр мой?
– Разумеется, сударь.
– И я могу делать с ним все, что захочу?
– Ну разумеется!
Шлеп! Он швыряет ей сыр в лицо и, оставляя ее в остолбенении, уходит.
25 июля мы простились с этим славным городком и двинулись на север к Фландрии. Из газет мы знали, что там уже неделю кипели артиллерийские бои, каких еще не было в мировой истории.
Мы высадились в Стадене под далекий гул канонады и зашагали по новому для нас ландшафту на позицию Онданклагер. Слева и справа от военной дороги зеленели богатые, ухоженные поля и сочные, влажные, окаймленные живыми изгородями луга. Рассыпанные вдали, виднелись крестьянские дворы с низкими соломенными и черепичными крышами, на стенах для просушки были развешаны пучки табачных листьев. Попадавшиеся по дороге селяне были похожи на немцев, они и разговаривали на простом, напомнившем нам родину наречии. Всю вторую половину дня мы провели в садах крестьянских хуторов, укрывших нас от глаз вражеских летчиков. Временами над нашими головами с издалека идущим клокотанием проносились мощные, выпущенные из корабельных орудий снаряды и взрывались неподалеку.
Такой снаряд попал в один из множества маленьких ручьев и убил купавшихся в нем солдат из 91-го полка.
К вечеру с высланной вперед командой я отправился на позицию резервного батальона, чтобы подготовить замену и дать указание своим людям. Мы шли к резервному батальону Хутхульстерским лесом и деревней Коки и по дороге из-за тяжелых снарядов несколько раз сбивались с шага. В темноте я услышал голос одного рекрута:
– А ведь лейтенант никогда не прячется!
– Ему лучше знать, – поправил его кто-то постарше.
– Если снаряд в самом деле сюда, он спрячется первым!
Этот человек ухватил мое соображение: «Прячься в укрытие, только если нужно, но тогда уж – мгновенно». Впрочем, степень необходимости способен правильно оценить только опытный человек, инстинктом ощущающий конечный пункт траектории раньше, чем новичок чуть заслышит легкое вибрирование воздуха.
Наши проводники, не вполне, кажется, уверенные в своих действиях, повели нас бесконечно длинной траншеей, так называемой коробкой, которая из-за грунтовых вод роется не вглубь, а выстраивается на земле в виде тоннеля из мешков с песком и фашин. Затем мы прошли мимо зловеще измочаленного леса, оттуда, по рассказу проводников, пару дней назад штаб полка был выбит такой малостью, как тысяча десятидюймовых снарядов. «Кажется, здесь нам немало достанется», – подумал я про себя.
Затем мы продирались без пути и дороги через плотный подлесок и, в конце концов потеряв проводников, беспомощно остановились в зарослях камыша, окруженные болотистой топью, на черном зеркале которой ломался свет луны. Постоянно слышались взрывы, и взметенная кверху тина смачно шлепалась обратно в воду. Наконец вернулся несчастный проводник, на которого мы обрушили весь свой гнев, и объявил, что нашел дорогу. Тем не менее мы опять плутали, пока не добрались до санитарного блиндажа; над ним совсем близко, с коротким интервалом, дважды хлопнула шрапнель, пули и осколки засвистели сквозь сучья. Дежурный врач дал нам рассудительного человека, он и довел нас до убежища, где сидел командир резерва.
Я тут же отправился дальше в роту 225-го полка, которую должна была сменить наша вторая, и после долгих поисков на изрытой воронками местности обнаружил несколько разрушенных домов, неприметно нашпигованных изнутри железобетоном. Один из них за день до этого смяло тяжелым снарядом, а команда, оказавшись запертой, была раздавлена рухнувшей крышей.
Остаток ночи я провел в заполненном людьми бетонном блиндаже командира роты – славного фронтового парня, коротавшего время за бутылкой шнапса и огромной банкой солонины. Время от времени он отрывался от этого занятия и, качая головой, прислушивался к все нараставшему артиллерийскому огню. Затем он стал со вздохом вспоминать прекрасные времена, проведеные в России, и прошелся, чертыхаясь, насчет своего совершенно обессилевшего полка. Наконец глаза мои закрылись.
Сон был тяжелым и беспокойным; падавшие в непроницаемой тьме вокруг дома фугасные снаряды вызывали среди мертвого ландшафта невыразимое чувство одиночества и заброшенности. Я невольно придвинулся к лежавшему рядом на нарах человеку. Вдруг меня подбросило сильным толчком. Мои люди осветили стены, чтобы посмотреть, не пробиты ли они. Выяснилось, что легкий снаряд раскололся о наружную стену.
Всю вторую половину следующего дня я провел у командира батальона в его убежище, так как мне нужно было выяснить еще несколько важных вопросов. Вокруг командного пункта беспрестанно взрывались шестидюймовые снаряды, в то время как ротмистр со своим адъютантом и офицером-порученцем играли в нескончаемый скат, передавая друг другу бутыль из-под сельтерской, полную мерзкого самогона. Иногда он бросал карты, чтобы дать поручение связному, или с озабоченным видом заводил разговор о надежности нашего убежища. Несмотря на усердные возражения, мы уверяли его, что недосягаемы для снаряда сверху.
Вечером огонь с неистовой силой бушевал повсюду. Пестрые осветительные ракеты взмывали перед нами беспрестанной чередой. Запыленные связные сообщали, что враг ведет наступление. После длившегося неделю ураганного огня в бой пошла пехота. Мы прибыли как раз вовремя.
Вернувшись на пункт к ротному командиру, я ждал прибытия второй роты, появившейся в четыре часа утра в разгар огневого налета. Я принял свой взвод и повел его на указанное нам место – к бетонному строению, прикрытому развалинами уничтоженного дома, невыразимо одиноко лежавшему посреди жуткой пустынности огромного, изрытого воронками поля боя.
В шесть часов утра засветился плотный фландрский туман, открыв нашему взору ужасающий вид окрестностей. Затем, плотно нависая над землей, появился отряд вражеских летчиков. Сигналя сиренами, он обследовал изрытую местность, пока рассеянные взрывами по полю пехотинцы прятались в воронки от снарядов.
Через полчаса начался страшный огневой налет, сразу превративший наше убежище в маленький островок посреди моря бушующего огня. Лес разрывов вокруг нас сгустился в движущуюся стену. Мы сгрудились и каждое мгновение ожидали падения снаряда, который смел бы нас бесследно вместе с нашим бетонным укрытием и сровнял с изрытой воронками пустыней.
Среди таких шквалов огня, когда нам удавалось лишь в паузах перевести дух, прошел весь день.
Вечером появился до предела измученный связной и передал мне приказ, из которого я узнал, что первая, третья и четвертая роты в 10:15 идут в контратаку. Второй же следует собраться и ждать замены. Чтобы сохранить силы на ближайшие часы, я лег спать, не подозревая, что мой брат Фриц, по моим понятиям находившийся еще в Ганновере, спешил на штурм через огненный ураган с отрядом третьей роты как раз мимо моего укрытия.
Мой сон был нарушен стонами раненого, уложенного у нас двумя заблудившимися на поле саксонцами, тут же заснувшими в изнеможении. Когда на следующее утро они проснулись, их товарищ был мертв. Они отнесли его в ближайшее углубление от взрыва, забросали парой горстей земли и удалились, оставив за собой одну из бесчисленных одиноких и неизвестных могил этой войны.
Очнувшись только в 11 часов от глубокого забытья, умывшись из каски, я послал за приказами к командиру роты, но он, к моему удивлению, уже выступил, не известив ни меня, ни взвод Киуса. Так бывает на войне: случаются казусы, о которых на маневрах и подумать нельзя.
Пока я, проклиная все, сидел на своих нарах и раздумывал, что мне делать, появился связной батальона и передал мне приказ немедленно принять под командование восьмую роту.
Я узнал, что прошлой ночью с большими потерями провалилась контратака 1-го батальона, а его остаток занял оборонительную позицию слева и справа от ближайшей рощи, в Добщуцком лесу. Восьмая рота должна была войти в рощу для подкрепления, но была рассеяна с сильными потерями на нейтральной полосе заградительным огнем. Поскольку ее командир, старший лейтенант Бюдинген, был ранен, я должен был снова вести роту вперед.
Попрощавшись со своим осиротевшим взводом, я отправился в путь со связным прямо через усеянную шрапнелью пустыню. Полный отчаяния голос остановил нас, когда мы бежали, пригнувшись. Вдали наполовину высунувшаяся из воронки фигура махала нам окровавленным обрубком руки. Показав в сторону только что покинутого нами убежища, мы помчались дальше.
Восьмая рота предстала передо мной горсткой павших духом, прячущихся за бетонные блиндажи людей.
– Взводных!
Появились три унтер-офицера, объявивших повторное продвижение к Добщуцкому лесу невозможным. В самом деле, мощные разрывы вставали перед нами огненной стеной. Я велел собрать взводы за тремя блиндажами, в каждом приблизительно от пятнадцати до двадцати человек. Вдруг огонь обрушился на нас. Возникшее смятение трудно описать. У левого блиндажа целая группа людей взлетела на воздух, в правый же блиндаж произошло прямое попадание. Многотонные его обломки погребли под собой лейтенанта Бюдингена, все еще лежавшего там после ранения. Мы были точно в ступе, в которую беспрерывно опускается тяжелый пест. Люди с мертвенно бледными лицами взирали друг на друга, снова и снова кричали раненые.
Пожалуй, было уже все равно, оставаться ли здесь, мчаться назад или вперед. Итак, я приказал следовать за мной и прыгнул прямо в огонь. Уже через пару прыжков меня засыпало землей от снаряда и швырнуло обратно в ближайшую воронку. Трудно объяснить, почему меня не задело: разрывы возникали так плотно, что касались, казалось, каски и плеч; они испахали всю землю, будто огромные звери своими копытами. Причина того, что я проскочил невредимым, вероятно, была в том, что многократно изрытая земля глубоко заглатывала снаряды, прежде чем ее сопротивление заставляло их взрываться. И пирамиды разрывов вставали не развесистыми кустами, а вертикальными пиками. К тому же я скоро заметил, что ярость огня при продвижении вперед ослабевала. Когда худшее осталось позади, я огляделся: вокруг не было ни души.
Наконец из облаков дыма и пыли появились два человека, потом еще один, потом снова два. С этими пятью я благополучно добрался до цели.
В разрушенном бетонном убежище с тремя станковыми пулеметами сидели лейтенант Зандфос, командир третьей роты, и маленький Шульц. Меня встретили громким приветствием и дали глоток коньяка, затем описали свое положение, в котором было мало хорошего. Прямо перед нами были англичане, своих не было ни справа, ни слева. Всем было ясно, что для этого места годятся только испытанные, поседевшие в пороховом дыму солдаты.
Неожиданно Зандфос спросил меня, слышал ли я что-нибудь о своем брате. Можно представить себе мою тревогу, когда я узнал, что он участвовал в ночном штурме и исчез. Он был мне самым близким человеком. Чувство незаменимой утраты охватило меня.
Явившийся затем человек сообщил мне, что мой брат ранен и лежит в блиндаже неподалеку. При этом он показал на заброшенное, заваленное вывороченными корнями деревьев бетонное сооружение, уже покинутое защитниками. Я ринулся через лежащую под прицельным огнем просеку и вошел в него. Какое это было свидание! Брат лежал в пропитанном трупным запахом помещении, среди множества стонущих раненых. Он был в тяжелом состоянии. Во время штурма в него попали две шрапнельные пули: одна пробила легкое, другая раздробила плечевой сустав. Глаза его лихорадочно блестели, открытый противогаз висел на груди. Он с трудом мог двигаться, говорить и дышать. Мы пожали друг другу руки и я сказал несколько слов.
Было ясно, что здесь ему оставаться нельзя: каждую минуту англичане могли пойти на штурм, или снаряд мог добить останки разрушенного блиндажа. Самое большее, что я мог сделать для брата, – немедленно убрать его отсюда. И хотя Зандфос был против всякого ослабления наших боевых сил, я все-таки дал поручение пятерым явившимся со мной солдатам доставить Фрица в санитарный блиндаж «Колумбово яйцо» и привести оттуда людей для спасения других раненых. Мы завернули его в плащ-палатку и просунули длинный шест, который два человека взяли на плечи. Пожатие рук – и грустная процессия двинулась в путь.
Я следил за колеблющимся грузом, огибавшим вырастающие до небес колонны взрывов. Каждый разрыв заставлял меня вздрагивать, пока маленькая группа не исчезла в чаду сражения. Я чувствовал себя человеком, одновременно заменяющим мать и ответственным перед ней за судьбу брата.
Еще какое-то время я перестреливался из воронок на передней опушке леса с постепенно наседавшими англичанами, а ночь провел со своими людьми и пулеметным расчетом в развалинах бетонного убежища. Поблизости беспрестанно били фугасные снаряды чудовищного веса, один из них чуть не убил меня вечером. К утру вдруг застрочил наш пулеметчик, потому что приблизились какие-то темные фигуры. Оказалось, это был патруль связных пехотного полка. Одного из них сразило наповал. Подобные ошибки часто случались в эти дни; никто особенно не предавался размышлениям по этому поводу.
В 6 часов нас сменила часть девятой роты, с которой мне передали приказ разместиться на боевых позициях в форте Раттенбург. По дороге туда шрапнельной пулей вывело из строя еще одного моего фаненюнкера. Форт Раттенбург оказался одетым в бетонные блоки строением, носящим следы многочисленных обстрелов. Оно стояло у самого заболоченного русла Каменного ручья, вполне заслуживающего такого названия.
Довольно измученные, вступили мы в форт и бросились на устланные соломой нары, пока сытный обед и затем бодрящая трубка табаку не привели нас понемногу в чувство.
К вечеру начался обстрел снарядами тяжелого и сверхтяжелого калибра. С 6 до 8 часов взрывы следовали один за другим. Иногда все сооружение сотрясалось из-за вызывавших тошноту толчков от падавших неподалеку неразорвавшихся снарядов, грозя обрушиться. В это время обычно велись разговоры о прочности нашего укрытия. Бетонный потолок казался довольно надежным, но так как форт стоял прямо на крутом берегу ручья, были опасения, что какой-нибудь летящий по отлогой траектории тяжелый снаряд добьет нас и свалит со всеми этими бетонными блоками на дно.
Когда к вечеру огонь стал стихать, я пробрался через высоту, над которой, жужжа, роем носились шрапнельные пули, к санитарному блиндажу «Колумбово яйцо», чтобы справиться о своем брате у врача, как раз обследовавшего жуткого вида ногу у одного умирающего. С радостью услышал я, что в сравнительно неплохом состоянии он отправлен в тыл.
Уже поздно явилась группа дежурных и принесла нашей маленькой, истаявшей до двадцати человек роте горячую пищу, мясные консервы, кофе, хлеб, табак и шнапс. Мы плотно поели и, не обременяя себя различиями в ранге, пустили по кругу бутылку со спиртом. Затем мы погрузились в сон, бывший, впрочем, достаточно беспокойным из-за налетавших от ручья комариных туч, а также обычных и даже химических снарядов.
В конце этой не знавшей покоя ночи я заснул так крепко, что моим людям пришлось меня будить, когда утром усилившийся огонь начал внушать им тревогу. Они сообщили, что люди, отставшие от передовых частей, утверждают, будто передовая сдана и противник продвигается вперед.
По старому солдатскому правилу – сперва подкрепись, потом с духом соберись! – я быстро позавтракал, сунул в рот трубку и стал глядеть, что там снаружи.
Результат был достаточно скромен: вся окрестность была окутана плотным дымом. Огонь с каждой минутой становился все сильнее и достиг той точки, когда беспокойство, не в силах расти далее, сменяется почти веселым безразличием. Град комьев глины без передышки барабанил по нашей крыше, дважды дом накрывало огнем. Зажигательные снаряды швыряли вверх плотные молочно-белые облака, из них на землю стекали языки пламени. Клок такой фосфорной массы шлепнулся на камень к моим ногам и догорал еще минуту. Позднее мы слышали, что пораженные ею люди катались по земле, не в силах потушить огонь. Бомбы замедленного действия с грохотом вгрызались в землю, взметая плоские земляные грибы. Облака газа и клочья тумана висели над полем. Впереди, недалеко от нас, зазвучал ружейно-пулеметный огонь, – знак того, что враг подошел совсем близко.
Внизу по дну ручья, колышущемуся лесу взметенных ввысь гейзеров тины шел отряд людей. Я узнал командира батальона, капитана фон Бриксена; с перевязанной рукой он шел, опираясь на двух санитаров. Я спешно направился к нему. Он торопливо крикнул, что враг наступает, и велел вернуться в укрытие.
Вскоре первые пули стрелков уже летели в окрестные воронки или разбивались об остатки стен. Все больше бегущих фигур исчезало в чадном дыму за нами, тогда как бешеный ружейный огонь свидетельствовал об ожесточенной обороне удерживавшихся впереди.
Пора было действовать. Я решил защищать форт и дал понять своим людям, отчего лица некоторых подозрительно вытянулись, что об отступлении не может быть и речи. Команда была расставлена у бойниц, наш единственный пулемет установлен у окна. Одну воронку объявили медицинским пунктом и посадили туда санитара, – у него сразу же оказалась уйма работы. Я тоже поднял с земли бесхозную винтовку и повесил на шею ленту патронов.
Поскольку нас была малая горстка, я попытался укрепить ее в изобилии плутавшими поблизости людьми, оставшимися без командиров. Большинство из них сразу вняло нашим призывам, обрадовавшись, что наконец обрели свое место, другие уже, совершенно утратившие самообладание, призадумавшись и увидев, что ничего хорошего нас не ждет, устремлялись дальше. Но в таких случаях бывает уже не до нежностей.
– К стрельбе гаа-товсь! – скомандовал я своим людям, стоявшим передо мной под прикрытием дома; прозвучало несколько выстрелов. Как завороженные, глядя в дула винтовок, медленно подходили эти неизбежные в каждом сражении трусы, хотя по их лицам было видно, как неохотно присоединяются они к нашей компании. Одному, хорошо мне знакомому вестовому из офицерского клуба, пытавшемуся улизнуть, я тоже не дал спуску.
– Но ведь у меня нет винтовки!
– Ждите, пока кого-нибудь убьют!
Во время последнего особенно грозного огневого налета, когда снаряды несколько раз попадали в развалины дома и черепичные осколки ударяли о наши каски, меня вдруг страшным ударом швырнуло на землю. К удивлению моих людей, я поднялся невредимый.
После этого мощного заключительного вихря стало спокойнее. Огонь перенесся на находящееся за нами шоссе Лангемарк – Биксхооте. Но нам не стало легче. До сих пор, как говорится, мы за деревьями не видели леса. Опасность была столь грозной и надвигалась на нас таким множеством врагов, что мы не могли ничего поделать. После огненной бури, пронесшейся над нами, у нас была краткая передышка, чтобы подготовиться к неизбежному. И его время наступило. Ружейный огонь затих, сидевшие в обороне были смяты. В дыму обозначилась густая цепь стрелков. Мои люди отвечали, скрючившись за развалинами, строчил пулемет. Нападающие стремительно исчезали в воронках и окружали нас огнем. Справа и слева продвигались вперед мощные отряды. Скоро мы оказались в окружении неприятеля. Положение было безвыходным; не имело смысла жертвовать людьми. Я отдал приказ к отступлению. Это было непросто – уводить одержимых азартом боя людей.
Под прикрытием залегшего в русле длинного облака дыма нам пришлось частично отходить по ручью, вода в нем доходила нам до бедер. Несмотря на то что кольцо вокруг нас почти замкнулось, нам, незамеченным, удалось выскользнуть из него. Я покинул маленькую крепость последним, поддерживая лейтенанта Хелемана, истекавшего кровью из-за раны на голове, но отпускавшего шуточки насчет своей беспомощности.
Переходя дорогу, мы наткнулись на вторую роту. От раненых Киус слышал о нашем положении и без всякого приказа – не только по собственной инициативе, но и по настоянию своих людей, – выступил, чтобы отбить нас. Это свидетельство надежности друга тронуло нас, подняв настроение. В такие моменты сила духа чудом оживает и хочется горы ворочать.
После короткого совещания мы решили остановиться и атаковать противника. Здесь нам также пришлось задержать людей из других соединений, желавших самовольно продолжать отход. В особенности артиллеристов, сигнальщиков, связистов и прочих одиночек удалось вразумить лишь силой, – в подобных обстоятельствах они также должны были с оружием в руках встать в стрелковую цепь. Уговорами, приказами и тычками прикладов я с помощью Киуса и еще нескольких разумных людей наладил наконец огневую цепь.
Потом мы спустились в намеченную траншею и позавтракали. Киус вытащил свой неизменный аппарат и сделал несколько снимков. Слева от нас со стороны Лангемарка зашевелились. Наши люди стреляли по снующим фигурам, пока я им это не запретил. Вслед за тем появился один унтер-офицер и сообщил, что у дороги окопалась рота гвардейских стрелков и что наш огонь нанес ей потери.
Я отдал приказ под сильным орудийным огнем продвинуться к их высоте. Несколько человек пали, лейтенант Бартмер из второй роты был тяжело ранен. Рядом, приканчивая на ходу свой бутерброд, шел Киус. Когда мы заняли дорогу, от которой местность спускалась к ручью, мы заметили, что англичане намерены сделать то же самое. Уже в двадцати метрах от нас виднелись первые одетые в хаки фигуры. Насколько хватало глаз, лежащая перед нами равнина была заполнена цепями стрелков и парными колоннами. Они кишели уже и у Раттенбурга.
Мы воспользовались внезапностью нашего появления и палили как следует. У Каменного ручья полегла целая шеренга. На спине у одного из стрелков была катушка, с которой он отматывал провод. Остальные прыгали в разные стороны, как зайцы, пока наши пули взбивали вокруг них фонтанчики пыли. Один молодцеватый ефрейтор из восьмой роты весьма хладнокровно положил свою винтовку на расщепленный пень и уложил одного за другим четверых врагов. Прочие заползли в воронку от снаряда, чтобы, прячась там, продержаться до сумерек. Мы чисто поработали.
Около одиннадцати часов над нами спустились помеченные британским флагом самолеты, но были отогнаны артиллерийским огнем сверху. Посреди этого безумного грохота я все же не мог удержаться от улыбки, когда один человек сообщил мне, и просил занести это в протокол, что выстрелом из винтовки он подбил самолет.
Сразу после того как мы заняли дорогу, я отправил донесение в полк и попросил подкрепления. После полудня подошли взводы пехоты, саперы и пулеметы. Следуя тактике старого Фрица,[28] передовую линию загрузили до отказа. Время от времени англичане сбивали неосторожно перебегающих дорогу.
Около четырех часов начался очень неприятный обстрел шрапнелью. Заряды густо сбрасывали на дорогу. Мне было ясно, что летчики уже определили местонахождение нашей новой линии сопротивления и что нас ждут трудные часы.
В самом деле, вскоре начался мощный обстрел легкими и тяжелыми снарядами. Мы плотно лежали в переполненном, прямом как линейка кювете. Огонь плясал у нас перед глазами. Ветки и комья глины валились на нас. Слева, совсем рядом, вспыхнула огненная молния, оставив белый удушливый пар. Упираясь локтями и носками, я подполз к своему соседу; он не шевелился. Кровь сочилась у него из многочисленных ран, нанесенных мелкими зазубринами осколков. С правой стороны также были большие потери.
Спустя полчаса стало тише. Мы усиленно копали глубокие норы в плоской выемке траншеи, чтобы при повторном налете защититься хотя бы от осколков. При этом лопаты натыкались на винтовки, портупеи и гильзы еще 1914 года, – свидетельство, что на этой земле не в первый раз льется кровь.
Наступившие сумерки опять заставили нас основательно призадуматься. Я сидел рядом с Киусом в углублении, стоившем нам нескольких мозолей. Землю трясло, как корабль при качке, непрерывными, близкими разрывами. Мы приготовились к самому худшему. Надвинув каску на лоб и кусая трубку, я задумчиво уставился на дорогу, где прыгавшие железные осколки высекали из камней искры. Я не без успеха черпал мужество в своих размышлениях. Самые странные мысли проносились в моей голове: мне вдруг живо вспомнился дешевый французский роман “La vautour de la Sierra”,[29] попавший мне в руки в Камбре. Несколько раз бормотал я слова Ариосто: «Если смерть славная – благородное сердце не боится ее, когда б она ни пришла». Это звучит немного странно, вызывая приятное чувство опьянения, подобное тому, какое приблизительно испытываешь на так называемом чертовом колесе. В моменты, когда грохот хоть немного давал отдохнуть ушам, я слышал звучащие рядом фрагменты прекрасной песни о Черном воине, павшем у Аскалона, и счел, что мой друг Киус слегка рехнулся. Впрочем, каждый успокаивает себя по-своему.
В конце обстрела большой осколок слегка задел мне руку. Киус посветил карманным фонариком. Мы увидели только царапину.
После полуночи пошел дождь; патрули собравшегося между тем полка дошли до Каменного ручья и обнаружили лишь заполненные тиной воронки. Враг отошел за ручей.
Измученные невероятным напряжением этого дня, все мы, кроме дозорных, расселись в свои норы. Я накрыл голову разодранной шинелью своего убитого соседа и провалился в беспокойный сон. На рассвете я проснулся от ощущения чего-то холодного и увидел, что нахожусь в плачевном состоянии: лило как из ведра. Из водостока дороги текло на дно моей норы. Я устроил маленькую запруду и крышкой от котелка стал вычерпывать воду из моего убежища. По мере повышения уровня воды в водостоке я все время наращивал свое сооружение, пока, наконец, оно не закачалось под тяжестью растущего веса и поток грязи не наполнил, клокоча, мою нору до самого верха. Пока я старался выудить из грязи пистолет и каску, табак и хлеб поплыли вдоль кювета, прочие обитатели которого находились в том же положении. Дрожа и замерзая, без единой сухой нитки на теле, стояли мы, сознавая, что первый же обстрел застанет нас без всякого укрытия посреди дорожной грязи. Это было ужасное утро. Я заметил тогда, что никакой артиллерийский огонь не способен так лишить человека силы к сопротивлению, как холод и сырость,
Впрочем, позднее оказалось, что этот затяжной дождь был для нас поистине даром Божьим, ибо из-за него в эти первые важнейшие дни приостановилось наступление англичан. Артиллерии противника приходилось преодолевать заболоченную, покрытую воронками зону, тогда как мы подвозили боеприпасы по нетронутой дороге.
В 11 часов утра, когда мы были в отчаянии, явился ангел-спаситель в образе связного и принес приказ, что полку следует собраться в Коки.
На обратном марше мы увидели, как трудно было поддерживать связь с передовой в день наступления. Улицы были запружены людьми и лошадьми. Возле нескольких орудий с продырявленными, как железные терки, передками, перегораживая дорогу стояли двенадцать страшно искалеченных лошадей.
На промокшем лугу, над которым кое-где висели молочно-белые облачка от шрапнели, собрались остатки полка. Мы были потрясены видом жалкой кучки – всего, что осталось от роты, среди которой группкой стояли офицеры. Какие потери! Из двух батальонов почти все офицеры и команда! Оставшиеся в живых, хмуро глядя, стояли под проливным дождем, – ждали квартирьеров. В деревянном бараке мы обсохли, сгрудились вокруг пылающей печи и за плотным завтраком вновь обрели волю к жизни. Человеческая природа необорима!
К вечеру снаряды били по деревне. В один из бараков попала бомба и убила нескольких людей из третьей роты. Несмотря на обстрел, мы вскоре улеглись с единственной надеждой, что под этим дождем нас не бросят ни в контратаку, ни в оборону.
В 3 часа утра пришел приказ отступать. Мы двинулись по усеянной трупами и сгоревшим транспортом дороге на Стаден. Насколько хватало взора, везде бушевал огонь. Мы видели кратер от одного взрыва, окруженный двенадцатью убитыми. Стаден, такой оживленный при нашем первом прибытии, явил нам множество обугленных домов. Опустевшая рыночная площадь была усеяна разбитым домашним скарбом. Какая-то семья, покидавшая городок, тянула за собой корову, – единственное оставшееся имущество. Это были простые люди; муж ковылял на протезе, жена держала на руках плачущего ребенка. Неясный гул за спиной делал картину еще печальней.
Уцелевший остаток второго батальона был размещен на одиноком дворе, притаившемся среди сочных, обширных полей за густой живой изгородью. Там мне передали командование седьмой ротой, – с ней мне предстояло делить горе и радость до конца войны.
Вечером мы сидели перед выложенным старым кафелем камином, подкреплялись крепким грогом и прислушивались к вновь оживающему гулу битвы.
Просматривая последний номер газеты, среди фронтовых донесений я заметил следующую фразу: «Нам удалось сдержать врага на линии Каменного ручья».
Странно было узнать, что наши путаные действия той мрачной ночью приобрели всемирно-исторический смысл. Мы немало поспособствовали тому, чтобы начатое наступление мощных сил было остановлено. Как ни огромны были пущенные в ход человеческие и материальные ресурсы, все же решающая работа в нужных местах была проделана совсем небольшим числом воинов.
Вскоре мы отправились отдыхать на сеновал. Несмотря на достаточное количество спиртного, большинство спящих бредили и метались во сне, заново переживая все перипетии боя во Фландрии.
3 августа, обильно запасшись скотом и плодами покидаемых полей, мы двинулись к вокзалу ближнего городка Гитс. В вокзальной пивной весь так сильно уменьшившийся батальон вновь в отличном расположении духа пил кофе, приправляемый, ко всеобщему удовольствию, весьма рискованными выражениями двух крепких фламандских кельнерш. Особенно солдатам нравилось то, что они по деревенскому обычаю всем, включая и офицеров, говорили «ты».
Спустя несколько дней я получил из лазарета в Гельзенкирхене письмо от Фрица. Он писал, что рука, по-видимому, останется неподвижной, а легкое – больным. Далее я привожу отрывок из его дневника, который дополнит это сообщение и наглядно передаст впечатление новичка, брошенного в горнило войны, – войны техники.
««К штурму гаа-товсь!» Лицо взводного склонилось над маленькой пещеркой. Сидящие рядом трое оборвали разговор и, чертыхаясь, вскочили. Я встал, поправил каску и вышел в сумрак. Было туманно и прохладно. Картина между тем переменилась, боевой огонь прекратился. Теперь он с глухим уханьем сосредоточился на других частях гигантского поля сражения. Самолеты бороздили воздух, успокаивая тревожно ищущий взгляд видом большого железного креста, нарисованного на нижней поверхности крыла.
Я снова наведался к колодцу, чудом сохранившему прозрачность среди развалин и мусора, и наполнил свою фляжку.
Команда роты становилась повзводно. Я быстро засунул за ремень портупеи четыре гранаты и отправился к своему отряду, в котором двоих не было на месте. Едва успели записать их имена, как все пришло в движение. Рядами по одному взводы двинулись по полю боя, огибая амбары и прижимаясь к изгородям, и с громовыми криками ринулись на врага.
Атаку вели два батальона. Вместе с нами был задействован батальон соседнего полка. Приказ был лаконичен. Английские соединения, подошедшие к каналу, должны быть отброшены назад. На мою долю выпало залечь со своим отрядом на занятых позициях и отразить ответный удар.
Мы дошли до развалин деревни. Из изуродованной земли Фландрии торчали черные, расщепленные обломки отдельных деревьев, – останки большого леса. Над землей тянулись огромные клубы дыма, занавешивая вечернее небо тяжелым, мрачным пологом. Холодную землю, вновь так нещадно терзаемую, обволакивали удушливые газы; желтые и коричневые, они вяло переползали с места на место.
Объявили готовность к противохимической защите. В этот момент начался ужасающий огонь, – атакующих обнаружили англичане. Земля вставала на дыбы шипящими фонтанами, град осколков ливнем молотил по земле, на мгновение все как окаменели. Затем бросились врассыпную. Снова услышал я голос батальонного командира, ротмистра Бекельмана; надсаживаясь изо всех сил, он прокричал какой-то приказ. Я так и не понял какой.
Моя команда исчезла. Я очутился в чужом взводе и с другими пробирался через развалины деревни, снесенной до основания неумолимыми снарядами. Мы выхватили противогазы.
Все бросились на землю. Слева от меня стоял на коленях лейтенант Элерт, – офицер, знакомый мне еще по битве на Сомме. Рядом с ним лежал унтер-офицер и всматривался в окружающее. Сила заградительного огня была ужасной. Признаться, она превзошла все самые смелые мои ожидания. Перед нами колыхалась желтая огненная стена. Дождь из комьев земли, кусков черепицы и железных осколков летел на нас сверху, высекая из касок яркие искры. Казалось, даже дыхание давалось теперь с трудом, будто в этой насыщенной железом атмосфере не хватало воздуха для легких.
Долго всматривался я в этот кипящий ведьмин котел, видимые границы которого были обозначены огнем из стволов английских пулеметов. Несметные пчелиные рои этих пуль, изливавшихся на нас, были неслышны для уха. Было ясно, что наша атака, подготовленная таким мощным получасовым шквальным огнем, была разбита в самом начале. Дважды с коротким промежутком чудовищный грохот поглощал все это буйство. Рвались снаряды самого крупного калибра, земля лавиной летела в воздух и, крутясь и перемешиваясь, с адским грохотом низвергалась обратно.
Я обернулся направо на громкий призыв кричащего Элерта. Он поднял левую руку, махнул, чтобы следовали за ним, и прыгнул вперед. Я с трудом поднялся и побежал за ним. Мои ноги жгло как огнем, но колющая боль ушла.
Едва я проделал двадцать шагов и стал выбираться из очередной воронки, как меня ослепил холодный свет шрапнели, разорвавшейся в десяти шагах на высоте трех метров над землей. Я ощутил два тупых удара – в грудь и плечо. Я выпустил винтовку из рук, опрокинулся головой назад и покатился обратно в воронку. Как в тумане донесся до меня голос пробегавшего мимо Элерта: «Этот готов!»
Он не дожил до следующего дня. Атака не удалась, и при отступлении он был убит вместе со всеми сопровождавшими его людьми. Пуля, прострелив затылок, унесла жизнь этого храброго офицера.
Когда я очнулся от долгого обморока, стало тише. Я пытался подняться. Так как я лежал вниз головой, то чувствовал острую боль в плече, при малейшем движении она усиливалась. Дыхание было прерывистым, легкие не могли набрать достаточно воздуха. «Задело рикошетом легкие и плечо», – подумал я, припоминая, как получил два тупых безболезненных удара. Я отбросил штурмовое снаряжение и портупею, а также, в состоянии полнейшего безразличия, и противогаз. Каску я не снял, фляжку подвесил к крючку сбоку на мундире.
Мне удалось выбраться из воронки. Но через пять шагов, с трудом проделанных, я очутился в соседней воронке. Целый час пытался я выбраться из нее, так как поле снова начало содрогаться под ураганным огнем. Но и эта попытка не удалась. Я потерял наполненную драгоценной водой фляжку и впал в совершенное забытье, из которого меня, спустя какое-то время, пробудило ощущение жгучей жажды.
Тихо пошел дождь. Мне удалось собрать своей каской немного грязной воды. Я утратил всякое представление о направлении и не понимал, где проходила линия фронта. Воронки, одна больше другой, следовали друг за другом, и с их дна ничего нельзя было увидеть, кроме глиняных стенок и серого неба. Разразилась гроза, удары грома заглушал вновь начавшийся ураганный огонь. Я вжался в стенку воронки. Комья глины били меня по плечу, тяжелые осколки проносились над головой. Постепенно я утратил чувство времени: я не знал, утро сейчас или вечер.
Один раз появились два человека, преодолевавшие поле длинными прыжками. Я окликнул их по-немецки и по-английски. Они исчезли, как тени в тумане, не услышав меня. Наконец ко мне направились трое. В одном из них я узнал унтер-офицера, за день до того бывшего рядом со мной. Они донесли меня до маленькой хижины, стоявшей поблизости. Она была забита ранеными, за которыми ухаживали два санитара. Итак, я пролежал в воронке тринадцать часов.
Мощный огонь битвы продолжал свое дело, как в гигантской кузне. Снаряды били возле нас, осыпая крышу песком и землей. Меня перевязали, дали противогаз, хлеб с жестким красным повидлом и немного воды. Санитар отечески заботился обо мне.
Впереди уже появились первые англичане. Они прыжками передвигались по полю и пропадали в воронках. Крики и призывы доносились снаружи. Внезапно ввалился весь с ног до каски перемазанный глиной молодой офицер. Это был Эрнст, мой брат, который за день до того был зачислен в штабе полка в убитые. Мы приветствовали друг друга, ошеломленно и растроганно улыбаясь. Он огляделся и тревожно посмотрел на меня; слезы выступили у него на глазах. Хоть мы и принадлежали к одному полку, эта встреча на бескрайнем поле сражения была чудом, потрясением. В дальнейшем я всегда вспоминал о ней с благоговением. Спустя несколько минут Эрнст вышел и привел с собой пятерых из своей роты, – все, что от нее осталось. Меня положили на плащ-палатку, продернув через ее шнуры ствол молодого деревца, и понесли с поля сражения.
Носильщики сменялись по двое. Маленькая процессия петляла то вправо, то влево, мечась зигзагами меж рвущихся снарядов. Вынужденные срочно найти укрытие, они несколько раз бросали меня, больно ударяя о дно воронки.
Наконец мы добрались до одетого в бетон и железо блиндажа, носившего диковинное название «Колумбово яйцо». Меня втащили вниз и уложили на деревянные нары. В помещении молча сидели два незнакомых офицера, вслушиваясь в ураганный концерт артиллерии. Один был, как я позднее узнал, лейтенант Бартмер, другой – фельдшер по имени Хельмс. Никогда не припадал я к питью жаднее, чем к той смеси дождевой воды и красного вина, которую он в меня влил. Тут же меня охватил жар. Задыхаясь, я пытался сделать глоток воздуха и, как в кошмаре, мне чудилось, будто бетонная потолочная плита лежит у меня на груди, а я каждым вздохом должен отжимать ее.
Неслышно вошел врач-ассистент Кеппен. Преследуемый снарядами, бежал он по полю боя. Он узнал меня, склонился надо мной, и я увидел, как его лицо искривилось в подобии успокаивающей улыбки. За ним шел командир моего батальона. Этот суровый человек легко потрепал меня по плечу, и я улыбнулся, подумав, что сейчас сам кайзер войдет справиться о моем здоровье.
Четверо мужчин уселись вместе, выпили по кружке и зашептались. Я заметил, что какое-то мгновение они говорили обо мне. До меня долетали обрывки разговоpa: брат… легкое… ранение… Потом я пытался соединить их в своем сознании. Мужчины громко заговорили о делах на поле боя.
И тогда в смертельную усталость, в которой я находился, проникло ощущение счастья, которое росло все больше и больше и уже не покидало меня в последующие недели. Я думал о смерти, но эта мысль меня уже не беспокоила. Все стало до удивительного простым; подумав: «ты в порядке!», я погрузился в сон».
Реньевиль
4 июля 1917 года мы сошли с поезда в знаменитом Марс-ла-Туре. Седьмая и восьмая роты разместились в Донкуре, где нам выпало несколько блаженных, спокойных дней. Только скудные пайки несколько смущали меня. Было строго запрещено запасаться провиантом на полях, тем не менее почти каждое утро сельские жандармы приводили ко мне по нескольку человек, застигнутых ночью за выкапыванием картофеля; их наказания я никак не мог избежать, – «потому что попались», как звучал мой не вполне официальный аргумент.
Тогда же мне довелось узнать, что неправедно добытое впрок не идет. Из одного брошенного господского поместья мы с Теббе прихватили княжескую карету со стеклами. За все время пути нам удавалось уберечь ее от завистливых глаз. Мы мечтали о роскошной поездке в Мец, чтобы хоть раз в полной мере насладиться жизнью. Однажды в полдень мы впрягли в карету лошадей и поехали. К сожалению, у экипажа не было тормозов; он годился для равнин Фландрии, но не для гористой лотарингской земли. Уже в деревне лошади понесли, и вскоре мы очутились в состоянии бешеной скачки, которая могла плохо кончиться. Первым вывалился кучер, потом Теббе упал на груду сельскохозяйственного инвентаря и остался там лежать недвижно. Я сидел один на шелковых подушках и чувствовал себя прескверно. Дверца распахнулась, и ее напрочь снесло телеграфным столбом. Наконец карета скатилась с крутого склона и, ударившись о стену дома, разлетелась на куски. Покидая развалившийся экипаж через окно, я изумился, что остался цел.
9 июля роту инспектировал командир дивизиона генерал-майор фон Буссе, похваливший нас за отличное поведение в бою. На следующий день, в полдень, нас погрузили и повезли под Тьокур. Оттуда мы маршем сразу двинулись на нашу новую позицию, протянувшуюся по лесистым высотам Кот-Лоррен, напротив сожженной деревни Реньевиль, не раз упоминавшейся в приказах по части.
В первое же утро я обследовал свой участок. Он представлял собой необозримый лабиринт частично полуообвалившихся траншей и показался мне довольно длинным для роты. Передовая линия во многих местах также была разрушена применявшимися на этой позиции оперенными минами. Моя штольня находилась позади нее метрах в ста, в так называемой траншее сообщения, недалеко от ведущей из Реньевиля дороги. Впервые за долгое время наши позиции лежали против французских.
Это место было создано для геологов. Траншеи обнажали один за другим шесть слоев – от кораллового известняка до местного мергеля. Желто-коричневый скальный грунт был забит окаменелостями, – прежде всего плоскими, похожими на булочки морскими ежами, тысячами окаймлявшими стены траншей. Всякий раз, обходя участок, я возвращался в блиндаж с карманами, полными раковин, морских ежей и аммонитов. В мергеле тоже имелась своя приятность: он значительно лучше сопротивлялся непогоде, чем глинистая земля. Местами траншея была даже заботливо выложена камнем, дно на длинных отрезках было забетонировано, так что потоки дождевой воды легко могли вытекать.
Моя штольня была глубокой и сырой. Одна ее особенность доставляла мне мало радости. Именно здесь вместо обычных вшей присутствовала какая-то их более подвижная популяция. Наверное, обе эти разновидности находятся во враждебных отношениях друг с другом, вроде бродячих и домашних крыс. Здесь не помогала даже обычная перемена белья, так как проворные паразиты коварно таились в соломе лежанки. Доведенный до отчаяния спящий откидывал в конце концов одеяло и занимался настоящей охотой.
Продовольствие также оставляло желать лучшего. Кроме жидкого супа был еще ломоть хлеба со смехотворно малым приложением, – чаще всего полуиспорченным повидлом. Половину его съедала жирная крыса, за которой я тщетно охотился.
Роты – резервная и находящаяся на отдыхе – расположились в глубоко упрятанных лесных поселках, состоящих из элементарных блокгаузов. Особенно понравилась мне моя квартира на резервной позиции в глухом углу на склоне тесного лесного ущелья. Я обитал там в крошечной, наполовину вросшей в склон хижине, заросшей орешником и дикой вишней. В окно были видны покрытый лесом противоположный горный склон и узкая, пробитая ручьем полоска луга на дне ущелья. Я развлекался здесь кормлением пауков-крестовиков, развесивших на кустах свои необъятные сети. Составленные на задней стенке блокгауза бутылки всех сортов свидетельствовали о том, что не один отшельник уютно проводил здесь время. Я тоже постарался не пренебрегать достойным этого места обычаем. Когда вечерний туман, смешиваясь с тяжелым белым дымом моего костра, поднимался со дна ущелья, а я в ранних сумерках сидел на корточках у открытой двери между прохладой осеннего воздуха и жаром костра, только один напиток казался мне подходящим, – красное вино пополам с яичным ликером в пузатом стакане. Эти тихие пиры служили мне утешением еще и в том, что рота моя поступала под начало человека, прибывшего из запасного батальона. Он был старше меня по выслуге лет. Я же, в качестве взводного, опять нес скучную окопную службу. По старой привычке я старался вместо бесконечных постов обойтись патрулированием.
24 августа храбрый ротмистр Бекельман был ранен осколком снаряда; он был третьим командиром батальона, которого полк потерял за последние дни.
За время окопной службы я сдружился с унтер-офицером Клоппманом, человеком уже в годах и женатым, отличавшимся необыкновенным боевым задором. Он принадлежал к тем людям, в отношении которых можно сказать, что их мужество неколебимо ни в малейшей степени и что такие встречаются один на многие сотни. Мы подумали, что неплохо бы заглянуть в окопы к французам, и 29 августа нанесли им наш первый визит.
Мы поползли к бреши в неприятельских проволочных заграждениях, заранее проделанной Клоппманом ночью. К нашему неприятному удивлению, брешь была залатана. Тем не менее мы снова с изрядным шумом разрезали проволоку и спустились в траншею. Выждав довольно долгое время за ближайшей поперечиной, мы поползли вдоль телефонного провода, кончавшегося у воткнутого в землю штыка. Позиция, несколько раз загражденная проволокой, а в одном месте – решеткой, была пуста. Внимательно все осмотрев, мы вернулись той же дорогой назад и тщательно заделали брешь, чтобы скрыть свой визит.
На следующий вечер Клоппман опять обследовал это место, но был встречен выстрелами и ручными гранатами, так называемыми утиными яйцами, одна из которых упала возле его вжатой в землю головы, но не взорвалась. Пришлось ему срочно удирать. На следующий вечер мы пошли вдвоем. В передней траншее противника были люди. Мы выследили четверых постовых и установили их места. Один из них насвистывал себе под нос прелестную мелодию. Наконец по нам открыли огонь и мы отползли назад.
Когда я снова был в окопе один, внезапно появились мои товарищи Фойгт и Хаферкамп, явно навеселе. Они были охвачены странной идеей: покинуть уютный лагерь и пробраться через темный лес к передней линии, чтобы, как они сказали, идти в патруль. Я всегда придерживался принципа, что каждому виднее, где ему рисковать головой, и, хотя противник еще не успокоился, не стал им мешать. Впрочем, весь их выход состоял в том, что они искали шелковые парашюты от французских ракет и, махая этими белыми тряпками, гонялись друг за другом перед вражеским заграждением. По ним, естественно, стреляли. Спустя какое-то время они благополучно вернулись. Бахус хранил их в своей бесконечной милости.
10 сентября я отправился из резервного лагеря в боевой штаб полка просить об отпуске.
– Я как раз думал о Вас, – обратился ко мне полковник фон Оппен. – Полку необходимо произвести разведку боем. Ее проведение я намерен доверить Вам. Найдите подходящих людей и потренируйтесь с ними в лагере Сулевр.
Нам следовало в двух местах проникнуть во вражеские траншеи и попытаться взять пленных. Патруль был разделен на три части: две ударные группы и охрану, которая должна была занять первую линию, чтобы прикрыть нас со спины. Кроме общего командования, я взял на себя руководство левой группой, правую я поручил лейтенанту Киницу.
Когда я вызывал добровольцев, к моему удивлению, – все-таки это был уже 1917 год, – из всех рот батальона выступило почти три четверти состава. Я отбирал участников по своей старой привычке: прошел вдоль фронта, выискивая «хорошие лица». Некоторые из того большинства, которое я отправил обратно, чуть не плакали. Мой отряд, включая меня, состоял из четырнадцати человек, среди них были прапорщик фон Зглиницки, унтер-офицер Клоппман, унтер-офицер Мевиус, унтер-офицер Дуезифкен и два сапера. Здесь сошлись самые отчаянные головы второго батальона.
Десять дней подряд мы упражнялись в метании гранат, репетируя наш план на сходном с реальным штурмовом объекте. Это чудо, что при таком рвении еще тогда лишь трое из моих людей получили повреждения осколками. Больше мы ничем не занимались. Так что к вечеру 22 сентября я во главе одичавшей, но боеспособной банды двигался ко второй позиции, где нам было предписано разместиться на ночь.
Вечером мы с Киницем шли темным лесом к командному пункту батальона, – ротмистр Шумахер пригласил нас на «последний ужин смертника». Потом мы улеглись в нашей штольне, чтобы отдохнуть еще несколько часов. Это удивительное ощущение, когда знаешь, что завтра надо выстоять в борьбе не на жизнь, а на смерть, и вслушиваешься в себя, перед тем как заснуть.
В три часа нас разбудили, мы встали, умылись и велели нести завтрак. Тут же я порядком разозлился: мой денщик пересолил яичницу, которой я собирался подкрепиться в честь такого дня.
Мы отодвинули тарелки и в тысячный раз до мелочей обговорили все, что могло бы случиться. В дополнение к этому, мы взаимно угощались шерри-бренди, пока Киниц рассказывал древние анекдоты. Без двадцати минут пять мы собрали людей и повели их в бункер для дежурного отряда на передней линии. В проволочных заграждениях уже были проделаны бреши, и насыпанные известью стрелы указывали направление на пункты атаки. Мы пожали друг другу руки и стали ждать предстоящего.
Для кровавой работы, к которой мы так долго готовились, я был соответствующим образом экипирован: на груди – два мешка с четырьмя ручными гранатами, слева – капсюль, справа – пороховая трубка, в правом кармане мундира – пистолет 08 в кобуре на длинном ремне, в правом кармане брюк – маузер, в левом кармане мундира – пять лимонок, в левом кармане брюк – светящийся компас и сигнальный свисток, у портупеи – карабинный замок для срыва кольца, кинжал и ножницы для перерезания проволоки. Во внутреннем нагрудном кармане помещались пухлый бумажник и мое письмо домой, в заднем кармане мундира – плоская фляжка с шерри-бренди. Погоны и «ленту Гибралтара» мы сняли, чтобы противник не мог определить нашу принадлежность. В качестве опознавательного знака каждый имел на рукаве белую повязку.
Без четырех минут пять из левого соседнего дивизиона открыли отвлекающий огонь. Ровно в 5 часов небо за нашим фронтом вспыхнуло и над нашими головами засвистели трассирующие пули. Я вместе с Клоппманом стоял у входа в штольню и курил последнюю сигару; из-за множества коротких выстрелов лучше было стоять в укрытии. С часами в руках я отсчитывал минуты.
Ровно в 5:05 мы рванулись из штольни наружу к намеченным дорогам через заграждения. Я мчался впереди, высоко подняв гранату, и видел в ранних сумерках штурмующий патруль справа. Вражеское заграждение было слабым; я в два прыжка перемахнул через него, но, споткнувшись о протянутую за ним проволочную спираль, свалился в воронку, из которой меня вытащили Клоппман и Мевиус.
«Пошел!» Мы спрыгнули в первую линию, не встретив сопротивления, тогда как справа завязался гранатный бой. Не обращая на него внимания, мы перебрались через сложенную перед ближайшей траншеей баррикаду из мешков с песком и, прыгая из воронки в воронку, добрались до рогаток, двумя рядами отделявших нас от второй линии. Поскольку и она была совершенно разбита и не давала никакой надежды взять пленного, мы заторопились по выкопанному ходу дальше. Я сразу же послал вперед саперов очистить путь, но так как мне все время не хватало темпа, сам возглавил их.
У входа в третью линию нас ожидала находка, от которой перехватило дыхание: тлеющий кончик лежавшей на земле сигареты возвещал о непосредственной близости врага. Я подал знак своим людям, крепче сжал гранату и осторожно пополз по хорошо укрепленной траншее, к стенам которой было прислонено множество оставленных здесь винтовок. В таких ситуациях сознание отмечает каждую мелочь. Так, точно во сне, отпечатался у меня в мозгу вид забытого на этом месте котелка с торчащей из него ложкой. Именно это наблюдение через двадцать минут спасло нам жизнь.
Внезапно перед нами скользнули тени каких-то фигур. Мы кинулись туда и оказались в тупике, в стене которого был разрушенный вход в штольню. Бросившись туда, я закричал: “Montez!”[30] Вылетевшая граната была мне ответом. Это был, вероятно, снаряд с дистанционным взрывателем; я услышал легкий хлопок и успел отпрыгнуть назад. Снаряд разлетелся на высоте моей головы у противоположной стены, в клочья изорвав мою шелковую фуражку, осколки в нескольких местах задели мою левую руку и оторвали кончик мизинца. Стоящему возле меня унтер-офицеру саперов пробило нос. Отступив на несколько шагов, мы закидали опасное место гранатами. Кто-то чересчур рьяный метнул зажигательную трубку прямо во вход, сделав тем самым дальнейшую атаку бессмысленной. Мы вернулись и последовали третьей линией в противоположную сторону, чтобы наконец захватить противника. Всюду лежали брошенное оружие и предметы снаряжения. Вопрос, куда девались хозяева такого множества винтовок и где они затаились, вставал все мучительней. И все же мы, с гранатами наготове и снятыми с предохранителя пистолетами, торопливо двинулись по пустынным, завешенным пороховым дымом траншеям.
Как нам удалось выбраться, стало мне ясно только по позднейшему размышлению. Незаметно для самих себя мы свернули в третий ход и, оказавшись под нашим же заградительным огнем, приблизились к четвертой линии. Время от времени мы выдергивали один из встроенных в стены ящиков и совали на память гранату в карман.
Пробежав несколько раз по лабиринту траншей, мы уже не понимали, где находимся и в каком направлении лежат немецкие позиции. Мы забеспокоились. Стрелки компасов плясали в дрожащих руках, а при поиске Полярной звезды вся школьная премудрость вдруг начисто вылетела из головы. Звук голосов в соседней траншее свидетельствовал, что противник, после первого замешательства, начинает приходить в себя. Скоро они поймут наше положение.
Мы снова вернулись. Я шел последним, как вдруг передо мной над грудой мешков с песком закачался ствол пулемета. Я прыгнул туда, споткнувшись о труп убитого француза, и увидел унтер-офицера Клоппмана и прапорщика фон Зглиницки, хлопотавших у оружия, пока стрелок Халлер перепачканными кровью руками искал бумаги на разнесенном теле убитого. Забыв об окружающем, мы в лихорадочной спешке занялись пулеметом, чтоб хотя бы принести с собой трофей. Я пытался ослабить удерживающие винты, кто-то ножницами для резки проволоки отламывал пулеметную ленту. Наконец мы схватили эту на треноге стоявшую штуку и, не разбирая, потащили с собой. В этот момент из параллельного окопа в направлении, где, как мы предполагали, находится наша линия, возбужденно, но грозно донесся голос неприятеля: “Qui'est ce qu'il y a?”[31] – и черный шар, смутно выделяясь на рассветном небе, полетел на нас по высокой дуге. «Внимание!» Между мной и Мевиусом вспыхнула молния, осколок впился ему в руку. Мы ринулись в стороны, все больше увязая в путанице траншей. Рядом со мною были только унтер-офицер саперов, у которого из носа бежала кровь, и Мевиус. Лишь замешательство французов, до сих пор не рисковавших высунуться из своих нор, отодвигало нашу гибель. Речь могла идти только о минутах, когда мы наткнемся на превосходящий нас числом отряд, который с удовольствием нас прикончит. Я уже раздумывал, не следует ли просто швырнуть гранату с ударным взрывателем в голову того, кто мне встретится первым. На пощаду надеяться не приходилось.
Когда я уже оставил всякую надежду выбраться живым из этого осиного гнезда, у меня вдруг вырвался вопль радости. Мой взгляд упал на котелок с ложкой, и я все понял. Поскольку уже совсем рассвело, нельзя было терять ни секунды. Под свист вражеских пуль мы запрыгали по открытой местности к своим линиям. В передней траншее французов мы наткнулись на патруль лейтенанта фон Киница. Когда нам навстречу прозвучал пароль – «малыш и кружка!», мы поняли, что худшее осталось позади. К сожалению, я спрыгнул прямо на тяжелораненого, которого они здесь положили. Киниц торопливо рассказал мне, что он гранатой прогнал копателей первой траншеи и, продвигаясь затем к ее началу, под огнем собственной артиллерии потерял много людей убитыми и ранеными.
Спустя немалое время появились еще двое из моей группы, унтер-офицер Дуезифкен и стрелок Халлер, принесший мне, по крайней мере, хоть какое-то утешение. Блуждая в траншеях, он попал в отдаленный тупик и нашел там три брошенных пулемета, один из которых он отвинтил от подставки и прихватил с собой. Так как стало совсем светло, мы заторопились по нейтральной территории к своей передней линии.
Из четырнадцати человек, вышедших со мной, вернулись только четверо. В патруле Киница потери также были велики. Мою подавленность несколько облегчили слова славного ольденбуржца Дуезифкена; пока мне в штольне перевязывали руку, он излагал события стоящим у входа товарищам и закончил их так: «Лейтенант Юнгер – вот это человек! Видели б вы, как он летел впереди нас на заграждения!»
В конце концов, почти все с перебинтованными головами и руками, мы двинулись по лесу к командному пункту полка. Полковник фон Оппен приветствовал нас и велел напоить кофе. Он был весьма огорчен нашей неудачей, однако высказал нам свою признательность. Затем меня посадили в машину и повезли в дивизию дать подробный отчет. В ушах у меня все еще гремели беспорядочные взрывы гранат, но я в полной мере испытал блаженство, – откинувшись назад, в стремительном движении промчаться по сельской дороге.
Офицер генерального штаба дивизии принял меня в своем кабинете. Он был довольно желчным; по его раздражению я понял, что он пытается сделать меня ответственным за неудачу акции. Когда он ткнул пальцем в карту и задал вопрос что-то вроде «Почему вы не свернули в этом проходе направо?» – я понял, что хаос, в котором уже нет понятия ни «лево», ни «право», был вещью выше его понимания. Для него все это было планом, для меня – страстно переживаемой действительностью.
Командир дивизии встретил меня очень любезно и разогнал вскоре мое дурное настроение. За обедом я, в мятом кителе и с перевязанной рукой, сидел рядом с ним и после его слов: «Только подлецы скромничают!» – постарался изложить все события утра в истинном свете.
На следующий день полковник фон Оппен снова осматривал патруль; он раздал Железные Кресты и дал каждому участнику четырнадцать дней отпуска. К вечеру тела павших, которые удалось заполучить обратно, были похоронены на солдатском кладбище в Тьокуре. Рядом с жертвами этой войны там покоились также воины 1870/71 гг. Одну из этих старых могил украшал замшелый камень с надписью: «Вдали от глаз, но вечно в сердце!» На большой каменной плите было высечено:
Растет печальный ряд могил, но множатся дела героев; Пусть рейха слава в них живет – его рождение второе.Вечером я прочел в армейских сводках французов: «Немецкая акция у Реньевиля провалилась; мы взяли пленных». О том, что речь шла, скорее, о волках, заблудившихся в овчарне, там не было, естественно, ни слова.
Через несколько месяцев я получил письмо от одного из пропавших – стрелка Майера, потерявшего там ногу в гранатном бою. После долгих блужданий ему и его трем товарищам навязали бой и, тяжелораненый, он был взят в плен, когда остальные, среди них и унтер-офицер Клоппман, уже погибли. Клоппман действительно принадлежал к тем людям, которых невозможно представить себе плененными.
За войну мне доводилось переживать всякое, но не было случая более горького. До сих пор мне тяжело вспоминать о нашем блуждании в чужих, облитых холодным утренним светом траншеях. Они были овеяны вековечной враждой, какой никогда не ощущалось в английских окопах и по которой сразу становилось ясно, в чем разница между врагом и противником.
Несколько дней спустя лейтенанты Домайер и Цюрн со своими людьми после ряда шрапнельных выстрелов спрыгнули в первую линию французов. Домайер наткнулся на французского защитника с окладистой бородой, который на его возглас “Rendezvous!”[32] ответил свирепо: “Ah non!”[33] – и бросился на него В ожесточенной схватке Домайер прострелил из пистолета французу шею и вернулся, как и я, без пленного. Разве что при нашей акции было расстреляно столько артиллерийских снарядов, что в 1870 году их хватило бы на целое сражение.
Снова Фландрия
В тот же день, когда я вернулся из отпуска, нас сменили баварские подразделения, и мы были размещены в близлежащей деревне Лабри – типичном для тех мест захолустье.
17 октября 1917 года мы перебазировались и через несколько дней снова ступили на землю Фландрии, которую оставили два месяца тому назад. Переночевав в городке Исегем, мы на следующее утро отправились в Рулер, или по-фламандски Руселаре. Город находился в начальной стадии разрушения. В магазинах еще продавались товары, но жители уже ютились в подвалах, и узы бюргерской жизни были разорваны частыми обстрелами. Витрина с дамскими шляпами напротив моей квартиры произвела на меня среди военной суеты впечатление зловещей бессмыслицы. Ночью в оставленные жилища пытались проникнуть мародеры.
В квартире, расположенной на Остстрат, я был единственным жильцом, заселявшим наземные комнаты. Дом принадлежал торговцу сукном, бежавшему в начале войны и оставившему старую домоправительницу с дочерью сторожить дом. Обе заботились о маленькой девочке-сироте, которую они подобрали во время нашего наступления; ее бросили родители, и она потерянно бродила по улицам. О ней они не знали ничего – ни ее имени, ни возраста. Дамы панически боялись бомб и чуть ли не на коленях заклинали меня не зажигать наверху свет, дабы не притягивать этих проклятых летчиков. Мне тоже было не до смеха, когда я стоял у окна рядом с лейтенантом Райнхардтом и наблюдал, как в свете прожектора чуть ли не по самым крышам скользил англичанин и как вблизи дома разорвалась огромная бомба, взметнув осколки выбитых окон, которые закружились вокруг нашей головы, подброшенные воздушной волной.
На предстоящие бои меня назначили наблюдающим офицером и предоставили в распоряжение полкового штаба. Для получения инструкций еще до начала боевых действий я отправился на командно-наблюдательный пункт 10-го Баварского резервного полка, – один из его отрядов мы должны были сменить. В лице командира я нашел весьма приветливого господина, хотя при первом знакомстве он что-то проворчал насчет моего не соответствующего уставу «красного картуза», который следовало бы, во избежание шальных выстрелов в голову, обшить серым сукном.
Двое связных отвели меня к так называемой связной вышке, с которой был хороший обзор. Едва мы покинули командно-наблюдательный пункт, как разорвавшийся снаряд взметнул вверх пласт луговой земли. Но в местности, замаскированной множеством небольших тополиных рощ, мои начальники ловко уворачивались от огня, перешедшего к полудню в непрерывный грохочущий вал. Они действовали с инстинктом старых вояк, которые и в самом плотном огне отыщут сколько-нибудь надежную тропу среди любого ландшафта.
На пороге одинокой усадьбы со следами недавних разрывов мы увидели ничком лежащего мертвеца. «Не повезло бедняге!» – посочувствовал благодушный Байер. «Воздух», – сказал другой, с опаской озираясь вокруг, и быстро пошагал дальше. Связная вышка, находившаяся по другую сторону плотно обстреливаемой улицы Пасхендале-Вестрозебеке, оказалась пунктом сбора донесений, подобным тому, которым я командовал во Фреснуа. Он находился возле дома, превращенного из-за обстрела в груду обломков, и был настолько оголен, что при первом же метком попадании от него не осталось бы и следа.
У троих офицеров, дружно влачивших здесь свое пещерное существование и чрезвычайно обрадовавшихся скорой смене, я выспросил все, что мне было нужно относительно неприятеля, позиции и подходных путей, после чего снова отправился назад через Родкруйс-Остньекерке в Рулер, где и доложил обо всем полковнику.
Проходя по улицам города, я с удовольствием изучал уютные названия многочисленных трактирчиков, свидетельствующих о поистине фламандской домовитости. Кого не притягивали вывески с такими названиями, как “De Zalm” (лосось), “De Reeper” (цапля), “De Nieuwe Trompette”, “De drie Koningen” или “Den Olifant”?[34] Сочный и неиспорченный язык, которым тебя встречают, говоря при этом доверительное «ты», уже создает уютную обстановку. Да поможет Бог этой великолепной стране, так часто служившей ареной военных действий, излечиться и от нынешних ран, возродясь в своем былом естестве!
Вечером город снова бомбили. Я спустился в подвал, где женщины, дрожа от страха, забились в угол, и зажег карманный фонарик, чтобы успокоить плакавшую малышку, так как взрыв загасил свет. Здесь у меня снова была возможность убедиться в том, до чего же крепко человек срастается с родной почвой. Несмотря на сильнейший страх перед опасностью, обе женщины цеплялись за тот клочок земли, который каждое мгновение мог стать их могилой.
Утром 22 октября я со своим наблюдательным отрядом в количестве четырех человек отправился в Кальве, где до обеда должна была произойти смена полкового штаба. На фронте бушевал сильнейший огонь, и его вспышки придавали раннему туману вид кипящего, кроваво-красного пара. У входа в Остньекерке рядом с нами рухнул дом, в который попал тяжелый снаряд. Каменные обломки с грохотом катились по улице. Мы попытались обойти это место, но все же пошли напрямик, так как не знали направления на Родкруйс – Кальве. По дороге я осведомился о нем у незнакомого унтер-офицера, стоявшего у входа в погреб. Вместо ответа он засунул обе руки в карманы и пожал плечами. Поскольку при обстреле мешкать было нельзя, я подскочил к этому неудавшемуся продукту военного воспитания и добился информации, сунув ему под нос пистолет.
Впервые за время войны я встретил человека, который осложнял обстановку не из трусости, а явно по неохоте. Хотя эта неохота в последние годы принимала все более широкие масштабы, такой поступок во время боевых действий был явно необычным, так как битва связывает, а бездействие распыляет. В бою следуешь велению необходимости. Напротив того, на марше, в рядах колонн, возвращающихся с войны техники, распад воинской дисциплины наблюдается острее всего.
У самого Родкруйса, небольшого хуторка у развилки улиц, дело приняло серьезный оборот. Артиллерийские упряжки мчались сквозь обстреливаемую улицу, по обеим сторонам которой, извилисто прорезая местность, тянулись пехотные подразделения, и бесчисленные раненые тащились с передовой в тыл. Навстречу нам попался молодой артиллерист; из его плеча торчал длинный зазубренный осколок, похожий на отломанное острие копья.
Повернув с улицы направо, мы двинулись к полковому командному пункту, окруженному кольцом сильного огня. Поблизости два телефониста сматывали на капустном поле кабель. Возле одного из них разорвался снаряд; мы видели, как человек рухнул наземь, и считали его уже покойником. Тем не менее он снова поднялся и продолжал тянуть свой провод с достойным уважения хладнокровием. Поскольку командный пункт состоял из одного крошечного бетонного блока и на нем едва умещались командир с его адъютантом и офицер-порученец, то я должен был искать пристанища где-нибудь поблизости. Вместе с офицерами связной, химической и минометной служб я поселился в легком деревянном бараке, который далеко не был образцом надежного убежища.
После обеда я пошел на позицию, так как поступило сообщение, что утром противник атаковал пятую роту. Мой путь шел через связную вышку к Нордхофу – до неузнаваемости разгромленному хутору; под его развалинами обитал командир дежурного батальона. Оттуда едва обозначенная тропинка вела к командиру боевых отрядов. Из-за недавних сильных ливней необъятное поле, изрытое воронками, превратилось в болото, глубина которого была особенно опасной в долине Паддебаха. Блуждая, я иногда натыкался на одиноко лежащих, забытых мертвецов; часто, возвышаясь над краями воронок, из грязи торчала голова или кисть руки. Тысячи почиют так, и не находится дружеской руки, которая поставила бы на их безвестных могилах надгробие.
Перейдя с великим трудом Паддебах, что удалось сделать только с помощью переброшенных через него снарядами тополей, в огромной воронке, среди небольшой горстки верных людей, я нашел командира пятой роты, лейтенанта Хайнса. Позиция находилась на склоне и, будучи не полностью затопленной, могла рассматриваться неприхотливыми фронтовиками как пригодная для жилья. Хайнс рассказал мне, что утром появился отряд английских стрелков и, встреченный пулями, тут же исчез. Но все же ему удалось подстрелить нескольких заблудших из 164-го, которые было бросились при его приближении бежать. В остальном все было в порядке; затем я вернулся на командный пункт, где доложил обо всем полковнику.
На следующий день наш обед был грубейшим образом прерван снарядами, упавшими прямо у деревянной стены. Поднятые ими фонтаны грязи барабанили по толевой крыше. Все ринулись наружу; я удрал в ближнюю усадьбу и, спасаясь от дождя, вошел внутрь дома. Вечером все повторилось, только на этот раз я остановился перед домом, потому что дождь закончился. Следующий снаряд попал прямо в здание, и оно тут же обвалилось. Так, на войне все решает случай. Закон «малые причины – великие последствия» имеет здесь большую силу, чем где бы то ни было. Все зависит от секунд и миллиметров.
25-го в 8 часов нас уже эвакуировали из бараков; в один из них, напротив нашего, со второго раза произошло прямое попадание. Другие снаряды, упавшие на мокрые от дождя поляны, много шуму не наделали, но оставили глубокие воронки. Умудренный опытом предыдущего дня, на большом капустном поле за командным пунктом я отыскал одинокую, вызывающую доверие воронку; ее я покидал, только выждав необходимую для безопасности паузу. В этот день я получил весьма огорчившее меня известие о смерти лейтенанта Брехта, погибшего правее Нордхофа при исполнении обязанности дивизионного офицера-наблюдателя. Он был одним из немногих, кому неизменная бесшабашность даже в этой войне техники придавала особое очарование. Подобных ему людей можно было распознать в любой толпе, – они смеялись, когда приходил новый приказ о наступлении. При таких извещениях о смерти невольно закрадывалась мысль, что и сам ты недолго протянешь.
Утренние часы 26-го были заполнены ураганным огнем невероятной силы. Наша артиллерия в ответ на взмывающие вверх сигналы заградительного огня также удвоила свою ярость. Каждый лесной участок и каждая изгородь были нашпигованы орудиями, которые обслуживали наполовину оглохшие канониры.
Поскольку возвращавшиеся раненые давали об английской атаке неясные и преувеличенные показания, то меня и еще четверых из моей роты в 11 часов послали на передовую для проведения точной разведки. Мы пробирались сквозь сильнейший огонь. Навстречу нам шли многочисленные раненые, среди них – лейтенант Шпиц, командир двенадцатой, раненный в колено. Уже перед штольней командира боевых отрядов мы попали под прицельный минометный обстрел, бывший знаком того, что враг вклинился в нашу позицию. Это подозрение мне подтвердил майор Дитлайн, командир третьего батальона. Я застал этого престарелого господина как раз в тот момент, когда он вылезал из своего на три четверти затопленного блиндажа и выуживал из слякоти упавшую туда пенковую трубку.
Враг проник на переднюю линию и занял холм, с которого мог обстреливать важную долину Паддебаха, где находился командир боевых отрядов. Отметив это изменение ситуации красным карандашом на карте, я отправился со своими людьми в длинный путь по болоту. В бешеной спешке мы перепрыгивали с одной кочки на другую, после чего уже медленнее двинулись к Нордхофу. Справа и слева в болото шлепались снаряды и швыряли вверх огромные, сопровождаемые тучами осколков горы болотной грязи. Нордхоф обстреливали фугасами, и нам пришлось преодолевать его прыжками. Эти штуковины действительно разрывались с особой злостью и оглушительным треском. Они приближались группами через малые промежутки времени. Каждый раз нужно было быстро перепрыгивать через очередной участок местности и затем пережидать в воронке следующие удары. В краткие интервалы между первым далеким завыванием и близким взрывом воля к жизни обострялась особенно болезненно, так как телу оставалось только беспомощно и покорно ожидать своей судьбы.
К тяжелым снарядам примешивалась шрапнель; один такой выброс разрядился между нами целой очередью хлопающих залпов. Одному из моих спутников шрапнелью задело задний край каски, и он повалился наземь. Потеряв на какое-то время сознание, он все же поднялся и побежал дальше. Местность вокруг Нордхофа была покрыта уймой изуродованных трупов.
Поскольку свою службу наблюдателей мы справляли с большим усердием, то частенько заглядывали в места, которые прежде были недоступны. Так, нам удалось подсмотреть то запретное, что совершалось на поле боя. Повсюду мы сталкивались со смертью; казалось, что в этой пустыне нет больше ни единой живой души. В одном месте, за разодранной изгородью, лежала группа тел, покрытых еще свежей землей, засыпавшей их после взрыва; в другом, рядом с воронкой, откуда еще струился ядовитый запах оставшихся после взрыва газов, лежали, распластавшись, двое связных. Множество трупов было разбросано по небольшой поверхности: команда подносчиков, попавшая в самый центр огневого вихря, или же заблудившийся резервный взвод, нашедший здесь свой конец. Мы появлялись здесь, единым взглядом окидывали тайны этого уголка смерти и снова исчезали в дыму.
Благополучно преодолев сильно обстреливаемое пространство за улицей Пасхендале-Вестрозебеке, я отчитался перед полковым командиром.
На следующее утро уже в 6 часов, получив задание определить, может ли полк связаться с другими подразделениями и в каком месте, я был послан на передовую. По дороге я встретил фельдфебеля Ферхланда; он нес приказ восьмой роте двинуться на Гудберг и закрыть брешь, если таковая имеется, между нами и соседним полком слева. Чтобы поскорей исполнить данное мне поручение, я счел самым разумным присоединиться к Ферхланду, После долгих поисков мы нашли командира восьмой, моего приятеля лейтенанта Теббе, в необжитой части изрытой воронками местности, неподалеку от связной вышки. Задание произвести такое заметное передвижение средь бела дня не вызвало у него большой радости. Во время этой немногословной беседы, скованной несказанной скукой утренне-белесого, изрытого воронками поля, в ожидании, когда соберется вся рота, мы выкурили по сигаре.
Пройдя несколько шагов, мы попали под прицельный огонь пехоты, исходящий от расположенных друг против друга высот, и должны были поодиночке перебегать от воронки к воронке. Когда мы переправлялись через следующий склон, огонь стал таким плотным, что Теббе решил, воспользовавшись покровом ночи, переждать его в воронках. Куря сигару, с величайшим хладнокровием он обошел весь участок, распределяя людей по отделениям.
Я стал продвигаться дальше, чтобы определить величину бреши, и на мгновение задержался в воронке Теббе. Вражеская артиллерия в наказание за смелый переход тут же начала обстреливать эту полосу. Осколок снаряда, угодивший на край нашего убежища и забросавший карту и глаза глиной, заставил меня подняться. Я попрощался с Теббе и пожелал ему удачи в последующие часы. Вослед он прокричал: «Господи, помоги дожить до вечера, а утро придет и так!»
Мы осторожно двигались по проверенной долине Паддебаха, прячась за купами обстреливаемых черных тополей и используя их стволы в качестве мостов. Время от времени кто-нибудь проваливался по самые бедра в болото и, если бы не приклады, которые протягивали товарищи, наверняка бы утонул. Ориентиром я выбрал группу людей, стоявших вокруг бетонированного блиндажа. Впереди, в том же направлении, четверо санитаров тащили носилки. Озадаченный этим наблюдением, – то есть тем, что раненого несли на передовую, – я посмотрел в бинокль и увидел ряд фигур в хаки и в плоских касках. В этот момент затрещали первые выстрелы. Поскольку укрыться было негде, мы помчались назад, пока снаряды вокруг плюхались в болотную грязь. Гонка по болоту была в высшей степени утомительной, но, побегав так в качестве мишеней и совершенно выдохшись, мы снова обрели прежнюю прыть, получив хорошую порцию осколочных фугасов. По крайней мере, окутав чадом, они скрыли нас из виду. Самым неприятным в этой гонке была перспектива из-за малейшего ранения тут же превратиться в болотный труп. Кровавые ручейки, стекавшие по воронкам, ясно говорили о том, что здесь пропал не один человек.
Смертельно измученные, мы достигли боевой позиции полка, где я отдал свои записи и доложил о положении дел.
28 октября нас снова сменил Баварский резервный 10-й полк, и мы, постоянно готовые к нападению, разместились в деревнях за линией фронта. Штаб отправился в Мост.
Вечером в прекрасном расположении духа мы снова сидели в помещении заброшенного кабачка и праздновали повышение по службе и помолвку лейтенанта Цюрна, только что вернувшегося из отпуска. В наказание за свое легкомыслие на следующее утро мы были разбужены ураганным огнем чудовищной силы, который, несмотря на удаленность, выбил у меня оконные стекла. Сразу же была объявлена тревога. Прошел слух, будто противник, воспользовавшись все еще не затянутой брешью, проник в пространство слева от полковой позиции. Я провел день в ожидании приказов у наблюдательного пункта главного командования армии, местность вокруг которого находилась под слабым рассеянным огнем. Легкий снаряд влетел в окно барака, и из него выскочили трое раненых артиллеристов, осыпанных кирпичной мукой. Другие трое, уже мертвые, лежали под развалинами.
На следующее утро я получил от баварского командира следующее боевое задание: «Вследствие повторного продвижения противника позиция полка по левому флангу еще более оттеснена назад, и брешь между обоими полками значительно увеличилась. Так как позиции угрожала опасность быть обойденной слева, то 73-й стрелковый полк вчера вечером предпринял контратаку, но, по всем признакам, был рассеян заградительным огнем и до врага не дошел. Сегодня утром для закрытия бреши был отправлен второй батальон. Известий до сих пор нет. Произвести разведку позиций первого и второго батальона».
Я отправился в путь и уже у Нордхофа встретил капитана Бриксена, командира второго батальона, с чертежом расположения в кармане. Я срисовал чертеж и тем, собственно, выполнил свое задание, но все же отправился к бетонному блоку командира боевых отрядов, чтобы удостовериться в происходящем лично. На дороге лежало множество свежих трупов, чьи бледные лица неподвижно таращились из залитых водой воронок или так уже были затянуты болотной жижей, что в них едва проступали человеческие черты. К сожалению, на рукавах большинства из них блестела голубая гибралтарская лента. Командиром боевых отрядов был баварский капитан Радльмайер. Этот весьма деятельный офицер сообщил мне подробности того, о чем бегло рассказал капитан Бриксен. Наш второй батальон понес большие потери, среди других погибли батальонный адъютант и командир бравой седьмой роты. Адъютант по имени Лемьер был братом павшего в апреле при Фреснуа командира восьмой роты. Оба брата были гражданами Лихтенштейна и в немецкую армию вступили в качестве волонтеров. И оба были убиты до странности одинаково – выстрелом в рот.
Капитан обратил наше внимание на бетонированный блок в двухстах метрах от нашего, который вчера защищали особенно упорно. Вскоре после атаки комендант малого форта, фельдфебель, заметил англичанина, уводившего с собой трех немцев. Метко выбив англичанина, он укрепил свою команду еще тремя людьми. Когда боеприпасы у них кончились, они поместили надежно связанного англичанина перед дверью как мирную вывеску, но с наступлением темноты незаметно отошли с позиции.
Другое бетонированное укрытие, которым командовал лейтенант, английский офицер потребовал безоговорочно сдать; вместо ответа из него выскочил немец, схватил англичанина и на глазах ошарашенных солдат втащил его внутрь.
В тот же день я видел, как небольшие отряды санитаров с поднятыми флагами открыто двигались в зоне огня пехоты, не получив ни одного выстрела. Такие картины открывались взору бойца в этой подземной войне, только если нужда доходила до крайности.
Мой обратный путь был осложнен раздражающим газом английских снарядов с неприятным запахом гнилых яблок, пропитавшим землю и вызвавшим у меня слезы. Доложив о выполнении задания, у самого перевязочного пункта я столкнулся с носилками, на которых лежали два тяжелораненых офицера – мои приятели. Одним из них оказался лейтенант Цюрн, – два дня тому назад мы весело его чествовали. И вот он лежал, наполовину раздетый, с тем изжелта восковым цветом лица, являющимся верным признаком смерти, на вырванной из петель двери и остекленело смотрел на меня, когда я подошел пожать ему руку. У другого, лейтенанта Хаверкампа, осколком были раздроблены кости на руках и ногах, так что ему, наверно, предстояла их ампутация. С мертвенно бледным и окаменевшим лицом он лежал на своих носилках и курил одну сигарету за другой, – носильщики по его просьбе зажигали и вставляли их ему в рот.
В эти дни мы снова отметили ужасающие потери среди молодых офицеров. Эта вторая битва во Фландрии была однообразной; она шла в вязкой, болотистой местности, но предъявила нам большой счет.
3 ноября на вокзале Гитса, известном уже по первым дням пребывания во Фландрии, нас погрузили в поезд. Обе фламандки явно уже не отличались прежней свежестью. Казалось, что и у них за это время случились свои великие битвы.
На несколько дней мы остановились в Туркуэне, видном городе, – близнеце Лилля. В первый и последний раз за время войны солдаты седьмой роты спали на перине. Я поселился в роскошно обставленной комнате в доме барона-промышленника на Рю-де-Лилль. Уютно расположившись в кресле, первый вечер я провел у огонька непременного мраморного камина.
Эти несколько выпавших для отдыха дней все употребили на то, чтобы предаться с таким трудом добытым житейским радостям. Не верилось, что удалось избежать смерти. Мы принуждали себя наслаждаться всеми формами обретенной жизни, чтобы убедиться в ее реальности.
Двойная битва при Камбре
Счастливые денечки в Туркуэне промчались быстро, Некоторое время мы еще стояли в Виллер-о-Тертре, где получили новое пополнение, и 15 ноября 1917-го отправились в Леклюз – место пребывания тогдашнего резервного батальона указанной нам позиции. Леклюз оказался довольно большой, окруженной озерами деревней в провинции Артуа. В обширных зарослях тростника водились утки и лысухи, водоемы кишели рыбой. Несмотря на то что рыбалка была строго запрещена, по ночам на воде слышались загадочные звуки. Однажды местная комендатура вручила мне несколько книжек солдат моей роты, пойманных на месте преступления: они глушили рыбу ручными гранатами. Я ничего не сказал по этому поводу, так как хорошее настроение команды было мне дороже, чем охрана французской охоты или обеды местного начальства. С той поры каждый вечер у моих дверей лежала огромная щука, принесенная неизвестной рукой. На следующий день для обоих своих ротных офицеров я устроил обед, главное его блюдо называлось «Щука a'la Лоэнгрин».
19 ноября вместе с моими взводными я осмотрел позицию, которую мы должны были занять в последующие дни. Она находилась у деревни Виз-ан-Артуа. Но в окопы мы попали не так скоро, как думали: каждую ночь нас поднимали по боевой тревоге и держали в боевой готовности поочередно то на позиции Вотан – артиллерийской отсечной траншее, то в деревне Дюри. Опытные вояки понимали, что долго так продолжаться не может.
Действительно, 29 ноября от нашего батальонного командира, капитана Бриксена, мы узнали, что должны принять участие в широко задуманной контратаке дугообразного выступа, который вдавило в наш фронт танковое сражение при Камбре. Хотя мы и радовались, что сменили наконец роль наковальни на роль молота, но все же задавались вопросом: выдержит ли команда, измученная боями во Фландрии, это испытание. Я положился на боевой дух своей роты и на ее железный костяк – опытных взводных командиров и превосходных унтер-офицеров.
В ночь с 30 ноября на 1 декабря мы сели на грузовые автомобили. Первые потери в моей роте произошли из-за одного солдата, уронившего ручную гранату, загадочным образом взорвавшуюся и тяжело ранившую и его самого, и его товарища. Другой попытался разыграть сумасшествие, чтобы улизнуть от сражения. После долгой волынки сильный удар в ребра, произведенный одним унтер-офицером, снова его образумил, и мы наконец тронулись. Ехали, набившись как сельди в бочке, почти до самого Баралля, и там, сидя в канаве, долго ждали приказов. Несмотря на холод, я улегся прямо на лугу и проспал до рассвета. С некоторым разочарованием мы узнали, что 225-й полк, в чьем подчинении мы находились, отказался от нашей помощи при штурме. А пока что мы должны были залечь в дворцовом парке Баралля, пребывая в боевой готовности.
В 9 часов наша артиллерия нанесла яростные огневые удары, которые между 11:45 и 11:50 сгустились до ураганного огня. Бурлонский лес, благодаря сильным укреплениям не захваченный, а только блокированный с лобовой позиции, исчез под желто-зелеными облаками газа. В 11:50 мы увидели в бинокли, как в пустом, изрытом воронками поле выросли линии обороны, в то время как в тылу поднялись батареи и двинулись на другую позицию. Немецкий летчик поджег английский привязной аэростат, и наблюдатели выпрыгнули из него с парашютами. Летчик еще покружил немного вокруг парящих в воздухе, обстреливая их трассирующими пулями, и это было знаком того, что война становилась все более безжалостной.
Насладившись зрелищем воздушного боя, за которым мы наблюдали с высоты дворцового парка, мы опорожнили целый котелок лапши, улеглись, несмотря на холод, прямо на землю, чтоб поспать после обеда, и в три часа получили приказ продвинуться к полковой позиции, спрятанной в шлюзе высохшего канала. Мы проделали этот путь повзводно, осыпаемые слабым рассеянным огнем. Оттуда седьмую и восьмую роты отправили к командиру по боевой подготовке, чтобы сменить две роты 225-го. Пятьсот метров, которые пришлось преодолевать по дну канала, сопровождались плотным заградительным огнем. Без потерь, сжавшись в единый тесный комок, мы добежали до цели. Сонмища трупов говорили о том, что не одна рота расплатилась здесь своею кровью. Отряды подкрепления жались к самым насыпям и занимались тем, что с лихорадочной поспешностью пробивали в обвалившейся каменной кладке стен ямы для укрытия. Поскольку все места были заняты и сама местность, как ориентир, притягивала к себе огонь, я отвел роту на поле справа и предоставил каждому обустраиваться в тамошних воронках самостоятельно. Осколок, задребезжав, воткнулся в мой штык. Вместе с Теббе, который со своей восьмой последовал нашему примеру, я нашел подходящую воронку, и мы тут же перетянули ее плащ-палаткой. Зажгли свечку, поужинали, раскурили трубки и, дрожа от холода, немного поболтали. Теббе, даже посреди этой дикости продолжавший оставаться денди, рассказал мне длинную историю об одной девушке, которая позировала ему в Риме.
В 11 часов я получил приказ продвинуться на бывшую переднюю линию и доложить о себе войсковому командиру, которому подчинялась седьмая рота. Я велел всем собраться и повел людей вперед. Падали еще только отдельные, мощные снаряды, один из них, как сатанинское приветствие, шлепнулся перед нами, наполнив ложе канала темным дымом. Команда замолчала, словно ледяной кулак хватил их по затылку, и неровным шагом поспешила за мной, перелезая через колючие проволоки и груды камней. Не описать то неприятное чувство, которое закрадывается в душу при пересечении незнакомой позиции в ночное время, пусть даже и не при сильном огне. Зрение и слух солдата поддаются самому странному обману; между грозными стенами окопа он чувствует себя одиноко, как ребенок, заблудившийся в темной пустыне. Все кажется чужим и холодным, как в заколдованном мире.
Наконец мы нашли место, где передняя линия узкой полосой впадала в канал, и, протискиваясь сквозь переполненные окопы, направились к батальонному боевому пункту. Я вошел и увидел группу офицеров и связных в такой духоте, что воздух можно было резать ломтями. Мне сообщили, что атака в этом месте почти ничего не дала и что на следующее утро предполагается продвижение дальше. Царившее здесь настроение не предвещало ничего хорошего. Два батальонных командира затеяли перепалку со своими адъютантами. Время от времени офицеры спецподразделений бросали с высоты своих нар, набитых как корзинки с курами, то или иное замечание, присоединяясь к общему разговору. Из-за сигарного дыма нечем было дышать. Денщики пытались в этой давке нарезать хлеба для своих господ. Вбежавший раненый, сообщив о вражеской гранатной атаке, поднял временную тревогу.
Наконец я смог записать приказ о штурме, касающийся меня. Мне со своей ротой предстояло в 6 часов утра атаковать Драхенвег, а оттуда прорваться как можно глубже на линию Зигфрида. Оба батальона позиционного полка должны были в 7 часов атаковать фланг справа. Эта разница во времени тотчас возбудила во мне подозрение, что отдающий приказы не очень-то верил в добротность жаркого и определил для нас роль подопытных кроликов. Я был против раздвоенной атаки и добился того, что и мы выступили только в 7 часов. Наступившее утро показало, каким важным было это изменение.
Вырванную из своего соединения роту чужое командование не балует. Поскольку расположение Драхенвега я знал только приблизительно, то при прощании попросил карту, но ее, как выяснилось, не выдавали. Я покорился судьбе и вышел.
Довольно долго я с тяжело снаряженными людьми блуждал по позиции, пока один солдат на небольшом, ответвляющемся вперед окопе, перекрытом испанскими всадниками, не обнаружил табличку с полустершейся надписью: «Драхенвег». Ступив туда, я уже через несколько шагов услышал неразборчивую иностранную речь. Я никак не ожидал обнаружить противника так близко – почти на своей же линии, при отсутствии каких бы то ни было мер предосторожности – и тут же перекрыл окоп отрядом.
У самого Драхенвега находилась огромная яма, по-видимому противотанковая ловушка; в ней я собрал всю роту, чтобы объяснить боевое задание и распределить взводы на штурм. Мою речь несколько раз прерывали легкие снаряды. Один раз неразорвавшийся снаряд влетел даже в заднюю стенку. Я стоял наверху у самого края и при каждом попадании видел, как низко и ритмично подо мной склонялись освещенные лунным светом стальные каски.
Опасаясь шального снаряда, я отправил первый и второй взводы обратно на позицию, а с третьим устроился в яме. Части подразделения, за день до этого разбитого на Драхенвеге, напугали моих людей, и они рассказывали, что в пятидесяти метрах траншею преграждал английский пулемет, которого не обойти. В ответ на это мы с командирами взводов пришли к соглашению, что при первом же отпоре справа и слева бросаемся на перекрытие и лучеобразно разбрасываем ручные гранаты.
Бесконечно долгие часы ожидания я провел в норе, тесно прижавшись к лейтенанту Хопфу. В б часов поднялся и с тем особым настроением, которое предшествует всякому штурму, отдал последние распоряжения. Возникает ощущение какой-то странной вялости в желудке, ты разговариваешь с командирами отрядов, шутишь, бегаешь туда-сюда, как на параде перед главнокомандующим, – короче, ищешь все время каких-то занятий, чтобы убежать от сверлящей тебя мысли. Кто-то предложил мне кружку кофе, разбавленного крепким спиртом, словно по волшебству влившего в меня жизнь и уверенность.
Ровно в 7 мы выступили длинной шеренгой в определенной последовательности. Драхенвег оказался незанятым; ряд пустых барабанов за баррикадой указывал на то, что пулемет убрали. Это воспламенило наш боевой дух. Мы вступили в небольшое ущелье, после чего я оградил ответвляющийся вправо хорошо укрепленный окоп надежным прикрытием. Ущелье все более расширялось, пока мы, уже на рассвете, не вышли на широкое поле. Повернув назад, мы вступили в правый окоп, хранивший следы неудачной атаки. Земля была покрыта убитыми англичанами и военной утварью. Это была линия Зигфрида. Вдруг командир ударных отрядов, лейтенант Хоппенрат, выхватил у солдата ружье и выстрелил. Он натолкнулся на английского часового, который после нескольких гранат обратился в бегство. Двинулись дальше, и тут же снова встретили сопротивление. Ручные гранаты летели с обеих сторон и лопались с многократным треском. В бой вступила техника ударных частей. Мины передавали друг другу по цепочке; снайперы устраивались за поперечинами, беря под прицел вражеские минометы, взводные командиры наблюдали поверх укрытия, чтобы не пропустить контратаку, а минометчики устанавливали свои орудия в местах, открывающих поле обстрела.
После краткой битвы по ту сторону раздались взволнованные голоса, и прежде чем мы хорошенько поняли, что случилось, к нам вышли первые англичане с высоко поднятыми руками. Один за другим, под прицелом наших винтовок и пистолетов, они огибали поперечину и щелкали каблуками. Это были сплошь молодые, крепкие парни в новехоньких униформах. Я пропускал их с настоятельным “Hands down!”[35] и поручил одному из отрядов увести их. Некоторые доверчиво улыбались, показывая тем самым, что не предполагают в нас ничего бесчеловечного. Другие же старались нас задобрить, протягивая пачки сигарет и плитки шоколада. С возросшей радостью дикаря я видел, что мы получили богатый улов: процессии не было конца. Мы уже насчитали сто пятьдесят человек, а новые все шли и шли с поднятыми руками. Я остановил одного офицера и спросил его об остальном устройстве и оснащении позиции. Он отвечал очень вежливо, усугубив произведенное на меня благоприятное впечатление еще и тем, что стоял передо мной навытяжку. Он провел меня к командиру роты – раненому капитану, находившемуся в ближней штольне. Я увидел прислонившегося к обшивке молодого человека приблизительно 26-ти лет с тонкими чертами лица, с простреленной голенью. Когда я представился, он приставил руку с висящей на ней золотой цепочкой к фуражке, назвал свое имя и отдал мне пистолет. Первые же слова, которые он произнес, показали, что передо мной мужчина. “We were surrounded about”.[36] Ему не терпелось объяснить своему противнику, отчего его рота так быстро сдалась. Мы поговорили по-французски о разных вещах. Он рассказал, что в соседнем убежище находится целая группа немецких пленных, за которыми ухаживают его люди. Когда я спросил, в какой степени линия Зигфрида удерживается с тылу, он уклонился от ответа. После того как я пообещал отпустить и его, и других раненых, мы попрощались, пожав друг другу руки.
Мои люди, стоявшие перед штольней, доложили, что мы захватили около двухсот пленных. Для роты в восемьдесят голов не так уж плохо! Я расставил посты, и мы осмотрелись в завоеванном окопе, набитом оружием и разными предметами, вооружения. На постовых пунктах лежали пулеметы, минометы, ручные гранаты и пули, фляжки, меховые жилетки, прорезиненные плащи, плащ-палатки, мясные консервы, повидло, чай, кофе, какао и табак, бутылки с коньяком, инструменты, пистолеты, ракетницы, белье, перчатки – короче говоря, все, что можно себе только представить. Я, как настоящий командир ландскнехтов, устроил небольшой перерыв, чтобы дать своим людям пограбить, передохнуть и порыться в вещах. Я тоже не смог удержаться от искушения и попросил своего денщика присобрать мне возле одной штольни что-нибудь к завтраку и набить трубку добрым navy cut,[37] пока я строчил отчет командиру боевых частей. Копию я предусмотрительно послал нашему батальонному командиру.
Через полчаса в приподнятом настроении – не стану отрицать, что этому способствовал и английский коньяк, – мы снова двинулись в путь и, крадучись пробираясь от одной поперечины к другой, пересекли линию Зигфрида.
В одном из блокгаузов, встроенных в окоп, мы раздобыли огонь и поднялись на ближайший постовой пункт, чтобы осмотреться. Пока мы обменивались пулями с обитателями этой местности, чей-то невидимый кулак повалил одного солдата на землю. Пуля просверлила верх его каски и оставила на черепе длинную борозду. Мозг поднимался и опускался в ране при каждом ударе крови, но, несмотря на это, пострадавший мог еще идти без поддержки. Я велел ему сбросить ранец, с которым он никак не хотел расставаться, и заклинал его идти медленно и осторожно.
Я призвал добровольцев атакой сломить сопротивление на свободном пространстве. Люди неуверенно переглядывались; и только один беспомощный поляк, которого я всегда считал слабоумным, вылез из окопа и грузно ступил на блокгауз. К сожалению, я забыл имя этого простого солдата, преподавшего мне урок, что узнать человека можно, только увидев его в беде. Тут и фенрих Нойперт вскочил со своим отрядом на укрытие, пока мы продвигались по окопу. Англичане дали несколько залпов и отступили, оставив блокгауз на произвол судьбы. Один из людей фенриха в самый разгар атаки упал замертво лицом вниз в нескольких шагах от цели. Он получил тот выстрел в сердце, после которого убитый лежит, вытянувшись наподобие спящего.
При дальнейшем продвижении мы натолкнулись на ожесточенное сопротивление невидимых гранатометчиков и за время долгого побоища снова были оттеснены к блокгаузу. Там мы забаррикадировались. На участке окопа, за который шел бой, и мы и англичане оставили уйму трупов. Увы, среди них был и унтер-офицер Мевиус, запомнившийся мне по ночному сражению при Реньевиле как отчаянно храбрый боец. Он лежал ничком в луже крови. Когда я его перевернул, то по глубокой дыре на лбу увидел, что всякая помощь здесь бесполезна. Я только что с ним разговаривал; вдруг он замолчал, не ответив на мой вопрос. Когда через несколько секунд я зашел за поперечину, за которой он исчез, то нашел его уже мертвым. В этом была какая-то жуткая тайна.
После того как противник немного отступил, началась упорная перестрелка, во время которой пулемет Льюиса, расположенный в пятидесяти метрах от нас, вынудил нас пригнуть головы. Ручной пулемет с нашей стороны принял вызов. С полминуты, опрыскиваемые пулями, грохотали друг против друга оба смертоносных орудия. Вдруг наш наводчик, ефрейтор Мотулло, упал, сраженный пулей в голову. И хотя мозг сползал по его лицу до самых колен, он не потерял сознания даже когда мы отнесли его в соседнюю штольню. Мотулло, пожилой человек, принадлежал к тем людям, которые никогда бы не пошли в волонтеры, но когда он стоял за пулеметом, я, не отрываясь от его лица, видел, что, несмотря на огненный сноп, опрыскивающий его со всех сторон, он ни на дюйм не наклонял голову. На вопрос о самочувствии он отвечал мне еще связными фразами. У меня было впечатление, что смертельная рана не причиняла ему страданий; может быть, он о ней и не подозревал.
Постепенно огонь начал стихать, потому что и англичане принялись за строительство баррикады. В 12 часов появились капитан фон Бриксен, лейтенант Теббе и лейтенант Фойгт; они поздравили меня с успехом роты. Мы забрались в блокгауз, позавтракали английскими запасами и обсудили положение. Крича изо всех сил, я вел переговоры примерно с двадцатью пятью англичанами, чьи головы торчали из окопа в ста метрах перед нами; по-видимому, они хотели сдаться. Но как только я забрался на укрытие, то был тут же обстрелян откуда-то сзади.
Вдруг у баррикады началось какое-то движение. Полетели ручные гранаты, затрещали ружья, затарахтели пулеметы. «Идут! Идут!» Мы укрылись за мешками с песком и начали стрелять. Один из моих людей, ефрейтор Кимпенхаус, в боевом угаре вскочил на баррикаду и долго стрелял внутрь окопа, пока его не смели два тяжелых ранения в руку. Я запомнил этого героя момента и имел удовольствие поздравить его через две недели с Железным Крестом I степени.
Едва мы вернулись от этой интермедии к завтраку, как снова поднялся дикий шум. Произошла одна из тех странных случайностей, благодаря которым ситуация боя вдруг непредсказуемо меняется. Крик исходил от исполняющего обязанности офицера левого соседнего полка; этот человек пытался наладить с нами связь и находился в весьма задиристом настроении. Он был слегка пьян, что, казалось, разожгло свойственную его натуре отвагу до бешенства. «Где томми? Ужо, песьи морды! Вперед, кто за мной?» В ярости он разломал нашу дивную баррикаду и ринулся вперед, прокладывая себе путь ручными гранатами. Перед ним скользил по окопу его ординарец и добивал винтовочными выстрелами тех, кому удалось убежать от взрывчатки.
Мужество и личное бесстрашие всегда воодушевляют. И нас захватила эта удаль, и мы, подхватив ручные гранаты, ревностно присоединились к этому яростному штурму. Вскоре я уже был возле этого офицера, да и другие офицеры, сопровождаемые людьми моей роты, не заставили себя долго упрашивать. Сам батальонный командир, капитан фон Бриксен, с винтовкой в руке, находился в первых рядах и поверх наших голов уложил не одного вражеского минометчика.
Англичане храбро защищались. Бой шел за каждую поперечину. Черные шары миллиметровых ручных гранат скрещивались в воздухе с нашими ручными гранатами. За каждой взятой поперечиной мы находили трупы или тела, еще бившиеся в судорогах. Убивали друг друга, не видя лиц. У нас тоже были потери. Рядом с ординарцем упал кусок железа, от которого уже нельзя было спастись; солдат рухнул наземь, и его кровь струями потекла сразу из нескольких ран.
Перепрыгнув через его тело, мы двинулись дальше. Громовые раскаты сопровождали нас. Среди мертвой местности сотни глаз выслеживали мишень, наводя на нее винтовки и пулеметы. Мы уже сильно удалились от своих линий. Со всех сторон летели снаряды, свистя вокруг наших касок или с жестким треском взрываясь у края окопа. Каждый раз когда яйцеобразный железный ком появлялся над линией горизонта, глаз схватывал его с тем прозрением, на которое человек способен, только встречаясь со смертью. За этот миг ожидания нужно было завладеть позицией, откуда хорошо бы обозревалось все небо, так как только на его бледном фоне черное рифленое железо смертоносных шаров выделялось достаточно четко. Тогда можно было кидать самому и идти дальше. Падавшее как мешок тело противника едва удостаивалось взгляда, убитый выходил из игры, начиналась новая схватка. Гранатная перестрелка напоминает фехтование на рапирах; нужно проделывать прыжки, как в балете. Это самый смертельный из поединков; он заканчивается только тогда, когда один из противников взлетает на воздух.
На мертвецов, через которых все время приходилось перепрыгивать, я мог в эти минуты смотреть без содрогания. Они лежали, свободно раскинувшись, в позе, свойственной тем мгновениям, когда расстаешься с жизнью. Во время этих прыжков я препирался с моим офицером – действительно отчаянным малым. Он претендовал на лидерство и потребовал от меня, чтобы я не сам бросал, а подавал гранаты ему. Вперемешку с краткими, устрашающими возгласами, которыми регулируют свои и привлекают внимание к действиям противника, вдруг раздавалось: «Бросок! Я был инструктором штурмовых батальонов!»
Ответвляющийся вправо окоп мы освободили для следующих за нами людей 225-го полка. Попавшие в тупик англичане попытались уйти через свободное пространство и были подстрелены, как зайцы на охоте.
Затем наступил высший момент; обескровленный противник, преследуемый нами по пятам, всячески приноравливался уйти через отклоняющийся вправо соединительный окоп. Мы вскочили на постовые пункты и увидели перед собой зрелище, вызвавшее у нас дикий вопль ликования: окоп, по которому уходили англичане, изгибался наподобие крыла лиры, возвращаясь обратно к нам, и со стороны англичан был удален от нас не более чем на десять метров. Врагу было нас не обойти! Со своего постового возвышения прямо перед собой мы видели каски англичан, спотыкающихся от спешки и волнения. Я бросил гранату под ноги впереди идущим, так что они внезапно остановились, заклинив идущих следом. Началось неописуемое побоище; гранаты летели по воздуху, как снежки, окутывая все молочно-белым туманом. Два человека бесперебойно протягивали мне готовые мины. Среди зажатых в тиски англичан высверкивались языки пламени, швыряя вверх клочья и каски. Вопли ярости и страха мешались друг с другом. Ничего не видя, кроме огня, мы с кликами ринулись на край окопа. Винтовки всей местности были нацелены на нас.
Посреди этого угара сильнейший толчок повалил меня на землю. Придя в себя, я сорвал с головы каску и к своему ужасу увидел в ее металле две большие дыры. Фаненюнкер унтер-офицер Морманн, подскочивший ко мне, успокоил меня заверением, что на затылке у меня виднелась только кровоточащая царапина. Пуля, пущенная с большого расстояния, пробила мою каску и задела череп. Наполовину оглушенный, наскоро перевязанный, я поковылял назад, удаляясь от центра сражения. Как только я перешел через следующую поперечину, сзади ко мне подбежал солдат и сдавленным голосом прокричал, что на том же месте только что был смертельно ранен в голову Теббе.
Это известие совершенно раздавило меня. Я отказывался верить, что мой друг, наделенный такими качествами, с которым я долгие годы делил радости, горести и опасности войны, еще несколько минут назад приободрявший меня шутками, ушел из жизни из-за какого-то жалкого кусочка свинца. К сожалению, правда была слишком явной.
Вместе с ним на этом смертоносном клочке окопа истекли кровью все унтер-офицеры и треть моей роты. Погиб и лейтенант Хопф, уже немолодой человек, учитель по профессии, немецкий шульмайстер в лучшем смысле этого слова. Оба моих фенриха и множество других были ранены. Несмотря на это, седьмая рота под командованием лейтенанта Хоппенрата, последнего ротного командира, удерживала завоеванную позицию вплоть до смены.
Сражения мировой войны имели и свои великие мгновения. Это знает каждый, кто видел этих властителей окопа с суровыми, решительными лицами, отчаянно храбрых, передвигающихся гибкими и упругими прыжками, с острым и кровожадным взглядом, – героев, не числящихся в списках. Окопная война – самая кровавая, дикая, жестокая из всех войн, но и у нее были мужи, дожившие до своего часа, – безвестные, но отважные воины. Среди волнующих моментов войны ни один не имеет такой силы, как встреча командиров двух ударных частей между узкими глинобитными стенами окопа. Здесь не может быть ни отступления, ни пощады. Кровь слышна в пронзительном крике прозрения, кошмаром исторгающегося из груди.
На обратном пути я задержался возле капитана фон Бриксена; он с несколькими людьми яростно сражался с группой голов, торчавших из-за края соседнего параллельного окопа. Я встал между ним и другим стрелком, чтобы следить за взрывами. В опьянении, которое сопровождает болевой шок, я не задумывался о том, что моя повязка сверкает, как белый тюрбан, и видна далеко вокруг.
Внезапно лобовой удар снова сбросил меня на дно окопа, а глаза ослепила струящаяся по ним кровь. Стоявший рядом со мной солдат, застонав, тоже рухнул. Прямое попадание в голову через каску и висок. Капитан испугался, что потерял в этот день и второго ротного командира, но при близком рассмотрении обнаружил только две поверхностные дырки у корней волос; их причиной был либо разлетевшийся снаряд, либо стальные осколки разбитой каски. Этот раненый, в теле которого застрял металл того же снаряда, что и у меня, навестил меня после войны; он был рабочим сигаретной фабрики и после ранения стал болезненным и чудаковатым.
Ослабленный новой потерей крови, я присоединился к капитану, возвращающемуся на свой командный пункт. Бегом преодолев жестоко обстреливаемую околицу деревни Мевр, мы обрели убежище в ложе канала, где меня перевязали и сделали укол против столбняка.
После обеда я сел в грузовой автомобиль и поехал в Леклюз, и там, за ужином, представил отчет полковнику фон Оппену. В полудреме, но и в превосходном настроении осушив бутылку вина, я откланялся и с чувством заслуженного отдыха после тяжелого дня бросился на постель, приготовленную моим верным Финке.
Через день батальон вошел к Леклюз. 4 декабря дивизионный командир, генерал-майор фон Буссе, произнес перед действующими батальонами речь, в которой подчеркнул заслуги седьмой роты.
Я по праву мог гордиться своими людьми. Какие-то восемьдесят человек завоевали большой кусок окопа, добыли уйму пулеметов, минометов и разного материала и захватили двести пленных. Я с удовольствием объявил о целом ряде повышений и наград. Так, лейтенант Хоппенрат, командир ударных отрядов, фенрих Нойперт, штурмовавший блокгауз, и отважный защитник баррикад Кимпенхаус прикрепили себе на грудь заслуженный Железный Крест I степени.
Несмотря на свое пятое, теперь уже двойное, ранение, я не стал сразу разыскивать лазарет, а приурочил лечение к рождественскому отпуску. Царапина на затылке скоро затянулась, осколок на лбу врос в ткань, составив компанию двум другим, еще со времен Реньевиля сидевших в левой руке и в мочке уха. Тогда же я был неожиданно порадован Рыцарским Крестом дома Гогенцоллернов, посланным мне вослед.
Этот оправленный золотом эмалевый крест, простреленная каска и серебряный бокал с надписью «Победителю Мевра», подаренный мне тремя ротными командирами нашего батальона, я храню в память о двойной битве у Камбре, которая войдет в историю как первая попытка преодолеть смертоносные тяготы позиционной войны.
У ручья Кожёль
9 декабря 1917-го после нескольких дней покоя, еще до моего отпуска, мы сменили десятую роту на передовой. Позиция находилась, как я уже сообщал, близ деревни Виз-ан-Артуа. Справа участок моей роты был ограничен шоссе Аррас – Камбре, слева – заболоченным руслом ручья Кожёль, через который мы поддерживали связь с соседней ротой, расставив ночные патрули. Из-за возвышенности, лежащей между передними окопами, вражеская позиция была не видна. Если не считать нескольких патрулей, возившихся ночью около нашей проволоки, и жужжания электрического мотора, поставленного на соседней ферме Губерта, вражеская пехота не подавала никаких признаков жизни. Зато доставляли неприятности частые атаки газовых мин, стоившие многих жертв. Их источником были сотни вкопанных в землю железных труб, которые электрически разряжались залпом пламени. Как только вспыхивал огонь, объявлялась газовая тревога, и тому, кто не успевал перед атакой натянуть противогаз, приходилось худо. В некоторых местах газ достигал почти абсолютной плотности, так что не помогал и противогаз, ибо просто не хватало вдыхаемого кислорода. И из-за этого были потери.
Мое убежище было вделано в отвесную стенку гравийного карьера, зияющего сразу за позицией и ежедневно подвергающегося сильнейшему обстрелу.
За ним черным силуэтом высился железный остов разрушенного сахарного завода.
Гравийный карьер был зловещим местом. Между воронками, наполненными отходами военных материалов, торчали покосившиеся кресты заброшенных могил. Ночью нельзя было разглядеть даже поднесенную к глазам руку, и нужно было ждать, пока взлетит очередная осветительная ракета, чтобы не сорваться с безопасной тропы беговой решетки в вязкую грязь долины Кожёля.
Если я не был занят на строительстве постового окопа, то проводил дни в ледяной штольне, читая книгу и стуча ногами о раму, чтобы согреться. Той же цели служила спрятанная в нише меловой скалы бутылка зеленого мятного ликера, которому мы с моим ординарцем охотно отдавали честь.
Если бы только нам вздумалось разжечь в своем карьере костерок, осветив тем самым тусклое декабрьское небо, то вся местность вскоре стала бы необитаемой, ибо противник покуда принимал за резиденцию командования сахарный завод и главную порцию своих снарядов расходовал на эту старую железную развалину. Жизнь, таким образом, возвращалась в наши застылые члены только в часы рассвета. Разжигали огонь в маленькой печи, и, помимо густого чада, она распространяла и уютное тепло. С лестницы, ведущей в штольню, вскоре слышался стук котелков; это означало, что подносчики еды, ожидаемые с нетерпением, возвратились из Виза. И если неизменная последовательность из брюквы, перловки и сушеных овощей нарушалась лапшой или фасолью, то лучшего было и не нужно. Я немало радовался, сидя за своим маленьким столом и вслушиваясь в бесхитростную беседу людей; окутанные табачным дымом, они ютились вокруг печки, на которой, источая пряные запахи, стоял котел с грогом. Война и мир, битва и родной дом, отпуск и места отдохновения – все это обсуждалось в сухой нижнесаксонской манере, и я, как обычно, запоминал какое-нибудь меткое выражение. Так, например, ординарец, отправлявшийся в отпуск, прощался со словами: «Братцы, до чего же хорошо снова лежать в своей постели, а мамаша так и ластится к тебе под самый бок!»
19 января в четыре часа утра пришла смена, и мы в сильную метель отправились в Гуи, где должны были задержаться на продолжительное время, чтобы подготовиться к большому штурму. Из предельно ясных учебных приказов Людендорфа, доведенных до сведения всех, включая ротных командиров, мы узнали, что уже в ближайшее время будет произведена попытка решить исход войны единым мощным ударом.
Мы заучивали забытые формы стрелкового боя и маневренной войны, много времени уделяли и стрельбе из винтовки и пулемета. Поскольку все деревни за линией фронта вплоть до последней мансарды были заняты, в качестве стрельбища использовали любую насыпь, и пули иногда жужжали над местностью, как во время боя. Наводчик моей роты во время разбора учений ручным пулеметом выбил из седла командира чужого полка. К счастью, пострадавший отделался легким ранением в ногу.
Несколько раз я со своей ротой, вооружившись боевыми гранатами, предпринимал учебные атаки на сложные системы окопов, проверяя опыт битвы при Камбре. И здесь бывали раненые.
24 января полковник фон Оппен распрощался с нами, чтобы принять бригаду в Палестине. С осени 1914-го он непрерывно командовал полком, чья военная история тесно связана с его именем. Полковник фон Оппен был живым примером прирожденного командира. Он был представителем расы вождей; его всегда окружала атмосфера порядка и уверенности. Полк – это последнее соединение, в котором все еще знают друг друга лично; в некотором смысле это огромная военная семья, и облик подобного командира невидимо оказывает свое влияние на тысячи. К сожалению, его прощальным словам: «До свидания в Ганновере!» – не суждено было сбыться; вскоре он умер от азиатской холеры. Уже после того, как я узнал о его смерти, я получил еще одно письмо, написанное им собственноручно. Я за многое ему благодарен.
6 февраля мы снова переселились в Леклюз и 22-го были размещены в воронках слева от шоссе Дюри – Эндекур, чтобы ночью начать окопные работы на переднем крае. Осматривая позицию, находившуюся против груды обломков бывшей деревни Буллекур, я понял, что мощное наступление, о котором с надеждой шептались на всем Западном фронте, частично должно было состояться именно здесь.
Повсюду шло лихорадочное строительство, сооружались штольни и прокладывались новые пути. Поле было усеяно расставленными посреди голой местности табличками с таинственными цифрами, обозначавшими, по-видимому, расположение батарей и командных постов. Наши аэропланы без устали совершали заградительные полеты, закрывающие противнику обзор. Чтобы обеспечить войско точным временем, каждый день ровно в двенадцать часов с привязных аэростатов спускали черный шар, исчезавший ровно в 12:10.
В конце месяца мы снова отправились в Гуи на прежние квартиры. После обильных упражнений в батальонных и полковых соединениях мы дважды на просторной, обозначенной белыми лентами позиции отрепетировали прорыв всей дивизии. В заключение дивизионный командир произнес перед офицерами речь, из которой стало ясно, что штурм начнется в ближайшие дни. Железный дух атаки, дух прусской пехоты, парил над массами, собравшимися здесь, на нормандском фронте в период пробуждения весны, для проведения боевых испытаний.
С радостным чувством я вспоминаю те вечерные часы, когда мы сидели за круглым столом и горячо беседовали о предстоящей маневренной войне. И неважно, если в пылу возбуждения на вино уходил последний талер, – на что нам деньги по ту сторону вражеских линий или тем более в том, лучшем мире?
И только напомнив нам, что жизнь в тылу совсем еще не кончена, капитану фон Бриксену удалось на следующий вечер удержать нас от того, чтобы не обстреливать стены стаканами, бутылками и фарфором. Команда тоже находилась в хорошей форме. Мы слышали, как ребята в своей сухой нижнесаксонской манере рассуждают о предстоящей по плану Гинденбурга «конной атаке», и было ясно, что они пойдут на штурм как всегда жестко, уверенно и без лишнего шума.
17 марта, после захода солнца, мы оставили полюбившиеся нам квартиры и отправились в Брюнемон. Дороги были переполнены неутомимо марширующими колоннами, бесчисленными орудиями и нескончаемыми обозами. Несмотря на это, царил порядок, все шло по плану мобилизации, разработанному офицерами Генерального штаба. Горе той войсковой части, которая не придерживалась времени и маршрута с педантичной точностью: она безжалостно сбрасывалась в кювет и часами ждала, чтобы втиснуться в какую-нибудь брешь. Однажды мы попали в давку, из-за нее конь капитана фон Бриксена наткнулся на обитое гвоздями дышло и испустил дух.
Великая битва
Батальон разместили в Брюнемонском замке. Мы узнали, что в ночь на 19 марта нам предстоит двинуться на передовую, чтобы в воронках близ Каньикура занять выжидательную позицию, и что великий штурм назначен на утро 21 марта 1918-го. Полк имел задание прорваться между деревнями Экуст-Сен-Мен и Норей, известными еще по отступлению на Сомме, и, если случится возможность, то в первый же день достигнуть Мори.
Я выслал вперед Шмидта, которого мы из-за его благодушного нрава называли не иначе как «Шмидтхен», чтобы он обеспечил роте жилье.
В назначенное время батальон вышел из Брюнемона. На перекрестке, где нас ждали наши передовые части, роты разделились и лучеобразно двинулись вперед. Когда мы достигли высоты второй линии, на которой мы должны были разместиться, выяснилось, что наши головные части потерялись. Начались блуждание по слабо освещенной, вязкой, изрытой местности и расспросы бесконечных, так же мало осведомленных отрядов. Чтобы окончательно не изматывать команду, я велел всем остановиться и выслал разведчиков в разных направлениях.
Отряды сложили винтовки и втиснулись в огромную воронку, мы же с лейтенантом Шпренгером устроились на краю меньшей, откуда, как с балкона, можно было видеть большой кратер внизу. Уже какое-то время приблизительно в ста метрах перед нами вспыхивали единичные взрывы. Еще один снаряд разорвался в небольшом отдалении; осколки шлепали по глиняным стенам воронки. Кто-то закричал, уверяя, что ранен в ногу. Я кликнул своих людей, чтобы они перебрались в соседние ямы, а сам принялся ощупывать заляпанный грязью сапог пострадавшего, ища прострел.
Высоко в воздухе опять засвистело; всех сдавило предчувствие: это к нам! Сразу же раздался оглушительный, чудовищный грохот, – снаряд ухнул прямо между нами.
Я поднялся, наполовину оглушенный. Подожженные патронные ленты излучали из большой воронки яркий розовый свет. Он освещал струйки дыма из выбоины, в которой клубилась груда черных тел; тени уцелевших разбегались во все стороны. Все это сопровождалось безостановочным жутким воем и криками о помощи.
Но особенно страшным было клубящееся движение темной массы в глубине дымящегося и пылающего котла, которое на одну секунду, как адское видение, разверзло глубочайшую бездну боли.
Не буду скрывать, что сначала я, как и все остальные, после мгновенного цепенящего ужаса вскочил и опрометью кинулся во тьму. И только очутившись в небольшой воронке, в которую я кубарем скатился, я понял, что происходило. Ничего не видеть и не слышать! Бежать как можно дальше, забиться в щель! И тут же вступал другой голос: «Послушай, ведь ты же командир!» И я заставил себя вернуться в тот кошмар. По пути я столкнулся со стрелком Халлером, во время моего ноябрьского патрулирования захватившим в качестве трофея пулемет, и пошел вместе с ним.
Раненые все еще издавали ужасающие вопли. Некоторые, заслышав мой голос, подползали ко мне и скулили: «Герр лейтенант! Герр лейтенант!» Один из моих любимых рекрутов, Ясинский, которому осколок раздробил бедро, крепко вцепился в мои ноги. Чтобы хоть чем-то помочь, я, подбадривая бранью, растерянно похлопал его по плечу. Такие мгновения врезаются в память.
Я препоручил несчастных единственному уцелевшему санитару, чтобы он вывел горстку верных соратников, собравшихся возле меня, из опасного района. Еще полчаса тому назад я был во главе доблестной, отличной роты, а теперь с горсткой совершенно подавленных людей беспомощно блуждал по окопному лабиринту. Какой-то юнец, который еще совсем недавно, осмеянный товарищами, плакал во время строевой из-за неподъемных ящиков с боеприпасами, теперь добросовестно тащил за собой этот тяжкий груз, спасенный им из кошмара стрелковой ступени. Это наблюдение меня потрясло. Я бросился наземь и разразился судорожными рыданиями, а мои люди мрачно обступили меня.
Под угрозой взрывающихся снарядов несколько часов впустую пробегав по окопам, грязь и вода в которых были нам по щиколотку, мы, смертельно измученные, забрались в ниши для боеприпасов, вделанные в стены. Финке натянул на меня свое одеяло, но я все равно не мог сомкнуть глаз и, куря сигары, с чувством полной безучастности ждал, когда наступит рассвет.
Первый же утренний луч осветил невероятное оживление на нашем кратерном поле. Несметные пехотные части пытались достичь укрытий. Артиллеристы тащили боеприпасы, минометчики тянули свои тележки, телефонисты и сигнальщики устанавливали связь. Это была чистейшей воды ярмарочная кутерьма в тысяче метрах от противника, который самым неправдоподобным образом ничего не замечал.
К счастью, я натолкнулся на командира второй пулеметной роты, лейтенанта Фалленштайна, старого фронтового офицера, показавшего мне наше убежище. Первой его фразой было: «Послушай, на кого ты похож?» Я отвел своих людей в большую штольню, мимо которой ночью мы пробегали по крайней мере раз двенадцать и где я нашел Шмидтхена, еще ничего не знавшего о наших бедах. Обнаружил я здесь и наших проводников. С этого дня, как только мы занимали новую позицию, я подбирал проводников всегда сам и делал это с величайшей осмотрительностью. Война учит основательно, но плату за учение требует высокую.
Разместив своих спутников, я отправился к месту кошмара прошедшей ночи. Местность выглядела ужасно. Вокруг выжженной воронки лежало свыше двадцати почерневших трупов, почти все разодранные до неузнаваемости. Некоторых из погибших мы позднее причислили к пропавшим без вести, так как от них ничего не осталось.
Отдельные солдаты из соседних отсеков занимались тем, что вытаскивали из чудовищной свалки залитые кровью вещи погибших и осматривали их с надеждой поживиться. Я их прогнал и дал своему связному задание забрать бумажники и ценные вещи, чтобы спасти их для оставшихся. Правда, на следующий день во время штурма нам пришлось их бросить.
К моей радости, из ближней штольни пришел лейтенант Шпренгер с группой ночевавших там людей. Я велел командирам отделений рапортовать и установил, что в моем распоряжении было еще тридцать шесть человек. За день до этого я в наилучшем расположении духа выступил с отрядом, насчитывавшим более ста пятидесяти! Мне удалось обнаружить еще более двадцати мертвых и более шестидесяти раненых, многие из них позднее скончались.
Единственным слабым утешением было то, что ведь могло быть еще хуже. Так, стрелок Руст оказался в такой близости от взрыва, что переносные ремни его ящиков с боеприпасами начали гореть. Унтер-офицер Пеггау, погибший, к несчастью, на следующий день, стоял между двумя людьми, которых разорвало на куски, предварительно даже не оцарапав.
День мы провели в подавленном настроении и почти все время спали. Я часто бегал к батальонному командиру, так как в связи со штурмом возникали все новые вопросы. В остальное время я, лежа на нарах, беседовал с обоими своими офицерами о пустяках, отгоняя мучительные мысли. Постоянным рефреном было: «Хуже пули, слава Богу, уже ничего не будет!» Небольшая речь, которой я пытался приободрить людей, молчаливо сидевших на лестнице, не возымела действия. Да и у меня не было настроения никого подбадривать.
В десять часов вечера связной принес приказ о выдвижении на передовую. Когда дикого зверя вырывают из его пещеры или когда моряк видит, как спасительная доска уплывает у него из-под ног, их чувства, пожалуй, можно сравнить с теми, которые испытывали мы, расставаясь с надежной, теплой штольней и отправляясь в негостеприимную ночь.
Пробежав под сильнейшим шрапнельным огнем окоп Феликс, мы без потерь прибыли на передовую. Пока мы пробирались по окопам, по мостам над нашими головами в выдвинутые огневые позиции шла артиллерия. Полку, чьим передним батальоном мы выступали, был выделен совсем узкий участок. Штольни вмиг переполнились людьми. Оставшиеся выкопали себе норы в стенах траншеи, чтобы по крайней мере укрыться от артиллерийского огня, предшествующего штурму. После долгих поисков каждый нашел себе местечко. Капитан фон Бриксен вновь вызвал ротных командиров на совещание. Сверив в последний раз часы, мы расстались, пожав друг другу руки.
В ожидании 5:05 – того момента, когда должна была начаться огневая подготовка, – я с обоими своими офицерами устроился на лестнице. Настроение несколько улучшилось, так как дождь прекратился и звездная ночь обещала сухое утро. Мы провели время за рассказами и едой; много курили, и полная фляжка шла по кругу. В первые же утренние часы вражеская артиллерия так оживилась, что мы испугались, не пронюхал ли англичанин чего-нибудь. Несколько штабелей боеприпасов, распределенных по местности, взлетели на воздух.
Перед самым началом по радио передали следующее: «Его Величество кайзер и Гинденбург выехали на арену военных действий». Это сообщение было встречено овацией.
Стрелка продвигалась все дальше, мы считали последние минуты. Наконец она остановилась на 5:05. Ураган разразился.
Завеса из пламени, сопровождаемая резким, неслыханным рыком, взлетела вверх. Бешеный гром, поглотивший своими мощными раскатами самые тяжелые залпы, потряс землю. Непомерный рев уничтожения, поднятый сзади несметными орудиями., был так ужасен, что даже самые большие из выстоенных сражений казались по сравнению с ним детской игрой. Случилось то, на что мы не смели надеяться: вражеская артиллерия молчала, она была сметена единым мощным ударом. Нам было не усидеть в штольне. Стоя на укрытии, с восторгом смотрели мы на высокую, как башня, огненную стену, полыхавшую над окопами англичан, прикрытую клубящимися, кроваво-красными облаками.
Наша радость была испорчена болезненным жжением слизистой, вызывавшим слезы. Пары от наших же газовых снарядов, пригнанные встречным ветром, окутали нас сильным запахом горького миндаля. Я озабоченно наблюдал, как кто-то уже кашлял и задыхался и в конце концов срывал с себя противогаз. Видя это, сам я старался подавить приступы кашля и справиться с дыханием. Постепенно дым рассеялся, и через секунду мы сняли противогазы.
Настал день. За нашей спиной непрерывно нарастал чудовищный гул, Спереди выросла непроницаемая для глаз стена из чада, пепла и газа. Люди бежали по окопу, рыча в самое ухо друг другу радостные приветствия. Пехотинцы и артиллеристы, инженеры и телефонисты, пруссаки и баварцы, офицеры и целые команды – все выражали восторг по поводу этого стихийного проявления нашей силы и горели нетерпением ровно в 9:40 начать штурм. В 8:25 в бой вступили тяжелые минометы, стоявшие в узких коридорах за передним окопом. Мы видели, как по воздуху, описывая большие траектории, летят двухсоткилограммовые мины и где-то вдали вулканическим взрывом шарахают по земле. Их взрывы тянулись плотной цепью извергающихся кратеров.
Казалось, что сами законы природы потеряли свою силу. Воздух искрился, как в жаркие летние дни, и его изменчивая плотность заставляла твердые предметы танцевать. Сквозь облака скользили черные прочерки теней. Вой стал абсолютным, его не было слышно. Только неясно просматривалось, как тысячи тыловых пулеметов взметали в небо свои свинцовые фонтаны.
Последний час подготовки был опасней, чем четыре предыдущих, во время которых мы могли спокойно передвигаться по укрытию. Враг бросил в огонь тяжелую батарею, потоком снарядов осыпавшую наш перенаселенный окоп. Спасаясь от них, я пошел налево и наткнулся на адъютанта, лейтенанта Хайнса, который поинтересовался бароном фон Золемахером: «Он принимает командование батальоном, капитан фон Бриксен только что убит». Потрясенный этим ужасным известием, я побрел назад и забрался в глубокую нору. Но за короткий путь успел уже об этом забыть. Мозг прикреплялся к действительности только цифрой 9:40.
Перед моей норой стоял унтер-офицер Дуезифкен, сопровождавший меня в Реньевиле; он попросил меня перейти в окоп, так как при малейшем сотрясении на меня могли обрушиться глыбы земли. Взрыв перехватил его слова: с оторванной ногой он рухнул на землю. Перепрыгнув через него, я побежал направо, где забрался в нору, уже занятую двумя офицерами-саперами. Совсем рядом с нами продолжали свирепствовать тяжелые снаряды. Вдруг из белого облака вихрем взметнулись черные комья земли; взрыв был проглочен всеобщим гулом. Вообще больше ничего не было слышно. В углу окопа слева от нас разорвало троих из моей роты. Один из последних неразорвавшихся снарядов убил бедного Шмидтхена, сидевшего на лестнице.
Вместе со Шпренгером, с часами в руках, я стоял около своей норы в ожидании великого мгновения. Вокруг нас собрались остатки роты. Нам удалось развеселить их грубоватыми незатейливыми шутками и немного развлечь. Лейтенант Майер, на какой-то миг выглянувший из-за поперечины, позднее рассказывал мне, что принял нас за сумасшедших.
В 9:10 офицерские патрули, охранявшие нашу позицию, оставили окоп. Поскольку обе позиции были удалены друг от друга на восемьсот метров, мы должны были выступить еще во время подготовки и так расположиться на ничейной территории, чтобы в 9:40 ворваться в первую вражескую линию. Через несколько минут мы со Шпренгером в сопровождении наших людей также забрались на укрытие.
«Покажем, на что способна седьмая рота!» – «Мне теперь все по фигу!» – «Отомстим за седьмую роту!» – «Отомстим за капитана фон Бриксена!» Вытащив пистолеты, мы перемахнули через проволоку, через которую нам навстречу уже перебирались первые раненые.
Я посмотрел направо и налево. Грань, разделяющая народы, представляла собой странную картину. В воронках перед вражеским окопом, вокруг которого все время бушевал огонь, на необозримо широком фронте, сбившись в кучки по ротам, терпеливо ждали своего часа штурмовые батальоны. При виде этих скопившихся огромных масс казалось, что прорыв неизбежен. Разве не пряталась в нас сила, способная расколоть вражеские резервы и разорвать их, уничтожив? Я ждал этого с уверенностью. Казалось, предстоит последний бой, последний бросок. Здесь судьба народов подвергалась железному суду, речь шла о владении миром. Я догадывался, пусть до конца и не сознавая, какое значение имел этот час, и думаю, что каждый понимал, что личное исчезает перед силой ответственности, падавшей на него. Кто испытал такие мгновения, знает, что подъем и упадок в истории народов зависят от судьбы сражений.
Настроение было удивительным, высшее напряжение разгорячило его. Офицеры сохраняли боевую выправку и возбужденно обменивались шутками. Часто тяжелая мина падала совсем рядом, вздымая вверх фонтан высотой с колокольню, и засыпала землей томящихся в ожидании – при этом никто и не думал пригибать голову. Грохот сражения стал таким ужасным, что мутился рассудок. В этом грохоте была какая-то подавляющая сила, не оставлявшая в сердце места для страха. Каждый стал неистов и непредсказуем, будучи перенесен в какие-то сверхчеловеческие ландшафты; смерть потеряла свое значение, воля к жизни переключилась на что-то более великое, и это делало всех слепыми и безразличными к собственной судьбе.
За три минуты до атаки мой денщик, верный Финке, поманил меня наполненной фляжкой. Я сделал глубокий глоток. Как будто пил воду. Не хватало только боевой сигары. Воздушная волна трижды гасила мою спичку.
Великий миг настал. Вал огня прокатился по передним окопам. Мы пошли в наступление.
Со смешанным чувством, вызванным жаждой крови, яростью и опьянением, мы тяжело, но непреклонно шагали, надвигаясь на вражеские линии. Я шел вдали от роты, сопровождаемый Финке и одним новобранцем по имени Хааке. Правая рука сжимала рукоять пистолета, левая – бамбуковый стек. Я кипел бешеным гневом, охватившим меня и всех нас самым непостижимым образом. Желание умерщвлять, бывшее выше моих сил, окрыляло мои шаги. Ярость выдавливала из меня горькие слезы.
Чудовищная воля к уничтожению, тяжелым грузом лежавшая над полем брани, сгущалась в мозгу и погружала его в красный туман. Захлебываясь и заикаясь, мы выкрикивали друг другу отрывистые фразы, и безучастный зритель, наверно, подумал бы, что нас захлестнул переизбыток счастья.
Без малейших затруднений мы пересекли разодранную и спутанную колючую проволоку и единым прыжком перескочили через первый, едва различимый окоп. Штурмовая волна, как хоровод привидений, танцевала по сплющенной лощине, пробираясь сквозь белые, клубящиеся пары.
Неожиданно из второй линии нам навстречу затрещал пулемет. Я прыгнул со своими спутниками в воронку. Спустя секунду раздался ужасный грохот, и я повалился вперед. Финке схватил меня за воротник и перевернул на спину: «Герр лейтенант ранены? «Ничего не обнаружили. У новобранца была дырка в плече, и он уверял со стоном, что пуля попала ему в позвоночник. Мы сорвали с него форму и перевязали. Длинная борозда была знаком того, что на уровне наших лиц на край воронки попала шрапнель. Чудо, что мы остались живы.
Тем временем другие опередили нас. Мы бросились за ними, предоставив раненого его собственной судьбе, но все-таки успели воткнуть рядом с ним дощечку с белым клочком марли – для санитаров, шедших следом за штурмующими. Слева, наискосок от нас, из тумана выросла огромная железнодорожная насыпь Экуст – Круазиль, которую нам нужно было перейти. Из встроенных в штольни амбразур и окон громыхал такой плотный ружейный и пулеметный огонь, будто вывернули большой мешок с горохом.
Куда-то подевался и Финке. Я шел по ущелью, по обоим сторонам которого зияли вдавленные в насыпь блиндажи. В ярости я шагал по черной, вздыбленной земле, еще дымящейся ядовитыми газами наших снарядов. Я был совершенно один. И вдруг я увидел первого врага. Кто-то, по-видимому раненый, опершись руками о землю, корчился шагах в двадцати от меня посреди разгромленной лощины. Я видел, как фигура при моем появлении выпрямилась и уставилась на меня широко раскрытыми глазами, пока я, спрятав лицо за пистолетом, медленно и озлобленно к ней приближался. Готовилась кровавая сцена без зрителей; какое облегчение увидеть наконец врага перед собой воочию. Скрежеща зубами, я приставил дуло к виску несчастного, парализованного страхом, а другой рукой вцепился в его мундир. С жалобным стоном он залез в карман и поднес к моим глазам фотокарточку. Это был его портрет в кругу многочисленной семьи, как некое заклинание из ушедшего, невероятно далекого мира.
Каким-то чудом мне удалось обуздать свою безумную ярость и пройти дальше.
Сверху ко мне в ущелье спрыгнули люди из моей роты. Мне было невыносимо жарко. Я сорвал с себя шинель и швырнул ее кверху. Еще я несколько раз энергично прокричал: «Сейчас лейтенант Юнгер снимет шинель», а стрелки смеялись, будто я говорил нечто весьма остроумное. Наверху все бежали по укрытию, не обращая внимания на пулеметы, находившиеся от нас максимум на расстоянии четырехсот метров. Инстинкт уничтожения тянул меня в эти огненные вихри. Я взобрался на огнедышащую насыпь. В одной из воронок налетел на стреляющую из пистолета фигуру в вельвете. Это был Киус, находившийся в таком же настроении; вместо приветствия он сунул мне целую горсть боеприпасов.
Из этого я заключил, что на своем коротком пути пострелял не мало, потому что перед штурмом запасся патронами основательно. Но об этом отрезке времени у меня не осталось никаких личных воспоминаний. Положение было таково, что от железнодорожной насыпи, высившейся перед нами как могучий крепостной вал, нас отделяло изрытое поле, усеянное сотнями убитых англичан. На этом поле, как в муравейнике, разыгрывались бесчисленные одиночные бои. Позднее Киус сообщил мне подробности, которые я воспринял примерно с таким чувством, будто слышал рассказ третьего лица о диких выходках, совершенных кем-то в угаре. Так, при помощи ручных гранат он гнал какого-то англичанина по участку окопа. Когда гранаты кончились, он заменил их твердыми комьями земли, чтобы держать своего противника все время «на бегу»; пока Киус рассказывал, я стоял на укрытии и давился от смеха.
С такими вот приключениями мы незаметно добрались до насыпи, которая неустанно, как вечный двигатель, расшвыривала огонь. Здесь снова начинаются мои воспоминания, и именно с ощущения чрезвычайно благоприятной боевой обстановки. Пули щадили нас, и так как к насыпи мы стояли вплотную, то из препятствия она превратилась в наше укрытие. Как будто бы очнувшись от глубокого сна, я видел, что по изрытому полю к нам приближаются немецкие каски. Они вырастали из вспаханной огнем земли, как железный посев. Одновременно я видел, что прямо у моей ноги из завешанного мешковиной окна штольни кто-то стрелял. Шум был таким сильным, что мы только по дрожанию дула распознали, что оружие было в действии, – защитник штольни был удален от нас всего лишь на расстояние вытянутой руки. В этой непосредственной близости от врага было наше спасение. В такие мгновения сердце переполняется демонической радостью.
Я выстрелил сквозь материю; солдат, стоявший рядом со мной, сорвал ее и бросил в отверстие гранату. Удар и струящееся оттуда белесое облако не оставляли сомнений в произведенном эффекте. Средство было грубым, но испытанным. Мы побежали вдоль насыпи, чтобы и следующие люки обработать подобным образом и задавить сопротивление. Так мы вырвали главные позвонки из костяка вражеской защиты. Я поднял руку, подавая знак нашим людям, чьи снаряды летели из небольшого отдаления, звоном отдаваясь в ушах. Они радостно закивали. Мы с сотней других тут же взобрались на насыпь. Впервые за всю войну я видел, как одна масса вламывается в другую. Англичане занимали на задней насыпи два окопа, построенных в виде террас. Перестрелка шла на малом расстоянии, гранаты падали, описывая в воздухе высокие траектории.
Я прыгнул в первый окоп; бросившись за ближайшую поперечину, я натолкнулся на английского офицера, на нем был расстегнут мундир и болтался галстук. Отказавшись от пистолета, я схватил его за глотку и швырнул на мешок с песком, перед которым он и рухнул. Сзади появилась седая голова майора, крикнувшего мне: «Добей собаку!»
Я предоставил эту работу следующим, занявшись нижним окопом, который кишел англичанами, и с таким остервенением принялся их расстреливать, что после последнего выстрела нажимал на курок еще раз десять. Солдат возле меня бросал гранаты вдогонку удирающим. Тарелкообразная каска волчком взвилась в воздух.
Бой был решен за минуту. Англичане выскочили из окопов и по открытому пространству ринулись к своим батальонам. С гребня насыпи неистово сыпался преследовавший их бешеный огонь. Бегущие падали навзничь, и за несколько секунд земля покрылась трупами. Уйти удалось немногим.
Испытывая непреодолимую потребность стрелять, я выхватил винтовку у одного унтер-офицера, глазевшего на этот спектакль с разинутым ртом. Моей первой жертвой был англичанин, выдернутый мною с расстояния ста пятидесяти метров из середины между двумя немцами. Он сложился, как перочинный ножик, и остался лежать. Оба немца на миг остановились, недоумевая, откуда пришла помощь, и тут же продолжили свой путь.
Проделав всю работу, двинулись дальше. Успех раскалил агрессивность и бесшабашность каждого до белого каления. О командовании едиными соединениями не было и речи. Несмотря на это, каждый знал только один пароль: «Вперед!» И каждый устремлялся вперед.
Своей мишенью я выбрал небольшую возвышенность, на которой виднелись руины какого-то домика, могильный крест и разбитый аэроплан. Мое упрямое стремление вперед привело меня к огненной стене своего же собственного огневого вала. Я должен был броситься в воронку, чтобы укрыться и переждать дальнейшее шествие огня. Рядом с собой я обнаружил молодого офицера другого полка, который, подобно мне, в одиночку радовался успехам первой атаки. Общее воодушевление за несколько мгновений так сблизило нас, будто мы были знакомы уже много лет. Следующий прыжок разделил нас навеки.
Даже эти жуткие мгновения не обходились без смешного. Солдат по соседству со мной, приставив винтовку к щеке, собрался, как на охоте, подстрелить несчастного зайца, которому вздумалось перебежать через наши линии. Это было так нелепо, что я не мог удержаться от смеха. Нет ничего страшнее, как если какой-нибудь лихач решит еще и позабавиться.
Рядом с развалинами дома находился небольшой окоп, дно которого с той стороны было прочесано пулеметами. Разбежавшись, я прыгнул в него: он оказался незанятым. Тут же появились лейтенанты Киус и фон Ведельштедт. Последний связной Ведельштедта, раненный в глаз, не успел допрыгнуть и рухнул мертвым. Увидев, как подкосило этого последнего из его роты, Ведельштедт уткнулся в стенку окопа и заплакал. Он и сам не дожил до конца дня.
В лощине находилась сильно укрепленная позиция, а перед ней на обоих утолщенных краях лощины – две пулеметные огневые точки. Огненный вал уже прокатился по этой позиции; противник, казалось, отдохнул и палил куда попало. Мы были удалены от него полосой в пятьсот метров, над ней, как рои пчел, жужжали снопами взлетавшие снаряды.
Передохнув, небольшой горсткой мы бросились из своего окопа на врага. Бой шел не на жизнь, а на смерть. Через несколько прыжков мы с моим спутником оказались один на один против левой пулеметной точки. Из-за небольшого земляного вала я отчетливо видел голову в плоской каске и рядом с ней – вьющийся кверху тонкий столбик дыма. Я приблизился короткими прыжками, не теряя времени на прицеливание, и побежал зигзагом, чтобы отвести от себя дуло винтовок. Каждый раз когда я ложился, солдат перебрасывал мне обойму патронов, и мне удалось сделать несколько метких выстрелов. «Патроны! Патроны!» Оглянувшись, я увидел солдата, лежавшего на боку и корчившегося в судорогах.
Слева, где сопротивление не было еще таким сильным, появились несколько человек, которые могли достать обороняющихся ручными гранатами. Последний прыжок – и я, споткнувшись о железную проволоку, полетел в окоп. Англичане, обстреливаемые со всех сторон, побросав оружие, устремились к правому окопу. Пулемет стоял, наполовину спрятанный под огромной грудой латунных гильз. Он был раскаленным и еще дымился. Перед ним лежала фигура атлетического телосложения, которой выстрелом в голову, бывшим на моей совести, выбило глаз. Огромный детина с большим белым глазным яблоком под обуглившимся черепом имел устрашающий вид. Так как мне нестерпимо хотелось пить, то я здесь долго не задержался, а отправился на поиски воды. Одна штольня привлекла меня. Я заглянул внутрь и увидел внизу человека, который раскладывал на коленях патронные ленты, приводя их в порядок. По всей видимости, он еще не подозревал, как изменилась обстановка. Я спокойно прицелился в него, но выстрелил не сразу, как подсказывала осторожность, а сначала выкрикнул: “Come here, hands up!”[38] Он вскочил, обалдело посмотрел на меня и исчез в темноте штольни. Вслед ему я кинул гранату. Вероятно, у штольни был еще один выход, так как за поперечиной появился неизвестный и лаконично объявил: «Со стрелявшими покончено».
Наконец я обнаружил жестяной ящик с прохладной водой. Я большими глотками вливал в себя маслянистую жидкость, наполнил английскую фляжку и уступил место другим, неожиданно заполонившим окоп.
В качестве курьеза упомяну, что когда я очутился в этом пулеметном гнезде, моя первая мысль была о простуде, которой я тогда страдал. Воспаленные миндалины уже с давних пор мучили меня; я тут же схватился за горло и к своему удовольствию обнаружил, что первоклассная парная баня, оставшаяся у меня позади, их излечила.
Тем временем пулеметное гнездо и команда ущелья, лежащего в шестидесяти метрах впереди нас, продолжали жестоко сопротивляться. Парни защищались с истинным блеском. Мы попробовали направить на них английский пулемет, но безуспешно; более того, в то время когда мы пытались сделать это, рядом с моей головой просвистел снаряд, задел стоящего рядом со мной егерь-лейтенанта и опасно ранил в бедро одного солдата. Наряд ручного пулемета, оказавшись удачливей, привел свое орудие на край нашего небольшого окопного полумесяца и вогнал во фланг англичанам целую серию снарядов.
Этим мгновенным замешательством воспользовались нападающие справа и, возглавляемые нашей, пока целой, девятой ротой под командованием лейтенанта Гипкенса, устремились на ущелье. Изо всех воронок поднялись размахивающие винтовками фигуры и с дикими воплями «ура!» атаковали вражескую позицию, из которой с поднятыми руками вышли сотни обороняющихся.
Пощады никому не давали. Англичане с высоко поднятыми руками помчались сквозь первую штурмовую волну назад, где ярость боя еще не достигла точки кипения. Ординарец Гипкенса своим тридцатидвухзарядным пистолетом уложил по крайней мере дюжину. Я смотрел на эту бойню, разыгравшуюся на краю нашего маленького земляного укрепления, с пристальным вниманием, как из театральной ложи.
Здесь я понял, что защитник, с расстояния пяти шагов вгоняющий пули в живот захватчику, на пощаду рассчитывать не может. Боец, которому в момент атаки кровавый туман застилает глаза, не хочет брать пленных, он хочет убивать. Он ничего перед собой не видит и находится в плену властительных первобытных инстинктов. И только вид льющейся крови рассеивает туман в его мозгу; он осматривается, будто проснулся после тяжелого сна. Только тогда он вновь становится сознательным воином и готов к решению новой тактической задачи.
Вот каково было наше состояние после захвата ущелья. Люди разных полков стеклись сюда и, стараясь перекричать друг друга, стояли, плотно сгрудившись. Офицеры тростью указали им на продолжение лощины, и мощная боевая громада с удивительным безразличием продолжила свой марш.
Лощина кончалась возвышением, на котором появились вражеские колонны. Мы продвигались, время от времени останавливаясь и стреляя, пока не были остановлены сильным огнем. Мучительное ощущение, когда у самой твоей головы трещат и врезаются в землю пули! Вернувшийся Киус поднял сплющенный снаряд, упавший в полуметре от его носа. В тот же момент где-то слева от нас снаряд вонзился солдату в каску, эхом прогремев по всей лощине. Мы воспользовались небольшой паузой, чтобы добраться до одной из все реже попадавшихся воронок. Там уже собралось множество офицеров нашего батальона, которым командовал лейтенант Линденберг, так как и барон фон Золемахер на железнодорожной насыпи получил смертельное ранение в живот. На правом склоне ущелья, среди пулеметного огня, разгуливал ко всеобщему веселью откомандированный к нам от 10-го егерского лейтенант Брайер; с длинной охотничьей сигарой во рту и с ружьем, перекинутым через плечо, он помахивал тростью, словно собрался на заячью охоту.
Мы вкратце рассказали друг друг о своих приключениях, предлагая фляжки и шоколад, а потом по «обоюдному желанию» снова двинулись вперед. Пулеметы, угрожаемые, по-видимому, с фланга, исчезли. За это время мы проделали три или четыре километра. Лощина кишела ударными частями. Насколько хватало взгляда, они продвигались цепью, колоннами по одному и по отделениям. К сожалению, мы стояли слишком плотно; сколько мы потеряли во время штурма, на наше счастье, не выяснилось.
Не встретив сопротивления, мы достигли высоты. Из правого окопа выскочили несколько фигур в хаки, в спину которым мы выстреливали с локтя. Большинство из них тут же падали. Высота была укреплена рядом блиндажей. Дымящиеся облака были знаком того, что в отдельных случаях ручные гранаты действовали без церемоний, часть же обитателей выходила с поднятыми руками и дрожащими коленями. У них отнимали фляжки и сигареты и указывали направление в тыл, куда они удирали с величайшей скоростью. Один молодой англичанин уже было сдался мне, как вдруг развернулся и опять исчез в своем блиндаже. Поскольку, несмотря на мое требование выйти, он упорно оставался внизу, мы при помощи гранат покончили с его медлительностью и пошли дальше. Узкая тропинка исчезала по ту сторону высоты. Дорожный знак указывал, что путь ведет во Врокур. Пока другие все еще копошились у блиндажей, мы с лейтенантом Хайнсом перевалили через высоту.
По ту сторону поля лежали руины деревни Врокур. Перед ней вспыхивали выстрелы огневой батареи, расчет которой при первой же штурмовой волне бежал в деревню. Команда, расположенная в нескольких встроенных в ущелье блиндажах, выскочила оттуда и тоже сбежала. Одного я подстрелил в тот момент, когда он выбегал из входа в первый блиндаж. С двумя людьми из своей роты, успевшими доложить о себе, я вошел в ущелье. Справа от него находилась занятая позиция, с ее стороны шла сильная пальба. Мы вернулись в первый блиндаж, и над ним тут же засвистели снаряды обеих партий. По всей видимости, он служил убежищем для связных и велосипедистов батареи. Перед ним лежал мой англичанин, совсем еще молодой паренек; мой выстрел раздробил ему череп. Странно смотреть в глаза человеку, которого застрелил сам.
На усиливающийся огонь мы не обращали внимания, а устроились в блиндаже и поубавили оставшиеся там продукты, поскольку наш желудок напомнил нам, что за время штурма у нас во рту не было и сухой крошки. Мы обнаружили ветчину, белый хлеб, повидло и глиняную бутыль имбирного ликера. Подкрепившись, я уселся на пустую коробку из-под бисквита и полистал несколько английских журналов, напичканных довольно-таки безвкусными выпадами против “the Huns”.[39] Постепенно нам стало скучно, и мы короткими перебежками вернулись к началу ущелья, где уже собралась уйма народу. Оттуда, левей Врокура, виден был батальон 164-го. Мы решили атаковать деревню и снова побежали вперед по ущелью. Недалеко от околицы наша собственная артиллерия, до самого утра упрямо обстреливавшая одно и то же место, преградила нам путь. Тяжелый снаряд разорвался прямо на дороге и убрал четверых. Остальные ринулись назад.
Позднее я узнал, что артиллерия получила приказ продолжать обстрел с дальней дистанции. Это непонятное распоряжение вырвало из наших рук лучшие плоды победы. Стиснув зубы, мы вынуждены были остановиться перед стеной огня.
Чтобы найти брешь в этом пламени, мы снова отправились направо, где ротный командир 76-го пехотного полка как раз начал штурм позиции Врокур. Мы присоединились к ним с криками «ура», но, едва выступив, опять были выбиты собственной же артиллерией. Бранясь, мы заняли несколько воронок, где нам сильно досаждало развязанное гранатами пожарище, из-за которого погибло множество раненых. Английские пули тоже уложили нескольких человек, например ефрейтора моей роты Грютцмахера.
Медленно приближался рассвет. Местами вновь вспыхивал ружейный огонь, постепенно затухая. Измученные бойцы занялись поиском места для ночевки. Офицеры безостановочно выкрикивали свои имена, собирая рассеянные роты.
Двенадцать человек седьмой в течение последнего часа сгруппировались вокруг меня. Поскольку становилось холодно, я повел их в маленький блиндаж, перед которым лежал мой англичанин, и отправил разыскивать среди раненых одеяла и шинели. Расселив всех, я дал волю своему любопытству и заглянул в лежащую перед нами артиллерийскую лощину. Речь шла о частном удовольствии, поэтому я взял с собой стрелка Халлера, имевшего авантюристические наклонности. С винтовками наготове, мы отправились по лощине, в которой все еще свирепствовал наш же собственный огонь, и прежде всего исследовали блиндаж, по-видимому незадолго до этого покинутый английскими офицерами. На одном столе помещался огромный граммофон, который Халлер тотчас включил. Веселая мелодия, спорхнувшая с пластинки, произвела на нас жуткое впечатление. Я швырнул ящик на землю, где он, как зарубленный, издал еще несколько скользящих звуков и затих. Блиндаж был обставлен в высшей степени уютно; не обошлось даже без маленького камина с расставленными вокруг креслами, на его балке лежали табак и курительные трубки. Merry old England![40] He принуждая себя, мы взяли только то, что нам понравилось. Я выбрал себе вещевой мешок, белье, маленькую металлическую бутылку виски, планшет и несколько обворожительных предметов туалета от Рожера и Галле, вероятно нежные воспоминания о фронтовом отпуске в Париже. Видно было, что жильцы убегали в ужасной спешке.
В маленьком помещении по соседству находилась кухня, на ее запасы мы взирали с благоговейным изумлением. Там был ящик с сырыми яйцами, доброе количество которых мы тут же высосали, так как знали о них едва ли не понаслышке. Вдоль стен штабелями лежали мясные консервы, коробки превосходного концентрированного повидла, бутылки с кофейным экстрактом, помидоры и лук – короче говоря, все то, что только может пожелать себе гурман.
Эта картина часто всплывала у меня в памяти, когда мы неделями торчали в окопах на скудном хлебном пайке, водянистом супе и жидком повидле.
Взглянув на экономические условия противника, которым можно было только позавидовать, мы покинули блиндаж и ступили в ущелье, где тут же нашли два новехоньких бесхозных орудия. Груды сверкающей, только что расстрелянной картечи свидетельствовали, что во время атаки и они сказали свое веское слово. Я взял кусок мела и написал на них номер своей роты. Но как показал последующий опыт, преемники вовсе не соблюдали право победителя: каждое отделение стирало отметку предыдущего и заменяло ее своей, пока на обоих орудиях не закрепился знак какой-то шанцевой роты.
Затем мы вернулись, так как наша собственная артиллерия беспрерывно глушила нас своим железом. Передовая линия, пополнившаяся за наше отсутствие вновь прибывшими частями, находилась в двухстах метрах за нами. Я выставил перед блиндажом двойной пост и приказал остальным не выпускать из рук винтовок. Урегулировав порядок смены, наскоро поев и записав в главных словах дневные события, я уснул.
В час мы были подняты криками «ура!» и оживленным огнем справа. Схватив винтовки, мы выбежали из помещения и расположились в большой воронке. С передовой пришли несколько немцев, обстрелянных из нашей линии. Двое из них остались лежать на дороге. Наученные этим происшествием, мы подождали, пока сзади уляжется первое возбуждение, согласовали, перекрикиваясь, свои действия и вернулись на линию. Там находился раненный в руку командир второй роты лейтенант Козик, который из-за простуды не мог открыть рта, и с ним примерно шестьдесят людей 73-го. Поскольку он должен был идти на перевязочный пункт, я принял команду его отрядом, в котором было три офицера. В составе полка имелись еще два таких же наскоро составленных подразделения Гипкенса и Форбека.
Остаток ночи я провел с несколькими унтер-офицерами второй роты в небольшой норе, где мы окоченели от холода. Утром я позавтракал трофейными продуктами и послал людей в Кеант, чтобы они принесли из кухни кофе и еду. Наша артиллерия снова принялась за свою проклятую пальбу и вместо утреннего приветствия всадила прямо нам в воронку снаряд, стоивший жизни четырем людям пулеметной роты. Рано на рассвете взводный командир моей роты, вице-фельдфебель Кумпарт, с несколькими людьми присоединился к нашему отряду.
Едва я вытолкнул ночной холод из своих членов, как получил приказ вместе с остатками 76-го атаковать позицию Врокур, уже частично занятую нами, дальше по правому флангу. В густом утреннем тумане мы потянулись на исходную позицию – высоту южнее Экуста, усеянную убитыми накануне. Как это часто бывает из-за нечетко понятых приказов, начались бесконечные препирательства командиров, тут же прерванные очередью вражеского пулемета. Все прыгнули в соседнюю воронку, за исключением фельдфебеля Кумпарта, со стоном повалившегося наземь. Я поспешил к нему вместе с санитаром, чтобы перевязать. Снаряд угодил ему в колено, тяжело ранив. Щипцами мы удалили из раны уйму мелких костей. Через несколько дней он скончался. Я был особенно удручен, потому что три года назад, в Рекуврансе, Кумпарт учил меня строевой подготовке.
На совещании с капитаном фон Ледебуром, принявшим командование нашими сборными соединениями, я доказывал бессмысленность лобовой атаки, так как позицию Врокур, которой мы уже частично завладели, можно было атаковать слева с гораздо меньшими потерями. Мы решили не проводить операцию, и последующие события показали, что мы были правы.
Временно мы разместились в воронках на высоте. Солнце прорезало утреннюю дымку, и тут же появились английские аэропланы, которые начали поливать наши норы пулеметным огнем, но вскоре мы их разогнали. Из района Экуста выехала батарея, – зрелище, необычное для старых окопных вояк; через некоторое время она была расстреляна. Вырвавшаяся одиночная лошадь галопировала по полю; взбесившееся животное на бесконечной, пустынной равнине, обложенной изменчивыми облаками снарядов, производило зловещее впечатление. Еще не скрылись вражеские летчики, как по нам ударили первые залпы. Сперва лопалась шрапнель, потом стали рваться бесчисленные легкие и тяжелые снаряды. Мы лежали, как на блюде. Огонь привлекали и трусоватые натуры, безмозгло бегая туда-сюда, вместо того чтобы, забившись в свои воронки, отдать себя на волю провидения. В таких ситуациях нужно быть фаталистом. Такую мысль я одобрил, опорожнив великолепное содержимое трофейной банки с черносмородинным повидлом. Кроме того, я натянул на себя чулки из шотландской шерсти, которые раздобыл в блиндаже. За такими занятиями меня застал полдень.
Уже долгое время слева на позиции Врокур шло какое-то движение. Прямо перед собой мы увидели дугообразный полет и белый взрыв немецкой ручной гранаты. Это был тот самый момент, которого мы ждали.
Я приказал наступать; точнее говоря, подняв правую руку, просто двинулся на позицию. Избежав сильного обстрела, мы достигли вражеского окопа и прыгнули в него, радостно встреченные штурмовым отрядом 76-го полка. Постепенно разворачивающаяся гранатная атака, как и в Камбре, шла медленно. Для вражеской артиллерии не долго оставалось тайной, что мы упорно въедаемся в ее линии. Сильный шрапнельный огонь и легкие снаряды захватили нас как раз спереди, но в большей мере досталось подкреплениям, шедшим за нами и стекавшимся по направлению к окопу. Заметно было, что канониры трамбовали нас снарядами, ведя прямое наблюдение. Это нас здорово подстегивало: мы старались поскорее разделаться с неприятелем, чтобы прекратить огонь.
Позиция Врокур, по-видимому, еще строилась, так как некоторые части окопов были пока обозначены только срезанным с них дерном. Когда мы пересекали такие участки, весь огонь в округе сосредоточивался на нас. И мы в свою очередь точно так же целились в противника, спешащего перед нами по дорогам смерти, так что вскоре эти небольшие, попавшие под прицел участки покрылись трупами. Шла дикая охота, сопровождаемая тучами шрапнели. Мы пробегали мимо еще теплых, кряжистых тел, из-под коротких мундирчиков которых блестели крепкие коленки, или перелезали через них. Это были шотландские горцы, и, как показывало их сопротивление, трусостью они не отличались.
Пробежав метров сто, мы были остановлены усиливающимся огнем гранатометов. Люди начали отступать.
– Томми пошел в атаку!
– Стой!
– Мне бы только найти своих!
– Где гранаты? Гранаты, гранаты!
– Осторожно, герр лейтенант!
Именно в окопной войне, где идет самое отчаянное сражение, такие неудачи бывают чаще всего. Самые храбрые, стреляя и бросая гранаты, устремляются вперед, увлекая всех за собой. Масса следует за ними по пятам, как безвольное стадо. При столкновении с неприятелем бойцы начинают метаться, спасаясь от расстрела, и натыкаются при этом на теснящих сзади. Только те, кто впереди, держат обстановку в поле зрения; сзади же, среди зажатой окопом толпы, начинается дикая паника. Кто-то еще пытается перепрыгнуть через укрытие и тут же, к несказанной радости противника, получает пулю. Если тот не зевает, считай, что все потеряно; теперь дело за командиром, он должен доказать, что недаром носит погоны, хотя и его не минует хорошо знакомое воину кисленькое чувство страха.
Мне удалось собрать горстку людей и за широкой поперечиной устроить с ними гнездо сопротивления. На расстоянии нескольких метров мы обменивались выстрелами с невидимым противником. Требовалось мужество, чтобы не опускать голову перед грохочущими разрывами, выхлестывающими вверх песок из поперечины. Возле меня солдат из 76-го с диким выражением лица, забыв об осторожности, выпускал один патрон за другим, пока не упал, истекая кровью. Снаряд, взрыв которого походил на треск раскалываемой доски, пробуравил ему лоб. Он так и поник в своем углу, скрючившись и уткнувшись головой в стену. Кровь хлестала из него, как из ведра, растекаясь по дну окопа. Его хрипы слышались все реже и реже, пока не стихли совсем. Я схватил его винтовку и продолжил стрельбу. Наконец наступила пауза. Двое солдат, еще находившихся перед нами, попытались перескочить через укрытие. Один, получив выстрел в голову, упал в окоп; другой, раненный в живот, с трудом еще смог доползти до него.
Пережидая, мы уселись на дно окопа и закурили английские сигареты. Время от времени над нами пролетали пули, пущенные метко, как стрела. Раненый с пулей в животе, совсем еще мальчик, лежал между нами и блаженно потягивался, как кошка в теплых лучах заходящего солнца. По-детски улыбаясь, он заснул прямо в смерть. Это зрелище не таило в себе ничего печального или неприятного, а вызывало только светлое чувство симпатии к умирающему. Стоны его товарища тоже постепенно затихли. После нескольких приступов лихорадки он скончался у нас на руках.
Несколько раз, сгорбившись и переползая через трупы горцев, мы пытались продвинуться по обстреливаемым местам, но всякий раз пулеметный огонь и пули отбрасывались назад. Каждый снаряд, пролетавший у меня перед глазами, был смертельным. Так, передняя часть окопа наполнилась трупами; на их место с тыла непрерывно шли подкрепления. Вскоре за каждой поперечиной стоял ручной или станковый пулемет. Я тоже встал за одну из таких пулебрызгалок и стрелял, пока указательный палец не почернел от дыма. Среди прочих я угостил свинцом шотландца, приславшего мне после войны трогательное письмо из Глазго, в котором он точно описал место, где был ранен. Когда антифриз испарялся, по рядам пускали жестянки и с грубоватыми шуточками снова наполняли их простым и естественным способом.
Солнце стояло низко на горизонте. Второй день боя подходил к концу. Впервые я внимательно осмотрел местность и отправил в тыл чертеж и донесение, вновь потрясенный мыслью: Господи, ты не только воин, ты и солдат! Наш окоп на расстоянии пятисот метров перерезал шоссе Врокур – Мори, замаскированное прикрепленными к деревьям матерчатыми заслонами. Сзади по косогору бежали вражеские части, густо осыпаемые пулями. Голубое, безоблачное вечернее небо прорезала эскадрилья с черно-бело-красным вымпелом. Последние лучи заходящего солнца окрашивали ее в нежные розовые тона, уподобляя стае фламинго. Мы развернули карты и положили их белой изнанкой вверх, чтобы показать, как глубоко мы внедрились в позиции противника.
Прохладный вечерний ветер предвещал морозную ночь. Завернувшись в теплую английскую шинель, я прислонился к стене окопа и беседовал с маленьким Шульцем, спутником моего «индийского» патруля, который, захватив четыре тяжелых пулемета, по древнему товарищескому обычаю появлялся там, где сильнее всего пахло порохом. На постах люди из всех рот с юными, резко очерченными лицами, глядевшими из-под касок, наблюдали за вражескими позициями. Из сумрака окопа я видел их неподвижные фигуры, застывшие, как на сторожевых башнях. Они остались без командиров; по собственному побуждению они стояли на нужном месте. Именно на таких передовых постах и еще в минуты отдыха после кровавого дня воинский дух великой расы ощущался во всей своей чистоте, и ни в каком месте Земли чувство уверенности не могло быть глубже, чем здесь.
Мы уже приготовились к ночной обороне. Я положил рядом с собой пистолет и дюжину лимонок и готов был встретить любого пришельца, пусть это был хотя бы и твердолобый шотландец.
Справа опять раздался грохот ручных гранат и с левого фланга в воздух поднялись немецкие осветительные ракеты. Откуда-то ветер принес жиденькое, многоголосое «ура». Это нас подогрело. «Они окружены, окружены!» В один из таких моментов воодушевления, которые предшествуют великим деяниям, все схватились за винтовки и устремились вперед по окопу. После короткого гранатного боя группа горцев ринулась к шоссе. Удержать уже никого было нельзя. Несмотря на предостерегающие окрики: «Осторожно, левый пулемет еще стреляет!» – мы выпрыгнули из окопа и вмиг достигли шоссе, кишащее растерянными горцами. Длинная, плотная колючая проволока загораживала им отступление, так что под бурные крики «ура», которые, как глас Страшного Суда, гудели у них в ушах, и, теснимые бешеным стремительным огнем с расстояния в пятьдесят метров, они удирали наискосок от нас, как затравленная дичь. Вмиг установленные пулеметы превращали бойню в прямое уничтожение.
Толчея на шоссе была невообразимой. Жертвы валились, как подкошенные, под дикие вопли ликования, треск ружейного огня и глухой грохот ручных гранат. Наше превосходство возрастало с каждым мгновением, так как в нашу ударную часть, разбросанную атакой по большому пространству, широким клином вливались плотные подкрепления.
Достигнув шоссе, я взглянул на него с нашей стороны, стоя на крутой насыпи. Шотландская позиция тянулась по углубленному рву вдоль противоположной стороны шоссе и располагалась, таким образом, под нами. Однако в эти первые секунды она не попадала в поле нашего зрения; та огромная мишень, которую представляли собой мчавшиеся вдоль проволоки горцы, стирала все остальные детали. Мы залегли на гребне насыпи и открыли огонь. Это было одним из тех редких мгновений, когда загоняешь неприятеля в щель, а сам горишь желанием бесконечно размножиться.
Проклиная возню с зарядом, мешавшую мне стрелять, я вдруг почувствовал энергичное похлопывание по плечу. Обернувшись, я увидел разгневанное лицо маленького Шульца. «Все еще стреляют, проклятые свиньи!» Я последовал за его жестом и только тогда в маленьком окопном лабиринте, отделенном от нас линией шоссе, приметил группу лихорадочно стреляющих фигур: одни из них заряжали, другие, приставив винтовки к щеке, прицеливались. Справа уже полетели первые ручные гранаты, взметнув туловище одного из них высоко в воздух.
Благоразумие подсказывало остаться на месте и спокойно выбить противника несколькими выстрелами. Вместо этого я бросил свою винтовку и со сжатыми кулаками бросился на шоссе между обеими партиями. На свою беду я все еще был в английской шинели и фуражке с красным околышем. Оказаться во вражеском стане в облачении врага! Среди победного ликования я почувствовал резкий удар в левую сторону груди; вокруг меня настала ночь. Конец!
Я был уверен, что ранен в сердце, но в ожидании смерти не ощущал ни боли, ни страха. К своему удивлению сразу же поднявшись и не обнаружив в гимнастерке даже дыры, я снова устремился на врага. Солдат моей роты подбежал ко мне: «Герр лейтенант, снимите шинель!» – и сорвал с меня это опасное одеяние.
Новое «ура» разорвало воздух. Справа, где уже во всю орудовали ручными гранатами, с другой стороны шоссе ко мне на помощь перебежала группа немцев, предводительствуемая молодым офицером в коричневом вельвете. Это был Киус. На свое счастье он перескочил через проволочную препону как раз в тот момент, когда английский пулемет дал свою последнюю очередь. И огненный сноп брызнул через него, – да так сильно, что снаряд распорол бумажник, лежавший у него в кармане. Шотландцы за несколько яростных мгновений были уничтожены выстрелами и ручными гранатами. Пространство вокруг шоссе было покрыто трупами, а вдогонку уцелевшим летел беспощадный огонь.
За те секунды, что я был без сознания, судьба настигла и маленького Шульца. Как я узнал позже, в ярости, заразившей и меня, он прыгнул в окоп, продолжая неистовствовать. Когда шотландец, уже отстегнувший ремень, увидел, в каком состоянии тот устремился на него, то поднял с земли кем-то брошенную винтовку и уложил Шульца смертельным выстрелом.
Я стоял, беседуя с Киусом, в завоеванном и наполненном гранатным чадом участке окопа. Мы обсуждали, как завладеть орудиями, которые должны были находиться неподалеку. «Ты ранен? У тебя из-под мундира течет кровь!» Действительно, я ощущал удивительную легкость и что-то влажное у себя на груди. Мы сорвали гимнастерку и обнаружили, что снаряд прошел сквозь грудную клетку прямо под Железным Крестом наискосок от сердца. Четко виднелось входное отверстие с правой стороны и выходное – с левой. Так как я перебегал через шоссе под острым углом слева направо, свой же принял меня за англичанина и выстрелил с расстояния в несколько шагов. Я сильно сердился на того, кто сорвал с меня шинель, тем не менее он, если можно так выразиться, хотел добра, и настоящая вина лежала на мне самом.
Киус наложил мне повязку и с трудом уговорил покинуть поле. Мы расстались, сказав друг другу единственное: «До встречи в Ганновере!».
Я выбрал себе спутника, разыскал на шоссе, все еще лежавшем под сильным обстрелом, свой планшет, который мой неизвестный радетель сорвал с меня вместе с английской шинелью и в котором хранился и мой дневник, и через окоп, где не прекращалась битва, отправился в тыл.
Наши боевые клики были столь мощными, что вражеская артиллерия развернула свои удары. На всем пространстве позади шоссе и над самим окопом лежал заградительный огонь редкой плотности. Поскольку мне вполне хватало моего ранения, то короткими перебежками от поперечины к поперечине я стал продвигаться в тыл.
Вдруг рядом со мной у края окопа раздался оглушительный грохот. Я получил удар в затылок и, потеряв сознание, упал ничком. Когда я очнулся, то обнаружил, что висел головой вниз, перекинувшись через салазки станкового пулемета и неподвижно глядя в пугающе быстро растущую красную лужу на дне окопа.
Кровь из раны так безудержно хлестала на землю, что я потерял всякую надежду. Однако мой спутник уверил меня, что мозг пока не виден, поэтому я встал и пошел дальше. Так я расквитался за свое легкомыслие, отправившись в бой без каски.
Несмотря на двойную потерю крови, я был сильно возбужден и, словно одержимый навязчивой идеей, заклинал каждого, кто мне попадался по дороге, бежать на передовую, чтобы принять участие в сражении. Вскоре мы ушли из зоны легких полевых орудий и замедлили свой бег, так как те единичные тяжелые осколки, которые еще падали, могли подстрелить разве что какого-нибудь бедолагу.
В Норейском ущелье я зашел на боевой пост бригады, доложил о себе генерал-майору Хебелю, отрапортовал ему о нашем успехе и попросил послать на помощь штурмующим подкрепление. Генерал сообщил мне, что на боевых постах я уже со вчерашнего дня числюсь мертвым. На этой войне такое бывало не раз. Вероятно, кто-то видел, как я во время штурма первого окопа упал вблизи той шрапнели, что ранила Хааке.
В Норее у самой дороги пылали сложенные высоким штабелем ящики с ручными гранатами. В смятении мы пробежали мимо. За деревней один шофер взял меня в свой пустой автомобиль для перевозки боеприпасов. Я крупно повздорил с командиром обоза, который хотел выбросить из машины двух раненых англичан, поддерживавших меня последнюю часть пути.
На шоссе Норей – Кеант царило необычайное оживление. Кто не видел этого, не может составить себе представления о нескончаемых, тянущихся друг за другом обозах – кормильцах великого наступления. За Кеантом сутолока возросла до фантастических размеров. Проходя мимо домика маленькой Жанны д'Арк, тягостно было видеть, что от него не осталось даже фундамента.
Я обратился к одному из офицеров службы военных сообщений, которого можно было узнать по белым повязкам; он посадил меня в легковой автомобиль, ехавший в полевой лазарет Соши-Коши. Нам часто приходилось ждать по полчаса, когда дорогу преграждали поставленные друг на друга машины и автомобили. Хотя врачей в операционной буквально лихорадило, хирург успел подивиться удачной форме моих ранений. Пуля, попавшая в голову, тоже прошла навылет, так что черепная коробка осталась цела. Гораздо болезненней самих ранений, которые я ощутил только как глухие удары, была их обработка, предпринятая санитаром, после того как врач с игривой элегантностью прощупал зондом оба простреленных канала. Обработка состояла в том, что мне, без мыла и тупым ножом, тщательно выбрили голову вокруг раны.
Отлично выспавшись за ночь, на следующее утро я был отправлен на сборный медицинский пункт в Кантен, где к своей радости встретил лейтенанта Шпренгера, которого не видел с начала штурма. Он был ранен артиллерийским снарядом в левое бедро. Здесь я нашел и свои вещи, – еще одно доказательство преданности Финке. После того как он потерял меня из виду, он был ранен на железнодорожной насыпи. Но прежде чем отправиться в лазарет и оттуда – в свою вестфальскую усадьбу, он не успокоился, пока не узнал, что вещи находятся в моих руках. И в этом вся его сущность; он был скорее не денщиком, а моим старым товарищем. Сколько раз, когда довольствие становилось скудным, я находил на своем столе кусок масла «от человека из роты, пожелавшего остаться неизвестным», но угадать его было легко. У него, как, например, у Халлера, не было авантюрной жилки, но он следовал за мной в бою, как один из древних вассалов, и рассматривал свою службу как заботу о моей персоне. Много лет спустя, уже после войны, он попросил у меня фотографию, «дабы рассказать внукам о своем лейтенанте». Я благодарен ему за возможность взглянуть на те дремлющие силы, которые народ поставляет войне в образе солдата ландвера.
После краткого пребывания в баварском лазарете Монтиньи меня погрузили в Дуэ на санитарный поезд и я поехал в Берлин. Там мое шестое двойное ранение за две недели зажило так же хорошо, как и все предыдущие. Неприятен был только непрерывный и резкий звон в ушах. В течение нескольких недель он становился все глуше и наконец стих совсем.
Лишь в Ганновере я узнал, что, как уже писал выше, во время рукопашной среди других моих знакомых погиб и маленький Шульц. Киус отделался безобидным ранением в живот. К сожалению, при этом разбилась и кассета, содержавшая целый ряд снимков штурма железнодорожной насыпи.
Кто наблюдал за нашей дружеской пирушкой в маленьком ганноверском кафе, на которой присутствовали и мой брат со своей контуженной рукой, и Бахманн со своим контуженным коленом, едва ли мог подумать, что мы расстались друг с другом две недели тому назад совсем под другую музыку, чем веселое хлопанье пробок.
Английские удары
4 июня 1918 года я опять столкнулся с полком, разместившимся на отдых в теперь уже задвинутой за линию фронта деревне Врокур. Новый командир, майор фон Люттихау, передал мне командование моей седьмой ротой.
Когда я приблизился к квартирам, люди выбежали мне навстречу, выхватили вещи и встретили меня с триумфом. Я, казалось, вернулся в свой семейный круг.
Мы проживали в краале, состоящем из бараков рифленого железа, посреди густо заросших лугов, в зелени которых мерцали бесчисленные желтые цветочки. Пустынная равнина, окрещенная нами «меринландией», была заполнена табунами пасущихся лошадей. Выходящий за порог своей хижины сразу ощущал сосущее чувство пустоты, какое, должно быть, временами охватывает ковбоя, бедуина и прочих обитателей пустыни. Вечерами мы совершали долгие прогулки в окрестности бараков в поисках гнезд с яйцами рябчиков или спрятанной в траве военной техники. Однажды в полдень я верхом проехался по ложбине под Врокуром, еще два месяца назад бывшей местом ожесточенной борьбы. Ее окраины были усеяны могилами, на которых мне не раз попадались знакомые имена.
Вскоре полк получил приказ занять переднюю линию позиции, защищающей деревню Пюизье-о-Мон. Ночью мы ехали на грузовых автомобилях до Ашье-ле-Гран. Приходилось часто останавливаться, так как яркие шары светящих парашютных бомб с ночных бомбардировщиков выхватывали из тьмы белую ленту дороги. Повсюду разнообразный свист летящих тяжелых снарядов перекрывался громовыми раскатами разрывов. Прожектора неуверенно ощупывали темное небо в поисках ночных стервятников. Шрапнель распускалась нежной игрушкой, а трассирующие пули мчались одна за другой длинными звеньями, подобно стае огненных волков.
Стойкий трупный запах висел над захваченной землей, то более то менее овладевая сознанием, как привет из некой жуткой страны.
– Запах наступления, – услышал я рядом с собой голос старого фронтовика, когда мы какое-то время ехали, как мне казалось, по аллее братских могил.
От Ашье-ле-Грана мы шли железнодорожной насыпью, ведущей на Бапом, а затем через поле к позиции. Огонь был в самом разгаре. Когда мы на мгновение остановились передохнуть, рядом разорвались два снаряда средней тяжести. Память о кошмарной ночи 19 марта заставила нас уносить ноги. Сразу за передней линией стояла смененная, шумно галдящая рота; мимо нее случай провел нас как раз в тот момент, когда дюжины шрапнельных разрывов оборвали этот гам. С отчаянной бранью мои люди повалились в ближайшую траншею. Троим, истекая кровью, пришлось возвращаться в санитарный блиндаж.
В 3 часа, совершенно обессилевший, я очутился в своем блиндаже, мучительная теснота которого обещала мне в ближайшем будущем череду малопривлекательных дней.
Красноватое пламя свечи колыхалось в плотном облаке дыма. Я перебрался через чьи-то ноги, пробудив волшебным словом «Смена!» жизнь в этой дыре. Из похожей на жерло печи норы донеслась куча проклятий, затем приблизилось небритое лицо, изъеденные ярь-медянкой плечи, ветхий мундир, два глиняных обрубка, в которых я распознал сапоги. Мы сели за шаткий стол и уладили все дела с передачей, причем каждый старался надуть другого на дюжину-другую пайков или несколько ракетниц. Наконец мой предшественник выдрался через узкую горловину штольни наружу, напророчив мне напоследок, что мерзкая дыра не протянет и трех дней. И я остался новым командиром участка А.
Позиция, которую я осмотрел на следующий день, радовала мало. Прямо у блиндажа я встретил двух окровавленных дежурных, раненных на подступах зарядом шрапнели. Через несколько шагов к ним добавился стрелок Аренс, задетый рикошетом.
Перед нами была деревня Букуа, за спиной – Пюизье-о-Мон. Рота занимала неэшелонированную позицию на узкой передней линии и справа была отделена от 76-го пехотного полка большой незанятой пустошью. Левое крыло полкового участка смыкалось с изрубленным леском, рощей 125. Согласно приказу штолен не было. Ютились по двое в крошечных землянках, подпертых так называемой жестью «Зигфрид». Это была согнутая в дугу рифленая жесть, приблизительно метр высотой, ее листами мы подпирали наши узкие, похожие на лаз убежища.
Поскольку мой блиндаж находился совсем на другом участке, первым делом я высмотрел себе новое обиталище. Похожее на хижину строение в заброшенном окопе показалось мне вполне сносным, после того как я привел в обороноспособное состояние весь натащенный туда мною смертоносный инвентарь. Там со своим денщиком я вел жизнь отшельника на природе, лишь изредка прерываемую приходами связных и ординарцев, которые сами несли в эту уединенную пещеру обстоятельные фронтовые газеты. Так, между взрывами двух снарядов, среди прочих полезных известий, можно было прочесть новость, что у коменданта местечка X. сбежал черный пятнистый терьер, отзывающийся на имя Циппи, или, не без ощущения мрачного юмора, углубиться в чтение иска по алиментам горничной Макебен к ефрейтору Майеру. Всякие карикатуры и срочные сообщения обеспечивали необходимое разнообразие.
Вернемся, однако, к моему убежищу, которому я присвоил прекрасное имя «Дом-мечта». Меня заботил только козырек прикрытия, лишь относительно защищавший от снарядов, то есть до тех пор, пока не было прямого попадания. Единственным утешением была мысль о том, что мои люди не в лучшем положении. Каждый раз в полдень денщик стелил мне одеяло в гигантской воронке, к которой мы прорыли ход, чтобы принимать там солнечные ванны. Иногда мое лежание на солнце нарушалось близким разрывом снаряда или жужжанием осколков, летящих сверху от обстрелов воздушного противника.
Ночные обстрелы обрушивались на нас короткими буйными летними грозами. Во время них я лежал на устланных свежей травой нарах со своеобразным, неизвестно откуда взявшимся ощущением безопасности и вслушивался в ближние разрывы, от которых по сотрясавшимся стенам струился песок, или выходил наружу и глядел с поста на грустный ночной ландшафт, представлявший собой невыразимо странный контраст с плясками огня, ареной которым он служил.
В эти минуты в меня закрадывалось чувство, до сих пор мне чуждое: глубокая перемена в ощущении войны, происходящая от затянувшейся на краю бездны жизни. Сменялись времена года, приходила зима и снова лето, а бои все шли. Все устали и притерпелись к лику войны, но именно эта привычка заставляла видеть все происходящее в совершенно другом, тусклом свете. Никого больше не ослепляла мощь ее проявлений. Чувствовалось, что смысл, с которым в нее вступали, иссяк и не удовлетворяет больше, – борьба же требовала все новых суровых жертв. Война подбрасывала все более сложные загадки. Странное это было время.
Передней линии приходилось относительно мало страдать от вражеского огня; противнику было ясно: так или иначе нам ее не удержать. Главным образом Пюизье и соседние лощины находились под огнем, вечерами выраставшим до шквалов невероятной плотности. Доставка пищи и смена подвергались тем самым особой опасности. То там то здесь случайным попаданием вырывало какое-нибудь звено из нашей цепи.
14 июня в 2 часа утра меня сменил Киус, тоже вернувшийся и командовавший второй ротой. Часы затишья мы проводили у железнодорожной насыпи Ашье-ле-Гран, защищавшей от огня наши бараки и блиндажи. Англичане часто применяли сильный низкий огонь, жертвой которого пал также фельдфебель третьей роты Ракебранд. Его убило осколком, пробившим тонкую стенку грубо сколоченного барака на гребне насыпи, где он устроил себе канцелярию. За несколько дней до этого уже случилось большое несчастье: один летчик сбросил бомбу прямо в группу слушателей, окруживших оркестр 76-го пехотного полка. Среди убитых были многие из нашего полка.
Вблизи железнодорожного полотна, словно выброшенные на берег корабли, лежали многочисленные обгоревшие танки, во время прогулок я их внимательно изучал. Иногда возле них я собирал свою роту на занятия по изучению обороны, тактики и уязвимых мест этих все чаще появлявшихся в технических сражениях боевых слонов. На некоторых виднелись смешные, грозные или приносящие удачу имена, символы и боевая раскраска. Здесь были и листок клевера, и поросенок на счастье, и белая мертвая голова. Была даже виселица, с которой свисала раскрытая петля, – танк назывался «Судья Жеффриз». Но все они были плохо устроены. Узкая, открытая выстрелам бронированная башня с начинкой из трубок, штанг и проводов в бою была крайне неуютным местом пребывания. Когда колоссы, стремясь увернуться от огневых ударов артиллерии, подобно неуклюжим гигантским жукам перекатывались по дуге на поле брани, я живо представлял себе этих людей в огненной духовке. Кроме этого, местность была усеяна множеством остовов сгоревших аэропланов, – свидетельство того, что машины все чаще участвовали в боях. Однажды в полдень вблизи нас раскрылся гигантский белый купол парашюта, с которым пилот выпрыгнул из своего горящего аэроплана.
Утром 18 июня седьмая рота, ввиду неясности ситуации, уже опять двигалась к Пюизье, чтобы поступить в распоряжение командира войсковых соединений на предмет тактических передвижений и перемещения техники. Мы заняли находящиеся у выезда на Букуа погреба и штольни. Как только мы пришли, группа снарядов ударила по окрестным садам. Но несмотря на это, я не мог отказаться от завтрака в маленькой беседке у входа в мою штольню. Через какое-то время опять послышался приближающийся свист. Я бросился на землю. Рядом вспыхнуло пламя. Санитар моей роты по имени Кенциора, только что принесший несколько котелков с водой, рухнул раненный в низ живота. Я подбежал к нему и с помощью одного сигнальщика утащил в санитарную штольню, вход в которую, к счастью, находился прямо у места взрыва.
– Ну что, неплохо Вы позавтракали? – спросил доктор Кеппен, старый войсковой врач, в чьих руках и я не раз побывал, перевязывая Кенциоре большую рану на животе.
– Да, полный котелок лапши, – скулил несчастный, ловя хоть искру надежды.
– Ну-ну, все будет хорошо, – утешил его Кеппен, кивнув мне с выражением большого сомнения на лице.
Но тяжелораненых трудно обмануть. Внезапно он громко застонал, большие капли пота выступили у него на лбу: «Пуля смертельная, я это точно знаю». Несмотря на такое пророчество, полгода спустя я пожимал ему руку при въезде в Ганновер.
После полудня я совершил одинокую прогулку по совершенно разрушенному Пюизье. Деревню измолотили в кучу развалин еще в летних сражениях. Воронки и остатки стен густо заросли зеленью, и повсюду из нее светились белые шапки облюбовавшей руины бузины. Многочисленные свежие воронки разрывали этот стелющийся покров и вновь обнажали уже многократно перепаханную землю.
Деревенская улица была усеяна всяким военным мусором угасшего наступления. Разбитые повозки, выброшенные боеприпасы, средства ближнего боя, утратившие очертания, полуразложившиеся трупы лошадей, окруженные роями снующих мух, – яркое свидетельство бренности всех вещей в жизни и в борьбе. Торчащая на высоком месте церковь представляла собой груду пустынных развалин. Пока я срывал дивные одичавшие розы, рвущиеся неподалеку снаряды напоминали мне об осторожности в том месте, где плясала смерть.
Спустя несколько дней мы сменили девятую роту на главной линии обороны, лежавшей приблизительно в пятистах метрах от передовой. При этом ранило несколько человек из моей седьмой. На следующее утро рядом с моим блиндажом капитан фон Ледебур шрапнельной пулей был ранен в стопу. Страдавший болезнью легких, в бою он знал свое дело. И вот ему суждено было погибнуть от ничтожной раны. Вскоре он умер в лазарете. 28-го гранатным осколком был убит старший разносчик пищи сержант Грунер. Это была девятая потеря в роте за такое короткое время.
После того как мы провели неделю на передней линии, нам предстояло занять еще и основную линию обороны, так как сменный батальон был фактически расформирован из-за испанки. Среди наших людей также ежедневно объявлялись новые больные. В дивизии у соседей грипп свирепствовал так, что вражеский пилот сбросил листовку, в которой было сказано, что если войска сейчас же не уберутся, замену произведут англичане. Нам стало ясно, что эпидемия все больше и больше распространяется и на стороне противника. Остро встала и проблема пайков. За ночь смерть уносила совсем молодых людей. При этом нам следовало быть в постоянной боевой готовности, так как над рощей 125, словно над зловещим чугунком, все время стояло облако черного дыма. Обстрел был таким плотным, что в безветренный полдень взрывные газы отравили часть шестой роты. Словно ныряльщикам, нам приходилось с кислородными аппаратами спускаться в штольни, чтобы извлекать оттуда потерявших сознание. У них были багровые лица и дышали они словно в горячечном сне.
Однажды днем, обходя свой участок, я нашел несколько зарытых ящиков, полных английских боеприпасов. Чтобы изучить устройство ружейной гранаты, я развинтил ее и вынул капсюль. Внутри еще осталось что-то, что я посчитал пистоном. Но когда я хотел поддеть его ногтем, оказалось, что эта штука – второй взрыватель; он с грохотом разлетелся, оторвав мне кончик указательного пальца и нанеся несколько кровоточащих отметин на лице.
В тот же вечер, когда я стоял с подрывниками на прикрытии моего блиндажа, вблизи разорвался тяжелый снаряд. Мы заспорили о расстоянии. Взрыватели называли десять, я – тридцать метров. Чтобы проверить, насколько верны мои данные, я стал замерять; результат оказался неутешительным: воронка оказалась в 22-х метрах от нашего блиндажа. Часто совершаешь ошибку, недооценивая расстояние.
20 июля мы с ротой опять находились в Пюизье. Всю вторую половину дня я стоял на остатке стены и разглядывал весьма подозрительную картину сражения.
Роща 125 под мощным обстрелом была окутана плотным дымом, взлетали и падали зеленые и красные ракеты. Иногда артиллерийский огонь замолкал, тогда слышались таканье пулеметов и глухие разрывы гранат. С моего места все это было больше похоже на игру. Не было размаха большого боя. Но все же чувствовалось ожесточенное противостояние двух железных сил.
Роща была пульсирующей раной, на которой сосредоточилось внимание невидимых противников. Обе артиллерии играли с ней, как двое хищников, делящих добычу. Они терзали стволы дубов, и их ошметки летели в воздух. В роще оставалось всего лишь несколько защитников, но они держались долго и, как было очевидно на этой мертвой равнине, стали ярким примером того, что здесь, как и во все времена, любое столкновение борющихся сил есть мерило значительности участвующих в нем людей.
Вечером меня вызвали к командиру дежурной части, где я узнал, что противник проник в сеть наших траншей на левом фланге. Чтобы вновь создать полосу обеспечения, лейтенанту Петерсену со штурмовой группой было приказано расчистить траншею Хекенграбен, а мне с моими людьми – параллельный ей подступ к лощине.
Мы выступили в утреннюю рань, но сразу же по выходе на наши штурмовые рубежи нас встретил такой огонь пехоты, что мы решили на время оставить выполнение задачи. Я велел залечь в Эльбингскую траншею и в огромной, как пещера, штольне стал досыпать недобранное за ночь. В 11 часов утра меня разбудил грохот ручных гранат на левом фланге, где мы занимали баррикаду. Я поспешил туда и попал в обычный баррикадный бой. У шанцевых укреплений клубились белые облака гранатных взрывов. Позади, на расстоянии нескольких поперечин, со всех сторон слышался треск пулеметов. И тут же – люди, прыгающие, согнувшись, вперед и назад. Небольшая атака англичан была уже отражена, но она стоила нам одного человека. Разорванный осколками гранаты, он лежал за баррикадой.
Вечером я получил приказ вернуть роту в Пюизье, где меня ждало распоряжение следующим утром принять участие в небольшой акции. Речь шла о том, чтобы в 3:40, после пятиминутной артподготовки, атаковать так называемую низинную траншею на участке от пункта К до пункта Z1. Противник проник в нее, как и во многие другие траншеи, на подступах и укрепился за баррикадами. К сожалению, акция, для которой мы – лейтенант Фойгт с ударной группой и я с двумя отрядами – были предназначены, планировалась, вероятно, по карте, так как траншея на дне лощины была видна со многих мест как на ладони. Все это мне не нравилось. В моем дневнике за текстом приказа следуют такие строки: «Надеюсь, завтра я все опишу. За неимением времени откладываю критику этого распоряжения. Пока я нахожусь здесь, в бункере участка F. Двенадцать часов. В три придут будить».
Но приказ есть приказ. И вот Фойгт и я со своими людьми в 3:40 стоим в чуть брезжущем рассвете недалеко от Эльбингской траншеи, готовые выступить. Мы занимаем неглубокую траншею, откуда, как с узкой галереи, видна лощина. В намеченную секунду она наполняется огнем и дымом. Один из больших осколков, долетевший до нас из этого огненного клокотания, ранил в руку стрелка Клавеса. Здесь все было так же, как я уже столько раз наблюдал перед атаками: вид изготовившихся в неверном свете к броску людей, которые низко сгибаются разом или бросаются на землю под короткими выстрелами, тогда как возбуждение растет, – цепенящая душу картина, похожая на грозный, немой церемониал перед принесением кровавой жертвы.
Мы подошли вовремя и удачно. Обстрел плотной завесой окутал низинную траншею. Недалеко от пункта Z1 мы наткнулись на сопротивление, которое забросали гранатами. Поскольку мы своего добились и не жаждали сражаться дальше, то устроили баррикаду и поставили за ней отряд с пулеметом.
Единственное, что мне нравилось во всей этой истории, было поведение участников штурмовой группы, живо напомнившее мне достопамятного Симплициссимуса. Я увидел фронтовиков нового пошиба – добровольцев 1918 года, судя по всему почти незадетых прусской муштрой, но одаренных настоящей воинственностью. Эти юные сорвиголовы, вихрастые и в обмотках, в двадцати метрах от врага затеяли яростную ссору, так как один обозвал другого тряпкой; при этом они матерились, как ландскнехты и безудержно хвастались. «Ну и дерьмо же ты!» – заорал наконец задира и один промчался вдоль траншеи еще метров пятьдесят.
Уже после полудня вернулся баррикадный отряд. У них были большие потери, они не могли держаться дольше. Я оставил этих людей в покое. Удивительно, что вообще кто-то остался в живых, пройдя при свете дня длинный мешок траншеи в лощине.
Несмотря на эту и множество других контратак, враг крепко засел на левом фланге нашей передней линии и на забаррикадированных коммуникациях, угрожая главной линии сопротивления. Это на сей раз не разделенное нейтральной полосой соседство обещало длительные неудобства; ясно, что и в своих собственных траншеях людям было не по себе.
24 июля я отправился на рекогносцировку нового участка С – отрезка главной линии обороны, который я должен был принять на следующий день. Ротный командир лейтенант Гипкенс показал мне баррикаду у траншеи Хекенграбен, интересную тем, что на стороне, обращенной к англичанам, стоял обгоревший танк, возвышающийся на позиции, как маленький стальной форт. Чтобы обсудить подробности, мы присели на небольшую, уткнувшуюся в поперечину завалинку. Посреди разговора я вдруг почувствовал, что меня хватают и валят набок. В следующую секунду выстрел разнес песок моего сиденья. Гипкенс, к счастью, заметил, что из амбразуры находящейся в сорока метрах от нас вражеской баррикады высунулась винтовка; своим острым глазом художника он спас мне жизнь, так как с этого расстояния в меня попал бы любой осел. Мы же беспечно уселись как раз в это место между двумя баррикадами и были так хорошо видны английским постам, как будто сидели напротив них за столом. Гипкенс действовал правильно и быстро. Вспоминая потом этот случай, я задавал себе вопрос, не испытал бы я на мгновение шок, увидь я винтовку первым. Как мне рассказали, на этом на вид таком безобидном месте три человека из девятой роты были убиты выстрелами в голову; место было гибельным.
После обеда не особенно сильная перестрелка выманила меня из бункера, где я уютно сидел с книгой за кофе. Впереди мерно, как жемчужины ожерелья, поднимались искры заградительного огня. Раненые, которые, хромая, вернулись назад, сообщили, что англичане проникли на участках В и С на главную линию обороны, а на участке А – в полосу обеспечения. Вслед за тем пришла печальная весть о том, что лейтенанты Форбек и Грисхабер пали при защите своих участков и что лейтенант Кастнер тяжело ранен. Другой офицер во время этой акции был странно задет рикошетом; осколок, не коснувшись самого тела, как тонким ножом срезал ему на груди сосок. В восемь часов в мой блиндаж прибыл раненный осколком в спину лейтенант Шпренгер, замещавший командира пятой; он приложился пару раз к горлышку, называемому также «оптическим прицелом», и, цитируя: «Задний ход, Дон Родриго», отправился на перевязочный пункт. За ним, с окровавленной рукой, шел его друг лейтенант Домайер. Он ограничился значительно более краткой цитатой.
На следующее утро мы заняли участок С, к тому времени снова очищенный от врага. Я нашел там саперов, Бойе и Киуса с частью второй и Гипкенса с остатками девятой роты. В траншее было восемь мертвых немцев, два англичанина с кокардами «Южная Африка, Otago-Rifles». Все были здорово отделаны гранатными взрывами. На их искаженных лицах виднелись страшные раны.
Я велел занять баррикады и очистить траншеи. В 14:45 наша артиллерия открыла дикий огонь по лежащим перед нами позициям. При этом в наших попало больше, чем в англичан. Несчастье не заставило себя долго ждать. Крик «Санитаров!» пронесся слева по траншее. Поспешив туда, перед баррикадой в траншее Хекенграбен я увидел труп, бесформенное месиво, – все, что осталось от моего лучшего взводного. Он был убит прямым попаданием нашего снаряда в поясницу. Мундир и клочья белья, сорванные с тела взрывной волной, висели над ним в изрубленных ветвях живой изгороди белого шиповника, давшей траншее свое имя. Я велел набросить на него брезент, стремясь уберечь людей от этого зрелища. Потом почти сразу же на этом месте были ранены еще трое человек. Ефрейтор Элерс, оглохший от взрыва, извивался на земле. Еще одному перебило обе руки в запястьях. Когда он клал брызжущие кровью руки на плечи санитаров, его шатнуло назад. Вся эта группа напоминала героический рельеф: помощник двигался согнувшись, а раненый, хоть и с трудом, держался прямо, – молодой человек с черными волосами и прекрасным, решительным, сейчас мра-морно-белым лицом.
Я посылал связных одного за другим на командные пункты и требовал срочно скорректировать огонь или прислать в траншею артиллерийских офицеров. Вместо ответа включился еще один тяжелый миномет, окончательно превративший траншею в мясной склад. Всюду валялись кровавые ошметки, на которых роились тучи мух.
В 7:15 пришел запоздалый приказ, из которого я узнал, что в 7:30 начнется сильный артиллерийский огонь и в 8 часов два отряда штурмовой роты под командованием Фойгта должны прорваться за баррикады траншеи Хекенграбен. Им следует наступать до пункта А и установить справа связь с параллельно продвигающейся ударной группой. Два отряда моей роты должны были занять отвоеванные участки траншеи.
В спешке, пока начинался артиллерийский огонь, я отдавал необходимые распоряжения, составлял оба отряда и перебросился парой слов с Фойгтом, выступавшим, согласно приказу, через несколько минут. Так как эта история казалась мне, скорее, вечерней прогулкой, я, в фуражке, с рукояткой гранаты под мышкой, шел позади своих отрядов. В момент атаки орудия всей местности были направлены на траншею Хекенграбен. Пригнувшись, мы прыгали от одной поперечины к другой. Все шло удачно, англичане бежали на заднюю линию, оставив одного убитого.
Чтобы объяснить эпизод, происшедший вслед за этим, следует напомнить, что мы продвигались вперед не по позиции, а по одной из множества траншей на подступах, на которых укрепились англичане, или, скорее, новозеландцы, – только после войны, благодаря приходившим из стран противника письмам, я узнал, что мы сражались против новозеландского контингента. На подступах эта траншея, а именно траншея Хекенграбен, проходила по гребню высоты, параллельно лежащей слева на дне лощины низинной траншее. Низинная траншея, которую мы с Фойгтом атаковали 22 июля, была, как известно, брошена оставленным нами там отрядом, то есть теперь в ней были новозеландцы. Обе дороги соединялись поперечными траншеями, между тем из глубины траншеи Хекенграбен лощина не просматривалась.
Итак, я шел, замыкая продвигающийся вперед отряд, и был в прекрасном настроении, ибо, что касается врага, видел до сих пор лишь их убегающие по прикрытиям фигуры. Передо мной замыкающим своей группы шел унтер-офицер Майер, а перед ним в извивах траншей временами виднелся маленький Вильцек из моей роты. В таком порядке мы проходили мимо узкой траншеи, которая поднималась из лощины и вилкообразно впадала в Хекенграбен. Два ее входа, как дельтой, были разделены трехметровой глыбой земли. Я как раз прошел первое отверстие, тогда как Майер был уже перед вторым.
В разветвлениях подобного рода во время окопных боев принято ставить двойные посты, отвечавшие за безопасность. Фойгт то ли упустил это, то ли осматривал траншею в спешке; во всяком случае, вдруг прямо перед собой я услышал полный тревоги крик унтер-офицера и увидел, как он рванул винтовку и мимо моей головы выстрелил во второе отверстие траншеи.
Поскольку мне мешала земляная глыба, я не понимал, что происходит, но мне достаточно было сделать шаг назад, чтоб заглянуть в первое отверстие. То, что я там увидел, ошеломило меня: совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки, стоял атлетически сложенный новозеландец. Одновременно снизу послышались крики еще невидимых нападающих, спешивших по перекрытиям, чтобы нас отрезать. Этот невероятным образом возникший за нашей спиной новозеландец, возле которого я застыл, на свое несчастье не подозревал о моем присутствии: все его внимание было сосредоточено на унтер-офицере, на выстрел последнего он ответил броском гранаты. Я видел, как он сорвал лимонку с левой стороны груди, чтобы метнуть ее вслед Майеру, пытавшемуся избежать смерти броском вперед. Одновременно я выхватил ручную гранату, единственное бывшее со мной оружие, и скорее продвинул ее по короткой дуге к ногам новозеландца, чем бросил. Я не был свидетелем его вознесения на небо, так как это было последнее мгновение, когда я еще мог надеяться на возвращение к прежнему месту. Итак, я быстро отпрыгнул назад и увидел появившегося за моей спиной маленького Вильцека, которому хватило ума укрыться от броска новозеландца, прыгнув мимо Майера ко мне. Брошенное к нам железное яйцо разорвало ему портупею и брюки на заду, не задев его самого. Возникшая перед нами преграда была прочной, тогда как Фойгт и остальные сорок нападающих были окружены и уничтожены. Не имея понятия о случившемся, которому я был свидетелем, они почувствовали себя припертыми к стенке. Крики борьбы и множество взрывов оповещали о том, как дорого они продавали свою жизнь.
Пытаясь прийти им на помощь, я повел отряд фаненюнкера, унтер-офицера Мормана вперед по Хекенграбен. Однако преграда в виде дождя посыпавшихся бутылок с горючей смесью вынудила нас остановиться. Один осколок, летевший мне в грудь, ударился о пряжку подтяжек. Одновременно артиллерийский огонь достиг невероятной силы.
Земля струями неслась из разноцветного дыма, глухое гудение глубоко в земле разрывающихся снарядов мешалось с пронзительным металлическим визгом, похожим на звук разрезающей дерево дисковой пилы. Железные глыбы проносились в опасной близости, и промеж всего этого звенели и кружились роями осколки. В ожидании нападения я надел валявшуюся рядом каску и вернулся с несколькими спутниками в борющуюся траншею.
Над нами появились фигуры. Мы легли на развороченную стенку траншеи и стали стрелять. Рядом со мной совсем молодой солдатик трясущимися руками тщетно теребил ручку пулемета; выстрела не было, пока я не вырвал у него оружие. Несколько англичан упали, другие исчезли в траншее, огонь же становился все более бешеным. Нашей артиллерии, казалось, было все равно, где свои, где чужие.
Когда я в сопровождении связного подошел к своему бункеру, что-то ударило между нами в стену, сорвало мощным рывком каску с головы и далеко отшвырнуло меня. Я подумал, что на нас пришелся целый шрапнельный заряд, и, полуоглохший, улегся в своей норе, о край которой спустя несколько секунд ударил снаряд. Он наполнил маленькое помещение густым дымом, а длинный осколок разнес банку с огурцами, стоявшую у моих ног. Чтобы избежать контузии, я опять выполз в траншею и занялся тем, что «пришпорил» связных и денщика по части бдительности.
Это были на самом деле жуткие полчаса; истаявшая рота была еще раз просеяна смертью. После того как огонь стих, я прошел по траншее, осмотрел повреждения и установил, сколько осталось людей. Так как состав из пятнадцати человек был слишком мал для защиты растянутой линии, я поручил фаненюнкеру Морману и еще троим защиту баррикады, собрал «в еж» все обломки в огромной воронке за задним траверсом и велел свалить там в кучу все гранаты. В мой план входило пропустить в траншею атакующего противника, чтобы затем хитростью взорвать его разом сверху. Однако фактически вся последующая боевая деятельность ограничилась длительной перестрелкой легкими снарядами.
7 июля нас сменила рота 164-го полка. Мы были совершенно измучены. Командира роты ранило еще на марше; спустя несколько дней был взорван мой бункер, под ним погребло моего преемника. Мы облегченно вздохнули, оставив за спиной Пюизье, громыхающий стальными грозами идущей к концу великой войны.
* * *
III пехотная дивизия
Штаб дивизии, 12.08.1918
Приказ по дивизии
Своей обороной и контрударами в тяжелых боях 25.07 против далеко превосходящих сил противника стрелковый полк №73 вновь подтвердил свою высокую славу храброго, закаленного в боях отряда. Я тем больше признаю это, что хорошо знаю, какие высокие требования предъявляются к войскам дивизиона, к их выдержке и верности долгу при длительном использовании на тяжелом фронте ради нашего любимого Отечества.
В частности, лейтенант Юнгер, шесть раз раненый и опять явившийся блестящим примером для офицеров и команды, вновь заслуживает всяческого признания.
фон Буссе,
генерал-майор и командир дивизии
Мой последний бой
30 июля 1918 года мы остановились на отдых в Соши-Лестре – окруженной блеском вод жемчужине провинции Артуа. Спустя несколько дней мы уже маршировали обратно к Эскодевру – скучному рабочему пригороду, который, так сказать, заслонил аристократический Камбре.
Я занимал парадную комнату северофранцузского рабочего домика на Рю-де-Бушер. Обязательная громоздкая кровать, главный предмет мебели, камин с красными и синими стеклянными вазами на балке, круглый стол, стулья, на стенах незатейливые цветные гравюры, Vive la classe, souvenir de premiere communion,[41] открытки и все остальное в том же роде составляло обстановку этой комнаты. В окно был виден церковный двор.
Ясные лунные ночи благоприятствовали частым визитам вражеских летчиков, дававшим представление о росте технического превосходства противника. Каждую ночь над нами нависало множество аэропланов; они роняли на Камбре и его пригороды бомбы чудовищной взрывной силы. Тонкое москитное пение моторов и залпы, которыми обменивались противники, мешали мне меньше, чем трусливое бегание моих хозяев в погреб. Впрочем, за день до моего прибытия перед окном разорвалась бомба: оглушив взрывом, воздушной волной швырнула на пол спавшего на моей кровати хозяина, выломала столбик на спинке этого ложа и выщербила стены дома снаружи. Именно это обстоятельство внушило мне чувство безопасности, ибо я во многом разделял поверье опытных вояк: лучше всего прятаться в свежей воронке.
После выходного снова завелась шарманка с ученьем. Плац, занятия, построения, обсуждения и смотры заполняли большую часть дня. Однажды всю первую половину дня мы провели, вынося приговор суда чести. Паек опять стал скудным и сомнительного качества. Одно время на ужин давали только огурцы, которые мы с соответственно скудеющим юмором прозвали «садовой колбасой».
Я прежде всего посвятил себя обучению маленькой ударной группы, ибо в ходе последних боев мне стало ясно, что совершалось дальнейшее перераспределение наших боевых сил. Собственно, в атаке можно было рассчитывать лишь на немногих людей, способных нанести удар особой мощности. Прочие же участники вообще были в высшей степени сомнительны в качестве огневой силы. В этой ситуации лучше было командовать решительным отрядом, чем медлительной ротой.
В свободное время я занимался чтением, купанием, стрельбой и верховой ездой. Днем я частенько тратил до сотни патронов на бутылки и консервные банки. На конных прогулках я натыкался на массу сброшенных листовок, которые вражеская служба пропаганды стала применять в качестве идеологического оружия. Кроме политических и милитаристских нашептываний, они содержали по большей части описание прекрасной жизни в английских лагерях для военнопленных. «И еще, между нами, – было написано в одной из них, – как просто заблудиться в темноте, возвращаясь с шанцевых работ или с раздачи пищи!» На другой были даже стихи Шиллера о свободной Британии. Эти листки пускали при благоприятном ветре на аэростатах через линию фронта. Они были связаны нитками и, спустя какое-то время, освобождались с помощью бикфордового шнура. Награда в 30 пфеннигов за штуку говорила о том, что командование армии считало их опасными. Впрочем, эти издержки ложились бременем на плечи населения занятых областей.
Однажды днем я сел на велосипед и поехал в Камбре. Старый милый городок стал пустынным. Магазины и кофейни были закрыты; улицы казались вымершими, несмотря на затоплявшие их людские валы защитного цвета. Г-н и г-жа Планко, год тому назад так приветливо принимавшие меня, были сердечно рады моему визиту. Они рассказали, что жизнь в Камбре во всех отношениях ухудшилась; особенно они жаловались на частые воздушные налеты, вынуждавшие их ночами по нескольку раз бегать вверх и вниз по лестнице, ссорясь по поводу того, что лучше: сразу погибнуть от бомбы в верхнем погребе или от завала – в нижнем. Мне от души было жаль этих старых людей с их озабоченными лицами. Спустя несколько недель, когда заговорили пушки, им пришлось опрометью бежать из дома, в котором они провели всю жизнь.
23 августа около одиннадцати часов ночи, когда я уже сладко спал, меня разбудил сильный стук в дверь. Связной принес приказ о наступлении. Уже за день до этого с фронта доносились глухие раскаты и тяжелые удары необыкновенно сильного артиллерийского огня, напоминая нам за служебными занятиями, едой и картами, что нам не приходится рассчитывать на длительность нашего отдыха. Все это дальнее клокотание пушечного грома мы определяли звучным фронтовым словцом: «бухает».
Мы быстро собрались и под грозовым ливнем двинулись по дороге на Камбре. Целью марша был Маркьон, куда мы вошли около пяти часов. Роте предоставили большой, окруженный рядом опустевших конюшен двор, в котором каждый разместился, как мог. С единственным своим ротным офицером, лейтенантом Шрадером, я залез в кирпичный погреб, служивший, вероятно, в мирные времена, как свидетельствовал державшийся в нем стойкий дух, пристанищем козе, теперь, впрочем, населенный лишь несколькими большими крысами.
Днем был совет офицеров, на котором мы узнали, что ночью нам следует расположиться в боевой готовности справа от шоссе Камбре – Бапом недалеко от Беньи. Нас предупредили об атаке новых, быстрых и маневренных танков.
Я определял боевой порядок своей роты в небольшом плодовом саду. Стоя под яблоней, я сказал несколько слов людям, окружившим меня. Их лица были серьезны и мужественны. О чем тут было говорить! В эти дни до всех, вероятно, доходило – правда, со всей постепенностью, которую можно объяснить только тем, что в любой армии, кроме военного, существует еще и моральное единение, – что мы катимся по наклонной плоскости. С каждой атакой враг вводил все более мощное вооружение. Его удары становились все более быстрыми и весомыми. Все понимали, что нам больше не победить. Но противник должен был видеть, что наш боевой дух еще не умер.
Во дворе за составленным из тележки и входной двери столом мы со Шрадером поужинали и выпили бутылку вина. Потом мы завалились в наш козий хлев, пока в два часа утра часовой не известил нас, что грузовые машины стоят наготове на рыночной площади.
В призрачном свете мы громыхали по местности, перерытой прошлогодними боями у Камбре, и катили по стиснутым грудами развалин улицам сожженных дотла селений. У Беньи нас выгрузили и привели на место нашего расположения. Батальон занимал лощину у шоссе Беньи – Во. Утром связной принес приказ о том, что рота должна продвинуться вперед к шоссе Фремикур – Во. Это спорадическое движение давало понять, что еще до вечера нам предстоит увидеть много крови.
Извивающимися шеренгами я повел три взвода по местности, которую кружившие самолеты забрасывали бомбами и снарядами. У места нашей цели мы распределились по воронкам и землянкам, так как отдельные снаряды перелетали через дорогу.
В эти дни я чувствовал себя так плохо, что тотчас улегся в маленький окоп и заснул. Проснувшись, я читал «Тристрама Шенди», которого носил с собой в планшете, и так, лежа на теплом солнце, с безразличием больного провел вторую половину дня.
В 6:15 пополудни связной вызвал ротных командиров к капитану фон Вайе.
– Я должен передать вам важное сообщение: мы наступаем. После получасовой артподготовки в 7 часов батальон приступает к штурму у западной окраины Фаврёя. Пункт направления – колокольня Сепинье.
Обменявшись краткими словами и крепко пожав друг другу руки, мы бросились к ротам, так как огонь должен был начаться через десять минут, а нам еще следовало проделать большой путь. Я уведомил своих взводных и велел выступать.
– Группами в ряд по одному! Расстояние двадцать метров. Направление полуоборот налево на кроны деревьев Фаврёя!
Добрым знаком сохранившегося в людях духа было то, что мне самому пришлось выбирать, кому остаться, чтобы известить полевую кухню, – не объявилось ни одного добровольца.
Я со своим штабом роты и фельдфебелем Райнеке, хорошо знавшим местность, ушли далеко вперед. За изгородями и развалинами вылетали снаряды из наших орудий. Огонь был больше похож на рассерженный лай, чем на уничтожающий штурмовой шквал. За мной в образцовом порядке продвигались вперед мои отряды. Авиационные пули вздымали вокруг облачка пыли; заряды, оболочки и несущие пластины шрапнели с адским шипением заполняли все пространство между узкими цепочками людей. Справа находился жестоко обстреливаемый Беньятр, от которого с тяжеловесным гудением вылетали зазубренные куски железа и с коротким ударом шлепались на глинистую землю.
Еще неуютнее стало на марше за шоссе Беньятр – Бапом. Вдруг взорвались несколько бризантных снарядов между нами и позади нас. Мы врассыпную бросились к воронкам. Я влип коленом в продукт страха однажды проходившего здесь моего предшественника и велел денщику спешно хоть немного очистить меня ножом.
На краю деревни Фаврёй пучились облака разрывов; между ними торопливо то вставали, то опадали колонны бурой земли. Чтобы отыскать позицию, я один пошел вперед к ближайшим руинам и тростью дал знак следовать за мной.
Деревня была усеяна сожженными бараками, за которыми постепенно собрались первый и второй батальоны. На последнем отрезке дороги вдруг заговорил пулемет. С моего места мне была видна тонкая цепочка поднимавшихся облачков, время от времени кто-нибудь из подошедших попадался в нее, как в сеть. Среди прочих, прострелило ногу вице-фельдфебелю Бальгу из моей роты.
Фигура в коричневом вельвете равнодушно пересекла обстреливаемый участок и пожала мне руку. Киус и Бойе, капитаны Юнкер и Шапер, Шрадер, Шлегер, Хайнс, Финдайзен, Хелеман и Хоппенрат стояли за пробитой свинцом и железом изгородью и в тысячный раз судили и рядили по поводу наступления. Мы столько раз сражались на поле жестокой брани, и вот снова уже низко стоящему солнцу предстояло осветить кровь почти всех из нас.
Части первого батальона вошли в парк замка. Из второго батальона только моя и пятая рота относительно в целом составе прошли огненный занавес. Мы продвигались по воронкам и развалинам домов к лощине на западном краю деревни. По дороге я поднял с земли каску, чтобы надеть ее на голову, – это я проделывал только в весьма опасных обстоятельствах. К моему удивлению, деревня Фаврёй оказалась совершенно мертва. По всем признакам, команда оставила участок обороны, так как над развалинами уже витал странный дух тревоги, свойственный в такие моменты покинутым хозяевами местам.
Согласно приказу капитана фон Вайе – в это время, одинокий и тяжелораненый, он уже лежал в одной из воронок деревни, о чем мы и не подозревали, – пятая и восьмая роты должны были атаковать на передней, шестая – на второй и седьмая – на третьей линии. Так как ни шестой, ни восьмой роты еще не было видно, я решил выступать, не заботясь о диспозиции.
Было уже 7 часов. Со своего места из-за остатков домов и обломанных деревьев я увидел, как под слабым огнем на открытое поле вышла линия стрелков. Должно быть, это была пятая рота.
Под прикрытием ложбины я изготовил команду к атаке и отдал приказ наступать двумя шеренгами. «Дистанция сто метров. Я сам буду между первой и второй шеренгой!»
Это был последний штурм. Как часто в минувшие годы мы так же шли на запад к солнцу! Лез-Эпарж, Гийемонт, Сен-Пьер-Вааст, Лангемарк, Пасхендале, Мёвр, Врокур, Мори! И вновь замаячил кровавый пир.
Мы покидали ложбину, словно на плацу, не считая того, что «я сам», как гласила красивая формулировка в приказе, очутился вдруг возле лейтенанта Шрадера перед первой шеренгой в открытом поле.
Мое состояние немного улучшилось, но я все еще чувствовал себя как-то странно. Позднее Халлер, прощаясь со мной перед своим отъездом в Южную Америку, рассказал мне, что его сосед заметил тогда: «Слушай, похоже лейтенанту сегодня крышка!» Тот удивительный человек, буйный и разрушительный нрав которого я любил, открыл мне, к моему удивлению, что сердце командира оценивается простым человеком по самым точным весам. Я на самом деле чувствовал слабость и с самого начала считал атаку проигранной. И все же я люблю вспоминать о ней. В ней не было кипящего азарта большого сражения, взамен этого у меня было ощущение полной отчужденности, будто я наблюдал самого себя со стороны в бинокль. Впервые за эту войну слышал я жужжание маленьких пуль, проносившихся мимо меня, как мимо неодушевленного предмета. Ландшафт обрел стеклянную прозрачность.
Еще были отдельные выстрелы в нашу сторону; вероятно, мы были не слишком отчетливо видны на фоне развалин деревни. С тростью в правой руке и пистолетом в левой, я, тяжело ступая, пошел вперед и, сам того не замечая, оставил стрелковую цепь пятой роты частично позади, частично – справа от себя. Продвигаясь вперед, я ощутил, что мой Железный Крест отделился от груди и свалился на землю. Шрадер, мой денщик, и я стали его усердно искать, хотя укрывшиеся стрелки, вероятно, уже взяли нас на мушку. Наконец Шрадер вытянул его из травы, и я снова прикрепил его на грудь.
Местность пошла под уклон. Смутные фигуры двигались на фоне красно-коричневой глины. Пулемет встретил нас веером огня. Чувство безысходности усиливалось. Все же мы побежали, в то время как нас поливало огнем.
Мы перепрыгнули через несколько окопов и наспех вырытых кусков траншей. Как раз когда я находился в прыжке над одним, более тщательно вырытым окопом, сквозная пуля ударила меня в грудь, подбив, как дичь на лету. С пронзительным криком, в звучании которого из меня, казалось, выходила сама жизнь, я несколько раз крутнулся и грохнулся на землю.
Вот наконец пришел и мой черед. С этим попаданием возникло чувство, что пулей задета самая моя суть.
Еще на пути к Мори я ощущал дыхание смерти, теперь ее рука держала меня совершенно явственно и грозно. Тяжело ударившись о дно окопа, я отчетливо осознал, что это действительно конец. Однако странным образом это мгновение относится к немногим, о которых я могу сказать, что оно было истинно счастливым. Точно в каком-то озарении я внезапно понял всю свою жизнь до самой глубинной сути. Я ощутил безмерное удивление, что вот сейчас все кончится, но удивление это было исполнено странной веселости. Потом огонь куда-то отступил, и, словно над камнем, надо мной сомкнулась поверхность шумящих вод.
Мы прорываемся
Я довольно часто наблюдал раненых в смертельном забытьи, когда ни шум боя, ни предельное напряжение человеческих страстей вокруг больше их не касались, и могу сказать, что и мне случилось побывать за этой завесой.
Время, когда я был полностью без сознания, длилось, возможно, не очень долго – оно, по-видимому, равнялось промежутку, за который наша первая волна атакующих добралась до траншеи, куда я упал. Я очнулся с ощущением большой беды, зажатый между двумя глинистыми стенками. Крик «Санитара! Командир роты ранен!» скользнул вдоль цепи согнувшихся людей.
Пожилой мужчина из другой роты участливо склонился надо мной, освободил от портупеи и расстегнул мундир. Два кровавых пятна кругами выступали на груди справа и на спине. Ощущение сковывающей тяжести тянуло к земле. От раскаленного воздуха узкой траншеи на теле выступил мучительный пот. Заботливый помощник освежал меня, махая моим планшетом. Задыхаясь, я с нетерпением ждал темноты.
Вдруг из Сапинье грянул огневой шквал. Без сомнения, эти беспрерывные раскаты, мерный рев и толчки были чем-то большим, чем просто отражением нашей так плохо начавшейся атаки. Я снизу смотрел в окаменелое под каской лицо лейтенанта Шрадера, который, как машина, стрелял и снова заряжал. Между нами произошел разговор, напомнивший мне сцену в башне из «Орлеанской девы». Впрочем, мне было не до шуток: я ясно понимал, что все кончено.
Шрадер лишь изредка мог бросить мне пару отрывистых слов. Теперь я был не в счет. В ощущении полного бессилия я пытался по его лицу прочесть, как там наверху. По всему было видно, что побеждали контратакующие. Я слышал, как все чаще и яростнее обращал он внимание находящихся рядом людей на цели, придвигавшиеся, должно быть, все ближе.
Внезапно, как рушится плотина в наводнение, пронесся крик ужаса: «Они прорвались слева! Мы погибли!» В это ужасное мгновение я ощутил, что жизненная сила снова, как искра, вспыхнула во мне. Мне удалось двумя пальцами впиться в дыру на высоте руки, проделанную в стене траншеи мышью или кротом. Я медленно поднялся, скопившаяся в легких кровь текла из ран. По мере того как она вытекала, я ощущал облегчение. С непокрытой головой и в распахнутом мундире, с пистолетом в руке я уставился на сражение.
Сквозь белесые клубы дыма прямо на нас бежала цепь людей в полном боевом снаряжении. Некоторые падали и оставались лежать, другие перевертывались, как подстреленные зайцы. За сто метров до нас воронки поглотили оставшихся. Должно быть, это был совсем юный отряд: они выказывали рвение, свойственное неопытности.
Как по нитке, по гребню возвышенности ползли четыре танка. В несколько минут они были растоптаны артиллерией по земле. Один развалился пополам, как игрушка из жести. Справа, шатаясь, опустился на землю с предсмертным криком фаненюнкер Морман. Он был храбр, как молодой лев. Это я знал еще по Камбре. Его уложил выстрел прямо в лоб, нацеленный точнее, чем тот, рану от которого он мне тогда перевязывал.
Дело, казалось, было еще не проиграно. Я прохрипел фенриху Вильски, чтоб он полз налево и своим пулеметом заткнул прорыв. Он вернулся очень быстро и сообщил, что в двадцати метрах уже все занято: там были части совсем другого полка. До сих пор я стоял, держась левой рукой, как за руль, за пучок травы. Теперь я смог повернуться, и мне открылась странная картина: англичане частично проникли на участок траншеи, слева примыкавший к нашему, частично же двигались вдоль нее со штыками наизготовку. Едва я успел осознать близость опасности, как новый, еще более неожиданный сюрприз ошеломил меня. За моей спиной еще двигались атакующие: это по направлению к нам вели пленных с поднятыми руками. Итак, враг почти сразу же после того, как мы пошли на штурм, проник в деревню. Теперь мешок был затянут. Он отрезал нас от своих соединений.
Картина все больше оживлялась. Англичане и немцы окружили нас и потребовали бросить оружие. Произошло замешательство, как на тонущем корабле. Слабым голосом подбадривал я рядом стоящих к борьбе. Они стреляли в своих и чужих. Наша горстка была окружена немым молчанием и криками. Два могучих англичанина слева погружали свои штыки в траншею, откуда к ним моляще тянулись руки.
И под нами стали раздаваться пронзительные голоса: «Нет смысла! Снимай оружие! Не стреляйте, ребята!»
Я взглянул на двух офицеров, стоящих рядом со мной в траншее. Они беспомощно улыбнулись в ответ и бросили на землю свои портупеи.
Теперь выбор оставался только между пленом и пулей. Я выполз из траншеи и, шатаясь, двинулся к Фаврёю. Словно в страшном сне, ощущал я, как ноги будто прилипли к земле. Единственное, что, может быть, было на руку, так это неразбериха, во время которой часть людей уже обменивалась сигаретами, часть же снова устроила резню. Два англичанина, приведших на линию отряд пленного 99-го, стояли против меня. Наставив свой пистолет на ближнего, я нажал курок. Он свалился, как фигурка в тире. Другой разрядил в меня винтовку, но не попал. Быстрые движения резко вытолкнули кровь из легкого. Мне стало свободнее дышать и я начал пробираться вдоль траншеи. За одной поперечиной прятался лейтенант Шлегер с огневым расчетом. Они присоединились ко мне. Кроме меня, Шлегера и еще двоих, все были убиты. Близорукий Шлегер, потерявший свои очки, как он мне потом рассказывал, ничего не видел, кроме моего подпрыгивающего планшета. Из-за большой потери крови я ощутил свободу и легкий хмель. Меня беспокоила только мысль, как бы мне не упасть слишком рано.
Наконец мы добрались до земляной насыпи в виде полумесяца справа от Фаврёя, с которой полудюжина станковых пулеметов извергала огонь на своих и чужих. Итак, здесь был просвет или хотя бы остров в нашем окружении; счастье нам не изменило. Вражеские пули разбрызгивали песок укрепления, офицеры кричали, возбужденные люди метались в разные стороны. Офицер санитаров шестой роты сорвал с меня мундир и велел мне тут же улечься, так как каждую минуту я мог истечь кровью.
Меня завернули в плащ-палатку и потащили вдоль восточной окраины Фаврёя. Несколько человек из моей шестой роты сопровождали меня. Деревня уже кишела англичанами, и неудивительно, что их огонь не заставил себя долго ждать. Выстрелы, грохоча, били по человеческим телам. Санитара шестой, державшего задний конец моего брезента, выстрел в голову свалил на землю. Я упал вместе с ним.
Маленькая группа распласталась по земле и, подстегиваемая ударами, ползла до ближайшего углубления.
Я остался на поле один, закатанный в брезент, и почти равнодушно ожидал удара, который положит конец этой одиссее.
Впрочем, и в этом безвыходном положении я не был покинут. Спутники следили за мной и снова предприняли попытку к моему спасению. Возле меня раздался голос ефрейтора Хенгстмана – длинного, светлорусого парня из Нижней Саксонии: «Я возьму герра лейтенанта на спину, мы прорвемся или поляжем!»
К сожалению, мы не прошли: слишком много орудий стояло на краю деревни. Хенгстман побежал, тогда как я обеими руками обхватил его за шею. Тут же поднялась стрельба, как на полигоне, когда целятся в мишень за сто метров. И тонкое металлическое жужжание оповестило о выстреле, заставившем обмякнуть тело Хенгстмана подо мной. Он упал беззвучно, но я почувствовал, как смерть еще прежде, чем мы коснулись земли, завладела им. Я высвободился из его рук, еще крепко державших меня, и увидел, что пуля пробила ему каску и висок. Смельчак был сыном учителя из Леттера под Ганновером. Как только я снова смог ходить, я разыскал его родителей и обо всем им рассказал.
Неудачный пример не помешал другому сопровождающему предпринять новую попытку спасти меня. Это был сержант санитаров Штрихальски. Он взял меня на плечи и донес, хотя рой пуль снова кружил возле нас, до тихого угла следующей высоты.
Стемнело. Люди отыскали брезент с мертвецом и понесли меня по одинокой равнине, на которой то близко, то далеко вспыхивали колючим сиянием звезды. Я впервые ощутил, как это ужасно, когда чувствуешь, что задыхаешься. Запах сигареты, которую курил человек в десяти шагах от меня, чуть меня не задушил.
Наконец мы добрались до санитарного блиндажа, там мой добрый знакомый доктор Кай нес свою службу. Он намешал мне восхитительного напитка с лимоном и сделал укол морфия, погрузившего меня в целительный сон.
На следующий день началась обычная, разделившаяся на этапы транспортировка. Тряска в автомобиле до военного лазарета была последним тяжким испытанием моей способности выжить. Затем я поступил в руки сестер и продолжал чтение «Тристрама Шенди» там, где его прервал приказ о выступлении.
Множество проявлений участия приносили мне облегчение во время кризисов, характерных для легочных ранений. Солдаты и начальство дивизии посещали меня. Участники штурма Сапинье все, конечно, или погибли, или были, как Киус, в английском плену. Супруги Планко, несмотря на то что уже первые снаряды наступавшего противника рвались в Камбре, прислали мне милое письмо, банку молока, оторванную от себя, и единственную дыню – все, что было в их саду.
Мой последний денщик не составил исключения из длинного ряда своих предшественников, он остался при мне, хотя в лазарете ему не был положен паек и он должен был выпрашивать себе съестное на кухне.
Когда скучаешь лежа, ищешь всякие способы развеяться; так, однажды я проводил время, подсчитывая свои ранения. Я установил, что, не считая таких мелочей, как рикошеты и царапины, на меня пришлось в целом четырнадцать попаданий, а именно: пять винтовочных выстрелов, два снарядных осколка, четыре ручных гранаты, одна шрапнельная пуля и два пулевых осколка, входные и выходные отверстия от которых оставили на мне двадцать шрамов. В этой войне, где под обстрелом были скорей пространства, чем отдельные люди, я все же удостоился того, что одиннадцать из этих выстрелов предназначались лично мне. И потому я по праву прикрепил к себе на грудь Золотой Знак раненого, присужденный мне в эти дни.
Спустя четырнадцать дней я лежал на мягкой постели санитарного поезда. Уже появился немецкий ландшафт в первых проблесках осени. К счастью, нас выгрузили в Ганновере и отправили в Приют клементинок. Среди множества посетителей, которые скоро явились, я особенно радовался брату. Он еще вырос со времени своего ранения. Впрочем, его правая, сильно задетая сторона тела не действовала.
Я делил свою комнату с молодым военным летчиком эскадрильи Рихтхофен по имени Венцель, – одним из тех высоких, отчаянных парней, каких еще рождает Германия. Он делал честь девизу своей эскадрильи: «Железный, но бешеный!» – и уничтожил в воздушном бою двенадцать противников, из которых последний, прежде чем умереть, прострелил ему плечевую кость.
Свой первый выход я отпраздновал с ним, моим братом и несколькими товарищами, ожидавшими своего транспорта в залах старого Ганноверского Гвардейского полка. Поскольку наша боеспособность теперь была под сомнением, мы чувствовали настоятельную потребность поупражняться с тяжелым креслом. Это плохо кончилось: Венцель сломал себе руку, я же на следующий день лежал в постели с температурой сорок; более того, температурная кривая совершила даже несколько рискованных скачков к красной линии, за которой искусство врачей бессильно. При такой температуре исчезает ощущение времени; пока сестры боролись за меня, я лежал в горячечных снах, многие из которых бывают даже очень веселыми.
В один из этих дней, это было 22 сентября 1918 года, я получил следующую телеграмму:
«Его Величество кайзер присуждает Вам Орден за Мужество. Поздравляю Вас от имени всей дивизии.
Генерал фон Буссе»Иллюстрации
Волонтеры в августе 1914
В окопах Монши. Шанцевые работы осенью 1915
(обратно)Немецкий полевой лазарет в зоне огня
(обратно)Разгромленный Монши-о-буа, вид у церкви
(обратно)Командир взвода среди своих товарищей. Эрнст Юнгер – фенрих
(обратно)Фенрих Юнгер в стрелковом окопе
(обратно)Лейтенант Юнгер перед битвой на Сомме (1916)
(обратно)Под обстрелом. Верден
(обратно)Шоссе Аррас – Камбре
(обратно)Разгромленный английский танк: в битве на Сомме (1916) союзные войска впервые применили танки, но безуспешно
(обратно)Лейтенант Эрнст Юнгер (1920)
(обратно)Обложка дневниковых записей «В стальных грозах» (1920)
(обратно)Примечания
1
См.: История немецкой литературы: В 5-ти тт. М., 1976. Т. 5; История литературы ФРГ. М., 1980; Карельский А. В. Станции Юнгера // Иностранная литература. 1964. № 4.
(обратно)2
Muhleisen H. Bibliographic der Werke Ernst Junger. Begrundet von Peter des Coudres. Stuttgart, 1996 (наши библиографические сведения и в дальнейшем будут опираться на это издание).
(обратно)3
Юнгер Э. Гелиополис // Немецкая антиутопия. М.: Прогресс, 1992.
(обратно)4
Юнгер Э. Из книги «В стальных грозах» (перевод с нем. А. Егоршева) // Иностранная литература. 1999. № 2. С. 195—202.
(обратно)5
Михайлов А. В. Юнгер Эрнст // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 602; Современная западная философия / Сост. и отв. редакторы В. С. Малахов, В. П. Филатов М» 1998. С. 192, 406, 526—529.
(обратно)6
Bucher, die das Jahrhundert bewegten: Zeitanalysen – weidergelesen / Hrss. G. Ruhle. Munchen; Zurich, 1978.
(обратно)7
Г. – Ф. Юнгер разделял консервативно-националистические воззрения своего брата, хотя был в этом вполне независимым мыслителем. В философии культуры занимался проблемой техники и ее роли в культурном процессе, трактуя ее, скорее, в отрицательных категориях. Его главный труд в этой области – “Uberdie Perfektion der Technik” (1944) – вызвал широкую дискуссию и привлек внимание К. Ясперса.
(обратно)8
Согласно библиографическому своду сочинений Э. Юнгера Хорста Мюлейзена, доведенному до 1995 г., только отдельных изданий «В стальных грозах» в Германии было осуществлено 36. А были еще публикации специальные, фрагментарные, а также изданные в составе собраний сочинений.
(обратно)9
«Эй, перережь заодно и глотку!» (фр.). (Здесь и далее – прим. перев.).
(обратно)10
«Что касается меня, то я предпочел бы ее сохранить» (фр.).
(обратно)11
Слово неясного происхождения (нем. – Schangel), составленное из “Jean” и “shancre” («Жан» и «шанкр»).
(обратно)12
Буквально: красивый вид (фр.).
(обратно)13
«Среди вас тоже есть свиньи!» (фр).
(обратно)14
«Вы еще так молоды, хотела бы я иметь ваше будущее» (фр.).
(обратно)15
«Кто там?» – «Добрый вечер, Жанна д'Арк!» – «А, добрый вечер, мой милашка-гибралтарец!» (фр.).
(обратно)16
здесь: ложе, кушетка (фр.).
(обратно)17
«Поди сюда, сукин ты сын!» (англ.).
(обратно)18
«Вы – пленные!» (англ.).
(обратно)19
Название газеты, буквально: малая газета, листок (фр.).
(обратно)20
«У книжек и пуль свои судьбы» (лат.).
(обратно)21
«Проси прощения!» (фр.).
(обратно)22
«Ах, она шлюха, ах, она гнилая картошка на куче дерьма» (фр.).
(обратно)23
«Подите-ка сюда, вы – пленные, руки вверх!» (англ.).
(обратно)24
«Какой нации?» (фр.).
(обратно)25
«Несчастный раджпут!» (фр.).
(обратно)26
«Англичанин – не хорошо» (фр).
(обратно)27
Городок миллионеров (фр.).
(обратно)28
Имеется в виду Фридрих Великий.
(обратно)29
«Гриф Сьерры» (фр.).
(обратно)30
«Поднимайтесь!» (фр.).
(обратно)31
«Это кто еще там?» (фр.).
(обратно)32
«Со свиданьицем!» (фр.).
(обратно)33
«Ну нет!» (фр.).
(обратно)34
Новая труба, Три короля, Рог из слоновой кости (флам.).
(обратно)35
«Руки вниз!» (англ.).
(обратно)36
«Нас окружили» (англ.).
(обратно)37
Морской табачок (англ.).
(обратно)38
«Выходи, руки вверх!» (англ.).
(обратно)39
Гунны, вандалы (англ.). Кличка немцев периода первой мировой войны.
(обратно)40
Добрая старая Англия! (англ.).
(обратно)41
Да здравствует мобилизация! Воспоминание о первом причастии (фр.).
(обратно)



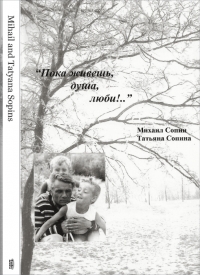
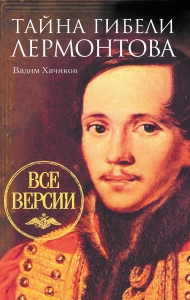
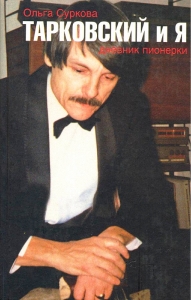


Комментарии к книге «В стальных грозах», Эрнст Юнгер
Всего 0 комментариев