Пошел пятый час утра – первые шаги Нового 1999 года. Мы с Люшей только что вернулись от наших друзей Соловьевых, живущих в соседнем подъезде – с ними провожали старый год и встречали Новый. Прошел в большую комнату, стою у окна, гляжу на деревья. Они очень старые и большие; пожалуй, помнят Петра Великого, и еще те времена, когда тут, на берегах Невы, жили чухонцы, а там дальше, но тоже в низовьях Невы, обитали ингерманландцы. Три сосны, стоящие перед окнами, тех времен не помнят, эти молодые, но вот там дальше, возвышаясь кроной над всем парком, уперлась могучими ветвями в небо лиственница. Она не только помнит Петра, но и прародителей тех чухонцев, которые льняными волосами и синими глазами походили на финнов, но от них всегда сторонились и с другими племенами не смешивались – понимали вечные и святые законы бытия, завещавшие нам жить единым родом.
Часы отстукивают секунды, а сердце – пульс. Иные скажут: медленно тянется время, другие заметят: летит на вороных. Это уж как кто понимает. Мне уже семьдесят пятый год. Возраст почтенный. Иной раз заползет в душу тревога, но я тогда друга своего Федора Григорьевича Углова мысленно на помощь зову; ему-то уж девяносто пятый пошел, а он все работает, каждый день на службу ходит, да еще и операции делает. Углов, конечно, исключение – недаром же он в книгу Гиннесса попал, как старейший оперирующий хирург, но о том, что он исключение, и довольно редкое, думать не хочется. И еще Леонида Максимовича Леонова вспоминаю – тот жил до девяносто семи. А Лев Толстой в восемьдесят два года решил написать свое лучшее произведение. И не простудись он в дороге, наверное, мы имели бы такую книгу; а Бернард Шоу в девяносто лет любовные письма женщине писал. Да что там далеко ходить: мой самый сердечный задушевный друг Борис Тимофеевич Штоколов, великий бас России, именно в эти дни студию для себя ладит, технику первоклассную устанавливает, говорит: «Мой голос теперь только и распелся». И решил все свои романсы и арии заново на лазерный диск напеть. А ему ведь тоже… семидесятый пошел.
Человек так устроен: пока жив о живом и мысли его.
Стою у окна, слушаю шелест шагов наступившего года. Незримо идет он среди деревьев – идет ли, ползет ли, а может, уж полетел ракетой…
В этом году газеты предрекают голод.
Самое страшное – это думы о голоде. Другие его не боятся, а я – боюсь, потому что знаю, видел и сам голодал.




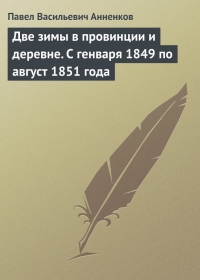

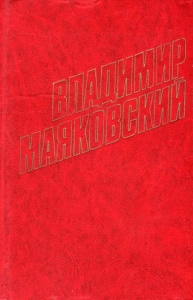
Комментарии к книге «Оккупация», Иван Владимирович Дроздов
Всего 0 комментариев