Астрид Линдгрен Собрание сочинений в 6 т. Том 5 Мы — на острове Сальткрока
Мы — на острове Сальткрока (пер. Л. Брауде, Е. Паклиной)
Июньским днем
Спустись как-нибудь летним утром к Приморской набережной в Стокгольме и посмотри, не стоит ли там у причала белый рейсовый пароходик «Сальткрока I»[1]. Если стоит, так это и есть тот самый пароход, что ходит в шхеры[2], и тогда смело подымайся на борт. Ровно в десять он даст прощальный гудок и отчалит от набережной, отправляясь в свой обычный рейс к самым дальним шхерам, где кончается залив и начинается море. «Сальткрока I» — трудолюбивый и неугомонный пароходик. Вот уже более тридцати лет трижды в неделю плавает он в прибрежных водах, и ему, верно, невдомек, что он бороздит фарватер[3], не похожий на все другие на свете. То по широким проливам, то по тесным фьордам[4], мимо сотен зеленых островков и тысяч серых скалистых шхер он без устали идет вперед. Но путь его долгий, и солнце совсем низко опускается над горизонтом, когда пароходик причаливает к последней своей пристани, той, что на острове Сальткрока. В честь его и называется пароходик. Дальше ему идти незачем. За Сальткрокой начинается открытое море, где торчат из-под воды лишь голые скалы да шхеры. Там никто не живет, только что гага, да чайка, да другая морская птица.
А на Сальткроке живут люди. Их немного. От силы десятка два. Правда, это зимой. Летом на остров приезжают дачники.
Вот такая семья дачников и плыла на пароходе «Сальткрока I» в один прекрасный июньский день. Отец и четверо детей. По фамилии Мелькерссон, коренные стокгольмцы. Никто из них еще не бывал на острове, и все они с нетерпением ожидали встречи с ним, особенно Мелькер Мелькерссон-старший.
— Сальткрока, — сказал он задумчиво. — Мне нравится это название, поэтому я и снял там дачу.
Его девятнадцатилетняя дочь Малин, взглянув на него, покачала головой. До чего же легкомысленный у них отец! Ему скоро пятьдесят, а он все такой же непосредственный, как ребенок: в нем больше мальчишества и беспечности, чем у его собственных сыновей. Вот он стоит на палубе в радостном нетерпении, будто мальчуган в рождественский вечер, и ждет, что его затея снять дачу на Сальткроке всех осчастливит.
— На тебя это похоже, — сетует Малин. — Только ты можешь за глаза снять дачу на острове лишь потому, что тебе понравилось его название.
— А я думал, все так делают, — оправдывался Мелькер.
Но тут же смолк и задумался. А может, надо быть писателем и чуточку сумасшедшим, чтобы так поступать? Из-за одного названия… Сальткрока, ха, ха! Может, другие сперва едут и смотрят.
— Некоторые, разумеется, так и делают! Но не ты!
— Ну что ж, я как раз туда и еду, — беззаботно ответил Мелькер. — Приеду и посмотрю!
И он посмотрел по сторонам своими веселыми голубыми глазами. Все, что он видел, было ему дорого: эта неяркая водная гладь, эти островки и скалы, эти серые неприступные шхеры — обломки благородных шведских гор седой старины, эти берега с деревянными домишками, причалами и рыбачьими сараями… Ему захотелось дотянуться до них рукой и дружески их похлопать. Но вместо этого он обнял за шею Юхана и Никласа.
— А вы понимаете, как это красиво? Понимаете, какие вы счастливчики, что все лето будете жить среди такой красоты?
Юхан и Никлас ответили, что понимают. И Пелле сказал, что Он тоже понимает.
— Почему же вы тогда не восторгаетесь? Сделайте милость, повосторгайтесь!
— А как? — удивился Пелле. Ему было только семь лет, и он еще не научился восторгаться по заказу.
— Мычите, — сказал Мелькер и безмятежно рассмеялся.
Потом он сам замычал, и дети прыснули со смеху.
— Ты мычишь, как корова, — сказал Юхан, но благоразумная Малин возразила:
— Может, подождем мычать, пока не увидим, что за дом ты снял?
Но Мелькеру это не понравилось.
— Агент уверял меня — дом чудесный. Надо ж верить людям на слово. «Настоящая дача, уютный старый дом», — говорил он мне.
— Когда же мы наконец доедем? — взмолился Пелле. — Хочу скорее увидеть дачу.
Мелькер взглянул на часы:
— Через час, сынок. К тому времени мы здорово проголодаемся, и отгадайте-ка, что мы тогда сделаем?
— Пообедаем, — ответил Никлас.
— Вот именно. Усядемся на залитой солнцем лужайке и перекусим отличными бутербродами, которые припасла Малин. На зеленой травке, понимаете… Так вот просто будем сидеть, и у нас будет лето.
— Вот здорово! — воскликнул Пелле. — Так я скоро замычу.
Но потом он решил заняться другим. Остался еще час пути, сказал отец, и на пароходе наверняка найдется для него дело. Правда, чего он только не переделал! Он облазил все трапы и заглянул во все тайники и уголки. Сунул было нос в штурманскую рубку, но его выпроводили. Забежал на минуточку в кают-компанию, но и оттуда его выставили. Пытался пробраться на капитанский мостик, но и здесь ему дали от ворот поворот. Долго стоял в машинном отделении и таращился на поршни машины, которые ходили и стучали. Свешивался через перила за борт и плевал в шипящую белую пену, которую взбивал пароход. Попил лимонада на баке и поел сдобных булочек, а остатки бросил голодным чайкам. Переговорил почти со всеми пассажирами на пароходе. Проверил, за сколько времени можно пробежать от носа до кормы. И путался под ногами у матросов всякий раз, когда пароход причаливал к пристани и на берег сгружали багаж и чемоданы пассажиров. Словом, проделал все, что только может проделать семилетний мальчик на рейсовом пароходе, идущем в шхеры. Теперь он оглядывался в поисках чего-нибудь новенького — и вдруг обнаружил двух пассажиров, которых прежде не заметил. На баке сидел старик с маленькой девочкой. А на скамейке рядом с девочкой стояла клетка с вороном. Живехонький, взаправдашний ворон! Пелле оживился. Он любил всяких разных зверюшек и вообще всех, кто живет, движется, летает и ползает под небесным сводом и на тверди земной, — всех птиц, всех рыб и всех четвероногих. «Мои миленькие зверюшки», — называл он их всех без разбору, причисляя к зверюшкам даже жаб, ос, кузнечиков, майских жуков и всяких других букашек.
А тут ворон! Живехонький, взаправдашний ворон!
Когда он подошел к клетке, девочка приветливо улыбнулась ему беззубым ртом.
— Твой? — спросил он, просунув указательный палец между железными прутьями, чтобы, если удастся, немножко погладить птицу. Этого не следовало делать. Ворон клюнул его в палец, и Пелле быстро отдернул руку.
— Берегись Попрыгуши Калле, — сказала девочка. — Да, ворон мой, правда, дедушка?
Старик кивнул.
— Как же, как же, это ворон Стины, — подтвердил он. — Во всяком случае — пока она живет у меня на Сальткроке.
— Вы живете на Сальткроке? — восторженно спросил Пелле. — И я там буду жить летом. Вернее, папа и все мы будем жить там.
Старик с любопытством посмотрел на него:
— Вон оно что, так это вы, сняли старую Столярову усадьбу?
Пелле усердно закивал головой:
— Мы. А хорошо там?
Склонив голову набок, старик пытался что-то вспомнить. Потом рассмеялся чуть кудахтающим смешком:
— Как же, как же, хорошо. Только кому что нравится.
— Как это? — переспросил Пелле.
Старик снова закудахтал:
— Бывают, которым нравится, когда крыша течет, а бывают и такие, которым не нравится.
— Бывают и такие, которым не нравится, — словно эхо, повторила девочка. — Мне вовсе не нравится.
Пелле призадумался. Об этом, пожалуй, стоит рассказать папе. Но не сейчас. Как раз сейчас ему нужно поглядеть на ворона, это крайне необходимо. Видно, что и Стине не терпелось показать ему свою птицу. Наверно, здорово иметь ворона, на которого охотно глазеют люди, и особенно такие вот большие мальчики, как он сам. И пусть Стина всего-навсего маленькая девочка, больше пяти ей не дашь, но ради ворона Пелле готов подружиться с ней и играть все лето, хотя бы до тех пор, пока не найдет себе товарища получше.
— Хочешь, я как-нибудь зайду к тебе? — милостиво предложил он. — В каком доме ты живешь?
— В красном, — ответила Стина.
Что ж, это тоже примета, хоть и не ахти какая.
— Ты лучше спроси, где живет дедушка Сёдерман, — посоветовал ему старик. — Меня тут всяк знает.
Ворон хрипло закаркал в клетке, всем своим видом выражая беспокойство. Оказывается, Пелле снова просунул палец в клетку, и ворон снова клюнул его.
— Ты не думай, он умный, — сказала Стина. — Умнее всех на свете — так говорит дедушка.
Расхвасталась, решил Пелле. Где уж Стине или ее дедушке знать, какая птица умнее всех на свете.
— А у моей бабушки есть попугай, — сказал Пелле. — Он умеет говорить «Пошел прочь!».
— Подумаешь, — сказала Стина. — И моя бабушка тоже так умеет.
Пелле рассмеялся:
— Да не бабушка так говорит, а попугай.
Стине не понравилось, что над ней смеются.
Она обиделась.
— Говори тогда так, чтоб было понятно, — угрюмо буркнула она.
Потом она отвернулась и уставилась на воду за бортом, не желая больше разговаривать с глупым мальчишкой.
— Ну пока, — попрощался Пелле и пошел по пароходу искать своих.
Он нашел Юхана и Никласа на верхней палубе и, увидев их, тотчас понял: что-то стряслось. Оба они насупились, и Пелле даже испугался: уж не натворил ли он чего-нибудь такого, за что ему влетит?
— Что случилось? — спросил он с опаской.
— Вон, погляди! — сказал Никлас и ткнул пальцем через плечо. И вот что увидел Пелле. Несколько поодаль, облокотившись о перила, стояла Малин, а рядом с ней — долговязый паренек в светло-голубой водолазке. Они болтали и смеялись, а этот, в водолазке, глядел на Малин, на их Малин, так, будто он вдруг неожиданно нашел маленький прекрасный самородок золота там, где меньше всего ожидал.
— Готово дело! Опять за старое, — сокрушался Никлас. — А я-то думал, стоит уехать из города — и все пойдет на лад.
Юхан покачал головой:
— И не надейся. Высади ты Малин хоть на необитаемом островке посреди Балтийского моря, как через пять минут туда приплывет этот тип, которому до зарезу нужно как раз на этот остров.
Никлас покосился на паренька в водолазке.
— Ну и жизнь, родную сестру не могут оставить в покое. А что, если рядом с ней прикрепить объявление: «Бросать якоря строго воспрещается»?
Он посмотрел на Юхана, и оба рассмеялись. По правде говоря, протестовали они против знакомств своей сестры не очень-то всерьез. Ведь с Малин, как утверждал Юхан, каждые четверть часа кто-нибудь знакомился. Не очень-то всерьез, ясное дело, но все-таки втайне они побаивались — подумать только, вдруг в один прекрасный день Малин влюбится так сильно, что дело кончится помолвкой, а то и свадьбой.
— И как только мы управимся без Малин, — часто повторял Пелле то, о чем каждый с тревогой думал про себя.
Ведь Малин была опорой семьи. С того самого дня, когда умерла при родах Пелле их мать, Малин заменила ее всем Мелькерссонам, включая и самого Мелькера. Неокрепшая, тоненькая девочка-мама сперва была беспомощна и несчастна, но мало-помалу научилась вытирать носы, стирать, бранить и печь булочки — таковы были ее заботы по дому, как она писала в своем дневнике.
— Ты никогда не бранишься зазря, — уверял ее Пелле. — Вообще-то ты добрая, нежная и ласковая, как крольчиха.
Прежде Пелле не понимал, почему Юхан и Никлас не одобряют кавалеров Малин. Он был твердо уверен, что Малин на веки вечные принадлежит семье Мелькерссонов, сколько бы пареньков в водолазках ни увивалось вокруг нее. Но неожиданно сама Малин, не ведая о том, лишила его прежней уверенности. Как-то вечером Пелле лежал в постели и старался заснуть. Сон не шел к нему, потому что совсем рядом, в ванной, распевала во все горло Малин. Она пела песню, которую Пелле никогда раньше не слыхал, и слова этой песни поразили его как гром среди ясного неба.
— «Не успела стать студенткой, замуж выскочила вдруг…» — распевала Малин, не подозревая, что натворила.
«Не успела стать студенткой…» А их Малин как раз сдала экзамен и стала студенткой. А потом, потом того и жди… Пелле даже вспотел в постели. Он понял, что ему грозит! И как это он раньше не понимал! Малин выйдет замуж и уйдет из дома, а они останутся с одной тетушкой Нильссон, которая являлась к ним ежедневно на четыре часа, а потом уходила к себе домой.
Мысль об этом была невыносима, и Пелле в отчаянии бросился к отцу.
— Папа, папа, когда Малин выйдет замуж и родит ребеночка? — спросил он дрожащим голосом.
Мелькер удивленно поднял брови. Он не слышал, чтобы Малин собиралась замуж, и не понимал, что для Пелле это вопрос жизни и смерти.
— Ну, когда? — не отставал Пелле.
— День и час нам неизвестны, — ответил Мелькер. — И незачем думать об этом, козленок.
Но Пелле не мог не думать об этом. Он думал об этом не каждый день и даже не каждый час, ясное дело, но время от времени, когда была на то причина. Как сейчас, например. Пелле во все глаза смотрел на Малин и парня в водолазке. К счастью, они уже прощались. Вероятно, паренек сходил с парохода на следующей пристани.
— Ну пока, Кристер, — сказала на прощание Малин, а этот, в водолазке, закричал с трапа:
— Я как-нибудь заверну на моторке, и тогда посмотрим, разыщу я тебя или нет!
— Только попробуй, — со злостью пробормотал Пелле.
Он твердо решил попросить отца прикрепить объявление, о котором говорил Никлас. Объявление «Бросать якоря строго воспрещается» — будет висеть на пристани в усадьбе столяра, уж об этом Пелле позаботится.
Конечно, на Малин обращали бы меньше внимания, не будь она такой хорошенькой. Это понимал даже Пелле. И не потому, что он не спускал с нее глаз, а просто знал, какая она хорошенькая. Об этом говорили все вокруг. Да и в самом деле красиво, когда у тебя светлые волосы и зеленые глаза, как у Малин. И этот, в водолазке, думал то же самое.
— Кто этот нахал? — спросил Юхан, когда Малин подошла к ним.
Малин засмеялась:
— Вовсе он не нахал. Я его видела на студенческой вечеринке у Буссе. Славный паренек.
— Нахал, каких мало, — неумолимо повторил Юхан. — Будь с ним поосторожней и запиши об этом в своем дневнике.
Как-никак, а Малин была дочерью писателя. Она тоже немного сочиняла, но только на страницах своего секретного дневника. Ему она поверяла свои сокровенные мысли и мечты и, кроме того, записывала о всех «подвигах» мальчиков и даже самого Мелькерссона-старшего. Она часто грозила им дневником:
— Вот подождите, опубликую свой секретный дневник — и тогда вы все будете разоблачены.
— Ха, ха, ха! Да больше всех ты сама себя разоблачишь, — заверял Юхан. — Ведь ты небось записываешь в дневнике по порядку про всех своих шейхов-ухажеров.
— Заведи список, чтоб никого не пропустить в спешке, — советовал Никлас. — Пер Четырнадцатый Улоф, Карл Четвертый Карлссон, Леннарт Семнадцатый и Оке Восемнадцатый. Будешь продолжать в том же духе — ничего себе списочек получится!
В эту минуту Юхан и Никлас были уверены, что и паренек в водолазке станет Кристером Девятнадцатым.
— Хотел бы я знать, как она его распишет в своем дневнике? — поинтересовался Никлас.
— Редкий нахал, с прилизанными волосами и самодовольной рожей, — ответил Юхан. — Противный кривляка.
— А может, такой и нравится Малин, — сказал Никлас.
Но Малин ни словом не упомянула о Кристере Девятнадцатом в своем дневнике. Он сошел с парохода у своего причала, так и не оставив следа в ее душе. А через четверть часа у Малин была куда более волнующая встреча, которая заставила ее позабыть обо всем остальном. Она произошла, когда пароход причалил к следующей пристани и она впервые увидела Сальткроку. Вот что написала она об этой встрече в своем дневнике:
Малин, Малин, где ты пропадала? Остров всегда поджидал тебя — он тихо и спокойно лежал на взморье со своими трогательными сараями, ветхими причалами, рыбачьими лодками и единственной старой улицей — во всей своей трогательной красоте. А ты даже не подозревала о его существовании, разве это не ужасно? Интересно, что думал Бог, создавая этот остров? «Пусть все перемешается здесь, — верно, подумал он. — Пусть будет пустынно и громоздятся серые щербатые скалы, а рядом пусть растут зеленые дубы, березки, цветы на лугу, густой кустарник, да, да, потому что я хочу, чтобы остров утопал в алом шиповнике и белых гирляндах жасмина, когда через тысячи миллионов лет сюда в июньский день приедет Малин Мелькерссон». Да, дорогие мои Юхани и Никлас, я знаю, что вы думаете, когда тайком читаете мой дневник, ну и пусть, думайте: «Вот так фантазерка, ничего себе!» Нет, я вовсе не фантазерка. Я просто рада, понимаете ли вы, что Бог догадался сделать Сальткроку именно такой, а не иной и что он догадался бросить эту жемчужину на самое взморье, где она пребывала в покое и оставалась в своем первозданном виде, дожидаясь моего приезда.
Мелькер сказал:
— Вот увидите! Все сальткроковцы явятся на пристань поглазеть на нас. Мы произведем фурор.
Но все получилось иначе. Когда пароход пришвартовался, дождь лил как из ведра — и на пристани стоял всего один низенький человечек с собачкой. Человечек был девочкой лет семи. Она стояла неподвижно, словно выросшая из причала, и, хотя дождь поливал ее, не шевелилась. Казалось, сам Бог сотворил эту девочку вместе с островом и оставил ее здесь владычицей и стражем на вечные времена.
Малин написала в дневнике:
В жизни мне не приходилось чувствовать себя такой маленькой, как под взглядом этого ребенка, когда я, нагруженная узлами, спускалась под проливным дождем по трапу. Казалось, девочка видела все насквозь. Я подумала, что она — само олицетворение Сальткроки и, если она нас не примет, мы никогда не будем приняты на острове. Поэтому я спросила ее несколько заискивающе, как принято у взрослых в разговорах с маленькими:
— Как тебя зовут?
— Чёрвен[5],— ответила она.
Ничего себе! Неужели можно зваться Чёрвен и быть такой величественной?
— А пес — твой? — спросила я.
Она посмотрела мне прямо в глаза и спокойно спросила:
— Ты хочешь знать, моя ли это собака, или хочешь знать, как ее зовут?
— И то и другое, — ответила я.
— Пес мой, а зовут его Боцман, — снисходительно сказала она тоном королевы, представляющей своего четвероногого любимца. И какого четвероногого! Это был сенбернар, но такого огромного я в жизни не видела. Он был такой же царственно величественный, как и его хозяйка, и я уж было подумала, что все обитатели этого острова под стать им и на голову выше нас, бедных горожан.
Но тут прибежал, запыхавшись, обыкновенный человек. Как потом оказалось, хозяин лавки. Такой, как все люди.
— Добро пожаловать на Сальткроку! — приветливо поздоровался он. Не успели мы спросить его имя, как он представился: — Ниссе Гранквист.
Но потом несказанно нас удивил.
— Чёрвен, ступай домой! — приказал он величественному ребенку. Подумать только, он смеет так с ней разговаривать! Подумать только, он отец такой девочки! Но она его не очень-то послушалась.
— Кто это велит? — строго спросила девочка. — Мама?
— Нет! Я тебе велю, — ответил отец.
— Тогда не пойду. Я встречаю пароход, — сказала Чёрвен.
Хозяину лавки нужно было спешно принимать товар из города, и у него не было времени урезонивать свою своенравную дочку. И пока мы собирали в кучу свой скарб, она так и стояла под дождем. У нас был довольно жалкий вид, и это не ускользнуло от нее. Я чувствовала ее взгляд на спине, когда мы поплелись к Столяровой усадьбе.
Не одна Чёрвен провожала нас взглядом. Из всех домов вдоль старой улицы из-за занавесок глядели на нашу промокшую процессию внимательные глаза — пожалуй, мы и в самом деле произвели фурор, как и предсказывал папа. Но, по-моему, он уже немного призадумался. И пока мы тащились по улице, на нас снова обрушился целый водопад. Тут Пелле сказал:
— А знаешь, папа, крыша в Столяровой усадьбе протекает.
— Кто тебе сказал? — спросил он.
— Дедушка Сёдерман, — ответил Пелле, словно речь шла о старом знакомом.
Папа попытался отшутиться:
— Ах вот что! Дедушка Сёдерман. Тоже мне, вещий ворон, беду накаркивает. Выходит, одному Сёдерману все ведомо, а вот агент об этом ни словом не обмолвился.
— Неужто ни словом? — спросила я. — А разве он не говорил, что это чудесная старая дача, которая в дождь к тому же превращается в этакий замечательный плавательный бассейн?
Папа посмотрел на меня долгим взглядом, но ничего не ответил.
Тут мы как раз подошли к дому.
— Здравствуй, Столярова усадьба, — поздоровался папа. — Позволь мне представить тебе семью Мелькерссонов: Мелькерссон-старший и его бедные ребятишки.
Это был красный двухэтажный дом, и с первого взгляда было видно: крыша протекала. И все же дом мне понравился, как только я его увидела. Папа же, напротив, насмерть перепугался, что было видно по его лицу. Я не знаю никого другого, у кого бы так быстро, как у папы, менялось настроение.
Он молча стоял, глядя с грустью на дачу, которую снял для себя и своих детей.
— Ты чего ждешь? — спросила я. — Дом ведь другим не станет.
Папа собрался с духом, и мы переступили порог.
Столярова усадьба
Никто в семье не забудет первого вечера в Столяровой усадьбе.
— Разбуди меня ночью и спроси, — говорил потом Мелькер, — и я расскажу все как было. Затхлый воздух в доме, ледяные простыни, хмурая, озабоченная Малин с морщинкой на лбу, которую, как ей кажется, я никогда не замечаю. И в душе у меня растет беспокойство — не наделал ли я глупостей? Но мои сорванцы не унывают, снуют, словно белки, туда-сюда, это я помню хорошо… А еще я помню черного дрозда, который выводил трели в боярышнике прямо против окна, и легкие всплески волн у причала, и тишину… И вдруг у меня мелькнула мысль: «Э, нет, Мелькер, на этот раз ты не наделал глупостей, а, наоборот, совершил благое дело, нечто замечательное, может быть, даже из ряда вон выходящее, хотя воздух, разумеется, затхлый…»
— А потом ты растопил плиту, — напомнила Малин, — помнишь?
Но этого Мелькер не помнил. Так он сказал.
— Неважный вид у плиты. Что-то не похоже, чтобы на ней можно было готовить, — сказала Малин, опустив узлы на пол в кухне.
Первое, что она заметила, войдя в кухню, была плита. Она вся проржавела — видно, в последний раз ее топили в начале века. Но Мелькер не отчаивался.
— Да эти старинные плиты — просто чудо. Нужна лишь сноровка, я с нею мигом управлюсь. Но прежде познакомимся с дачей.
Начало века чувствовалось в усадьбе повсюду, хотя уже не в лучшем своем виде. За многие годы усадьбе крепко досталось от неаккуратных дачников, а ведь когда-то это было налаженное и зажиточное хозяйство столяра. Но даже в своем запустении дом сохранял какой-то удивительный уют, который все сразу почувствовали.
— Здорово жить в этакой развалюхе! — заверил Пелле. Обняв мимоходом сестру, он бросился за Юханом и Никласом. Они решили облазить весь дом до самого чердака.
— Столярова усадьба… — произнесла в раздумье Малин. — А что за столяр тут жил, не знаешь, папа?
— Веселый такой молодой столяр. Женился он в тысяча девятьсот восьмом году и с молодой хорошенькой женой переехал сюда. По ее вкусу он и смастерил шкаф, стол, стулья, диван и целовал ее так, что в комнатах только звон стоял от поцелуев, а однажды сказал: «Пусть наш дом называется Столяровой усадьбой…»
Малин не сводила глаз с отца.
— Ты это в самом деле знаешь или привираешь?
Мелькер смущенно улыбнулся:
— Гм, конечно, кое-что привираю. Но было бы куда приятнее, если бы ты сказала «сочиняешь».
— Ладно, пусть будет «сочиняешь», — согласилась Малин. — Что там ни говори, а здесь кто-то жил давным-давно, радовался этой вот мебели, сметал с нее пыль, полировал и наводил чистоту каждую неделю по пятницам. Кстати, кто сейчас хозяин дома?
Мелькер попытался вспомнить:
— Не то фру Шёберг, не то фру Шёблум или что-то в этом роде. Женщина в годах.
— Может, она и есть жена твоего столяра? — смеясь, спросила Малин.
— Не знаю, теперь она живет в Нортелье, — ответил Мелькер. — А один делец, по имени Маттссон, сдает за нее усадьбу на лето, притом, как правило, доморощенным разбойникам с выводками маленьких несносных детишек, которые царапают и портят все, что попадает под руку.
Он оглядел комнату, которая при жизни столяра служила, вероятно, гостиной. И хотя она была не так нарядна, как прежде, Мелькер остался доволен.
— Здесь, — сказал он, — вот здесь и будет наша общая комната, — и любовно похлопал побеленный очаг. — Вечерами мы будем сидеть возле очага, смотреть на горящие поленья и слушать шум моря.
— А в ушах будет свистеть ветер, — добавила Малин, указав на разбитое окно.
У Малин по-прежнему не расходилась морщинка озабоченности на лбу, но Мелькер, уже искренне полюбивший усадьбу, не собирался горевать из-за такого пустяка, как разбитое окно.
— Будь спокойна, девочка. Твой умелый отец вставит завтра новое стекло. Будь совершенно спокойна.
Но Малин как раз не могла быть совершенно спокойна, так как она знала Мелькера и думала о нем сейчас со смешанным чувством нежности и досады: «Он верит в то, что говорит, святая невинность. Он в самом деле в это верит. Потом между делом забывает о своем обещании. А если уж вставит новое стекло, то раскокает при этом три других. Нужно спросить Ниссе, не найдется ли здесь кто-нибудь, чтобы мне помочь».
Вслух же она сказала:
— Ну а теперь пора засучить рукава. Ты, папа, кажется, собирался растопить плиту?
Мелькер потирал руки в предвкушении новой деятельности:
— Еще бы! Такое дело не доверишь женщинам и детям.
— Ну и отлично, — сказала Малин. — А женщины и дети пойдут искать колодец. Он, надеюсь, где-нибудь да есть.
Она слышала, как мальчики снуют на чердаке, и окликнула их:
— Эй, братишки! Пошли за водой!
Дождь прекратился. По крайней мере в ту минуту он не шел. Вечернее солнце, подбадриваемое пением дрозда в старом боярышнике, сделало несколько дерзких, но безуспешных попыток пробиться сквозь тучи. Дрозд, неустанно сыпавший свои трели, внезапно притих, увидев юных Мелькерссонов, шествовавших с ведерками по мокрой траве.
— Разве не здорово, что в усадьбе есть собственное вековое дерево? — спросила Малин, погладив мимоходом шероховатый ствол боярышника.
— А для чего оно, вековое дерево? — поинтересовался Пелле.
— Любоваться, — ответила Малин.
— И лазить на него — ты что, не знаешь? — добавил Юхан.
— С этого и начнем завтра утром, — заверил Никлас. — Как по-вашему, папа заплатил особо за то, что в усадьбе есть дерево, на которое можно лазить?
Шутка рассмешила Малин, а мальчики наперебой стали перечислять, за что на даче Мелькер должен был бы заплатить особо. Причал и старый ялик, привязанный к нему цепью, — раз. Красные сараи на берегу, с которыми надо познакомиться поближе, как только найдется время, — два. Чердак, который они уже облазили вдоль и поперек и где нашлось столько удивительных вещей, — три.
— И колодец, если в нем хорошая вода, — добавила Малин.
Но Юхан и Никлас не считали, что за это следует платить особо.
— А вот журавль был бы кстати, — заметил Юхан, вытаскивая из глубокого колодца ведро с водой.
— Ой, глядите, лягушонок в ведре, — завизжал от восторга Пелле.
Малин жалобно вскрикнула, и Пелле удивленно посмотрел на нее:
— Что с тобой? Ты не любишь лягушаток?
— Люблю, но не в питьевой воде, — ответила Малин.
Пелле так и подскочил:
— Можно, я возьму его себе? — Потом, обратившись к Юхану, сказал: — Думаешь, папа заплатил особо за лягушаток в колодце?
— Смотря по тому, сколько их там, — ответил Юхан. — Если их тьма-тьмущая, то они достались папе по дешевке.
Он взглянул на Малин, чтобы посмотреть, сколько лягушек она сможет вынести, но, кажется, она даже не слыхала, о чем шла речь.
Мысли Малин витали где-то далеко. Она стояла и думала о веселом столяре и о его жене. Счастливо ли они жили в своей усадьбе? Были ли у них дети, которые потом стали лазить на боярышник и, может, иногда падали невзначай с мостков в море? И много ли шиповника цвело в те времена на участке в июне, и так ли, как теперь, белела тропинка к колодцу, покрытая опавшими яблоневыми лепестками?
Потом она вдруг вспомнила, что веселого столяра и его жену выдумал Мелькер. Но она все-таки решила поверить в них. И еще она твердо решила: пусть в колодце бултыхается сколько угодно лягушек, пусть будет сколько угодно разбитых окон, а дом столяра ветхим-преветхим — ничто не помешает ей радоваться и быть счастливой именно здесь и теперь. Ведь стоит лето. И пусть не кончается июньский вечер. Задумчивый и молчаливый, как сегодня. И тихий. А над причалом пусть вьются чайки. Вот одна из них вдруг пронзительно закричала. И снова наступила эта непонятная тишина, от которой даже в ушах звенело. Дымчатая сетка дождя нависла над морем. Было красиво до грусти. С кустов и деревьев осыпались капли, веяло холодком вновь надвигающегося дождя, запахами земли, соленой воды и мокрой травы.
«Сидеть на солнечной лужайке, уплетать бутерброды и наслаждаться летом» — так представлял себе Мелькер первый вечер в усадьбе столяра. Получилось несколько иначе, но все-таки стояло лето, и Малин радовалась ему. Внезапно она почувствовала сильный голод и подумала: «Как там у Мелькера дела с кухонной плитой?»
А дела шли хуже некуда.
— Малин, где ты? — кричал он, поскольку привык звать дочь на помощь всякий раз, когда у него что-нибудь не ладилось. Но Малин поблизости не было, и, к своей досаде, он понял, что остался один и ему придется выпутываться самому.
— Один на один с Богом и железной плитой, которую давно пора вышвырнуть в окно, — проворчал он огорченно, но потом закашлялся от дыма и не мог вымолвить ни слова. Он уставился на плиту, которая сердито окуривала его, хотя он не причинил ей ни малейшего зла, разве что затопил, бережно и осторожно. Он помешал дрова кочергой, и новое облако дыма заклубилось вокруг него. Отчаянно кашляя, он бросился открывать окна. Едва он покончил с этим делом, как дверь отворилась и кто-то вошел. Опять этот величественный ребенок, который только что стоял на пристани. С редким именем Корвен или Чёрвен, или как там ее зовут. «И похожа на аппетитную колбаску, — подумал Мелькер, — кругленькая и славная». Насколько он мог разглядеть сквозь дым, лицо, видневшееся из-под зюйдвестки[6], было необычайно чистое и красивое: детское лицо, широкое и доброжелательное, с умными пытливыми глазами. Свою собаку-великанище девочка привела с собой. В доме собака выглядела еще более внушительной, казалось, она заполнила собой всю кухню.
Чёрвен из вежливости остановилась на пороге.
— Плита дымит! — сказала она.
— Разве? — горько усмехнулся Мелькер. — А я и не заметил.
Тут он так зашелся кашлем, что глаза чуть не вылезли из орбит.
— Да, дымит, — заверила Чёрвен. — Знаешь что? Может, в трубе лежит дохлая сова, у нас дома так было раз. — Пристально посмотрев на Мелькера, она лукаво улыбнулась: — У тебя все лицо в саже, ты черный как негр.
Мелькера душил кашель.
— Какой же я негр? Салака я, да к тому же свежекопченая. А вообще мне не нравится, что ты говоришь мне «ты». Называй лучше дядя Мелькер.
— Тебя так зовут? — спросила Чёрвен.
Мелькер не успел ответить, потому что тут, к счастью, вернулись домой Малин и мальчики.
— Папа, мы поймали в колодце лягушонка, — поспешно доложил Пелле. Но в тот же миг Пелле забыл всех лягушек на свете ради необыкновенной собаки, которую недавно видел на пристани и которая теперь стояла у них на кухне.
Мелькер был обескуражен.
— Лягушонок в колодце… в самом деле? «Такая уютная дача», — уговаривал меня агент. Но он почему-то не предупредил, что здесь целый зверинец: совы в трубе, лягушата в колодце, гигантские собаки на кухне. Юхан, пойди посмотри, нет ли в спальне какого-нибудь лося?
Дети дружно захохотали, как того и ждал отец. Иначе самолюбие Мелькера было бы уязвлено. Но Малин сказала:
— Фу, до чего здесь дымно!
— Сам удивляюсь, — признался Мелькер, осуждающе указав рукой на железную плиту. — Позорное пятно на репутации фирмы «Анкарерум».
Я пошлю им жалобу: «В апреле тысяча девятьсот восьмого вы поставили сюда плиту. Какого лешего вы это сделали, если она не топится?»
Но его никто не слушал, кроме Малин. Мальчики столпились вокруг Чёрвен и ее Боцмана и забросали девочку вопросами.
И она охотно рассказала, что живет в соседнем со Столяровой усадьбой доме. Там папина лавка, но дом такой большой, что хватает места всем.
— И мне, и Боцману, и папе с мамой, и Тедди с Фредди.
— А сколько лет Тедди и Фредди? — живо заинтересовался Юхан.
— Тедди — тринадцать, Фредди — двенадцать, мне — шесть, а Боцману — всего два года. Не помню, сколько лет маме и папе, но могу сходить домой и спросить, — с готовностью вызвалась она.
Юхан уверил ее, что это не так уж важно. Довольные, Юхан и Никлас переглянулись. Два мальчика — их ровесники, да еще в соседнем доме. Слишком хорошо, даже не верится!
— Что прикажете делать, если не удастся наладить плиту? — развела руками Малин.
Мелькер почесал затылок.
— Пожалуй, придется мне влезть на крышу и посмотреть, не торчит ли из трубы сова, как утверждает эта девочка.
— Ой, — заохала Малин. — Осторожнее. Не забудь, у нас только один отец.
Но Мелькер уже исчез за дверью. Он еще раньше приметил возле дома лесенку, а для мужчины, даже если он не очень ловкий, не ахти какой труд взобраться на крышу. Мальчики следовали за отцом по пятам, а вместе с ними и Пелле. Даже самая большая в мире собака не могла удержать его на кухне, когда папа достает дохлых сов из дымовой трубы. И Чёрвен, которая уже определила Пелле в свои друзья, хотя он и не подозревал об этом, степенно вышла во двор посмотреть — вдруг там будет что-нибудь веселое.
Начало показалось ей забавным. Чтобы вытащить из трубы сову, дядя Мелькер вооружился кочергой и, взбираясь по лестнице на крышу, держал ее в зубах. «Точно Боцман, когда тащит кость», — подумала Чёрвен. От одного этого она развеселилась. Стоя под яблоней, она тихонько от души смеялась. Но вдруг под тяжестью Мелькера лестничная перекладина обломилась, и он прокатился немного вниз на животе. Пелле испуганно вскрикнул, а Чёрвен снова тихонько рассмеялась.
Но потом она уже не смеялась. Потому что дядя Мелькер наконец добрался до крыши, а это было, по-видимому, опасно.
Да и Мелькер думал то же самое.
— Неплохой дом, — пробормотал он, — только высоковат.
Он начал сомневаться, не слишком ли здесь высоко для неопытного эквилибриста, которому к тому же скоро стукнет пятьдесят.
— Если я доживу до этого возраста, — приговаривал он, балансируя вдоль конька крыши и не спуская глаз с трубы. Но вот он взглянул вниз и чуть не свалился, увидев так далеко внизу перепуганные лица сыновей, обращенные к нему.
— Держись, папа! — закричал Юхан.
Чуть не разозлившись, Мелькер покачнулся. Ведь над ним была только бездонная высь, за что же ему держаться? Тут он услыхал пронзительный голос Чёрвен:
— Знаешь что? Держись за кочергу! Держись крепче, дядя Мелькер!
Но Мелькер, к счастью, был уже в безопасности. Он добрался до трубы и заглянул в нее. Одна лишь черная пустота.
— Послушай, Чёрвен, что ты болтаешь о дохлых совах, — закричал он с упреком, — нет здесь никакой совы!
— А может, там филин? — крикнул Никлас.
Тогда Мелькер рассерженно зарычал:
— Говорят вам, нет здесь никакой совы!
Тут он вновь услышал пронзительный крик Чёрвен:
— Хочешь сову? Я знаю, где они водятся. Только не дохлые!
Все вернулись на кухню. Настроение было подавленное.
— Придется жить всухомятку, — предупредила Малин.
Все печально уставились на плиту, которая не желала вести себя как положено. А им так хотелось горячего!
— Что за жизнь! — вздохнул Пелле, точь-в-точь как это частенько делал его отец.
Вдруг кто-то постучал в дверь, и в кухню вошла незнакомая женщина в красном дождевике, которую они видели впервые. Она быстро поставила на плиту эмалированную кастрюлю и улыбнулась всем широкой светлой улыбкой.
— Добрый вечер! Ах вот ты где, Чёрвен! Так и знала! Брр, как дымно! — сказала она и, не дождавшись ответа, добавила: — Надо же, я еще не представилась… Мэрта Гранквист. Мы ближайшие ваши соседи. Добро пожаловать!
Она сыпала словами и все время улыбалась; Мелькерссоны не успели слова вымолвить, как она уже подошла к плите и заглянула под колпак.
— Открыли бы вьюшку — вот и тяга была бы сильнее!
Малин расхохоталась, а Мелькер обиделся.
— Я первым делом открыл вьюшку, — заверил он.
— Сейчас-то она закрыта, а вот теперь открыта, — сказала Мэрта Гранквист и повернула вьюшку на пол-оборота. — Видно, она была открыта до вашего приезда, а господин Мелькерссон взял да и закрыл ее.
— Верх аккуратности! — съязвила Малин.
Все рассмеялись, и даже Мелькер. Но громче всех заливалась Чёрвен.
— Я знаю эту плиту, — сказала Мэрта. — Отличная плита!
Малин с благодарностью смотрела на нее. Стоило этой удивительной женщине войти в кухню, как сразу стало легче. Она была такая жизнерадостная и излучала приветливость, энергию и уверенность. «Какое счастье, что она наша соседка», — подумала Малин.
— Я вам приготовила жаркое, не побрезгуйте, — сказала она, указав на эмалированную кастрюлю.
Тут у Мелькера навернулись на глаза слезы, что случалось с ним, когда люди бывали добры к нему и к его детям.
— Мир не без добрых людей, — пробормотал Мелькер.
— Такие уж мы, сальткрокские, — засмеялась Мэрта Гранквист и добавила: — Ну, Чёрвен, пошли домой!
В дверях она обернулась.
— Если нужна еще какая помощь, скажите.
— У нас стекло разбито в комнате, — смущенно сказала Малин. — Но нам неудобно беспокоить вас по каждому пустяку.
— Я пришлю Ниссе, как только поедите, — пообещала Мэрта.
— Это он вставляет на Сальткроке стекла, — пояснила Чёрвен, — а бьем их я и Стина.
— Это еще что такое? — строго спросила мать.
— Мы не нарочно, — поторопилась объяснить Чёрвен. — Так выходит.
— Стина? А я ее знаю, — похвастался Пелле.
— Да-а? — И в голосе Чёрвен почему-то прозвучала нотка недовольства.
Пелле долго молчал. Да и о чем говорить, когда рядом такой пес, как Боцман. Пелле вис у него на шее.
— Ты славный пес, — шептал он ему на ухо.
Боцман позволял Пелле ласкать себя. Он смотрел на мальчика доброжелательным, отсутствующим и чуть грустным взглядом, и каждый, кто понимал выражение собачьих глаз, мог прочесть в них вечную преданность. Но Чёрвен было пора идти домой, а куда бы ни шла Чёрвен, за ней неотступно следовал Боцман.
— Боцман, отчаливай! — приказала она. И они ушли.
Окно на кухне было распахнуто, и Мелькерссоны услыхали снизу голос Чёрвен, проходившей мимо:
— Мама, знаешь что? Когда дядя Мелькер шел по крыше, он держался за кочергу.
Они услыхали и ответ Мэрты:
— Понимаешь, Чёрвен, они же горожане и не привыкли обращаться с кочергой.
Мальчики на кухне переглянулись.
— Она нас жалеет, — сказал Юхан. — А мы не нуждаемся в жалости.
Что же касается плиты, Марта не ошиблась. Плита не подвела, дрова в ней дружно трещали, и вскоре она накалилась докрасна, распространяя по кухне удивительное тепло.
— Святой домашний очаг! — сказал Мелькер. — У человека не было дома, пока он не изобрел очага.
— И пока она не пришла со своим жарким… — сказал Никлас и так набил рот мясом, что уже больше не мог вымолвить ни слова.
Они ели за кухонным столом, наслаждаясь теплом и домашним уютом. В плите шумел огонь, а за окном моросил дождь.
Когда мальчикам пришло время идти спать, дождь полил как из ведра. Нехотя покинули они обогретую кухню и потащились к себе на чердак, где было холодно, сыро и неуютно, хотя в плите на кухне еще теплился огонь. Пелле уже спал, закутанный в шерстяные кофты Малин, а на голову у него была натянута шерстяная шапочка.
Дрожа от холода, Юхан прижался носом к окну, пытаясь разглядеть дом Гранквистов. Дождь хлестал по стеклу, и мальчишка видел все сквозь плотную завесу струившейся воды. «Бакалейная лавка», — прочел он вывеску. Дом был такой же красный, как и Столярова усадьба. Участок спускался к заливу, где у Гранквистов был причал, такой же, как и в Столяровой усадьбе.
— Может, завтра познакомимся с этими ребятами, которые… — начал было Юхан, но внезапно осекся. На соседнем дворе происходило нечто странное. Дверь дома распахнулась, и кто-то выбежал под дождь. Это была девочка. В одном купальнике понеслась она к причалу, и за спиной у нее развевались длинные светлые волосы.
— Поди-ка сюда, Никлас, тут кое-что для тебя инте… — Но совсем оторопевший было Юхан снова осекся. Ибо дверь в соседнем доме опять распахнулась — и под дождь выскочила другая девочка, тоже в купальном костюме, и за спиной у нее тоже развевались длинные волосы, и она тоже неслась к причалу. Первая уже добежала до берега. Прыжок с мостков — и она уже скрылась под водой. Как только ее нос показался на поверхности, она закричала:
— Фредди, ты взяла мыло?
Юхан и Никлас молча переглянулись.
— Это и есть твои ребята, с которыми ты завтра хотел подружиться? — произнес наконец Никлас.
— Ну и дела! — только и вымолвил Юхан.
Они долго не спали в тот вечер.
— Не уснешь, пока ноги хоть чуточку не отогреются, — уверял Никлас.
Юхан согласился с ним. Они помолчали.
— Кажется, дождь перестал, — немного погодя сказал Юхан.
— Какое там, — ответил Никлас. — Над моей кроватью, наоборот, только начался.
«Бывает, что нравится, когда крыша течет, а бывает, что и не нравится…»
Никласу хотя и не нравилось, что с потолка капало на постель, но это его не очень огорчало, ведь ему было всего двенадцать лет и он не привык унывать. Зато оба брата отлично понимали, что Малин проведет бессонную ночь, если они тотчас доложат ей о новом бедствии, а так как они любили свою сестру и оберегали ее от неприятностей, то тихонько отодвинули постель Никласа от стены и поставили под капли ведро.
— Под стук капель глаза сами слипаются, — пробормотал Юхан, снова забираясь на свою кровать. «Кап, кап, кап!»
А Малин сидела в теплой кухне, не ведая о всех этих «кап, кап», и усердно строчила в своем дневнике. Ей непременно хотелось припомнить весь их первый день на острове Сальткрока. В заключение она написала:
Сижу здесь одна. Но такое чувство, словно на меня кто-то смотрит — не человек! Дом… Столярова усадьба! Дом столяра, миленький, полюби нас, будь так добр! Ведь ты только выиграешь от этого, тебе же все равно придется иметь с нами дело. Ты говоришь, что еще не знаешь, кто мы. Я могу рассказать. Этот длинный нескладный мужчина, который лежит в маленькой каморке при кухне и декламирует себе самому перед сном стихи, — Мелькер… Его ты должен опасаться, особенно если увидишь у него в руках молоток, или пилу, или какой другой инструмент. А вообще-то он добрый и безобидный. На чердаке три маленьких шалуна, о них я могу только сказать… да ведь ты, надеюсь, любишь детей? Тогда не рассердишься. Может, больше мне и незачем говорить? И ты, я думаю, привык к этому, пожалуй, Столяровы дети тоже не всегда были послушны? А тот, кто будет заботливо мыть твои окна и скоблить твои полы, тот, у кого со временем загрубеют руки, будет Малин собственной персоной. Хотя можешь быть уверен, что я и других заставлю помогать. А как же? Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы навести здесь порядок. Спокойной ночи, дорогая Столярова усадьба, теперь, верно, пора и спать. Маленькая холодная комнатушка на чердаке ожидает меня… но я стараюсь как можно дольше задержаться здесь, внизу, в твоей сельской кухне, у твоей раскаленной плиты, потому что здесь я чувствую себя рядом с твоим теплым бьющимся сердцем.
Так писала Малин и внезапно заметила, что ночь прошла. Занимался новый день, ясный и светлый. Подбежав к окну, она замерла, любуясь рассветом.
— Ни из одной кухни на свете… — прошептала она, поняв, что никогда в жизни не видела того, что увидела из этого окна, ничего, что бы ей так понравилось. Притихшее предрассветное море, причал, серые камни на берегу… все, все.
Распахнув окно, она услыхала пение птиц — ликуя, оно неслось ей навстречу. Пело несметное множество маленьких пичужек, но отчетливее всех слышала она трели дрозда в боярышнике. Он только что проснулся, бодрый и жизнерадостный. А бедный Мелькер все еще ворочался в каморке при кухне. Малин слышала, как он зевал, продолжая неустанно декламировать во весь голос:
О райский, предрассветный, Росой умытый мир…«Так оно и есть», — подумала Малин.
Плывем, плывем на Рыбью шхеру
Неделю спустя Малин писала:
Кажется, мы всегда жили на Сальткроке. Я знакома с жителями острова и примерно знаю, чем они занимаются. Я знаю, что Ниссе и Мэрта — самые добрые люди на свете, в особенности он, и самые расторопные, в особенности она. Он хозяйничает в лавке. Она помогает ему, а кроме того — работает на телефонном коммутаторе и на почте, управляется с детьми, собакой и домашним хозяйством и первая на острове спешит на помощь всякому, кто в ней нуждается. Это так похоже на Мэрту — примчаться к нам с кастрюлькой в руках. «Потому что у вас был такой растерянный вид», — объяснила она.
А что еще я знаю? У дедушки Сёдермана в животе «урчит просто бессовестно», как он сам сказал мне, и он непременно будет ездить каждый день к доктору в Нортелье лечиться.
Еще я знаю, что Вестерман не хочет как следует трудиться на своей земле.
— Ему бы все рыбачить да охотиться, совсем из ума выжил, — доверительно пожаловалась мне его жена.
Мэрта и Ниссе, старик Сёдерман, Вестерманы, а кто еще? Ну конечно, Янссоны. У них свое хозяйство, мы там берем молоко. Пройтись вечером по выпасу за молоком считается одним из дачных развлечений.
На острове есть и свой учитель, молодой паренек Бьёрн Шёблум.
Я познакомилась с ним, когда ходила за молоком в среду вечером, и мне показалось, будто он — хотя какое это имеет значение! — вовсе не «редкий нахал», как с ходу называет любого паренька Юхан, а, наоборот, вежливый и воспитанный. Даже как будто чистосердечный.
А на детей здесь просто не нарадуешься. Пелле целыми днями играет с Чёрвен и Стиной, но больше с Чёрвен. По-моему, девочки потихоньку соперничают из-за него, ну как бы спорят друг с дружкой: «Чур, мой слиток золота, я его первая нашла!» Но Чёрвен, понятно, берет верх. Да разве может быть иначе? Это необыкновенный ребенок, из тех, что сразу всем нравятся, причем неизвестно почему. Стоит только появиться ее симпатичной рожице, будто солнышко проглянет. Папа считает, что в ней есть что-то от извечной детской искренности, доброты и веры в справедливость. Именно такими, собственно, и должны быть все дети, хотя в жизни не всегда так бывает. Чёрвен — любимица всего острова. Она бродит, где ей только вздумается, она заходит в любой дом, и всюду ей рады.
«Нет, вы только посмотрите, кто к нам пришел!» — словно приход Чёрвен для них настоящий праздник. А стоит ей рассердиться, что иногда с ней тоже случается — ведь не ангел же она в самом деле, — будто буря разбушевалась: гром гремит, молнии сверкают, ой-ой-ой! Но сердится она недолго.
Стина совсем другая, веселая и покладистая, с на редкость очаровательной беззубой улыбкой. Не знаю, как уж ее угораздило сразу лишиться всех верхних передних зубов, но когда она смеется, это придает ее лицу немножко диковатое и в то же время необычайно забавное выражение. Она самая заядлая сказочница на всем острове и усердна в своем увлечении сверх всякой меры. Даже папа, который вообще влюблен в ребятишек и обожает разговаривать не только со своими детьми, и тот начал осторожничать со Стиной и теперь при встречах предпочитает обходить ее стороной. Хотя он это отрицает.
— Наоборот, — сказал он на днях. — До чего же здорово, когда Стина приходит и начинает рассказывать мне свои сказки… Да, я испытываю ни с чем не сравнимое блаженство, когда она наконец уходит…
Юхан и Никлас живут счастливо и беззаботно. Они резвятся с Тедди и Фредди, двумя настоящими амазонками, к тому же прехорошенькими. Поэтому не так уже часто приходится видеть своих братьев, особенно когда надо мыть посуду. На ходу они сообщают:
— Идем удить рыбу, идем купаться, будем строить шалаш, сколотим плот, плывем на Рыбью шхеру ставить сети.
Как раз этим последним они и занимались сегодня вечером, а спозаранку поедут вытягивать сети из фьорда, как я слышала. В пять часов утра. Если, конечно, им удастся так рано проснуться.
Им это удалось. Проснувшись в пять утра, мальчики живо оделись и со всех ног бросились к причалу Гранквистов, где их уже ждали с лодкой Тедди и Фредди. Боцман тоже проснулся рано. Он стоял на мостках и с упреком смотрел на Тедди и Фредди. Неужто им вздумалось уйти в море без него?
— Ладно, валяй сюда, — сказала Фредди. — Где еще быть Боцману, как не в лодке. Хотя сам знаешь, Чёрвен так разбушуется, что стены пойдут ходуном.
Похоже, будто Боцман, услышав имя Чёрвен, заколебался. Но лишь на одно мгновение. В следующую секунду он мягко прыгнул в лодку, и она закачалась под его тяжестью.
Фредди похлопала собаку по спине.
— Может, ты надеешься вернуться домой до того, как проснется Чёрвен? Не надейся, Боцман миленький.
Она села в лодку и налегла на весла.
— Собаки рассуждать не могут, — сказал Юхан. — Боцман вовсе ничего не думает. Он прыгает в лодку просто потому, что видит там тебя и Тедди.
Но Тедди и Фредди стали уверять, что Боцман думает и чувствует совсем как человек.
— Даже еще лучше, — сказала Тедди. — Давай поспорим, что в этом собачьем котелке никогда не бывало ни одной злой мыслишки, — добавила она, лаская огромную голову Боцмана.
— А что у тебя самой в котелке? — спросил Юхан и отечески похлопал по белокурой макушке Тедди.
— Порой там кипят злые мыслишки, — призналась Тедди. — Фредди добрее. Она добрая, под стать Боцману.
До шхеры было грести почти час, и они проводили время, выясняя, как варят их такие разные котелки и что за мыслишки в них водятся.
— Вот ты, Никлас, что ты думаешь, когда видишь такое? — спросила Тедди и сделала рукой жест, охвативший и это прекрасное, только занявшееся утро, и белые летние облачка на небе, и солнечные зайчики на воде.
— Я думаю о еде, — ответил Никлас.
Тедди и Фредди уставились на него.
— О еде? С чего бы?
— О еде я думаю чаще всего, — с ухмылкой сказал Никлас.
Юхан поддержал его.
— Да у него в котелке мыслей-то раз-два и — обчелся, — сказал он, щелкнув Никласа по лбу.
— А вот у Юхана в котелке мыслей, что сельдей в бочке, — сказал Никлас. — Иногда им становится там так тесно, что они переливаются через край. И все потому, что слишком много читает.
— Я тоже много читаю, — сказала Фредди. — Кто знает, может, и у меня мысли начнут переливаться через край. Интересно, что я тогда буду чувствовать?
— А у меня мысли разные, когда я бываю Теодорой и когда Тедди, — сказала Тедди.
Юхан с удивлением посмотрел на нее:
— Теодора?
— А ты и не знал?! Представь, меня зовут Теодора, а Фредди — Фредерика.
— Это папина сумасбродная выдумка, — объяснила Фредди. — А мама переделала нас в Тедди и Фредди.
— Когда я Теодора, мои мысли прекрасны, как мечта, — сказала Тедди. — Я тогда пишу стихи, собираюсь поехать в Африку, чтобы лечить там прокаженных, или решаю стать космонавтом и первой попасть на Луну, или еще что-нибудь в этом роде.
Никлас посмотрел на Фредди, которая налегала на весла.
— Ну а когда ты Фредерика, о чем твои мысли?
— У меня таких не водится, — ответила Фредди. — Я всегда Фредди. Но мои мысли, мысли Фредди, бывают хитрые-прехитрые. Хотите узнать мою последнюю мысль?
Юхан и Никлас загорелись любопытством. Им очень хотелось узнать самую последнюю мысль Фредди.
— Она такая… — начала Фредди. — Неужто никто из этих двух лоботрясов не может немножко погрести?
Юхан тут же сменил Фредди на веслах, хотя чуточку опасался, что у него ничего из этого не выйдет. По вечерам он и Никлас забирались в старый рассохшийся ялик столяра и гребли. Втайне от всех они тренировались в заливчике Янссона, чтобы не стать посмешищем, когда окажутся в одной лодке с Тедди и Фредди.
— Мы ведь тоже знаем толк в лодках, хоть и не живем в шхерах, — уверял Юхан, когда они в первый раз встретились с девочками Гранквист. На это Фредди чуть насмешливо заметила:
— Стало быть, вырезали в детстве лодочки из коры?
Тедди и Фредди родились и выросли на Сальткроке. Они были душой и телом дочерьми шхер, знали толк в лодках, чувствовали море, погоду и ветер, умели ловить рыбу сетью, на перемет и на блесну. Они ловко чистили салаку и разделывали окуней, плели снасти и вязали крепкие морские узлы, а лодку голанили[7] одним веслом так же ловко, как и двумя. Им были известны окуневые отмели и заводи в камышах, где, если повезет, попадались и щуки. Они различали голоса морских птиц и знали, какая из них кладет какие яйца. Среди необитаемых островков, шхер и проливов, образующих настоящий лабиринт вокруг Сальткроки, они чувствовали себя увереннее, чем у мамы на кухне.
Они не хвалились своей ловкостью и сноровкой, считая, что все девочки в шхерах такие же проворные от природы, как они. Ведь никто не удивляется тому, что гаги рождаются с плавательной перепонкой на лапках, а окуни с жабрами.
— А вы не боитесь, что у вас вырастут жабры? — частенько спрашивала мать, выгоняя дочерей из моря, когда ей до зарезу нужна была их помощь на коммутаторе или в лавке. И в любую погоду она находила девочек в море, где они плавали с такой же легкостью, как скакали по причалам и лодкам или взбирались на вершину мачты допотопного траулера, стоявшего на приколе в заливчике Янссона.
Когда путешественники добрались до Рыбьей шхеры, на ладонях у Юхана вздулись мозоли, кожу саднило, но он чувствовал себя героем, — разве не он греб почти всю дорогу, да еще так классно! Это его раззадорило, и он разошелся пуще обычного.
— Бедный мальчик, весь в отца, — не раз говорил ему Мелькер. — Настроение у тебя скачет то вверх, то вниз.
Именно сейчас настроение у Юхана подскочило вверх, да, впрочем, и остальные веселились вовсю. Что касается настроения Боцмана, то если ему и было весело, то он умело это скрывал. У него по-прежнему был непоколебимо печальный вид. Но может, где-то в глубине своей собачьей души он все же испытал удовлетворение, когда блаженно разлегся на уступе скалы, прижавшись спиной к нагретой стене старого лодочного сарая Вестермана. Он отдыхал, присматривая за детьми, которые, сидя в лодке, вытягивали из фьорда сеть. Они так галдели и шумели, что Боцман было забеспокоился, уж не тонет ли кто из них и не нужна ли его помощь. Где ему знать, что шумными криками они выражали свой восторг на редкость удачной рыбалкой.
— Треска! Целых восемь! — кричал Никлас. — У Малин будет бледный вид. Правда, она говорила, что ей нравится на обед отварная треска под майонезом, но ведь не целую же неделю подряд есть одну треску.
Юхан расходился все больше и больше.
— Треска — объедение! — кричал он. — Пусть скажет, кто не согласен?
— Наверно, треска, — спокойно ответила Фредди.
С минуту Юхан погоревал о треске и вдруг вспомнил о самом младшем брате, который, окажись он с ними, горевал бы еще больше.
— Повезло, что мы не взяли Пелле, — сказал Юхан. — Он не одобрил бы этой затеи.
Боцман с пригорка у лодочного сарая бросил последний настороженный взгляд на детей в лодке и, убедившись, что они не нуждаются в его помощи, зевнул и положил голову между передними лапами. Теперь-то он наконец вздремнет.
И если правда то, на чем настаивали Тедди с Фредди, а именно, что Боцман мыслит и чувствует, как человек, то, прежде чем уснуть, он подумал, проснулась ли Чёрвен и что она делает.
Да Чёрвен уже проснулась. Сон с нее как рукой сняло, едва она обнаружила, что Боцман не лежит на своем обычном месте возле ее кровати. Поразмыслив, она поняла, в чем дело, и, точь-в-точь как предсказывала Фредди, страшно рассердилась.
Насупив брови, Чёрвен вылезла из кровати. Боцман был ее собственной собакой, и никто не имел права брать его с собой в море. А Тедди и Фредди вечно так делают, да еще без спросу. Этому пора положить конец, и Чёрвен прямехонько направилась в спальню — жаловаться родителям. Они еще спали, но это ее не смутило. Она подошла к отцу и принялась его безжалостно трясти.
— Папа, знаешь что, — сказала она в сердцах. — Тедди и Фредди увезли с собой Боцмана на Рыбью шхеру.
Ниссе с трудом открыл один глаз и посмотрел на будильник.
— И тебе обязательно надо сообщить мне об этом в шесть утра?
— Но раньше я не могла, — оправдывалась Чёрвен. — Я сама только что заметила.
Мэрта заворочалась в соседней постели и, полусонная, пробормотала:
— Уймись, Чёрвен, не шуми!
Мэрте скоро надо было вставать и начинать новый трудовой день. Последние полчаса до звонка будильника были для нее на вес золота, но Чёрвен этого не понимала.
— А я не шумлю, а просто злюсь, — ответила Чёрвен.
В комнате, где злилась Чёрвен, мог спать разве что глухой. Мэрта почувствовала, что от раздражения она окончательно проснулась, и нетерпеливо спросила:
— И чего ты злишься? Боцману ведь тоже хочется иногда немного поразвлечься.
Тут уж Чёрвен дала волю своему гневу.
— А как же я, — кричала она, — мне, выходит, никогда не хочется развлечься! Ишь как нечестно!
— Уходи, Чёрвен! Иди куда хочешь, раз ты такая злючка, только бы не слыхать твоего крика.
Чёрвен застыла на месте с открытым ртом. Она молчала несколько секунд, и родители уже было понадеялись, что наконец-то в спальне настанет блаженная тишина. Они не понимали, что Чёрвен просто собиралась с силами.
— Ну ладно же! — закричала она снова. — Я уйду отсюда! Уйду и больше не вернусь! Потом не плачьте, что у вас нет Чёрвен.
Тут Мэрта поняла, что дело принимает серьезный оборот, и примирительно протянула руку Чёрвен:
— Ты ведь не бросишь нас насовсем, маленькая оса?.
— Брошу, вам же лучше будет, — буркнула Чёрвен. — Сможете спать сколько хотите.
Тогда Мэрта сказала ей, что ни за что на свете они не захотят расстаться со своей любимой Чёрвен, хотя приходить в спальню в шесть часов утра, когда мама с папой спят, ей вовсе не обязательно. Но Чёрвен ее не слушала. Хлопнув дверью, она в одной рубашке выскочила из комнаты в сад.
— Им бы только спать да спать, — бурчала она, ничего не видя перед собой от горьких елее, застилавших глаза. Но потом она поняла, что встала слишком рано. День только занимался. Воздух был пропитан ночной прохладой, и мокрая от росы трава холодила голые ноги. Солнце еще не взошло, но чайки уже проснулись и, как всегда, пронзительно кричали. Одна из них, усевшись на верхушку флагштока, смотрела по сторонам с таким победоносным видом, будто была хозяйкой всей Сальткроки.
А вот Чёрвен не торжествовала победу. Она в раздумье срывала пальцами ног травинки. На душе у нее кошки скребли. Она уже раскаивалась, что вела себя так по-детски. Грозиться уйти из дому — так могут поступать лишь маленькие дети, и папа с мамой это знали не хуже ее. Но возвратиться теперь назад было бы унизительно. Так просто она на это не пойдет. Надо найти достойный выход из этой истории. Чёрвен долго раздумывала и успела сорвать немало травинок, прежде чем ее вдруг осенило. Тогда она подбежала к открытому окну спальни и просунула туда голову. Родители окончательно проснулись и уже начали одеваться.
— Я пойду в служанки к Сёдерману, — объявила Чёрвен, довольная своей удачной выдумкой. Пусть родители поймут, что она не капризничала, а говорила серьезно.
Сёдерман жил один в своем домике на берегу фьорда и постоянно жаловался, что ему без помощи трудно вести хозяйство.
— А ты, Чёрвен, не пошла бы ко мне в служанки? — как-то спросил он ее.
Но тогда у нее как раз не было времени. Как здорово, что теперь она вспомнила об этом! И вовсе не обязательно очень долго ходить в служанках. Потом можно снова вернуться к папе и маме и быть их любимой дочкой Чёрвен, будто она и не ссорилась вовсе.
Ниссе высунул в окно руку и отечески потрепал Чёрвен по щеке.
— Значит, больше не сердишься, оса ты этакая?
Чёрвен смущенно кивнула головой:
— Не-а.
— Молодчина, — похвалил Ниссе. — Чего попусту сердиться, на сердитых воду возят.
Чёрвен не возражала.
— А Сёдерман захочет взять тебя в служанки? — спросила Мэрта. — Ведь у него есть Стина.
Об этом Чёрвен как-то не подумала. Сёдерман звал ее в помощницы прошлой зимой. Тогда у него никакой Стины не было, она жила в городе со своей мамой. Но Чёрвен быстро нашлась:
— Служанки должны быть сильные, а я и есть сильная.
И она пустилась бежать к Сёдерману, чтобы он как можно скорее узнал, какое ему привалило счастье. Но Мэрта окликнула ее.
— Служанки не являются на работу в ночных рубашках, — сказала она. И Чёрвен на это ничего не могла возразить.
Сёдерман чинил на завалинке сети для салаки, когда примчалась Чёрвен.
— Они должны быть сильные, тра-ля-ля! — напевала она. — Чертовски сильные, тра-ляля-ля!
Увидев Сёдермана, она смолкла.
— Дедушка Сёдерман, знаешь что? Угадай, кто тебе сегодня будет мыть посуду?
Сёдерман не успел даже сообразить, что к чему, как позади него из окна высунулась взлохмаченная головка Стины.
— Я! — объявила она.
— Как бы не так, — отрезала Чёрвен. — Ты не больно-то сильная.
Прошло немало времени, пока она убедила в этом и Стину, которой волей-неволей пришлось уступить. Чёрвен смутно представляла, чем занимаются служанки. На острове их никогда не было. В ее воображении это были сильные, прямо-таки твердокаменные существа, которым неведомы преграды, подобно ледоколам, прокладывающим зимой путь для судов по замерзшему фьорду. С такой же силой и принялась Чёрвен за мытье посуды на кухне Сёдермана.
— Ничего, если немножко посуды и разобьется, — успокоила она Стину, когда та запричитала при виде разбитых тарелок, упавших на пол.
Чёрвен не жалела порошка, и мыльная пена горой вздымалась в тазу. Она усердно мыла посуду и распевала во все горло, так что ее слышал даже Сёдерман, а Стина с кислым видом сидела на стуле и наблюдала за ее работой. Она изображала из себя хозяйку дома, «ведь им не нужно быть такими сильными» — так объяснила ей Чёрвен.
— Да, чертовски сильными, тра-ля-ля! — пела Чёрвен.
Но тут ее осенила новая мысль.
— Я еще напеку блинов, — сообщила она.
— А как их пекут? — удивленно спросила Стина.
— Надо размешать тесто, потом еще размешать, а потом еще и еще… — объяснила Чёрвен.
Но вот она кончила мыть посуду и ловко выплеснула грязную воду в окошко. А под окошком на солнышке грелась кошка Сёдермана Матильда. Она вскочила и с диким мяуканьем, вся в мыльной пене, бросилась через открытую дверь в кухню.
— Нельзя плескать водой на кошек, — строго сказала Стина.
— Несчастный случай! — оправдывалась Чёрвен. — Но раз уж мы облили кошку водой, ее надо вытереть досуха.
Она взяла кухонное полотенце, и вдвоем со Стиной они принялись вытирать и успокаивать кошку. По всему было видно, что Матильда возмущена их подлым поступком. Сначала она сердито фыркнула, а потом ее сразу потянуло ко сну.
— Где у вас мука? — спросила Чёрвен, когда она наконец смогла заняться блинами. — Достань!
Стина послушно взобралась на стул, привстала на цыпочки и с трудом дотянулась до банки с мукой, которая стояла на верхней полке. Банка оказалась для нее чересчур тяжелой. Как видно, Чёрвен сказала правду: Стина была не очень сильная.
— Ой, мне не удержать ее! — закричала Стина. Банка качнулась в ее слабеньких руках, и мука просыпалась на пол. И снова на Матильду, уснувшую на полу у кухонного шкафа.
— Гляди, совсем другая кошка! — ахнула пораженная Чёрвен.
Матильда всю жизнь была черной, а животное, которое с громким мяуканьем кинулось вон из кухни, скорее походило на белое привидение с дикими, выпученными глазами.
— Так она перепугает до смерти всех кошек на Сальткроке, — сказала Чёрвен. — Бедная Матильда, не везет ей сегодня.
Попрыгуша Калле заверещал в клетке, словно потешаясь над бедами Матильды. Стина открыла дверцу и выпустила ворона.
— Я учу его говорить, — похвасталась она перед Чёрвен. — Я научу его говорить «Пошел прочь!».
— Зачем? — спросила Чёрвен.
— Так говорит бабушка Мелькерссонов, — объяснила Стина. — И ее попугай тоже.
В дверях показалась знакомая фигура. Это был Пелле.
— Чего вы тут делаете? — спросил он.
— Блины печем, — ответила Чёрвен. — Только вот половина муки пошла на Матильду. И теперь вряд ли что получится.
Пелле вошел в кухню. Ему, как и всем детям, нравилось бывать в гостях у Сёдермана, хотя на всем острове не было меньше домишки — кухня да комнатка. Но зато сколько всяких диковин, просто глаза разбегаются.
Не считая Попрыгуши Калле, который был для Пелле всего важнее, у Сёдермана были: чучело гаги, старые юмористические журналы за несколько лет да еще таинственная картина, на которой люди во всем черном везли мертвых на санках по льду. Под картиной было написано: «Чума». И еще у Сёдермана была бутылка с маленьким парусником внутри. Пелле мог часами простаивать возле этой бутылки, и Стине не надоедало показывать ее ему.
— И как это они умудрились засунуть парусник в бутылку? — удивлялся Пелле.
— Вот и умудрились, — гордилась Стина. — Этого даже твоей бабушке не сделать.
— Куда ей, труднее этого ничего на свете не бывает, — подтвердила Чёрвен. — Взгляните-ка на меня!
Дети забыли и о паруснике, и о бутылке при виде Чёрвен. Она стояла посреди комнаты, а на голове у нее восседал ворон. Это было удивительное, просто сказочное зрелище, которое на время лишило их дара речи.
Чёрвен чувствовала, как когти ворона вцепились в ее вьющиеся волосы, но продолжала блаженно улыбаться.
— Вот бы он снес мне в волосы яйцо!
Но Пелле разочаровал ее:
— Ворон не умеет. Другое дело — жена ворона. Неужто ты этого не знаешь?
— Ну и что, раз он может научиться говорить «Пошел прочь!», он может научиться и яйца нести.
Пелле мечтательно посмотрел на ворона и со вздохом сказал:
— И мне бы хотелось какую-нибудь зверюшку, а то у меня одни только осы.
— Где ты их держишь? — спросила Стина.
— Дома, в Столяровой усадьбе. Там под самой крышей прилепилось осиное гнездо. Папу они уже раз ужалили.
Довольная Стина улыбнулась беззубой улыбкой.
— А у меня много разных животных: ворон, кошка, два ягненка.
— Расхвасталась, они не твои, а дедушки Сёдермана, — сказала Чёрвен.
— Все равно они мои, пока я живу у дедушки, — ответила Стина. — Съела?
Чёрвен внезапно насупилась и с обидой сказала:
— А у меня есть собака. Если только эти паршивцы когда-нибудь вернутся с ней домой.
Ее собака, ее Боцман! Как раз теперь он весело разгуливал один по всему острову, а эти так называемые паршивцы даже не заметили его отсутствия.
Утро они провели чудесно, просто замечательно! «Сначала окунемся», — предложила Тедди, и они выкупались. Вода была такая, как ей и положено быть в июне. Лишь юные безумцы, двенадцати-тринадцати лет от роду, могут добровольно нырять в такую ледяную воду. Но они и были такими безумцами и не думали умирать от этого, а, наоборот, жили и радовались. С ликующими криками бросались они со скал в море, ныряли, плавали, играли и плескались в воде, пока совсем не посинели от холода. Тогда они разожгли костер на подветренной стороне скалы, уселись вокруг огня и почувствовали, что в жилах у них течет кровь всех индейцев, всех охотников, всех первооткрывателей, всех людей каменного века и прочих наших предков, которые вот так же грелись у костра с тех пор, как живет на земле род человеческий. И сами они были рыбаками, охотниками, землепроходцами. Они жили вольной жизнью туземцев в лесной глуши, пекли свою добычу на углях, а ласточки, чайки и бакланы кружили над ними и истошно кричали о том, что вся печеная треска на этом острове принадлежит им, и только им.
Но захватчики невозмутимо сидели вокруг костра, уплетали за обе щеки вкусную треску и самым недопустимым образом галдели на весь остров. «Кра, кра, кра!» — кричали они, словно растревоженная воронья стая, и все потому, что только сейчас создали секретный клуб, которому дали секретное же название «Четыре сальткроковца», и теперь клялись вечно хранить это в тайне. Но их воинственные крики отнюдь пё помогали сохранить тайну: ласточки, чайки и бакланы прислушивались к ним с явным неудовольствием.
«Кра, кра, кра!» — неслось над островами, шхерами и фьордами, но больше ничего нельзя было разобрать, потому как все остальное было так секретно, так особо секретно, так сверхсекретно.
Костер догорел и покрылся пеплом, а они все лежали на согретой солнцем скале и болтали о своих тайнах, которыми они займутся, как только у них найдется свободная минута. Время шло. Июньское солнце щедро отдавало юным путешественникам все свое тепло, и они блаженствовали душой и телом, ощущая лето как нечто прекрасное, неописуемое.
Они блаженствовали до тех пор, пока Фредди не заметила во фьорде дрейфующую лодку. Она покачивалась далеко от берега, и они с трудом различали ее. Но все-таки они увидели, что в лодке никого не было.
— И как только люди привязывают свои лодки? — удивился Юхан.
Тедди вскочила, словно ее поразила страшная мысль.
— Да, просто удивительно, — сказала она, внимательно поглядев вокруг. В расселине скалы, куда они втащили лодку, было пусто. Тедди сурово посмотрела на Юхана: — Поражаюсь, как тебя угораздило так привязать лодку.
Когда они причалили к острову, Юхан сам вызвался пришвартовать лодку, уверяя, что сделает это по всем правилам.
— Ну не странно ли, когда сын как две капли похож на отца, — любила говорить Малин о Юхане. — Странно, но факт.
Далеко от берега в лучах солнца поблескивала их лодка. Фредди взобралась на уступ скалы и оттуда замахала лодке обеими руками:
— До свидания, до свидания, лодочка! Привет Финляндии!
Юхан, красный как рак, сконфуженно поглядывал на товарищей.
— Я во всем виноват, — признался он. — Вы на меня сердитесь, да?
— Ладно, — сказала Тедди, — с кем не бывает.
— А как же мы отсюда выберемся? — растерянно спросил Никлас, пытаясь скрыть свой испуг.
Тедди пожала плечами:
— Придется подождать, пока кто-нибудь не проедет мимо на лодке, хотя можно прождать несколько недель.
Ее так и подмывало нагнать на ребят страху.
— За столько времени Боцман околеет с голоду. — с уверенностью сказал Юхан. Он не раз видел, сколько мяса съедала эта собака.
Тут они впервые подумали о Боцмане. Куда он, собственно, девался? Они уже давно его не видели — это они твердо помнили.
Фредди крикнула:
— Боцман!
Собака не появилась. Тогда они начали звать ее хором, и испуганные чайки, зашумев крыльями, улетели прочь. Но Боцман все равно не появился.
— Ни собаки, ни лодки, — сказала Тедди. — Ну-ка, чего у нас еще нет?
— Еды, — добавил Никлас.
Но тут Фредди победоносно указала на рюкзак, который она спрятала в расщелине скалы.
— Вот здорово! Полный рюкзак бутербродов да еще треска! Целых семь штук!
— Восемь, — поправил Юхан.
— Не путай, одну мы уже съели, — напомнила Фредди.
— Все равно восемь, — настаивал Юхан, — считая и меня. Крупнее трески в этих северных шхерах нет.
Дети стояли в растерянности. Свет дня сразу померк, и им захотелось домой.
— Кажется… — начала Тедди, и лицо ее еще более помрачнело. — Кажется, с моря надвигается туман.
Но в тот же миг они услыхали привычное тарахтенье мотора, доносившееся с фьорда, сперва совсем слабое, потом все более явственное.
— Ой, да это моторка Бьёрна! — закричала Фредди, и они с Тедди от радости начали прыгать и кричать, как дикари. — Смотрите, Бьёрн тянет на буксире нашу лодку!
— Кто такой Бьёрн? — спросил Никлас.
Дети во все глаза смотрели на приближающуюся моторку. Тедди замахала мотористу. Это был загорелый юноша с грубоватым, но симпатичным лицом. Оно было словно выточено твердым резцом суровой северной природы. С виду он походил на рыбака, да и моторка у него была как у заправских рыбаков.
— Привет, Бьёрн! — закричала Тедди. — Ты явился как по заказу. Это наш учитель, — объяснила она Никласу.
— И вы запросто зовете его Бьёрн? — спросил удивленный Никлас.
— Так его все зовут, — объяснила Тедди. — Мы же с ним старые знакомые.
Моторка замедлила ход и подрулила к скале, где стояли дети.
— Получайте вашу посудину! — закричал Бьёрн, бросая Тедди конец каната, которым был привязан ялик к моторке. — Как это вы так ловко пришвартовываетесь?
Тедди рассмеялась:
— Как придется!
— Оно и видно. Только от последнего способа советую вам отказаться. Навряд ли я снова приеду подбирать ваше барахло. — А потом он наказал: — Сию минуту плывите домой! Надвигается туман, и если хотите поспеть до него, спешите!
— А ты как же? — спросила Фредди.
— Мне нужно еще заехать на Заячью шхеру, — ответил Бьёрн, — а то я взял бы вас на буксир.
И он снова ушел в море, и тарахтенье мотора со стороны Заячьей шхеры слышалось все слабее и слабее.
Будь с ними Боцман, они могли бы тотчас отправиться домой, и Мелькеру не пришлось бы в тот вечер глотать таблетки, чтобы успокоиться. Но жизнь состоит из мелких и крупных приключений, которые цепляются друг за друга, как усики гороховых стеблей. Обыкновенная щучка может доставить большие неприятности и заставить взрослых мужчин, вроде Мелькера-старшего, принимать таблетки.
Щучка была не такая уж маленькая. Это была огромная хищная рыбина килограмма на два весом, и Боцман познакомился с ней во время прогулки по шхере. Знакомство, правда, ограничилось тем, что они, застыв на месте — Боцман на гранитной глыбе на берегу, а щука на отмели фьорда, — не сводили глаз друг с друга в течение целого часа. Никогда раньше собаке не приходилось испытывать холодный взгляд бессмысленных щучьих глаз, никогда в жизни Боцман не видел такого непонятного зверя, и он был не в силах сдвинуться с места. А щука смотрела на него так, будто думала: «Глазей себе, чучело, сколько влезет, меня не испугаешь, и я останусь здесь, пока не надоест».
Эта щука отняла у них драгоценное время. И еще очень не скоро дети с собакой забрались в лодку, сложив туда предварительно треску, сети, рюкзаки и купальные костюмы. А туман тем временем надвинулся еще ближе. Огромные бесформенные облака тумана клубились над морем, и не успели дети отъехать от шхеры, как их окутала непроницаемая серая мгла, которая захватила их в свои влажные объятия.
— Так бывает только во сне, — сказал Юхан.
— Во всяком случае, такой сон не по мне, — заверил Никлас.
Откуда-то издалека до них доносились приглушенные гудки сигнальной сирены, вокруг же царили безмолвие и тишина. Нравилось Никласу или нет, но было пустынно и жутко, точь-в-точь как бывает в кошмарном сне.
Заблудились в тумане
Дома, над Сальткрокой, по-прежнему светило солнце, и Мелькер красил садовую мебель. Малярничать ему ни разу не приходилось с самого детства.
— С тех пор, как я однажды нарисовал краской на обоях в гостиной крошечного злого старичка, — жаловался он дочери.
Пришла пора наверстать упущенное.
— Теперь легко быть маляром, — говорил он дочери. — Нынче достаточно ручного малярного пульверизатора. Получается быстро и красиво.
— Ты в этом уверен? — спросила дочь.
С самого начала она предупредила Ниссе Гранквиста: ни в коем случае не продавать Мелькеру тех вещей из своей лавки, к которым Мелькера и близко подпускать нельзя.
— Ни косы, ни топора, ни вертела, — наказала она ему.
— Даже вертела? — удивился Ниссе. — Какой же вред можно причинить вертелом?
— Попробовали бы пожить с ним под одной крышей девятнадцать лет, тогда не так бы заговорили, — ответила Малин. — Хотя, конечно, вертел можете ему продать, только уж, пожалуйста, позаботьтесь, чтобы на полках в лавке не было бы недостатка в пакетах первой помощи и кровоостанавливающих средствах.
Она совсем забыла оговорить малярный пульверизатор, и теперь Мелькер, счастливый, как ребенок, поливал краской садовый стул, который, наверно, не красили с той самой поры, когда веселый столяр смастерил его.
Чёрвен отказалась от места служанки после двух долгих часов верной и безупречной службы. Они втроем — Чёрвен, Пелле и Стина — ходили по пятам за дядей Мелькером. Как весело малярничать! Они то и дело вызывались ему помочь.
— И не приставайте, — говорил Мелькер. — Это моя игрушка, настал мой черед позабавиться.
— Ты что, дядя Мелькер, маляр? — спросила Чёрвен.
Мелькер выпустил поток краски на стул.
— Нет, почему же, — ответил Мелькер. — Но видишь ли, каждый настоящий мужчина должен уметь все делать.
— А ты настоящий? — поинтересовалась Червен.
— Спрашиваешь! — заступился за отца Пелле.
— Это уж точно, — удовлетворенно поддакнул Мелькер. — Самый что ни на есть настоящий, с вашего позволения.
В тот же миг подлетела, жужжа, одна из ос, которых Пелле считал своими. Поскольку Мелькера однажды ужалила оса, он тотчас встал в позу фехтовальщика и принялся отбиваться от нее пульверизатором. Как уж там случилось, потом было трудно разобраться. Вообще в его несчастьях никогда ничего нельзя было понять, и для всех они оставались загадками. Малин услышала его крики и подбежала к окну. Мелькер стоял в саду с зажмуренными глазами, а лицо у него было покрыто толстым слоем краски. «Настоящий мужчина» умудрился размалевать себя так, что стал похож на торт со взбитыми сливками.
«Или на Матильду», — подумала Чёрвен и негромко рассмеялась. А Пелле заплакал. Но Мелькеру вовсе не грозила опасность. Он вовремя сообразил зажмуриться и теперь с закрытыми глазами осторожно ковылял на кухню за помощью к Малин. Он шел, растопырив руки и задрав голову как можно выше, чтобы краска не стекала за ворот рубашки и чтобы Малин сразу догадалась, что с ним стряслось на сей раз.
Не пройдя и нескольких шагов, он наткнулся на дерево.
Это была яблоня, которую посадил и заботливо выращивал веселый столяр. Мелькер тоже полюбил это дерево, но тут он испустил такой негодующий вопль, что Малин, уже, казалось бы, привыкшая к бурным проявлениям его чувств, и та ахнула.
Пелле расплакался еще сильнее, да и Стина всхлипнула. Только. Чёрвен, увидев, как покрытое белой краской лицо Мелькера’ украсили мох и лишайники, словно крошки зеленого миндаля сливочный торт, чуть не подавилась со смеху. Но сочла за лучшее спрятаться за угол дома и там посмеяться вволю, чтобы не причинить лишних страданий дяде Мелькеру.
Немного погодя, когда Малин отмыла лицо Мелькера и протерла ему глаза раствором борной кислоты, он вдруг решил срубить яблоню.
— Здесь и так полно деревьев! — кричал он. — Я сбегаю к Ниссе и куплю топор!
— Нет уж, спасибо, — сказала Малин. — Дай мне хоть минуточку покоя.
Если бы она только знала, как мало покоя будет у них в тот день.
Началось с того, что Мелькер вдруг хватился Юхана и Никласа.
— А где ребята? — спросил он Малин.
— В шхерах, ты же знаешь, — ответила Малин. — Хотя им давно пора быть дома.
Услыхав этот разговор, Чёрвен недовольно выпятила губы.
— И я так думаю. Пора бы уж Тедди и Фредди, дурам этаким, вернуться с Боцманом. Но теперь, видно, туман помешает.
Мелькер решил отложить на несколько дней окраску садовой мебели. Он сидел на крыльце и непрерывно мигал. Несмотря на борную кислоту, глаза резало, словно в них попал песок.
— Что это ты болтаешь про туман? — спросил он Чёрвен. — Солнце такое яркое, что глаза слепит.
— Здесь-то да, — ответила Чёрвен. — А вон там, за Малым Ясеневым островом, туман густой, как каша.
— Верно, и дедушка мой так говорит, — подтвердила Стина. — Мы с дедушкой все знаем, мы слушаем радио.
Прошло примерно часа два, прежде чем Мелькера стала колотить Великая лихорадка — так называла Малин его нервное состояние. С ним такое бывало не раз и теперь тоже случилось, как она и ожидала.
Малин знала своего отца как человека мужественного. Она, как никто другой, могла судить о его мужестве, так как видела отца в решающие минуты жизни. Хотя некоторым, возможно, этот Мелькер казался слабым и ребячливым, а порой даже смешным. Но это было чисто внешнее. В нем жил совсем другой человек, сильный и бесстрашный, особенно во всем, что касалось его самого.
— Но когда что-нибудь угрожает твоим детям, ты теряешь рассудок.
И вот теперь он плакал о Юхане и Никласе. Но, прежде чем совсем потерять голову, он трижды сходил к Ниссе и Мэрте.
— Не то чтобы я беспокоился, — заверял он с робкой улыбкой в свой первый приход.
— Ваши дети привыкли к морю, так что за них я ни капельки не беспокоюсь, — уверял он во второй раз. — Но как там Юхан и Никлас барахтаются в этой каше, — добавил он, показывая на туман, который добрался уже до Сальткроки и не на шутку напугал Мелькера.
— Но и мои девчонки барахтаются вместе с ними в этой самой каше, — попытался успокоить его Ниссе.
Когда запыхавшийся Мелькер в третий раз вбежал в лавку, Ниссе засмеялся и спросил:
— Чем могу служить? Есть превосходные вертела. Любой из них легко прошибет палец на ноге, и тогда у тебя появится другая забота.
— Спасибо, не надо вертела, — начал Мелькер со смущенной улыбкой. — Как я уже говорил… не то чтоб я беспокоился, но не пора ли поднять тревогу и уведомить спасательную службу?
— Это еще зачем? — поинтересовался Ниссе.
— Потому что я ужасно беспокоюсь, — ответил Мелькер.
— Нашел причину! — сказал Ниссе. — Да и что спасательная служба увидит в этой кромешной тьме? И вообще, что может случиться с детьми? Туман скоро рассеется, на море полный штиль.
— Да, море спокойное, — согласился Мелькер. — Мне бы вот таким быть…
Вконец расстроенный, он побрел к причалу и, увидев там серые бесформенные клубы тумана, которые волнами накатывались на него с моря, ужаснулся и закричал что было сил:
— Юхан! Никлас! Где вы? Скорей домой!
Ниссе, неотступно следовавший за ним, дружески похлопал его по плечу:
— Милый Мелькер! Если все так близко принимать к сердцу, то в шхерах и жить нельзя. Ведь от того, что ты тут стоишь и гудишь, словно сирена в непогоду, ничто не изменится. Идем-ка лучше к Мэрте да выпьем у нее по чашечке кофе с булочками, будет куда как веселее.
Но Мелькер и слышать не хотел ни о каком кофе с булочками. Он глядел на Ниссе глазами, полными отчаяния.
— А может, они пережидают туман на Рыбьей шхере, как ты думаешь? Может, они сидят сейчас в сарае у Вестермана, им там хорошо, тепло и уютно. Ну скажи же, что ты так думаешь! — заклинал он Ниссе.
Ниссе подтвердил, что и он так думает. Но как раз в это время из тумана вынырнула, тарахтя, моторка и прижалась к деревянным мосткам. Бьёрн вернулся с Заячьей шхеры и разбил их надежды. На Рыбьей шхере ребят нет, сказал он. Только что он сам заезжал туда и искал их повсюду.
Что-то бормоча себе под нос, Мелькер поплелся к дому. Продолжать расспросы он не отважился, боясь, что заметят, как дрожит его голос.
Но и дома он ни словом не обмолвился с Малин. Она с Пелле сидела в общей комнате. Пелле рисовал. Малин вязала. На стене мерно тикали старинные американские часы, в камине краснели догорающие уголья, в комнате было удивительно спокойно.
Какой чудесной, какой безмятежной была бы жизнь, если бы дети не потерпели крушения на море.
Мелькер опустился на диван и замер. Время от времени он лишь тяжко вздыхал. Малин бросала на него испытующие взгляды. Она хорошо представляла, что с ним творилось, и ждала нового приступа Великой Лихорадки. Тогда потребуется ее помощь, а пока она может тихонько сидеть и вязать.
Мелькер никого больше не замечал — ни Малин, ни Пелле. До них ему не было дела. Сейчас он думал только о сыновьях, которые боролись за свою жизнь на море. Он видел их куда отчетливее, чем Малин и Пелле. И всякий раз они вели себя по-разному. То лежали на дне лодки, полуживые от голода и холода, и слабыми голосами звали отца. То боролись с волнами, пытаясь из последних сил выбраться на скалистый островок. Они цеплялись ногтями за гранитные уступы и в отчаянии молили отца помочь им. Но вот налетал огромный бурун — и откуда он только брался, когда море такое спокойное! — и уносил их в глубину. Они тонули, и волосы их извивались в воде, словно морские водоросли. О Боже! Почему дети не могут остаться навсегда трехлетними, не могут всегда играть в куче песка с лопаткой и ведерком! Тогда бы и родители не знали таких страшных мук!
Он снова и снова тяжело вздыхал, пока наконец не вспомнил о Малин и Пелле и не попытался взять себя в руки.
Он взглянул на рисунок Пелле. На нем была изображена лошадь, морда которой удивительно напоминала лицо старика Сёдермана. При других обстоятельствах Мелькер непременно бы рассмеялся, но теперь он только сказал:
— Рисуешь, мальчуган? А ты, Малин, никак вяжешь?
— Да, Никласу свитер, — ответила Малин.
— Он, конечно, будет рад, — произнес Мелькер, судорожно хватая ртом воздух. Он-то знал, что Никлас давно лежит на морском дне и ему больше никогда не понадобится свитер. Никлас, Никлас, его милый мальчик, подумать только, когда ему было два года, он вывалился из окна и остался жив. Мелькер уже тогда понял, что такие счастливчики не жильцы на этом свете. «А тут еще этот Пелле», — вспомнил он внезапно о младшем сыне и бросил на него недовольный взгляд, будто бедняга Пелле был виноват, что морская пучина не поглотила его вместе с братьями.
Но Пелле был на редкость умный ребенок и понимал гораздо больше, чем Мелькер и Малин могли себе представить. Наслушавшись тяжких вздохов отца, он отложил рисование в сторону. Пелле знал, что иногда и взрослые нуждаются в ласке и утешении. Он без лишних слов подошел к Мелькеру и обвил его шею руками.
Тут Мелькер расплакался. Он порывисто прижал к себе Пелле и плакал тихо и горько, отвернув лицо от мальчика, чтобы тот не видел его слез.
— Все обойдется, — успокаивал Пелле отца. — Я сейчас пойду и посмотрю, не рассеялся ли туман.
А туман, наоборот, еще больше сгустился над островом. Пелле подобрал на берегу гальку — маленький коричневый камушек, только совершенно круглый и гладкий, и показал его Чёрвен.
Она тоже бродила в тумане на берегу моря. Ей нравилась такая погода, таящая опасные и неожиданные приключения. Правда, на этот раз она чувствовала себя сиротливо — с ней не было ее Боцмана, который где-то запропал в этой беспросветной серой мгле.
— Может, это настоящий волшебный камень, — сказал Пелле. — Зажмешь его в кулак, загадаешь желание, и оно обязательно сбудется.
— Ну, тогда я многое могу загадать. Загадай нам два кило конфет. Посмотрим, сбудется или нет.
Пелле фыркнул:
— Нашла, чего загадать. Надо что-нибудь стоящее, тогда сбудется!
Он вытянул руку с камнем и торжественно загадал свое самое сокровенное желание:
— Я хочу, чтобы братья скорее вернулись домой с этого коварного моря.
— И чтобы Боцман тоже вернулся, — добавила Чёрвен. — Ладно уж, пусть и Тедди с Фредди, — сказала она. — Правда, все они в одной лодке, так что и одного пожелания хватит на всех.
Наступил вечер. Но вовсе не светлый и ясный, как в июне, а тусклый и призрачный. Мглистая туманная пелена заволокла все фьорды, шхеры и острова, спустилась на Седерера и Кудуксу, Редлегу и Свартлегу, Блиде и Мейю, окутала фарватер и пароходы, которые медленно ползли по морю, предупреждая о себе тревожными гудками сирены. Туман держал в плену и маленький ялик Гранквистов, которому уже давно было пора покачиваться у причала возле дома.
Огонек, огонек, Кипяти нам чаек. А по морю три шхуны плывут…— напевала Фредди.
— Я не вижу ни одной, — сказала Тедди, перестав на минутку грести. — Видно, они совсем маленькие. И давно мы так гребем, как вы думаете?
— Около недели, — ответил Юхан, — так мне, во всяком случае, кажется.
— Вот здорово бы приплыть в Россию, — сказал Никлас. — Наверно, мы туда скоро и догребем.
— Еще бы, — подтвердила Тедди, — ведь мы гребем столько времени. Плыви мы верным курсом, уже бы часа в два проскочили, как пить дать, свой причал и сидели бы на мели у выгона Янссона.
Все четверо рассмеялись. Последние пять часов они то и дело смеялись. Конечно, они гребли снова и снова, мерзли, слегка перебранивались друг с другом, жевали бутерброды, распевали песни, звали на помощь и снова гребли, ругали туман, мечтали попасть домой и все-таки продолжали смеяться. И так уж получилось, что все ужасы кораблекрушения переживал Мелькер, а не дети.
Но вот настал вечер, и им стало не до смеха. Они все сильнее мерзли, им все больше хотелось есть, а конца-края бедствию не было. Как и прежде, море окутывал сплошной туман, хотя обычно в июне он быстро рассеивается. А этот, словно назло, по-прежнему сжимал их в своих серых, призрачных тисках, будто ни за что не желая с ними расстаться. Чтобы совсем не замерзнуть, они то и дело менялись на веслах, но согреться удавалось ненадолго, да и мало радости грести, когда не знаешь, куда гребешь. Может, с каждым взмахом весел они все дальше и дальше уплывали в открытое море, и от одной этой мысли им становилось жутко. Правда, море было спокойное. Ну а если туман, который они до того ненавидели, что готовы были изорвать в клочья своими руками, наконец поднимется и на смену ему задует ветер? Ветер, да к тому же сильный, а они на маленьком ялике в открытом море — вот уж где в самом деле будет смех сквозь слезы.
— Шхер тут что сельдей в бочке, — сказала Фредди. — Но я и не надеюсь, что мы наскочим хоть на одну из них.
А они так мечтали ступить наконец на твердую землю. Подумать только, об этом приходится лишь мечтать. Малюсенький островок — вот все, что им надо. Ему вовсе не надо быть красивым или каким-то достопримечательным, заверяла Тедди, пусть будет совсем неприметным островком, поросшим лишь можжевельником и елками. Все равно они могли бы сойти на берег, разложить костер и, быть может, узнать, куда их занесло. И отыскать хоть какое-нибудь пристанище и встретить людей, к тому же страшно добрых, которые вынесут им навстречу какао и горячие блины.
— Никак она бредит? — прервал девочку Юхан.
Но бред о вкусной еде пришелся им по нутру. Они принялись наперебой фантазировать, и их разгоряченное воображение порождало возы, доверху набитые котлетами, голубцами, бифштексами, шницелями и сосисками.
— Неплохо бы и омлет с грибами, — сказала Фредди.
Все горячо одобрили омлет с грибами. В этом даже Боцман был с ними заодно, потому что он одобрительно рявкнул, хотя до этого весь долгий путь молчал. Как и подобает умной собаке, он не одобрял этой ребячьей затеи. Но что поделаешь, раз этим несуразным людям нравятся такие бестолковые развлечения! И теперь он с выдержкой и достоинством умного пса тихо и терпеливо лежал на дне лодки.
— Бедный Боцман, — сказала Фредди, — он куда голоднее нас, ведь у него живот больше нашего.
Дети делились с Боцманом бутербродами, а когда они кончились, то предложили ему треску, от которой он вежливо отказался.
— Понятное дело, — сказал Юхан. — И я скорее умру с голоду, чем стану есть сырую рыбу.
— Неужели в рюкзаке ничего-ничегошеньки не осталось? — спросила Тедди.
— Одна бутылка воды, — ответила Фредди.
Бутылка воды! Это после стольких-то радужных мечтаний о горячем какао, бифштексах и блинах. С одной бутылкой воды они чувствовали себя нищими.
Долго сидели они молча, совсем подавленные. Никлас размышлял, что для человека хуже — замерзнуть до смерти или умереть с голоду. Сейчас его больше всего донимал холод. Не спасала и плотная куртка — он промерз до мозга костей. Вдруг он вспомнил их костер на Рыбьей шхере. Словно этот костер был в какой-то другой жизни, таким неправдоподобным казался он ему теперь. Никлас вспомнил про спичечный коробок в кармане и вынул его. Окоченевшими пальцами он зажег спичку. Она горела чистым невысоким пламенем. Он поднес к нему руку, чтобы хоть ненадолго почувствовать тепло.
— Играешь в девочку с серными спичками?[8] — спросила Фредди.
— А как ты отгадала? — удивился Никлас. Но в тот же миг он что-то увидел. — Что у вас там на корме? Случайно, не спиртовый ли примус?
— Ой, правда! — воскликнула Тедди. — Кто же его здесь забыл?.
— Наверно, папа, — ответила Фредди. — Позавчера они с мамой ставили в море сети. Он уговорил маму отправиться с ним и обещал сварить ей кофе в лодке, помнишь, Тедди?
— А что, если и мы… — предложил Никлас.
— У нас нет кофе, — ответила Фредди, — одна вода.
Никлас задумался. Ведь горячая вода согревает, а сейчас им больше всего нужно было согреться. Он поискал глазами: куда подевался ковш, которым они вычерпывали воду из лодки? Это был самый обыкновенный медный ковш, но он вполне мог заменить кастрюлю. Никлас поделился с друзьями своим планом, и они не спускали с него глаз, пока он не развел примус и не вылил воду из бутылки в ковш.
— Огонек, огонек, кипяти нам чаек… — запела Фредди.
И тут Юхана словно осенило:
— Давайте сварим в ковше треску!
Тедди взглянула на него с неподдельным восторгом:
— Юхан, ты гений!
В лодке закипела работа. С головокружительной быстротой они очистили и вымыли семь рыбин, разрезали их на куски и целый час, пока варилась уха, чувствовали себя счастливыми. Приготовление ухи заняло много времени, потому что за раз в ковш входило только четыре куска. Наконец вся треска сварилась, и дети с превеликим удовольствием принялись ее уплетать. И хотя больше всего досталось Боцману, остальным тоже за глаза хватило.
— Представляете, — сказала Фредди, — оказывается, за один присест можно съесть четыре куска трески без единой солинки и притом считать, что вкуснее ничего не ел.
— А почему бы и нет, — возразил Юхан. — Можно выпить и рыбный бульон и считать его вкусным. Но, понятно, не от хорошей жизни.
Они все словно ожили, когда выпили этот крепкий, обжигающий рот рыбный отвар, и тепло от него разлилось по всему телу и дошло до самых кончиков пальцев ног. Переносить невзгоды стало легче, и к детям вернулась надежда: может, что-нибудь да случится — рассеется туман или придет катер и подберет их, а может, окажется, что это был лишь сон, и они проснутся у себя дома.
Время шло, а туман по-прежнему клубился над морем, катер не появлялся, да и на сон это мало походило, потому что во сне так отчаянно не мерзнут. Тепла от рыбного бульона хватило ненадолго, примус давно погас. К ним снова подобрался холод, а следом за ним усталость и уныние. Бессмысленно было на что-то надеяться. Они так и останутся в плену у тумана всю ночь, а может, и целую вечность.
Но вдруг Фредди встрепенулась и вскочила на ноги.
— Слушайте, слушайте! — закричала она.
И они услышали. Где-то в тумане постукивал лодочный мотор. Они целиком обратились в слух, словно речь шла о жизни и смерти. Опомнившись, они начали кричать. Это могла быть моторка Бьёрна или кого-нибудь другого, но чья бы она ни была, они должны сделать все, чтобы она не проскочила мимо.
И моторка в самом деле приближалась. Все ближе и ближе. Теперь она где-то рядом… совсем рядом. Они кричали не переставая, пока совсем не охрипли. Вначале от дикого восторга, потом… с досады и отчаяния. Задыхаясь от нахлынувшей горечи, они сидели и слушали, как тарахтенье мотора постепенно замирало, а немного погодя и вовсе смолкло. Ни звука. Сплошной туман. Тогда они сдались и улеглись на дно лодки возле Боцмана, чтобы он хоть немного поделился с ними своим теплом.
Пожалуй, нет другого такого мирного уголка на земле, как лавчонка Ниссе Гранквиста на Сальткроке. И вовсе не потому, что там безлюдно и тихо. Совсем наоборот. Сюда собираются жители Сальткроки и соседних островов. Они приходят за покупками, обсудить новости, забрать почту, позвонить родным и знакомым. Здесь бьется сердце Сальткроки. Люди полюбили Ниссе и Марту за их веселый нрав, искренность, отзывчивость, и всем уютно в маленькой тесной лавчонке, где так приятно пахнет кофе, сушеными фруктами, селедкой, мылом и другими бакалейными товарами. Дотемна в лавке толпится народ и стоит гул, а порою завязываются жаркие споры о сальткрокских делах. Но под конец страсти утихают и все кончается по-хорошему, потому что лавчонка — самый мирный уголок на земле.
Но в тот вечер все было иначе. В тот вечер там поселились слезы, страх и отчаяние. Ибо у Мелькера была Великая лихорадка, и он так шумел в лавке, как никогда прежде там не шумели все жители острова вместе взятые.
— Немедленно надо что-то предпринять! — кричал он. — Надо срочно вызвать со всего севера сторожевые катера, дежурных лоцманских станций и маяков, вертолеты и самолеты Скорой помощи. Сейчас же! Сию минуту!
Он в упор смотрел на Ниссе, словно тот был лично обязан двинуть в море всю эту армаду.
Малин умоляюще взяла Мелькера за руку:
— Папочка, успокойся!
— Как я могу успокоиться, когда я скоро осиротею! — надрывался он. — То есть я хочу сказать… да вы сами знаете, что я хочу сказать! — кричал он. — Впрочем, может, уже поздно. Не думаю, чтобы кто-нибудь из них остался в живых.
Возле него стояли и молча слушали расстроенные Ниссе, Мэрта, Малин и Бьёрн Шёблум. Теперь даже Ниссе с Мэртой не на шутку испугались. Ведь они были такие же родители, как и всякие другие. Необычным был этот густой туман в июне. И никто на острове не мог даже припомнить, чтобы нечто подобное случилось на их веку.
— А я-то, дубина, — каялся Бьёрн, — почему я не забрал детей с собой, когда привез им лодку?
Его мучили угрызения совести, и он остался в лавке на Сальткроке вместе с несчастными родителями, хотя ему давно было пора домой, в Норсунд.
Впрочем, не только угрызения совести и жалость к несчастным родителям заставили его остаться. Ему было не оторвать взгляда от Малин. Сегодня она была такой серьезной и совсем не похожей на ту радостную и восторженную девушку, которую он впервые увидел вечером несколько дней назад.
Молчаливая и беззащитная, она стояла в лавке и слушала крики своего отца. Усталым движением руки она откинула со лба русые волосы, и Бьёрн увидел ее потемневшие от горя глаза. Ему стало жаль ее. Почему Мелькер не может совладать с собой, когда его дочь может?
Ниссе связался со сторожевым катером в Сосновом проливе и сообщил о случившемся. Сделал он это не потому, что детям угрожала смертельная опасность, а просто в самом деле будет мало хорошего, если они останутся ночевать в тумане.
— Один сторожевой катер, да что он может? — негодовал Мелькер.
Он настаивал, чтобы спасательные команды со всей Скандинавии были посланы в окрестные шхеры этим туманным июньским вечером. А издергавшись и накричавшись, он, казалось, израсходовал весь запас энергии. Устало опустившись на мешок с картошкой, он сидел такой бледный и измученный, что Мэрте стало в самом деле жаль его.
— Хочешь таблетку? — предложила она участливо.
— Да, спасибо, хоть целую коробку!
Обычно он не доверял никаким лекарствам, а сейчас был готов принять даже лисий яд, только бы на минутку успокоиться и перевести дух.
Мэрта протянула ему белую таблетку и стакан воды. Он поступил, как всегда в таких случаях: положил таблетку на язык, отхлебнул воды и судорожно глотнул. И что же? Воду он проглотил, а таблетку нет. Он и этому не удивился, потому что с таблетками у него всегда так получалось. Он сделал вторую попытку, но коварная таблетка все так же лежала на языке, горькая и отвратительная.
— Глотни побольше, — велела Малин. И Мелькер глотнул. Он сделал большой глоток, но вода, как назло, попала не в то горло. И таблетка тоже, так как и она проскочила вместе с водой.
— Апчих, — чихнул Мелькер, словно морж. При этом таблетка выскочила изо рта и прилипла к кончику носа, где и оставалась весь вечер. И было незаметно, чтобы она подействовала на него успокаивающе.
Малин сдерживалась весь вечер, но тут вдруг почувствовала, что вот-вот расплачется. И вовсе не потому, что таблетка прилипла к носу Мелькера, а просто все было так безысходно. Она не хотела показать своей слабости при отце и выбежала на улицу. Едва лишь за ней хлопнула дверь, как она дала волю слезам, тут никто их не видел. Она тихо плакала, прислонившись к стене.
Здесь ее и нашел Бьёрн.
— Может, я сумею чем-нибудь помочь… — начал он сочувственно.
— Да… не проявляйте участия ко мне, — прошептала Малин, — а то я разревусь в три ручья — и тогда не миновать наводнения.
— Больше я ничего не скажу, — заверил Бьёрн. — Только ты прелесть какая хорошенькая, даже когда плачешь.
Он наконец собрался к себе домой, в Норсунд. Там была школа, куда приезжали дети со всех островов поучиться у Бьёрна уму-разуму и где в маленькой холостяцкой комнатке под самой крышей жил он сам. От Сальткроки до дома Бьёрн добирался всего минут за десять. Малин видела, как он исчез внизу у причала.
— Утро вечера мудренее! — крикнул он ей напоследок. — Поверь мне!
Вскоре с фьорда донеслось тарахтенье его моторки. Через несколько минут дети в лодке услыхали это самое тарахтенье, которое так предательски растворилось в тумане.
— Нет, я уже начинаю выходить из себя, — сказал Юхан, поднимаясь со дна лодки, где он просидел последние полчаса, прижавшись к Боцману.
— Ты что, хочешь броситься в море? — спросил Никлас, стуча зубами от холода и еле выговаривая слова.
— Нет, хочу подгрести к ближайшему причалу и там вас высадить, — решительно заявил Юхан.
Фредди подняла посиневшее лицо.
— Вот спасибо. А где этот причал?
Юхан стиснул зубы.
— Не знаю. Но я догребу до него во что бы то ни стало или умру на веслах. Не потерплю, чтобы какой-то дряхлый склизкий туман командовал нами и решал, сколько нам еще болтаться в море.
Он сел на весла. Туман по-прежнему обволакивал их, точно толстый слой ваты, — о, как Юхан ненавидел этот туман за то, что он не уползал обратно в свое Северное море или туда, откуда он вообще родом.
— Ну я тебе покажу! — яростно бормотал он.
Он говорил с туманом так, будто тот был его личный враг. Он сделал пять решительных гребков, и лодка наскочила на камень.
— Трах-тара-рах! Вот и причал! — воскликнула Тедди.
Но это был не причал, а просто берег. Несколько часов простояли они во фьорде всего в пяти взмахах весел от земли.
— Рехнуться можно, — сказала Тедди.
И они, как сумасшедшие, выскочили на берег. Они кричали и прыгали. Боцман лаял, все словно ошалели: подумать только, под ногами у них снова твердая земля.
Но что это за земля? Может, островок, где их встретят горячими блинами? Или какая-нибудь необитаемая шхера, где им придется ночевать под елкой?
Тедди только что мечтала о самом маленьком неприметном островке, поросшем можжевельником и елками, и теперь ее желание исполнилось. Насколько они могли разглядеть в туманных сумерках, кругом были хвойный кустарник и валуны. Но прежде чем заночевать под открытым небом, они решили поискать, не найдется ли хоть какой-нибудь крыши. Юхан привязал лодку и поклялся больше не садиться в нее. Потом они отправились в нелегкий поход. Они упорно шли вдоль берега, несмотря на заросли можжевельника.
— Хоть бы попался какой ни на есть старый рыбачий сарай, — сказала Тедди.
— А в России они есть? — спросил Юхан. Теперь он снова возгордился и разошелся сверх меры. Разве не он высадил всех на берег?
— Только скажите, и я отыщу домишко, где мы переночуем, — уверял он.
Юхан шел впереди и чувствовал себя вожаком. Это был поход в неизведанный, нехоженый край, где за каждым поворотом их подстерегали неведомые опасности. В таком деле без вожака не обойтись, и он возглавил отряд.
Он первым обогнул мыс и, пораженный, застыл на месте. Прямо перед собой он увидел крышу дома, выглядывавшую из-за макушек деревьев.
— Вот вам и домишко! — воскликнул он.
Все подбежали к нему, и он с гордостью первооткрывателя показывал друзьям свою находку.
— Пожалуйста, вот вам и дом! Может, он доверху набит горячими блинами.
Внезапно Тедди и Фредди расхохотались, безудержно и с облегчением. Смех девочек положил конец этому страшному приключению в тумане, и Юхан с Никласом принялись хохотать вместе с ними, хотя сами не знали, чего они хохочут.
— Интересно все-таки, что это за дом? — спросил Никлас.
— Протри глаза, тогда увидишь, — сказала Тедди. — Это же наша школа.
У Гранквистов и Мелькерссонов никто в тот вечер не лег спать раньше полуночи. Вообще-то Чёрвен и Пелле заснули как обычно, но их подняли с кроватей, чтобы и они приняли участие в общем веселье, которое началось в кухне Гранквистов по случаю счастливого окончания этого беспокойного дня.
Впрочем, беспокойным этот день остался почти до самого конца.
Когда Бьёрн причалил на моторке к пристани Гранквистов и Мелькер увидел в лодке своих пропавших сыновей целыми и невредимыми, да вдобавок еще закутанными в одеяла, слезы хлынули у него из глаз, и он прыгнул в лодку, чтобы тотчас заключить их в свои объятия. Но от избытка чувств он перестарался и, едва зацепив ногами корму, плюхнулся в воду по другую сторону лодки. Не помогла ему даже таблетка, прилипшая к кончику носа.
— Вот так нырнул! — крикнул он. — Здорово нырнул!
Малин заохала, увидев, как он барахтается у причала, отчаянно хлопая руками по воде. Только с Мелькером может случиться тысяча несчастий в один день.
Чёрвен стояла на берегу полусонная.
— Почему ты купаешься одетый, дядя Мелькер? — пробормотала она. Но, увидев Боцмана, забыла обо всем на свете: — Ко мне, Боцман! Ко мне!
Она позвала его нежнейшим голоском, и он, прыгнув на берег, бросился к ней. Чёрвен обвила его шею руками, словно никогда в жизни не собиралась расстаться с ним ни на минуту.
— Видишь, как помог волшебный камень, — сказал Пелле.
Они сидели теперь на скамейках вокруг громадного раздвижного стола на кухне у Гранквистов. Пелле весь так и сиял. Какая необычная ночь! И что за удивительная жизнь на Сальткроке! Какие только мысли не приходят здесь людям в голову… вытащить их из кровати среди ночи, чтобы они поели котлет! И кому только пришла в голову такая замечательная мысль! Да и Юхан с Никласом снова дома!
— Подумать только, голова кружится от еды, — сказала Тедди, набив себе полный рот.
А Фредди держала в каждой руке по котлете и откусывала по очереди то от одной, то от другой.
— До чего же вкусно! — говорила она. — Я хочу, чтоб от еды у меня кружилась голова.
— Настоящей еды! — уточнил Юхан. — А не той, которую мы придумывали на море.
— Хотя она тоже была довольно вкусной, — сказал Никлас.
Они наслаждались едой, и им все больше и больше казалось, что они чудесно провели этот день.
— Главное, не терять спокойствия, — сказал Мелькер и положил себе в тарелку еще одну котлету. Он переоделся во все сухое и сиял от счастья.
— Кому бы это говорить, только не тебе, — сказала Малин.
Мелькер убежденно кивнул головой:
— А иначе в шхерах не проживешь. Признаюсь, в какой-то момент я немножко забеспокоился, но благодаря твоей таблетке, Мэрта, голову не потерял.
— По крайней мере под носом у тебя был полный штиль, — пошутил Ниссе. — А впрочем…
— А впрочем, я очень доволен, — сказал Мелькер.
И действительно, так оно и было. За столом стоял гул, дети опьянели от еды, от тепла и от того, что наконец-то они дома, вдали от всех кошмаров и туманов. Мелькер радовался, слушая голоса своих детей. Они сидели рядом с ним, и никто не плыл под водой с извивающимися, словно морские водоросли, волосами.
Легко дышит грудь, и звенят голоса, И все до единого в сборе…—тихонько декламировал он.
Малин взглянула на него через стол:
— Что ты там бормочешь, папа?
— Ничего, — ответил Мелькер.
И только когда Малин повернулась к Бьёрну, он снова тихонько продолжал:
Но день уходит, близится ночь, Солнце садится в море. Скоро промчится короткий миг прочь, Когда мы все были в сборе.Настал день летнего солнцестояния[9]
Настал ослепительно яркий день летнего солнцестояния. Но что же случилось с Малин? С утра до полудня сидела она за кустами сирени в траве и строчила в своем дневнике. А когда Юхан с заискивающим видом хотел было подойти к ней, она сердито отрезала, не поднимая глаз:
— Иди своей дорогой!
Расстроенный Юхан побрел обратно к братьям и доложил:
— Она все еще сердится.
— Ишь ты, да она же должна нас благодарить, — сказал Никлас. — У нее теперь есть о чем писать. Не будь нас, и в дневнике писать было бы нечего.
Пелле стоял с покаянным видом.
— Может, она писала бы тогда о чем-нибудь более веселом. Ну о том, что она считает более веселым.
Они озабоченно посмотрели в сторону Малин, и Юхан сказал:
— Помяните мое слово, на этот раз она настрочит не одну жуткую страницу.
И она написала:
Вчера был праздник летнего солнцестояния. Я никогда не забуду этот праздничный вечер! Чтобы сохранить память о нем, я составлю руны[10]. Я вручу их своей молоденькой дочери, если она когда-нибудь у меня будет, в праздник летнего солнцестояния, когда она прибежит домой, сияя от счастья, и спросит: «Мама, тебе тоже было так весело, когда ты была молодая?»
Тогда я с кислой миной покажу на пожелтевшие листки дневника и скажу: «Почитай вот это, и ты увидишь, каково было тогда твоей маме, и все из-за твоих ужасных маленьких дядюшек!»
Но если говорить начистоту, то даже самые ужасные в мире маленькие дядюшки не могут омрачить нежное сияние летнего дня на Сальткроке. Нет, никто не может отнять сияния красоты и радости лета, которое расцвело вокруг нас именно теперь. Мы гуляем по острову и вдыхаем сладкий аромат цветов камнеломки, морковника, таволги и клевера; у каждой канавки покачиваются ромашки, в траве желтеют лютики, розовая пена цветов шиповника покрывает голые серые скалистые уступы, и в каменных расселинах синеют анютины глазки. Все благоухает, и все цветет, повсюду — лето: кукуют все кукушки, щебечут и поют все птицы, радуется земля, а вместе с ней и я. Сейчас я сижу и пишу, а высоко в небе проносятся быстрокрылые ласточки. Они гнездятся под крышей Столярова дома по соседству с осами Пелле, хотя я не думаю, чтоб ласточки и осы общались между собой. Мне нравится общество ласточек, шмелей и бабочек, которые летают и порхают вокруг меня, но я была бы еще более признательна, если бы ты, Юхан, перестал высовывать свой нос из-за угла дома, так как я зла на вас всех и собираюсь еще немного позлиться, если только смогу. Хотя бы до тех пор, пока не закончу свои руны в память о первом праздничном вечере здесь, на Сальткроке.
Разбудила меня утром песня. Так и есть: папа уже в саду и распевает во все горло. Видно, он встал ни свет ни заря и накладывал последние мазки на садовую мебель. На этот раз, правда, он обошелся без пульверизатора и работал обычной малярной кистью. Стоя в саду под окнами дома, он с чувством распевал «Цветущий остров», «Объятия Руслагена» и всякие другие душещипательные песни. Я вскочила, быстро оделась и выбежала в сад. Только тут я увидела, каким ослепительно голубым был сегодня фьорд. Мои возлюбленные братья уже были на ногах и без дела слонялись возле дома. Я взяла их с собой на выгон Янссона. Домой мы вернулись с охапками полевых цветов и зеленых веток и превратили Столярову усадьбу в цветущую беседку, где в каждом углу благоухало лето.
Когда во фьорд вошел, дымя, пароход «Сальткрока I», украшенный с носа до кормы молодыми березками, он тоже походил на цветущую беседку. На палубе играл аккордеон, и по-летнему одетые нарядные пассажиры пели «Цветущий остров» и «Объятия Руслагена», точь-в-точь как папа утром, только не так мелодично.
Вся Сальткрока высыпала на пристань, подумать только! Да и что на острове может быть интереснее, чем бежать к морю встречать пароход, особенно праздничный? Мы все там были, кроме Бьёрна.
Я была нарядная, я была ужасно какая нарядная в своем светло-голубом платье. Увидев меня, Юхан и Никлас даже присвистнули. Чего уж больше! Если даже родные братья присвистывают, есть от чего немножко возгордиться! Так я и шла, довольная собой, в ожидании чего-то необычного.
А Пелле был не очень-то доволен.
— И зачем только нужно надевать всю эту ужасную одежду? — сказал он. — Разве только потому, что сегодня праздник середины лета. И кто придумал мучить детей пиджаком, белой рубашкой и галстуком? Правда, бывает, что устаешь от всех этих драных джинсов и хочется надеть что-нибудь другое.
— Да, сынок, нужно, — ответил папа, — и ничего в этом страшного нет. Только постарайся не испачкаться и не облиться — ты только выиграешь от этого!
— Скажи еще, чтоб я близко не подходил ни к чему интересному, и тогда вы с Малин выиграете от этого, — добавил Пелле.
И тут он увидел Чёрвен, ту самую Чёрвен, которую все до сих пор привыкли видеть в клетчатых брючках и коротеньком пушистом свитере домашней вязки. Но сегодня она нарядилась в белое вышитое платьице с лучеобразными складками, расходившимися книзу. А выражение ее мордочки не поддается описанию. За версту было видно, что она думает: «Ну что, съели? Даже рты от удивления разинули!» И верно. Боцман и то присмирел в обществе своей нарядной хозяйки. Даже Пелле сторонился Чёрвен и молчал. Тогда она спустилась с высоты своего величия и сказала:
— Пелле, знаешь что? Давай бросать палочку, а Боцман пусть приносит. А то что еще делать в праздник, когда нас так разрядили?
Может, она нарочно придумала эту игру, лишь бы увести Пелле от Стины.
Стина и старик Сёдерман тоже были на пристани. Сёдерман уже успел сообщить собравшимся, что урчанье в животе у него приутихло, и эта новость нас всех обрадовала: ведь сальткроковцы принимают близко к сердцу как радости, так и горести соседей.
— Ну вот, прикатили эти дачники, о-хо-хо-хо, — со вздохом произнес Сёдерман, а когда Мелькер спросил, почему он, собственно, не любит дачников, старик был озадачен. Видно, об этом он не задумывался.
— А чего их любить, ха, — ответил старик немного погодя. — Ведь большинство-то из них стокгольмцы, да и остальные тоже — сплошной сброд.
Папа рассмеялся, но ни капельки не обиделся, ведь он уже считал себя коренным островитянином. Он чувствовал себя так повсюду, куда бы ни приезжал, и я думаю, что именно поэтому у него везде столько друзей. Кроме того, люди ведь понимали, что беспомощный Мелькер, чудаковатый и по-детски восторженный, особенно нуждается в душевной теплоте и заботе. Уж как это ему удавалось, трудно сказать, но все любили его. Я сама слышала, как старик Сёдерман разглагольствовал однажды в лавке, не заметив, как я туда вошла:
— Право слово, Мелькерссон этот с причудами, ну а больше попрекнуть его нечем.
Но это все к делу не относится. Вернемся снова к причалу. Амазонки Гранквист — так прозвал папа Тедди и Фредди — тоже были на пристани. Они вырядились в новые джинсы и красные водолазки. Вместе с Юханом и Никласом они восседали на бочках из-под бензина и о чем-то потихоньку каркали, как вороны. Наверняка о каком-нибудь новом тайном клубе, не зря же эта четверка целыми днями расхаживала с таинственным видом, выводя из себя малышей, которых они не взяли в игру. Пелле мстил братьям, называя их не иначе как «заговорщик Юхан» или «заговорщик Никлас», при этом он презрительно улыбался. Чёрвен уверяла всех, что это дурацкий клуб, и, судя по тому, как вели себя вчера вечером члены этого клуба, я с ней целиком согласна.
Пока все ждали, когда пришвартуется пароход, ко мне с обеих сторон подскочили Юхан и Никлас и крепко схватили меня за руки.
— Малин, пошли скорее домой! — сказал Юхан.
Я, разумеется, высвободила руки и удивленно спросила, что мы будем там делать.
— Почитаем интересную книгу или еще чем-нибудь займемся, — предложил Никлас.
— Ты ведь любишь читать вслух, — поспешно добавил Юхан.
— Охотно, только в другой раз; не читать же книжки в праздник, — сказала я им.
Мне не пришлось долго ждать объяснения. По сходням спускался во всем своем великолепии Кристер, тот самый, который был с нами на пароходе в день нашего приезда на остров.
Я привыкла к тому, что мои братья не одобряют всех, «кто клеится к Малин», — это их выражение, а не мое! А этот бедный Кристер, как никто другой, с самого начала ухитрился восстановить против себя мальчиков, хотя я считаю, что он парень как парень. Правда, он из самоуверенных, но я выбью это из него, если потребуется. К тому же он симпатичный и, как иногда говорит папа, пижонистый. Едва успев сойти на берег, он сразу же направился ко мне с открытой улыбкой, которая, по-моему, ему очень идет, поскольку и зубы у него отменные. А Юхан и Никлас смотрели на него словно на волка, оскалившего клыки. Они не допустят, чтобы волк съел их сестру. Нет уж, спасибо!
— Бедняжка Малин! — сказал Кристер. — Стоять здесь одной в такой праздник. Пойдем-ка и перевернем вверх тормашками эту старую Сальткроку.
Нельзя сказать, что эти слова подняли его престиж в глазах мальчиков.
— Она не одна, — зло возразил Юхан. — Она с нами.
Кристер похлопал его по плечу:
— Да, да, с вами. А теперь берите лопатку с ведерком и марш играть в песочек, а о Малин я уж позабочусь сам.
По-моему, с этого момента мальчики всерьез объявили войну Кристеру. Я увидела, как они, скрипя зубами, пошли назад к Тедди и Фредди, и оттуда сразу же донеслось зловещее карканье, предвещающее жестокую месть растревоженного тайного клуба.
— Малин, сегодня вечером мы будем танцевать, решено, — заявил Кристер.
Но когда я объявила, что имею привычку сама выбирать себе кавалеров, он уже менее уверенно сказал:
— Ну, тогда выбери меня, и нам не придется препираться.
Бьёрна не было видно, да я и не знаю, танцует ли он. А мне хотелось потанцевать в своем голубом платье в этот летний праздник. И я ответила:
— Увидим!
Пусть праздник летнего солнцестояния бывает раз в год, но сама судьба решила твердо и бесповоротно, что я должна навсегда заменить мать трем своим братьям, а самого младшего уж во всяком случае не следует одного отпускать с Чёрвен тогда, когда на нем воскресный костюмчик. Вдруг я услышала, как все рассмеялись, и сказала Кристеру:
— Пойдем посмотрим, почему всем так весело!
И тут я увидела. Увидела своего Пелле, которому строго-настрого было наказано не испачкаться. Теперь же они с Чёрвен стояли по пояс в море и изо всех сил плескали друг на друга водой. Дети словно обезумели от моря. Другого слова и не подберешь. Тут Чёрвен в азарте крикнула: «Давай купаться!» Сказано — сделано. Они бросились в море, ныряли, колотили руками и ногами по воде, брызгались пуще прежнего и звонко смеялись. Они были в таком неописуемом восторге от моря, что забыли обо всем на свете. Но как только к ним подбежали Мэрта и я, они сразу очнулись. А очнувшись, увидели, что совсем мокрые, и поразились ничуть не меньше, чем Адам и Ева, которые в первый раз узрели свою наготу. Но, к сожалению, дети были одеты, и одеты очень хорошо. С их праздничных нарядов вода текла ручьями, и я никогда не видела, чтобы вышитое и накрахмаленное платьице, какое было на Чёрвен, так походило бы на обыкновенную мокрую тряпку.
— Мы не виноваты, так уж вышло, — оправдывалась Чёрвен. Она старалась объяснить Мэрте, как это «получилось», и, насколько я помню, это звучало примерно так: — Мы только ноги хотели помочить, мы шли так осторожно-осторожно, ведь мы были такие нарядные. Потом Пелле зашел еще чуть дальше. «Вот как далеко я зашел и не побоялся», — сказал он. Тогда я зашла еще дальше и сказала: «И я не боюсь!» Но тут я немножко замочила подол, и тогда Пелле стал дразниться: «А я, а я не мокрый! А я не мокрый!» Тогда я плеснула на него немножко водой, чтобы он тоже был мокрый, а он плеснул на меня, потом я плеснула на него, а потом он снова немножко плеснул на меня, и потом мы начали плескаться все больше и больше, потом купаться — так вот и получилось.
— Сегодня вы накупались досыта, — строго сказала Мэрта.
Мы разошлись по домам, каждая со своим вымокшим до нитки малышом. Позади Столяровой усадьбы между двумя яблонями у меня была натянута веревка для сушки белья. На ней я развесила одежду Пелле, которая пустилась в веселый праздничный танец с единственным своим партнером, южным ветром.
В следующий раз в праздник летнего солнцестояния, если будем живы, я позабочусь, чтобы бельевая веревка была вдвое длиннее, так как совершенно ясно, что без нее нам не обойтись. Но об этом после!
Вскоре Мэрта и я пошли на Родниковый луг. Малыши были с нами, только теперь одетые совсем буднично. Мэрта сказала дочери:
— Долго не видать тебе, Чёрвен, своего вышитого платья!
— Вот хорошо-то! — обрадовалась Чёрвен.
А сама Мэрта была такой милой и симпатичной в национальном костюме, в кофточке и хлопчатобумажной юбке в складках, в белой шали с кистями. Уж эта Мэрта! Кто больше всех хлопочет о том, чтобы в праздник середины лета был водружен праздничный шест и вокруг него все играли? Мэрта. Кто председатель Союза хозяек? Мэрта! Кто руководит певческим хором? Мэрта! И кто увлек всю Сальткроку, всех до единого, в пляс вокруг праздничного шеста и запел песню: «…как весело, как весело глядеть на лягушат…»? Мэрта. Кто же, кроме Мэрты!
На лугу за домом Сёдермана стоял высоченный шест, увитый цветами и лентами по случаю праздника середины лета. Но как только мы с Мэртой подошли к шесту, начал накрапывать дождь, и тут даже Мэрта ничем не могла помочь. Но ее подружки из Союза хозяек раскрыли зонтики и храбро запели: «Я качаюсь на ветке высокой на вершине Харьюлы-горы». О, и я чувствовала то же самое — я качалась на ветке высокого дерева и видела прелестную землю и прекрасное небо, несмотря на дождь, но пусть мольба маленькой пташки будет услышана и пусть разъяснится к вечеру, потому что одной маленькой пташке страсть как хочется потанцевать на причале.
И это свершилось. Но прежде чем исполнилось мое желание, случилось немало событий, и натянутая между яблонями бельевая веревка низко провисла под тяжестью развешенной на ней мокрой одежды. Теперь здесь, кроме рубашки, пиджака и брюк Пелле, сушились рубашка Кристера, рубашка и брюки папы, а также рубашка и брюки Юхана. Только брюки Никласа, видно, чем-то провинились, если за целый день им ни разу не удалось побывать в воде, хотя все прочие штаны накупались вволю, но ведь жизнь полна несправедливости.
Рубашка Кристера, правда, тоже не купалась. Ее я выстирала сама. Я сделала это после того, как Кристер упал, участвуя в забеге с яйцом в руке. Он плюхнулся животом в траву на том самом месте, где папа секундой раньше уронил яйцо.
— Нельзя же разгуливать по Сальткроке с яйцом всмятку на груди в праздник летнего солнцестояния, — сказал Мелькер. И он, добрая душа, пошел домой за одной из своих рубашек для Кристера.
— Спасибо, — поблагодарил Кристер. — А я пока выкупаюсь.
Юхан, Никлас и амазонки Гранквист стояли неподалеку и ухмылялись. Нельзя сказать, что их очень расстроило невезение Кристера. На вопрос Кристера, где тут можно искупаться, Тедди махнула рукой в сторону.
— Там мелко? — спросил Кристер.
— Мелко, можешь по дну дойти до Финляндии, — ответил, ухмыляясь, Юхан.
— Туда тебе и дорога, — добавил Никлас. Но Кристер уже отошел и не слыхал последних слов.
Как раз начинались новые соревнования — бег малышей в завязанных мешках, и я пошла болеть за своих.
Но тут ко мне подбежал белый как мел Юхан и схватил меня за руку.
— Не знаешь, Кристер умеет плавать? — спросил он, задыхаясь. — Представляешь, а вдруг не умеет! Ведь там у берега сразу глубоко!
Я тоже знала, что у берега глубоко, но, как и Юхан, не думала, что есть на свете люди, которые не умеют плавать, и понятия не имела, принадлежит к их числу Кристер или нет.
— За мной! — крикнула я, и все мы помчались сломя голову — Юхан, Никлас, Тедди, Фредди и я.
Мы прибежали на берег, когда Кристер уже входил в море.
— Стой! — крикнул Юхан.
Но Кристер, видно, не слышал. Он быстро шел вперед, словно и вправду собирался дойти до Финляндии. Через несколько шагов он оступился и исчез под водой — о Боже, он исчез! Я была вне себя от страха.
Юхан скинул башмаки и не мешкая бросился в воду, а я закричала:
— Зовите народ!
Никлас и Фредди бросились бежать, а Тедди и я, обливаясь холодным потом, остались на берегу, дрожа от страха. Юхан все не показывался, и каждая секунда была для нас настоящей пыткой. Я уже решилась было сама броситься в воду, но тут вынырнул Юхан, один, без Кристера, и в отчаянии покачал головой:
— Нигде его нет!
— Поищи вот там! — крикнула Тедди. — Он там скрылся под водой.
Но тут кто-то за моей спиной указал пальцем совсем в другую сторону и сказал:
— Вовсе нет! Он исчез вон там. А у того валуна вышел на берег!
Я обернулась. За мной стоял Кристер, весь мокрый, но страшно довольный своей глупой проделкой.
А Тедди показывала и настаивала:
— Нет же, вон там он утонул, я своими глазами видела!
— Я тоже сам видел, — не уступал Кристер.
И тут наконец до Тедди дошло, с кем она препиралась. Она разозлилась:
— Ну, знаешь, нечестно так поступать!
И я ее поддержала:
— Ясное дело. А разве честно обманывать человека и посылать его на глубокое место, даже не спросив, умеет ли он плавать?
Юхан все еще нырял под водой, продолжая искать Кристера. Когда же он вынырнул и увидел его, заметно было, как он облегченно вздохнул. И тут же насупился: зачем нырять, спасая того, кто стоит на берегу цел и невредим!
Тут Юхан прибегнул к испытанному средству и выкинул новый трюк, стараясь обратить в шутку свой промах. Испустив дикий вопль, он упал навзничь в воду, словно лишился чувств от радости видеть Кристера живым.
Этого ему не следовало бы делать, потому что как раз в этот миг все сальткроковцы во главе с папой примчались на берег. Они знали, что кто-то тонет, и папа успел заметить Юхана прежде, чем тот успел исчезнуть под водой.
— Юхан! — закричал папа и бросился в море, прежде чем я успела его остановить. Всем казалось, что они смотрят приключенческий фильм. Сначала вынырнула голова Юхана, затем папина. Они молча уставились друг на друга.
— Ты чего? — спросил наконец Юхан.
— Выхожу на берег, — зло ответил папа и поплыл к берегу.
— Дядя Мелькер, почему ты все время купаешься одетый? — спросила Чёрвен.
Она была тут как тут, потому что не было такой силы, которая удержала бы ее в стороне, когда на острове случаются какие-нибудь происшествия.
— Так уж вышло, — ответил Мелькер, и Чёрвен умолкла.
А папа схватил Фредди за ухо:
— Это ты кричала, что кто-то тонет во фьорде?
Тедди пришла на помощь сестре:
— Получилось недоразумение.
Кристер начал объяснять, в чем дело. Но все были страшно злы на него, и я слышала, как Никлас сказал Фредди:
— Он хоть и дылда, а какой-то чокнутый.
По-моему, такого же мнения был и Бьёрн, который позже других приехал на праздник и теперь расхаживал по берегу мрачнее тучи, не решаясь подойти ко мне.
Но каким все-таки замечательным оказался праздничный вечер середины лета! Были и танцы на пристани, именно такие, о которых я мечтала. Старик Сёдерман играл на аккордеоне, и все танцевали и танцевали до упаду! Солнце медленно садилось во фьорд, и мошки роились над нами. Только Бьёрн не танцевал — может, не умел. Зато Кристер умел… ой-ой-ой-ой! Мое голубое платье развевалось, когда мы кружились в танце, и мне было так весело.
— Малин, — сказал Сёдерман в перерыве, когда он отдыхал, потягивая из кружки пиво. — Обещай мне только одно! Пожалуйста, никогда не старей!
Если бы он знал, какой я иногда кажусь себе старой!
Заговорщик Юхан и его таинственные приспешники висели на заборе, не спуская с меня глаз. Всякий раз, когда мы с Кристером проносились мимо них в танце, Юхан кричал:
— Держись, Малин!
В конце концов мне это надоело, и я огрызнулась:
— За что прикажете держаться?
— За шкуру, — ответил он, и вся четверка захихикала.
Кристер же не обращал на них внимания — пусть себе смеются сколько влезет. И верно, этому парню смелости было не занимать! Без тени смущения и не опасаясь, что его услышат эти маленькие разбойники, он декламировал мне во время очередного перерыва, пока Сёдерман потягивал из кружки пиво:
Была вколота алая роза В сноп волос древнешведского льна…Это из-за того, что в моих волосах алел цветок шиповника. Теперь я представляла себя девой с льняными волосами из древней саги[11], пока Юхан не вернул меня вновь на землю:
— Как же, как же, бывает по-разному. У других, например, щетина, как у древнешведского борова.
И четверо маленьких разбойников долго хихикали, уставившись на строптивый ежик на голове Кристера. И почему эти тринадцатилетние беспрерывно смеются?
Но тогда я еще не успела на них рассердиться. Это случилось позже, той же летней ночью, когда они помешали мне помечтать. Я так хотела помечтать одна на берегу заливчика возле усадьбы Янссона, без Кристера и, уж конечно, без этих маленьких разбойников, но ничего из этого не вышло.
Заливчик у усадьбы Янссона был на редкость красивым и пустынным уголком. Туда мы и направились, Кристер и я, как только кончились танцы. Здесь ничто не напоминало о том, что на свете живут люди, разве только лодочный сарай, где хранилось несколько лодок, да полуразвалившаяся пристань. Все здесь загадочно: и красота, и безмолвие. Нынче ночью по темной воде бесшумно скользила лебединая стая. Птицы казались неправдоподобно белыми, какими-то сказочными. Может, они и в самом деле были такими, потому что все было волшебным, неправдоподобным и сказочным, даже первозданным: в любой миг лебеди могли сбросить лебединое оперенье и стать языческими богами, которые танцуют и играют на флейте. По другую сторону заливчика в тени отвесных скалистых берегов темнела вода, а ближе к открытому морю фьорд оставался светлым. Ночи, собственно, не было, и остров окутали лишь прозрачные бледные сумерки.
Мы присели на выступ скалы, Кристер и я. Мне хотелось, чтобы он помолчал. Но он этого не понимал. Он считал, что все должно развиваться по обычной схеме, и, заглядывая мне в глаза, стал спрашивать, какие они, мои глаза, зеленые или серые.
Вдруг из-за скалы послышался голос, которому вторило веселое хихиканье:
— Они совсем фиолетовые.
Тут я всерьез рассердилась и закричала:
— Что вы здесь делаете, можете мне объяснить?
— С удовольствием, — высунув голову, сказал Никлас. — Сидим и мечтаем, как и некоторые другие.
Тедди и Фредди зафыркали, а я окончательно рассердилась:
— Слышите, с меня хватит, я устала.
На что Юхан ответил:
— По мне так ступай домой! Зачем сидеть и мечтать, раз ты устала.
Маленькие чудовища! Я совсем забыла, что папа разрешил им сегодня гулять сколько влезет по случаю праздника.
— Пожалуй, здесь слишком много братьев, — признался Кристер. — Не найдется ли места, где они оставят нас в покое?
— Может, дома, — неуверенно ответила я. — Туда вряд ли их заманишь.
Мы пошли обратно в Столярову усадьбу. Там в общей комнате, где пахло ландышами и березовой листвой, я накрыла стол и стала угощать Кристера бутербродами.
Папа спал, Пелле спал, все было тихо и мирно. Мы сидели на диване, и позади нас, за открытым окном, чуть брезжил рассвет.
— Как у тебя только терпения хватает на этих малышей? — спросил Кристер.
Я ответила, что терпения у меня хватает, потому что я люблю их, несмотря на их дурацкие шалости. И то была сущая правда.
— Да, да, теперь-то и я их страстно люблю, — заверил меня Кристер, — именно потому, что их тут нет.
Он думал, что их тут нет. И я тоже так думала. Вдруг снова послышался задиристый смешок, на этот раз под окном. В летнем сумраке перед домом шествовала хихикающая процессия детей, напяливших на головы какие-то допотопные, потешные шляпы. Чего только не валялось на чердаке нашего дома! Каждый раз, проходя мимо окна, они вежливо приподнимали шляпы и острили, притом сами же смеялись над своими собственными остротами, да так, что хватались за яблоню, чтобы не упасть от смеха на землю.
— Добрый вечер! Вы слышали, масло подорожало на несколько кило! — говорили они.
Или:
— О, простите, эта дорога к очереди за травой?
Или:
— У вас случайно не осталось табаку на понюшку дедушке?..
Когда Юхан произнес последний каламбур, Никлас так загоготал, что от восторга рухнул на землю и лежал в траве, как майский жук, изредка всхлипывая от смеха.
Но тут, к счастью, в усадьбу столяра пришел за своими дочерьми Ниссе Гранквист.
Казалось, Юхан с Никласом тоже угомонились и надумали наконец-то идти спать. Услышав, как они топают по чердачной лестнице к себе наверх, я облегченно вздохнула.
Я не удивилась, что Кристер начал сердиться. Я предложила ему еще один бутерброд и подлила чаю, всячески стараясь сгладить глупые выходки своих несчастных братьев.
— Целая шайка братьев, — сказал Кристер. — А тому младшему, ты, верно, дала снотворного, раз он такой тихий?
— Слава Богу, он золотой ребенок и спит по ночам! — ответила я.
И тут я вдруг услышала голос Пелле:
— Ты так думаешь?
Папа спустил канат на случай пожара из чердачной комнаты, где жили мальчики. Теперь на атом канате перед окном болтался «золотой ребенок, который спит по ночам», а с чердака доносился дикий хохот.
Я чуть не расплакалась.
— Пелле, — спросила я жалобно, — почему ты здесь висишь?
— Проверяю, можно ли по канату спуститься на землю, — ответил Пелле. — Юхан велел!
Тут Кристер не выдержал и направился прямо к двери.
— Когда братья болтаются на веревке перед окном, дальше некуда, — признался он, — и лучше уж уступить. Привет, Малин! — сказал он и исчез в предрассветной дымке.
На этом кончился праздничный вечер.
«О-хо-хо-хо, — подумала я. — Что ни говори, а день летнего солнцестояния оказался настоящим праздником».
— Да, Юхан, я знаю, вы прячетесь за кустами сирени, — сказала Малин, положив дневник в траву. — Идите сюда, поговорим о завтрашнем дне. Будете целый день таскать дрова и воду — может, я и прощу вас.
День — равный целой жизни!
Лето шло своим чередом: светило солнце, время от времени лил для разнообразия дождь. Иногда штормило — фьорд покрывался белыми барашками, и оконные рамы домов на острове поскрипывали. А Чёрвен приходилось сгибаться в три погибели, добираясь до причала навстречу пароходу. Стину же ветер почти что сносил в море. В непогоду кошка Сёдермана не выходила на улицу, а сам Сёдерман, бывало, по три дня не вытаскивал сети из моря. Порой и гроза гремела. Как-то Мелькерссоны просидели ночь напролет на кухне в Столяровой усадьбе, наблюдая, как молнии с шипением вонзаются в море и фьорд озаряется яркими вспышками, от которых становилось светло как днем. Глухие, грозные раскаты грома гремели над дальними островами, и казалось, наступил день Страшного Суда. Кто бы мог спать в такую ночь?
— Поднадоела эта ночная жизнь, — сказал под конец Пелле.
Здесь, на Сальткроке, часто не разберешь — день ли, ночь ли. Ладно еще не спать из-за какой-нибудь пирушки или в праздник летнего солнцестояния, но не спать всю ночь из-за грозы просто невмоготу, считал Пелле. Хотя Ниссе Гранквист пытался втолковать ему, что всякая погода по-своему хороша, а Пелле слепо верил дядюшке Ниссе, он все же усомнился в его словах, когда капли дождя просочились сквозь крышу. Этому бедствию, правда, скоро удалось положить конец — в один прекрасный день отец взобрался на крышу и залатал прохудившиеся места толем и черепицей. Малин объявила в доме минуту молчания, пока отец был на крыше, и это, пожалуй, помогло. Мелькер справился с делом без всяких злоключений. Зато назавтра, когда он собрался было установить скворечник на боярышнике, ему не повезло: едва он забрался на дерево, как тут же кубарем скатился вниз, зажав скворечник в руках. Сыновья испуганно бросились к нему, но Мелькер коротко заверил их, что ничего не произошло. Просто он внезапно вспомнил, что еще не время ставить скворечник.
— Тогда зачем так спешить, только с дерева свалился и коленки ободрал, — сказала Малин, залепляя ссадины пластырем.
Вообще-то жизнь на острове в летнюю пору была сплошным удовольствием, и Пелле уже со страхом начал подумывать о том печальном дне, когда им придется возвращаться в город. У него был старый гребешок, на котором число зубчиков равнялось числу летних дней. Каждое утро он отламывал один зубчик и с сожалением смотрел, как убывал ряд зубчиков.
Однажды утром, когда они сидели за завтраком, Мелькер увидел этот гребешок и выбросил его в окно. Нелепо, объяснил он, испытывать страх перед будущим. Надо радоваться каждому дню. Вот таким солнечным утром, как сегодня, жизнь — сплошное удовольствие, рассуждал Мелькер. Подумать только, можно запросто выйти в пижаме в сад, походить босиком по траве, окунуться у причала, а потом усесться за собственноручно выкрашенный садовый стол, почитать книгу или газету, выпить кофе, а рядом шумят дети. Чего же больше желать от жизни? И незачем Пелле носиться со старым гребешком. Мелькер поднял гребешок двумя пальцами с земли и бросил в помойное ведро. Пелле не протестовал. Когда с гребешком было покончено, отец вернулся к своей книге, а Юхан и Никлас вновь принялись препираться, чья сегодня очередь мыть посуду.
Оба они считали, что очередь мыть посуду наступает слишком быстро, а Малин, наоборот, была уверена, что всякий раз, когда дело касалось мытья посуды, не было более неуловимых ребят, чем Юхан и Никлас. Собственно, в редкие дни их дежурства по кухне следовало бы поднимать флаг над Сальткрокой, говорила Малин.
— Ну, тут ты не права, — сказал Никлас. — А кто мыл посуду, например, вчера?
— Кто? Малин собственной персоной!
Этого Никлас не мог взять в толк.
— Странно, я-то уверен, что я.
— А разве ты не заметил, — спросил Пелле, намазывая варенье на булку, — разве ты не заметил, пока мыл посуду на кухне, что это был не ты?
С жужжанием прилетела одна из его ос, желая, как видно, тоже отведать варенья. Пелле радушно протянул ей свой ломоть с вареньем. Надо ведь подкармливать своих домашних животных. Пелле не сомневался, что таким образом осы будут знать, кто их хозяин. Он любил сидеть на окошке своего чердака и свистом сзывать ос, чтобы поболтать с ними. Он обещал им, что они смогут жить в Столяровой усадьбе, сколько им вздумается.
Пелле увлеченно следил за маленькой осой, которая лакомилась крошками сахара, оставшимися на столе, и старался представить себе, о чем она думает и вообще каково это — быть осой. Случается ли осам расстраиваться или бояться, как детям, таким вот семилеткам, как он или вроде того? И как много, собственно, знают осы?
— Папа, ты думаешь, осы знают, что сегодня восемнадцатое июля? — спросил Пелле.
Но отец был поглощен собственными мыслями и не ответил ему.
— День — равный целой жизни! — пробормотал Мелькер. — Это же просто великолепно!
— Что в этом великолепного? — спросил Юхан.
— Вот здесь в книге написано: «День — равный целой жизни!» — с жаром воскликнул Мелькер. — Поэтому я и выбросил гребешок.
— В книге написано, что ты должен был выбросить мой гребешок? — удивленно спросил Пелле.
— Здесь написано: «День — равный целой жизни!» — это значит, что каждый день надо жить так, словно тебе дарован всего один-единственный день. Надо пользоваться каждой секундой и чувствовать, что ты в самом деле живешь на свете.
— А ты считаешь, что я должен мыть посуду! — с упреком сказал сестре Никлас.
— А почему бы и нет? — откликнулся Мелькер. — Сознание того, что ты творишь, делаешь все своими руками, поднимает жизненный тонус.
— Так, может, ты помоешь посуду? — предложил Никлас отцу.
Но Мелькер ответил, что у него и без мытья посуда хватает дел и его жизненный тонус всегда высок.
— Какой еще жизненный тонус? — спросил Пелле. — Он что, у нас в руках?
Малин с нежностью взглянула на малыша:
— У тебя он, по-моему, в ногах. Ведь ты говоришь, что ноги тебя сами по себе несут, вот это и есть жизненный тонус.
— Правда? — удивился Пелле. — Сколько всего на свете, чего не знаешь, хоть ты и человек, а не оса.
Осы, может, и не понимали, что это был день восемнадцатого июля, но им было совершенно ясно, что на столе в саду столяра стоит вазочка с вареньем, и целый осиный рой с жужжанием слетелся на угощение, так что Малин раздраженно замахала на них. Одна из ос решила отомстить, но, вместо того чтобы напасть на Малин, кинулась в другую сторону и ни за что ни про что ужалила бедного, ни в чем не повинного Мелькера в шею. Мелькер с ревом вскочил и также ни за что ни про что хотел было прихлопнуть другую маленькую осу, которая ползала по столу, никому не причиняя зла. Но тут вмешался Пелле.
— Не тронь! — закричал он. — Не тронь моих ос! Они ведь тоже хотят жить, ты сам говорил.
— Что я говорил? — спросил Мелькер.
Он не помнил, чтобы он заводил разговор об осах.
— Ну как же. «День — равный целой жизни», или как там еще, — напомнил Пелле.
Мелькер опустил книгу, которой собирался было прихлопнуть осу.
— Да, само собою, хотя им не следует начинать этот день с того, чтобы жалить меня в шею. — Он ласково потрепал Пелле по щеке: — Ты, мальчуган, пожалуй, самый лучший друг животных на всем свете. Жаль только, что твои животинки не очень-то добрые.
Мелькер потрогал шею. Укус побаливал, но он не позволит осе испортить себе утро. Он решительно поднялся из-за стола. Этот день — равный целой жизни и для него, для Мелькера, и он знал, что ему делать.
В это время к причалу, чихая, пришвартовалась моторная лодка. Когда Юхан и Никлас увидели, кто сидел за рулем, они мрачно посмотрели друг на друга.
— А я-то думал, мы отвадили его в праздник, — вздохнул Юхан.
Но Кристер, как видно, забыл обо всем, кроме того, что милее русоголовой Малин не было никого на всех соседних островах. Окажись более милая и более русоволосая девушка на каком-нибудь другом острове, он, возможно, направил бы свою моторку туда. Но пока причал Мелькерссонов оставался для него самой заветной гаванью.
— Привет, Малин! — закричал он. — Поехали покатаемся по морю?
Братья затаили дыхание. Неужто она и в самом деле улизнет на моторке, как же им тогда охранять ее?
Малин оживилась. Видно, она ничего не имела против морской прогулки.
— А долго мы там пробудем? — крикнула она.
— Весь день! — снова закричал Кристер. — Не забудь купальник на случай, если отыщем подходящий скалистый островок, откуда можно понырять.
Юхан назидательно покачал головой:
— Опомнись, Малин! День равен целой жизни, так неужто ты и вправду хочешь провести всю жизнь с этим малым?
Малин расхохоталась:
— Понятно, веселее сидеть дома, мыть посуду и готовить обед, но только мне охота, чтоб и вы когда-нибудь повеселились.
— Чудесно! — объявил Никлас.
Малин вопросительно посмотрела на отца:
— Ну как, обойдетесь без меня?
— Еще бы! — ответил Мелькер. — Положись на своего умелого отца. А что у нас сегодня на обед?
— Ничего, — призналась Малин. — Но ты ведь можешь купить фарш в лавке у Мэрты и нажарить котлет. От этого твой жизненный тонус сразу подскочит!
Мелькер кивнул головой. Порою он чувствовал себя виноватым перед Малин. На ее долю выпало, пожалуй, гораздо больше хлопот и ответственности, чем под силу девятнадцатилетней девушке. Поэтому он от души желал ей как следует повеселиться. К тому же его вполне устраивало, что именно сегодня, когда ему нужно остаться в усадьбе одному, ее не будет дома.
— Поезжай, девочка, — сказал он. — Спокойно можешь переложить заботы о хозяйстве на мои плечи. Это даже будет интересно.
Но еще до того, как Малин собралась в дорогу и взяла пляжную сумку с купальными принадлежностями, Пелле уже маячил на пристани. Пристегнув спасательный пояс, он угрюмо смотрел на Кристера.
— Привет, — сказал Кристер. — Зачем это ты надел спасательный пояс?
— Не помешает, когда уходишь в море, — холодно ответил Пелле.
— Вон что! Значит, ты уходишь в море. А с кем?
— С тобой и с Малин.
Тут подошла Малин и умоляюще посмотрела на Кристера:
— Пусть поедет с нами, а?
По лицу Кристера было видно, что он охотнее взял бы с собой маленькую гремучую змею. Но Малин неодобрительно заметила:
— Не очень-то ты жалуешь детей!
Тогда Кристер схватил Пелле в охапку и усадил его в лодку.
— Да что ты, — заверил он, — я их обожаю, особенно девочек, притом девятнадцатилетних, а как же иначе!
Протянув руку Малин, он помог ей забраться в лодку.
— Впрочем, спасибо тебе и за то, что ты не берешь с собой всех своих братьев.
А те двое, которых не взяли с собой, остались стоять на пригорке, провожая взглядом моторку до тех пор, пока она не превратилась в маленькую точку на глади фьорда.
Тогда они принялись за работу: убрали со стола, вынесли на кухню грязную посуду, нагрели воды, вымыли посуду и расставили ее по полкам. Мальчики справились с уборкой быстро и ловко, так как были приучены, когда нужно, быстро и ловко выполнять свои обязанности. Да к тому же Тедди и Фредди с нетерпением ждали их на плоту возле пристани Гранквистов.
С не меньшим нетерпением ждал, когда же они наконец уйдут, и Мелькер. Ему хотелось остаться одному, чтобы испытать свое изобретение — свой секретный желоб, который должен вызволить его из рабства. Ведь есть вещи, которые приходится делать самому и от которых жизненный тонус ничуть не повышается. Например, постоянно таскать воду из колодца. Один Бог знает, куда Малин девала воду, которую они ей приносили. Может, она без конца тайком принимала холодный душ? Во всяком случае, ведра на кухне всегда стояли пустые и укоряюще смотрели на каждого, кто туда входил. Само собой, Малин незачем было ходить за водой, когда в доме четверо мужчин. Воду носили Юхан и Никлас, если они случайно оказывались поблизости в нужный момент и если их об этом просили. Но чаще всего, кроме Мелькера, некому было наполнить пустые ведра.
Но теперь все изменится. С этого самого дня, с восемнадцатого июля, не придется больше таскать тяжелые ведра, и это благодаря тому, что как только Мелькер увидел старый водосточный желоб, он тотчас сообразил, на что тот годится. Он отыскал желоб в сарае, в этом замечательном старом сарае, где валялось столько всякого хлама. Он втихомолку очистил его от грязи и надраил песком. Теперь оставалось только смонтировать.
— Проще простого, — уверял самого себя Мелькер, представляя, как все это будет.
1. Ставишь козлы у колодца с таким расчетом, чтобы желоб лежал на них с легким наклоном.
2. Намертво приматываешь козлы стальной проволокой к одной из нижних веток боярышника.
3. Так же намертво вставляешь желоб в козлы и так же приматываешь его к ним стальной проволокой, а затем просовываешь желоб в кухонное окно, ну разумеется, предварительно тщательно измерив его и убедившись, что он туда достанет. 4. Подставляешь под желоб в кухне большую прочную бочку. 5 и 6. Вода с веселым журчанием бежит по желобу в кухню, а ты, весело мурлыча, лежишь на траве возле дома и бьешь баклуши.
Понятно, доставать воду из колодца придется по-прежнему руками, но крутить ручку валька и вычерпывать ведром воду из колодца вовсе не трудно. Утром можно улучить свободную минутку и вытащить пятнадцать-двадцать ведер зараз, освободившись потом на весь день, и пусть Малин принимает холодный душ хоть каждые пять минут, если захочет.
Мелькер бодро взялся за дело. Работа оказалась более кропотливой, чем он предполагал, и он, налаживая желоб, ласковыми словами подбадривал самого себя.
— Есть две превосходные вещи, — сказал он, установив на месте желоб, — да нет, пожалуй, я знаю три вещи, лучше которых ничего не придумаешь: вот этот незамысловатый деревянный желоб, путь воды в кухню и, наконец, путь Мелькера Мелькерссона к высшей мудрости.
Все шло отлично, все получалось точно так, как он задумал. И работать его сооружение должно точно так же, это он знал. Жаль, конечно, что бочку он еще не успел раздобыть. Придется теперь при испытании желоба обойтись ведром. Но тогда кто-нибудь должен быть в кухне, чтобы подать ему знак, когда ведро наполнится.
Тут, словно ее прислала сама судьба, явилась Чёрвен. При виде ее Мелькер просиял:
— Сегодня, Чёрвен, ты пришла очень кстати!
— Правда! — воскликнула польщенная Чёрвен. — Ты соскучился по мне?
У Мелькера с Чёрвен завязалась та редкостная дружба, которая бывает иногда между ребенком и взрослым. Дружба двух равноправных людей, которые во всем откровенны друг с другом и имеют одинаковое право говорить начистоту. В характере Мелькера было много ребячливого, а у Чёрвен в меру чего-то другого, пусть не зрелости взрослого человека, но какой-то ощутимой внутренней силы, и это позволяло им держаться на равной или почти на равной ноге. Чёрвен, как никто, угощала Мелькера горькими истинами, от которых его порой даже передергивало, и он готов был дать ей нахлобучку, но потом остывал, понимая, что с Чёрвен это ни к чему не приведет. Однако большей частью она была милой и преданной, так как очень любила дядю Мелькера.
Он объяснил ей, какой замечательной находкой был этот желоб. С этого дня Малин получит воду прямо в кухню.
— И моя мама тоже, — сказала Чёрвен, — она получает воду прямо на кухню.
— Не может быть, — усомнился Мелькер.
— Еще как может, папа ей приносит, — парировала Чёрвен.
Мелькер снисходительно рассмеялся.
— Это совсем другое дело, — пояснил он, — а мое изобретение будет маленьким приятным сюрпризом для Малин.
Чёрвен серьезно посмотрела на него:
— И еще чтоб тебе самому не приходилось таскать столько ведер, да?
— Ну вот что, встань рядом с ведром, — велел он Чёрвен, — а когда вода польется, крикни мне. Поняла?
— Что я, дура, что ли?
Мелькер помчался к колодцу вприпрыжку, как ребенок, зачерпнул полное ведро воды и вылил его в желоб. Он засмеялся от восторга, когда увидел, как вода побежала по желобу на кухню, и услыхал оттуда крик Чёрвен. Ей-ей, его сооружение работало, как он и предполагал.
И все-таки не совсем так… к сожалению, не так, как нужно. Мелькер огорчился, увидев, что желоб рассохся и протекает и что большая часть воды оказывается на земле. Ну, дело это поправимое. Он знал, что рассохшиеся бочки обычно кладут в воду, чтобы они набухли. Точно так же можно поступить и с желобом, но дело в том, что ему навряд ли удастся его разобрать. Ведь на установку желоба пошло, поди, несколько километров этой замечательной проволоки, думал Мелькер, и ее так просто не размотаешь. Впрочем, нельзя ли добиться желаемого результата, если пропустить через желоб много-премного воды, не трогая его с места? Постепенно он набухнет.
Мелькер принялся за дело с энергией и жаром, которые обычно вкладывал в работу. Вылив в желоб примерно с десяток ведер, он увидел, что тот малость раздался. Или, может, ему только показалось? Он стоял, задумчиво почесывая затылок, и смотрел, как вода вытекает на землю. Вдруг до него дошло, что Чёрвен кричит и шумит на кухне. Причем, как видно, уже давно, а он на это не обращал внимания. Тогда он громко крикнул:
— Ну что, наполнилось?
В окошко высунулось личико Чёрвен. На этот раз оно было суровым.
— Не-а, — ответила она. — Еще не вся кухня наполнилась, только до порога! — И добавила: — Ты что, дядя Мелькер, глухой?
Желоб, безусловно, работал гораздо лучше, чем предполагал Мелькер. Если даже большая часть воды вытекала на землю, то ее все равно хватило с избытком, чтобы наполнить ведро и залить пол на кухне.
Минуту спустя Юхан и Никлас, стуча сапогами, вбежали в дом и, застав отца на полу с тряпкой в руках, удивленно спросили:
— Ты что, пол моешь?
— Не-а, — ответила вместо Мелькера Чёрвен, которая сидела, поджав под себя ноги, на дровяном ларе и внимательно наблюдала за происходящим. — Это он приготовил такой чудесный сюрприз для Малин. Теперь воду она получит прямо в кухню.
— Вон отсюда! — взревел Мелькер. — Убирайтесь все отсюда!
Не подозревая вдали о чудесных сюрпризах Мелькера, Малин вовсю наслаждалась летним днем. Она наслаждалась вплоть до самых ноготков на мизинцах ног. День — равный целой жизни. Да, сегодня ей в самом деле посчастливилось испытать понемножку всего самого необходимого на свете. Солнце и вода, мягкий летний ветерок, приятная твердость нагретой скалы, на которой она лежала, дурманящий аромат цветов с зеленой лужайки позади нее, который смешивался с запахами моря. Ах, все эти зеленые благословенные островки с их голыми серыми скалами, цветами и морскими птицами! Нигде не прожить лучше свою жизнь или хотя бы один из ее дней, чем на любом из них. Что может быть отрадней, чем вот так лежать на солнце, следить за полетом птиц и прислушиваться к чуть слышному плеску прибоя о скалы? Без Кристера, верно, было бы еще лучше, потому что его пустая болтовня заглушала легкий плеск волн. Эта болтовня стала постепенно раздражать Малин, и ей захотелось, чтобы он наконец-то умолк. Но она наперед знала, что Кристер не сделает этого. Еще тогда, когда они сидели с ним на берегу у заливчика Янссона в праздничную ночь, она сказала ему, что любит посидеть одна в тишине.
— Не каждый день и вовсе не теперь, — поспешно добавила она.
Но иногда она все-таки чувствует, что ей необходимо побыть одной, так она тогда сказала.
— Я тоже могу остаться один, то есть наедине, — заверил Кристер. — Но все зависит от того, с кем… С тобой я мог бы остаться наедине хоть на всю жизнь.
Бедный Кристер, даже теперь он не мог остаться наедине с Малин. Пелле, понятно, тоже не одобрял его болтовни, но все-таки он расположился как можно ближе к этой парочке, чтобы не пропустить ни слова. Он собирал камушки на берегу у самой воды, наблюдая за плотвичками, но у самого ушки были на макушке.
— Думаю на недельку съездить на Аландские острова, — сказал Кристер. — На моторке. Поехали со мной?
Пелле поднял на него глаза:
— Ты меня спрашиваешь?
Кристер мог поклясться, что он имел в виду вовсе не Пелле, но та, кого он имел в виду, только улыбалась и не отвечала.
— Малин, ты ведь не откажешь, верно? — горячо спросил Кристер. — Ты кажешься такой умной и рассудительной, зачем упускать счастливый случай?
— Нет, я не поеду с тобой на Аланды, — ответила Малин. — Потому что я и есть такая умная и рассудительная, как и кажусь.
— Ну и отбрила, — заметил Пелле, подбирая маленький белый камушек.
— С твоими братьями не соскучишься, они только и делают, что подслушивают, о чем бы ни говорили, — проворчал Кристер и предложил Пелле прогуляться подальше вдоль берега. Там камушки куда более красивые, уверял Кристер. Но Пелле покачал головой:
— Не, тогда я не услышу, что ты будешь говорить.
— А зачем тебе надо слышать, что я говорю? — спросил Кристер. — По-твоему, это интересно?
Пелле снова покачал головой:
— Нет, по-моему, это глупо.
Кристер привык к тому, что люди его хвалят, — не дети, конечно, до них ему не было дела. Но тут его заело, что этот малыш ни во что его не ставит, и ему захотелось узнать почему.
— Ах вот что, ты принимаешь меня за дурака, — обратился он к Пелле более приветливо, чем раньше. — Неужто у Малин не было кавалеров глупее, чем я?
Пелле внимательно посмотрел на него и промолчал.
— Скажешь, нет? — настаивал Кристер.
— Я вспоминаю, — ответил Пелле.
Малин рассмеялась, а вместе с ней и Кристер, хотя и не так искренне.
Все же после минутного размышления Пелле признал, что, может, один или два были еще глупее Кристера.
— А сколько их всего наберется? — с любопытством спросил Кристер. — Можно сосчитать?
— Представь себе, можно, — сказала Малин. Внезапно вскочив, она бросилась со скалы в море.
— Незачем тебе об этом знать! — крикнула она, едва ее лицо снова показалось над водой.
Но Пелле не счел нужным скрывать.
— Дюжины две самое меньшее, — сказал он. — Звонят, и звонят, и звонят целые дни напролет… когда мы, понятно, в городе. А папа отвечает им так: «У телефона автоматический робот семьи Мелькерссон. Малин нет дома».
Малин зачерпнула ладонью воду и окатила Пелле с ног до головы.
— Придержи язык за зубами.
Потом она поплыла на спине; она глядела в голубое небо, покачиваясь на волнах, и старалась припомнить, кто же все-таки был еще глупее Кристера. Но не могла припомнить. И тогда внезапно поняла, насколько лучше прошел бы этот день без Кристера. Этот день и все другие дни. И твердо решила, что в последний раз проводит время с Кристером.
Потом она подумала о Бьёрне и вздохнула. В последнее время она встречала его довольно часто. Гранквисты принимали его как родного сына. Он приходил к ним когда вздумается, а от них до Столяровой усадьбы — рукой подать. Теперь он являлся к Мелькерссонам почти каждый день. Под всякими предлогами, а иногда и без них. Он приносил только что выловленных окуней или только что собранные лисички и молча выкладывал их на кухонный стол. Он помогал Юхану и Никласу налаживать наживу на перемет, сидел на крыльце Столярова дома и подолгу разговаривал с Мелькером, но Малин-то хорошо знала, ради кого он приходил. Сегодня вечером он тоже наверняка придет. Малин снова вздохнула. Какой он славный, этот Бьёрн, кристально честный, и совершенно ясно, что он в нее влюблен. Она попыталась проверить себя, не влюблена ли она хоть чуточку в него, ей бы очень этого хотелось, но при мысли о нем она не ощутила, что ее сердце забилось сильнее. И если этот день был равен целой жизни, то ей суждено прожить эту жизнь, не будучи ни капельки влюбленной! До чего ж обидно!
«Наверно, со мной что-то неладно», — подумала она и уставилась на кончики пальцев, которые чуть высунула из воды. Из-за чего, собственно, шумят ее братья, — ей случалось самое большее лишь чуточку увлечься и только, так что им нечего волноваться за нее.
Вздохнув, она взглянула на солнце и увидела, что половина этого дня, равного целой жизни, уже миновала. И она попыталась представить себе, как обстоят у Мелькера дела с котлетами.
Но Мелькер и не собирался поднимать в этот день жизненный тонус котлетами.
— Ни к чему, когда еда плавает у самого причала, — сказал он Юхану и Никласу. — Запеченный окунь — настоящий деликатес, разве сравнишь с ним какие-то котлеты!
Он послал мальчиков накопать червей, а потом битых два часа удил с мостков, так и не поймав даже салаки. Зато дети вытаскивали одного окуня за другим, радуясь затее отца. Сам же Мелькер расстроился вконец. И зачем он только хвастался? Им, мол, говорил он, нечего слишком полагаться на рыбацкое счастье, когда он, Мелькер, рядом с ними. Стоит ему лишь свистнуть, как окуни приплывут к нему. Да еще с его опытом и умением ловить рыбу. Так что пусть не огорчаются, если у него будет лучший улов.
Теперь же они вытаскивали одного окуня за другим прямо у него на глазах. Правда, это была его заслуга: рыбачить предложил он, однако рыбу-то ловили они… Конечно, это несправедливо, но именно у него так ни разу и не клюнуло.
— Да, такой день вовсе не равен целой жизни, — вздохнул Мелькер и мрачно уставился на поплавок.
Всякий раз, когда клевало, Юхан и Никлас смотрели на отца почти виновато. Дети трогательно заботились, чтобы не огорчить папу. Разве могли они оставаться спокойными, когда его веселые голубые глаза внезапно омрачались, а омрачались они из-за всякого пустяка. Сейчас настроение у него явно падало. В таких случаях отец обычно поглаживал рукой подбородок, и ребята по опыту знали, что это недобрый знак. В конце концов он в сердцах швырнул удочку.
— Пусть теперь окуни сами о себе позаботятся, — сказал он. — Я не собираюсь сидеть здесь до бесконечности и подавать им червей на удочке. — Улегшись на мостках, он надвинул на глаза берет. — Если приплывет окунь и будет биться и просить, чтоб его вытащили, скажите, я сплю. Пусть приплывает в три часа.
И Мелькер тотчас уснул. Его поплавок слегка покачивался на волне, и хотя мальчики от всего сердца желали, чтобы окунь подплыл и потребовал вытащить себя из воды, этого не случилось. Тогда они решили сами уладить дело; уж одну-то поклевку они обязательно устроят отцу. Они вытащили из воды его леску и насадили на крючок самого крупного из своих окуней. А потом разбудили отца отчаянным криком:
— Папа, клюет!
Мелькер вскочил и так поспешно рванул удочку, что чуть не свалился в воду. Вытащив окуня, он был вне себя от радости:
— Нет, вы только посмотрите на этого великана! Он вдвое больше любого из ваших!
Однако этот окунь, видать, был не из тех, кто бьется на берегу. Он висел на крючке неестественно тихо и покорно. Мелькер молча разглядывал его, а сыновья с тревогой следили за ним.
— У бедняги, видно, шок, — сказал Мелькер.
Он уже пару раз дотронулся до подбородка, но вдруг неожиданно улыбнулся. А когда он улыбался, словно солнышко внезапно выглядывало из-за темных туч. Он с любовью посмотрел на сыновей. Подумать только, у него такие добрые и заботливые мальчики, а это куда важнее, чем все окуни Балтийского моря!
— Пойду-ка я запеку этого окуня вместе с парочкой других, — сказал Мелькер. — По моему собственному рецепту. В чем, в чем, а в кулинарии я смыслю побольше вашего.
Юхан и Никлас дали ему понять, что он лучший в мире повар, и Мелькер отправился на кухню. Малин ужаснулась бы, если бы увидела, как Мелькер чистит окуней.
Мелькер, огромный кухонный нож и маленький скользкий окунь — втроем они могли бы вызвать страшное кровопролитие. Но как ни странно, Мелькер частенько выходил целым и невредимым из самых опасных положений, грозивших катастрофой, ножевыми ранами и неотложной помощью.
Настроение у него было прекрасное. Он со знанием дела разложил рыбу в эмалированной кастрюле, напевая свой рецепт, словно арию из оперы.
— Запеченный окунь по рецепту Мелькера, — пел он, — пять чудесных рыбок… и масла… м-а-а-асла не жалеть, — распевал он, бросая в такт кусочки масла в кастрюлю. — И петрушки… и укропа… и всяких приправ… еще щепотку муки… и совсем-совсем немного водицы… самой простой пресной водицы… и соли по вкусу… по вкусу… по вку-у-у-усу!.. по вку-у-су!
Он так упоительно пел, что внезапно задумался: а почему он, собственно говоря, не стал оперным певцом?
Или нет! Строителем дорог и каналов! Он то и дело поглядывал на желоб, торчащий из кухонного окна, и всякий раз радостно улыбался. Вот будет сюрприз для Малин, когда она вернется домой!
Тут Мелькер услышал, что моторка подошла к причалу, и бросился к колодцу, желая немедленно продемонстрировать свое изобретение.
Да и у Малин был такой вид, что ее не мешало бы порадовать. В задумчивости развешивала она на веревке свой купальник, но когда почувствовала на себе взгляд Мелькера, улыбнулась. И вдруг заметила водосточный желоб.
— Это еще что такое? — спросила она, и Мелькер объяснил ей, Кристеру и Пелле, какое это простое и гениальное изобретение и как впредь с его помощью их жизнь в Столяровой усадьбе станет много приятнее.
— Ты проверил его? — спросила Малин.
— Хм… а как вы провели время? — пытался было перевести разговор на другую тему Мелькер, но вдруг увидел стоявших неподалеку Юхана и Никласа: ведь им кое-что было известно. Поэтому Мелькеру пришлось выкладывать правду: — Как же, проверил… Часть воды вылилась возле колодца, часть в кухне на пол, но, как только я достану бочку, все уладится.
Лицо Мелькера сияло. Он был просто влюблен в свой желоб, он гордился этим чудесным желобом, и ему даже захотелось его погладить: задумано — сделано. Но он прикоснулся рукой как раз к тому месту, где сидела одна из ос Пелле, и она тотчас вонзила ему в ладонь жало. Мелькер рассвирепел. Два раза в день — это уж слишком! Он издал такой рев, что Кристер даже подпрыгнул — он ведь не привык к подобным проявлениям чувств. Да, Мелькер ревел, как раненый лев, оглядываясь по сторонам в поисках смертоносного оружия. В траве валялся крокетный молоточек одного из мальчиков. Схватив его, Мелькер увидел, что оса по-прежнему сидит на желобе, довольная своей проделкой; тогда он занес молоточек над головой и со всего размаху ударил.
А потом словно окаменел при виде того, что он натворил. В осу он не попал, и она, наверно, уже где-нибудь в гнезде, умирая со смеху, бахвалилась своим подругам, как провела Мелькера.
Зато желоб, его прекрасный водосточный желоб, разломился пополам, и лишь обрубок остался висеть на проволоке, и стало ясно, что он не только рассохся, но и весь прогнил.
Наконец Мелькер пришел в себя и зло прошептал:
— Угадайте, что я сейчас сделаю.
— Выругаешься, — предположил Пелле.
— Нет, этого я не собираюсь делать, потому что это некультурно и некрасиво. Но теперь в усадьбе останется одно из двух: Либо это проклятое осиное гнездо, либо я.
Он замахнулся крокетным молоточком, но Пелле повис у него на руке и закричал:
— Нет, папочка, нет, не тронь моих ос!
Мелькер в сердцах швырнул крокетный молоточек. Повернувшись на каблуках, он пошел к причалу. Дальше некуда! Пелле скорее готов примириться с тем, чтоб осы искусали родного отца с ног до головы, чем расстаться с этими негодницами! Пелле бросился за Мелькером, чтобы поговорить с ним и успокоить его, и не видел подлого поступка Кристера. Осиное гнездо прилепилось довольно высоко, и дотянуться до него крокетным молоточком было нелегко, но если немножко постараться — а Кристер не прочь был немножко постараться и, забавы ради, прихлопнуть серое гнездо, набитое осами, — то можно. Он взял крокетный молоток и изо всех сил ударил им по гнезду, но промахнулся, и удар пришелся в стену возле самого гнезда. Такого грохота осы, верно, не слыхали за всю свою жизнь, и он им пришелся не по вкусу. Весь осиный рой вылетел из гнезда отомстить обидчику — целое облачко маленьких злых ос, желавших посмотреть на того, кто осмелился так громыхать. И первый, кого они увидели, был снова Мелькер — осы воинственно набросились на него. Мелькер услыхал их жужжание, когда они уже подлетали.
— Нет, теперь и вправду… — начал было Мелькер, но, не закончив фразы, пустился бежать.
Он петлял, будто заяц, и все время рычал от злости.
— Беги, папа, беги! — кричал Пелле.
— По-моему, я и так бегу, — огрызнулся Мелькер и сломя голову кинулся к причалу. Кристер, Малин и мальчики бежали следом, а Кристер так смеялся, что стал даже заикаться от смеха, и ему и в голову не приходило, что Малин от всей души возненавидела его за это.
Мелькер яростно махал руками, защищаясь от своих мучителей, но они все-таки ужалили его несколько раз. У него оставался один путь к спасению — и он прыгнул с причала в море. Послышался сильный всплеск, и дети увидели, как он исчез под водой. Он, видно, намеревался пробыть там долго. Озадаченные осы жужжали над морем, выискивая, куда подевался их враг. Осмотревшись, они вдруг увидели Кристера. Он стоял на мостках, захлебываясь от смеха. Но поразительно, как быстро он посерьезнел, когда весь осиный рой с гудением повернул к нему.
— Убирайтесь, — закричал он, — отстаньте, не смейте!
Но осы не отставали. Их налетело видимо-невидимо! Кристер издал такой вопль, будто попал в кораблекрушение, и бросился вниз головой в море.
Вынырнув, он был куда злее любой осы. Но Мелькер, топтавшийся чуть поодаль в воде, дружески приветствовал его:
— Добрый вечер! Вон что, ты тоже вышел прогуляться.
— Да, но я иду домой. Так и запиши, — дерзко ответил Кристер.
Несколько взмахов руками — и он доплыл до своей моторки.
— Привет, Малин! Я отчаливаю. Этот остров опасен для жизни. Когда-нибудь, может, увидимся!
— Не думаю, — пробормотала Малин.
Но этого Кристер не расслышал.
Чёрвен встретила Мелькера, когда он, хлюпая мокрой одеждой, шел к Столяровой усадьбе. Увидев его, она радостно заулыбалась:
— Снова купался в одежде? Почему ты все время так делаешь? У тебя что, нет плавок?
— Нет, есть, — ответил Мелькер.
— А они, наверно, не так здорово хлюпают, правда?
— Чего там, одежда хлюпает куда лучше, — согласился Мелькер.
…Но вот настал чудесный миг, когда Мелькер мог угостить своих детей запеченным окунем, приготовленным по его собственному рецепту. Малин подошла к плите и, подняв крышку кастрюли, втянула носом этот волшебный запах — о, как аппетитно пахло и как сильно она проголодалась!
— Папа, ты у нас гений!
Мелькер уже переоделся и смазал каким-то кремом осиные укусы. Теперь он восседал во главе кухонного стола, и все снова представлялось ему в розовом свете. Жизнь все-таки прекрасна! Он застенчиво улыбнулся похвале Малин:
— Не зря ведь говорят, что когда мужчина всерьез посвящает себя кулинарии, то ни одной женщине за ним не угнаться… Правда, я… я… я не о себе говорю, что я… но посмотрим, пора, наконец, попробовать!
Он стал накладывать всем по очереди рыбу и просил не есть, пока каждый не получит своей порции. Когда же напоследок он наполнил и свою тарелку, то улыбнулся и посмотрел голодными глазами на белую рыбу, плававшую в масле среди укропа и петрушки. Поднося первый кусок ко рту, он все еще блаженно улыбался, но потом в горле у него послышалось лишь беспомощное бульканье.
Малин и мальчики тоже успели попробовать и теперь сидели словно парализованные.
— Сколько же ты положил соли? — спросила наконец Малин.
Мелькер посмотрел на нее и вздохнул.
— По вкусу, — удрученно сказал он.
Потом он, к ужасу своих детей, поднялся и исчез за дверью. В окне они увидели, как он сел в саду за стол, где с такой надеждой встречал ранним утром этот день. От жалости у них сжались сердца, и без единого слова они гурьбой бросились к нему.
— Полно, папа, стоит ли расстраиваться, — обратилась Малин к Мелькеру, который сидел, закрыв лицо руками.
— Я такой никчемный, — сказал он, подняв на нее глаза, полные слез. — День — равный целой жизни… а что я из него сделал? Я ни на что не гожусь, какое-то сплошное невезение. И книжки я пишу никудышные, не возражай, я сам знаю! Бедные дети, у вас такой никчемный отец!
Они обступили его со всех сторон, обняли и хором стали уверять, что ни у кого из детей нет такого доброго, такого умелого и такого хорошего отца, как у них, и что они обожают и любят его безгранично именно за то, что он такой добрый, такой умелый и такой хороший.
— Гм-м-м… — сказал Мелькер. Он утер слезы ладонью и чуть улыбнулся. — А разве я не сильный и красивый? Об этом почему-то никто ничего не сказал!
— Конечно, ты сильный и красивый тоже, — добавила Малин, — поэтому какое имеет значение, если ты чуть пересолил.
Юхан и Никлас успели отдать соседям остаток улова, и теперь в доме не было ни крошки, а лавку уже закрыли, и всем хотелось есть.
— А нет ли хрустящих хлебцев? — спросил Никлас.
Но прежде чем кто-либо успел ответить, в комнату вошла Чёрвен в сопровождении Боцмана и сказала:
— Папа приглашает всех в коптильню на копченую салаку. Кто хочет?
«Такими и бывают дни, равные целой жизни: непредвиденно рушатся планы, раздаются плач и скрежет зубовный», — думал Мелькер. Но вот настал вечер, тихий и ясный, и он сам простил себе все промахи. Право, жизнь удивительна в своем постоянном кругообороте: то плач и скрежет зубовный, то безмятежная радость и всевозможные удовольствия, как, например, свежекопченая салака и молодая картошка с маслом.
Они сидели на прибрежных камнях возле коптильни Ниссе, а солнце с разрумянившимися от летнего зноя щеками спускалось во фьорд. Ниссе до тех пор угощал их золотисто-коричневой ароматной салакой, пока все не наелись досыта. Мэрта потчевала их картошкой с маслом и свежевыпеченным домашним хлебом. Мелькер не удержался и произнес речь. Он восхвалял дружбу и салаку, его просто распирало от избытка благодарности. Конечно, жизнь прекрасна, подумать только, сколько всяких событий может приключиться за один-единственный летний день!
— Вот, друзья мои, — сказал Мелькер, — все точь-в-точь как я говорю: такой день равен целой жизни!
— И какой необыкновенной жизни! — восторженно добавил Пелле.
Пелле покупает кролика
Мелькер безумно любил своих детей и частенько думал об их будущем. Конечно, он был писателем, и когда его спрашивали, что ему ближе всего, он отвечал: «Мелькер занят только Мелькером!» То было правдой лишь наполовину. Порой, когда он особенно серьезно задумывался о детях, ему казалось непостижимым, как у него могли вырасти четверо таких прекрасных малышей. И таких разных. Дело не только в том, что Малин и Юхан были светловолосые, а двое других совсем наоборот. Нет, они были разные буквально во всем. А Малин, его утешение и отрада, как она могла стать такой умной при ее красоте? Хорошенькие девушки обычно так заняты своей внешностью, что им некогда стать умными. Малин была другой. Мелькер, конечно, не очень-то знал, какие мысли таятся за ее гладким лбом, но он знал, что там нет недостатка в уме, искренности и здравом смысле. И кроме того, она была прелестна, и казалось, как цветок, не сознает этого.
Самый неуравновешенный изо всех детей Мелькера был Юхан. Фантазер, каких мало, и вечный непоседа. Нелегко придется ему в жизни, ведь он вылитый отец, бедный мальчик! Никлас, наоборот, спокойный, уверенный и в то же время самый веселый и жизнерадостный из всех Мелькерссонов с того самого дня, как появился на свет. Мелькер не сомневался, что Никласу будет легко шагать по жизни.
И наконец, Пелле. Как сложится его судьба? Что выпадет на долю тому, кто может расплакаться оттого, что у незнакомых людей в трамвае грустный вид, или оттого, что ему попалась навстречу кошка, похожая на бездомную? Пелле постоянно заботило, что какой-то человек, какая-то кошка, какая-то собака или даже какая-то маленькая оса не очень счастливы. Как он будет жить дальше с такими заботами? И сколько всяких несуразиц умещается у него в голове! «Почему телефонные провода поют так, что хочется плакать, когда их слышишь? И почему море так мрачно рокочет, может, в память о погибших моряках?» — со слезами на глазах расспрашивал Пелле. И радости у него были своеобразные, свои. Ему доставляло удовольствие в одиночестве сидеть в рыбачьем сарае и слушать, как дождь барабанит по крыше, или в бурю забраться в угол на чердаке, особенно в сумерках, и слушать, как поскрипывает на ветру дом. Никлас пытался было выведать у него, отчего ему нравятся такие чудачества, но Пелле отвечал:
— Если ты сам не понимаешь, то и нечего тебе объяснять, все равно не поймешь.
Кроме того, Пелле — исследователь по натуре, и дел у него всегда по горло. То валяться в траве и смотреть, как возятся маленькие букашки, то лежать на мостках и наблюдать увлекательный изумрудный мир, где крошечные рыбешки живут своей рыбьей жизнью. То сидеть на крыльце темным августовским вечером и наблюдать, как зажигаются звезды, и пытаться найти Кассиопею, Большую Медведицу и Орион. Природа для него была непрерывной сменой чудес, и он постоянно был занят тем, что пытался проникнуть в ее тайны, восторженно и настойчиво, как и подобает пытливому исследователю. Наблюдая за малышом, Мелькер иной раз завидовал ему. Почему нельзя на всю жизнь сохранить такую вот удивительную способность воспринимать как блаженство землю и траву, шум дождя и звездные миры?
К тому же Пелле безгранично любил животных. Просто несправедливо, что у мальчугана никогда не было собаки. Он бредил собакой с тех пор, как научился ходить и выговаривать «гав-гав». Были у него и золотые рыбки, и черепахи, и белые мыши, но ни разу не было собаки.
И вот теперь на Сальткроке бедняжка Пелле повстречал такую собаку, как Боцман. Пелле считал, что Чёрвен — самый счастливый человек на свете.
— Правда, я был бы рад любой зверюшке, — объяснил он ей. — Конечно, у меня есть осы, но мне нужно животное, которое дает себя погладить.
Чёрвен стало жалко Пелле, и она великодушно предложила:
— Хочешь кусочек Боцмана? Возьми себе несколько кило!
— Гм, заднюю лапу, что ли? — сказал Пелле и пошел к отцу сетовать на судьбу.
— Несколько ос и одна собачья лапа, неужто ты думаешь, что этого довольно? — пожаловался он.
Мелькер сидел и писал в каморке при кухне, и как раз теперь ему было не до детей и не до их жалоб.
— Поговорим об этом в другой раз, — пробурчал он, отмахнувшись от Пелле.
Пелле вышел от него расстроенный. У стены Столярова дома стояла его удочка, та самая, которую он получил в подарок на именины на прошлой неделе. Можно ведь и удочку считать каким-то чудом, тем более что удочка эта не простая, а самая первая в его жизни и потому самая лучшая на всем свете. Пелле взял удочку в руки, бамбук был гладкий, приятный на ощупь, и словно волна радости обдала мальчика. Он решил пойти поудить к причалу. Какой все-таки папа добрый, что подарил ему удочку. И Чёрвен папа подарил такую же удочку. А Пелле-то думал, что ее зовут просто Чёрвен и больше никак! Ну и опростоволосился же он!
Потому что она умудрилась устраивать себе именины четыре раза в году.
— Меня зовут Карин Мария Элеонора Жозефина, — сказала Чёрвен. — Хотя я похожа скорее на Чёрвен, колбаску, — так ласково называет меня мама. — Потом она пристально посмотрела на Пелле: — А тебя как зовут?
— Пер, — со вздохом ответил Пелле.
Это было так похоже на Чёрвен — справлять именины четыре раза в году. Счастливица, она четыре раза получает подарки, а он только один.
— Скоро, вероятно, прозвище Чёрвен тоже впишут в календарь, так что у тебя прибавится еще пятый день именин, — сказал Пелле.
Нет, он не был завидущим, просто когда дело касалось Боцмана, трудно немножко не позавидовать.
Пелле взял удочку и направился к причалу. Там его и нашла Стина; сияя, она уселась рядом с ним. Ведь ей так редко удавалось побыть наедине с Пелле. Чёрвен верховодила и распоряжалась, кому с кем играть. Как уж ей это удавалось, трудно сказать. И прямо-то она ничего такого не говорила. Но всегда получалось так, как хотела она. Сама Чёрвен, любимица Сальткроки, могла играть с кем пожелает — то со Стиной, то с Пелле, это уж как ей хочется. Но она никогда не допускала, чтобы Пелле и Стина веселились вдвоем без нее.
Этим теплым августовским утром она шла, как обычно, к Столярову дому, не подозревая подвоха, и вдруг увидела, что эта парочка сидит на причале. От удивления Чёрвен остолбенела. Она стояла среди купыря и камнеломки как вкопанная и молча смотрела на них, а они и не подозревали об этом. Они увлечены разговором, Стина смеется и азартно размахивает руками. Ишь разошлась, ну да ничего, сейчас Чёрвен положит этому конец.
— Эй, Стина, — сердито закричала Чёрвен, — тебе нельзя на причале, слышишь, малышам нельзя сидеть на причалу, они могут свалиться в воду!
Стина вздрогнула, но головы не повернула. Она притворится, что не слышит. Если она не ответит, значит, никакой Чёрвен там нет или, может, была, она ушла, зачем терять надежду?
Стина подвинулась еще ближе к Пелле и тихонько шепнула:
— У тебя скоро клюнет, Пелле!
Но не успел Пелле ответить, как Чёрвен снова закричала:
— Малышам нельзя быть на причале, ты что, глухая?
Теперь Стина понимает — быть ссоре, и раз неприятностей все равно не миновать, то лучше напасть первой.
— Тогда и тебе нельзя на причале, — отвечает она Чёрвен, которая уже встала за ее спиной.
Чёрвен фыркнула:
— Хм-м, то ты, а то я! Мне можно!
— Да, тебе-то все можно, — задорно говорит Стина.
Рядом с ней сидит Пелле, и она может сказать то, на что никогда бы раньше не отважилась.
Но Пелле всем своим видом показывает, что он предпочел бы быть где-нибудь подальше отсюда.
А Чёрвен продолжает:
— Все равно Пелле дружит не с тобой, а со мной.
— Понятно, со мной, — зло ответила Стина.
Тут Пелле не выдержал:
— Тс-с-с, может, и мне дадите сказать: я сам с собой.
Ему бы хотелось, чтобы они обе ушли куда-нибудь с глаз долой, но Чёрвен подсела к нему с другой стороны, и все трое молча уставились на поплавок.
В конце концов Стина снова начала:
— У тебя скоро клюнет, Пелле!
Этого было достаточно, чтобы Чёрвен вышла из себя:
— Не твое дело! Все равно Пелле не твой!
Наклонившись, Стина с вызовом посмотрела ей прямо в глаза:
— И не твой, съела!
— Не-е, я ничей, я сам по себе, — сказал Пелле. — Вот вам!
Тут уж и Чёрвен, и Стине пришлось прикусить язычки. Пелле был сам по себе, и он гордился этим. Никому из них не достанется даже его нога, как ему — задняя лапа Боцмана.
Но Чёрвен ведь знала, кто из них командует Пелле, и, желая поделикатнее напомнить ему об этом, сказала заискивающим голоском, точь-в-точь как Стина:
— У тебя скоро клюнет, Пелле.
Ее слова пришлись явно некстати.
— А вот и нет, — ответил нетерпеливо Пелле. — Хватит стрекотать! Как может клюнуть, если у меня и червяка-то на крючке нет?
Чёрвен недоверчиво уставилась на него. Она выросла в шхерах среди рыбаков, но о таком чудачестве даже слыхом не слыхала.
— Как так — без червяка? — спросила она.
И Пелле объяснил. Он попытался было ловить на червяка, но не смог, потому что ему стало жалко его. Червяк так извивался, рассказывал он, содрогаясь при одном воспоминании об этом. К тому же было жалко и рыбку, которая могла проглотить крючок. И поэтому вот так…
— Чего же ты тогда сидишь здесь и удишь? — спросила Чёрвен.
Пелле принялся нетерпеливо объяснять. Как-никак удочку ему подарили? Подарили! И разве он один так сидит и ловит без толку? Нет, не один! Он видел, как рыболовы сидят с утра до вечера на берегу, хотя у них ни разу не клюнуло. Разница только в том, что они все это время зазря мучили червей. А он этого не делает, хотя он, вообще-то говоря, рыболов не хуже других, ну, поняла наконец?
Чёрвен ответила, что поняла. И Стина тоже заверила, что поняла.
Потом они тихонько сидели и долго не сводили глаз с поплавка, и Чёрвен все больше убеждалась, что сказала неправду: ничего-то она не поняла. Но светило солнце, на причале было уютно, и если бы еще удалось спровадить Стину, то было бы совсем чудесно.
— Стина будет буфетчицей, когда вырастет, — сказал Пелле.
Стина только что поделилась с ним своими планами.
— А я ни за что, — заверила Чёрвен.
Она, правда, не знала, что такое «буфетчица»-, но слово звучало неприятно и отчужденно, тем более что буфетчицей хотела стать Стина. Мама Стины была буфетчицей. Она жила в Стокгольме и иногда приезжала на Сальткроку. Из всех, кого видела Чёрвен, она была самой красивой, не считая Малин. Но пусть буфетчицы будут красивыми-раскрасивыми, раз Стина хочет быть буфетчицей, Чёрвен ею не будет.
— А кем ты будешь, когда вырастешь? — спросил Пелле.
— Растолстею и буду писать книги, как дядя Мелькер.
Пелле удивленно вскинул брови:
— Но ведь папа не толстый!
— Разве я это говорю?
— Как же, ты сказала, — поддакнула Стина.
— Ты что, глухая? — спросила Чёрвен. — Я сказала, что буду писать книги, как дядя Мелькер, и что растолстею, но одно другого не касается.
Стина постепенно совсем осмелела. Ей казалось, что Пелле на ее стороне, и она выпалила, что Чёрвен дурочка. Тогда Чёрвен крикнула, что Стина сама дурочка и что она глупее Янссонова поросенка.
— А вот скажу дедушке, что ты болтаешь! — закричала Стина, но тут Чёрвен громко запела, заглушая ее слова:
— Сплетница, сплетница по дворам все вертится…Пелле пыхтел от досады.
— Может, вы, наконец, оставите меня в покое? — пробормотал он. — Вам бы все только ругаться да ругаться!
Чёрвен и Стина разом смолкли. Наступила долгая тишина. Наконец Чёрвен не выдержала, ей стало скучно.
— А кем ты будешь, Пелле, когда вырастешь? — спросила она, чтобы снова завязать разговор.
— Никем не буду, — ответил Пелле. — У меня только будет много зверюшек.
Чёрвен посмотрела на него:
— Но кем-то ты должен быть?
— Не-е, не хочу никем.
— Ну, тогда и не будешь, — заискивающе поддержала его Стина.
Все началось сначала, Чёрвен снова взорвалась:
— Нечего тебе тут распоряжаться!
— А что я такого сказала? — спросила Стина.
— Ступай домой, малышам нельзя болтаться на причале, кому сказано?
— Тебе самой нечего здесь распоряжаться, — ответила Стина.
Пелле вскочил и отряхнулся, словно выбравшись из муравейника.
— Ну, с меня хватит, я пошел, — отрезал он, — больше здесь оставаться нельзя.
В каморке при кухне по-прежнему сидел Мелькер и писал. Он распахнул настежь окно, и из сада потянуло подмаренником, а когда он поднимал взгляд от машинки, то видел голубой лоскуток фьорда, и это было очень приятно. Но не часто выдавалась у него свободная минута, когда бы он мог оторваться от рукописи. Сейчас он был целиком поглощен работой, и в такое время его лучше не отвлекать.
Однако через открытое окно в его поэтический мир врывалось множество посторонних звуков и шумов. Он слышал, как Малин спорила с Юханом и Никласом. Она хотела, чтобы мальчики сходили за молоком, а те умоляли ее отпустить их погулять. Пусть она пошлет вместо них Пелле, потому что им просто до зарезу нужно вместе с Тедди и Фредди поискать, нет ли какой добычи в останках старого затонувшего корабля у Сорочьего мыса.
Очевидно, им удалось уговорить Малин. Мелькер услыхал, как вдали стих их веселый гомон, и он обрадовался благословенной тишине, наступившей после их ухода.
К сожалению, тишина продолжалась недолго, потому что вдруг явилась Чёрвен и сунула нос в окошко. Она только что рассталась со Стиной у причала. Когда Пелле скрылся из виду, Чёрвен тоже заторопилась. Но прежде она сгоряча выпалила Стине, чтобы та никогда в жизни не надеялась поиграть с ней, а Стина в свою очередь сказала, что лучше этой новости давно ничего не слыхала.
Чёрвен направилась к Столярову дому, чтобы найти Пелле и поговорить с ним начистоту, но его нигде не было. Зато в окне каморки она увидела своего друга Мелькера.
— Ты все пишешь и пишешь? — спросила она. — А о чем ты пишешь?
Руки Мелькера соскользнули с клавишей машинки.
— Видишь ли, ты все равно не поймешь, — ответил он.
— Почему это не пойму? Я все понимаю… Каждое слово, — заверила Чёрвен.
— Только не это, — сказал Мелькер.
— А ты сам-то хоть понимаешь, что пишешь? — спросила Чёрвен.
Она облокотилась о подоконник, словно собираясь проторчать тут целый день, и тогда Мелькер издал стон.
— Тебе что, худо? — удивилась Чёрвен.
Мелькер ответил, что ему не худо, но станет еще лучше, если она сию же минуту сгинет с его глаз. И Чёрвен ушла. Но через несколько шагов она обернулась и крикнула:
— Дядя Мелькер, знаешь что? Раз ты не умеешь писать так, чтоб я поняла, лучше вовсе не пиши!
Мелькер снова издал стон. Один, другой, третий. Он увидел, что Чёрвен уселась на валун и не собирается уходить.
— Здесь я тебе не помешаю! — закричала она.
— Щипать траву ногами ты могла бы и у себя в палисаднике, — ответил Мелькер. — Осмелюсь заметить, там у вас трава куда гуще.
«Вообще-то чудесный летний пейзаж, — подумал Мелькер, — пухленькая девочка среди подмаренника и чабреца…»
Но он знал, что не напишет ни строчки, пока видит перед собой Чёрвен всякий раз, как только поднимает голову от рукописи.
Тут он услыхал, как Пелле гремит молочным бидоном, и исступленно закричал:
— Пелле! Иди сюда… вот тебе крона! Забирай с собой Чёрвен, идите и купите себе мороженое! Не спешите! Торопиться некуда!
Пелле вообще-то хотелось погулять одному в тишине и покое без разных там девчонок. Его уши нуждались в отдыхе после шума на мостках. Но мороженое есть мороженое, и ради него он готов вынести общество Чёрвен. Теперь, без Стины, она была, как всегда, милой и кроткой.
Мелькер с удовольствием наблюдал, как дети удалялись по тропинке, направляясь к усадьбе Янссона, следом за ними трусил Боцман. Он попытался было собраться с мыслями, и это ему почти удалось, как вдруг послышался писклявый голосок Стины и ее носик показался над жестяным подоконником.
— Сказки пишешь? — спросила она. — Напиши мне одну!
— Не пишу я сказок, — рявкнул Мелькер так громко, что даже Малин вздрогнула, хотя была уже на полпути к лавке Гранквистов.
А Стина не вздрогнула, она только чуть заморгала глазами. По тону дяди Мелькера она сразу поняла, что он не в духе, но это, верно, оттого, что он, бедняга, не знает никаких сказок.
— Хочешь, я расскажу тебе сказку? — сочувственно спросила она. — А ты Запиши.
— Малин! — закричал Мелькер. — Малин, на помощь!
Стина с любопытством разглядывала его пишущую машинку:
— Трудно небось писать книжки? А всего трудней — обложки, правда? Их, верно, пишет Малин?
— Ма-а-лин!.. — закричал Мелькер.
«Торопиться некуда» — особо подчеркнул Мелькер. И зачем только отец это сказал! Будто он ничего не смыслит в детях или никогда не видел выгона Янссона!
Ведь за молоком всегда ходят по выгону. И вот теперь Чёрвен, Пелле и Боцман семенили по узенькой тропинке, петлявшей между березками. На выгоне в ту пору коров не было, что сильно огорчило Пелле. Но зато повсюду росли земляника и черника, порхали бабочки, по своим муравьиным тропкам сновали муравьи; там лежали поросшие мхом громадные валуны, на которые можно было взобраться, а на одной из берез, о чем было доподлинно известно Чёрвен, птица свила гнездо. Так что детей не надо было особенно уговаривать провести несколько часов на выгоне. Кроме того, там была лисья нора, где жила лиса с лисятами, рассказывала Чёрвен. Девочка как-то сама приходила сюда утром с папой и видела, как возле норы возились лисята.
Но сейчас, когда она хотела показать Пелле нору, она никак не могла ее найти. Зато Боцман нашел ее сразу. Сначала он думал, что Чёрвен и Пелле идут в свой тайный шалаш, но как только он догадался, что ищет Чёрвен, он посмотрел на нее с таким видом, словно хотел сказать: «Оса ты этакая, почему ты сразу не попросила меня об этом?» — и повел их прямехонько к норе.
Нора была на самом краю выгона, в расщелине скалы, и так надежно укрыта, что лучше лисе и желать нечего. Пелле весь дрожал от волнения. Глубоко под землей пряталась в норке лиса. Неважно, что Пелле не видел ее, зато он знал, что там в своей огненно-рыжей шубе сидит лиса с длинным хвостом и сверкающими глазами. Пелле было этого вполне достаточно.
Дети никуда не спешили и сделали небольшой крюк по дороге к своей тайной хижине, которую построили в отместку Тедди, Фредди, Юхану и Никласу, этой четверке заговорщиков. У тех тоже была где-то своя хижина, и они объявили, что никто в мире, кроме членов тайного клуба, никогда не узнает, где она.
Чёрвен и Пелле тотчас попросились в члены тайного клуба, но их снова ждало разочарование.
— Вы слишком малы, — возразила Тедди.
Ведь тайная хижина находится далеко-далеко, совсем на другом острове, таинственном и необитаемом, куда дети до двенадцати лет не допускаются.
— Так гласит наш устав, — добавила Тедди.
Каждое утро несколько недель подряд четверка заговорщиков садилась в лодку и так усердно налегала на весла, что только брызги разлетались в разные стороны. А насупившиеся Чёрвен, Пелле и Стина оставались на пристани со своими горькими мыслями о том, что они слишком малы.
— Не такие уж мы маленькие. Возьмем и построим свою тайную хижину, — сказала Чёрвен.
Они построили ее на выгоне Янссона и приняли в эту игру даже Стину.
Но через два дня, когда они с таинственным видом сидели в своей тайной хижине, прибежал Никлас и сунул в хижину голову.
— Хижина что надо, — сказал он, — да еще тайная… правда, ее видит всякий, кто идет за молоком.
Он чуточку посмеялся над ними, хотя и не думал ничего плохого, но сбитая из двух листов фанеры и укрытая старым одеялом хижина показалась малышам после этого ужасно жалкой, и бывать там стало ни капельки не интересно.
Сегодня же не было конца увлекательным приключениям.
Когда Пелле и Чёрвен подошли наконец к хутору, они даже не поверили, что им так повезло. Дядя Янссон как раз собрался перевозить своих коров на Большой островок, где у него было еще одно пастбище.
При виде коров Пелле просто ошалел от счастья и, не задумываясь, швырнул бидон к стенке хлева.
— Дядя Янссон, миленький, можно нам поехать с вами, возьмите нас с собой! — взмолился он.
Раньше ему не приходилось видеть коровьего парома, и никогда в жизни он не видел, чтобы коровы ездили по морю на пароме. Такого нигде не встретишь, разве только на Сальткроке. Чёрвен считала, что именно она в той или иной мере хозяйничает на острове, и это ее заслуга, что там есть лисьи норы и коровьи паромы. Теперь она вела переговоры с дядей Янссоном. Вот было бы здорово прокатиться вместе с коровами и доставить Пелле удовольствие! Дядя Янссон призадумался: Боцман занимал примерно столько же места, сколько полкоровы. Но Чёрвен заверила, что собака может сжаться и совсем-совсем сплющиться, и тут же торжествующе ввела Пелле на коровий паром.
Было тесно: прямо к лицу Пелле прижалась коровья морда, но Пелле только этого и ждал. Он погладил влажные коровьи губы, и она облизала его пальцы шершавым языком. Пелле рассмеялся от радости.
— Хорошо бы завести корову, — сказал он. — Мне бы вот эту, она так преданно смотрит в глаза.
Чёрвен пожала плечами:
— Эка невидаль! Все коровы такие.
Ни в тот, ни в другой день Пелле не получил коровы. Но с ним приключилось такое, что бывает только в сказках.
Все началось на Большом островке возле крольчатника за рыбачьей хижиной. У клетки стоял Кнутте Эстерман, тринадцатилетний рыжий паренек, старый приятель Чёрвен и счастливый обладатель трех белых кроликов, один вид которых так поразил Пелле, что он слова не мог вымолвить.
— Через час паром идет обратно на Сальткроку, — сказал дядя Янссон, прежде чем высадить Чёрвен и Пелле на острове. — Не успеете вовремя к причалу — придется вам добираться домой вплавь.
— Будь спокоен, — ответила Чёрвен и позвала Пелле пойти с ней к Кнутте, счастливому обладателю кроликов.
— Есть же счастливчики на свете, — со вздохом сказал Пелле.
— Купи себе одного, — посоветовал Кнутте, видя, в какой восторг привели Пелле кролики и как долго он не отходит от клетки. — У Рулле на Ясеневом островке есть крольчата, и он их продает, — добавил он.
Кнутте говорил таким тоном, словно это было самое обыденное дело и занимайся им хоть каждый день, была б только охота. Пелле даже засопел. Неужто в самом деле можно купить кролика, да еще так запросто, подумать только! А что скажет папа, что скажет Малин и где он будет держать своего кролика? От этих мыслей голова пошла кругом, но вдруг он что-то вспомнил, и блеск в его глазах погас так же внезапно, как и загорелся.
— У меня нет денег.
— Как так нет, — возразила Чёрвен. — У тебя есть крона, и если я скажу Рулле с Ясеневого островка, что ее хватит, значит, хватит.
— Да, но… да, но… — пробормотал Пелле.
— Залезайте в наш ялик, — предложил Кнутте, — до Ясеневого островка доплывете за пять минут.
Как раз этого им делать не разрешалось. Ни Пелле, ни Чёрвен не разрешалось без взрослых садиться в лодку.
— Всего-то пять минут, — сказала Чёрвен. — Все равно что ничего.
Она сама всем распорядилась. Пелле оторопел и не сопротивлялся. Она потащила его за собой в ялик и, прежде чем Пелле понял, что происходит, она уже перевезла его через залив на Ясеневый островок и представила Рулле как оптового покупателя кроликов.
А кроликов там было видимо-невидимо. Позади дровяного сарая Рулле тянулись длинные ряды кроличьих клеток, в которых сидели кролики всех возрастов и всех мастей — черные, белые, серые и пегие. Пелле прижался лицом к железным прутьям и вдохнул восхитительный запах кролика, сена и увядших листьев одуванчика. Он подолгу стоял перед каждой клеткой, заглядывая каждому кролику в глаза. В одной из клеток сидел в одиночестве маленький пухленький пегий с белыми пятнами кролик и так усердно хрупал листья, что у него даже кончик носа подрагивал.
— Этого, — сказал Пелле. Больше он не мог ничего сказать, а только смотрел на кролика и с замиранием сердца ждал, когда же наконец возьмет его на руки.
— Он самый неказистый из всех, — отметила Чёрвен.
Пелле с нежностью взглянул на пегого:
— Неужели? А по-моему, он так преданно смотрит мне в глаза.
Рулле с Ясеневого островка был старый холостяк. Один-одинешенек жил он на острове, промышляя рыбой и торгуя кроликами. Раз в неделю он приезжал в лавку Гранквистов закупить табаку, кофе и прочих припасов, поэтому не мог не встречаться там с Чёрвен, как и все жители окрестных шхер, приезжавшие в лавку на Сальткроку.
Теперь она стояла перед ним, зажав в кулаке крону Пелле.
— Даю за кролика крону. Идет? — сказала она, указывая на пегого.
— М-да, — ответил Рулле, пораженный столь бессовестным предложением.
Но Чёрвен уже сунула крону ему в руку.
— Спасибо, я знала, что ты согласишься.
Быстро открыв клетку, она вытащила кролика и сунула его в объятия Пелле:
— Держи!
Рулле потирал руки с довольным видом:
— Да, Чёрвен, здорово ты умеешь обделывать делишки! Ну, погоди, вот я приду в лавку за табачком!
Пелле гладил кролика, жмурясь от удовольствия. Шерсть кролика была мягкая и нежная. Пелле стало даже как-то не по себе. Он понял вдруг, какое неслыханное привалило ему счастье.
— Погоди малость, вот подрастет — отличное получится из него жаркое!
У Пелле побелел кончик носа.
— Никогда не будет из него жаркое, ни за что на свете! — горячо заверил он.
— Зачем же он тогда тебе? — спросил Рулле.
Пелле крепко прижал к себе кролика.
— Он мой! Он мне нужен!
Рулле не был черствым человеком и согласился, что кролика можно держать просто для себя, хотя такая мысль никогда раньше не приходила ему в голову. Увидев, как несказанно обрадовался мальчик такому крохотному и неказистому крольчонку, Рулле оживился. Он притащил Пелле деревянный ящик для кролика и, улыбаясь, проводил мальчика до причала. А Чёрвен уже сидела на веслах.
— Сегодня теплый погожий денек, — сказал Рулле, вытирая пот со лба. — Повезло тебе, Чёрвен, грести недалеко.
Чёрвен с видом знатока взглянула на тучи, затянувшие небо за островом, и мрачно изрекла:
— Будет гроза!
Конечно, хорошо, что грести недалеко. Она была храбрая, как настоящий полководец, но у нее была одна маленькая слабость. Она до смерти боялась грозы, хотя и не признавалась в этом.
Только она взялась за весла, как послышались первые отдаленные раскаты грома.
Правда, Пелле их не слыхал. Он сидел на носу ялика, держа ящик на коленях, и через щелку разглядывал своего кролика, своего собственного кролика! Понадобились бы страшные раскаты грома, чтобы отвлечь его от этого занятия.
Пелле увидел Чёрвен, которая сидела с таким выражением лица, словно вот-вот заплачет, и удивленно спросил:
— Никак ты грозы боишься?
Чёрвен заерзала на месте.
— Не-е, не боюсь… только иногда… когда гром гремит.
— Фу, гроза — это совсем не страшно, — уговаривал девочку Пелле.
При этом он испытывал чувство гордости, что хоть раз оказался мужественнее Чёрвен. Конечно, нет ничего хорошего сидеть целую ночь на кухне и слушать раскаты грома, но грозы он ни капельки не боялся, хотя вообще-то был не из храбрых.
— Тедди тоже говорит, что гроза — это не страшно, — сказала Чёрвен. — Но когда бушует гроза, то вроде бы она говорит мне: «А вот и нет, конечно, я страшная», — и тогда я ей верю больше, чем Тедди.
Только она успела это сказать, как над головой снова загремело — раздался такой ужасный треск, что Чёрвен вскрикнула и в испуге закрыла лицо руками.
— Ой, весла, — крикнул Пелле, — гляди, весла!
Чёрвен пришла в себя и взглянула на весла.
Они тихонько плыли по волнам в нескольких метрах от ялика.
Много раз Чёрвен роняла весла в воду, и это ее не пугало. Но теперь бушевала гроза, и ей не хотелось остаться в ялике, на котором без весел к берегу не причалишь. Поэтому она вместе с Пелле стала звать на помощь Рулле. Они видели, как Рулле не оглядываясь взбирался на пригорок к своим кроликам.
— Ты что, глухой, что ли? — закричала напоследок Чёрвен.
Как видно, она не ошиблась. Вскоре Рулле исчез из виду.
А ялик тихо скользил по воле волн.
Пелле испуганно спросил, неужто это и есть кораблекрушение и неужто ему в самом деле придется умереть именно теперь, когда у него есть кролик.
— Ничего с тобой не случится, будешь сидеть в лодке, пока нас не прибьет к Ворчальному островку, — ответила Чёрвен.
Из воды вокруг Большого и Ясеневого островка, словно изюмины из сдобной булки, торчали скалистые необитаемые островки. Одним из них и был Ворчальный остров. Теперь всякому было ясно, что кораблекрушения не будет: волны несли ялик прямо к этому острову. Притом в удобную маленькую бухточку, куда Чёрвен направляла его, хлопая черпаком по воде. Они вытащили ялик на берег. Самое время! Со стороны Большого островка на них уже надвигался дождь. Сплошная пелена дождя, нависшая над свинцовой водой, неотвратимо приближалась. Через несколько секунд разразится ливень, как в день всемирного потопа.
— Бежим! — закричала Чёрвен и, перескакивая через прибрежные валуны, помчалась под защиту деревьев, росших чуть поодаль. Пелле несся за ней изо всех сил, не выпуская ящика из рук, а Боцман тыкался ему носом в ноги, стараясь помочь.
Тут раздался радостный крик Чёрвен:
— Хижина! Мы нашли хижину!
И вправду они ее нашли. Хижина, та самая заветная хижина, о которой ходили разговоры все лето, стояла у самого берега. Лучше ее не сыщешь ни на одном островке, ни в одних шхерах. Хижину укрывали лохматые ветки елей, а сложена она была как настоящий дом, щели между досками заткнуты мхом, на крыше куски дерна. Вот такой и должна быть настоящая хижина. И отыскали они ее очень кстати. Потому что на остров обрушились потоки воды. А они сидели в хижине и смотрели меж елями, как дождь яростно полосовал фьорд и прибрежные скалы.
— А мы здесь совсем сухие, — сказала довольная Чёрвен. — Уж я скажу Тедди и Фредди спасибо, когда мы вернемся домой.
— Мы никогда не вернемся домой, — ответил Пелле, но, как ни странно, страха он не ощутил. Потому что коротать время в хижине, пока хлещет дождь, куда интереснее, чем в знакомом рыбачьем сарае. И к тому же утешением был кролик. Пелле открыл ящик и погладил свое сокровище.
— Ты ведь не боишься? — спросил он его. — Тебе нечего бояться, раз ты со мной.
Чёрвен сияла от восторга. Вот будет здорово вернуться домой и поговорить с Тедди и Фредди о тайных хижинах! Она с радостью предвкушала эту встречу и вовсе не боялась, что они останутся на Ворчальном острове до конца жизни. Вообще она уже больше ничего не боялась, потому что гроза отгремела, а вскоре прекратился и дождь. «В этой хижине можно поиграть», — подумала Чёрвен. Например, в кораблекрушение — будто их выбросило на необитаемый остров, как Робинзона, о котором ей рассказывала Фредди. И у него была точь-в-точь такая же хижина. Пелле мог бы стать Пятницей, а кто был бы Робинзоном — гадать не приходится. Но Чёрвен хотелось быть не просто Робинзоном, а Робинзоном, у которого есть маленький садик, где бы она собирала на сладкое землянику. Она видела, сколько спелой земляники краснело в траве перед хижиной. Будь ее Пятница как все люди, он взял бы старую удочку Тедди, стоявшую возле хижины, и наловил бы в море окуней.
— Когда терпишь кораблекрушение, надо все время есть, — объяснила Чёрвен.
Но Пелле заявил, что лучше умрет с голоду, чем будет мучить червяка — ни сегодня, ни вообще никогда.
— Тогда хватит с нас и земляники, — согласилась Чёрвен и вылезла из шалаша на мокрую траву.
Пелле взял кролика и отправился к морю. Но не ловить окуней, а попытаться как-нибудь выбраться с острова. В хижине он нашел старую газету. Если встать на берегу и махать без устали газетой, то, может, на Большом островке заметят сигнал, дядя Янссон, например, или Кнутте, или еще кто другой. Пелле махал до тех пор, пока руки не одеревенели, но безуспешно. Они по-прежнему терпели кораблекрушение, а на Большом островке не было видно ни души.
Прошло более часа, и, верно, дядя Янссон уже перегнал паром обратно на Сальткроку. Конечно, он злится, да и дома, пожалуй, рассердятся, когда узнают, что Чёрвен и Пелле поплыли в море без спросу и пропали.
Мрачные мысли неотвязно приходили в голову. Но у Пелле был кролик, его утешение, и от этого ему становилось легче на душе.
Из-за туч вышло солнце, и снова вода заискрилась в синем фьорде. Пелле сидел на валуне у берега, прижав к себе кролика. И тут он подумал, что кролику надо обязательно дать имя.
— Нельзя же тебя звать просто «кроличек». У тебя должно быть настоящее имя, понятно!
Он долго думал и наконец, побрызгав водой на кролика, окрестил его:
— Назовем тебя Юкке, Юкке Мелькерссон, запомни.
Как-то приятнее иметь кролика, у которого есть имя. Это уже не просто маленький пухленький кролик, а совсем особый, которого зовут Юкке. Пелле попробовал, как звучит это имя:
— Юкке! Мой маленький Юкке!
Но тут Робинзон позвал своего Пятницу, и тот послушно пошел к хозяину. Робинзон поставил на ящик из-под сахара, служивший столом, заячью капустку в стеклянной банке и подал землянику на зеленых листьях. Это было дело рук Робинзона женского пола, который честно поделил землянику поровну со своим рабом.
Когда они поели, Чёрвен сказала:
— Как вкусно! Ну а теперь пора домой!
Пелле чуть не разозлился. Зачем Чёрвен болтает глупости, когда знает, что им отсюда не выбраться?
— Кто сказал, что не выбраться? — возразила Чёрвен. — Вот только прилажу мотор к ялику. Боцман, сюда!
Пелле знал, что в мире нет другой такой собаки, как Боцман. Он был с ним неразлучен все лето, играл с ним каждый день, обожал его и восхищался, когда Боцман продёлывал всякие невероятные штуки. Боцман умел играть в прятки, раскачивать качели, находить спрятанные вещи, носить сумки, а один раз он даже вытащил из воды Стину, которая свалилась с мостков во фьорд. Но самое невероятное он совершил на этот раз. О, если бы только папа и Малин были рядом и видели эту картину! Подумать только, они увидели бы, как Боцман плывет и тянет за собой ялик. Чёрвен привязала веревку к его ошейнику, а пес уверенно и спокойно поплыл прямо к Большому островку. Чёрвен и Пелле, не шевельнув и пальцем, восседали в ялике, словно принц с принцессой. Какая удивительная собака! Чёрвен, правда, не находила в этом ничего особенного. Что же касается Пелле, то он сидел в ялике, замирая от любви к Боцману. Сердце его трепетало от восторга.
— Он умнее человека, — сказал Пелле. Но в следующую секунду он что-то заметил на воде и вскрикнул от удивления: — Смотри, весла!
И правда, их тихонько раскачивал прибой возле скалистого островка.
— Вот удача-то! — обрадовалась Чёрвен, когда они выловили весла. — Ну и разозлился бы Кнутте, если б мы приплыли без них!
Внезапно ее лицо омрачилось — можно было подумать, что она снова испугалась грозы.
— А знаешь, кто еще страшно злится на нас? — спросила Чёрвен. — Дядя Янссон.
Она знала его вспыльчивый характер, так же как знала все про всех жителей этих шхер. В гневе дядя Янссон тоже мог метать громы и молнии, и Чёрвен не хотела бы в такую минуту попасться ему на глаза.
— Пожалуй, он уже давно укатил на Сальткроку, — сказал Пелле, — хотя нам от этого не легче.
Они причалили к пристани большого островка. Чёрвен отцепила Боцмана и привязала ялик к причалу. Боцман отряхнул воду и посмотрел на нее умными, немного печальными глазами, словно желая сказать: «Ну что ты еще пожелаешь, оса ты этакая?»
Чёрвен обвила большую голову Боцмана руками и заглянула в его глаза.
— Боцман, знаешь что, — сказала она, — ты мой песик паршивенький.
На берегу никого не было видно — ни Кнутте, ни дяди Янссона. Но коровий паром по-прежнему стоял у причала, значит, дядя Янссон еще не уехал обратно и теперь, верно, бегает по острову, словно сумасшедший, и ищет их.
А дети стояли на пристани и чувствовали себя ужасно несчастными. Вдруг они увидели, что от усадьбы Эстермана кто-то несется во весь дух вниз с пригорка. То был дядя Янссон. Подумать только, как быстро он умеет бегать! Чёрвен испуганно замигала: задаст он им жару!
Добежав до пристани, дядя Янссон так запыхался, что едва мог говорить.
— Бедные ребятки, — сказал он. — Меня ждете? Вот беда-то! Но видите, сперва надо было изгородь починить, потом пошел дождь — и я заглянул к Эстерманам, а там засиделся, бедные вы мои. Давно ждете?
— Нет, не очень, — сказала Чёрвен. — Чего тут говорить!
После четырех часов работы Мелькер удовлетворенно накрыл машинку футляром и собрал со стола листки рукописи. И тут в окне вынырнул Пелле.
— А вот и наш Пелле с молоком, — сказал Мелькер. — Как незаметно пролетело время.
Мелькер ошибся. Это был не Пелле с молоком, а Пелле без молока. Бидон по-прежнему валялся у хлева. Янссона. Но Пелле принес кое-что другое. Мелькер пока не видел, что он там прячет под окном.
— Папа, ты говорил, что скоро у меня будет зверюшка, ведь правда?
Мелькер кивнул:
— Да, да, мы обязательно что-нибудь придумаем.
Тогда Пелле посадил своего кролика на стол перед Мелькерссоном. Юкке испуганно забарабанил лапками и разбросал листки рукописи в разные стороны.
— Что ты скажешь на это? — спросил Пелле.
У Малин тоже нашлось что сказать, когда Пелле и Чёрвен явились на кухню показать ей Юкке.
— Пелле, дорогой, через неделю мы уезжаем в город. Что мы будем делать с Юкке?
Но ей нечего было об этом беспокоиться. Дядя Янссон обещал, что Юкке будет жить у него в хлеву до следующего лета, пока Пелле снова не приедет.
Это был великий час в жизни Пелле. Он гордился своим кроликом и ходил именинником, а еще веселее стало, когда в кухню примчалась четверка заговорщиков. Им тоже хотелось посмотреть на кролика. Даже Чёрвен чуть позавидовала Пелле.
— И мне бы кролика, — сказала она.
— Хочешь кусочек кролика? — предложил Пелле. — Возьми себе заднюю лапку.
— Где ты его раздобыл? — живо поинтересовался Юхан.
Видно, и ему захотелось иметь кролика.
— В одном местечке… куда я забрел, — ответил Пелле.
Никто, кроме Кнутте Эстермана и Рулле с Ясеневого островка, не знал об их проделке с яликом, и Пелле с Чёрвен благоразумно решили сохранить свое приключение в тайне от всего остального человечества. Хотя это решение далось им нелегко. Ведь Чёрвен не могла завести разговор о тайных хижинах с Тедди и Фредди, предвкушая который она заранее радовалась.
Она сидела, поджав под себя ноги, на дровяном ларе в кухне Столяровой усадьбы и наблюдала, как четверка заговорщиков толпится вокруг кролика. Пелле был слишком увлечен своим подопечным, иначе он заметил бы, что в глазах Чёрвен зажегся опасный огонек, и, может, насторожился бы.
— О-хо-хо-хо, ну и дела, — издали начала Чёрвен. — Все держи в тайне!
— Что ты хочешь сказать? — спросила Тедди.
Чёрвен многозначительно улыбнулась:
— Вы теперь совсем не бываете в вашей хижине?
Четверка заговорщиков переглянулась — о хижине они и вправду совсем забыли. Как раз теперь они возились с останками затонувшего корабля у Сорочьего мыса. До хижин ли им было! Юхан принялся объяснять это Чёрвен.
— Может, тогда скажете, где она, эта хижина? — спросила Чёрвен.
Но Фредди твердо сказала, что хижина эта останется вечной тайной для всякого, кому не исполнилось двенадцати лет и кто не член их клуба.
Чёрвен утвердительно кивнула головой:
— Верно, все держи в тайне!
Затем она уставилась в окно с таким видом, словно смотрела куда-то далеко-далеко.
— Нынче столько земляники, — сказала она. — Интересно, уродилась ли земляника на Ворчальном островке?
Четверка заговорщиков поспешно переглянулась, и в глазах у них мелькнуло беспокойство. Понятно, они тоже попытались сохранить его в тайне, но их замешательство не ускользнуло от Чёрвен. И этого было вполне достаточно, чтобы она осталась чрезвычайно довольна сегодняшним днем. Пелле же ничего не видел, кроме своего кролика. От него Чёрвен сегодня ничего больше не добьется. Да к тому же ей пора домой.
Но возле дома Сёдермана она увидела Стину. Та разгуливала с новой кукольной колясочкой.
Такие дорогие игрушки покупали лишь тем, чьи мамы работали буфетчицами в Стокгольме.
Чёрвен подбежала к ней.
— Ты вышла покатать Лувисабет? Можно, немножко помогу?
Лицо Стины просияло при виде подруги.
— На, катай!
И Чёрвен принялась катать колясочку с куклой. Взад и вперед и даже по причалу до самого конца. Там она взяла куклу на руки.
— Малышка Лувисабет, ты, наверно, хочешь поглядеть по сторонам?! — сказала она и усадила куклу на перила, спиной к свае.
— Нет, малышка Лувисабет, — беспокойно сказала Стина, решительно схватив куклу за талию. — Малышам нельзя гулять на причале, ты ведь знаешь.
Но Чёрвен успокоила ее:
— Конечно, можно, только вместе с мамой. И с тетушкой Чёрвен. Тогда можно.
Лето, как ни странно, кончается всегда слишком быстро!
Не успели Мелькерссоны опомниться, как их первое лето на Сальткроке уже пролетело и настало время возвращаться домой.
— Какая несусветная чушь, — сказал Никлас. — Почему занятия в школе должны начинаться как раз посреди каникул? Папа, ты не мог бы написать в школьное ведомство и попросить их раз и навсегда покончить с этой ерундой?
Мелькер покачал головой.
— Школьное ведомство непреклонно в своих решениях, — сказал он, — и ничего не остается, как подчиниться.
Малин писала в дневнике:
Лето, как ни странно, кончается всегда слишком быстро! Совсем недавно мы приехали сюда, и уже пора со всем расставаться, как это ни грустно. Пелле — со своим кроликом и земляничными полянками; Юхану и Никласу — со своими хижинами, удочками, скалами, откуда они так ловко ныряли в море, с останками затонувшего корабля; папе — с прозрачным на рассвете заливом, яликом и Столяровой усадьбой. А мне? С чем предстоит расстаться мне? С летними лужайками, яблонями и грибными местами. Неприметными уединенными тропками в лесу. Тишиной по вечерам… Больше не придется сидеть на крыльце и любоваться Млечным Путем, который отражается в темной глади залива, не придется купаться ночью, когда над головой небо озаряется вспышками звезд, и засыпать на чердаке под колыбельную песнь прибоя. Да, грустно. И еще люди, которые стали нашими друзьями… О, как мне будет их недоставать!
На прощание мы устроим пир на весь мир — это папина мысль, — и сейчас я ломаю голову, чем бы всех повкуснее угостить. Запеченный окунь по рецепту Мелькера — наверное, с этого надо начать. Потом пойдет копченая салака, грибной омлет и, может, маленькие аппетитные тефтельки. Торт со взбитыми сливками и кофе.
Мелькер безудержно радовался предстоящему празднику. Ему хотелось завершить его фейерверком, «последним аккордом» уходящего лета, как он утверждал. Малин воспротивилась этому, потому что хорошо помнила, чем кончился праздник по случаю улова раков, когда Мелькер умудрился взорвать все петарды зараз.
— Последний аккорд лета, да, это совсем неплохо, — сказала Малин. — Но больше никаких фейерверков здесь не будет. Пусть зарубцуются раны от прежнего.
Торт со взбитыми сливками — куда более спокойный «аккорд лета», решила она, и торт подали в Столяровой усадьбе теплым августовским воскресеньем, когда фьорд был как зеркало и все было «сверхлетним», как утверждал Никлас.
Пелле, Чёрвен и Стина сидели на крыльце Столярова дома, а Малин угощала их тортом, пока они не наелись досыта. Пелле с удовольствием съел торт, но все же, как и Мелькер, считал, что фейерверк был бы куда интереснее.
— А если бы папа взорвался? У него бы загорелись волосы, и воздушная волна понесла бы его к Заячьей шхере, — сказала Малин. — Неужели вам не понравился торт?
— Малин, знаешь что, — сказала Чёрвен, — он до чертиков вкусный, просто во рту тает.
— Ой-ой-ой, — покачала головой Малин, — мне бы больше понравилось, если бы ты просто сказала, что он вкусный.
— Не-е, тогда бы вышло, что я говорю о хрустящих хлебцах, — ответила Чёрвен.
Сёдерман выпил три чашки кофе, хотя знал, что после кофе у него урчит в животе, но раз Малин уезжает от него, надо же хоть чем-то утешиться, уверял он.
— Если бы это помогло, я бы выпил целую лоханку, — сказал Бьёрн и протянул Малин чашку. Глаза его были печальны, и Малин избегала смотреть в его сторону.
— Обычно с дачниками у нас по-другому, — сказал Ниссе. — Мы радуемся, когда они приезжают, но особенно — когда уезжают. А вот без Мелькерссонов Столярова усадьба в самом деле осиротеет.
— Но вы непременно вернетесь сюда следующим летом, это точно, — сказала Мэрта.
И тут Мелькера осенило:
— А почему бы нам не справить Рождество в Столяровой усадьбе? Ха-ха-ха, ну кто самый предусмотрительный на свете, как не Мелькер Мелькерссон! Я ведь на всякий случай снял дачу на целый год.
Дети испустили радостный вопль, а Малин тотчас обернулась к Мэрте с Ниссе и спросила:
— А можно? Неужто можно жить в Столяровой усадьбе в лютую зимнюю стужу?
— Отчего ж нельзя, если начать топить дом с середины октября, — ответил Ниссе.
Мелькер тут же заявил, что ни к чему Столяровой усадьбе простаивать без пользы, раз уж за аренду все равно заплачено. Хочешь сполна получить все удовольствия за свои денежки — справляй Рождество в Столяровой усадьбе, даже если дело кончится тем, что отморозишь уши. Он схватил Чёрвен в охапку и закружил с ней по комнате.
— Хейсан и хоппсан, и фаллераллера! В сочельник все будут плясать до утра! — запел он. — Впрочем, не только в сочельник, но и нынче в час разлуки, — добавил Мелькер, — а не пройдет и нескольких месяцев, как мы встретимся снова.
— Пусть вокруг будут только веселые лица… слышишь, что я сказал, Боцман? — прикрикнул он, потому что вид у Боцмана был печальнее, чем обычно.
— Малин, отдай ему остаток торта, может, он повеселеет!
Но Боцман съел торт с непоколебимо печальным видом.
— Хотя он все равно думает, что торт до чертиков вкусный, я-то знаю, — сказала Чёрвен.
Пелле сидел на крыльце, подперев голову руками. Вид у него был такой же мрачный, как и у Боцмана. Все кончается: торт со взбитыми сливками, лето, а может, и сама жизнь, кто знает!
Но маленький кусочек торта, как ни странно, все-таки не доели. После пиршества блюдо из-под торта забыли, на радость осам, на столе в саду. «Счастливцы, — думал Пелле, — они останутся в Столяровой доме, ведь маленьким осам не надо ехать в город и ходить в школу, такая уж у них райская жизнь».
Однако кусочек торта осам не достался. Чёрвен увидела его и прогнала ос. Три кусочка она съела раньше, но этот, с маленькой алой розочкой из марципана, казался еще аппетитнее, и у Чёрвен даже слюнки потекли. Она оглянулась в поисках Малин, потому что не привыкла ничего брать без спросу, но Малин куда-то исчезла вместе с Бьёрном, и дяди Мелькера было тоже не видать. Больше не у кого было спросить, а в любую минуту мог кто-нибудь прийти, увидеть кусочек торта и соблазниться им. Нужно было спешить. Тогда Чёрвен сложила ладошки и взмолилась:
— Боженька, можно, я возьму кусочек торта? — И сама себе ответила таким низким басом, на какой только была способна: — Доедай на здоровье!
После чего торту пришел конец! Празднику конец! И лету конец!.. Разве не так?
Нет, лето, конечно, не кончилось из-за того, что Мелькерссоны уехали с острова. Настали теплые сентябрьские деньки, когда по-прежнему жужжали шмели и порхали бабочки. Потом пришел октябрь, тихий и прозрачный, как горный хрусталь, и рыбачьи сараи у причала так отчетливо отражались в воде, что непонятно было, где сами сараи, а где их отражение. Но Чёрвен хорошо разбиралась в этом и объясняла Боцману:
— То, что в воде вверх тормашками, это тоже сараи, только для русалок. Понятно? Туда они заплывают и оттуда выплывают и играют там целые дни.
А в сараях, которые не были вверх тормашками, Чёрвен играла в прятки с Боцманом. Без него ей было бы совсем одиноко, ведь Тедди и Фредди каждый день уходили в школу, а Пелле и Стина жили далеко-далеко в Стокгольме, где ей еще не довелось побывать и о котором она так мало знала. Но у нее был Боцман, а кроме того, ее дни были заполнены необычайными и удивительными играми ребенка, который один растет среди взрослых. Грустить ей было некогда.
С каждым днем осенняя мгла все больше сгущалась над Сальткрокой и ее обитателями. Кое-где в окнах скупо мерцали по вечерам огоньки. Они были редкими звездочками света в черной как сажа тьме. Так далеко на островах в открытом море отваживались жить немногие. И когда над островами спускалась мгла, вокруг домов бушевали осенние штормы, а волны яростно бились о причалы и рыбачьи сараи, кое-кому случалось призадуматься, стоит ли вообще человеку селиться так далеко в море. Хотя в душе-то они знали, что жить они смогут только здесь и нигде больше.
Пароход из города приходил теперь на остров лишь раз в неделю. На нем не было ни дачников, ни пассажиров — одна команда, но Ниссе Гранквист продолжал получать свои товары. Он по-прежнему регулярно выходил на пристань встречать пароход. И Чёрвен стояла там рядом с Боцманом в любую погоду, хотя порой случалось, что пароход причаливал в кромешной тьме, и Пелле на борту, конечно, не было.
Но Пелле присылал письма, так как пошел в школу у себя в Стокгольме и уже мог писать печатными буквами. Писал он, правда, не Чёрвен, а Юкке. После того как Фредди прочитывала ей письмо, Чёрвен приходилось идти к Юкке в хлев Янссона и пересказывать кролику все, что там было написано.
«МИЛЫЙ МОЙ ЮККЕ, — писал Пелле, — КРИПИСЬ, КРИПИСЬ. Я СКОРО ПРИЕДУ!»
Проснувшись как-то утром, Чёрвен увидела, что лужи, в которых она еще вчера плескалась, замерзли. Во дворе она долго развлекалась, продавливая каблучком ледяную корку. На другой день лед окреп: становилось все холоднее и холоднее, а однажды ночью застыл и фьорд.
— Никогда еще так рано не бывало ледостава, — сказала Мэрта.
Путь во льду прокладывал ледокол. Десять часов подряд крошил он ледяные глыбы, пока добирался до шхер на взморье.
И вот наконец настал сочельник. В витрине лавки Гранквистов появились Юльтомте — рождественские домовые[12], и жители островов толпились у прилавка, закупая к празднику вяленую треску, рождественские окорока, кофе и елочные свечи.
У Тедди и Фредди начались каникулы, и они помогали в лавке. Чёрвен путалась у всех под ногами.
— Всего считанные дни остались до сочельника, — жаловалась она, — а я еще не научилась шевелить ушами!
Последнее время она частенько навещала Сёдермана, и он внушил ей, что рождественский домовой особенно любит тех, кто умеет шевелить ушами… Да это ведь совсем просто, уверял Сёдерман. Сам он владел этим искусством в совершенстве, но теперь уезжал в Стокгольм встречать Рождество вместе со Стиной и беспокоился, что, когда в сочельник явится рождественский домовой, на Сальткроке некому будет шевелить ушами.
— Ты будешь меня замещать, — сказал Сёдерман.
За три дня до сочельника к острову подошел по каналу во льду обледеневший пароход «Сальткрока I» с семьей Мелькерссонов на борту. Стоя на палубе у поручней, они пытались сквозь мокрый снег и зимние сумерки разглядеть свой летний остров. Сейчас он предстал перед ними белый и тихий, засыпанный снегом и скованный льдом, по-зимнему прекрасный и удивительно незнакомый, с заснеженными крышами рыбачьих сараев и пустынными причалами, где больше не покачивались пришвартованные лодки и мотоботы. Неужто это и в самом деле их летний остров? Его было не узнать.
Но вот меж заиндевелых яблонь они разглядели дом столяра, из трубы которого поднимался дым: у Мелькера на глазах выступили слезы.
— Такое чувство, словно домой приехали! — сказал он.
На льду у самого канала стоял Ниссе Гранквист. Навстречу Мелькерссонам мчались во весь дух на финских санках Тедди и Фредди. Тут же подкатили сани Янссона со стариком Сёдерман ом. На облучке за кучера восседал сам дядя Янссон, а сзади на полозьях пристроилась зайцем Чёрвен. Нежный перезвон бубенчиков донесся до Мелькерссонов, и Пелле почувствовал, как сжалось у него сердце. Наступал сочельник, и он увидит Юкке, скоро, совсем скоро они встретятся.
И Боцман… тот тоже бежал к ним по льду, виляя хвостом. Пелле просиял, увидев его. Он не замечал даже Чёрвен, которая махала руками и кричала. Он видел только Боцмана.
— Все иначе, чем летом. — В этом Юхан и Никлас были единодушны. Понятно, это не относилось к Тедди и Фредди. Они, как и летом, шумели, кричали, каркали, как вороны, и, к счастью, остались прежними, а что до всего прочего, то мальчики будто попали в другой мир. Ни Юхану, ни Никласу и в голову не приходило, что люди могут постоянно жить в этой заснеженной ледяной пустыне, отрезанные от всего мира. Чудесная здешняя зима была для них на редкость необычна, она как нельзя лучше подходила для будущих приключений и забав.
Пароход стоял теперь неподвижно в канале, так как к пристани он подойти не мог. Чтобы попасть на берег, надо было спуститься по трапу на лед.
— Наконец-то добрались до Северного полюса! — воскликнул Юхан. — Участники экспедиции высаживаются.
Он первым спустился на лед, а все остальные последовали за ним. Тут они увидели Бьёрна, перебиравшегося по другому трапу, перекинутому через канал во льду. То был неустойчивый и рискованный мостик, которым обычно пользовались жители Норсунда, когда хотели попасть на Сальткроку. Верно, на Сальткроке у Бьёрна было сегодня важное дело.
— Ты чего притопал, стряслось что-нибудь? — лукаво спросил его Сёдерман.
Но Бьёрн не ответил, он увидел Малин.
— Хейсан и хоппсан, и фаллераллера, в сочельнике все будут плясать до утра! — запел Мелькер и схватил Чёрвен за руку, но она вырвалась, так как хотела идти вместе с Пелле, и поэтому следовало поторопиться.
Пелле так спешил, что успел поздороваться только с Боцманом. Он ринулся по льду к пристани, потом припустил без оглядки по улице. Чёрвен не могла угнаться за ним. Она сердито закричала, чтобы он остановился, но увидела лишь, как пляшущая кисточка его вязаной шапочки скрылась в сумерках далеко впереди.
Правда, она знала, где его искать.
— Юкке, маленький мой Юкке! Видишь, я вернулся к тебе, — шептал Пелле.
Когда Чёрвен вошла в хлев Янссона, Пелле сидел в обнимку с кроликом. В сумерках она с трудом различила его, но зато хорошо слышала, как он шептался с кроликом, словно Юкке был человеком.
— Пелле, угадай, что я умею делать? — живо спросила Чёрвен. — Я умею шевелить ушами.
Но Пелле не слышал ее. Он продолжал разговаривать с Юкке, и ей пришлось повторить одно и то же трижды, прежде чем он ответил.
— Давай посмотрю, — откликнулся он наконец.
Чёрвен встала к окну, где чуть брезжил скуповатый свет, и начала демонстрировать свое умение. Она старалась вовсю, делала отчаянные гримасы и потом спросила с надеждой:
— Выходит?
— Не-а, — протянул Пелле.
Он вообще не понимал, зачем ей понадобилось шевелить ушами, но Чёрвен объяснила, что рождественский домовой особенно любит тех, кто умеет это делать. Тогда Пелле захохотал во все горло и сказал, что, во-первых, никакого рождественского домового нет, а во-вторых, люди, умеющие шевелить ушами, нравятся домовому ничуть не больше тех, которые этого не умеют. Поэтому она с таким же успехом могла бы научиться чему-нибудь более полезному, например свистеть. Это Пелле умел и, прижав еще крепче к себе Юкке, засвистел ему: «На елках зажглись мириады свечей!»
Он свистел также и для Чёрвен, раз уж ей волей-неволей пришлось его слушать.
Пелле и не подозревал, что он наделал, сказав, что рождественского домового нет. Детская вера Чёрвен в чудо с треском надломилась. Неужто домового в самом деле нет? Чем ближе был сочельник, тем больше она волновалась. Может быть, Пелле и прав? Утром в сочельник, когда на завтрак ей дали кашу, она уже настолько отчаялась и перестала верить в домового, что почти выбросила его из головы. Но от этого веселее ей не стало. Какой же теперь сочельник! Рождественского домового не будет… и еще каша на завтрак. Она с отвращением отодвинула от себя тарелку.
— Поешь, оса ты этакая! — ласково сказала Мэрта. Она не понимала, почему у Чёрвен так потемнели глаза. — Такую кашу больше всего любит домовой, — заверила она.
— Отдай ему и мою, — недовольно пробурчала Чёрвен. Она негодовала на этого домового, которого вроде и не было, но который все-таки хотел, чтобы она ела его любимую кашу и шевелила ушами, и обиженно сказала: — Кашу есть да верить в рождественского домового — других дел, по-твоему, у малышей нет?
Ниссе понял: с ней что-то неладно. По лицу Чёрвен он почти всегда мог догадаться, когда с ней бывало неладно. Сейчас он тоже догадывался. И когда Чёрвен впилась в него глазами и напрямик спросила, есть ли на свете домовые или нет, он сразу понял, что сочельник будет ей не в радость, если он откровенно ответит: «Нет, они есть только в сказках!»
И тогда он показал ей старинный деревянный кашник, который принадлежал еще его бабушке. В рождественский вечер она доверху наполняла его кашей и ставила за угол дома для домового.
— Что, если мы проделаем то же самое? — предложил Ниссе. — Давай положим твою кашу в кашник и оставим ее для домового.
Чёрвен засияла так, будто внутри у нее зажглась рождественская свечка. Ясное дело, домовые существуют, раз папина бабушка верила в них! Все-таки здорово, что домовые живут на свете и тайком крадутся за углом дома в сочельник! И хорошо еще, что они любят кашу, — им можно будет сплавить свою. Снова все утряслось, и обо всем этом она непременно расскажет Пелле.
Но встретились они, когда уже смеркалось и все сальткроковцы собрались на обледенелом причале Столяровой усадьбы и смотрели, как сани домового неслись сквозь густую пелену поземки. На облучке восседал самый взаправдашний рождественский домовой и освещал дорогу факелом. Правда, сани и лошадь у него были Янссона, но ведь домовой может взять упряжку взаймы, когда ему надо привезти такую уйму подарков.
Даже Пелле онемел от удивления. Он таращил глаза, все теснее и теснее прижимаясь к отцу. Рождественский домовой бросил на мостки два мешка с рождественскими подарками: один — для Мелькерссонов, другой — для Гранквистов. Получилось у него это ловко и проворно, как у матросов, когда те сбрасывают товары с парохода на пристань в шхерах. А потом сани скрылись в вечерней мгле.
Пелле стоял и раздумывал, как же все-таки получается с домовым. Но тут он заметил, как Юхан смеется и подмигивает Никласу, и чуть не рассердился. Уж они сразу и поверили, что он такой несмышленыш, которого можно запросто провести! Но как бы там ни было, до чего же весело стоять в темноте, слушать звон бубенчиков и видеть, как горящий факел постепенно исчезает в глубине фьорда. И в придачу получить целый мешок рождественских подарков!
Вообще в эти зимние дни Пелле было чудо как хорошо на Сальткроке! Малин наблюдала, как он расхаживает, сияя от счастья, и однажды вечером, когда они остались вдвоем на кухне, она спросила, чему он так радуется. Усевшись с ногами на диван, Пелле поразмышлял немного, а потом поделился с Малин всем, что его так радовало.
— Ну, например, здорово, — сказал он…
Выбраться из дома утром после ночного снегопада и помочь расчистить дорожку к колодцу и дровяному сараю от свежевыпавшего снега. Различать следы разных птиц на снегу. Привязывать рождественские ржаные снопы к яблоням, чтобы подкормить воробьев, снегирей и синиц. Видеть рождественскую елку, за которой сам же вместе с другими ездил в лес. Возвращаться в сумерках в Столярову усадьбу после долгой прогулки на лыжах, стряхивать снег на крыльце, входить в дом и видеть, как дружно горят дрова в плите и как уютно в кухне от ярких отблесков огня. Просыпаться утром, когда за окном еще темно и папа разводит огонь в печке. Лежать в постели и смотреть, как в печке разгорается пламя. Идти вечером навстречу ветру и немножко бояться темноты, ну, только самую малость! Кататься на финских санках по льду до самого канала и тоже самую малость бояться. Сидеть, как сейчас, на кухне и болтать с Малин, есть булочки с марципаном и пить молоко и ничего не бояться. Да, еще забраться в телячий загон в хлеву Янссона и по душам беседовать с Юкке — уж это, пожалуй, самое веселое!
— А ты слыхала, что нынче ночью лиса снова утащила курицу у Янссона?
Пелле побаивался этой лисицы. Два вечера подряд она крала кур у Янссона, а кто крадет кур, может украсть и кролика, и эта кошмарная мысль мучила Пелле. Лиса куда хочешь заберется. Ясно, что она съела рождественскую кашу Чёрвен, хотя та думает, что кашу съел домовой.
— А что думаешь об этом ты, Малин? — спросил Пелле.
— Может, лиса, а может, домовой, — ответила Малин.
Пелле в тот вечер долго не мог заснуть, боясь за своего кролика. Правда, кролик жил в телячьем загоне, но лисицы страшно хитрые, кто знает, как они поведут себя, когда проголодаются и пойдут охотиться на курицу или кролика.
«Лисиц надо убивать», — подумал Пелле. Никогда раньше он не был таким кровожадным, а вот теперь, лежа в постели, он представлял себе, как лиса вылезает из норы на выгоне и крадется по снегу к хлеву Янссона. Пелле даже вспотел от страха и беспокойно ворочался всю ночь во сне.
На следующее утро он случайно встретил Бьёрна, который возвращался из леса с только что подстреленным зайцем. Пелле зажмурился, чтобы не видеть… Бедный зайчик! И почему только Бьёрн не подстрелил вместо него эту дурацкую лису? Да и дядя Янссон был бы рад. Бьёрн согласился с мальчиком, когда услыхал, как обстоят дела.
— Мы, пожалуй, прихлопнем эту плутовку. Передай Янссону, я постараюсь это сделать нынче же ночью.
— Когда мы пойдем на охоту? — загорелся Пелле.
— Мы? — переспросил Бьёрн. — Ты никуда не пойдешь, а будешь лежать дома в постели и спать.
— И не подумаю, — ответил Пелле.
Но это он сказал уже не Бьёрну, а немного погодя Юкке, беседы с которым доставляли ему несказанное удовольствие еще и потому, что кролик никогда ему не возражал.
— Не бойся, если услышишь ночью пальбу, — говорил Пелле. — Я буду с тобой, можешь не сомневаться.
И Пелле сдержал свое слово, хотя ему пришлось изрядно постараться, чтобы не нарушить обещания, данного Юкке. Он долго-долго лежал в постели и боролся со сном, моргая глазами, пока не уснули братья. А как осторожно он крался, чтобы пробраться через кухню на улицу, в то время… как папа и Малин сидели у камина в общей комнате и дверь на кухню была открыта. Просто невероятно, что они не услышали его шагов.
А потом… выйти в ночь и совсем одному бежать по освещенной луной заснеженной тропке. Заставить себя подойти к темному хлеву, который вовсе не был таким приветливым, как обычно. Прошмыгнуть тихонько в хлев, таясь, чтобы Бьёрн не заметил его, дрожа, на ощупь пробраться к Юкке. «О, маленький мой Юкке, видишь, я все равно пришел!»
Ночью хлев кажется каким-то особенным. Тихо, коровы спят, только иногда раздаются какие-то шорохи и звуки. То звякнет колокольчик на шее коровы, когда она во сне мотнет головой. То испуганно закудахчет курица, будто ей приснилась лисица. То Бьёрн заряжает ружье и посвистывает у своего слухового оконца. Вот в оконце заглядывает луна, и на пол ложится лунная дорожка. Дорожку пересекает крадучись кошка Янссона и тотчас пропадает в темноте, откуда видны только ее светящиеся желтые глаза. Бедные крысы, плохо им придется сегодня в хлеву! А бедный Юкке! Что стало бы с ним, если бы Пелле не пришел и не защитил его от лисы. Он крепче прижимает Юкке к себе и чувствует наслаждение от того, что кролик такой мягкий и теплый. Пелле думает о том, сколько ему еще придется ждать. Может, лиса в эту минуту выходит из норы и крадется по снегу к хлеву Янссона.
Как раз в эту минуту Мелькер идет поправлять одеяла своим мальчикам. Однако Пелле в кровати нет, а вместо него лежит сверху записка, на которой большими буквами написано:
«Я ПОШЕЛ СТРЕЛИТЬ ЛИС К ЯНССОНУ».
Мелькер принес записку Малин.
— Что ты на это скажешь? Кто разрешил Пелле уйти стрелять лисиц к Янссону ночью?
— Никто. Он не смел этого делать, — категорически заявляет Малин.
От сидения в телячьем загоне с теплым кроликом на руках клонит ко сну. Пелле чуть не засыпает, но внезапно вздрагивает. Он слышит, как Бьёрн взводит курок, он видит его в лунном свете у слухового оконца, он видит, как тот подымает ружье и прицеливается. Вот… вот сейчас на полянку выбежит лиса, сейчас она умрет, придет конец ее жизни, никогда больше не вернется она в свою нору на выгоне — и все это подстроил Пелле!
Пелле с криком бросает кролика и бежит к Бьёрну.
— Нет, нет, не стреляй!
Бьёрн был вне себя от злости:
— Ты что тут делаешь? Марш отсюда! Не мешай охотиться!
— Не надо! — кричит Пелле и цепко хватает его за ногу. — Не смей! Лисицы тоже хотят жить!
Этой ночью лиса не умрет из-за Пелле. В лунном свете лисы не видно. Зато появляется Малин. Она примчалась на лыжах. Бьёрн бледнеет. Подумать только, если бы Пелле не помешал ему выстрелить!..
— Как хорошо, что ты пришла, — сказал Пелле сестре, когда он снова лежал в кровати. Он обещал ей никогда больше не охотиться по ночам на лисиц, а Малин убедила его, что ни одна лиса не может съесть Юкке, пока тот сидит в огороженном загоне.
Но Пелле все же не мог уснуть и вертелся в постели, как уж. Неотступная мысль мучила его не меньше, чем страх перед лисой.
— Малин, — спросил он, — ты не выйдешь замуж за Бьёрна?
Малин, смеясь, поцеловала его в щеку.
— Нет, не выйду, — успокоила она его. — Лисе не добраться до Юкке, а Бьёрну до Малин, пока мы всей семьей живем в нашем маленьком загоне.
На следующий день Пелле забыл и думать про свой страх. В тот день на лед возле мостков Гранквистов выкатили сани. Каждый год, лишь только во фьорде вставал лед, Ниссе доставал сани. До него это делал его отец, потому что испокон веков на Сальткроке зимой катались на санях.
— Почему не придерживаться такого веселого обычая! — сказал Ниссе.
Мелькер согласился с ним. Он катался на санях еще охотнее, чем дети, а к обеду они все вместе возвратились домой с румяными, как яблоки, щеками и принялись за отварную треску под майонезом.
— С утра — подледный лов трески, а после обеда — финские сани, — по крайней мере чувствуешь, что живешь на свете, — утверждал Мелькер, когда все уселись на скамейки вокруг кухонного стола.
— А ты один ходил ловить треску? — спросил Юхан.
— Нет, вместе с Ниссе Гранквистом, — ответил Мелькер.
— И много вы наловили? — с любопытством спросил Никлас.
— По крайней мере штук десять, — ответил Мелькер. — Совсем неплохо!
— А сколько поймал ты? — спросил Юхан.
— Мы поделили поровну, — коротко заверил Мелькер. — Красота да и только — кататься на санях, верно? — зачастил он.
Но Юхан был неумолим:
— А сколько поймал ты?
Мелькер бросил на него недовольный взгляд. Горькая правда заключалась в том, что Ниссе вытащил девять, а сам он лишь одну треску, да и то маленькую, тощую, настоящего недомерка. Но об этом он распространяться не собирался.
— Может, ты ни одной не поймал? — спросил Никлас.
Тут Мелькер вздохнул. Потом, улыбнувшись своей обезоруживающей улыбкой, он показал на тощую и жалкую треску, совсем затерявшуюся среди остальных:
— Вот эту!
Все сочувственно посмотрели на треску и на Мелькера, но он убежденно сказал, что рыбацкое счастье, если они еще верят в него, совершенно необъяснимо и ничего общего с умением не имеет.
— Иногда человеку везет, а иногда нет. Как-то раз, помню, несколько лет назад я тоже зимой ловил треску с одним старым другом. Я поймал двадцать шесть рыбин, а сколько б, вы думали, поймал он? Ни одной!
— Кто же был этот старый друг? — спросил Юхан.
Мелькер скользнул по нему взглядом.
— Ты что, из спортивного интереса спрашиваешь? — сказал он и, наморщив лоб, глубокомысленно задумался. — Да, как же его звали?.. Подумать только, не могу вспомнить его имя!
— Хм-хм, а почему ты его тоже не выдумаешь? — спросил Пелле.
— И не стыдно тебе, детка! — укоризненно покачал головой Мелькер. — Не забывай, ты разговариваешь со своим родным отцом.
Пелле повис у него на шее.
— А я и не забываю…
Малин пришла на помощь к отцу:
— Ничего удивительного, что ему не вспомнить имя своего старого друга. Разве вы не знаете, как иногда бывает с отцом? Он помнит только: что-то он забыл, а что именно — ему никак не вспомнить.
— И не стыдно тебе, детка! — еще раз повторил Мелькер.
Зимой дни короткие, смеркается рано. Долгими вечерами все сидели в теплой кухне. По правде говоря, во всей усадьбе не было более обжитого теплого местечка, чем эта кухня.
Ночи стояли холодные. Мальчики спали у себя на чердаке в фланелевых пижамах и шерстяных джемперах. Мелькер неплохо устроился в своей каморке при кухне. А Малин пришлось перебраться в кухню, на диван.
— Отапливать две чердачные комнаты — так дело не пойдет, — заявила она.
Да ей и нравилось жить на кухне.
— Одно плохо — никогда не ляжешь вовремя спать, — жаловалась Малин.
Потому что все собирались на кухне. Туда приходили поболтать и попить кофейку Ниссе с Мэртой, там Тедди и Фредди играли в карты с Никласом и Юханом, там рисовали и играли Чёрвен с Пелле, там в углу спал Боцман, там вышивала Малин, а Мелькер пел, балагурил и чувствовал себя в своей родной стихии.
На дворе стоял собачий холод. Ледяные звезды мерцали над замерзшими фьордами, а стены потрескивали от мороза. До чего же хорошо было сумерничать в теплой кухне! Пелле улыбался от радости, подкладывая дрова в плиту. Так вот и надо жить. Все должны быть вместе, все должны сидеть в тепле, петь и болтать. Но вот он незаметно начинал клевать носом, разговоры доносились до него, как мерное жужжание, и, пошатываясь, он еле добирался до постели.
Почти все свободное время Пелле проводил на скотном дворе Янссона. И не только с Юкке. Он помогал дяде Янссону убирать стойло, а когда возвращался домой, от него так ужасно пахло навозом, что никто не хотел сидеть с ним рядом. Малин пришлось специально выделить ему для скотного двора пару старых лыжных брюк и куртку, из которой он вырос. Едва переступив порог, он должен был немедленно скинуть их в сенях.
— Перед отъездом мы их, пожалуй, сожжем, — сказала Малин.
— He-а, я возьму их с собой в город, — неожиданно горячо возразил Пелле.
Малин пробовала отговорить его от этой блажи. И тогда Пелле, чуть смущаясь, объяснил ей, что он задумал.
— Я положу брюки и куртку в отдельный шкафчик, — сказал он. — А когда уж очень соскучусь по Юкке, то подойду и понюхаю их.
Чёрвен тоже несколько раз ходила с Пелле на скотный двор к дяде Янссону, но вскоре ей там надоело.
— Одни коровы да коровы, — говорила она. — Не хочу!
То ли дело бегать на лыжах. На Рождество ей подарили лыжи, и теперь она без устали карабкалась по холмам. Если же Чёрвен падала, то без посторонней помощи подниматься не могла. Лежа в снегу, она болтала ногами, как майский жук, перевернутый на спину, пока не подбегали Тедди или Фредди и не помогали ей снова встать на лыжи. Но теперь они редко оказывались под рукой. Большей частью они носились по всей округе вместе с Юханом и Никласом и снова секретничали. У них была тайная снежная крепость, но всякий зрячий, кто бывал на Сорочьем мысу, мог видеть ее. Там они пропадали целыми днями. Подчас им это надоедало, и они отправлялись в дальние лыжные походы по льду на другие острова или удили подо льдом салаку вместе с дедушкой Сёдерманом, который поклялся, что больше ни за что не поедет в город, по крайней мере в ближайшее время.
У каждого были свои дела, а Чёрвен по-прежнему играла одна в обществе своего любимого Боцмана. Однажды в трескучий мороз, когда небесный свод зеленоватым ледяным покровом навис над Сальткрокой и боярышник в Столяровой усадьбе совсем поседел от инея, Малин возвращалась с лыжной прогулки и увидела на пригорке за домиком Сёдермана плачущую Чёрвен. Обычно Чёрвен плакала только от злости, но теперь она плакала от горя. Оттого, что замерзли ноги, что много часов кряду она барахталась одна в снегу, пока не почувствовала, как вся закоченела, оттого, что двери у Сёдермана заперты, что дома и в Столяровой усадьбе никого нет, а Тедди и Фредди позабыли о своем обещании присмотреть за младшей сестренкой в отсутствие мамы и папы, которые уехали в Нортелье. И стоило Чёрвен увидеть Малин, как она тут же заревела, и слезы, до того комом стоявшие в горле, так и брызнули из глаз. До чего же жуткой, холодной и одинокой может показаться жизнь маленькому ребенку!
— Наконец-то ты пришла, Малин! Как хорошо!
А Малин подхватила ее на руки и понесла домой в Столярову усадьбу, напевая на ходу:
Бедная ты крошка, Не стоишь на ножках, Пальчики — что льдинки, А в глазах слезинки…А потом, когда они пришли на кухню, Чёрвен показалось, что Малин повела себя как-то чудно, просто невероятно чудно.
— Разве можно ложиться в постель среди бела дня? — спросила она.
— Конечно, когда надо согреть ноги малышам, лучше ничего не придумаешь, — уверила ее Малин.
Свернувшись калачиком, они лежали, прижавшись друг к другу на диване, и Чёрвен, барахтавшейся в снегу битых четыре часа, стало тепло и чудесно, как в раю. У нее заблестели глаза.
— У меня пальцы — как льдинки, верно? — спросила она.
И Малин, делая вид, что вздрагивает от холода, согласилась с Чёрвен. Что верно, то верно! Можно поклясться, что на этом диване никто еще с такими холодными ногами не лежал.
Чёрвен не переставала восхищаться выдумкой Малин и время от времени посмеивалась. Ничего такого раньше с ней не случалось.
— Разве можно лечь в постель среди бела дня? — снова повторила она.
— Когда «пальчики — что льдинки, а в глазах слезинки», тогда можно, — пропела Малин.
Чёрвен зевнула.
— Фу, не пой эту грустную песенку, — пробормотала она. — Спой такую, от которой пальцы на ногах согреются.
Малин рассмеялась:
— Такую, от которой пальцы согреются?
С дивана видны были разрисованные морозом стекла и бледное зимнее солнце, холодно светившее сквозь заиндевелые ветви боярышника. Скоро оно зайдет и оставит Сальткроку во власти темноты и трескучего мороза. Да, пожалуй, нужна песенка, от которой согреются пальцы.
Дует вешний ветерок, Куковать кукушке срок…—запела Малин.
И ей вдруг горячо захотелось, чтобы настало лето! Петь она больше не могла, да и ни к чему это. Потому что Чёрвен уже крепко спала.
Катитесь вы вместе со своими заколдованными принцами!
Как-то весенним днем Чёрвен свалилась в море с пароходной пристани. Она всегда была уверена, что ей ничего не стоит проплыть несколько минут, но тут вдруг убедилась, что это вовсе не так. Однако не успела она испугаться, как вовремя подоспевший Боцман вытащил ее на берег. Когда примчался Ниссе, Чёрвен уже стояла на пристани, выжимая мокрые волосы.
— Где твой спасательный пояс? — строго спросил Ниссе.
— Знаешь что, папа, — произнесла в ответ Чёрвен, — когда Боцман со мною, мне почти что не нужен пояс.
Обвив руками шею Боцмана, она прижалась к нему мокрой головой.
— Эх ты, Боцман, — ласково сказала она, — песик ты мой паршивенький.
Боцман серьезно посмотрел на нее и, если правда, что он умел думать, как люди, то, наверное, подумал: «Ах ты, оса ты этакая, жизнь за тебя отдам, скажи только слово».
Приласкав Боцмана, Чёрвен радостно рассмеялась.
— Папа, знаешь что… — начала было она, но Ниссе перебил ее:
— Нет, Чёрвен, никаких больше «знаешь что»! Марш домой переодеваться.
— Ладно, только я хотела сказать, что упала в море уже целых три раза… ха-ха-ха, а Стина всего только два.
Насквозь промокшая, Чёрвен победоносно зашагала домой, желая покрасоваться в таком виде перед Стиной.
На обрывистом берегу, неподалеку от своего домика, Сёдерман смолил лодку, готовясь спустить ее на воду. Всех жителей Сальткроки захватила великая весенняя суета. Освободившись ото льда, море вольно катило свои волны, и нужно было срочно готовить лодки. На острове стоял запах смолы и краски, и весь он был окутан дымом от горящей прошлогодней листвы, потому что и в усадьбах встречали весну.
Но все прочие запахи заглушал соленый запах моря. Сёдерман жадно вдыхал его, подставляя весеннему солнцу свою спину. Лодка обещала выйти что надо, и он был доволен. Но голова у него начинала побаливать. Рядом с Сёдерманом на большом валуне сидела Стина и рассказывала дедушке сказки. Бедный Сёдерман никак не мог взять в толк, какой принц обернулся диким вепрем, а какой орлом. А вся беда в том, что время от времени Стина проверяла, все ли он понял: ошибок она не терпела.
— Угадай, кого больше заколдовали? — с пристрастием допрашивала она.
Но тут перед ней неожиданно предстала мокрая, как русалка, Чёрвен.
— Угадай, кто упал в море? — гордо спросила она.
Стина молча уставилась на нее. Она даже не представляла себе, что этим можно хвастаться, но, увидев торжествующую мордочку Чёрвен, неуверенно, на всякий случай спросила:
— Угадай, кто скоро упадет в море… в воскресенье?
— Только не ты, — строго прикрикнул Сёдерман, — а не то я отправлю тебя назад в Стокгольм, вместе с Мелькерссонами.
Мелькерссоны и привезли с собой Стину, когда приехали на несколько деньков погостить на весеннем острове. Мелькер по-прежнему считал, что нечего такой большой усадьбе, как Столярова, за которую внесли арендную плату вперед, простаивать без пользы. А главное… никогда остров не был так красив, как весной, когда на березах распустились первые нежные листочки и когда вся Сальткрока казалась ковром из бело-голубых подснежников.
— Боже, до чего же я люблю шведскую весну! — частенько говорил Мелькер. — Холодная она и скромная, но такая прекрасная, что сердце щемит!
То, что весна была холодная, почувствовала и Чёрвен. Она продрогла, и ей поскорее хотелось домой — переодеться во все сухое. Но, проходя мимо причала Столяровой усадьбы, она увидела дядю Мелькера, который сидел в лодке и возился со старым мотором. И тут, как Чёрвен ни спешила, ей пришлось остановиться.
Мелькер обожал болтать с Чёрвен.
— Ничего забавнее на свете нет, — доверительно говорил он Малин. — Жаль, что ты не слышишь нас, потому что наши беседы необыкновенно интересны. А лучше всего мы болтаем с глазу на глаз.
Вот и теперь, пока Мелькер воевал со своим мотором, состоялась небольшая откровенная беседа. И конечно, жаль, что Малин не слышала, какая она была веселая и интересная.
— Дядя Мелькер, а я в море упала, — радостно сообщила Чёрвен.
В ответ раздалось лишь невнятное бормотание. Мелькер изо всех сил тянул шнур стартера и, должно быть, занимался этим довольно давно, потому что лицо его побагровело, а волосы торчали во все стороны.
— У тебя нет настоящей хватки, дядя Мелькер, — заявила Чёрвен.
Взглянув на стоявшую у причала Чёрвен, Мелькер, ласково улыбнувшись, спросил:
— Вот оно что, так-таки нет?
— He-а, нужно схватить шнур вот так и дернуть, — сказала Чёрвен и, молниеносно крутанув рукой, показала, как это делается.
— Вот возьму и схвачу тебя, если не уберешься восвояси, — предупредил Мелькер.
Чёрвен даже заморгала от такой черной неблагодарности.
— Ты бы должен радоваться, что я тебе помогаю.
Мелькер снова взялся за свой мотор.
— Да, спасибо, я так рад… так рад… так рад, — заверил он ее, дергая за шнур в такт своим словам.
Но проклятый мотор, фыркнув несколько раз «фьют, фьют», совсем заглох. Чёрвен покачала головой:
— Вообще-то ты мастер на все руки, дядя Мелькер, но, может, в моторах как раз ничего не смыслишь! Погоди-ка, я покажу тебе!
Тут Мелькер взревел:
— Убирайся отсюда! Бросайся снова в море или иди поиграй с Пелле… Сгинь!
Чёрвен обиделась:
— Хорошо, я пойду и поиграю с Пелле, но сначала мне нужно домой переодеться. Ты что, не понимаешь?
Мелькер одобрительно кивнул:
— Пожалуйста, переоденься! Надень на себя все, что у тебя есть! И не забудь три пары лифчиков, которые застегиваются на спине.
— Лифчиков? — переспросила Чёрвен. — Мы же не в каменном веке!
Так обычно говорила Тедди, когда речь шла о чем-то старомодном.
Мелькер уже не слушал, потому что мотор снова фыркнул «фьют, фьют», и Мелькер умоляюще посмотрел на него. Но напрасно. Фыркнув в последний раз «фьют», мотор совсем заглох.
— Дядя Мелькер, знаешь что? — сказала Чёрвен. — С книгами, может, у тебя и получается, но в этом деле ты ничегошеньки не смыслишь. А где Пелле?
— Вероятно, у клетки с кроликом, — прошипел Мелькер и, молитвенно сложив руки, добавил: — Дал бы Бог, чтоб он был у клетки с кроликом и чтобы ты тоже отправилась туда.
— Ты хочешь, чтобы Бог был у клетки с кроликом? — с любопытством спросила Чёрвен.
— Пелле! — закричал Мелькер. — Пелле должен быть у клетки с кроликом… и ты тоже. В первую очередь ты!
— Нет, но ты же сам сказал, что молишь Бога, чтобы он был у клетки с кроликом… — начала было Чёрвен, но дядя Мелькер так дико сверкнул глазами, что она, желая успокоить его, поспешно добавила: — Да, да, я пошла, пошла!
Молитва Мелькера была услышана. Пелле был как раз у клетки с кроликом, и туда-то, переодевшись, отправилась и Чёрвен.
Юкке жил в роскошной клетке.
— Сам Мелькер сделал, собственноручно, — хвастался Мелькер, когда клетка была готова.
Пелле помогал отцу забивать гвозди, хотя Мелькер предупредил его:
— Кончится тем, что ты отобьешь себе пальцы.
— Не-а, — возразил Пелле, — если только Чёрвен будет держать гвозди.
До такой хитрости Мелькер не додумался.
— Почему ты все время лупишь себя по большому пальцу? — спросила Чёрвен, после того как Мелькер дважды ударил себя молотком.
Пососав палец, Мелькер ответил:
— Потому что ты, Чёрвен, не держишь мне гвоздь.
Но клетка, когда ее смастерили, все же вышла хоть куда. «Вот обрадуется кролик, когда переедет в нее!» — подумал Пелле.
Сияя от счастья, он притащил Юкке на скотный двор Янссона и спустил его на землю возле нового жилища.
Это сооружение было спрятано за кустом сирени, в укромном местечке, где Пелле мог сидеть наедине с Юкке и чувствовать себя счастливейшим в мире обладателем кролика. Клетка была сделана из кусков металлической сетки, оставшейся от курятника. С одной стороны клетки была дверца с небольшой защелкой, так что Пелле нетрудно было вынуть кролика из клетки, когда хотелось подержать его на руках. В глубине клетки стоял ящик с круглым отверстием, служивший маленьким домиком для Юкке.
— Прыгай туда, когда пойдет дождь или похолодает, — советовал кролику Пелле.
Когда пришла Чёрвен, он сидел с Юкке на руках. Она помогла накормить Юкке, а потом Пелле принялся наставлять Чёрвен, как ухаживать за кроликом. Ведь Чёрвен придется заботиться о Юкке, когда Пелле уедет обратно в город.
— Я никогда не прощу тебе, если не будешь его как следует кормить, — сказал Пелле. — И смотри, чтоб он не сбежал.
Не мешало бы самому Пелле быть повнимательнее, потому что не успел он произнести эти слова, как Юкке, выскочив у него из рук, скакнул прямо в заросли сирени.
Пелле с Чёрвен вскочили и бросились вслед за ним. Легонько тявкнув, помчался за ними и Боцман.
— Эй, Боцман, не тронь Юкке! — испуганно крикнул на бегу Пелле.
Глупее этих слов Чёрвен давно не приходилось слышать.
— Боцман никогда никого не трогает, пора бы знать. Он думает, что мы просто играем.
Пелле стало совестно. Но ему некогда было просить прощения у Боцмана, ему надо было ловить Юкке.
На задворках Столяровой усадьбы Малин вместе с Юханом и Никласом выбивали подушки и одеяла, и, когда прискакал Юкке, Юхан набросил на него шерстяное одеяло. Юкке яростно бился под одеялом, оно вздымалось, точно бушующее море. Под конец кролику все же удалось вырваться из плена. Прыг-скок, прыг-скок, прыг-скок — и он скрылся за углом дома.
Лишь Стине удалось схватить его. Она сидела на крыльце с Попрыгушей Калле и, увидев, что мимо мчится кролик, ловко схватила его. Тут же подбежали запыхавшиеся Пелле с Чёрвен.
— Как хорошо, что ты поймала его, — сказал Пелле.
Облегченно вздохнув, Пелле сел на крыльцо возле Стины. Держа Юкке на коленях, он смотрел на него с такой же нежностью, с какой смотрит мать на своего ребенка.
— До чего приятно иметь собственную зверюшку, — сказал он.
Чёрвен и Стина согласились с ним.
— Лучше всего ворона, — уверяла их Стина. И торжествующе добавила: — Он уже умеет…
— Что он умеет? — спросила Чёрвен.
— Он умеет говорить «Пошел прочь!». Я его научила.
Похоже, что Пелле и Чёрвен не поверили ей, и Стина рассердилась:
— Погодите-ка, сейчас сами услышите! Калле, скажи: «Пошел прочь!» Ну-ка, скажи!
Склонив голову набок, ворон упорно молчал. Только после долгих надоедливых приставаний Стины он коротко и недовольно каркнул несколько раз. Лишь человек, обладающий живым воображением, мог принять это карканье за «Пошел пр-рочь!». Таким живым воображением обладала Стина.
— Слыхали?! — ликующе сказала она.
Чёрвен и Пелле расхохотались, а Стина таинственно кивнула.
— Знаете, что я думаю? Я думаю, Калле — заколдованный принц, раз он умеет разговаривать.
— Хм-хм! — возмутился Пелле. — А ты видала когда-нибудь принцев, которые говорят «Пошел прочь!»?
— Да, — ответила Стина и показала на Калле: — Вот этот принц так говорит.
В сказке, которую она только что рассказывала дедушке, было не менее трех заколдованных принцев. И все они обернулись кто диким вепрем, кто акулой, кто орлом. Так почему бы ворону тоже не быть заколдованным принцем?
— He-а, только лягушки бывают заколдованными принцами, — уверяла ее Чёрвен.
— Это ты так говоришь, да? — презрительно спросила Стина.
— Да, про это мне читала Фредди. Это была сказка про принцессу, которая поцеловала лягушку, и та превратилась в принца. Бах — и он тут как тут.
— Придется как-нибудь попробовать, — задумчиво сказала Стина.
Пелле сидел на крыльце и посмеивался.
— А на что тебе расколдованный принц? — спросил он.
— Он может выйти замуж за Малин, — ответила Стина.
«Вот здорово!» — подумала Чёрвен.
— И ей не придется больше быть неженатой, совсем одной, без мужа! — воскликнула она.
Вряд ли какая другая выдумка девчонок могла привести Пелле в большую ярость, чем эта.
— Да ну вас! Катитесь вы вместе со своими заколдованными принцами! — закричал он. — Идем, Юкке!
Чёрвен и Стина долго смотрели ему вслед.
— Ясно, он не хочет, чтобы Малин когда-нибудь женилась, — сказала Чёрвен. — Верно, потому, что у него нет мамы.
Стина, сразу став серьезной, глубокомысленно наморщила лобик.
— А почему его мама умерла? — спросила она.
Нелегко ответить на такой вопрос. Чёрвен задумалась — она не знала, отчего люди умирают.
— Может, как в этой песне, ну, ты знаешь, в какой, — сказала она наконец. — Да, может, это так и есть.
И она запела:
Мир — это остров печали, Не успел свой век прожить, Тут и смерть пришла, Поминай как звали…— Да-a, грустная песенка, и-эх, — вздохнула Стина.
Водворив Юкке в клетку, Пелле провел прекрасный вечер в одиночестве. Он занялся весенней канавой. Он очень любил разные канавы, особенно весной, — чего там только не было: и насекомые, и всякие растения! Хотя, пожалуй, интереснее всего было перепрыгивать ее одним махом. Иногда это не удавалось, и поэтому Пелле вернулся в тот вечер домой, с ног до головы облепленный грязью.
Мелькер как раз сидел на кухне Столяровой усадьбы, разложив перед собой на столе разобранный мотор. Он надеялся отучить его хотя бы фыркать «фьют, фьют», ничего больше он не хотел и считал, что основательная чистка настроит мотор на нужный лад. Но, странное дело, все маленькие гайки и винтики обладали поразительной способностью исчезать именно в тот момент, когда были нужны, и Мелькер всякий раз страшно сердился.
— Глотаете вы, что ли, эти гайки? — спрашивал он Юхана и Никласа, которые торчали у стола, внимательно наблюдая за работой отца. После нескольких таких же несправедливых обвинений Юхан сказал:
— Пошли, Никлас, спать. А папа пусть сидит и жует свои гайки сам.
Стоило сыновьям исчезнуть, как Мелькер тотчас обнаружил все, что искал.
— Погляди-ка, вот она, эта крошка, которую я искал, — сказал он.
Тут появился Пелле, весь в грязи; он устало вошел на кухню, а Малин сказала:
— А вот и другая крошка, которую искала я. Пелле, что у тебя за вид?!
В тот вечер на кухне Столяровой усадьбы чистили не только мотор. Малин вытащила огромную лохань, усадила в нее Пелле и основательно отскребла с него щеткой грязь.
— Уж уши-то могла бы оставить в покое, — проворчал Пелле, — я мыл их в субботу.
Но Малин заверила его, что с такими грязными ушами, как у Пелле, жить невозможно.
— Может утром забежать тетя Мэрта на чашку кофе, и если она увидит такие уши…
— Ты сказала «может», — живо перебил ее Пелле. — Может, подождем еще, а вдруг она не придет? — с надеждой предложил он.
Малин, смеясь, обратилась к Мелькеру:
— Как по-твоему, неужто все мальчишки такие грязнули? Ты был такой же, когда был маленький?
Перебирая свои гайки, Мелькер удовлетворенно напевал:
— У меня настоящая хватка… и пусть эта Чёрвен убирается… Я грязнуля? — удивился он. — Нет, насколько я припоминаю, я был удивительный чистюля.
Пелле мечтательно посмотрел на отца поверх лохани.
— Ясно, что ты был чистюля, — сказал он.
— Почему это ясно? — удивился Мелькер.
— Да потому, что ты во всем был примерным: слушался, получал хорошие отметки, никогда не врал и не обманывал.
— Разве? Я это говорил? — широко улыбнулся Мелькер. — Значит, я научился немного привирать на старости лет.
Пелле плеснул на отца водой.
— Нет уж, Пелле, — сказала Малин, — нечего поливать кухню.
— А отца, выходит, можно, — возмутился Мелькер.
— Да, можно, — спокойно и уверенно заявил Пелле.
Потом, закутанный в большую купальную простыню, сидя на коленях у Малин, он вдруг вспомнил дурацкие Стинины бредни о заколдованном принце, на котором женится Малин. Он испытующе посмотрел на сестру: а что, если она расстраивается из-за того, что ходит «совсем без мужа», как сказала про нее Чёрвен?
Не успели они в этот раз приехать на остров, как им сообщили великую новость: Бьёрн обручился с одной девушкой с Заячьей шхеры. Пелле боязливо спросил Малин, не расстроилась ли она из-за этого, но Малин ответила, смеясь:
— Нет, это самое лучшее, что он мог сделать. Об этом я сказала ему еще в Рождество.
Но все-таки было не совсем ясно, нравится ли Малин ходить «совсем без мужа».
— Ну, вот, мотор готов и вычищен самим Мелькером, — сообщил Мелькер, завинчивая последнюю гайку, а потом запел: — Теперь он будет прекрасно работать, и я вам сейчас же это докажу.
Мелькер собирался доказать, что мотор хорошо работает, в лоханке, где купали Пелле. Все случилось, как Мелькер и предсказывал. Мотор работал так здорово, что все стены окатило водой, а Мелькеру, нетерпеливо склонившемуся над лоханкой, первому плеснуло прямо в лицо.
— Бр-р-р! — пробурчал Мелькер, а потом быстро добавил: — Малин, я сам вытру пол.
Но Малин стала убеждать его, что она очень ему благодарна: подумать только, какая удача! Раз — и вся кухня вымыта. А вытереть пол она сможет и сама. Только сначала Пелле заберется в постель.
— Тебе холодно? — спросила она, увидев, что он весь дрожит.
— Мне холодно, как пещерному человеку, — ответил Пелле.
Но и забравшись в кровать, он продолжал дрожать.
— Вы слишком долго проветривали постель, — сказал он. — Ой, ну и холодина!
— Перемени пластинку! — сонно пробормотал Никлас.
Пелле тихонько лежал в своей узкой кровати, пытаясь хоть немного согреться.
— Мне бы Юкке Королька сюда, в кровать! Он, наверное, теплый, — мечтательно сказал он.
Юхан поднял голову:
— Чего? Уголька? Ты в своем уме? Может, тебе еще камин в кровать поставить?
— Я сказал — Юкке Королька, моего кролика.
— Кролика… да, на тебя похоже, — фыркнул Никлас.
Опустив голову на подушку, он снова заснул.
Но Пелле не спалось. Он так беспокоился за Юкке, что сон не шел. А что, если ночью ударит мороз и Юкке замерзнет в своей клетке? Сам-то он уже согрелся, и ему было тепло. Нечестно, что кролики ютятся в маленьких холодных ящиках с жалким клочком сена на дне.
Пелле лежал и вздыхал. Он страшно мучился и под конец не выдержал. Соскочив с кровати, он спустился вниз по лестнице, которую забыли под окном после очередной вылазки Мелькера на крышу. Стоял прохладный весенний вечер, и Пелле, дрожа от холода, помчался прямо к кроличьей клетке. Никто не видел его, ни когда он бежал туда, ни когда крался обратно, держа в руках Юкке. Никто, пожалуй, кроме лисицы, совершавшей очередной вечерний обход Сальткроки.
Но Юкке, против ожидания, вовсе не проявил благодарности к Пелле за то, что тот вытащил его из клетки. Он отчаянно брыкался, когда Пелле пытался сунуть его в свою кровать. Постель не место для кролика — так считал Юкке и, вырвавшись из рук Пелле, прыгнул в сторону.
Мелькер и Малин, сидевшие внизу в общей комнате, внезапно услыхали ужасные вопли, доносившиеся из чердачной комнаты мальчиков. Они ринулись наверх посмотреть, что случилось, и увидели насмерть перепуганного Никласа, который, сидя в кровати, стучал зубами от страха.
— Здесь водятся привидения! — сказал он. — Какое-то подлое, косматое привидение кинулось на меня!
Мелькер ободряюще похлопал его по плечу:
— Тебя просто мучили кошмары, и в таких случаях снится всякая нечисть, но бояться тебе нечего.
— Подлое привидение прыгнуло мне прямо в лицо! — проворчал Никлас.
А у Пелле под одеялом, крепко стиснутое в его объятиях, лежало маленькое привидение, которое только и ждало удобного случая, чтобы вырваться из плена. И когда все уже спали, Пелле снова выбрался в ночь и посадил Юкке обратно в клетку.
— Тебя просто нельзя брать в постель, — возмущенно сказал он. — Я почти уверен, что уголек или даже камин были бы куда лучше.
Вскоре на Сальткроке забрезжил новый весенний день, день, которого никто никогда не забудет. Потому что в тот самый день на острове появился Мосес, из-за которого произошло множество разных событий. Мосес был всего-навсего крошечным тюлененком, которого Калле Вестерман нашел запутавшимся в сетях и взял с собой на Сальткроку, так как знал, что орланы-белохвосты не щадят таких отбившихся от стада тюленят.
— Вестерман — самый страшный скандалист на нашем острове, — говорила Мэрта Гранквист.
Несколько раз случалось, что в лавке, где собирались жители острова, дело доходило до ссоры, и всегда можно было безошибочно сказать, что ее затеял Вестерман. Беспокойный он был человек.
— Шумит, бурлит, словно вода о камни, — говорила о нем его жена. — Ума у него нет, — говорила она всем, кто соглашался ее послушать.
Он рыбачил и охотился, а всякая другая работа валилась у него из рук. Был у Вестермана дом и небольшой участок, но хозяйство вела его жена. Приходилось ей нелегко, и она нередко роптала. Дела у Вестермана шли из рук вон плохо, а когда ему приходилось особенно туго, он частенько заворачивал к Ниссе Гранквисту занять денег. Но в последнее время Ниссе ему отказывал, не желая одалживать человеку, который никогда не возвращает деньги в срок.
В то утро, когда Вестерман вернулся из шхер, Чёрвен стояла на пристани. Она закричала от восторга, когда Вестерман положил к ее ногам маленького, шипящего от злости тюлененка, который таращил на нее свои черные влажные глазенки. Милее его она в жизни не видела.
— Ой, какой хорошенький! — закричала Чёрвен. — Можно погладить?
— А мне-то что! — сказал Вестерман. И тут же произнес нечто неслыханное: — Можешь взять его насовсем, если хочешь.
Чёрвен смотрела на него во все глаза:
— Что ты сказал?
— Забирай его, если только мама с папой разрешат. Мне он лишь руки развяжет. Можешь выкормить его и держать у себя до тех пор, пока не вырастет. Пока не будет от него какой-то прок.
Чёрвен задохнулась от счастья. Вестерман никогда не ходил в ее любимцах, но тут она почувствовала, что просто обожает его.
— О! — только и вымолвила Чёрвен, лихорадочно соображая, чем можно отблагодарить его за такую невиданную щедрость.
— Хочешь, я вышью тебе что-нибудь крестом? — спросила она.
Откуда Вестерману было знать, что Чёрвен готова взяться за труд, который она терпеть не могла, и он грубо ответил:
— М-да, больно мне нужна твоя вышивка! Бери, а то как мне с ним жене на глаза показаться!
Вестерман ушел, а Чёрвен осталась на пристани, совершенно сбитая с толку.
— С ума сойти, — сказала она. — Боцман, нам подарили тюленя.
Боцман обнюхал тюлененка. Ничего похожего он никогда не видел, но раз Чёрвен этого хочет, он готов подружиться с этим чудным маленьким зверьком, лежавшим на мостках и злобно шипевшим на него.
— Не напугай его! — сказала Чёрвен, отгоняя Боцмана. А потом закричала изо всех сил: — Сюда! Идите сюда! Все идите сюда! С ума сойти… мне подарили тюленя!
Первым прибежал Пелле — он весь задрожал, когда увидел тюлененка и услыхал про неслыханное чудо: Чёрвен подарили этого волшебного серо-крапчатого детеныша, который шипел, орал и ползал по мосткам на своих странных толстеньких обрубках вместо передних ног. Бывает же такое на свете, что получают тюленя в подарок!
— Ох, какая ты счастливая! — вырвалось у Пелле из самой глубины души.
— Да, с ума сойти, мне всегда везет!
Оставалось только убедить маму с папой в том, как хорошо иметь в доме тюленя.
Понемногу все собрались на пристани и удивленно разглядывали тюлененка.
— Скоро мы откроем на Сальткроке зоопарк, — сказал Мелькер. — Что касается меня, то я постараюсь приобрести по дешевке несколько бегемотиков.
Мэрта отмахивалась обеими руками. Ни за что на свете не возьмет она тюленя в дом. Ниссе тоже колебался. Он объяснил Чёрвен, какую обузу она берет на себя и как трудно будет выкормить тюлененка. Молока ему нужно не меньше, чем теленку, а салаки — прямо килограммами, когда подрастет…
— Салакой можем кормить его мы, — пообещала Стина. — Верно, дедушка?
Чёрвен с упреком посмотрела на родителей.
— Я получила его в подарок, — сказала она. — Он все равно что ребенок для меня. Понимаете?
Тедди и Фредди поддержали ее.
— Когда рождается ребенок, не говорят же, сколько молока на него пойдет и как трудно выкормить малыша, — сказала Тедди.
Девочки осаждали Мэрту просьбами. Им помогали Юхан, Никлас и Пелле. Мальчики обещали соорудить для тюлененка пруд, где он сможет плавать днем. На берегу за лодочным сараем была глубокая расщелина в скале; если наполнить ее свежей морской водой, то получится чудесный бассейн для тюленя. Лучшего и желать нельзя.
— А в сарае он будет спать, — сказала Фредди.
— Он никому не будет в тягость, — умоляли дети.
Время от времени тюлененок издавал короткие беспомощные крики, и Стина торжествующе сказала:
— Слышите, он кричит «мама»?
— Я его мама, — сказала Чёрвен, взяв на руки тюлененка.
Кажется, ему это понравилось. Он тыкался мордой в ее лицо, а усы его щекотали ее так, что Чёрвен рассмеялась.
— Я знаю, как назвать его! — сказала Чёрвен. — Мосес-Моисей! Потому что Вестерман нашел его точь-в-точь как дочь фараона нашла Моисея в тростнике[13], помнишь, Фредди?
— Не могу представить себе, что дочь фараона похожа на Вестермана, — сказал Мелькер. — Но Мосес — красивое имя.
Под конец, когда все, казалось, приняли как должное, что Мосес остается, последней сдалась Мэрта.
— Держи его у себя, пока не вырастет и не сможет сам добывать себе пищу, — разрешила она.
Дети были в восторге.
— Знаете, — задумчиво сказала Стина, — я думаю, что Мосес — заколдованный принц, который поднялся со дна морского.
— Катись ты вместе с твоими заколдованными принцами! — разозлился Пелле. — Принц Мосес, да?
На мостках сидела Чёрвен с Мосесом на коленях. Она гладила его, а он тыкался носом ей в руки. А когда его усы щекотали ее, она вся тряслась от веселого безудержного смеха. Рядом стоял Боцман и смотрел на нее. Долго стоял он и смотрел на Чёрвен своими преданными печальными глазами. И внезапно, резко повернувшись, затрусил прочь.
Этой весной у Чёрвен было много хлопот с Юкке и с Мосесом, которые были на ее попечении. Пелле слал из города письмо за письмом и заклинал ее хорошенько присматривать за его кроликом.
«ДАВАЙ ЕМУ ПАБОЛЬШЕ ЛИСТЬЕВ АДУ-ВАНЧИКА», — писал он, и Чёрвен жаловалась Стине:
— Побольше листьев одуванчика! Пелле хорошо говорить! А я в жизни не видела такого прожорливого кролика. Вечно он голодный.
Но Юкке был, по крайней мере, смирным зверьком, которому ничего не требовалось, кроме листьев одуванчика и воды. Он не орал, когда его оставляли одного. Он не ползал повсюду и не стягивал на пол скатерти, не опрокидывал кастрюль и не рвал папиных газет. Все это вытворял Мосес, тот самый, который должен был днем плавать в пруду, а ночью спать в лодочном сарае. Но Мосес не хотел жить ни в пруду, ни в сарае. Куда бы ни шла Чёрвен, он следовал за нею по пяткам. Разве не она его мама? Разве не она поила его из бутылочки чудесным теплым молоком с рыбьим жиром? Значит, он должен быть вместе с ней. Он орал и возмущался, когда Чёрвен запирала его в сарае по вечерам. А однажды, когда он особенно зло шипел и буйствовал, она взяла его с собой в комнату. Благо мама ушла шить к жене Янссона и не могла этого запретить.
Место Боцмана было на коврике рядом с кроватью Чёрвен. Он привык спать там каждую ночь с тех самых пор, как был щенком. Но когда появился Мосес и начал ползать по полу, Чёрвен сказала:
— Боцман, сегодня ты будешь спать у Тедди и Фредди.
Боцман не сразу осознал, что она имела в виду.
Это дошло до него, когда она взяла его за ошейник и вывела из своей комнаты.
— Только одну ночку, ладно? — сказала Чёрвен.
Но когда Мосес понял, как уютно спать в комнате у Чёрвен, он не пожелал больше довольствоваться каким-то там старым лодочным сараем.
На другой вечер, когда Чёрвен заперла его в сарае, он завопил так, что слышно было по всей Сальткроке.
— Люди подумают, что мы мучаем и бьем его смертным боем, — сказала Тедди. — Пусть уж лучше спит у Чёрвен.
Мэрта недолго противилась, а потом уступила. Трудно было устоять против этого маленького тюлененка, который был так предан и смотрел на нее своими умными, прекрасными глазами, будто все понимал.
В тот вечер Боцман по своей воле лег спать в комнате Тедди и Фредди. Так и повелось с тех пор. Он перестал ходить за Чёрвен по пятам. Может, боялся наступить на Мосеса. Почти целыми днями он тихонько лежал у крыльца лавки. Прикрыв морду лапами, он, казалось, спал и поднимал глаза лишь для того, чтобы посмотреть, кто пришел в лавку.
— Песик ты мой паршивенький, какой ты стал соня, — говорила Чёрвен, трепля его по голове.
Но теперь ей всегда было некогда, и она тут же отправлялась за листьями одуванчика для Юкке или греть молоко для Мосеса. Ходить за животными было хлопотно, хотя иногда ей и помогала Стина.
— У тебя-то один Попрыгуша Калле, — говорила Стине Чёрвен, — а мне надо заботиться о двоих, да еще, конечно, о Боцмане.
Стина не видела ничего хорошего в том, что у нее один лишь Попрыгуша Калле. Его нельзя было кормить из бутылочки, как кормила Мосеса Чёрвен. Вот счастливица! Стина помогала Чёрвен рвать листья одуванчика для Юкке, втайне надеясь всякий раз, что Чёрвен вознаградит ее и даст покормить из бутылочки Мосеса. Но Чёрвен была непреклонна. Мосеса она хотела кормить сама.
— Иначе он не станет есть, — уверяла она.
Стине разрешалось сидеть и смотреть, хотя у нее руки чесались выхватить бутылочку у Чёрвен, а уж станет ли Мосес потом есть или нет — неважно.
Но и на Стининой улице настал праздник. У ее дедушки было несколько овец, которые за небольшую плату паслись на выгоне Вестермана. И вот нынче овцы ягнились, и Стина каждый день провожала дедушку на выгон посмотреть, не народились ли новые ягнята.
— Бяшки! Бяшки! — звал Сёдерман. — Идите, я вас пересчитаю и погляжу, не разбогател ли я.
Одна из ярочек и вправду делала все, что могла, чтобы увеличить богатство хозяина. В один прекрасный день она принесла сразу трех ягнят в небольшой овчарне, которую Сёдерман собственноручно сколотил своим овцам на случай непогоды.
— Столько ей не прокормить, молока не хватит, — сказал Сёдерман. — За одним придется нам присмотреть самим, не то погибнет.
Сёдерман оказался прав. Много дней подряд приходил он вместе со Стиной на выгон и видел, как самый маленький ягненок все тощает, потому что у него не хватает сил сражаться с двумя другими за материнское молоко.
Под конец Сёдерман сказал:
— Придется кормить его из бутылочки.
Стина так и подскочила. Порой сбывается самое неожиданное и несбыточное. Она бросилась со всех ног в лавку, волоча за собой дедушку. «И к чему такая спешка, — подумал Сёдерман, — ведь ягненок пока что не подыхает». По требованию Стины он купил бутылочку точь-в-точь такую, как у Мосеса, и Стина мечтательно улыбнулась. Ну и разинет же Чёрвен рот от удивления!
Чёрвен как раз кормила Мосеса, когда Стина прибежала с полной бутылочкой молока в руках.
— Зачем ты ее притащила? — сердито спросила Чёрвен.
У Мосеса была запасная бутылочка, которую Чёрвен давала ему, когда он особенно хотел есть, и Чёрвен подумала, что Стина имела наглость притащить ее, даже не спросив разрешения.
— Мосес сыт, — сказала Чёрвен, — молока ему больше не надо.
— А мне-то что, — объявила Стина, — у меня своих забот по горло.
Чёрвен удивленно подняла брови:
— Каких еще забот?
— Мне надо идти кормить Туттисена, — деловито объявила Стина.
Прикусив язычок, Чёрвен задумалась.
— Это еще что за Туттисен? — под конец спросила она.
Но как только Стина ей все объяснила, Чёрвен вместе с подругой помчалась на выгон Вестермана и охотно помогла ей накормить ягненка. Хотя Стине тоже удалось подержать бутылочку.
Туттисен вскоре стал таким же ручным, как Мосес, и Стина несколько раз на день ходила кормить его на выгон. Иногда она выпускала Туттисена из загона и водила его прогуляться. Ягненок бежал за ней так же неотступно и преданно, как Мосес полз следом за Чёрвен.
— Вот уж вправду цирк, — сказал Ниссе Гранквист, выйдя на крыльцо лавки и глядя, как прогуливаются Чёрвен и Стина, а за ними по пятам следуют Мосес и Туттисен. И, наклонившись, потрепал Боцмана: — А ты как поживаешь? Лежишь тут и горюешь, что нельзя тебе с ними играть?
Однажды, устроившись на крыльце, Стина и Чёрвен кормили своих животных и спорили, кто из них лучше.
— Тюлень — это ведь тюлень, — заявила Чёрвен, и этого Стина не могла отрицать.
— Но ягненок все же милее, — сказала Стина, а затем добавила: — Я думаю, Туттисен и Мосес — оба заколдованные принцы.
— Хм-м-м, — презрительно протянула Чёрвен, — я ведь говорила, что только лягушки бывают заколдованными принцами.
— Верно, ты говорила, верно, — подтвердила Стина.
Они молча сидели и думали. Где уж там обыкновенному ягненку с выгона Вестермана оказаться заколдованным принцем, но Моисей, которого нашли в рыбачьей сети, — это прямо как в сказке.
— Я думаю все же, — сказала Стина, — что Мосес — сынок морского короля, которого заколдовала злая фея.
— Не-а, он — мой маленький сынок, — возразила Чёрвен, прижав к себе Мосеса.
Подняв голову, Боцман посмотрел на них. И если правда то, что он мог думать, как человек, то, может, он подумал точь-в-точь как Пелле: «Пошли вы прочь вместе со своими заколдованными принцами!»
Неужто Малин не хочет жениться?
Снова вокруг нашего дома цветут наши яблони. Нежно-розовыми цветами заполняют они Столярову усадьбу и тихо роняют свои легкие, как снежинки, лепестки на тропинку, ведущую к нашему колодцу. Наши яблони, наш дом, наш колодец. Как это прекрасно! Нашего здесь нет ничего, но мне нравится об этом мечтать… И мечтать об этом необычайно легко. Год назад я еще не видела Столяровой усадьбы, а сейчас мне кажется, будто это мой родной дом. О, веселый столяр! Как я люблю тебя за то, что ты построил этот дом, если, конечно, дом этот — дело твоих рук, и за то, что ты посадил вокруг яблони. И за то, что нам здесь можно жить, и за то, что снова — лето. Хотя лето, ясно, не твоя заслуга.
— Как наши дела, папа? — оторвавшись от своего дневника, спросила Малин Мелькера. — Ты и на этот раз отличился и подписал контракт на целый год?
— Пока еще не подписал, — ответил Мелькер. — Я жду самого Маттссона, он обещал не сегодня-завтра заглянуть к нам.
В ожидании Маттссона Мелькерссоны готовили Столярову усадьбу к лету. Они сгребали лежалую прошлогоднюю листву, выбивали коврики и проветривали подушки и одеяла, скребли пол, мыли окна и вешали чистые занавески. Никлас надраил до блеска плиту, Юхан выкрасил кухонные скамейки в голубой цвет, Мелькер без малейшего кровопролития смастерил книжную полку и уставил ее разными книгами на все вкусы. Над побеленным очагом в общей комнате он развесил картинки, привезенные из города, Малин нарядила пухлую подушку на кухонном диване в новую ситцевую наволочку в красную полоску. Один Пелле расхаживал повсюду без дела и только любовался. Самую некрасивую и негодную мебель составили в сарай, где Пелле оборудовал себе скромную комнатку. Пусть старая мебель знает: она еще на что-то годна. И кроме того, он собирался пережидать в сарае вместе с Юкке дождь.
— Это своего рода творчество, — сказала Малин, оглядевшись в своем по-летнему нарядном доме. — Теперь сюда надо принести побольше цветов.
Она притащила из сарая старые кувшины для моченой брусники, принадлежавшие жене веселого столяра, обтерла пыль и поставила в них ветки сирени и цветущих диких яблонь. Потом она отправилась на выгон Янссона, где в буйном изобилии рос ландыш, и набрала полную охапку цветов. На обратном пути она встретила Чёрвен со Стиной. Оживленно болтая, они петляли меж берез. Увидев Малин, девочки смолкли и только любовно и с восхищением смотрели на нее. Ведь это была их Малин, такая хорошенькая с букетом ландышей в руках.
— Как невеста! — сказала Чёрвен.
У Стины загорелись глаза, а в голове мелькнула дорогая ей мысль, которую она уже давно лелеяла.
— Не собираешься ли ты замуж, Малин?
Чёрвен расхохоталась во все горло:
— Замуж — это еще что такое?
— Это когда женятся, — неуверенно ответила Стина.
Малин принялась их уверять, что со временем неплохо бы выйти замуж, но пока она еще слишком молода.
Чёрвен уставилась на нее, будто не веря своим ушам.
— Слишком молода! Это ты-то! Ты такая старая, что просто с ума сойти!
Малин расхохоталась:
— Сперва надо найти человека, чтобы был по душе, понятно вам?
И Чёрвен со Стиной пришлось согласиться, что с подходящими женихами на Сальткроке туговато.
— Но ты могла бы жениться на заколдованном принце, — горячо уговаривала Малин Стина.
— А есть такие? — спросила Малин.
— Их в канавах полным-полно, — ответила Стина. — Чёрвен говорит, что все лягушки — заколдованные принцы.
Чёрвен кивнула:
— Только поцелуешь одну, и — бах! — принц уже тут как тут!
— Да, выходит, совсем просто, — согласилась Малин. — Тогда я попробую подыскать себе кого-нибудь.
Чёрвен снова кивнула:
— Да-a, попробуй… пока не поздно. — И важно добавила: — Я, по крайней мере, женюсь, прежде чем стану старой каргой, которая в тягость себе и другим.
— На заколдованном принце? — спросила Малин.
— Не-а, на водопроводчике, — ответила Чёрвен. — Папа говорит, что они по нынешним временам чертовски хорошо зарабатывают.
Стина поспешила заверить, что ей тоже нужен водопроводчик.
— Потому что я хочу все точь-в-точь как у Чёрвен.
— Да уж, эти два водопроводчика не соскучатся с вами, — заметила Малин, направляясь в Столярову усадьбу. — Встретите заколдованного принца, скажите ему, что я поковыляла домой на своих дряхлых ногах.
И тогда Чёрвен и Стина, взявшись за руки, поскакали вслед за ней меж березками, распевая во все горло:
Без башмаков не выйти замуж, Посулила мне их мать, Если только вечерами Я не буду пропадать.Девочки решили нарвать ландышей, точь-в-точь как Малин, но не успели они приняться за дело, как случилось чудо: они нашли заколдованного принца для Малин. Подумать только, они нашли лягушку! Лягушка с задумчивым видом сидела у края канавы.
— Наверно, сидела и подкарауливала Малин, — сказала Чёрвен, зачарованно глядя на маленькую лягушку, судорожно бившуюся меж ее стиснутых ладошек. — Пошли скорее, найдем Малин, пусть она ее поцелует.
Но Малин куда-то исчезла. Девочки добежали с лягушкой до самой Столяровой усадьбы, но когда они пришли туда, дядя Мелькер сказал, что Малин только что ушла к Сёдерману купить салаки.
— Тогда пошли ко мне! — пригласила Стина.
Но и там Малин не оказалось. Она уже купила салаку и ушла.
— Сядем на пристани и подождем, — предложила Чёрвен. — Не придет Малин — пусть пеняет на себя. Эта лягушка начинает мне надоедать.
Но, как выяснилось, лягушке ничуть не меньше надоела Чёрвен, потому что, когда Чёрвен чуть-чуть приоткрыла ладошки, чтобы Стина взглянула на лягушку, та изловчилась и как можно дальше прыгнула на пристань. Она непременно свалилась бы в воду, если бы Стина не подхватила ее в последний момент на лету.
У причала пришвартовался чей-то парусник, но там никого не было видно — ни на борту, ни вообще нигде. Солнце припекало, Чёрвен было жарко и скучно: сиди тут и жди. Надолго у нее терпения не хватило, и она быстро нашла выход из положения.
— Знаешь что, — сказала она, — мы можем и сами поцеловать лягушку, и-эх! Принц все равно явится, понимаешь, и тогда мы сведем его к Малин. А там уж пусть сам хоть немножко постарается.
Стине это предложение показалось разумным. Правда, не очень-то приятно целовать лягушек, но чего не сделаешь ради Малин. Лягушке же затея с поцелуями пришлась не по вкусу. Она вырывалась, но Чёрвен крепко держала ее в руках. Стина, вздохнув, заморгала.
— Давай! — велела Чёрвен.
И Стина послушалась. Она поцеловала лягушку. Но несчастное создание не желало превращаться в принца.
— Эх ты, давай я! — сказала Чёрвен.
Еще с большим жаром поцеловала она лягушку, но и у нее ничего не вышло. В ее руках по-прежнему судорожно билась та же самая лягушка.
— Глупый принц, — в сердцах сказала Чёрвен, — он не хочет превращаться. Катись отсюда!
Она посадила лягушку на пристань, и та, радуясь своей неожиданной свободе, прыгнула с мостков прямо на парусник. Бах!
Попробуйте-ка сказать, что лягушки не заколдованные принцы.
Бах! И он тут как тут! Точно в сказке. Вынырнув из рубки, он прыгнул на пристань и предстал перед Чёрвен и Стиной с крохотным щенком на руках.
Подумать только, принц! Чёрвен и Стина смотрели на него во все глаза. Одеждой он не походил на принца: на нем была самая обыкновенная куртка, обыкновенный свитер и обыкновенные синие брюки. Но в остальном это был настоящий принц — глаза синие, зубы белые, а волосы светло-золотистые, покрывавшие его голову, точно шлем. Да, он был под стать Малин!
— А я думала, что он будет хотя бы с короной на голове, — разочарованно прошептала Стина.
Не сводя глаз с принца, Чёрвен объяснила:
— Он носит ее, видно, только по воскресеньям. Ой, ну и обрадуется же Малин!
Чёрвен вдруг вспомнила о Пелле. Он-то не обрадуется их затее. Ну и разозлится же он, когда узнает, что они добыли принца для его сестренки. Вот тебе на! Прямо на них с холма к пристани несся Пелле, а следом бежала Малин. У Чёрвен мурашки забегали по коже, и она шепнула Стине:
— Ой, что будет!
Они обе вытаращили глаза. Ведь не каждый день увидишь, как Малин встречается с принцем.
Принцу понравилась Малин — это сразу было видно. Он смотрел на нее, как на невиданное чудо. Чёрвен и Стина переглянулись. Они были довольны. Принц даже онемел от восторга. Можно было подумать, это их заслуга, что Малин такая милая и волосы у нее золотые, а платье так ей к лицу.
Но вот принц, кажется, решился заговорить.
— Сейчас начнет свататься, — шепнула Чёрвен.
Но принц был осторожен.
— Я слыхал, что здесь, на Сальткроке, есть лавка, — сказал он. — Быть может, вы знаете, где?..
Да, Малин знала, где лавка, и как раз она шла туда; если он хочет пойти с ней, она покажет дорогу.
— А я мог бы пока присмотреть за щенком, — предложил Пелле.
Конечно, заколдованные принцы — это дело одно, а вот заколдованный принц с таким славным коричневым щенком — совсем другое дело. С таким принцем еще можно мириться. Кроме того, Пелле не знал, что это был заколдованный принц.
— Он думает, что это обыкновенный парень, — шепнула Чёрвен Стине. — Не скажем ему, что мы натворили.
Им все же казалось, что они чуточку предали Пелле. Чёрвен виновато смотрела на него, но он этого не замечал. Он видел только крохотного коричневого щенка.
— Как его зовут? — живо спросил Пелле.
— Его зовут Юм-Юм, — ответил принц, — а меня Петер Мальм.
Последние слова предназначались для Малин.
— Петер… вот тебе и раз. Ну и имечко для принца, — прошептала Чёрвен, взяв Стину за руку. — Пойдем за ними, посмотрим, что из этого выйдет!
Принц оставил щенка на попечение Пелле.
— Ты уж позаботься о Юм-Юме без меня, — ласково попросил он.
Не успел Пелле рта раскрыть, как за него ответила Малин:
— Ручаюсь, уж он-то позаботится!
И Малин ушла со своим принцем. Чёрвен и Стина, хихикая, побежали следом за ними в лавку и там, к своему величайшему удивлению, увидели, что принц покупает у Мэрты полкило кровяной колбасы.
— Неужто принц станет есть кровяную колбасу? — изумленно прошептала Стина.
— Не-а, это, наверно, для его поросят в замке, — объяснила Чёрвен.
Они держались все время поближе к Малин, чтобы не пропустить ни единого слова. Принц явно не отходил от нее ни на шаг.
Малин и Петер еще долго слонялись возле лавки и без умолку болтали. Петер рассказал, что снял на лето маленький домик у Эстермана на Большом острове, а теперь вот взял напрокат парусник, чтобы покататься по заливу. Еще он сказал, что скоро снова приедет на Сальткроку, потому что здесь отличная лавка.
— Отличная лавка, ха-ха-ха! — сказала Чёрвен Стине. — И отличная Малин, да?
Наконец Малин заторопилась домой. Ушел и принц. Пятясь назад, чтобы подольше видеть ее, он крикнул, размахивая бумажной сумкой:
— Ну, я поехал со своим провиантом. Но я снова вернусь, лишь только разделаюсь с ним, а на аппетит я не жалуюсь. Встречай меня на причале такая же милая, как сегодня, очень тебя прошу!
— Слыхала? — прошептала Чёрвен. — Вот так принцы и заливают, понимаешь?!
— У нас в колодце прибавилась еще одна лягушка, — рассказывал Пелле сестре, ложась вечером спать. — Я нашел ее на паруснике у Петера, и он велел забрать ее, потому что лягушки не выносят морского плавания. Он знает про это не хуже меня. — Пелле выпрямился в постели и горячо продолжал: — Он любит животных не меньше, чем я. И он — ученый, постоянно возится с животными и знает про них все на свете. Я тоже стану таким, когда вырасту.
Пелле, который раньше никем не хотел стать, неожиданно для себя открыл, что на свете есть настоящая профессия для тех, кто хочет все знать про животных. Казалось, он выбрался из кромешной тьмы на залитый солнцем простор. Потому что Пелле, семи лет от роду, уже опасался за свое будущее. Что станет с ним, когда он вырастет? Чем он будет заниматься? А теперь все прояснилось, и ему стало легче.
— Знаешь, у Петера интересная работа, — объяснял он Малин. — Угадай, что он сделал, например? Он прикрепил маленькие радиопередатчики к тюленям, чтобы узнать, как они ведут себя под водой, куда они плавают и все такое. Здорово… верно? — Внезапно он обхватил руками шею Малин. — О Малин, если бы мне собаку! С Юкке очень интересно, но он все время сидит в своей клетке. Представляешь, был бы у меня щенок, как Юм-Юм. Он бы бегал за мной по пятам.
— Я бы тоже хотела, чтобы у тебя была собака, — сказала Малин. — Но пока ничего не поделаешь, и радуйся, что у тебя есть Юкке.
— И Боцман, и Туттисен, и Мосес, — добавил Пелле.
Пелле по-прежнему считал, что Боцман — лучшая собака в мире, и, когда он приехал в этот раз на остров, Боцман встретил его радостным лаем. Он тоже считал, что Пелле лучший мальчик в мире, и теперь неотступно повсюду следовал за ним. Иногда к Боцману присоединялся Мосес, а иногда еще и Туттисен. Пелле расхаживал, как укротитель зверей, не знающий себе равных, и когда Чёрвен увидела это зрелище, ей стало не по себе. Не потому, что Мосес следовал за Пелле, а потому, что за ним ходил и Боцман. Тогда, обхватив шею Боцмана руками, она закружилась вместе с ним, приговаривая:
— Ах ты, песик ты мой паршивенький!
А Боцман смотрел на Чёрвен так, словно думал: «Ах ты, оса ты этакая, ничего мне больше не надо!»
И Боцман тут же отстал от Пелле, чтобы снова бегать следом за Чёрвен. До тех пор, пока не приполз этот Мосес и не втиснулся между ними.
Мосес уже совсем потерял совесть. Даже Чёрвен казалось порой, что он становится ей в тягость. Однажды вечером она сглупила, взяв его к себе в кровать, и с тех пор он больше не хотел спать в своем ящике, а только в ногах у Чёрвен. Она спихивала его вниз, но это не помогало, он снова упрямо влезал на кровать, а Чёрвен не менее упрямо снова сталкивала его вниз.
— Всю ночь мы только и делаем, что пихаемся, — жаловалась Чёрвен, а ее мать неодобрительно качала головой и говорила:
— Не надо было брать этого тюленя в наш дом!
Теперь Мосесу нравилось плавать в своем пруду, а после того как Юхан, Никлас, Тедди и Фредди обнесли пруд изгородью, Чёрвен могла запирать там Мосеса, если ей почему-либо хотелось побыть одной, без тюлененка, ползущего за нею следом.
Но Мосес по-прежнему отнимал у нее массу времени, требуя внимания и любви. А когда она играла и возилась с тюлененком, Боцман уходил прочь и ложился у крыльца лавки. В особенности если поблизости не было Пелле. В особенности если Пелле сидел внизу на пристани и играл с Юм-Юмом… а это случалось довольно часто.
Если живешь на Большом острове и очень любишь кровяную колбасу, то поневоле приходится ездить на Сальткроку. Туда приходится ездить чуть ли не каждый день, потому что там лавка. И если всякий раз с тобой крохотный коричневый щенок, то стоит лишь причалить к пристани, как тут же прибегает Пелле Мелькерссон поиграть с Юм-Юмом. А когда Пелле Мелькерссон играет со щенком, он охотно отвечает на все вопросы, даже не замечая, что он на них отвечает.
Можно, например, спросить: «Куда ты нынче девал Малин?» И услышать ответ Пелле Мелькерссона: «Она сидит дома на крыльце и чистит салаку».
Или: «Она пошла к Сорочьему мысу купаться с Тедди и Фредди».
Или: «Наверное, она в лавке».
А раз узнаешь все, что тебе надо, то оставляешь своего щенка на попечение Пелле Мелькерссона, и поспешно пускаешься в путь, и совершенно случайно встречаешься с Малин, и всякий раз чуть больше знакомишься с нею. И чуть больше влюбляешься в нее. Больше влюбляешься? Разве это возможно? Разве это чувство не поразило тебя, как молния, с самого первого взгляда, когда ты впервые увидел ее на пристани? Она или никто!
Однажды в июне, в среду, эту запомнившуюся на всю жизнь среду, Петер Мальм нашел Малин в сальткроковской лавке. Но он нашел не только ее, но и тюленя. В самом деле, на полу, играя с двумя маленькими девочками, ползал маленький тюлененок. Стало быть, Пелле Мелькерссон не хвастался, уверяя, что у них на Сальткроке есть ручной тюлень.
В лавке было полно народу, и Мосес очень веселился. Он хватал за штанины всех, кто попадался ему на пути; особенно доставалось брючкам Чёрвен, и она, заливаясь смехом, отбрыкивалась изо всех сил:
— Отстань, Мосес, а то мама скажет, что тебя нельзя выпускать на волю.
— Твой тюлень? — с улыбкой спросил Петер.
— А то чей же, — ответила Чёрвен.
— А ты не хотела бы его продать, а?
— Ни за что на свете, — сказала Чёрвен. — А на что тебе тюлень?
— Не мне, — возразил Петер, — а моему институту.
— Ституту, — повторила Чёрвен; да, ничего себе словечки у принцев.
— Зоологическому институту, где я работаю, — пояснил принц.
Но Чёрвен так и не поняла, что это значит.
— «Работаю», — сказала она потом Стине, передразнивая Петера. — Врет так, что уши вянут. Принцы не работают. Хочет втереть Малин очки, будто он самый обыкновенный парень.
Петер погладил Мосеса.
— Хорошо с ним играть, — сказал он.
И он стал играть с Мосесом и играл до тех пор, пока не пришло время уходить из лавки. К этому времени Малин как раз закончила свои покупки.
— Я помогу тебе снести корзинку в Столярову усадьбу, даже если ты не угостишь меня чаем, — сказал он Малин.
— Так и быть, угощу тебя чаем, — согласилась Малин. — Я очень добрая. Только проводи меня домой. Очень уж корзинка тяжелая!
Но тут из лавки вышел Калле Вестерман и позвал Петера.
— Эй, господин хороший, — сказал он. — Можно тебя на пару слов?
Услышав грубоватый, несколько вызывающий голос, Петер обернулся. Перед ним стоял коренастый, чуть диковатого вида человек.
— Что вам угодно? — удивленно спросил Петер.
Вестерман потянул его в сторону, чтобы не слышала Малин.
— Да вот что, слыхал я в лавке, ты хотел купить этого тюленя, — вкрадчиво сказал Вестерман. — Ежели по правде, так тюлень этот мой. Я нашел его в шхерах. Сколько дашь за него?
Он подошел вплотную к Петеру и заискивающе уставился ему прямо в лицо. Петер отшатнулся. Сейчас его не интересовали никакие торговые сделки. Сейчас его интересовала только Малин, и он быстро сказал:
— М-да, может, сотни две… Но цену назначаю не я. И вообще сперва надо выяснить, кто в самом деле хозяин тюленя.
— Я же сказал — я! — крикнул ему вслед Вестерман. — Я, я!
То же самое он сказал и Чёрвен, когда та вместе со Стиной вскоре вышла из лавки, а следом за ними выполз Мосес.
— Послушай-ка, я хочу взять назад моего тюленя, — сказал Вестерман.
Чёрвен смотрела на него, не понимая.
— Твоего тюленя? Ты это о чем?
Чтобы скрыть свое смущение, Вестерман выразительно сплюнул.
— О том! Поиграла с ним, и хватит. Тюлень мой, и я надумал его продать.
— Продать Мосеса, да ты в своем уме? — закричала Чёрвен.
Вестерман стал ей объяснять. Разве он не предупреждал ее, что тюлененок будет у нее, пока не вырастет и пока не будет от него какой-нибудь прок?
— Давай проваливай! Врешь ты все! — закричала Чёрвен. — Ты сказал, что отдашь его мне насовсем. Сказал. Разве нет?
Быть может, где-то в глубине своей жадной, прижимистой души Вестерман и усовестился, но от этого стал еще настырней.
— Не хватает еще спрашивать у тебя разрешения продать своего собственного тюленя, — сказал он. — Продать его нужно, и все тут.
Ведь ему до зарезу нужны деньги, а если Чёрвен не образумится, придется поговорить с ее отцом.
— Это я и без тебя сделаю, — кричала, горько плача, Чёрвен.
— Дурной ты, — сказала Стина, топнув маленькой худенькой ножкой.
Уходя, Вестерман сказал:
— Вот погодите, я поговорю с Ниссе.
Чёрвен задыхалась от злости.
— Ни за что на свете! — кричала она. — Ни за что на свете не видать тебе Мосеса! — И она побежала, бросив на ходу: — Идем, Стина, надо найти Пелле.
Поговорить с папой и мамой сразу она не могла: в лавке было полно народу. А Чёрвен знала, что в беде можно довериться только Пелле. Надо немедленно ему сообщить, что им угрожает.
Услыхав ужасную новость, Пелле мрачно покачал головой.
— Никакие разговоры с папой не помогут, — сказал он. — Ты ведь не можешь доказать, что Вестерман отдал тебе Мосеса насовсем. А раз так, дядя Ниссе не будет знать, что делать.
В разговор вмешалась Стина:
— Тогда надо пойти и спросить Мэрту.
Но Пелле снова покачал головой.
— Есть только один выход, — сказал он, — спрятать Мосеса там, где Вестерману его ни за что не найти.
— Где же, например? — спросила Чёрвен.
Пелле немножко подумал, и вдруг его осенило.
— В Мертвом заливе, — сказал он.
Чёрвен восхищенно посмотрела на него.
— Пелле, знаешь что, — сказала она, — лучше тебя никто не придумает.
Пелле был прав, ясно же, он был прав. Маму с папой нечего вмешивать в это дело. И если Вестерман придет к ним и спросит, где Мосес, они с чистой совестью ответят:
— Мы не знаем, где он. Ищи его сам!
А найти его Вестерману будет трудно. Ох как трудно!
В прежние времена, может, много сотен лет назад, поселок на Сальткроке находился не на своем нынешнем месте, а у залива на западном берегу острова… Теперь от прежнего поселка не осталось ничего, кроме лодочных сараев. Целая вереница древних, почерневших от времени сараев окаймляла маленький залив, у причалов которого некогда пришвартовывались рыбачьи лодки и парусные шхуны и где усердные рыбаки, прадеды нынешних сальткроковцев, на голых прибрежных скалах развешивали сушить сети. Теперь там не было ни лодок, ни шхун, если не считать одной старой брошенной шхуны, которая нашла в заливе свое последнее прибежище. «Мертвый залив» — так называли его дети.
И залив в самом деле казался молчаливым и мертвым. Удивительная тишина стояла в этих местах, и сюда во время своих одиноких прогулок нередко заходил Пелле. Прислонившись спиной к нагретой солнцем стене сарая, он мог сидеть часами, глядя, как над мостками порхают стрекозы, и считать круги на воде, когда какой-нибудь окунь, резвясь, рябил зеркальную поверхность.
Пелле приходил к Мертвому заливу мирно помечтать и побыть одному. Но были и такие люди, которые находили тамошнюю тишину зловещей, чуть ли не загробной. Там можно было вообразить, что в сумрачных углах покинутых сараев скрыты самые мрачные тайны. И редко кто-нибудь из людей забредал туда. Никто не станет искать там Мосеса. В лодочном сарае на берегу Мертвого залива он будет спрятан надежно.
У Чёрвен была небольшая тележка, куда она сажала Мосеса, отправляясь с ним в дальний путь, или же если у нее не хватало терпения ждать, пока он поспеет за ней. А сейчас путь предстоял дальний. Поэтому Моисея погрузили в тележку вместе с ящиком, в котором он спал. Туда же положили и запас салаки, которую Стине удалось выпросить у дедушки.
Четверка заговорщиков, гонявших футбольный мяч за Столяровой усадьбой, увидела эту процессию, и Тедди закричала Чёрвен:
— Вы куда собрались?
— Немного погулять, — объяснила Чёрвен. — Нет, Боцман, ты лучше оставайся дома, — сказала она прибежавшему псу, который пожелал ее сопровождать.
«Погулять» обычно означало долго ходить по лесам и полям, а от этого Боцман отказаться не мог.
Когда Чёрвен велела ему оставаться дома, он застыл на месте точно вкопанный. Он долго стоял, глядя вслед Чёрвен, Пелле, Стине и Мосесу в тележке. Потом, повернувшись, побрел назад и улегся на свое обычное место у крыльца, положив голову на лапы. Казалось, он спал.
Полузаросшая старая дорога петляла к Мертвому заливу. Примерно на полпути туда стоял дом Вестермана, и, поскольку идти в обход с тележкой было трудно, им пришлось пройти мимо него с Мосесом — не очень-то приятно, но неизбежно.
— Если он нас увидит, пиши пропало, — сказала Чёрвен, когда они очутились у самой калитки Вестермана. — Он сразу отберет Мосеса. Кора, миленькая, ты не можешь помолчать?
Последние слова относились к охотничьей собаке Вестермана, лаявшей у забора. Не хватало только, чтобы Вестерман вышел посмотреть, на кого лаяла Кора.
— Да, тогда пиши пропало! — повторила Стина.
Но Вестерман не показывался. Спиной к ним стояла его жена и развешивала белье на веревке. Но, к счастью, на затылке у нее глаз не было. Дети миновали и выгон Вестермана, где дедушка Стины держал своих овец, и Стина крикнула Туттисена. Ягненок тут же прибежал, думая, что его зовут кормиться.
— Не-а, я хотела только поздороваться с тобой и посмотреть, как ты живешь, — сказала Стина.
Мосесу тоже жилось хорошо. Всю дорогу к Мертвому заливу он ехал такой довольный, думая, видимо, что его везут покататься. Но когда его неожиданно вместе с ящиком запихнули в какой-то совершенно незнакомый сарай, он почуял что-то неладное, а не в его нраве было безропотно мириться с этим. Его злобные крики тотчас жутко прозвучали в безлюдной глуши вокруг Мертвого залива.
— Мосес, ты орешь так, что на весь остров слышно, — упрекнул тюлененка Пелле.
Сидя на корточках вокруг тюлененка в темном лодочном сарае, дети втроем ублажали его, внушая, что все это ему же на пользу.
— Это ненадолго, понимаешь, — сказала Чёрвен. — Все как-нибудь уладится, и тогда ты снова вернешься домой.
Как все уладится, ума не приложить. Но Чёрвен знала: обычно всякие трудности рано или поздно улаживаются, и она надеялась, что и на этот раз все обойдется.
Набив рот салакой, Мосес потихоньку успокоился в своем ящике.
— Лучшего сарая ты и не видел, — уговаривала тюлененка Чёрвен. — Здесь тебе будет неплохо.
— Хотя тут противно, — с дрожью в голосе добавила Стина. — Я почти уверена, что тут водятся привидения.
В лодочном сарае чуть брезжил какой-то странный, тусклый свет, который смущал девочку. Но через щелки в рассохшихся стенах пробивались косые лучи солнца, и было слышно, как журчит вода.
— Я выйду на минутку, — сказала Стина, отворив тяжелую дверь, которая пронзительно заскрипела на своих заржавленных петлях.
И она куда-то исчезла.
Если Стине в сарае было не по себе, то Пелле, наоборот, испытывал удовольствие и чувствовал себя как дома.
— Вот бы самому здесь пожить, — сказал он, окинув взглядом старый хлам, брошенный последним владельцем в сарае.
Там валялись драные рыбачьи сети и прохудившийся садок для рыбы, почерневшие от времени, несколько чучел для охоты на птиц, ломы, черпаки, весла и деревянные корыта, заржавелый якорь и допотопные финские сани с деревянными полозьями, а в дальнем углу стояла старинная люлька с вырезанным на стенке именем и датой. Пелле прочитал по складам надпись: «Малышка Анна». А даты он не разобрал.
— Верно, много лет прошло с тех пор, как малышка Анна лежала в этой люльке, — сказал он.
— А где сейчас малышка Анна, как ты думаешь? — спросила Чёрвен.
Пелле задумался. Он долго стоял, уставившись на старую люльку, и думал о малышке Анне.
— Наверно, умерла, — тихо ответил он.
— He-а, не хочу про это… это очень грустно, — сказала Чёрвен. — Ох-хо-хо-хо, — вздохнула она и запела:
Мир — это остров печали, Не успел свой век прожить, Тут и смерть пришла, Поминай как звали!Распахнув дверь, Пелле ринулся на солнце. Чёрвен поспешила за ним, торопливо попрощавшись с Мосесом и торжественно пообещав каждый день навещать его и приносить салаку.
В лучах послеполуденного солнца безмолвно дремал Мертвый залив. Пелле глубоко вздохнул. А потом словно бес в него вселился. Испуская дикие вопли, он кинулся бежать. Он носился из сарая в сарай, от одной пристани к другой, будто за ним гнались; он прыгал по прогнившим мосткам причалов и трухлявым бревнам, так что Чёрвен даже перепугалась. Но и она не отставала от него, сломя голову перебегая по шатким половицам в полумраке крытых пристаней, где тускло поблескивала, плескаясь о сваи, черная вода. Пелле скакал, словно одержимый, не произнося ни слова. Чёрвен тоже молчала, потому что ей было страшно, но она по-прежнему не задумываясь следовала за ним.
Потом, совсем запыхавшись, они уселись на мостках, залитых солнцем, и Пелле спросил:
— А где Стина?
Тут они вспомнили, что уже давно ее не видели, и закричали хором:
— Стина!
Никакого ответа. Тогда они принялись ее искать; они искали и кричали, а эхо разносило их голоса над Мертвым заливом и медленно замирало вдали. И снова наступала жуткая тишина.
У Пелле от волнения побелел нос. Что случилось со Стиной?
А что, если она свалилась с какого-нибудь причала?.. Или утонула? Малышка Стина и малышка Анна… Все ведь смертны — он это знал.
— И почему я не взяла с собой Боцмана?! — со слезами на глазах сказала Чёрвен.
Они стояли, терзаясь страхом, как вдруг услыхали голос Стины:
— Угадайте, где я?
Им не пришлось долго гадать. Они увидели ее. Она сидела в «вороньем гнезде»[14] на мачте старой шхуны. Как ей удалось забраться туда? Чёрвен страшно разозлилась и, со злостью вытирая слезы, закричала:
— Несчастный ребенок! Что ты там делаешь наверху?
— Никак не слезть, — жалобно пропищала Стина.
— Ты за этим, что ли, карабкалась наверх? — спросил Пелле.
— Нет, посмотреть вокруг, — ответила Стина.
— Ну и смотри теперь, — разозлилась Чёрвен.
Что за ребенок! Лазает по мачтам и любуется морем. А они-то думали, что она давно лежит на дне морском. Здорово, конечно, что она не утонула, но не мешает ее проучить.
— Ты что, не слыхала, как мы кричали? — сердито спросила Чёрвен.
Стине стало совестно. Ясное дело, она слыхала, но уж больно забавно было смотреть, как они ее искали и не могли найти. Стина просто-напросто играла в прятки, хотя ни Пелле, ни Чёрвен об этом не знали. Но теперь поняла: веселью настал конец!
— Мне никак не слезть! — закричала она.
Чёрвен угрюмо кивнула:
— Да?! Ну и сиди там. Когда принесем салаку Мосесу, привяжем несколько рыбешек на удочку и протянем тебе.
Стина заплакала:
— Не надо мне вашей салаки, хочу вниз, а мне никак.
Над Стиной сжалился Пелле, хотя ему пришлось нелегко. Влезть на верхушку оказалось для него пустяковым делом, но, взобравшись, он хорошо понял, что такое «хочу вниз, а мне никак». Спуститься вниз было почти что сверх сил. Но, крепко обхватив Стину за талию и зажмурившись, он все же стал потихоньку спускаться вместе с ней, торжественно клянясь никогда не забираться выше кухонного стола.
Стоило Стине снова очутиться на причале, как она, по своему обыкновению, весело затараторила.
— Ну и вид оттуда сверху! — как ни в чем не бывало сказала она Чёрвен.
Вместо ответа Чёрвен смерила ее уничтожающим взглядом, а Пелле сказал:
— Пошли скорее домой, скоро шесть.
— Не-а, не может быть, — возразила Стина. — Я обещала дедушке быть дома в четыре часа, а я еще не дома.
— Пеняй на себя! — сказала Чёрвен.
— Хотя вряд ли дедушка заметит — подумаешь, два часа больше или меньше, — в утешение себе сказала Стина.
Но она ошиблась. Сёдерман был как раз на овечьем выгоне. Он поил своих бяшек свежей водой из корытца и, увидев семенящую мелкими шажками Стину, спросил:
— Ну и ну! Ты что это делала целый день?
— Ничего особенного, — ответила Стина.
Сёдерман был совсем не строгий. Он только покачал головой:
— Сдается мне, у тебя хватило времени ничего не делать.
Когда Чёрвен подошла к дому, она увидела у пристани своего отца и помчалась к нему со всех ног.
— Никак, моя Чёрвен пожаловала наконец-то, — сказал Ниссе. — Что же ты делала целый день?
— Ничего особенного, — ответила Чёрвен точь-в-точь как Стина.
Точно такой же ответ получила и Малин от Пелле. Он вошел в кухню, когда вся семья уже сидела за обеденным столом.
— He-а, ничего особенного я не делал, — сказал Пелле.
И он не кривил душой.
В семь лет часто подвергаешься опасностям. В таинственной и буйной стране детства часто ходишь на краю опасной пропасти и думаешь, что в этом нет «ничего особенного».
Увидев на столе жареную рыбу со шпинатом, Пелле нахмурился.
— Не хочется что-то есть! — сказал он.
Но Юхан предостерегающе поднял указательный палец:
— Попробуй только не съесть шпинат! Мы тут все друг за дружку! Ведь обед готовил сам папа. А Малин сидела и болтала со своим новым шейхом.
— Битых три часа, — добавил Никлас.
— Ну хватит, — сказал Мелькер. — Оставьте-ка Малин в покое.
Но Никлас не унимался:
— О чем только можно болтать битых три часа?
— Токуют, как глухари! — съязвил Юхан.
Улыбнувшись, Малин потрепала Юхана по плечу.
— Он совсем не «шейх», и вовсе мы не токовали, как глухари, — чего нет, того нет. Но он находит, что я хорошенькая, вот вам.
— Конечно, ты хорошенькая, милая ты моя Малин, — сказал Мелькер. — Все девушки такие.
Малин покачала головой:
— Вовсе не все — так считает Петер. Он говорит, что если бы современные девушки знали, что им больше идет, то они постарались бы быть более хорошенькими.
— Тогда надо им об этом сказать, — заметил Никлас. — Будь хорошенькой, не то я тебя стукну.
Взглянув на него, Малин рассмеялась.
— Да, весело будет твоей девушке, когда ты станешь постарше. Ешь, Пелле, — сказала она.
Пелле влюбленными глазами посмотрел на отца:
— Ты и вправду приготовил обед, папа? Какой ты молодец!
— Да, я стряпал его совершенно самостоятельно, — объявил Мелькер и, будто настоящая хозяйка, сложил бантиком губы.
— А ты не мог состряпать что-нибудь другое вместо шпината? — спросил Пелле и наморщил нос.
— Вот что, мальчуган, — сказал Мелькер. — На свете есть такие вещества, которые называются витаминами. Слыхал о них, а? А, В, С, D — словом, весь алфавит. Без низ нельзя, понимаешь?
— Интересно, какие витамины в шпинате? — спросил любознательный Никлас.
Мелькер не мог вспомнить.
Пелле, взглянув на зеленую кашу в своей тарелке, сказал:
— По-моему, это не витамины, а дерьмо.
Юхан и Никлас засмеялись, а Малин строго сказала:
— Как ты смеешь, Пелле? Чтоб в нашем доме таких слов я не слыхала!
Пелле замолчал. Но, придя после обеда к своему кролику с огромной охапкой листьев одуванчика, он назидательно сказал:
— Ешь, это тебе не дерьмо, а витамины, можешь мне поверить.
Пелле вытащил Юкке из клетки и долго сидел, держа его на руках. Вдруг он услыхал, как Малин вышла на крыльцо и крикнула отцу такое, от чего ему стало горько на душе:
— Папа, я ухожу! Меня ждет Петер! Ты присмотришь за Пелле, чтобы он вовремя лег спать?
Пелле быстро сунул Юкке обратно в клетку, вскочил на ноги и бросился вслед за Малин.
— Тебя не будет дома и ты не пожелаешь мне спокойной ночи, когда я лягу? — взволнованно спросил он.
Малин остановилась в нерешительности. Отпуск у Петера кончался, это был его последний вечер в шхерах, а потом, быть может, она никогда его больше не увидит. Даже ради Пелле она не могла нынче вечером остаться дома.
— Я могу пожелать тебе спокойной ночи сейчас, — сказала она.
— Не-е, совсем не можешь, — с горечью сказал Пелле.
— Могу, если очень захочу.
Она горячо поцеловала его в лоб, в глаза, в уши и в мягкие каштановые волосы.
— Спокойной ночи, спокойной ночи, спокойной ночи, видишь, я могу, — сказала она.
Пелле улыбнулся, а потом строго сказал:
— Смотри, возвращайся домой не слишком поздно.
Петер сидел на берегу у пристани и ждал, и наконец дождался, что его тоже поцеловали. Правда, не Малин.
Чёрвен и Стина увидели его, прогуливаясь перед сном с кукольной коляской и Лувисой. И когда Чёрвен вновь увидела заколдованного принца, ее охватил священный гнев. Разве не он виноват в том, что Мосес томится в одиночестве, в лодочном сарае у Мертвого залива? Когда они со Стиной превращали лягушку в принца, они и думать не думали, что он станет шататься по острову и скупать тюленей.
— Дура ты, — сказала она Стине. — И как это тебе взбрело в голову, что нам обязательно надо поцеловать лягушку?
— Мне?! — удивилась Стина. — Это тебе взбрело в голову.
— А вот и нет! — заявила Чёрвен.
Она осуждающе смотрела на принца, которого они со Стиной раздобыли для Малин. Вид у него был отличный. Темно-синяя куртка очень шла к его светлым золотистым волосам. Но это его личное дело, какой у него вид. Одни неприятности из-за него, да и только.
Чёрвен задумалась. Она привыкла находить выход из трудных положений.
— А что, если… — начала она. — Нет, ничего, видно, не выйдет.
— Что не выйдет? — спросила Стина.
— А что, если поцеловать его еще раз? Может, он тогда снова обернется лягушкой, кто его знает?
Петер сидел на берегу, не подозревая, какая ему угрожает опасность. Он зорко следил за Столяровой усадьбой, поджидая, когда же, наконец, выйдет Малин. Только это интересовало его в ту минуту. Двух маленьких девочек, которых он часто встречал в лавке, он увидел лишь, когда они оказались возле него на пристани.
— Не шевелись и зажмурься на минутку, — сказала та, которую звали Чёрвен.
Петер рассмеялся:
— В чем дело… какая это игра?
— Не скажем, — резко ответила Чёрвен. — Зажмурься, кому говорю, зажмурься.
Принц послушно зажмурился, и они со злостью поцеловали его — сперва Чёрвен, а за ней Стина. А потом бросились наутек. Только отбежав на почтительное расстояние, они остановились у лодочного причала.
— Да, так нам и надо! — разочарованно сказала Чёрвен. И крикнула во весь голос принцу, не желавшему превращаться в лягушку: — Катись ты!
Да, Петер правду говорил. Современные девушки и девочки вовсе не так милы, какими бы им следовало быть.
Петер удивленно смотрел вслед двум маленьким злючкам, которые поцеловали его. Но тут он увидел Малин, такую же прелестную, как в тот июньский вечер, и на мгновение зажмурился.
— Ты чего жмуришься? — спросила Малин, щелкнув его по носу.
Открыв глаза, он со вздохом сказал:
— Военная хитрость. Я думал, может, здесь, на Сальткроке, есть такой обычай: стоит тебе зажмуриться, как тебя поцелуют.
— Ты в своем уме? — спросила Малин.
Но не успел он поподробнее объяснить, что с ним произошло, как Чёрвен, стоявшая у лодочного сарая, крикнула:
— Малин, знаешь что? Держись от него подальше! Он ведь не человек, а всего-навсего лягушка!
В тот вечер Боцман снова улегся на своем коврике у кровати Чёрвен. И когда все пришли, как обычно, пожелать спокойной ночи самой младшей в семье, Чёрвен рассказала, почему исчез Мосес и какой прохвост этот Вестерман.
— Он точь-в-точь как тот фараон египетский, — сказала Чёрвен. — Помнишь, Фредди?
— Мосес? Куда ты спрятала своего Мосеса? — захотели узнать Тедди с Фредди.
— Это секрет, — ответила Чёрвен.
Вот вам, засекреченные Тедди с Фредди! Не у вас одних секреты!
— Все тайна, — сказала Чёрвен. — И вам никогда, никогда не узнать, где спрятан Мосес.
У Ниссе был озабоченный вид.
— Дело с Вестерманом надо как-нибудь уладить, — сказал он. Почесав Боцмана за ухом, он добавил: — А уж Боцман-то радешенек, что Мосеса нет!
Свесившись с кровати, Чёрвен заглянула Боцману в глаза.
— Ну, песик мой паршивенький, — нежно сказала она, — давай спать!
Но, видимо, счастье было слишком велико, и Боцман потерял покой. Он то и дело просыпался, а часов около двенадцати ночи разбудил Чёрвен и попросился на улицу.
Сонная, она отворила ему дверь.
— Что с тобой, Боцман? — пробормотала она.
Едва дотащившись до кровати, она тотчас заснула.
А Боцман ушел бродить этой июньской ночью, которая своим блеклым призрачным светом будоражит и людей, и животных. Малин видела и когда он вышел из дома, и когда он два часа спустя возвращался обратно. Она стояла у калитки Столяровой усадьбы и прощалась с Петером. Порой такое прощание может длиться и два часа. Как уверял ее Петер, июньские ночи не располагают ко сну. Они ведь так коротки, а надо успеть столько сказать друг другу.
— Да, я встречал многих девушек, — рассказывал Петер, — и некоторые мне нравились. Но влюбляться всерьез так, чтобы ради любви пойти на смерть… такое случалось со мной только раз в жизни.
— Может, ты все еще любишь ее? — спросила Малин.
— Конечно, я все еще люблю ее.
— И давно? — продолжала расспрашивать Малин; в голосе ее послышалось разочарование и беспокойство.
— Дай-ка сосчитаю. — Взглянув на часы, Петер начала тихонько считать: — С тех пор прошло ровно десять дней, двенадцать часов и двадцать минут. Бац — и дело в шляпе. Если хочешь, можешь прочитать об этом в моем судовом журнале. Там написано: «Сегодня Петер встретил Малин». Больше там ничего не написано, да и ни к чему.
Малин улыбнулась:
— Но раз все так быстро случилось, то, может, ненадолго. Бац… и конец!
Он серьезно посмотрел на нее:
— Малин, я верный парень, можешь на меня положиться!
— Ты верный? — переспросила Малин.
В этот миг издалека донесся приглушенный собачий лай, и Малин пробормотала:
— Что это с Боцманом?
Июньская ночь или не июньская, но нельзя же вечно торчать у калитки. Под конец ноги прямо-таки подкашиваются. Петер поцеловал Малин, и она медленно пошла к дому. А он все стоял, глядя ей вслед. Она обернулась:
— По-моему, ты можешь дописать в своем судовом журнале: «Сегодня Малин встретила Петера».
И она скрылась в тени яблонь.
Июньские ночи не располагают ко сну — так уверяет Петер. Многие думают точно так же. Многие — те, кто не спит по ночам и бродит без сна. Но под конец все возвращаются домой. И Боцман возвращался домой как раз в тот момент, когда Малин в последний раз пожелала Петеру спокойной ночи. И лиса, живущая на выгоне Янссона, тоже возвращалась домой в свою нору. И Сёдерман, которому плохо спится белыми ночами. Он ходил посмотреть своих овец и теперь тоже возвращался домой с Туттисеном на руках.
И кое-кто еще вышел погулять и поскакать этой июньской ночью. Юкке… Ах, неужто Пелле не запер его как следует? Бедняга Юкке тоже разгуливал в ночи. Но назад он не вернулся.
Горе и радость неразлучны
Горе и радость неразлучны. Бывает, что дни выпадают мрачные и печальные, а приходят они, когда их меньше всего ожидают.
На следующий день рано утром Сёдерман ввалился в лавку к Ниссе и Мэрте. Озабоченный и огорченный, он рассказал им печальные новости:
— Гуляю я, как обычно, и вдруг что слышу. Гавкает какая-то собака, а мои бяшки блеют, точно их режут. Подхожу я ближе и вижу: носятся они взад и вперед, будто кто за ними гонится. А когда я пришел на выгон, кого бы вы думали я встретил там? Боцмана! Он несся оттуда во всю прыть…
У Сёдермана был такой вид, будто он ждал, что от его слов разверзнется земля, но Ниссе недоумевающе смотрел на него:
— Вот что… а кто же тогда гонял овец?
— Ты что, не слыхал? Боцман! Дома у меня лежит Туттисен с прокушенной ножкой.
— Да, каких только глупостей не наслушаешься, просто уши вянут, — сказала Мэрта. — Но чтобы Боцман драл овец, так в это я ни за что не поверю!
Ниссе покачал головой. Что можно ответить на такое несуразное обвинение?
Боцман — самый смирный пес на свете. Да, случая такого не было, чтобы он кого тронул. Поднеси к его носу кого хочешь — хоть ребенка, хоть котенка, хоть ягненка — никого не тронет! Чтобы Боцман травил овец — да никогда в жизни!
Но Сёдерман стоял на своем. Пришла купить картошку Малин, а следом за ней — Вестерман. Он хотел поговорить с Ниссе о Мосесе, но разговора не получилось.
— С таким же успехом это могла быть Кора, — сказал Ниссе при виде Вестермана.
На Сальткроке было всего две собаки — Кора и Боцман.
Но Вестерман стал злобно доказывать, что он, не в пример некоторым другим, держит свою собаку на цепи, и Малин пришлось засвидетельствовать, что это сущая правда. По крайней мере, Кора, как обычно, сидела у своей будки и тявкала, когда вчера, часов в одиннадцать вечера, они с Петером проходили мимо.
— И кроме того, — неохотно добавила Малин, — я видела, как Боцман гулял ночью, и как возвращался домой, я тоже видела. И слышала, как он лаял, да, припоминаю, я и в самом деле это слышала.
Сёдерман огорченно посмотрел на Ниссе. Невесело приходить с такими печальными вестями.
— Боцман, он же никогда голоса не подает, ты ведь знаешь, Ниссе. И ты ведь слыхал, что я сказал: я видел, как он выскочил прямо из овечьего стада.
Ниссе стиснул зубы:
— Если правда, что ты говоришь, то остается только одно.
Мэрта заплакала, даже не пытаясь скрыть слезы; она плакала горько и при всех. И со страхом думала еще об одном человечке, которого в самое сердце поразит эта весть. Как они расскажут обо всем Чёрвен?
Чёрвен не было дома. Она носилась по всему острову в поисках Юкке. Все дети помогали Пелле искать пропавшего кролика. Конечно, Юхан с Никласом, и Тедди с Фредди, и Чёрвен. Искали повсюду, но Юкке нигде не было. Пелле искал, обливаясь слезами и ненавидя самого себя. Почему вчера вечером он не накинул как следует крючок, зачем поторопился? Этого нельзя делать, когда у тебя есть кролик. Пелле плакал. Бедный Юкке, неужели он никогда не вернется?
Под конец они нашли Юкке. Первой увидела его Тедди. Узнав в истерзанном крольчонке, безжизненно лежавшем у канавы под кустом можжевельника неподалеку от овечьего загона, Юкке, она закричала:
— Нет! Нет! Не может быть!
Кто-то появился за ее спиной. Повернув голову, она увидела Пелле. И пронзительно крикнула:
— Пелле, не подходи!
Но было поздно, Пелле уже все видел.
Он увидел своего кролика.
А потом они окружили его, не в силах ему ничем помочь. Никому из них не приходилось еще близко сталкиваться с большим горем, и они не знали, как вести себя, когда у человека такое выражение лица, как у Пелле.
Юхан заплакал.
— Побегу за папой, — пробормотал он и помчался со всех ног.
Когда Мелькер увидел Пелле, и у него на глазах навернулись слезы.
— Бедный мой мальчуган, — только и сказал он.
Взяв Пелле на руки, он понес его домой в Столярову усадьбу к Малин. Пелле не плакал; съежившись в комочек и закрыв глаза, он уткнулся лицом в отцовское плечо. Он не хотел больше ничего видеть на свете.
«Не успел свой век прожить… поминай как звали…» Юкке, его кролик, единственный зверюшка, который у него был, почему именно он должен был погибнуть? Пелле лежал ничком в своей кровати, зарывшись головой в подушку. Под конец он тихо и жалобно заплакал — у Малин заныло сердце. Она сидела рядом с Пелле, также сознавая свое бессилие. Этот бедный малыш, лежавший на кровати, такой худенький и хрупкий, такой маленький для такого большого горя, был ей дороже всех на свете. Ужасно, что ничего нельзя сделать, нельзя хотя бы немножко облегчить его горе. Она погладила его по волосам и стала объяснять ему, почему это невозможно.
— Видишь ли, в жизни иногда приходится тяжело. Даже маленьким детям. Даже такой малыш, как ты, должен испытать и перебороть горе, и перебороть его тебе нужно самому.
Пелле сел в кровати; лицо у него было бледное, глаза мокрые от слез. Обхватив руками шею Малин, он крепко прижался к ней и хрипло сказал:
— Малин, поклянись мне, что ты не умрешь, пока я не вырасту.
И Малин обещала, она торжественно поклялась ему, что попытается это сделать. А потом сказала, желая утешить его:
— Мы купим тебе нового кролика, Пелле.
Но мальчик покачал головой:
— Я никогда не захочу никакого другого кролика, кроме Юкке!
И еще один малыш на острове плакал, но не тихо и безмолвно, как Пелле, а громко и бурно, так что было слышно далеко вокруг.
— Вранье! — кричала Чёрвен. — Все вранье!
Она набросилась с кулачками на отца за то, что он ей это сказал.
Он не смел, не смел говорить такие страшные слова… что Боцман… нет, ни за что на свете! Укусил Туттисена и задрал насмерть Юкке — так сказал папа. Никогда, никогда, никогда в жизни! Бедняга Боцман! Надо взять его и убежать вместе с ним далеко-далеко и никогда не возвращаться обратно. Но прежде она наставит шишек всякому, кто осмелится сказать такое…
В бешенстве она сбросила с ног башмаки и огляделась вокруг, ища, кому бы запустить их в голову… не папе… кому-нибудь… кому-нибудь другому. Но никого подходящего поблизости не было, и она с криком саданула башмаками о стенку.
— Я вам покажу! Я вам покажу! — дико кричала Чёрвен.
Она совершенно обезумела. Но, увидев, что папа посадил Боцмана на цепь у крыльца, она стала приставать к отцу:
— По-твоему, его уже нельзя с цепи спускать?
Ниссе вздохнул.
— Чёрвен, бедная моя малышка, — сказал он, опускаясь перед ней на корточки, как делал всегда, когда хотел заставить ее выслушать его хорошенько. — Чёрвен, я должен сказать тебе такое, что тебя страшно огорчит.
Чёрвен разрыдалась пуще прежнего:
— Я уже совсем огорчена.
Ниссе снова вздохнул:
— Я знаю… и мне тоже тяжело. Но видишь ли, Чёрвен, такой собаке, которая кусает ягнят и задирает насмерть кроликов, жить нельзя.
Чёрвен молча посмотрела на него. Сначала она будто не расслышала или не поняла, что сказал отец, но потом вдруг с жалобным криком отскочила от него.
Она бросилась на кровать и, спрятав голову в подушку, пережила самый долгий и самый горький день в своей жизни.
Тедди и Фредди ходили по дому с глазами, опухшими от слез; они горевали не меньше Чёрвен. Но когда они увидели, как она неподвижно лежит на кровати, у них сжалось сердце. Бедная Чёрвен! Все-таки ей тяжелее, чем всем. Они сели рядом с ней, пытаясь отвлечь ее разговором и облегчить ее горе. Но она будто не слышала их, и они добились от нее только одного слова:
— Уходите!
Они ушли со слезами на глазах. Мэрта и Ниссе также пытались поговорить с ней, но и они не получили ответа. Время шло. Чёрвен молча и неподвижно лежала в кровати. Мэрта то и дело приоткрывала дверь в ее комнату, но лишь легкие всхлипывания прерывали тишину.
— У меня больше нет сил, — под конец не выдержала Мэрта. — Пойдем, Ниссе, попробуем еще раз ее успокоить.
И они попробовали. Они испробовали все, что подсказывали им любовь и отчаяние.
— Чёрвен, доченька, — говорила Мэрта, — почему бы тебе не поехать в город, к бабушке? Хочешь?
В ответ лишь короткое, без слов, всхлипывание.
— А что, если мы купим тебе велосипед? — спросил Ниссе. — Хочешь?
Снова всхлипывание и больше ничего.
— Чёрвен, неужто тебе так ничего и не хочется? — упавшим голосом спросила Мэрта.
— Хочется, — буркнула Чёрвен, — хочу умереть.
Внезапным рывком она уселась на постели, и из нее вдруг хлынул поток слов:
— Это я, я во всем виновата. Я не заботилась о Боцмане. Я все только с Мосесом возилась.
Она уже все обдумала, обдумала в страшном отчаянии. Это должно было случиться. Это она во всем виновата. Боцман никогда раньше никому не причинял зла. И если правда, что он укусил Туттисена и задрал Юкке, то только потому, что Боцману самому стало совсем плохо и ему было наплевать на все…
— Это я виновата, — всхлипывала Чёрвен. — Застрелите лучше меня, а не Боцмана.
Она снова уткнулась в подушку. На какой-то миг ей вспомнился Мосес в сарае у Мертвого залива, но казалось, он жил где-то совсем в другом мире, и она не в силах была думать о нем. У нее осталась одна забота — Боцман. С невыносимой тоской думала она о нем. Он сидит на цепи у крыльца, скоро папа возьмет ружье и пойдет с ним в лес.
— Приведи сюда Боцмана, — буркнула она из подушки.
У Ниссе был несчастный вид.
— Чёрвен, доченька, может, лучше тебе не видеть Боцмана?
— Приведи сюда Боцмана! — взревела Чёрвен.
Тедди привела собаку, и Чёрвен выгнала всех из своей комнаты.
— Хочу побыть с ним одна.
Оставшись наедине со своей собакой, она бросилась к ней на шею и запричитала:
— Прости меня, Боцман, прости меня, прости!
Он смотрел на нее своими навеки преданными глазами и, верно, думал: «Ах ты, оса ты этакая, не возьму в толк, что здесь происходит. Но не надо печалиться, я не хочу этого».
Обхватив его огромную голову руками, она смотрела ему в глаза, пытаясь найти ответ на все необъяснимое и страшное.
— Это неправда! Ох, Боцман, если бы ты умел говорить, ты бы все им рассказал.
Да, если бы Боцман умел говорить! Если бы умел!
А бедный Мосес, запертый в лодочном сарае на берегу Мертвого залива! Вспомнил ли кто-нибудь о нем? Да! О нем позаботилась Стина. Она тоже плакала: из-за Туттисена, из-за Юкке и из-за Боцмана; все плакали сегодня на Сальткроке. Но дедушка сказал, что Туттисен скоро снова выздоровеет, и не умирать же Мосесу в самом деле с голоду, даже если стряслось столько бед.
— Пелле с Чёрвен знай себе только лежат да плачут, все плачут и плачут. Так что придется мне подумать о Мосесе, — сказала Стина. — Дай мне салаки, дедушка!
Положив салаку в корзинку, она пустилась в путь. А Сёдерман продолжал заниматься своими делами. Тут к нему явился Вестерман. Он метал громы и молнии на Ниссе Гранквиста за то, что тот посмел заподозрить Кору в случившемся.
— Взводить напраслину на мою собаку! — сердито жаловался он Сёдерману.
После истории в лавке у него пропало желание спорить с Ниссе о том, кто хозяин тюлененка, а кто — нет. Теперь оставалось одно: без лишних разговоров забрать Мосес и надежно припрятать его до встречи с этим молокососом, который торгует тюленями. Но где этот паршивый тюлень? В пруду его нет, и нигде его нет, хотя Вестерман все утро проискал его.
— Не знаешь, где сосунки держат тюленя? — спросил он Сёдермана.
Сёдерман покачал головой:
— Исчезнуть он не мог. Здесь только что была Стина и взяла для него салаку.
Не успел Сёдерман вымолвить эти слова, как тут же вспомнил, о чем болтала Стина. Вестерман задумал отнять тюленя у малышей и продать его.
— На кой тебе сдался тюлень? — сказал Сёдерман. — Ни стыда, ни совести, видно, у тебя нет.
Вестерман выругался и ушел. Он чувствовал себя одураченным и был зол на всех на свете: на этих сосунков, на Ниссе Гранквиста и на Сёдермана, на весь остров. Пропади она пропадом, эта Сальткрока! Он направился было домой, как вдруг увидел впереди себя на дороге Стину с корзинкой в руках. Ободрившись и прибавив шагу, он нагнал ее.
— Куда это ты собралась, малышка Стина? — вкрадчиво спросил он, сообразив, что без хитрости тут не обойтись.
Стина улыбнулась ему своей милой беззубой улыбкой:
— Ха, ха, ты спрашиваешь точь-в-точь как серый волк.
Вестерман ничего не понял:
— Серый волк… какой волк?
— Ты что, не знаешь про волка и Красную Шапочку?.. Хочешь послушать эту сказку?
Вестерману не хотелось слушать ни эту сказку, ни какую другую. Но тут уж ничего не попишешь. Стина была самая упрямая из всех сказочниц на Сальткроке, и Вестерману пришлось выслушать сказку о Красной Шапочке до самого конца. Лишь тогда ему удалось вставить слово.
— Кому эта салака? — спросил он.
— Мо… — начала было Стина, но тут же смолкла, вспомнив, с кем говорит.
Но Вестерман стоял на своем:
— Кому, ты сказала?
— Бабушке, — решительно заявила Стина, а потом, усмехнувшись, добавила: — «Какой у тебя громадный рот, бабушка», — сказала Красная Шапочка. «Это чтоб побольше съесть салаки, внученька», — прорычала бабушка. Ха-ха-ха! Ну что скажешь на это, Вестерман?
И, улыбнувшись ему своей самой щербатой в мире, плутовской улыбкой, бросилась наутек.
Но все же Стина была не менее простодушна, чем Красная Шапочка, которая показала волку дорогу к бабушкиной хижине. Беззаботная Стина прямехонько направилась к Мертвому заливу, даже ни разу не обернувшись. Сделай она это хоть раз, быть может, она бы заметила краем глаза Вестермана, который крался за ней по пятам. Но ему вовсе незачем было таиться. Большей разини, чем Стина, на свете не было, а теперь она к тому же торопилась к Мосесу.
Когда она проскользнула в дверь, Мосес закричал и зашипел на нее, но, получив свою салаку, тотчас смолк. Усевшись рядом с ним, Стина гладила его, пока он ел.
— Удивляешься, что я пришла одна? — спросила она Мосеса. — Но я не скажу, а то ты загорюешь.
Горевать? Разве он не горевал? Мосесу не нравился этот лодочный сарай, и ему не хотелось быть одному. Но теперь явилась Стина, и ее ни за что нельзя было отпускать. Он хорошо знал, как заставить ее остаться. Покончив с салакой, Моисей решительно взобрался на колени к Стине и там успокоился. Когда же она попыталась спихнуть его вниз, он сердито зашипел на нее. И не пытайся! Раз уж он должен торчать в этом сарае, так пусть и она сидит вместе с ним. У Стины затекли ноги, и она забеспокоилась. Кто его знает, этого Моисея, сколько ему вздумается просидеть у нее на коленях? Может, до самого праздника летнего солнцестояния? Тогда они оба умрут с голода — она и Мосес; от этой мысли ей стало неуютно, и она попросила умоляющим голосом:
— Мосес, миленький, слезь, пожалуйста!
Но Мосес не желал слезать. Она еще раз попыталась его спихнуть, но он только шипел на нее.
Тут она увидела, что на дне корзинки лежит еще одна салака. Это ее выручило. Вытащив салаку из корзинки, она подняла ее высоко над головой, чтобы Моисей не смог дотянуться. А потом что было силы швырнула ее в дальний угол. Туда-то и пополз Мосес и с жадностью накинулся на салаку. Он завопил от злости, когда, вернувшись назад, обнаружил, что больше нет никаких Стининых колен, на которые можно было бы взобраться.
— Эй, привет! Привет, Мосес! — закричала Стина, хлопнув дверью.
Она закрыла дверь на крючок и ушла, вполне довольная собой. Она не смотрела ни направо, ни налево и не видела Вестермана, притаившегося в проулке между сараями.
Но даже если Стина и была простодушна, как Красная Шапочка… все же какое счастье, что она притащила салаку Мосесу именно в это время! И как здорово, что он столько времени просидел у нее на коленях и что обратно она проходила мимо овечьего загона именно в то время. А иначе не видать бы ей рыскавшей там лисы. Большущей, голодной лисы, которой не довелось ночью полакомиться ни молодой бараниной, ни крольчатиной, потому что какой-то бешеный пес прогнал ее назад в нору.
Нынче она была голоднее обычного и собиралась было утолить голод молоденьким ягненком, но тут откуда ни возьмись появился этот человеческий детеныш, да еще из самых вредных, и поднял крик на всю округу. Детеныш перепугал лису насмерть, и, юркнув в страхе сквозь дыру в изгороди на дорогу, она тут же скрылась меж елей на лесной опушке. Как пылающий рыжий сполох, метнулась она прямо у ног дедушки Сёдермана. Он шел посмотреть, не натворил ли Боцман еще каких бед на овечьем выгоне кроме тех, которые старик заметил еще ночью. Увидев мелькнувшую с быстротою молнии лису, Сёдерман остановился как вкопанный.
— Лиса! — вопила Стина. — Дедушка, ты видел лису?
— Еще бы не видел! — ответил Сёдерман. — Ну и бестия! Такой здоровенной лисы я в жизни своей не видывал. Вон какая пройдоха рыщет среди моих ягнят.
— А ты ходишь и ябедничаешь на Боцмана, — укоризненно сказала Стина.
— Да, я хожу и ябедничаю на Боцмана, — почесав в затылке, сказал Стинин дедушка.
Он был стар и соображал туговато. Как же все это получилось? Он видел Боцмана ночью. И никогда раньше ему не доводилось слышать, чтоб лиса посмела напасть на овечье стадо. Но стало быть, нашлась на свете такая бестия. А может, лиса в сговоре с Боцманом, может, они помогали друг другу травить овец?.. Нет, такого быть не может! Внезапно Сёдермана осенило: лиса гналась ночью за Туттисеном, а Боцман гнался за лисой. Боцман защитил его ягнят — вот что он сделал, а вместо благодарности Сёдерман наябедничал на него, и теперь… ох-хо-хо! Сёдерман заторопился.
— Оставайся здесь, — велел он Стине, — и кричи, если заметишь лису.
Самому ему надо было к Ниссе, и поскорее! Он побежал, старик Сёдерман, не бегавший уже много лет. До лавки он добежал, еле переводя дух.
— Ниссе, ты дома? — встревоженно крикнул он. На крыльцо вышла заплаканная Мэрта.
— Нет, Ниссе ушел с Боцманом в лес, — сказала она и, закрыв лицо руками, убежала в дом.
— Ох-хо-хо-хо! — Сёдерман стоял словно оглушенный ударом молота, а потом снова пустился бежать. Он охал и стонал, но все равно бежал; скоро он совсем выбился из сил. Как быть? Он должен бежать из последних сил, он должен догнать Ниссе, он не смеет опоздать.
— Где ты, Ниссе?! — кричал он. — Где ты? Не стреляй!
День выдался безветренный, и в лесу стояла глубокая тишина. Вдалеке прокуковала кукушка и смолкла. Сёдерман слышал на бегу только свое прерывистое дыхание и свои встревоженные окрики:
— Где ты, Ниссе? Не стреляй!
Ответа не было. Ели и сосны молчали. Сёдерман все бежал и бежал без передышки. Внезапно раздался выстрел… О, как гулко разнеслось по лесу эхо! Сёдерман остановился, схватившись за сердце. Слишком поздно, все кончено. Ох-хо-хо-хо! Никогда больше не сможет он взглянуть Чёрвен в глаза. Вот злосчастный день, вот беда! Сёдерман неподвижно застыл на месте, зажмурившись. Внезапно он услыхал чьи-то шаги и открыл глаза. С ружьем на плече шел Ниссе, а рядом с ним… У Сёдермана отвисла челюсть. Рядом с Ниссе трусил Боцман.
— Это не ты… стрелял? — запинаясь, спросил Сёдерман.
Во взгляде Ниссе сквозило отчаяние:
— Боже, помоги мне! Я не могу, Сёдерман, не могу! Хочу попросить Янссона, он нынче охотится за морскими чайками. Это он и стрелял.
Горе и радость неразлучны, и порой все может мигом измениться. Для этого нужно только, чтобы запыхавшийся старик со слезами на глазах рассказал о лисе, рыскающей в его овечьем загоне.
Ниссе обнял Сёдермана:
— Никто, ни один человек так меня в жизни не радовал, как ты, Сёдерман!
Никто, ни один человек не возвращался такой радостный из лесу со своей собакой, как Ниссе Гранквист с Боцманом. И хотя он был рад и счастлив, ночью он не уснет, он будет вспоминать тот трудный час в лесу., Все время он будет вспоминать глаза Боцмана, когда тот сидел рядом с большим валуном меж елями, ожидая выстрела. Боцман знал, что его ожидало, и смотрел на Ниссе покорно, преданно и печально. Воспоминание об этом взгляде не даст Ниссе заснуть этой ночью. Но сейчас он рад и зовет Чёрвен.
— Иди сюда, Чёрвен! Иди сюда, оса этакая! У меня для тебя хорошие вести!
Пелле, мир — не остров печали
— Я все плачу и плачу, — удивленно сказала Чёрвен. Она сидела в кухне на полу, тесно прижавшись к Боцману, а Боцман ел мясной фарш. Ему дали целый килограмм первосортного мясного фарша, и все просили у него прощения. Вся семья сгрудилась вокруг него, все ласкали и гладили Боцмана. «Все просто чудесно», — думала Чёрвен.
— Подумать только, а я все плачу и плачу, — сердито повторила она, растирая кулачками слезы.
Она вспомнила все, что передумала за эти несколько ужасных часов. И она ошиблась. Боцман и не думал травить овец, будь их там хоть целый десяток. Он и на этот раз вел себя как добрый пес. Но кое-что она все же решила правильно, и впредь все будет честно, как было и раньше, до тех пор, пока не появился Мосес и все не полетело вверх тормашками.
Да, Мосес! Как там ему живется в его сарае? Внезапно она вспомнила и о Юкке. А Пелле, бедняга Пелле, почему бы ему тоже не радоваться вместе с ней? Все теперь должны радоваться.
Конечно, Пелле обрадовался, услыхав, что Боцман не виноват. Обрадовался он настолько, насколько вообще мог радоваться в своем отчаянии. Он горевал о Боцмане не меньше, чем о своем кролике, и какое утешение узнать, что не Боцман задрал Юкке.
— Мне гораздо легче, что это не Боцман, — сказал он Мелькеру. И, отвернувшись, добавил упавшим голосом: — Хотя Юкке, наверное, все равно, кто это сделал.
Ночью ему приснился Юкке, живой Юкке, который прискакал к нему за листьями одуванчиков. Но снова настало утро, и никакого Юкке больше не было. Даже его клетки не осталось. Юхан и Никлас убрали ее подальше с глаз Пелле. Братья любили Пелле и старались утешить его подарками. Он получил от них небольшую модель яхты, а Юхан дал ему в придачу свой старый складной нож. Пелле был до того тронут добротой братьев, что сердце у него разрывалось от благодарности, но все же утро было для него печальным. Пелле думал: неужто он всегда будет так горевать, а если всегда, то как выдержит он все предстоящие ему годы жизни?
Вечером они похоронили Юкке на выгоне Янссона на небольшой прогалине меж берез, поросшей цветами и высокой травой.
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЮККЕ
Пелле сам придумал надпись и вырезал ее еще дома на деревянной дощечке. Сейчас, стоя на коленях, он обкладывал дерном могилку Юкке, а Чёрвен со Стиной и Боцманом наблюдали за его работой. Конечно, Юкке будет здесь хорошо; над ним расцветут цветы камнеломки, и черные дрозды, как и сегодня, будут петь ему по вечерам свои песни. Чёрвен и Стине тоже захотелось петь. На похоронах всегда поют. Много раз хоронили они мертвых птичек и всегда при этом пели одну и ту же песенку. Сейчас они пели для Юкке:
Мир — это остров печали, Не успел свой век прожить, Тут и смерть пришла…— Нет, хватит петь эту песенку, — быстро сказала Чёрвен.
Что с Пелле? Почему он плачет? Раньше он не плакал, а теперь вот сидит к ним спиной на камне, и они слышат негромкие судорожные всхлипывания. Девочки растерянно взглянули друг на друга, а Стина встревоженно спросила:
— Может, он плачет оттого, что мир — это остров печали?
— Но это же не так, — сказала Чёрвен и крикнула: — Ну хватит, Пелле, мир — это не остров печали, это мы просто пели так для Юкке.
Чёрвен не желала видеть ничьих слез. Во что бы то ни стало надо развеселить Пелле, и она вдруг поняла, что для этого нужно сделать.
— Пелле, я что-то тебе подарю, если обещаешь больше не грустить.
— Что? — хмуро спросил Пелле, не поворачивая головы.
— Я подарю тебе Мосеса.
Тут он обернулся, все еще заплаканный, и недоверчиво посмотрел на Чёрвен.
— Я подарю его тебе насовсем, — заверила мальчика Чёрвен.
И впервые с того самого горестного часа, когда исчез Юкке, Пелле улыбнулся:
— Какая ты добрая, Чёрвен!
Она кивнула:
— Да, я добрая. И потом… у меня есть Боцман.
Стина усмехнулась:
— Ну вот, опять мы все со зверюшками. Но надо пойти и рассказать об этом Мосесу.
Все с ней согласились. Мосес должен знать, кто теперь его хозяин. И потом, надо же его, беднягу, накормить.
— Прощай, миленький Юкке, — нежно сказал Пелле и, ни разу не оглянувшись, помчался прочь.
Пелле словно подменили. Он стал буйным, радостным и бесшабашным, он прыгал и скакал всю дорогу до самого Мертвого залива, а под конец бросился на землю и кубарем покатился по склону к лодочным сараям.
— Ты что, радуешься, что Мосес теперь твой? — спросила Чёрвен.
Пелле немножко подумал.
— Не знаю… может быть. Видишь ли, очень грустно быть грустным, и долго этого никак не выдержать.
— Погоди, увидишь Мосеса — еще больше повеселеешь, — сказала Чёрвен, отворяя дверь в лодочный сарай.
Ошеломленные, они остановились на пороге и уставились в пустоту. Мосеса не было. Он исчез.
— Удрал, — нашлась Чёрвен.
— Да, удрал. И сам закрыл за собой дверь на крючок? — съехидничал Пелле.
— Мосес не удрал. Его кто-то утащил.
Чёрвен повернулась к Стине:
— Кто-нибудь видел тебя, когда ты шла сюда вчера?
Стина немножко подумала:
— He-а, никто. Разве что Вестерман. Но он хотел только послушать про Красную Шапочку.
— Тебя кто хочешь облапошит, — сказала Чёрвен. — У, этот Вестерман, разбойник!
Чёрвен так пнула ящик Мосеса, что он грохнулся о стену.
— Я ему покажу! Вестерман, этот вор, застрелить его мало! — не помня себя от гнева, кричала она.
— А я знаю, что мы сделаем, — сказал Пелле. — Мы выкрадем Мосеса обратно. Спорю на что хотите, он держит Мосеса в своем лодочном сарае, а там, наверное, тоже один только крючок на дверях.
Чёрвен немного поостыла.
— Вечером… пусть только Вестерман заснет, — живо сказала она.
Стина тоже оживилась, но одно беспокоило ее:
— А что, если мы заснем раньше Вестермана?
— Не заснем, — угрожающе заверила Чёрвен. — Со злости!
Видно, Стина не очень злилась, потому что не заснуть она не могла.
Но Чёрвен и Пелле смогли; и что удивительнее всего, никто не заметил, как они выскользнули из дому.
В тот вечер на Сальткроке шла облава на лису. Всех позвали пугать лису и выгонять ее из норы. И вправду, лису удалось выкурить из ее норы, но подстрелить ее не подстрелили. Потому что когда ее загнали на Сорочий мыс и она увидела, что спасения нет, то бросилась в воду и поплыла. Эта лиса привыкла выходить сухой из воды, а до ближайшего острова — недалеко.
Ниссе Гранквист выстрелил ей вслед, но промахнулся.
Услыхав об этом, Пелле обрадовался.
— Лисам тоже надо жить, — сказал он. — А тем более на острове Норсунд нет ни кроликов, ни овец, ни кур.
— Так что там она не разживется, — удовлетворенно сказала Чёрвен. — Вот негодяйка, зачем только она задрала Юкке.
— Она сделала это потому, что она — лиса, — объяснил ей Пелле. — И повадки у нее тоже должны быть лисьи.
— Ну и пусть она лиса, но могла бы хоть вести себя как человек, — сказала Чёрвен, не желая понимать лисью психологию.
Хотя… вести себя как человек? Как Вестерман, например? Чем он лучше? Пойти и украсть бедного маленького тюлененка только ради того, чтобы продать. Но этот номер у него не пройдет, пусть Вестерман и не мечтает, заверила Чёрвен.
— Только бы Кора не залаяла, — добавила она.
Но Кора залаяла. Завидев, как крадутся Чёрвен и Пелле, она ощетинилась у своей конуры и принялась лаять изо всех сил. Но Пелле предвидел, что так и будет. На обед в Столяровой усадьбе было сегодня мясо, и Пелле прихватил Коре вкусных косточек. Он стал угощать ее, ласково увещевая, и она замолчала. Но все же им было боязно: не вздумает ли кто выйти и посмотреть, почему лаяла Кора? Дети долго лежали съежившись за сиреневым кустом у калитки и ждали, но в доме было тихо, и тогда они осторожно выползли на лужайку. Перед ними, на скалистом утесе, стоял жилой дом, мимо которого надо было пройти, чтобы спуститься к лодочному сараю. В доме было тихо и темно. Мрачно и грозно чернел четырехугольник дома на каменной плите под светлым пологом ночного неба. Кругом не было ни души.
— Дрыхнут, как поросята, — сказала довольная Чёрвен.
Но она рано обрадовалась, потому что в доме внезапно осветилось одно окошко, и Чёрвен затаила дыхание. Они успели еще увидеть жену Вестермана в ту минуту, когда она зажигала лампу над столом. Не теряя времени, дети подбежали прямо к окну и бросились на землю у самой стены. Испуганные, они лежали и ждали. Видела она их или нет? Может, прежде чем зажечь лампу, она долго стояла в темноте, подглядывая из-за занавески, и видела, как они вошли в калитку. Никому не удалось бы остаться незамеченным светлым июньским вечером на этом голом скалистом утесе без единого кустика, за которым можно было бы спрятаться.
Но раз жена Вестермана не выбежала из дому, они воспрянули духом. Под окном ей их не увидеть, если, конечно, она не высунется из окна, чтобы специально посмотреть на них. Они сильно надеялись, что этого делать она не станет. Потому что если уж жена Вестермана начнет ругаться, то ее никакими вкусными косточками не успокоишь. Они боялись пошевельнуться, боялись шепнуть друг другу хоть слово, они едва дышали. Им оставалось лишь молча лежать и прислушиваться. И они слышали, как жена Вестермана ходила по комнате. Окошко было открыто настежь, а она была совсем близко от них, стоило им только захотеть — и они могли бы протянуть руку через подоконник и сказать ей: «Здравствуйте! Здравствуйте!» Она что-то бормотала себе под нос и, хотите — верьте, хотите — нет, вдруг начала читать, да, в самом деле, она и вправду начала читать вслух самой себе. Чёрвен даже тихонько застонала под окном. Хоть бы уж читала вслух газету «Нортельевский вестник» или что-нибудь в этом роде, но лежать под окном съежившись, как креветка, и слушать такое, в чем ничего не смыслишь! Нет уж, это свыше всяких сил.
Пелле тоже не понимал, что она читает. Ему казалось, будто что-то из Библии. Голос у нее был монотонный, но читала она без запинки. Пелле прислушался. И вдруг, хочешь — верь, хочешь — нет, он различил в потоке незнакомых слов несколько выражений, будто озаривших его светом. Такое бывало с ним и раньше, когда отдельные слова будто неожиданно озаряли его. Как красиво они звучали!
— Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря… — читала жена Вестермана. Потом она вздохнула и продолжала читать.
Но продолжение не интересовало Пелле. Этих слов он не забудет. И он тихонько пробормотал их себе под нос: «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря…» А разве Столярова усадьба не у самого моря? Там хочется жить, туда стремишься из города. Будь у него крылья зари, он мог бы перелететь туда через все заливы и фьорды, о, как бы хорошо перелететь в свою обитель у самого моря… в Столярову усадьбу.
Пелле так углубился в свои мысли, лежа под окном и бормоча вслух, что не заметил, как жена Вестермана смолкла.
Чёрвен толкнула его. Что теперь будет? Жена Вестермана погасила лампу, в комнате стало темно. Внезапно Пелле услыхал, как кто-то дышит прямо у него над головой. Он не осмеливался посмотреть вверх, он понял: жена Вестермана стоит у открытого окошка. О, как жутко лежать так съежившись, ждать и прислушиваться. Вот… вот она их заметит, он был уверен в этом. Но как раз в тот момент, когда они почувствовали, что больше им не выдержать, окошко с грохотом захлопнулось, и оба они — Пелле с Чёрвен — невольно подскочили. Затем все смолкло. Они полежали еще немножко, слушая, как колотятся их собственные сердца, а потом, то и дело приседая, быстро проскочили за угол дома и спустились к лодочному сараю.
— Мосес, ты тут? — прошептала Чёрвен.
Мосес явно был тут, потому что он завопил, будто его режут, и Чёрвен открыла дверь.
Стина содрогалась от ужаса, когда на другой день они рассказывали ей всю эту историю. И как вопил Мосес, и как они шикали на него, и как Вестерман выскочил из дому в одной рубашке и ругался им вслед, когда они уже выбрались за калитку, и как лаяла Кора, и как они впихнули наконец Мосеса в короб и пустились бежать с ним домой в Столярову усадьбу. А Вестерман, стоя у калитки, грозился:
— Ну погоди, Чёрвен, я до тебя доберусь!
— Хорошо, что меня не было с вами, — сказала Стина, — я б умерла на месте!
Ночью Мосес спал на полу, возле кровати Пелле.
Юхан и Никлас были поражены, но ничуть не рассердились, когда, проснувшись поутру, увидели нового соседа по комнате.
— Мне пришлось взять его сюда, чтобы Вестерман не утащил его, — объяснил Пелле. — А теперь помогите уговорить папу.
У отца, конечно, сразу нашлись возражения.
— Со стороны Чёрвен очень хорошо и благородно подарить тебе Мосеса, — сказал Мелькер, — но никуда не годится, что вы с Чёрвен, да и Вестерман тоже, ведете себя как банда заправских гангстеров и по ночам крадете друг у друга тюленей.
Вместе они пытались что-нибудь придумать. Вся семья собралась на кухне за завтраком, и им было слышно, как наверху в комнате мальчиков ползает тюлень.
Малин была не в восторге от нового жильца, но ради Пелле ей придется его терпеть. Она понимала, что Мосес очень нужен Пелле именно теперь. Придется Вестерману, хочет он этого или нет, тоже с этим примириться.
— Ведь ему нужны только деньги, — сказал Юхан. — Ты бы не мог, папа, подбросить ему парочку сотен, чтобы тюлень остался у Пелле?
— Подбрось ему сам парочку сотен, тогда увидишь, как это приятно, — ответил Мелькер. — Но все мы должны помочь Пелле. Деньги можно заработать. Нужно только захотеть.
И они захотели. Все дети Сальткроки захотели участвовать в кампании, которую Мелькер назвал операцией «Тюлень». Все это напоминало игру. Полоть грядки с клубникой, таскать из колодца воду, вычерпывать воду из лодок, смолить причалы и носить чемоданы дачникам стало гораздо интереснее. Дети знали, что с каждым заработанным эре растет необходимая сумма, на которую можно выкупить Мосеса у Вестермана.
Вестерман усмехнулся, когда, придя в лавку, услыхал про операцию «Мосес».
— А мне-то что, — сказал он. — Плевать мне, кто купит тюленя. Выкладывайте мне две сотни, и чтоб на этой неделе. А не то я продам тюленя на сторону.
— Пошел прочь, Вестерман! — откровенно заявила Чёрвен.
Вестерман швырнул ей двадцатипятиэровую монетку.
— В пользу Мосеса, — сказал он. — Пригодится! Вряд ли вам удастся наскрести двести крон к субботе. А дольше я ждать не намерен.
— Пошел прочь! — на всякий случай повторила Чёрвен.
Но монетку взяла и сунула ее в стоявшую на прилавке копилку Мосеса.
— Нельзя, Чёрвен, не смей так говорить, — строго сказал Ниссе. И, повернувшись к Вестерману, добавил: — Знаешь, Вестерман, все-таки скверный ты человек!
Вестерман на это только ухмыльнулся.
Операция «Мосес» продолжалась. С каждым днем в ней участвовало все больше людей.
— Гляди, Мосес, у меня из-за тебя мозоли, — сказала Фредди, которая целых полдня выбивала ковры.
Стина зарабатывала деньги по-своему. Держа в руках дощечку с надписью «Операция „Мосес“», она обходила дворы, пела и рассказывала сказки. Жители острова и дачники — одни охотно, другие только чтобы отвязаться от нее — давали девочке деньги. Не обошла она своим вниманием и Мелькера. Однажды, когда он стучал на своей машинке в саду, она тихонько подошла к нему и заявила:
— Сиди спокойно, дядя Мелькер, я расскажу тебе сказку. Это будет стоить пятьдесят эре.
Не успел Мелькер рта раскрыть, как она, захлебываясь и шепелявя, стала рассказывать ему про заколдованных принцев. Мелькер несколько раз пытался прервать поток ее слов, но его обезоруживала милая щербатая улыбка Стины. Она добросовестно зарабатывала деньги на выкуп Мосеса.
Получив заранее согласованную мзду, она было собралась уходить, и Мелькер облегченно вздохнул. Но потом, что-то надумав, она вернулась и решительно заявила:
— Я спою тебе еще песенку. Это будет стоить двадцать пять эре.
— А сколько будет стоить, чтоб ты не пела? — в отчаянии спросил Мелькер.
— Ничего не выйдет! Я уже пою, — сказала Стина.
Закатив глаза, Стина самозабвенно пела тоненьким голоском, подражая певице, которую как-то слышала в городе.
А Мосес жил своей собственной жизнью, не печалясь ни о чем и нисколько не заботясь об операции «Мосес».
Одинокие часы, проведенные в разных лодочных сараях, явно не пошли ему на пользу. Его едва можно было узнать. Он стал беспокойным и раздражительным, даже чуть озлобленным. Вопил и шипел он гораздо больше, чем раньше. А иногда пытался даже кусаться.
— Мосес не совсем то домашнее животное, которое бы я предпочла всем другим, — говорила Малин. Но говорила так, чтобы Пелле не слышал.
Пелле обожал Мосеса ничуть не меньше, чем Юкке, и когда Мосес шипел на него, он его только поглаживал.
— Бедный маленький Мосес, что с тобой? Тебе у меня не нравится?
Но Мосесу, как видно, всюду теперь не нравилось. Ему совершенно не хотелось быть ни в лодочном сарае, ни даже в пруду. Охотнее всего проводил он время на берегу моря, но Пелле боялся брать его туда, потому что дядя Ниссе предупредил его:
— Держи его в пруду, а не то он удерет в любой момент.
И Пелле держал Мосеса взаперти в пруду и с печалью думал о том, как бы хорошо завести себе животное, которое не хотело бы удрать. Юкке удрал — на свою собственную погибель, но Пелле надеялся, что с тюленем все будет иначе. Бедняга Мосес, почему он стал такой беспокойный?
Ножка Туттисена почти зажила, но ягненка все еще не вернули назад в овечий загон. Он ходил по пятам за Стиной, а Боцман за Чёрвен. Он не сразу рискнул это сделать, он был не из тех собак, что навязываются. Молча и спокойно занял он свое привычное место у крыльца и лежал там, пока не пришла Чёрвен и не обвила его шею руками.
— He-а, Боцман, здесь ты больше лежать не будешь, никогда в жизни!
Тогда он пошел за ней и с тех пор больше не отходил от нее ни на шаг.
Вот так и ходили Чёрвен со Стиной, а сзади — их животные. А у Пелле не было никого, кто бы следовал за ним по пятам.
— Хоть тюлень за тобой не ползает, все равно он твой, — говорила Чёрвен.
У Пелле был задумчивый вид.
— Мне кажется, что Мосес ничей, что он — сам по себе.
И вот настала суббота, день, когда Вестерман должен был получить сполна свои двести крон.
В лавке на Сальткроке было неспокойно. Пришло время считать деньги. В помещении было полно народу, потому что это дело интересовало весь остров. Никто из сальткроковцев не дал бы Вестерману ни одного эре. Обидеть Чёрвен, их Чёрвен, ну, они ему еще покажут! Все были на стороне девочки.
Вестерман это знал и потому держался развязнее, чем обычно, когда в назначенное время явился в лавку к Ниссе и протиснулся к прилавку. За прилавком выстроились в ряд все ребята, и все глазели на него — все Мелькерссоны и все Гранквисты. Сердитей всех глазела Чёрвен! Вот нахал! Хочет получить деньги за тюленя, которого сам же ей подарил. А сколько трудов стоило Чёрвен ухаживать за ним, сколько молока и салаки перетаскала она ему!
Вестерман ухмылялся и валял дурака:
— До чего ж ты ласково смотришь на меня, Чёрвен. Ну, как думаешь, достанется тебе тюлень или нет?
— Это мы посмотрим, — сказал Ниссе, высыпая содержимое копилки на прилавок.
Когда он начал считать деньги, в лавке воцарилась тишина. Никто не произносил ни слова. Слышен был только звон монет и бормотание Ниссе.
Пелле влез на ящик с маргарином за прилавком. До чего противно слушать звон этих монет. А что, если денег не хватит? Бедняга Мосес, что, если Вестерман возьмет и продаст его Петеру?
Но тут у Пелле мелькнула мысль, больно кольнувшая его. Кто сказал, что Мосесу от этого будет хуже? Может, плавать по морю с радиопередатчиком на спине куда приятнее, чем плескаться в пруду на Сальткроке. «Хотя тюленю, — думал Пелле, — приятнее всего плавать по морю на воле без всякого радиопередатчика или чего-нибудь еще, свободно плавать вместе с другими тюленями».
Занятый своими мыслями, он вдруг услышал голос дяди Ниссе:
— Сто шестьдесят семь крон восемьдесят эре.
Вздох разочарования пронесся в сальткроковской лавке, и все укоризненно воззрились на Вестермана, словно он был виноват в том, что в копилке не хватало денег. Ниссе в упор смотрел на Вестермана:
— Может, уступишь?
Вестерман тоже в упор посмотрел на Ниссе:
— А разве ты в своей лавке торгуешься?
Внезапно перед Вестерман ом выросла Чёрвен:
— Вестерман, знаешь что, я никогда не просила у тебя этого тюлененка, помнишь, ты сам мне его подарил?
— Ну, опять заладила свое, — сказал Вестерман.
Чёрвен смерила его взглядом с ног до головы:
— Знаешь что, Вестерман, скверный ты все-таки человек!
Но тут вмешалась Мэрта:
— Нельзя, Чёрвен, не говори так!
— Да, но ведь так говорит папа, — возразила Чёрвен, и все от души рассмеялись.
Вестерман побагровел от злости. Он мог вытерпеть что угодно, только не насмешки.
— Где тюлень? Я его забираю!
— И не мечтай, Вестерман, — сказал Мелькер, который до этого не проронил ни слова. — Я плачу разницу.
Но тут Вестерман, страшно разозлившись, закусил удила:
— А мне-то что, можешь платить! Только у меня найдется покупатель почище!
И тут случилось невероятное: в тот самый миг дверь в лавку отворилась и вошел не кто иной, как покупатель Мосеса. В дверях стоял Петер Мальм, принц их Малин. И когда Малин увидела его, она задрожала. Как она скучала по нему сразу же, как только он уехал, и особенно в дни гибели Юкке! Она так скучала по нему, что ей казалось: где бы он ни был, он должен это почувствовать. И вот он здесь, он вернулся. Значит, он тоже скучал по ней.
— Ты что, поселилась в этой лавке? — спросил Петер, взяв ее за руки.
Он весь сиял от радости, потому что безуспешно искал ее до этого по всей Столяровой усадьбе. Слава Богу, он нашел ее, она здесь, ее глаза потеплели и заблестели, когда она увидела его. Но первые ее слова прозвучали как упрек:
— Петер, неужели тебе уж так нужен этот тюлень?
Не успел Петер ответить, как к нему с довольной ухмылкой подошел Вестерман. Пусть теперь эти сальткроковцы вылупят глаза, он покажет им, как Калле Вестерман обделывает делишки. Калле Вестерман продает своих тюленей кому хочет, не спрашивая на то разрешения ни у кого на острове.
— Вы пришли в самый раз, — сказал он. — Здесь как раз заварушка с этим тюленем, я его продаю. Три сотни крон — и ударим по рукам!
Петер Мальм вежливо улыбнулся:
— Три сотни — не дороговато ли за тюленя? Мне совсем не охота переплачивать!
Чёрвен и Стина окинули его презрительным взглядом. Если бы он знал, что они думают о нем. И зачем только они поцеловали ту лягушку!
— Ну ладно, идет, две сотни, — быстро согласился Вестерман.
Петер продолжал любезно улыбаться, он был вежливый малый.
— Да, две сотни — это недорого. Только мне никакой тюлень не нужен.
— Не нужен?.. — Вестерман глупо разинул рот. — Да, но вы ведь говорили… — начал он.
— Спасибо, не нужно мне никакого тюленя, — сказал Петер Мальм. — А этого и подавно.
Тут в сальткроковской лавке началось ликование, а Вестерман в бешенстве кинулся к двери. Но Ниссе крикнул ему в спину:
— Бери хоть эти деньги и будь доволен!
Но Вестерман был сыт по горло торговлей тюленями. Да и ему было совестно — не потому, что он вел себя как последний сквалыга, а потому, что все в лавке считали его сквалыгой. Он не хотел больше ни денег, ни тюленя, ни вообще ничего. Единственное, чего он хотел, — поскорее убраться из лавки и не видеть никого из тех, кто живет на Сальткроке.
— Забирай своего паршивого тюленя, Чёрвен, — сказал он. — Пропади он пропадом, и вы вместе с ним.
И Вестерман исчез.
Тут Пелле оживился:
— Нет, он должен взять деньги, а то я не почувствую, что это мой тюлень.
Схватив кулек, куда Ниссе Гранквист сунул деньги, он помчался догонять Вестермана.
Все с нетерпением ждали, и вскоре он вернулся с раскрасневшимся лицом.
— Все-таки он взял. Потому что деньги ему нужны — так он сказал.
Малин ласково и нежно погладила мальчика по щеке.
— Ну, Пелле, уж теперь-то этот тюлень твой.
— И может, хоть теперь у нас выдастся свободная минутка, — сказала Тедди.
О том, что случилось потом, записано в дневнике Малин:
Мосес плавает в море. Вчера вечером Пелле отпустил своего тюленя на волю. Мы как раз пришли на пристань, когда это произошло. Мы — это папа, Петер и я. Пелле, мой любимый брат, стоял на пристани и блестящими от слез глазами смотрел вслед своему тюленю; далеко в заливе еще можно было разглядеть, как Мосес мелькает в волнах.
— Но зачем, Пелле, зачем?.. — начал было папа.
А Пелле глуховатым голосом сказал:
— Не хочу, чтоб мой зверюшка мечтал когда-нибудь удрать. Теперь Мосес там, где и должны жить тюлени.
Какой-то комок сжал мне горло, а папа судорожно глотнул несколько раз. Мы молчали. Чёрвен со Стиной, конечно, тоже были на пристани. И Чёрвен сказала:
— Пелле, знаешь что? Тебе не стоило дарить никакого тюленя. Вот у тебя и опять никакой зверюшки нет.
— Только осы, — еще более глухо сказал Пелле.
И вот тогда-то случилось самое потрясающее.
О Петер, я буду благословлять тебя за это всю свою жизнь! Петер, молча стоявший с Юм-Юмом на руках, вдруг сказал, как всегда сдержанно:
— Мне кажется, одних ос Пелле мало. Ему нужен еще Юм-Юм.
Подойдя ближе, он положил ему на руки щенка.
— Юм-Юм никуда не захочет удрать, — заверил мальчика Петер.
— He-а, уж этому щенку будет у Пелле благодать, — подтвердила Чёрвен, когда до нее наконец дошло, что случилось.
Побледневший от волнения Пелле лишь глядел с нежностью то на Петера, то на Юм-Юма. Он не сказал «спасибо», он вообще ничего не сказал. А я сама не понимала и сейчас не понимаю, что со мной сделалось. Я бросилась к Петеру и поцеловала его, потом еще раз и еще.
Кажется, Петеру это очень понравилось.
— Подумать только, что может наделать маленький щенок, — сказал он. — Жаль, что я не захватил с собой целую псарню.
Чёрвен и Стина очень развлекались, глядя на нас во все глаза. Но Чёрвен озабоченно предупредила меня:
— Не целуй его слишком много, Малин! Никогда заранее не знаешь, а вдруг он снова превратится в лягушку?
Малышам в их круглые черепушки приходят порой странные мысли. Не знаю, откуда это у них, но Чёрвен со Стиной, по-моему, всерьез уверены в том, что Петер — заколдованный лягушачий принц, выпрыгнувший прямо из канавы. Бедная Стинина головка битком набита заколдованными принцами, Золушками, Красными Шапочками и всякой всячиной. Увидев, что Мосес скрылся во фьорде, она сказала Чёрвен:
— А все-таки Мосес — сынок морского короля. Теперь в море плавает принц Мосес.
Да, он уплыл далеко-далеко, и я от всего сердца надеюсь, что принц Мосес на самом деле счастлив, раз уж Пелле внушил себе это.
— Вот увидишь, — сказал Петер, — Мосес иногда будет приплывать к тебе в гости, поздороваться с тобой. Ведь он все же ручной тюлень, и, кто его знает, может, он нет-нет да и заглянет на Сальткроку.
— Да, если морской король его отпустит, — сказала Стина.
Отпустит морской король Мосеса или нет, все равно Пелле сейчас очень, очень счастлив.
И я, Малин, тоже счастлива. Разумеется, Петер снова уедет в город на пароходе «Сальткрока I», который отчалит через час, но… во всяком случае… теперь я знаю наконец, что такое любовь! От этого можно просто умереть. Интересно, долго ли продлится такое чувство? Петер говорит, что он парень верный. А я, верная ли я девушка? Как бы это узнать? Но я надеюсь, что это так. В одно я во всяком случае твердо верю: Пелле нужна Малин, на которую можно положиться. И, как бы там ни было, она будет с ним. И Пелле любит Петера, да, это так, иначе быть не может. Но вместе с тем он, как обычно, немного боится; и когда вчера вечером Пелле, сияя от счастья, лежал в постели, а рядом с ним Юм-Юм, он вдруг нахмурился и, обвив руками мою шею, спросил:
— Ты ведь все равно моя, Малин?
Да, мой любимый братик, я твоя. И хотя Чёрвен со Стиной думают, что я древняя старуха и должна очертя голову броситься на шею заколдованному принцу, сама я считаю, что принц может подождать меня несколько лет. И он сказал, что подождет.
Новая июньская ночь сгущается над Сальткрокой. Теперь — спать. А утром проснуться и снова быть счастливой. Тра-ля-ля!
Чёрвен зарабатывает три кроны
В понедельник утром Пелле проснулся оттого, что заскулил Юм-Юм, и он взял его к себе в кровать. Уткнувшись носом в шею Пелле, щенок снова заснул, но Пелле не спалось. Надо быть совсем умалишенным, чтобы спать, когда можно просто лежать и быть насквозь, до самых кончиков пальцев, счастливым от сознания того, что рядом с тобой мягкое, теплое существо — Юм-Юм, твой собственный щенок. Неужто можно быть таким счастливым-пресчастливым? Внезапно Пелле вспомнил Мосеса. Даже немножко нечестно, что он не так горюет о нем, как следовало бы.
— Но, — начал он объяснять спящему Юм-Юму, — и Мосес не очень-то горюет обо мне, будь уверен. Он плавает по морю и играет с другими тюленятами, и ему весело-превесело.
На мгновение Пелле задумался и о Юкке. У него чуть защемило сердце. Может, и не из-за Юкке. Он вспомнил, как бывает, когда все на свете словно сговаривается против тебя и мир становится «островом печали». Но он отогнал от себя эту мысль, и сделать это было нетрудно. Потому что проснулся Юм-Юм, и жизнь так и закипела в нем. Он обнюхал и лизнул лицо мальчика, потянул его за пижаму, залаял, затявкал и стал прыгать по кровати, а Пелле захохотал. Смех был такой счастливый, что у Малин, услыхавшей его на кухне, на глаза навернулись слезы. Она даже перестала поджаривать тосты, чтобы насладиться подольше этим смехом. Смейся еще, смейся, Пелле, чтобы знать: ты никогда не разучишься смеяться!
Чего только не сулит день, который начинается счастливым смехом мальчика и прекрасной погодой! Прошлая неделя была невыносимой: ветер, дождь и холод. А теперь вдруг такое удивительное утро. Малин решила накрыть стол к завтраку на лужайке перед домом.
Ее отец проснулся и одевался в каморке при кухне, что-то мурлыча себе под нос.
— Понедельник, утро… а мне так ве-е-се-ло-о…
— Нельзя петь натощак! — крикнула Малин отцу. — А не то к вечеру будешь плакать, разве не знаешь такой приметы?
— Суеверная чушь, — отрезал Мелькер и вышел, напевая, на кухню. — Хватит, поплакали. Довольно реветь!
Он помог ей накрыть стол к завтраку на лужайке перед домом. Малин передавала Мелькеру из кухни тарелки, чашки, блюдца, а он нес их в сад. Когда все было готово, Мелькер оглянулся:
— А где же мои голодные мальчишки?
Двое старших уже возвращались с моря. Они встали рано и успели сходить на рыбалку. Рыбы они, ясное дело, не наловили, но посидели на утреннем солнышке у окуневой отмели — это да! Такие часы не пропадают даром. Нагуливаешь аппетит.
— О Малин, ты никак испекла вафли?
Никлас с одинаковым удовольствием смотрел на сестру и на вафли.
— Да, это в знак благодарности этому чудесному утру, оно ведет себя отлично!
Мелькер одобрительно кивнул головой:
— Удивительное утро и удивительный завтрак — стол накрыт Мелькером собственноручно. Вафли, кофе, простокваша, тосты, масло, сыр, варенье и осы, что угодно еще?
— А ос ты тоже подал собственноручно? — спросил Юхан.
— Они, разрази их гром, сами прилетели. Придется и этим летом мучиться с осиным гнездом.
Мелькер прогнал нескольких ос, примостившихся на баночке с вареньем. Но если бы даже на коленях у Пелле сидел лучший в мире щенок, все равно в его сердце хватило бы места для всех других зверюшек и насекомых на земле, поэтому он укоризненно сказал:
— Оставь в покое моих ос, папа! Они тоже хотят жить в Столяровой усадьбе, так же как и мы! Ты что, не понимаешь?
Мелькер, конечно, понимал, как здорово жить в Столяровой усадьбе. Они все это понимали.
— Странно все-таки, как мы привязались к этой древней развалюхе, — сказала Малин.
Красная стена дома за ее спиной, да и вся Столярова усадьба излучали какое-то тепло. И Малин считала, что это вовсе не зависит от солнца. Она воспринимала весь дом, словно живое существо, преданное, доброжелательное и теплое, которое взяло их под свою опеку.
— Древняя… да, но не очень, — сказал Мелькер. — Тесовая обшивка кое-где прохудилась, но сам дом из крепких бревен. Да, крыша, пожалуй, тоже неважнецкая, но будь это мой дом, я бы его подновил так, что его стало бы не узнать.
«Построил бы я себе дом у самого моря и приладил бы к нему новую крышу, — подумал про себя Пелле, — вот было бы здорово».
— А участок какой! — воскликнул Мелькер. — Такого нигде не найдешь!
Они ели вафли, смотрели на свой участок и на свою Столярову усадьбу и думали, что все это бесподобно. Сладко благоухая, цвел жасмин, кусты шиповника были осыпаны нежными бутонами, которые вот-вот распустятся, весь участок зеленел и цвел, точно райский сад, неприметно спускаясь к берегу, где у пристани кричали чайки, — конечно, все было бесподобно.
— Подумать только, обыкновенный простой столяр! А как поставил дом! Ни к чему не придерешься, — сказал Мелькер. — И все службы. Вся усадьба, словно по волшебству, сама собой выросла из-под земли. За такой двор столяра следовало бы наградить медалью.
— Папа, мы всегда будем тут жить? — спросил Пелле. — То есть каждое лето?
— Да, да, разумеется, — подтвердил Мелькер. — Сегодня Маттссон приедет, он звонил в лавку и предупредил, что наконец-то мы подпишем новый контракт.
Пока Мелькерссоны завтракали, Чёрвен прогуливалась с Боцманом. Она спустилась к причалу, чтобы покормить лебедей. Каждое утро лебединое семейство: папа-лебедь, мама-лебедь и семь маленьких серых комочков — лебедят — подплывали к берегу. Сегодня, пока они клевали черствый хлеб из рук Чёрвен, к причалу подрулила большая незнакомая моторка. Пассажиров было трое. Одного из них ей уже приходилось видеть и раньше. Это был Маттссон, наезжавший на остров несколько раз в году. Но другой, высокий плотный мужчина в морской фуражке, который вел лодку, никогда прежде на Сальткроке не бывал, так же как и девочка, сидевшая рядом с ним.
— Подай конец! — скомандовала Чёрвен, и Маттссон швырнул ей канат; она пришвартовала лодку.
— Смотри, какая ловкая, — сказал человек в морской фуражке, спрыгнув на берег. — Неплохой получится узелок.
Чёрвен расхохоталась:
— Узелок! Да это же самый настоящий двойной морской узел!
— Гм! — хмыкнул человек в морской фуражке. — Когда ты успела научиться таким премудростям?
— А я и не училась, я сроду умела, — ответила Чёрвен.
Вытащив из кармана блестящую, новехонькую крону, он отдал ее ей. Удивленно взглянув на монету, Чёрвен улыбнулась:
— Неплохо заработала на двойном морском узле.
Но приезжий уже не слышал ее, вернее, попросту не замечал.
— Давай, Лотта! — крикнул он, и девочка спрыгнула на берег.
Чёрвен она показалась очень нарядной — в узеньких светло-синих брючках и белом джемпере. Ее каштановые волосы были красиво уложены. Счастливая, ей разрешают укладывать волосы! Хотя она была примерно тех же лет, что и Тедди. А физиономия у нее кислая, и с Чёрвен она даже не поздоровалась. На руках девочка держала маленького белого пуделя, и Чёрвен оглянулась в поисках Боцмана. Может, для разнообразия ему интересно познакомиться с пуделем? Но Боцман мчался вдоль берега и был уже на полпути к Сорочьему мысу. Ну что ж, пусть пеняет на себя, если не увидит пуделя, потому что эта Лотта уже ушла со своей собачонкой.
Чёрвен понимала, что Маттссону надо в Столярову усадьбу. Но ей было невдомек, зачем он потащил туда с собой этих двоих, — впрочем, какое ей до этого дело! Но она пошла за ними следом, потому что ей тоже надо было в усадьбу — повидаться с Пелле.
— А, наконец-то господин Маттссон пожаловал, — сказал Мелькер, увидев посетителей в калитке. — Пожалуйста, заходите, мы только уберем со стола и тогда сможем подписать контракт.
Маттссон был невысокий, беспокойный и важный господин, а его полосатый старомодный костюм показался Малин ужасно уродливым. Но, видимо, не только костюм был виноват в том, что Малин почувствовала к нему явную неприязнь. К нему и к тем двоим.
Маттссон представил своих спутников:
— Директор Карлберг и его дочь… Они хотели бы взглянуть на Столярову усадьбу.
— Пожалуйста, — сказал Мелькер. — Только зачем им это?
Маттссон объяснил. Дело в том, что жена столяра фру Шёблум решила продать Столярову усадьбу. Она стара, ей надоело сдавать ее внаем, и поэтому…
— Послушайте-ка, легче на поворотах, — перебил его Мелькер. — Если не ошибаюсь, я арендую усадьбу. И сегодня я должен был подписать новый годичный контракт, не так ли, господин Маттссон?
— Сожалею, но ничего не выйдет, — сказал Маттссон. — Фру Шёблум решила продать усадьбу, и тут уж ничего не попишешь. Хотите жить здесь — пожалуйста, купите усадьбу. Разумеется, если сможете предложить лучшие условия, чем директор Карлберг.
Мелькера забил озноб; он чувствовал, что у него начинается приступ отчаянной ярости, который вот-вот задушит его. По какому праву эти люди вторглись сюда и лишь несколькими словами уничтожили все, почти все, чем жили и чему радовались он и его дети? Еще несколько минут назад они сидели здесь такие счастливые, а теперь все пропало, все пошло прахом. «Купите усадьбу!» Какая насмешка! Боже мой! На свои заработки он не мог купить даже собачью будку. На годовую плату за усадьбу он еще в состоянии наскрести, ведь не такой уж он, в самом деле, никчемный, потому-то он питал такие надежды на вереницу счастливых лет в Столяровой усадьбе. Наконец-то он нашел место, где его дети могут резвиться летом и испытать, как он сам когда-то, свои летние радости, которые вспоминаются потом всю жизнь. Но вот приходит какой-то человек, произносит несколько слов — и всему конец. Мелькер не смел взглянуть на детей, но внезапно он услышал дрожащий голос Пелле:
— Папа, ты же обещал, что мы всегда будем здесь жить!
Мелькер судорожно глотнул воздух — да, чего он только не говорил! Что они будут жить здесь всегда! И что довольно реветь! Это он тоже говорил, а сейчас ему самому хотелось завыть, как собаке, от отчаяния и сознания собственного бессилия. А в двух метрах от него стоял, прислонившись к кусту боярышника, Маттссон и всем своим видом показывал, что нынче обычный день и что он приехал обстряпать дельце, которое тоже совсем обычное.
— По-вашему, — с горечью спросил Мелькер, — по-вашему, я и мои дети должны убираться отсюда?
— Не сейчас, конечно, — ответил Маттссон. — Но если директор Карлберг купит усадьбу, ну он или, скажем, кто-то другой, вам придется согласовать сроки своего пребывания здесь с новым владельцем.
Директор Карлберг избегал смотреть на Мелькера. Он обращался только к Маттссону, будто никого здесь больше не было.
— Да, пожалуй, я бы купил эту усадьбу, если мы сойдемся в цене. Дом — все равно что ничего, это сразу видно; в любом случае его придется снести. Но такой участок встречается не каждый день.
Мелькер услышал глухой ропот детей и стиснул зубы.
В беседу вмешалась Лотта Карлберг:
— Да, папа, дом в самом деле ужасный. На его месте можно построить такое же прелестное бунгало, как у Калле и Анны Греты.
Отец Лотты кивнул, но вид у него был чуть смущенный. Он думал, что, пожалуй, рассуждать о бунгало Калле и Анны Греты немного рановато.
Чёрвен думала то же самое.
Фу, эта Лотта! Сидит на крыльце Столяровой усадьбы и воображает, будто она всему тут хозяйка! Подбоченившись, Чёрвен встала прямо перед ее носом.
— Лотта, знаешь что, — сказала она. — Сама ты пунгало, хоть ты и дылда!
Лотта тотчас поняла, что нажила себе врага. И если бы одного! Нет, все дети, в упор смотревшие на нее, были ее врагами, и она ничего против этого не имела. Наоборот, она наслаждалась, чувствуя свое превосходство. От ее папы зависело, останутся эти дети здесь или нет. Им же выгодней быть с ней полюбезней. И совсем нечего таращиться на нее так, словно она здесь лишняя.
— Каждый имеет право купить себе дом, если захочет, — высокомерно бросила она, ни к кому не обращаясь.
— Ясно, — сказала Тедди, — и построить себе бунгало, как у Калле и Анны Греты. Сделайте милость!
— А эту старую дрянную лачугу можно снести, — сказала Фредди. — Только попробуйте!
Тедди с Фредди примчались тотчас же, как только услыхали, что происходит. Не успеет, бывало, на острове что-нибудь случиться, как в лавке каким-то чудом уже известно, что именно случилось. Тедди с Фредди хотелось быть рядом с друзьями в трудный час. На что же тогда друзья? Никогда не приходилось девочкам видеть Юхана с Никл асом такими мрачными и подавленными. А Пелле! Он сидел у стола бледный как полотно. Рядом с ним сидела Малин. Она обнимала Пелле и была так же бледна, как он. Все это было ужасно и невыносимо. И тут еще эта девчонка-воображала бубнит о каком-то бунгало. Ничего удивительного, что Тедди, с Фредди пришли в бешенство.
— А что такое пунгало? — спросила Чёрвен своих старших и более образованных сестер.
— Наверно, что-то дурацкое, — ответила Фредди.
— Супер дурацкое, точь-в-точь как она, — сказала Тедди, указав пальцем на Лотту.
Страшно даже подумать, что она может стать их соседкой вместо Юхана, Никласа, Пелле, Малин и дяди Мелькера!
— Не мешало бы взглянуть, как там в доме, — сказал директор Карлберг и впервые обратился к Мелькеру: — Разрешите, господин Мелькерссон, — произнес он, ухитрившись, чтобы слова его звучали доброжелательно и вместе с тем весомо.
Господин Мелькерссон разрешил. Что он мог сделать? Он был человек конченый, и он это понял. Но он пошел вместе с посетителями, а Малин за ним следом. Нельзя оставлять отца наедине с этой парочкой, Карлбергом и Маттссоном, которые собираются отобрать у них Столярову усадьбу. И кроме того, она не допустит, чтобы кто-то, расхаживая по их дому, в пух и в прах критиковал все, что они так любили. Что ни говори, это был их дом. В нем только жить да радоваться. Все вместе они сделали этот дом по-летнему светлым и буднично-прекрасным! И Малин знала: Столярова усадьба признала их. Столярова усадьба и Мелькерссоны были одно целое. А теперь пришли чужие люди, которые замечали только то, что половицы кое-где шатаются, что рамы чуть осели, а в окна дует и что крыша протекает в нескольких местах. Бедная старая Столярова усадьба! Малин казалось, что она должна отстоять и защитить ее. И поэтому Малин открывала двери перед непрошеными гостями и перед своим беднягой отцом. Тайком она ободряюще подтолкнула его, а он посмотрел на нее с благодарной, виноватой и грустной улыбкой — вынести ее Малин было почти что не под силу.
Лотта с ними не пошла. Если папа купит дом, то его все равно снесут, а ей хотелось остаться с этой мелкотой и насладиться чувством собственного превосходства. Правда, ребят шестеро! Но до чего интересно — удастся ли ей одолеть целых шесть врагов зараз. Она успешно справлялась с такими делами, так как была ужасно самоуверенна и никогда не боялась нажить себе врагов, практика у нее была обширная. К тому же она не одна, с ней ее пудель. И Муссе считает, по крайней мере, как и она, что Лотта Карлберг — нечто весьма изысканное и выдающееся, и это вселяло в нее большую уверенность.
Лотта держала Муссе на руках, чтобы он не напал на щенка Пелле. Тихо напевая, обошла она вокруг дома. Она сделала вид, будто осматривает все вокруг, а на самом деле ей хотелось поглядеть, сможет ли она вывести из себя этих людей, которые молча смотрели на нее. Нужно было обладать большим мужеством, чтобы вот так непринужденно расхаживать взад-вперед у них на глазах. Она никогда не решилась бы на это, не будь она так самонадеянна. Да и что ей до этих крестьянских ребятишек!
— Маленький Муссе, — говорила она. — Хотелось бы тебе жить тут летом, только в настоящем доме, а не в этой развалюхе?
Лотта взялась за ставень, желая показать Муссе, как все здесь разваливается. Это был как раз ставень от кухонного окна, и он был съемный. Дети Мелькерссона знали, что он съемный, но Лотта этого не могла знать. Она была обескуражена, когда ставень внезапно очутился у нее в руках. Усердно, но безуспешно пыталась она вставить его на прежнее место, пока Никлас не отобрал у нее ставень. Привычным движением он ловко приладил его и, стиснув зубы, сказал:
— Эй ты, не можешь, что ли, подождать, пока твой отец купит лачугу? Тогда и сноси!
Все еще задирая нос, Лотта чувствовала себя вовсе не так уверенно, как раньше, и, чтобы скрыть это, попыталась завязать разговор с Пелле. Ведь у него тоже собака, а о собаках всегда найдется что сказать.
— У тебя спаниель? — спросила она.
Пелле не ответил. Какое ей дёло, какая у него собака? И потом он был в таком отчаянии, что ему самому почти что не было до этого дела.
— Да, эти спаниели милы, но не очень умны, — продолжала болтать Лотта. — Пудели куда умнее.
Пелле снова не ответил, и Лотта почувствовала, что осталась в дураках. Столкнувшись с молчанием детей, она потеряла былую уверенность и поэтому обратилась к Чёрвен:
— Тебе бы тоже хотелось иметь маленькую собачку, верно?
Чёрвен глядела на Лотту еще злее, чем другие, но при этих словах она улыбнулась.
— У меня уже есть собачка, — сказала она, — хочешь, покажу?
Лотта покачала головой:
— Нет, хватит здесь собак. А не то Муссе разозлится и еще нападет на нее.
— Тогда он тоже пунгало, — заявила Чёрвен. — Спорю на что хочешь, на мою собачку он не нападет.
— Ты уверена? — спросила Лотта. — Ты просто не знаешь Муссе.
— Спорим? — сказала Чёрвен. — На крону. — И она вытащила монету, полученную от Карлберга.
— С превеликим удовольствием, — ответила Лотта, — но пеняй на себя!
Она заметила, что дети словно чего-то ждут. Ну что ж, раз они такие падкие до собачьих драк, она им покажет. Конечно, Муссе маленький, но он страшный задира, у него шерсть встает дыбом, и он без оглядки лезет в драку с собаками намного больше его самого. Ну и ясно, что с меньшими — тоже. Грозой города считали его обывательницы в Нортелье. «Он корчит из себя породистую собаку», — сказала не далее как, вчера одна из них, когда Муссе кинулся на ее громадного боксера. Так что если малыши хотят видеть собачью драку, пожалуйста, Муссе всегда с честью выйдет из любой драки.
— Подержи своего щенка, — сказала Лотта Пелле. — Я спускаю Муссе.
И она спустила Муссе с поводка.
Оставалось только ждать собаку, на которую он набросится.
Боцман мирно спал в тени за кустом сирени, но охотно поднялся, когда Чёрвен разбудила его. Во всем своем великолепии он вышел из-за угла дома. И наткнулся на Муссе…
Послышалось пыхтение Муссе и истошный крик его хозяйки. Сам пудель пережил несколько минут ужаса, молча глядя на приближающееся чудовище. Но потом взвыл и, как белое облачко, испарился через калитку.
Боцман удивленно посмотрел ему вслед: чего это он так торопится? Хоть бы поздоровался сперва. Сам Боцман, как вежливый пес, подошел к Лотте поздороваться, но та завизжала и бросилась бежать со всех ног за куст боярышника.
— Убери собаку! — истошным голосом вопила она. — Убери ее!
— Чего орешь, — спокойно сказала Чёрвен. — Боцман ни на кого не нападает, он тебе не пун-гало.
Юхан, лежа ничком в траве, захлебывался от смеха.
— Ох, Чёрвен, — стонал он, — ох, Чёрвен!
Чёрвен поглядела на него с удивлением, но тут же повернулась к Лотте:
— Я выиграла! Выкладывай крону!
Убедившись, что Боцман не опасен, Лотта вышла из своего убежища. Смущенная и злая, она не желала больше знаться с этими детьми. С кислой миной вытащила она кошелек и протянула Чёрвен крону.
— Спасибо! — сказала Чёрвен. Склонив набок голову, она смотрела на Лотту. — Таким, как ты, нельзя спорить ни на что, — продолжала она, — спорить должны такие, как я и дядя Мелькер.
Лотта нетерпеливо смотрела на дверь дома. Скоро ли выйдет отец? Скорее бы уехать отсюда!
— Угадай, на что поспорил раз дядя Мелькер? — спросила Чёрвен. — Хотя это было давным-давно.
Лотте было совсем неинтересно, что сделал давным-давно дядя Мелькер, но это ничуть не смутило Чёрвен.
— Он поспорил с другим дяденькой, что не будет есть четырнадцать дней и не будет спать четырнадцать ночей. Ну как?
— Дурацкая шутка, — сказала Лотта. — Этого не может быть.
— А вот и может! — торжествующе воскликнула Чёрвен. — Потому что днем он спал, а ночью ел. Ха-ха-ха, что ты на это скажешь?
— Ох! Чёрвен! — стонал Юхан.
Но он тут же перестал смеяться, потому что на крыльце появился директор Карлберг в сопровождении Маттссона и Юхан услыхал, как Карлберг произнес роковые слова. И не только Юхан, все услыхали эти слова:
— Дом гроша ломаного не стоит, но я все равно его куплю. С таким участком, по-моему, это дельце выгодное.
Спустившись с крыльца, он наткнулся на Чёрвен, и она упала. Карлберг рассердился, но Чёрвен приняла это совершенно спокойно.
— Директор Карлберг, знаешь что, — сказала она, — я выучила веселый стишок, хочешь послушать?
И не успел Карлберг ответить, как она уже читала:
Адам и Ева однажды в раю Закололи жирную свинью, Сало продали, А мясо слопали…— Выгодное дельце, правда? — спросила Чёрвен.
Директор Карлберг удивленно посмотрел на нее.
— Что-то не понимаю, — сказал он.
Сунув руку в карман, он вытащил крону. Очень мило, что эта малышка прочитала ему стишок, да к тому же он ее нечаянно толкнул. Но он спешил и решил откупиться, сунув ей в руку еще одну монету.
— Спасибо тебе, — сказал он. Повернувшись к Маттссону, он продолжил: — Только сначала я посоветуюсь с женой. В контору я приду завтра в четыре часа дня, вам подходит?
— Отлично, — ответил Маттссон.
Вечером они сидели на кухне в Столяровой усадьбе, все Гранквисты и все Мелькерссоны. Много вечеров сидели они там вместе, но никогда не были так подавлены и неразговорчивы. Да и что сказать? Мелькер молчал. Он не мог говорить, ему мешала боль в груди. Ниссе и Мэрта обеспокоенно смотрели на него. Они пытались дать ему понять, как сильно они опечалены и как им будет не хватать Мелькера и его семьи, но Мелькер был такой убитый, что они совсем отчаялись. Они сидели молча, а летние сумерки неприметно обволакивали их. В темноте каждый мог беспрепятственно предаваться своим мрачным мыслям.
«Удивительное лето», — думала Малин. Она вспомнила, каким спокойным, мирным и безмятежным было прошлое лето. А нынче! Столько разных событий. Прямо «американские горы»! То Петер и счастье, то слезы и отчаяние, сперва Пелле и Юкке, а теперь — жестокое известие, которое положит конец их радости. Да, печальный конец!
Чёрвен лежала на полу рядом с Боцманом, а спиной к дровяному ларю сидел Пелле с Юм-Юмом на коленях. Даже в обычные дни жизнь представлялась Пелле чем-то вроде «американских гор»: то гигантский взлет, то падение — от радости к горю, а сейчас, несмотря на Юм-Юма, он был на самом дне бездны. Хуже всего, что папа был в таком отчаянии. Пелле мог вынести что угодно, только не это. Прижавшись щекой к теплой и мягкой шерстке Юм-Юма, Пелле пытался утешиться. Но не мог.
Чёрвен плакала беззвучно и зло. Утром она задирала Лотту, и потому до нее еще не сразу дошло, что будет. Теперь она уже все знала и просто лопалась от злости. Ей было жалко Пелле и саму себя. И зачем только люди устраивают гадости друг другу! Сперва Вестерман, а теперь этот толстяк Карлберг со своей дурищей Лоттой. Провались они все! И почему не оставить людей в покое? Одни беды! Бедный Пелле, что бы такое ему подарить? Пусть бы повеселел! Но на этот раз тюленя у нее не было. У нее ничего не было.
И тут она услыхала, как Фредди ворчит в своем углу:
— Деньги, деньги, деньги, как несправедливо, что от них все зависит; паршивый Карлберг.
И вдруг Чёрвен вспомнила: у кого это нет денег?! Да у нее у самой полные карманы! У нее целых три кроны, ей-ей, правда!
— Пелле, я тебе чего-то дам, — тихонько, чтобы никто не слыхал, прошептала Чёрвен, передавая ему тайком свои три кроны. Ей было даже чуть-чуть совестно: хоть это и огромные деньги, но их все равно не хватит, чтобы утешить Пелле в таком горе.
— Какая ты добрая, Чёрвен! — хрипло отозвался Пелле.
Он тоже не думал, что три кроны помогут в таком горе, но ему стало чуть легче, раз Чёрвен захотелось подарить их ему.
Четверо тайных заговорщиков, мрачные как тучи, сидели в своем углу, и всю таинственность с них как рукой сняло. Столько планов строили они на это лето! Они снова собирались соорудить хижину на Ворчальном острове. Собирались построить новый большущий плот. Собирались на целую неделю махнуть на дальние острова с палатками. Собирались взять у кого-нибудь моторку и добраться до самой Кошачьей шхеры, чтобы посмотреть тамошний большой грот. А еще Бьёрн обещал взять их с собой на рыбалку. И они задумали устроить главный штаб для своего тайного клуба на чердаке Столяровой усадьбы. Было еще не поздно, Юхан с Никласом жили в усадьбе, так что они могли осуществить все задуманное. Но охота пропала. Все потеряло свою прелесть.
— Странно! — сказал Юхан. — Мне больше ничего не хочется.
— И мне, — сказал Никлас.
Тедди с Фредди лишь вздохнули.
Настала ночь. Гранквисты уже давным-давно ушли домой; спали и мальчики. Но Мелькер и Малин по-прежнему сидели в кухне. Было темно. Они едва различали светлый четырехугольник окна в стене и отсветы огня, проникавшие сквозь отверстия в плите. Они слышали лишь, как потрескивают горящие дрова, — и больше ни звука. Малин вспоминала, как Мелькер впервые зажигал плиту. Это было ужас как давно и как весело!
Мелькер молчал весь вечер. Но тут он заговорил. Он дал волю накопившейся в нем горечи.
— Я неудачник, я знаю. Полный неудачник, Чёрвен права… нет у меня настоящей хватки.
— И не придумывай! — возразила Малин. — Есть у тебя настоящая хватка. Уж я-то знаю.
— Нет, нет ее у меня, — уверял дочь Мелькер. — Иначе я не сидел бы весь вечер сложа руки, когда свершается такое дело. Неудавшийся писака! И почему я только не стал вместо этого хозяином конторы? Тогда мы, быть может, уже владели бы этой усадьбой.
— Не нужен мне в доме хозяин конторы, — заявила Малин. — Никому из нас он не нужен. Мы все этого не хотим. Нам нужен ты!
Мелькер горько рассмеялся:
— Я, на что вам я? Я не могу даже дать своим детям спокойное лето. Это я-то, который хотел столько дать вам, дать вам самое прекрасное, самое веселое и самое ценное в этой жизни…
Голос его дрогнул, и продолжать он больше не мог.
— Но ты уже сделал все, что хотел, папа, — спокойно сказала Малин. — Мы получили все самое прекрасное, самое веселое и самое ценное в этой жизни. И полу или от тебя, только от тебя! И ты заботился о нас, а это — самое главное. Мы всегда чувствовали твою заботу.
Тут Мелькер заплакал — ох уж эта Малин, довела его до слез.
— Да, — всхлипнул Мелькер. — Я заботился о вас! Если это для вас что-то значит…
— Это — все, — сказала Малин, — и больше я не хочу слышать, что мой отец неудачник. А со Столяровой усадьбой будь что будет.
Дом у самого моря
На другой день все проснулись с одной-единственной мыслью — сегодня в четыре часа Карлберг пойдет в Нортелье к Маттссону и купит Столярову усадьбу.
Они все еще пытались вести себя так, будто ничего не случилось, и делали вид, что это совсем обычный день. Обычный день, который привычно начинается с завтрака в саду, день с привычными осами, жужжащими над вазочкой с вареньем. Бедные осы. Пелле стало их жаль.
— Когда Карлберг снесет дом, он разорит осиное гнездо.
— Да, единственный способ уничтожить ос, — сухо сказал Мелькер. — Сносят весь дом и… Как мы только сами до этого не додумались?
Настала долгая, томительная тишина, которую нарушило появление Чёрвен.
— Дядя Мелькер, ты что, оглох? Сколько раз повторять, тебя к телефону!
В Столяровой усадьбе телефона не было, и Мелькеру всегда звонили в лавку. Отодвинув чашку с кофе, Мелькер бросился бежать, а Чёрвен за ним.
Через несколько минут она вернулась. У нее был испуганный вид.
— Малин, лучше тебе тоже пойти туда. Верно, опять какая-то новая беда. Дядя Мелькер совсем расстроился.
В лавку помчались не только Малин, но и Юхан с Никласом и Пелле.
Они нашли своего бедного отца в лавке в окружении опечаленных Ниссе, Мэрты, Тедди и Фредди. Он был явно расстроен, по щекам у него текли слезы, и он повторял тихим голосом:
— Не может быть! Не может быть!
— Папа, что случилось? — в отчаянии спросила Малин. У нее уже не было сил для новых огорчений. — Папа, скажи, что случилось?
Мелькер глубоко вздохнул.
— Только что… — вымолвил он и снова замолчал. Потом перевел дух и сказал: — Только что случилось чудо. Вы не поверите, но меня угораздило получить литературную премию — двадцать пять тысяч крон.
Долгое время в лавке Гранквиста на Сальткроке стояла тишина. Всех точно громом поразило. Чёрвен была единственная, сохранившая самообладание.
— А дали… ну, эту, про которую ты сказал, тебе за что?
Посмотрев на нее, Мелькер торжествующе улыбнулся:
— Я тебе скажу, малышка Чёрвен. За то, что у меня есть настоящая хватка, понимаешь, вот за это мне ее и дали.
— Так они и сказали, те, которые звонили?
— Да, что-то в этом роде.
— Так чего же ты тогда ревешь? — удивилась Чёрвен.
И тут внезапно до всех дошло, что случилось радостное событие.
— Папа, так мы теперь богатые? — спросил Пелле.
— Ну не совсем, — ответил Мелькер, — но во всяком случае…
Тут он смолк, и дети боязливо посмотрели на него. Не станет же он снова плакать. Теперь-то уж в самом деле конец реву!
Мелькер не плакал. Он закричал. Внезапно он закричал:
— Вы понимаете, что это значит? Может, нам удастся купить Столярову усадьбу… если еще не… если еще не поздно!
Он взглянул на часы, и в этот миг они услыхали гудок: внизу у пристани готовился отчалить пароход «Сальткрока I».
— Беги, Мелькер! — сказал Ниссе Гранквист. — Беги!
И Мелькер побежал, крича на ходу:
— Поехали, Юхан и Никлас! Поехали! Стой! — Последний выкрик относился к пароходу.
Трап уже убрали, когда Мелькер примчался на всех парах. Но у Мелькера был такой безумный вид и он так умоляюще протягивал руки, что сердце капитана, стоявшего на мостике, дрогнуло. Снова опустили трап, и Мелькер взбежал на пароход.
Не оборачиваясь, он крикнул:
— Поехали, Юхан и Никлас! Поторопитесь!
Когда пароход был уже на порядочном расстоянии от острова, Мелькер неожиданно обнаружил, что с ним едут не только Юхан с Никласом, но и Пелле с Чёрвен.
— А кто вам разрешил? — с упреком спросил Мелькер. — Малышам тут делать нечего.
— Хм-хм! Мы тоже хотим с тобой, — сказала Чёрвен. — Я не была в Нортелье целых сто лет.
Мелькер понял, что разговор бесполезен. Не мог же он сбросить малышей в море. И раз уж он получил сегодня премию, надо быть добрым и благородным. К тому же он запыхался после пробежки, и ему было трудно ругаться.
— Бежал, как олень, — задыхаясь, сказал он. — Конечно, не так, как в школе, когда я пробегал сто метров за двенадцать и четыре десятых секунды.
Юхан с Никласом переглянулись, а Юхан покачал головой:
— Ну и ну, папа. Чем старше ты становишься, тем быстрее, по твоим словам, ты бегал, когда ходил в школу.
Но то, что Мелькер мог еще бегать, как олень, было совсем неплохо. В тот день ему пришлось побегать.
Если живешь на Сальткроке, то требуется немало времени, чтобы добраться до городка Нортелье. Сначала пароход доставляет тебя на материк к пристани, и на этой пристани сидишь и ждешь примерно с час. Наконец появляется автобус, который ходит в Нортелье. По пути он делает множество остановок и вообще не торопится, хотя придерживается расписания. В час дня автобус должен быть в Нортелье и приходит туда минута в минуту.
«Поседеешь от такой поездки, — подумал, вылезая из автобуса, Мелькер. — Чего только не передумаешь во время такого долгого путешествия. Сидишь в автобусе, все больше волнуешься и уговариваешь себя без конца: „Столяровой усадьбы тебе не видать как своих ушей, и не мечтай!“»
Но попытаться все же нужно. И в сопровождении целой вереницы детей Мелькер пустился со всех ног в контору Маттссона по сдаче внаем и по продаже недвижимого имущества.
Там не было никакого Маттссона, а лишь маленькая пухленькая машинистка. Лицо у нее было доброе, но, к сожалению, она ничего не знала.
— Где господин Маттссон? — спросил Мелькер.
Она кротко взглянула на него:
— А я откуда знаю?
— Когда он вернется?
— А я откуда знаю?
Глаза у нее были большие и наивные, и ясно было, что она вообще ничего о нем не знает. Неожиданно вынув зеркальце, она стала разглядывать свою кругленькую стандартную мордашку, и это занятие так увлекло ее, что она вдруг стала необычайно говорлива:
— Он ушел, ведь он вечно где-то бегает. Не пошел ли он купить ревень? А может, он на стройке. А иногда он сидит в городской гостинице и пьет.
Больше они не смогли ничего из нее вытянуть и выбежали из конторы так же поспешно, как и вбежали туда.
Мелькер взглянул на часы. Третий час. Где же этот Маттссон? Где в этом милом городке может отыскаться этот негодный Маттссон? Необходимо его найти, и побыстрее. Пошел купить ревень… Наверное, его покупают на рынке? Какой тут ревень, господин Маттссон, когда решается судьба Столяровой усадьбы!
Мелькер дрожал от волнения, и ему не хотелось тащить за собой Пелле и Чёрвен. Трудно было двигаться целым эскадроном по тесным улочкам. Мелькер решился на хитрость.
— Хотите мороженого? — спросил он.
Конечно, они хотели. Мелькер купил в киоске мороженое и с пакетиком в каждой руке поманил Пелле и Чёрвен в зеленый скверик, где стояла скамейка.
— Сидите здесь, — сказал Мелькер, — и ешьте мороженое, пока мы не вернемся.
— А когда съедим? — спросила Чёрвен.
— Все равно сидите.
— До сколька? — снова спросила Чёрвен.
— Пока не поседеете, — безжалостно ответил Мелькер и ринулся вперед. Юхан с Никласом помчались за ним. А Чёрвен и Пелле остались сидеть на скамейке и есть мороженое.
Иногда снится, будто ты бегаешь и что-то ищешь. И это что-то необходимо найти. Найти как можно быстрее. Дело идет о жизни и смерти. Мечешься в страхе, ищешь и ищешь, страх все растет, но найти — не находишь. Все напрасно. Переживания Мелькера и его сыновей в те часы, когда они искали Маттссона, напоминали такой сон.
На рынке его не было; да, он был, но уже давно ушел, сказала одна из торговок. А его стройка? На другом конце города. Но и там Маттссона не было и в помине. Может, он в самом деле сидит в городской гостинице и пьет? Нет, там даже тени Маттссона не было.
И вдруг Мелькер хлопнул себя по лбу.
— Ну не дурак ли я? — закричал он. — Почему мы не сидим в конторе и не ждем, вместо того чтобы носиться по городу и натирать себе мозоли?
И вот тут-то, вот тут-то они сделали ужасающее открытие. Часы Мелькера остановились! Мелькер увидел, что часы на городской гостинице показывали пять минут пятого, а не половину четвертого, как его собственные злосчастные часы. Это был страшный миг.
— Я предупреждал тебя, Мелькер. Не тебе о чем-либо мечтать. Тебе ли купить Столярову усадьбу, когда ты даже не в состоянии узнать, который час? Поздно теперь, мой дорогой Мелькер. В эту минуту директор Карлберг с сигарой в зубах сидит в конторе Маттссона и причмокивает от удовольствия.
Мелькер так явственно представил себе эту картину, что даже застонал. Юхану и Никласу было жаль отца, но и они были вне себя от ярости. Неужто так бывает всегда? Сплошное невезение! Вечные несчастья! Юхан стиснул зубы.
— Он тоже мог опоздать. Возьмем, папа, такси!
Они взяли такси и в десять минут пятого подъехали к конторе Маттссона.
Но директор Карлберг был не из тех, кто опаздывает. Его часы шли правильно. Все было точь-в-точь, как представлял себе Мелькер. С довольным видом он сидел с сигарой в зубах. Мелькер потерял самообладание.
— Стоп! — крикнул он. — Я тоже покупатель.
Директор Карлберг вежливо улыбнулся:
— Боюсь, что вы опоздали.
В полном отчаянии Мелькер обратился к Маттссону:
— Да, но, господин Маттссон, неужели у вас нет сердца? Ведь мы любим Столярову усадьбу, мои дети и я. Не будьте так бессердечны.
Маттссон не был бессердечным. Он был просто равнодушный деловой человек.
— Почему же вы не пришли тогда раньше? В таких делах надо немедленно принимать решение. Здесь не ждут: кто приходит раньше, тот и хозяин. Слишком поздно, господин Мелькерссон.
«„Слишком поздно, господин Мелькерссон“ — эти слова я слышу всю свою жизнь», — подумал Мелькер, и в отчаянии он обратился к директору Карлбергу:
— Ради моих детей… не могли бы вы отказаться от…
— У меня тоже ребенок, господин Мелькерссон, у меня тоже, повторяю, ребенок. — Он повернулся к Маттссону: — Пойдем теперь к хозяйке, к фру Шёблум. Я хочу подписать контракт.
Фру Шёблум? Неужели та самая веселая жена столяра? Нельзя ли упросить ее? Не всем же распоряжается Маттссон?! Мелькер стиснул зубы. Надо попытаться. Не потому, что он верил в успех, — он хотел испробовать все средства. Если и эта, последняя, надежда лопнет, у него будет еще время переживать слова: «Слишком поздно, господин Мелькерссон».
— Пошли, мальчики, — прошептал он. — Пойдем и мы с ними к фру Шёблум.
«Пока не поседеете», — сказал дядя Мелькер. Так долго сидеть на этой скамейке! Чёрвен это пришлось не по вкусу. Пелле тоже. Мороженое кончается быстро, а седеют медленно. Они уже давно сидели на скамейке и успели проголодаться; Пелле так волновался, что не мог усидеть спокойно. Почему этот папа вечно не приходит? У Пелле заболел живот, его бил озноб.
Чёрвен тоже была недовольна. Нортелье такой веселый городок, она бывала здесь много раз вместе с мамой и папой и знала, сколько в городе интересного и занимательного! А тут сидит, как приклеенная к скамейке, да еще без еды!
— Мы что, так и будем тут сидеть, пока не умрем с голоду? — жалобно спросила она.
Что-то вспомнив, Пелле оживился. Ведь у него есть деньги!
Нет, всерьез: целых три кроны в кармане.
— Куплю нам еще по пакетику мороженого, — сказал он.
Пелле так и сделал. Подбежав к киоску, он купил мороженое, после чего в кармане у него осталось всего две кроны.
Мороженое съедают быстро, время шло, никто не приходил, и Пелле снова стал бить озноб.
— Я думаю, я куплю еще по пакетику мороженого, — сказал он.
Пелле так и сделал. Он снова подбежал к киоску, после чего в кармане у него осталась всего одна крона.
Время шло, никто не приходил. Мороженое давным-давно было съедено.
— Купи еще! — предложила Чёрвен.
Пелле покачал головой:
— Нет, нельзя тратить все до последней монетки. Надо оставить на непредвиденные расходы.
Он часто слышал, как Малин повторяла папе эти слова. Что такое «непредвиденные расходы», он точно не знал, он знал только, что нельзя тратить все деньги сразу.
Чёрвен вздохнула. С каждой минутой она все больше и больше теряла терпение. А Пелле все больше и больше беспокоился. Что, если папа не найдет этого противного Маттссона? Кто его знает, может, все уже изменилось. Может, Маттссон сидит в доме директора Карлберга и вовсю торгует Столяровой усадьбой, вместо того чтобы идти на рынок, купить ревеня, а потом поторопиться в свою контору и продать усадьбу папе. А тут сиди и жди… и ничего тебе не известно… Как ненавидел он этого Карлберга. И еще этого Маттссона! Неужели фру Шёблум нравится, чтобы он вел ее дела, почему бы ей самой их не вести?
Фру Шёблум? Она живет где-то здесь, в Нортелье… Неужто она хочет продать Столярову усадьбу? Она, верно, не в своем уме… Спросить бы у нее. Да, а почему бы нет?
— Ты знаешь фру Шёблум? — спросил он Чёрвен.
— А то не знаю, я всех людей на свете знаю.
— А где она живет?
— Где она живет? — переспросила Чёрвен. — Она живет в желтом доме, а неподалеку от него ость конфетный магазин, а совсем рядом — игрушечный.
Пелле молча размышлял. И У него все больше и больше болел живот. Наконец он вскочил со скамейки.
— Пошли, Чёрвен, искать фру Шёблум. Я хочу поговорить с ней.
Удивленная Чёрвен весело вскочила с места.
— А что скажет дядя Мелькер?
Пелле такой вопрос тоже приходил в голову, но сейчас он не хотел об этом думать. Он хотел найти фру Шёблум. Стареньким тетям Пелле обычно нравился, может, и ничего, если он ее спросит… Ой! Он сам толком не знает, про что ее спросит. Он знал только, что дольше невозможно сидеть сложа руки.
Чёрвен много раз бывала с мамой и папой в гостях у тетушки Шёблум. И все-таки найти желтый дом она не могла. Но она нашла полицейского и спросила его:
— Где тут конфетный магазин, который совсем рядом с игрушечным?
— Тебе нужно, чтобы все было в одном месте? — рассмеялся полицейский. Но потом, немножко подумав, сообразил, что она имела в виду, и показал детям дорогу.
И они побежали дальше по тесным, маленьким улочкам, мимо уютных домишек и нашли наконец конфетный магазин, который находился совсем рядом с игрушечным. Чёрвен огляделась.
— Вот! — показала она пальцем. — В этом желтом доме живет тетушка Шёблум.
Дом был невысокий, двухэтажный, с небольшим садиком и дверью, выходившей прямо на улицу.
— Позвони ты, — сказал Пелле. Сам он не решался.
Чёрвен надавила пальцем на кнопку звонка и долго не отпускала. Потом они стали ждать. Они ждали долго-долго, но никто не пришел и не открыл им двери.
— Ее нет дома, — сказал Пелле, сам не зная, огорчаться этому или нет. Вообще-то хорошо, потому что трудно разговаривать с незнакомыми людьми, но все-таки…
— Зачем же тогда у нее радио орет? — спросила Чёрвен, приложив ухо к двери. — Неужто ты не слышишь, как поют: «Весело было в субботу в дупле…»?
Позвонив еще раз, Чёрвен изо всех сил забарабанила в дверь. Но никто не отозвался.
— Она должна быть дома, — заявила Чёрвен. — Пойдем посмотрим с другой стороны.
Они обошли дом. Позади него, прислоненная к окну второго этажа, стояла лестница. Сквозь открытое окно слышались громкие звуки радио. Теперь они совершенно отчетливо слыхали, как «весело было в субботу в дупле…».
— Тетя Шёблум! — закричала Чёрвен.
Никакого ответа.
— Влезем наверх и посмотрим! — предложила Чёрвен.
Тут Пелле испугался. Так, наверное, нельзя влезать в чужой дом. Это надо совсем рехнуться! Но Чёрвен была непреклонна. Она подтолкнула его к лестнице, и, хотя ноги у него подкашивались, он полез наверх.
Уже на полпути он раскаялся, что послушался Чёрвен, и хотел было повернуть назад. Но не тут-то было: следом за ним карабкалась Чёрвен, а уж мимо нее никто бы не проскользнул.
— Быстрее! — сказала она, безжалостно подталкивая его наверх.
Испуганный, он полез дальше, лихорадочно соображая, что он скажет, если в комнате кто-то есть.
В комнате, конечно, кто-то был — наверное, Столярова жена. Она сидела на стуле спиной к окну; некоторое время Пелле в ужасе рассматривал ее затылок, потом кашлянул. Сначала тихо, а потом громче. Сидевшая на стуле старушка вскрикнула и обернулась; он увидел, что это и вправду Столярова жена, фру Шёблум. Именно такой он себе ее и представлял. Она была ужас какая старая, вся в морщинках, с седыми волосами, но с добрыми глазами и задорным носиком. Она смотрела на Пелле, словно на привидение.
— Я вовсе не такой страшный, как кажусь, — заверил ее дрожащим голосом Пелле.
Тетушка Шёблум рассмеялась:
— Вон что? Значит, ты вовсе не такой страшный, как кажешься?
— Да нет, он совсем не страшный, — успокоила ее, заглядывая в окошко, Чёрвен. — Здравствуйте, тетушка Шёблум.
Тетушка Шёблум всплеснула руками:
— Лопни мои глаза, коли это не Чёрвен!
— Да, это по мне видно, — подтвердила Чёрвен. — А это Пелле. Он хочет купить Столярову усадьбу. Можно?
Тетушка Шёблум расхохоталась, — сразу заметно, что она была хохотушка, — и сказала:
— Я не привыкла заключать сделки с людьми, которые торчат за окном. Пройдите-ка лучше в комнату.
Говорить с тетушкой Шёблум оказалось вовсе не так трудно, как вначале думал Пелле.
— Есть хотите? — первое, что она их спросила.
Подумать только, какое отличное начало!
Она повела их вниз в кухню и угостила бутербродами и молоком, бутербродами с ветчиной, бутербродами с сыром, бутербродами с телятиной и с огурцом. Настоящий пир! Уплетая бутерброды и запивая их молоком, они успели ей все рассказать. О Маттссоне, о Карлберге и о Лотте, о Вестермане и об Юкке, о Мосесе и о Туттисене, о Юм-Юме и о Боцмане и обо всем, что случилось на Сальткроке.
Особое внимание Чёрвен уделила Лотте Карлберг.
— Пунгало, — презрительно сказала она, — вот уж дурища, верно, тетя Шёблум?
Да, тетушка Шёблум согласилась с ней, что строить «пунгало», по крайней мере на Сальткроке, может только дурища, а снести Столярову усадьбу — ничего глупее она никогда не слыхала!
«Не хватало еще мозолей, — думал Мелькер. — В один день и мозоли, и литературная премия, и еще не знаю что, — это уж чересчур!» Но он решительно мчался вперед в сопровождении Юхана с Никласом. Нельзя было терять из виду Маттссона. Его уродливый полосатый костюм вел их по улицам, точно путеводная звезда, и привел в небольшой желтый дом, утопающий в кустах ракитника и жасмина.
Не успел Маттссон позвонить, как рядом с ним вырос Мелькер. Никто не может помешать ему участвовать в разговоре с хозяйкой усадьбы.
Директор Карлберг обозлился:
— Нет, господин Мелькер, уходите! Вам тут делать нечего!
— Имею я право говорить с фру Шёблум, если хочу? — с горечью спросил Мелькер.
Маттссон смерил его холодным взглядом:
— Я полагаю, господин Мелькер, что вам ясно: я — поверенный фру Шёблум. Неужели вы думаете, что вам поможет, если вы с ней переговорите?
Нет, Мелькер слишком хорошо знал, что не поможет, но он должен попытаться, и пусть кто-нибудь посмеет ему помешать!
Дверь отворилась. На пороге стояла фру Шёблум. Маттссон представил директора:
— Директор Карлберг, который покупает Столярову усадьбу.
Он делал вид, что не замечает Мелькера. Фру Шёблум, поздоровавшись с директором Карлбергом, осмотрела его с ног до головы. Мелькер деликатно кашлянул. Только бы она обратила на него внимание — она бы, может, поняла, что речь идет о жизни и смерти.
Но фру Шёблум не видела Мелькера; глядя на Карлберга, она спокойно и тихо сказала:
— Столярову усадьбу я уже продала.
Ее слова прозвучали словно гром среди ясного неба. Маттссон, как баран, уставился на нее:
— Продали?
— Продали? — переспросил Карлберг. — Что вы хотите этим сказать?
Мелькер побледнел. Все было кончено. Больше не оставалось никакой надежды. Не все ли равно, кто купил усадьбу, — для него и для его детей она потеряна навсегда! И он знал об этом заранее. Странно, однако, что, когда это подтвердилось, ему стало так больно.
Юхан с Никласом заплакали. Они плакали молча. Тщетно пытались они удержать горькие слезы. Ими овладела усталость, да и кому повредит, если они поплачут.
— Что вы хотите этим сказать? — спросил хозяйку Маттссон, обретя наконец дар речи. — Кому вы ее продали?
— Пойдемте со мной, увидите, — сказала фру Шёблум, открывая парадную дверь. — И вы тоже, — сказала она Мелькеру и его плачущим сыновьям.
Мелькер покачал головой. Он не хотел видеть того, кто купил Столярову усадьбу, лучше даже не знать, кто он. Но тут из дома раздался внезапно голос, который он тут же узнал:
— У дяди Мелькера — настоящая хватка, уж поверь мне, тетя Шёблум!
В желтом доме был небольшой переполох. Директор Карлберг жутко разозлился. Он бушевал и орал, дымя сигарой прямо в лицо багрово-красному Маттссону:
— Я вам этого не прощу! Объясните, господин Маттссон, что это значит, а потом можете убираться на все четыре стороны!
Бедняга Маттссон весь сжался в своем уродливом полосатом костюме. Неожиданно он стал маленьким и кротким.
— Ничего не поделаешь, — тихо ответил он. — Она упряма, как старая коза.
Фру Шёблум стояла к ним спиной, но при этих словах она обернулась:
— Да, она такая. И к тому же еще прекрасно слышит.
— Если не орет радио, — вставила Чёрвен.
Мелькер заключил Пелле в объятия, крепко прижав к сердцу.
— Пелле, детка… что ты наделал? Что ты наделал?
— Я дал небольшой задаток тетушке Шёблум, — сказал Пелле, — чтобы дело было вернее. И получил от нее расписку.
— Да, у меня теперь есть карманные деньги, — подтвердила фру Шёблум. — Смотрите!
Она держала в руке блестящую крону.
— Директор Карлберг, — сказала Чёрвен, — знаешь что? Целую крону за двойной морской узел — это, пожалуй, дороговато, но все равно спасибо тебе!
Директор Карлберг повернулся и вышел, не произнеся ни слова. За ним выбежал Маттссон.
— Скатертью дорожка! — сказала Чёрвен. И все согласились с ней.
Юхан потрепал Пелле по щеке.
— Хорош наш папа! Сказать — малышам тут делать нечего! Ты славный парень, Пелле!
— Я хочу спросить вас, фру Шёблум, — сказал Мелькер, — прежде чем мы расстанемся…
Они сидели у нее на кухне и ели бутерброды. Лучшие бутерброды в их жизни — уверяли и Мелькер, и Юхан с Никласом. Оттого ли, что они ничего не ели с утра, или от неожиданной радости, но даже бутерброды приобретали какой-то необыкновенный вкус.
— Так что вы хотите спросить? — поинтересовалась фру Шёблум.
Мелькер с любопытством посмотрел на нее:
— Столярова усадьба — почему она так называется?
— Мой муж был столяр, разве вы не знали?
«Да, — подумал Мелькер. — Трудно сказать, чего бы я не знал». Но вслух сказал:
— Да, конечно! И вы переехали туда в тысяча девятьсот восьмом году?
— В тысяча девятьсот седьмом! — ответила фру Шёблум.
Мелькер удивился:
— А вы уверены, что не в тысяча девятьсот восьмом?
Фру Шёблум рассмеялась:
— Уж мне ли не знать, когда я вышла замуж.
«Ну да, годом позже или раньше», — подумал Мелькер, а потом сказал:
— Могу я задать еще один вопрос? Ваш муж — какой он был, веселый или…
— Он? — удивилась фру Шёблум. — Он был самый веселый из всех, кого я встречала. Когда не злился, конечно. Потому что бывало, что он и злился. Как и все мы.
В тот вечер Малин записала в своем дневнике:
Порою случается так, что жизнь избирает один из своих дней и говорит: «Тебе я дам все! Ты станешь одним из тех розовых дней, которые сверкают в памяти, когда все другие забыты».
Сегодня такой день. Не для всех людей, разумеется. Многие, многие обливаются сейчас слезами и с отчаянием будут вспоминать этот день. Как странно! Но для нас, Мелькерссонов из Столяровой усадьбы на Сальткроке, это один из самых радостных дней в нашей жизни.
Сам Мелькер сидел на скале близ Сорочьего мыса, опустив натруженные ноги в воду. Он удил рыбу. Рядом с ним сидели Пелле с Чёрвен и смотрели, как он удит рыбу. На коленях у Пелле примостился Юм-Юм, а рядом с Чёрвен — Боцман.
— У тебя нет настоящей хватки, дядя Мелькер, — сказала Чёрвен, — так тебе никакой рыбы не поймать.
— А мне никакой рыбы и не надо, — мечтательно ответил Мелькер.
— Так зачем же ты тут сидишь? — спросила Чёрвен.
И Мелькер все так же мечтательно продекламировал:
Когда солнце садилось в море, Ему хотелось видеть его сияние…Да, ему этого хотелось! Ему хотелось видеть все: солнце, горевшее над сверкающей водной гладью, белых чаек, серые скалы, отраженные в воде рыбачьи сараи на другом берегу залива — все то, что ему было дорого. Ему хотелось бы ласково погладить все это рукой.
— Я бы просидел тут всю ночь, пока не взойдет солнце. И увидел бы утреннюю зарю.
— Малин тебе не разрешит, — заверила его Чёрвен.
«Утренняя заря, — подумал Пелле, — и мне бы хотелось ее увидеть. „Возьму ли я крылья зари и переселюсь на край моря“…» Подумать только, они всегда смогут теперь жить в Столяровой усадьбе на Сальткроке, у самого моря!
Мадикен (пер. И Стребловой)
Летний день в Юнибаккене
Мадикен живет в большом красном доме возле речки. Еще там живут мама и папа, сестричка Лисабет, черный пудель Сассо и котенок Гося. Да еще Альва. Мадикен и Лисабет живут в детской, Альва в комнате для прислуги, Сассо в прихожей, где стоит его корзинка, а Гося на кухне около плиты. Мама живет во всем доме, где угодно, и папа тоже, но только он каждый день уходит в газету, сидит там и пишет, чтобы людям было что почитать.
По-настоящему Мадикен зовут Маргаритой. Но когда она была маленькой, она сама переиначила свое имя. Сейчас она уже большая, ей скоро исполнится семь, но она так и осталась для всех Мадикен. А Маргаритой ее называют только тогда, когда она что-нибудь натворит и ей строго выговаривают за провинность. И называют ее так довольно часто.
Элисабет всегда зовут Лисабет, она не доставляет старшим столько хлопот, и ее гораздо реже приходится отчитывать. Зато у Мадикен на уме одни проказы, а что из них получится, она наперед не думает и только уж после начинает жалеть и раскаиваться.
Мадикен очень хочет быть хорошей и послушной девочкой, но у нее никак не получается!
— Что за ребенок! — говорит Линус Ида. — Больно скора на проказы. Поросенок моргнуть не успеет, а у нее уже — раз, и готово!
Сущую правду говорит Линус Ида!
Линус Ида приходит в дом по пятницам стирать и мыть полы. Сегодня тоже пятница, и Мадикен сидит на мостках и смотрит, как Линус Ида полощет в речке белье. У Мадикен радостно на душе, у нее полный кармашек желтых слив — бери и ешь сколько хочешь. Мадикен болтает ногами в воде и поет Линус Иде песенку:
А Б В Г Снег был на дворе, Кошка по снегу прошла — То, мой друг, любовь была, Д Е Ж 3 Рассказала мне, Рассказала мне она, То любовь была.Эту песенку Мадикен придумала почти что сама. Кусочек взяла из маминой старой «Азбуки», кусочек — из песни, которую за стиркой всегда поет Альва. Песенка получилась что надо и очень подходящая — как раз чтобы под нее полоскать белье и есть сливы. Но Линус Ида думает иначе.
— Это что еще такое! — говорит она. — Неужели ты не знаешь хороших песен, чтобы спеть по-людски?
— По-моему, это хорошая песня, — говорит Мадикен.
Но Идины песни лучше!
— Идочка, миленькая! Спой, пожалуйста, про железную дорогу Иисуса Христа, по которой едут в рай.
Но Линус Ида отказывается петь, когда полощет. Не хочет — и ладно! Потому что, как ни любит Мадикен песню про железную дорогу Иисуса, она никогда не может слушать ее без слез. Вот и сейчас — только Мадикен о ней подумала, как притихла и на глаза у нее навернулись слезы. Это очень грустная песня про девочку, которая думала, что можно сесть на поезд и поехать на небеса, а там бы она встретила свою маму, которая умерла… Нет, сейчас Мадикен и думать об этом не хочет! У Линус Иды все песни такие печальные. Мамы в них умирают, и тогда папы возвращаются домой и ужасно раскаиваются, и клянутся, что больше никогда не будут напиваться пьяными… да уже поздно — раньше надо было спохватываться!
Мадикен тяжело вздыхает и принимается за следующую сливу. Ах, как она рада, что ее мама жива и что она, как и прежде, живет в их красном домике! Каждый вечер, ложась спать, Мадикен после обычной молитвы прибавляет от себя еще одну — о том, чтобы они с Лисабет, и мама, и папа, и Альва, и Линус Ида отправились бы на небо сразу все вместе. Хотя лучше всего было бы вообще никуда не отправляться, потому что им и тут всем очень хорошо живется. Но об этом Мадикен не решается просить Бога, а то как бы он еще не рассердился!
Линус Ида любит, чтобы над ее песнями плакали.
— Слушай, Мадикен! Слушай хорошенько! — приговаривает Линус Ида. — Будешь, по крайней мере, знать, как плохо живется бедным детям, не то что тебе. Ты-то у родителей как жемчужинка в золотой оправе.
Мадикен и впрямь живет, как жемчужинка в золотой оправе. У нее есть и мама, и папа, и Лисабет и Аббе Нильссон, и живет она в Юнибаккене[15]. Лучшего места, чем это, нигде на свете не найдешь! Если бы кто-нибудь попросил Мадикен описать, как оно выглядит, она бы, наверно, ответила приблизительно так:
«Ну, обыкновенный красный дом. Просто дом как дом. Самое лучшее в нем — кухня. Мы с Лисабет играем в дровяном чулане, а еще мы помогаем Альве, когда она печет… Впрочем, нет! Лучше всего — на чердаке. Мы с Лисабет играем там в прятки, а иногда наряжаемся каннибалами и играем, будто мы людоеды. На веранде тоже здорово. Там мы играем в пиратов и лазаем через окно, как будто это корабль и мы карабкаемся на мачты. Вокруг дома у нас растут березы, я по ним лазаю, а Лисабет не может — она еще мала лазать по деревьям, ей только пять лет. Иногда я забираюсь на крышу дровяного сарая. У забора рядом с участком Нильссонов стоит длинный красный дом, там у нас дровяной сарай и столярная мастерская, и прачечная, и комната с катальным станком для белья. Если забраться на дровяной сарай, то видно, что делается в кухне у Нильссонов. И еще бывает очень весело крутить катальный станок, когда Альва и Линус Ида катают белье! Ну а лучше всего, конечно, река! Нам разрешают ходить по мосткам, под ними неглубоко, а дальше нельзя — там начинается глубина. С другой стороны дома — улица. Там у забора растет сирень, и нас за ней не видно. Можно спрятаться за кустами и слушать, о чем говорят прохожие. Правда, шикарно?»
Вот так примерно ответила бы Мадикен, если бы ее спросили про Юнибаккен.
Иногда она и в самом деле сидит, притаившись, в кустах сирени и слушает, что говорят прохожие.
Сколько раз Мадикен слышала их слова: «Вы только поглядите, какая прелестная малютка!»
Мадикен уже не маленькая и не относит на свой счет эти восторги, но очень радуется, когда хвалят ее младшую сестренку. Лисабет так мила, что все ею восхищаются, даже Линус Ида. Та про нее говорит:
— Право слово! Девчонка такая красавица, что просто беда!
— Да еще и сладенькая! — отзывается Мадикен и кусает сестру за ручку, но только чуть-чуть. И Лисабет заливается хохотом, словно Мадикен ее пощекотала. Уж такая она вся мягонькая, такая нежненькая и сладкая! Но Лисабет еще и зубастенькая: ам! — и укусила сестру прямо в щеку.
— А ты вкусненькая, как огурчик, — говорит Лисабет и хохочет еще заливистей.
В Мадикен совсем нет ничего мягонького, нежненького и сладкого. Зато у нее хорошенькое, смуглое от загара личико, открытый взгляд голубых глаз и густые каштановые волосы. Она прямая как струнка, тоненькая и ловкая, как кошка.
— Она у нас только по ошибке уродилась девочкой! — говорит Линус Ида. — Право слово, из нее бы получился хороший мальчишка, не сомневайтесь!
Мадикен вполне довольна, какой она уродилась.
— Я похожа на папу, — говорит она, — и, значит, все будет шик-блеск. Раз я в папу, то непременно женюсь.
Эти слова приводят Лисабет в смятение — а как же тогда она? Вдруг она не женится? Она ведь вылитая мама, все так говорят!
По правде сказать, Лисабет равнодушна к вопросу о женитьбе, но раз Мадикен собирается жениться, то надо и ей. Лисабет хочет, чтобы у нее все было точь-в-точь как у Мадикен.
— Мала ты еще об этом задумываться, — говорит Мадикен и гладит ее по головке. — Погоди, пока подрастешь и пойдешь в школу, как я.
Про школу Мадикен немножко прихвастнула, в школу она не ходит, ее еще только записали в первый класс, и занятия начнутся через неделю. Однако можно сказать, что она без пяти минут школьница.
— Может быть, я еще и не женюсь, — говорит Мадикен, чтобы утешить сестренку.
В глубине души она не очень понимает, какой толк в женитьбе, она ни на ком не согласна пожениться, кроме Аббе Нильссона, это решено уже твердо. Впрочем, Аббе об этом пока что не знает.
Линус Ида дополоскала последние вещи, а Мадикен доела все сливы. И тут, откуда ни возьмись, прибегает Лисабет. Она была на веранде и играла с Госей. Потом Гося ей надоела, и она прибежала на мостки узнать, что нового придумала Мадикен.
— Мадикен, — спрашивает Лисабет, — что мы будем делать?
Двух кошек запрягай, Через море поезжай, Смотри, не свались, За хвосты держись! —говорит Мадикен. Она знает, что так полагается отвечать, потому что так всегда отвечает Аббе.
— Ха-ха-ха! А я так и сделала, — смеется Лисабет. — Я держала Госю за хвост, когда была на веранде!
— Ах так! Тогда я тебя поколочу, — говорит Мадикен. — Я же тебе сказала! Если будешь таскать Госю за хвост, я тебя поколочу.
— А вот и нет! — говорит Лисабет. — Я даже ни одного разочка не дернула. Я только подержала Госю за хвостик, а она стала вырываться и сама себя потянула.
Тут Линус Ида очень строго посмотрела на Лисабет.
— Разве ты не знаешь, Лисабет, что ангелы Господни плачут, если люди обижают животных, и тогда начинается проливной дождь?
— Ха-ха! — смеется Лисабет. — А дождя-то нету!
Действительно, дождя нет и в помине. Солнышко припекает, от клумбы с душистым горошком веет нежным ароматом, в траве жужжат шмели, и тихо струится протекающая мимо Юнибаккена река. Мадикен болтает ногами в теплой воде и, кажется, всем существом чувствует — вот оно, лето!
— Право слово, жарища какая-то несусветная, — говорит Линус Ида, отирая пот со лба. — Будто я полощу белье не в Швеции, а где-нибудь в Африке, на Ниле!
Больше Линус Ида ничего не сказала, но для Мадикен этого достаточно: в ней точно кнопку нажали и что-то там щелкнуло. Она ведь так скора на выдумки, что не успеет поросенок и глазом моргнуть, у нее уже готово — придумано.
— Ой, Лисабет! А я знаю, что мы будем делать! Вон там, в тростнике, мы будем играть в младенца Моисея[16].
Лисабет так и запрыгала от восторга:
— Можно, я буду Моисеем?
Линус Ида хохочет:
— Ай да младенец Моисей нашелся!
Но Линус Иде пора развешивать белье, и Мадикен с Лисабет остаются одни на берегу Нила.
По вечерам, после того как в детской погасят свет и в комнате делается темно и тихо, Мадикен рассказывает разные истории, а Лисабет слушает. Это бывают истории «о привидениях, убийцах и о войне», но тогда Лисабет перебирается из своей кроватки к Мадикен, чтобы не так было страшно. А иногда Мадикен рассказывает библейские истории, которые узнала от Линус Иды. И Лисабет хорошо знает, кто такой Моисей, как его положили в корзинку и бросили в реку, а потом пришла дочь фараона, принцесса Египетского царства, и нашла его в тростнике. Очень интересно поиграть в младенца Моисея!
На берегу у самой воды стоит бадья — как раз то, что надо для игры! Лисабет сразу полезла туда.
— Нет, — говорит Мадикен, — так нельзя. Надо ее стащить в воду, а то какой же это будет Моисей в тростнике! А ну-ка, вылезай, Лисабет.
Лисабет послушно вылезает, и Мадикен стаскивает бадью в воду. Бадья — тяжелая, но Мадикен сильная девочка. По берегам речки редко где можно встретить тростник, а тут он есть возле прачечной. Если бы не его густые заросли, с мостков Юнибаккена видны были бы мостки Аббе Нильссона, но тростник их заслоняет. Для Мадикен это — огорчение, а маме нравится. Мама, кажется, считает, что чем меньше видишь Нильссонов, тем лучше. Поди пойми ее! Ведь для чего у людей глаза, как не для того, чтобы все видеть. Зато сейчас тростник пригодился для Моисея. Очень удачно, что он тут вырос!
Ох, как трудно тащить бадью! Девочки раскраснелись от натуги, но затащили ее в самую середку зарослей. Лисабет быстро залезла и стала устраиваться, но, едва усевшись, вдруг притихла, на лице у нее отразилось беспокойство.
— Знаешь что, Мадикен, — говорит Лисабет, — а у меня штанишки намокли.
— Подумаешь! Скоро просохнут, — говорит Мадикен. — Вот я тебя спасу, они и высохнут.
— Уж ты поскорей меня спасай, — говорит Лисабет.
Мадикен обещает поторопиться. Ну вот, все готово для игры, и можно бы начинать. Но, взглянув на свое ситцевое в полосочку платье, Мадикен поняла, что дочь фараона не могла носить такое, а ей хотелось все сделать по-взаправдашнему.
— Ты тут немного подожди, — говорит Мадикен. — Я скоро приду, вот только сбегаю к маме.
Но мамы не оказалось дома, она ушла на рынок. Альва за чем-то отправилась в подвал. Никого не застав, Мадикен решила сама поискать себе царское платье. Она осмотрелась кругом, не найдется ли чего-нибудь подходящего. Глядь, в спальне висит на крючке мамин халат — голубенький такой, шелковый! Мадикен примерила — замечательно! Как раз то, что нужно. Наверное, в древности дочь фараона пришла на берег реки точно в таком одеянии. А на голове у нее, скорее всего, была прозрачная фата… Мадикен порылась в бельевом шкафу и нашла белую кружевную занавеску для кухонного окна. Ах, какая же она красивая, просто дрожь берет! Вот так, должно быть, и выглядела дочь фараона!
Лисабет тем временем очень довольная дождалась ее в бадье. Все было хорошо, только вот немножечко мокро. Тростник покачивался от ветра, среди него мелькали синие стрекозы, а в воде сновали под бадьей маленькие-маленькие уклейки. Лисабет, разглядывая их, перевесилась через край.
А вот и Мадикен шлепает по воде в мамином халате! Она подоткнула его повыше и перевязалась поясом под самыми подмышками. Лисабет посмотрела и тоже нашла, что Мадикен в халате — вылитая дочь фараона. Девочки радостно засмеялись. Вот теперь-то уж можно начинать игру!
— Это ты, малютка Моисей, тут лежишь? — спрашивает Мадикен.
— Ага! Это я лежу, — отвечает Лисабет. — Можно, я буду твоим ребеночком?
— Конечно, можно! — отвечает Мадикен. — Только сначала я спасу тебя из бадьи. И кто же это тебя сюда положил?
— А я сам сюда залез, — говорит Лисабет.
Но Мадикен делает строгое лицо и шепотом поправляет:
— Меня положила сюда мама, чтобы фараон не мог меня убить.
Лисабет послушно повторяет подсказку.
— Скажи, малютка Моисей, а ты ведь, правда, обрадовался, что будешь жить у меня, когда увидал, какая я нарядная?
— Очень обрадовался, — соглашается Лисабет.
— Ты тоже будешь таким нарядным, — говорит Мадикен. — Тебе тоже дадут новое платье.
— И сухие штанишки, — прибавляет Лисабет. — Знаешь что, Мадикен! По-моему, бадья дырявая.
— Тише, — говорит Мадикен. — А то смотри, Моисей, как приплывут крокодилы! Они кушают маленьких деток. Давай-ка я тебя лучше спасу, пока не поздно.
— Каттегоритчески! — отвечает Лисабет.
Однако оказывается, что спасать малых детей из Нила не так-то просто. И Мадикен в этом очень скоро убедилась. Лисабет тяжелым мешком повисла у нее на плечах, халат волочится по воде и путается в ногах.
— Ох, как тут много крокодилов! — стонет Мадикен. Она еле тащится к берегу. — Пожалуй, лучше отнесу тебя к мосткам Нильссонов, туда все-таки ближе.
— А вон и Аббе, — говорит Лисабет.
Мадикен останавливается как вкопанная.
— Вот как! — говорит она. — Давай-ка слезай, Лисабет, ты и сама дойдешь!
Но Лисабет не соглашается:
— Нет, не дойду. Ведь я же малютка Моисей.
И она еще крепче стискивает руками шею Мадикен, изо всех сил стараясь удержаться.
— Боюсь! Там каркадилы! — уверяет она Мадикен.
— Да нету здесь никаких крокодилов! — возражает Мадикен. — Чур, я не играю. А ну-ка, слезай!
Но Лисабет не желает слезать, и Мадикен начинает сердиться. Ручки Лисабет сдавили ей шею. Если бы не мамин халат, Мадикен легко могла бы их отцепить. Халат волочится за нею по воде, его надо все время придерживать руками. А руки у нее заняты. Тогда она начинает подпрыгивать, чтобы стряхнуть прицепившуюся Лисабет.
На Нильссоновых мостках стоит Аббе и смотрит. Ему-то хорошо!
— Смотри, не скакни в Бездонную яму, — предостерегает он Мадикен и сплевывает в воду.
Мадикен и без него знает, что возле Нильссоновых мостков есть обрыв, она и сама помнит про Бездонный омут. Но сейчас она так сердита, что ей не до того — только бы скинуть эту Лисабет! Она делает скачки и брыкается, как дикая лошадка, не глядя, куда ее занесет.
— Боюсь каркадилов!.. — пищит Лисабет.
Но вдруг писк обрывается… Звонкий плеск — и Мадикен со своей ношей проваливается с головой в Бездонный омут…
И может быть, все на этом было бы кончено, — они бы там захлебнулись, и не стало бы в Юнибаккене двух девочек, — если бы не Аббе. Аббе преспокойно берет багор, который оказался у него под рукой, запускает его в Бездонный омут и вытягивает из воды с уловом — на крючке трепыхаются две насквозь мокрые девчонки.
Они выкарабкиваются на мостки. Лисабет ревет и подвывает, как привидение.
— Да тише ты! Не реви, Лисабет! — говорит ей Мадикен. — А то нас никогда больше не отпустят к реке.
— А чего ты меня затащила в Бездонный омут! — гудит в ответ Лисабет. Ишь, дескать, чего захотели, чтобы она так вот сразу и перестала реветь. Она только еще входит во вкус!
Сердито уставясь на Мадикен, она говорит:
— Все скажу мамочке!
— Ой, ябеда-беда! — говорит Мадикен.
И только тут спохватывается, что мокрая тряпка, которая ее облепила, — это ведь мамин халат. Уж он-то обо всем расскажет, даже если Лисабет и не наябедничает.
— Пойдемте-ка со мной, девчонки! — говорит Аббе. — Будет вам обеим по крендельку.
Аббе — удивительный человек! Мало того, что ему пятнадцать лет и он может вытащить человека багром из воды, но он еще умеет печь сахарные крендельки и сам продает их на базаре. Вообще-то печь крендельки полагалось бы его папе, а торговать на базаре маме, но по большей части и то и другое достается делать ему. Мадикен очень его жалеет, потому что Аббе мечтает стать моряком и плавать по бурным морям, где бушуют ураганы, а вовсе не о том, чтобы печь крендельки. Но вот приходится! А что поделаешь, раз его папа тоже не хочет печь. Слушая грустные песни Линус Иды про бедных детей, у которых «папашечка в кабак тащится», Мадикен думает, что в них поется про дядю Нильссона. Правда, дядя Нильссон тащится в кабак только по субботам, но Аббе-то всю неделю напролет должен печь крендельки, вместо того чтобы плавать по бурным морям, где бушуют ураганы. Бедный Аббе!
После купания в Бездонном омуте человеку в самую пору полакомиться сахарным крендельком! Лисабет умолкла. Она грызет кренделек и с удивлением разглядывает свое мокрое платьишко.
— А ты же говорила, Мадикен, что спасешь меня и я сразу высохну. Вот тебе и на!
Но когда мама приходит домой, на кухне ее встречают две совершенно обсохшие и переодетые девочки. Усадив пуделя Сассо в дровяной чулан, они играют, как будто он у них дрессированный лев и Мадикен выступает с ним в цирке. Альва и Лисабет изображают зрителей. Билет на представление продается за два эре, но это понарошку — вместо монет служат простые пуговицы.
— Это потому, что лев тоже не настоящий, — говорит Лисабет. — Поэтому можно платить пуговицами.
Под яблонями в саду сушатся на веревке свеже-постиранные наволочки и полотенца, а среди них два маленьких платьица и голубой халат.
Мама целует Мадикен, целует Лисабет и принимается выгружать из корзинки покупки.
— Я думаю, что сегодня на обед можно сварить суп, — говорит она Альве, выкладывая на кухонный стол морковку, цветную капусту и лук-порей. — А на второе сделаем блинчики.
Затем мама обращается к дочкам:
— Ну, чем вы тут без меня занимались?
На кухне воцаряется тишина, Лисабет испуганно смотрит на Мадикен. А Мадикен опускает глаза и так внимательно разглядывает большой палец на своей ноге, как будто никогда его раньше не видела.
— Ну, так что же вы без меня делали? — повторяет мама.
— Мы стирали и полоскали свои платьица, — нехотя отвечает Мадикен. — И твой халат тоже постирали… Хорошо мы сделали?
— Маргарита! — произносит мама с особенным выражением.
За окном на бельевой веревке раскачивается под дуновением ласкового ветерка выстиранное белье, а из дома Нильссонов доносится бодрая песня.
Весело нам на волнах океана, Вольным, как птицы в просторе небес…Это поет Аббе, разделывая новую порцию крендельков.
Рикард
Мадикен уже ходит в школу, ей там нравится. Как это здорово, когда у тебя есть букварь, обернутый в зеленую бумагу с надписью «Маргарита. Класс 1а». Именно «Маргарита», а не «Мадикен». Какая же она Мадикен, если стала школьницей! Как здорово, если есть у тебя грифельная доска, и к ней губка на шнурке, и бутылочка из-под жидкости для волос, куда налита вода. Из бутылочки можно побрызгать на доску и все стереть, и тогда она снова станет чистой. Здорово, когда у тебя есть грифели, и пенал, в который их прячут, и парусиновый ранец, в который можно положить пенал. Ну а самое замечательное, что в «Азбуке» есть петушок. Петушок выбрасывает монетки в пять эре, они с треском вылетают, если ты хорошо учишься и прилежно готовишь уроки.
Да уж, учиться в школе и правда очень здорово! В первый же день Мадикен со вздохом говорит:
— Ох! Ну кому это, спрашивается, нужны рождественские каникулы!
До Рождества еще целых четыре месяца, а все-таки жаль!
Мадикен всем показывает «Азбуку», и грифельную доску, и пенал, показывает их маме, и папе, и Лисабет, и Линус Иде, и Альве, и Аббе Нильссону. Она дает Альве полистать «Азбуку» и пописать немножко на грифельной доске, но при этом Альве приходится выслушать много наставлений.
Каждое утро, когда Мадикен уходит в школу, Лисабет провожает ее до двери и мечтает о том, как было бы хорошо, если бы и она могла пойти в школу с таким хорошеньким ранцем за спиной. Потом Лисабет ждет сестру, и время тянется для нее так медленно! Когда наконец Мадикен приходит домой, то тут оказывается, что ей еще надо учить уроки. Мадикен сидит в детской и читает громко, на весь дом.
— И, О, У, — читает Мадикен, — И, О, У.
Лисабет не может понять, почему это надо так долго читать одно и то же: И, О, У, — но ведь она еще не школьница.
Каждый день папа за обедом спрашивает.
— Ну что, Мадикен? Как дела в школе?
— Шик-блеск! — отвечает Мадикен. — Я лучшая ученица в классе.
— Кто же это сказал? — интересуется мама. — Ты или учительница?
— Мы обе так считаем, — говорит Мадикен.
Мама и папа переглядываются с довольным видом, знай, мол, наших! Зря они раньше беспокоились — школа даже из такой шалуньи, как Мадикен, может сделать человека.
Но дни идут, и Мадикен уже без прежнего рвения учит уроки. Маме приходится напоминать, что надо еще сделать примеры. Из детской больше не слышится «И, О, У», слышен только привычный грохот стульев — это Мадикен и Лисабет опять колобродят и все роняют и переворачивают.
Однажды вдруг раздаются новые звуки: «О, Адольфина! О, Адольфина! Вместе забыться!»
Маме это не понравилось.
— Фу, Мадикен, — говорит мама. — Что за дурацкие слова? Кто тебя научил этой глупой и пошлой песне?
Подумать только! Мама ничего не знает! Она не знает, какая замечательная вещь появилась у Нильссонов. Ведь это — граммофон! С большой — пребольшой трубой! Дядя Нильссон ставит пластинку «О, Адольфина!» каждый день и танцует под музыку с тетей Нильссон. Среди звуков, которые несутся из трубы, — шипения, скрипа и треска — можно кое-как расслышать и Адольфину. Но мама почему-то недолюбливает Нильссонов. Разве ее поймешь?
— Так как же, Мадикен? Кто научил тебя этой глупой песне?
Мадикен краснеет.
— Это… это Рикард, — говорит она наконец, потому что ей неохота признаваться, что она выучилась этой песне у Нильссонов.
— А кто это — Рикард? — спрашивает Лисабет.
— Кто Рикард? Это мальчик из нашего класса, — с бухты-барахты выпаливает Мадикен.
— Вот как? — говорит мама. — По-моему, тебе с этим мальчиком лучше не водиться.
Спустя несколько дней петушок из «Азбуки» вытряхнул для Мадикен пять эре, хотя, по правде сказать, она в последнее время не отличалась прилежанием. На пять эре в лавочке возле школы дают пять леденцов. Мадикен пообещала сестренке, что два принесет ей, поэтому Лисабет с самого утра только и ждет обещанного. Наконец Мадикен возвращается из школы, Лисабет встречает ее в прихожей.
— Бедненькая Лисабет! — говорит Мадикен. — Рикард слопал твои леденчики.
— Выпороть как следует надо Рикарда! — говорит Лисабет. Ей очень обидно.
Да уж, что правда, то правда — заслужил Рикард хорошую трепку! Но его дурацкие выходки на этом не кончились.
Однажды Мадикен пришла из школы в одной галоше, другая пропала. А ведь какая чудесная была галоша — черная, блестящая, на красной подкладке!
— Где у тебя вторая галоша? — спрашивает мама.
— Рикард взял и закинул в канал, — отвечает Мадикен.
— Выпороть надо Рикарда! — говорит Лисабет.
Мама страшно возмутилась, услышав про Рикарда.
— Просто наказание какое-то, что в вашем классе оказался такой мальчишка! — говорит она. — Придется мне наконец пойти в школу и поговорить с вашей учительницей.
Но у мамы все время столько всяких дел, что она так и не собралась повидаться с учительницей, и Рикард продолжает вытворять разные глупости. Что ни день он выдумывает новые проказы!
Вот Мадикен вернулась из школы с огромным чернильным пятном на новеньком передничке… Конечно же, это был Рикард! В другой раз у нее грифельная доска треснула пополам — а все потому, что Рикард схватил ее — и ну дубасить об стенку. Он, видите ли, решил проверить, крепкая ли доска. Оказывается, нет. Не очень крепкая.
В учебнике у Мадикен есть картинка, где нарисована королева, которая в былые времена жила в Швеции. Теперь она уже умерла, но в книжке есть ее портрет. И вот однажды у королевы появились усы и борода.
— Что это такое, Маргарита! Зачем ты испачкала книжку? — говорит мама строгим голосом.
— А это не я, — отвечает Мадикен, — это Рикард.
— Выпороть надо Рикарда! — говорит Лисабет.
За обедом Мадикен каждый день рассказывает про ужасного Рикарда. До чего он только не додумывается! Учительница с ним так извелась, что просто невозможно себе представить. Он безобразничает на уроках и все время стоит в углу наказанный.
— Подумайте только, сегодня он съел мой ластик!
— Неужели-таки ластик съел? — ужасается мама.
— Прямо ненормальный какой-то мальчик, — говорит папа.
— Выпороть надо Рикарда! — говорит Лисабет.
Однажды Мадикен возвращается из школы, а на голове у нее новая прическа. Опять отличился Рикард. После урока рукоделия Он взял у Мадикен ножницы и выстриг ей челку. Ну и челка получилась!
— Завтра же пойду школу и поговорю с учительницей!
— Рикарда надо… — начала было Лисабет.
— Да замолчишь ты наконец! — прикрикнула Мадикен в сердцах. — Рикарда нельзя выпороть. Рикард сегодня кончил школу.
— Как это — кончил? — спрашивает пораженная мама.
— А он… он не будет больше ходить в школу, — говорит Мадикен.
— Будет — не будет! — воскликнула мама. — Не болтай пустяков! Ты же ничего не понимаешь. Он, наверное, перейдет в другую школу.
— Да, он теперь пойдет в другую школу и будет там кушать ластики, — говорит Лисабет.
Прошло несколько дней, и наступил день рождения тети Лотты. Тетя Лотта жила в маленьком чистеньком домике по соседству со школой. И мама с обеими дочками пошла ее поздравлять.
Они уже почти пришли, как вдруг навстречу — учительница. Как ни тянула Мадикен маму за юбку, мама остановилась. Мадикен совсем не хотела разговора с учительницей, зато мама обрадовалась случаю.
— Скажите, пожалуйста, как успехи моей Маргариты? — спрашивает мама.
Казалось бы, для чего спрашивать! Мадикен давно сказала маме, что все у нее шик-блеск. Но маме уж очень хочется услышать от самой учительницы, что ее дочь — лучшая ученица в классе.
Но, как ни странно, ей этого не пришлось услышать.
— Ничего! Все еще наладится, когда Маргарита привыкнет, — говорит учительница. — Некоторые дети трудно привыкают к школе.
У мамы делается задумчивое выражение… Неужели учительница считает ее дочку таким ребенком? Что же тогда можно сказать о Рикарде?
— Все-таки, знаете ли, хорошо, что этот Рикард ушел от вас. Я думаю, вы довольны, что отделались от такого сорванца, — говорит мама.
— Рикард? — удивленно переспрашивает учительница. — Такого мальчика я не знаю. У нас никогда не было никакого Рикарда.
— Но как же так… — начала было мама, но сразу осеклась и строго посмотрела на Мадикен.
— Выпороть надо Рикарда! — объявляет Лисабет.
Мадикен стоит вся красная и упорно разглядывает свои башмаки. «Выпороть», — говорит Лисабет! Ох, достанется, верно, кому-то порка, вот только кому? Ах, как же сиротливо стало жить на свете без Рикарда!
Экскурсия «не выходя за калитку»
Мадикен совсем перестала рассказывать про Рикарда. Лисабет скучает без этих рассказов. Она никак не возьмет в толк, что с Рикардом раз и навсегда покончено и что его теперь просто нет. После него осталась пустота, и это особенно чувствуется за обедом. Иногда Лисабет вспоминает о нем вслух.
— Интересно, что там делает Рикард в новой школе?
Тогда Мадикен сердито зыркает на нее глазами, а мама делает вид, будто ничего не слыхала. Только папа иногда смеется над Мадикен и треплет ее по волосам:
— Да уж, наша барышня Шик-блеск — большая выдумщица! Расскажи-ка лучше, как тебе в школе живется-можется… без Рикарда!
И Мадикен рассказывает. Про то, какие у учительницы есть золотые часики на цепочке, и про то, что у Мии, оказывается, в волосах кишат вошки, про то, что мальчики каждый день дерутся на школьном дворе, и про то, как ей нравится большая перемена, когда все рассаживаются в коридоре и завтракают бутербродами.
— А с чем бывают бутерброды у других детей? — спрашивает Лисабет. Про школу ей все интересно.
— С колбасой и сыром, — говорит Мадикен.
Лисабет грустно вздыхает. Подумать только, какие счастливые дети! Они могут сидеть в коридоре и кушать бутерброды с колбасой и сыром, и у них есть пеналы, и грифельные доски, и ранцы. Ах, какое горе для Лисабет, что нельзя ей тоже пойти в школу!
А папа все задает и задает вопросы. На следующий день он опять спрашивает:
— Ну, барышня Шик-блеск, как было нынче в школе?
Мадикен старается вспомнить. С тех пор как не стало Рикарда, и рассказывать-то, можно сказать, нечего. Но хоть что-нибудь у Мадикен всегда найдется.
— У Мии столько вшей, что они даже по парте ползают, — говорит Мадикен. — Вот бы мне так!
— Нет уж, благодарю покорно! — говорит мама.
Лисабет только приготовилась отправить себе в рот картофельное пюре, но остановилась и положила ложку.
— А вот в моей школе, — говорит она с торжеством, — в моей школе у всех детей вошки в голове!
— Ффы! — фыркает Мадикен. — Ты и в школу-то еще не ходишь!
— А вот и хожу! — говорит Лисабет и делает упрямое лицо. А то куда же это годится — все Мадикен да Мадикен рассказывает! У других, может быть, тоже найдется о чем порассказать!
Папа хохочет:
— Вот как! Значит, и у тебя есть своя школа? Наверное, это школа, в которую перешел Рикард?
Лисабет так и просияла. Вот это выдумка так выдумка! Не только платьица и ботиночки переходят к Лисабет от Мадикен. Оказывается, она может получить от нее в наследство и Рикарда, чтобы он ходил в ее школу! Лисабет улыбается до ушей и кивает головой.
— Да, Рикард поступил в мою школу, и вошек у него в голове — ого сколько! — заявляет Лисабет.
— Какое ты все-таки еще дитя, Лисабет, — говорит Мадикен.
Неделя проходит за неделей. И вот однажды в субботу Мадикен прибегает из школы вся встрепанная, глаза у нее горят от возбуждения.
— Мама дома? — вопит она, как всегда, еще с порога и принимается тараторить как сорока. — Мамочка, мы поедем на экскурсию в среду… всей школой. Сначала поедем на поезде, потом пойдем пешком далеко-далеко, потом заберемся на гору, сядем, будем есть бутерброды и любоваться на красивый вид. Ой, до чего же я счастлива!
От радости у Мадикен ноги не стоят на месте, они так и пляшут, с сияющим лицом она кидается маме на шею, а рядом, мрачнее тучи, стоит Лисабет. Помолчав немного, она громко и раздельно заявляет:
— В моей школе у нас тоже будет экскурсия, и мы поедем на поезде и заберемся на гору, наша гора еще гораздо выше.
— А вот и нет! — говорит Мадикен.
— Дурочка! — кричит на нее Лисабет, утыкается головой в мамины колени и разражается горючими слезами. — Я тоже хочу на экскурсию, и сидеть на горе, и есть бутерброды!
Тут Мадикен стало ее жалко.
— Мы с тобой и сами можем пойти на экскурсию, на пару — ты да я.
Поплакав на всякий случай еще немного, Лисабет поднимает голову и смотрит на нее зареванными мокрыми глазами.
— И тоже посидим на горе? — спрашивает она.
— Может быть, посидим, — отвечает Мадикен. — Если найдем гору.
— Вот это ты молодец, Мадикен! — говорит мама. — Вы устроите себе вдвоем экскурсию. Как хорошо! Правда, Лисабет?
Мама находит, что эта затея как раз кстати, потому что сегодня они с папой приглашены в гости на обед.
— Мы соберем для вас корзинку, вы ее возьмете с собой и подыщете какое-нибудь хорошее местечко, — говорит мама, гладя Лисабет по головке, а та поправляет маму:
— Какую-нибудь хорошую гору!
Мама открывает чулан, достает с полки красную корзинку и укладывает в нее много вкусных вещей: маленькие котлетки — фрикадельки, сосиски, два пирога, бутылку молока и булочки с корицей.
— Тут столько всего вкусненького, что вряд ли маму и папу так наугощают в гостях у Берглундов, — говори Мадикен.
Но мама уже торопится. Она надевает пальто и шляпку и между делом дает последние наставления Мадикен:
— Смотри, не уходите далеко и предупредите Альву, куда вы отправитесь.
Альве она говорит:
— Альва, дорогая! Уж ты присмотри без меня за девочками!
— Будьте спокойны, фру, присмотрю, — отвечает Альва.
И вот мама ушла.
Мадикен и Лисабет с двух сторон подхватывают корзинку — пора и в путь.
— А где же у нас гора? — спрашивает Лисабет.
Выйдя с веранды, Мадикен в раздумье останавливается на крыльце. Если поблизости, то здесь горы не найдешь, а мама велела не уходить далеко от дома. Но Мадикен недолго ломала над этим голову. Не успел поросенок глазом моргнуть, как она уже сообразила, что делать, Мадикен вспомнила похожий случай. В одной истории, которую им прочитала мама, рассказывалось про детей, которые тоже собрались на экскурсию, как сегодня Мадикен и Лисабет, и у них была с собою корзинка блинов. Дети не пошли в лес, а залезли на свинарник, и блины попадали с крыши и все достались поросенку. Очень был интересный рассказ.
— Знаешь что, Лисабет, — говорит Мадикен. — Горы у нас тут нет, зато мы можем залезть на крышу дровяного сарая.
Лисабет запрыгала от восторга.
— Точь-в-точь как те дети! Только у нас нет блинов.
— Ни блинов, ни поросенка, — говорит Мадикен. — Так что не страшно, если мы уроним корзинку.
— А мама разрешает? — засомневалась Лисабет.
Мадикен немножко подумала.
— Мама сказала, чтобы мы нашли себе хорошее местечко неподалеку от дома. Мне кажется, что крыша сарая — очень хорошее место. И вид оттуда открывается хороший. Точь-в-точь как должно быть в среду на школьной экскурсии.
Тут на крыльцо выскочила Альва и спрашивает:
— Куда вы собрались? Я должна знать.
— Мы недалеко, — говорит Мадикен. — Мы будем гулять тут, у себя, не выходя за калитку.
Лисабет услыхала и засмеялась:
— Совсем недалеко. Потому что мы…
— Ты бы помолчала, — говорит Мадикен. — Я ведь и так уже сказала, что мы не будем выходить за калитку.
Альва осталась довольна, можно будет не отвлекаясь спокойно заниматься глажкой.
Около сарая стоит на всякий случай стремянка. Мадикен не раз влезала по ней на крышу сарая, а там уже по верху, точно канатоходец, перебиралась на крышу прачечной, потому что над нею нависают ветви грушевого дерева, которое растет за забором у Нильссонов, а Мадикен очень любит лакомиться с него мелкими сладкими грушами, которые поспевают в августе.
Лисабет тоже пробовала залезть на стремянку, но дальше второй или третьей перекладины не поднималась, а тут ей предстоит забраться на крышу — чудесное и жуткое приключение! Но так, наверное, и должно быть на Экскурсии, думает Лисабет. Мадикен залезает первой и втаскивает корзинку. У нее это получается легко и быстро. За нею полезла осмотрительная Лисабет, постепенно все больше сбавляя скорость. Наконец она все же добралась до верха и, заглянув за водосточный желоб, увидела Мадикен, которая уже принялась разбирать корзинку с угощением.
Лисабет вдруг подумала, что это место не такое уж хорошее, на горе, пожалуй, было бы лучше.
— А знаешь что, Мадикен, — говорит она. — Что-то мне не хочется залезать на эту крышу.
— Ты лучше не кричи, а то не будет никакой экскурсии, — говорит Мадикен. — Давай-ка я тебе подсоблю.
Лисабет вся дрожит от страха, но Мадикен, поднатужившись, подтягивает ее и в конце концов втаскивает наверх, несмотря на жалобные причитания:
— Ой, Мадикен! Ты с ума сошла! Ты каттегоритчески с ума сошла, Мадикен!
Только когда они уселись верхом на коньке крыши с корзинкой посредине, Лисабет снова повеселела:
— Гляди-ка, Мадикен! Мне отсюда все видно на кухне у Нильссонов, — говорит Лисабет.
Мадикен радостно кивает:
— Ага! А что я тебе говорила? Отсюда очень хороший вид… видно все, что делается у Нильссонов. Я-то уже столько раз смотрела!
Девочки сидят и разглядывают, что там у Нильссонов. Вон Аббе, как всегда, колдует над противнем. Тети Нильссон не видно, зато видно дядю Нильссона, он лежит на кухонном диване и спит.
— Пьяный, конечно, — говорит Мадикен. — В субботу он всегда пьяный.
Вдруг Аббе поднимает голову и, заметив девочек, бросает свою работу. Он идет к окну и начинает строить такие страхолюдные гримасы, что девочки чуть не захлебываются от смеха. Глядя на Аббе, Мадикен не понимает, как он умудряется корчить такие рожи. Аббе — красивый, когда не кривляется, думает Мадикен, у него такие белые волосы, и такие голубые глаза, и рот такой большой. Конечно же, Аббе — красивый. Сейчас, правда, у него такое наморщенное и перекошенное лицо, что он стал похож на тролля, и никакой красоты не видно, зато такая умора, что только держись! Иначе, того и гляди, скатишься с крыши.
Скоро Аббе выходит из дома.
— Здравия желаю! — говорит Аббе, задрав голову. — Как живете-можете?
— Хорошо живем-можем, — отвечает Мадикен.
А что может быть лучше, чем сидеть на крыше и болтать с Аббе?
— У нас экскурсия, — поясняет Лисабет.
— Оно и видно! — говорит Аббе. — А что там у вас в корзинке?
— Фрикадельки, и сосиски, и еще всякая всячина, — говорит Мадикен.
— Очень много всячины, — говорит Лисабет.
Аббе висит на заборе, разделяющем сад Юнибаккена и Люгнета[17] (так называется усадьба Нильссонов). Аббе задумчиво молчит.
— Давайте поспорим! — предлагает он вдруг. — Поспорим, что вам слабо запулить мне в рот фрикадельку. Ни за что не попадете!
Мадикен и Лисабет встречают предложение с восторгом. Уж Аббе всегда придумает такое развлечение, какое другим и не снилось.
— Ха-ха! Сейчас мы тебе покажем! — кричит Мадикен и хватает фрикадельку.
Мадикен старательно целится и швыряет ее прямо в разинутый рот Аббе, но попадает ему в лоб. Фрикаделька катится по земле и замирает на подстилке из пожелтевшей осенней листвы. Аббе ее хвать — и в рот.
— Ну, что я говорил! Куда уж вам попасть! Сразу видно, что не можете.
— А это мы еще посмотрим! — говорит Мадикен. — Видал-миндал!
Летит вторая фрикаделька и, пролетев мимо уха, падает у ног Аббе. Он ее подбирает с земли и тоже засовывает себе в рот.
— Видал, видал! — говорит Аббе. — Теперь-то уж совершенно точно доказано, что ты не умеешь бросать в цель, Мадикен!
— А теперь я, — говорит Лисабет. — Я тоже хочу бросить фрикадельку.
Она кидает, даже не целясь, и ее котлетка летит по воздуху и шлепается около забора.
— Обе вы — недотепы! — говорит Аббе.
Он просовывает руку между реек забора и, вытаскивает котлетку.
Мадикен и Лисабет делают по новому броску. После нескольких попыток Мадикен говорит:
— Нам нечем кидаться, все фрикадельки кончились.
— А вдруг сосиски сподручнее? — говорит Аббе. — Они вроде как ровнее летают. Давайте посмотрим, что получится!
Мадикен и Лисабет охотно делают новую попытку. Один раз Мадикен сумела изловчиться, и сосиска попала Аббе между глаз, но это было ее лучшее достижение.
— У нас еще остались две сосиски, — говорит Мадикен, — эти уж мы оставим себе.
— Неужели вы думаете, что я могу тут день-деньской стоять как столб, пока вы будете упражняться в метании сосисок! — говорит Аббе. — Счастливо оставаться, девочки! Поищите себе кого-нибудь другого, если хотите еще побросать!
И Аббе исчезает на кухне.
— Ну, пора начинать экскурсию, — говорит Лисабет.
Это значит, что она решила подкрепиться.
Девочки подъели оставшиеся сосиски, потом вареные яйца, и яблочный пирог, и булочки с корицей. Все было очень вкусное, и они наелись почти досыта, хотя и разбросали все фрикадельки и почти все сосиски. Они ели и запивали молоком, но Лисабет взмахнула рукой со стаканом и половину расплескала. По черепичному скату потек белый ручеек прямо в дождевой желоб.
— Представляешь, как удивятся воробьи, когда прилетят и увидят в желобе молоко! — говорит Мадикен.
— Да и, наверное, обрадуются, — соглашается Лисабет. — А что мы теперь будем делать, Мадикен?
— Теперь надо хорошенько полюбоваться видом, ради этого люди и ездят на экскурсии, — внушительно объясняет Мадикен.
— Да ну? — удивляется Лисабет.
— Вот тебе и ну! Так нам сказала учительница, и мы в среду будем любоваться. А мальчишки говорят, больно нужен этот вид! Им бы только побеситься.
Но Мадикен с Лисабет не то что мальчишки. Они готовы все глаза проглядеть, любуясь видом. И они разглядывают не только кухню у Нильссонов, а еще вертят головой во все стороны, именно так, как полагается на экскурсии. Сверху им далеко видать: видны нависшие над водой ивы, излучина реки, дома и сады. Все деревья в золотой и багряной листве, над головой ясная синева неба — красота! Девочки, запрокинув голову, глядят вверх. Вот где открывается самый широкий вид! И вдруг замечают птицу, которая парит высоко-высоко в синеве.
— Вот кому, наверное, больше всех видно! — говорит Мадикен. — Как бы я хотела летать!
— Люди не летают, — говорит Лисабет.
— Еще как летают — на аэропланах! — возражает Мадикен.
Об аэропланах ей рассказывал Аббе. Аэропланы летают на войне, но и в Швеции тоже есть аэропланы. Мадикен много бы отдала за то, чтобы на них хоть посмотреть. А Линус Ида говорит, что летать по воздуху грешно. «Право слово, если бы Богу было угодно, чтобы люди летали, он сотворил бы их птицами», — говорит Линус Ида.
Лисабет согласна, что аэропланы — вещь замечательная, но ведь не одни аэропланы могут летать!
— Знаешь что, Мадикен, — говорит она. — Йон Блунд[18] тоже умеет летать, и ему для этого ничего не надо, кроме зонтика.
Мадикен презрительно фыркает:
— Какое ты еще дитя, Лисабет!
Но сама задумывается. Аббе говорил, что на войне один летчик спрыгнул с самолета, раскрыв большой зонтик. Мадикен, конечно, понимает, что под зонтиком нельзя летать куда хочешь, как Йон Блунд, а вот спуститься с аэроплана на землю очень даже можно. Ну а если… с другого высокого места? Мадикен прикидывает в уме: крыша сарая тоже высоко от земли.
— Пожалуй, я попробую, — говорит Мадикен.
— Что ты попробуешь? — спрашивает Лисабет.
— С раскрытым зонтиком, — говорит Мадикен.
Услышав подробно, что придумала Мадикен, Лисабет так засмеялась, что даже стала икать.
— С ума сойти, Мадикен! — говорит Лисабет. — Мы будем играть, как будто ты Йон Блунд?
— Нет, представь себе, не будем! Это ребячество, — говорит Мадикен. — Я хочу спрыгнуть вниз, как будто я летчик. Понятно?
— С ума сойти, Мадикен! — повторяет Лисабет.
Но для начала надо раздобыть из прихожей папин зонтик, да так, чтобы не заметила Альва. Кто ее знает, одобрит ли Альва полеты с зонтиком. Чего доброго, поднимет крик, потому что она, может быть, еще не слыхала, как это делается на войне.
Когда Лисабет поняла, что ее оставляют на крыше одну, ей стало не до смеха, но Мадикен ее утешила:
— Я скоро вернусь. А ты пока погляди, что делается у Нильссонов. Сиди только и не ерзай, тогда не скатишься.
С этими словами Мадикен полезла вниз и скрылась из виду.
Сначала она заглянула на кухню. Там Альва гладит белье. Пот струится у нее по лицу. В плите гудит огонь, на ней греются утюги. Из кухни пышет жаром, как из печки, не помогают даже раскрытые окна.
При виде Мадикен Альва обрадовалась:
— Вот хорошо! Мне и бегать не надо, чтобы за вами приглядывать. Ну, как ваша экскурсия?
— Шик-блеск, — говорит Мадикен.
— А где же Лисабет? — спрашивает Альва.
— Она осталась там на… на экскурсии, — говорит Мадикен и выскальзывает в прихожую, не дожидаясь следующего вопроса.
В прихожей в подставке для зонтов стоит папин зонт.
Едва Мадикен успела его вытащить, как из кухни выглядывает Альва.
— А Сассо с вами? — спрашивает она.
— Не-а! — отвечает Мадикен, пряча зонтик за спину.
— Опять, поди, удрал в город, — говорит Альва. — А зачем это тебе понадобился зонтик?
— Это я так… на всякий случай. Вдруг начнется дождик! — говорит Мадикен.
— Дождик? Это сегодня-то? Выдумаешь тоже! — говорит Альва. — Сейчас же поставь зонтик на место!
Мадикен даже зло взяло. Не хватало еще сейчас тратить время на споры о погоде, когда она первый раз в жизни собралась полетать!
— Так надо! На экскурсию всегда берут зонтик, — говорит она сердито. — А если погода испортится? Хороши мы тогда будем!
Альва смеется:
— Как же она так быстро испортится? Да вы десять раз успеете добежать до веранды. Ну, да ладно уж. Бери зонтик, раз вам так надо. Но смотри, чтобы потом поставить на место, а то папа будет сердиться.
— Да, да, да, — нетерпеливо бросает Мадикен и выскакивает с веранды за дверь.
Какая тишина кругом! Жизнь словно замерла в Юнибаккене. Тут готовится такой замечательный полет, а нигде ни души, и никто его, кроме Лисабет, не увидит. Окно из кухни, где осталась Альва, выходит на другую сторону. Аббе куда-то запропастился. Дядюшка Нильссон спит на диване.
Да, так уж вышло, что, кроме Лисабет, никого не оказалось рядом, когда Мадикен вздумала полетать, как военный летчик. Никто, кроме Лисабет, не видел, как она встала на краю крыши и раскрыла большой черный зонт. Никто, кроме Лисабет, не видел, как она высоко подняла зонт над головой и приготовилась прыгать.
— С ума сошла, Мадикен, — говорит Лисабет. — Каттегоритчески! С ума сошла!
— Да ну! Ничего страшного, — говорит Мадикен.
Все-таки ей и самой теперь кажется, что до земли довольно далеко. Но ведь если с зонтиком можно прыгать с самолета с высоты в тысячу метров, то, значит, с крыши-то и подавно можно.
Крепко сжимая ручку зонтика, Мадикен стоит на краю, изображая гудящий аэроплан. Как его надо изображать, она знает от Аббе. Правда, Аббе ни разу в жизни не видел и не слышал аэроплана, но все равно, уж он-то знает, Аббе все знает.
— Тырр-тырр-тырр, — тарахтит Мадикен.
— Ой! — вскрикивает Лисабет.
И Мадикен полетела. Она заносит ногу в пустоту, один шаг и — «буме».
— Ужас как ты быстро! — кричит Лисабет.
Она ползет по крыше на животе и заглядывает через край. Где же Мадикен? А Мадикен неподвижно лежит, уткнувшись лицом в землю, и молчит. Рядом — зонт с переломленной ручкой.
— Что с тобой, Мадикен? — кричит Лисабет. — Ты умерла?
Мадикен не отвечает.
— Мадикен, скажи, ты не, умерла? — кричит в страхе Лисабет.
Но Мадикен опять не отвечает. Тогда Лисабет поднимает громкий рев.
— Мама! — захлебывается плачем Лисабет. — Мамочка!
Сейчас ей так страшно, словно она осталась одна на всем белом свете. И с крыши-то ей никак не слезть. На истошные вопли бедной Лисабет высовывается из окна дядя Нильссон.
— Что ты делаешь на крыше? Что это ты там разоралась?
— Мадикен умерла! — вопит Лисабет. — Мадикен умерла!
Тут уж дядя Нильссон второпях выскакивает из окна и сигает через забор. Опустившись около Мадикен на колени, он поворачивает к себе ее бледное личико и видит на лбу кровь.
В этот миг на помощь подоспела Альва. Едва бросив взгляд на Мадикен, она останавливается как вкопанная и начинает душераздирающе голосить:
— Да что же это за горе на нашу голову!
Дядя Нильссон мрачно кивает.
— Все кончено, — изрекает он глухо. — Нет больше Мадикен.
Очень приятный печальный день
Мадикен лежит в постели с перевязанной головой. Ей велено не двигаться.
— Только когда тебя будет рвать, тогда можешь немножечко двигаться, — говорит Лисабет.
Мадикен не умерла, и Лисабет очень рада. У Мадикен сотрясение мозга. Это не так опасно. При сотрясении мозга бывает рвота, но это не смертельно, сказал дядя Берглунд, а дядя Берглунд — доктор.
Ну и переполох был в Юнибаккене, когда Мадикен полетела, а потом лежала, как неживая, и долго не могла очнуться. Мама плакала, папа плакал — правда, поменьше, чем мама, — а Альва плакала вдвое громче, чем мама и папа.
— Это я виновата! — говорила Альва. — Но откуда же мне было догадаться, что она берет зонт для того, чтобы летать!
И вот Мадикен лежит в постели и ничегошеньки не помнит, что она чувствовала во время полета. Обиднее ничего нельзя придумать. Получается, что она зря летала. А тут еще в придачу какое-то дурацкое сотрясение мозга! Дядя Берглунд сказал, что ей придется лежать в постели по крайней мере четыре дня.
Когда Мадикен услышала это от мамы, она заревела во весь голос:
— Четыре дня! Я не могу столько! В среду будет экскурсия, и мне надо…
— Ничего тебе не надо, — говорит мама, — довольно с тебя одной экскурсии.
Лисабет кивает головой:
— Довольно с тебя одной экскурсии. А теперь лежи и реви!
Тут уж Мадикен задает им Великое Землетрясение. Так папа называет скандалы, которые закатывает Мадикен, когда она не помнит себя от ярости и отчаяния. Слезы брызжут у нее из глаз, и она орет на весь дом:
— Я хочу на экскурсию! Я поеду на экскурсию! У-у-у, лучше бы я умерла!
Лисабет с интересом наблюдает и пытается ее утешить:
— В моей школе у всех детей было сотрясение мозга, и никто не пойдет на экскурсию.
Мама тоже пытается утихомирить Мадикен:
— Если ты будешь так плакать, у тебя еще больше разболится голова.
— Пускай! Мне все равно! — вопит Мадикен. — Лучше бы я умерла!
Расстроенная мама встает и уходит из комнаты. Линус Ида занята на кухне, она помогает Альве варить яблочное повидло. Услышав дикие крики, она идет наверх в детскую и, строго глядя на Мадикен, говорит:
— Право слово, Мадикен, ты ведешь себя безбожно! Помни о своем Создателе смолоду, сказано в Писании. Так вот ты и вспомни о нем, вместо того чтобы призывать к себе смерть!
Но Мадикен ни о чем не желает помнить, кроме экскурсии, и она кричит на Линус Иду:
— Оставьте меня в покое!
Линус Ида озабоченно качает головой.
— Вот оно что! — говорит она. — Знакомая песенка! Как видно, к нам опять пожаловал Себастьян Нигге.
Для Линус Иды нет никого хуже Себастьяна Нигге. Он является в дом, когда Мадикен и Лисабет ведут себя не так примерно, как следует по ее понятиям. На первый взгляд кажется, что в постели лежит и скандалит Мадикен. Но это только так кажется. На самом деле — это Себастьян Нигге, а настоящая послушная Мадикен сидит в это время в печной трубе и не может оттуда выйти, пока Себастьян Нигге не соизволит убраться восвояси.
— Вот беда, что он как раз сегодня к нам нагрянул! — говорит Линус Ида.
— А по-моему, это даже лучше, — говорит Лисабет. — Значит, и голова болит у него, и рвет тоже его, а Мадикен сидит себе в печной трубе, и ей хоть бы что!
Мадикен исподлобья сердито смотрит на Лисабет и Линус Иду. Для Лисабет детские сказки про Себастьяна Нигге, может быть, и хороши, а Мадикен из них давно выросла.
— Ладно уж! Лежи себе и не ерепенься! — говорит Линус Ида. — Радуйся, Мадикен, что жива осталась. А то, вишь, она летать вздумала! Еще немного, и убилась бы насмерть.
Но Мадикен что-то не радуется. Она с головой закрывается одеялом и плачет. Каждый день она просыпается с надеждой на чудо — вдруг сейчас войдет мама и скажет так:
— Подумаешь, сотрясение мозга! Ну и что такого? А между прочим, самое верное средство от него — пойти на экскурсию! Может быть, в среду ты все-таки поедешь с классом? Ну, что ты скажешь?
Однако мама ничего подобного не говорит. Она только ободряюще улыбается разнесчастной Мадикен и гладит ее по щечке.
— Не огорчайся, детка, — говорит мама. — Мы придумаем тебе в утешение другое удовольствие.
Хорошенькое утешение — другое удовольствие! Да разве есть на свете что-нибудь такое, что может быть лучше экскурсии!
Во вторник вечером Мадикен молится Богу, чтобы он помог ей в этом горе. Она молится шепотом под одеялом, чтобы Лисабет не услыхала:
— Добренький Боженька, помоги мне! Мне так хочется на экскурсию. Сделай так, чтобы дядя Берглунд позвонил маме и сказал, что я уже выздоровела. Я правда уже здорова. Только надо поскорее, а то мы не успеем приготовиться, а мне надо взять в дорогу бутерброды и шоколад, и Альва еще должна погладить мою матроску. Так что ты уж скажи дяде Берглунду, чтобы он скорее звонил. Пожалуйста, милый Боженька! А то мне так хочется на экскурсию! Аминь.
Окончив молитву, Мадикен напряженно ждет, чтобы зазвонил телефон. Но звонка нет и нет. Только Лисабет без конца канючит из соседней кроватки:
— Расскажи про привидения, про убийц и про войну!
Но Мадикен не до рассказов. Она еще долго прислушивается к телефону.
Так и не дождавшись звонка и всплакнув, она наконец засыпает…
В среду Мадикен просыпается спозаранку. За окном солнце, синее небо. Такой прекрасный день для всех счастливчиков, у кого нет сотрясения мозга! Мадикен сразу посмотрела на часы. Скоро восемь. А в восемь часов отправляется поезд. Все ее одноклассники, наверное, уже в сборе и ждут на перроне. В своем воображении Мадикен видит, как они хохочут, тараторят, живо влезают в купе и, сгрудившись у окна, выглядывают наружу. Как им весело ждать, когда поезд запыхтит и тронется в путь!
Мадикен не отрывает тоскливого взгляда от часов с кукушкой, которые висят напротив ее изголовья. Часы тикают, и минутная стрелка все ближе придвигается к восьми. Вот выскакивает кукушка и принимается куковать. Откуковав без всякого смущения восемь раз, она прячется в домик. А Мадикен разражается слезами, потому что поезд уехал, а она, несчастная, должна лежать в кровати, и никогда, никогда у нее не будет ничего хорошего!
Рядом просыпается в своей кроватке Лисабет. У нее прекрасное настроение. Лисабет не понимает, какой сегодня печальный день, она даже принимается распевать:
А Б В Г Снег был на дворе, Кошка по снегу прошла, То, мой друг, любовь была.Она пропела песенку в точности, как ее научила Мадикен. Но Мадикен ни с того ни с сего как зашипит:
— Цыц, несмышленыш! Цыц, тебе говорю!
— Вон оно что! Знакомая песенка. Как видно, к нам опять пожаловал Себастьян Нигге, — говорит Лисабет, чувствуя себя Линус Идой.
Но тут отворяется дверь и входит мама с подносом. На подносе стоят две большие голубые кружки, кувшинчик с шоколадом и блюдо с горячими вафлями.
Лисабет смотрит на это круглыми глазами.
— У меня сегодня рождение? — спрашивает она.
— Нет, — отвечает мама. — Чтобы доставить себе удовольствие, не обязательно ждать дня рождения. Поднимайся, Мадикен, и садись! Вот тебе шоколад и вафли.
Мадикен медленно выползает из-под одеяла. Глаза у нее заплаканные. Мама целует ее в щечку и подает вафли с шоколадом. Не говори ни слова, Мадикен принимается за еду. Она молча уплетает вафельные сердечки одно за другим. Ресницы у нее еще мокрые от слез, и день сегодня, как известно, печальный, но вафли с шоколадом — это, как-никак, хорошо.
— Вкусно, — говорит Мадикен. — Как будто обычный день рождения.
— Конечно, — говорит мама. — Мне тоже так кажется.
Мама опять уходит.
Лисабет быстро расправилась с завтраком. Начисто облизав пальцы, перепачканные в сахаре и сливках, она вылезает из кроватки. Пора одеваться.
Едва Лисабет закончила одевание, как снизу послышался звонок, кто-то пришел.
— Это почтальон, — говорит Лисабет. — Хочешь, я пойду вниз и узнаю, не принес ли он что-нибудь для нас?
Правда, для Лисабет и Мадикен очень редко бывает почта, однако они на всякий случай каждое утро заглядывают в почтовый ящик. Но сейчас Мадикен только пожимает плечами. Сегодня печальный день, с какой стати для них сегодня будет почта?
Но Лисабет уже побежала вниз. Оставшись одна, Мадикен может всласть предаваться мыслям об экскурсии. Она глядит на часы… Поезд уже приехал на место. Сейчас ребята, наверно, идут по дороге и поют, все ее товарищи… Она так ясно видит, как они бодро шагают парами. Скоро они придут на гору и будут есть бутерброды, а она лежит в постели и никогда не увидит ничего хорошего!
И тут к ней влетает запыхавшаяся Лисабет.
— С ума сойти, Мадикен! — кричит она. — Для тебя есть три открытки и посылка!
— Да что ты? — восклицает Мадикен и, сразу оживившись, подскакивает на постели.
А надобно вам сказать, что Мадикен и Лисабет собирают открытки. У каждой набралось уже почти по целому альбому. На день рождения или именины, бывает, получаешь замечательные открытки. Иногда с цветочками, иногда с котятами или щенками, а иногда с нарядными бородатыми дяденьками в обнимку с дамами в прекрасных платьях. Открытки бывают глянцевые, эти — самые лучшие. А сейчас Мадикен получила сразу три глянцевые открытки, хотя у нее сегодня не день рождения и не именины, а всего лишь было сотрясение мозга.
Мадикен даже вся раскраснелась при виде открыток. Ах, до чего же они красивые! На первой нарисован белый голубок с алой розочкой в клюве, на другой прекрасный ангел летит по темно-синему небу среди золотых звездочек, а на третьей мальчик в бархатном костюмчике держит в руках большущий букет желтых роз.
При виде такого богатства Мадикен даже вздыхает от избытка счастья, и к горлу у нее подкатывает комок — такая это неземная красота!
— Ты посмотри, от кого открытки! — напоминает Лисабет.
Мадикен поспешно переворачивает открытки другой стороной.
«От хорошего друга», — написано на всех трех печатными буквами.
— И кто бы это только мог быть? — говорит Мадикен.
Обычно открытки бывают от бабушки, от кузин, а тут — от какого-то друга. Очень странно и непривычно получить открытку неведомо от кого.
— Может быть, это Аббе? — подсказывает Лисабет.
— И сразу три открытки? Он же не сумасшедший! — говорит Мадикен.
Она так обрадовалась открыткам, что совсем забыла про посылку. Но сейчас она вспомнила и торопливо начинает ее потрошить.
Внутри оказывается картонка, а в ней многомного шелковистой розовой бумаги. Мадикен и Лисабет обмениваются взглядами, обе дрожат от нетерпения. Под этой шелковой бумагой может оказаться все, что угодно. Какое это восхитительное чувство, когда ты не знаешь, что спрятано внутри! Мадикен наклоняет лицо и нюхает:
— Как ты думаешь, что это такое?
Лисабет тоже нюхает:
— Не знаю.
— Посмотреть, что ли?
— Каттегоритчески!
Зашуршала бумага под нетерпеливыми руками Мадикен. Лисабет смотрит, затаив дыхание.
Сверху лежит письмо. На конверте написано: «Мадикен от бабушки». Но бабушка прислала еще что-то, кроме письма. Ой, и правда! Там лежит маленький-маленький пупсик и маленькая-маленькая ванночка, чтобы купать пупсика, и маленькая-маленькая бутылочка с соской, чтобы его поить, и маленькое-маленькое мыльце, чтобы его мыть. А еще там лежит мешочек с бусинками, которые надо самим нанизать на нитку, и будет ожерелье, и две маленькие зеленые коробочки с хорошенькими картинками на крышках, а внутри каждой — розовая свинка из марципана и перстенек.
Лисабет таращит глаза на богатства, которые получила Мадикен, и лицо у нее делается все более задумчивым. Наконец она обиженно говорит:
— Я тоже хочу сотрясение мозга!
Тогда Мадикен берет в каждую руку по коробочке.
— Которую ты выбираешь? — спрашивает она. — Тебе колечко с красным камешком или с голубым?
— С зелененьким, — говорит Лисабет.
— Вот дурочка! — говорит Мадикен. — Зелененького нету.
— Тогда я хочу голубенький, — решает Лисабет. — Ой, какая же ты добренькая, Мадикен!
Мадикен и сама считает, что она очень добрая, и ей от этого приятно. И еще ей приятно, что обида прошла и что она отвязалась от мыслей об экскурсии.
— На горе, может быть, очень здорово, — говорит Мадикен. — Но думаю, что с крыши сарая вид был наверняка еще лучше.
— Каттегоритчески! — говорит Лисабет. — Оттуда же видно кузню Нильссонов.
Мадикен и Лисабет надели перстенечки и любуются, растопырив пальцы. Им кажется, что они сейчас настоящие взрослые дамы.
— Мой камушек алый, словно капелька крови, — говорит Мадикен. — А твой, Лисабет?
— Мой камушек голубенький, словно небо, — говорит Лисабет. И в общем она права.
Девочки надолго занялись своими колечками. Они их сравнивали, положив рядом руки, и рассуждали, которое из них красивее.
Оказывается, Мадикен больше любит красные камешки, потому что они алые как кровь, а Лисабет больше любит голубые, потому что они голубенькие.
— Ой, я же еще не прочитала бабушкино письмо! — спохватывается вдруг Мадикен и разрывает конверт.
Бабушка написала письмо печатными буквами, потому что Мадикен еще не умеет читать по-письменному. Лисабет удивляется, как это Мадикен, посмотрев на крошечные закорючки, узнаёт, о чем написала бабушка.
— Неужели ты правда уже умеешь? — спрашивает она.
Конечно, Мадикен умеет. Разобрав по складам, что написано, она поняла все, что ей хотела сказать бабушка. Бабушка хочет, чтобы она отдала одну коробочку Лисабет, а бусинки из мешочка поделила поровну на двоих.
— Видишь, какая я добрая! — говорит Мадикен. — Я отдала тебе коробочку раньше, чем прочитала письмо.
— Ты добрая, Мадикен, — говорит Лисабет и тянет к себе мешочек. — Давай сюда мои бусы, я сделаю себе ожерелье!
Но Мадикен хватает мешочек и вырывает у нее из рук.
— А ну, отдай! — говорит она. — Вот когда у меня будет время, тогда я поделю. А пока подожди.
— У тебя сейчас есть время, — говорит Лисабет.
— Представь себе — нет! — отвечает Мадикен.
Она берет со столика стакан и наливает себе воды из графина. Потом медленно, маленькими глоточками выпивает его до дна. Потом берет розовую бумагу и начинает разглаживать ее. Затем она сгибает каждый листочек в несколько раз и складывает аккуратной стопочкой — сразу видно, что она занята делом, ей некогда пересчитывать бусины. Тем временем она про себя размышляет. Вообще-то мешочек с бусами — пустяк по сравнению с нарядной коробочкой, думает Мадикен. Но почему-то ей легче было расстаться с коробочкой, чем поделиться бусами. В душе Мадикен чувствует, что ей хочется оставить себе весь мешочек. Но она знает, что, если не дать сестренке бус, та пойдет к маме и наябедничает, и уж тогда, хочешь не хочешь, придется делиться.
Мадикен очень обстоятельно и аккуратно укладывает бумагу в картонку и наконец со вздохом говорит:
— Ну вот, теперь у меня есть время.
Она высыпает бусы на поднос и делит их поровну на две кучки. Осталась одна лишняя желтая бусина, самая большая, и Мадикен отдает ее Лисабет.
— На, это тебе! — говорит она.
Потому что жадность нападает на Мадикен не чаще двух раз в день, да и то ненадолго.
Потом Мадикен и Лисабет нижут бусы и в ожерельях становятся такими нарядными, что дальше некуда. Потом они играют с пупсиком, купают его в ванночке, моют душистым мыльцем, а после купания укладывают спать в ящичек из-под сигар и дают ему попить из соски.
— Надо же! — говорит Мадикен. — Такой печальный день, а на самом деле оказался очень приятный.
Лисабет с ней соглашается:
— Даже очень приятный печальный день.
Но под конец Лисабет устала, и ей захотелось на улицу.
— Мне надо погулять с Сассо, — говорит она — и шмыг за дверь.
Играть одной неинтересно, Мадикен стало скучно, и она не знает, чем бы ей заняться.
Но тут как раз пришел с работы папа, чтобы позавтракать. На минутку он заглядывает в детскую.
— Как идут дела? — спрашивает папа.
— Шик-блеск! — отвечает Мадикен. — Только мне скучно.
— Ну так почитай газету, — говорит папа и достает ее из кармана. — А вот тебе в придачу альбом для рисования. Нарисуй мне что-нибудь хорошее, а я посмотрю, когда вернусь к обеду.
Мадикен умеет уже читать так быстро, что даже учительница удивляется. И когда папа ушел, она послушно развернула газету, но мало что в ней поняла. Больше всего там написано о войне, потом есть еще объявления о продаже быков и свиней, о том, что кто-то умер, о помолвках и о превосходных пальто и платьях для дам. Там есть еще много чего другого, но, кажется, это все очень скучные вещи. Мадикен с недоумением вчитывается в заголовки. В одном месте большими буквами написано: «Из минувших времен». Мадикен раньше не встречала этого слова и не знала, что такое «минувшие» времена, но быстро догадалась. Оказывается, там написано, как жили люди до нас. Как им, бедняжкам, скучно жилось! Мадикен вздыхает и откладывает газету в сторону. Как странно, папа сам такой шутник, а делает такую скучную газету! Он ведь редактор. Значит, это он решает, что надо напечатать. Отчего же он не придумает что-нибудь поинтереснее? Должно быть, это трудно — писать газету… А что, если попробовать, как это на самом деле? — думает Мадикен. И вот она решает сделать свою газету. Конечно, она не может ее напечатать, но ведь можно написать печатными буквами, а заголовки она вырежет из папиной газеты, вот и будет все по-взаправдашнему.
Разложив на подносе альбом для рисования, карандаш, ножницы и баночку с клеем, Мадикен берется за дело. Сверху она приклеивает на чистом листе заголовок «Из минувших времен», который вырезала из папиной газеты. Теперь надо сообразить, что под ним написать. Мадикен в задумчивости грызет карандаш. Потом она пишет:
Из минувших времен
Щас я раскажу чего делали дети впрежние времина они
слушалис маму но были икапризули и непас-лушные
уних были каменые тапоры но скора они на-училис стрелять изружья
Больше Мадикен не хочется писать про минувшие времена. Она берет ножницы и вырезает из папиной газеты новый заголовок: «С места военных действий». Наклеив его на новый лист, она опять задумывается и опять грызет карандаш. Подумав немного, она выводит:
С места военных действий
На войне страшно салдаты сидят вакопах и мерзнут. Но
один салдат спрыгнул с зонтеком и незаболел сытрисением
мозга. Он выпрыгнул из аэраплана.
На этом Мадикен кончает писать про войну. Теперь надо поискать, что еще подскажет ей папина газета. Объявления… Объявления тоже, наверно, нужны, чтобы газета была как настоящая.
Она вырезает заголовок «Смерти» и наклеивает его на чистый лист. И опять она в раздумье грызет карандаш. На этот раз долго размышлять не пришлось. Радостно кивнув, Мадикен начинает писать.
Написав объявление, Мадикен рисует вокруг черную рамку. И тут она чувствует, что больше ей уже не хочется делать газету, а лучше она порисует. Мадикен делает рисунок для папы. На рисунке изображено, как Мадикен летит с крыши сарая. Рисунок получился очень хороший. Папа его увидел, когда пришел обедать. Папе тоже понравился рисунок. Мадикен в купальном халате сидит за столом вместе со всеми. Ездить на экскурсии ей, может быть, еще и нельзя, но уж есть пюре и яблочный крем, конечно, можно.
А потом наступил вечер, Мадикен и Лисабет лежат в своих кроватках и собираются спать. Но сперва в детскую приходят мама и папа посидеть с девочками на сон грядущий. Мама рассказывает им о приключениях принца Хатта в подземном королевстве, а папа показывает на стене забавные тени. Керосиновая лампа освещает детскую слабым светом, но папа снял абажур, свет сделался ярче, и тени получились замечательные. Они шевелятся на стене, иногда там появляется козлик с рожками, иногда танцующая девочка, а иногда просто шевелятся папины руки, и все.
Как это здорово, когда папа и мама приходят в детскую вместе! Мадикен хотела бы, чтобы они сидели долго-долго. Но вот мама говорит:
— Ну все! Пора наконец спать.
И ведь надо же! Лисабет уже спит. А Мадикен в этот вечер еще долго не засыпает. Она опять думает об экскурсии. Экскурсия, конечно, давно уже кончилась, но все-таки! Послезавтра Мадикен пойдет в школу, она хорошо знает, о чем там будут разговоры. Все-все дети только и будут говорить, как там было здорово, как восхитительно, все — кроме Мадикен! Ах, ну почему так вышло, что ей не разрешили поехать!
А на небе сегодня такие большущие звезды! Сквозь щели в жалюзи видно сразу много звезд. Они почти такие же красивые, как на открытке с ангелом. Мадикен принимается считать звезды, но у нее плохо получается. Она считала-считала и захотела спать.
Весь дом уже спит, спит Юнибаккен на берегу реки, среди белых берез. В доме темно, только мама еще не спит. Скоро и они уснет, но сперва заглянет в детскую, чтобы подоткнуть одеяльца у своих дочек.
Вот мамин зеленый ночничок осветил кроватку Лисабет. Лисабет, как всегда, спит на животе. Видна только полоска загорелой шейки и густая копна золотистых кудрей. Когда мама склоняется над ней, она бормочет сквозь сон:
— Ты с ума сошла, Мадикен!
От младшей дочки мама переходит к большенькой. А большенькая, когда спит, кажется совсем еще маленькой, и на бледном личике резко чернеют густые ресницы. На полу возле кроватки валяется какой-то листок. Мама поднимает его и, поднеся к ночнику, читает:
Смерти
С радостью извещаем скончался
наш пративный гаткий
Себастьян Нигге
Похорон небудет
В пятницу утром Мадикен отправляется в школу. Она уныло плетется, еле волоча ноги. Не хочет Мадикен приходить в школу и слушать разговоры об экскурсии.
Через двадцать минут она возвращается и вихрем врывается в калитку. Галопом — нет! как на крыльях — она влетает в кухню, до полусмерти перепугав маму, которая, конечно же, должна была подумать, что случилось что-то ужасное. Как же Мадикен могла вернуться, когда идут уроки, да еще в таком ошалелом виде?
— Мама, — выпаливает Мадикен, еле переводя дух, — у нас будет экскурсия… сегодня… прямо сейчас… в среду ничего не было… Учительница оступилась на лестнице… Ой, как я рада!.. У нее было сотрясение мозга… налейте мне шоколаду в термос… А где моя матроска?.. Скорее, мама, скорей!
В это время, как всегда по пятницам, приходит Линус Ида, чтобы сделать большую уборку, и у калитки сталкивается с Мадикен. Мадикен выбегает в матросском платьице и матросской шапочке. Как она сияет и как весело подскакивает у нее на спине рюкзачок, потому что на радостях она бежит вприпрыжку!
— Я еду на экскурсию! — говорит Мадикен. — Я так счастлива!
— Вон оно что! — говорит Линус Ида. — А кто это у нас недавно ревел в постели и собирался умирать? Сегодня-то вроде бы на другой лад поешь?
— Ха-ха! — отвечает Мадикен. — Это Себастьян Нигге собрался умирать. Он и помер. Вон, даже в газете написано.
— В какой же это газете? — спрашивает Линус Ида.
— Ха-ха! — смеется Мадикен. — Не скажу!
С этими словами она убегает на экскурсию. Она поедет на поезде и будет сидеть на горе и есть бутерброды. Удивительно ли, что она так и лучится радостью!
Лисабет запихивает себе в нос горошину
Вот и осень настала, и в Юнибаккене по четвергам едят гороховый суп. Но не подумайте, что Лисабет каждый четверг запихивает себе в нос горошину, это случилось только один раз. Лисабет вообще мастерица засовывать разные вещи куда не надо. Ключ от комнаты прислуги она однажды засунула в почтовый ящик, мамино колечко бросила в свинью-копилку, папины велосипедные защипки сумела-таки затолкать в пустую бутылку… Все это она проделывает не назло, а просто чтобы посмотреть, получится или нет. Приятно ведь, когда удается просунуть вещь туда, куда она, казалось бы, ни за что не пролезет. А тут глядь, на полу горошина! Лисабет ее сразу хвать и мигом запихала себе в нос. Ей просто интересно было узнать, залезет ли горошина. Залезла! Да еще как глубоко!
Тогда Лисабет захотела вынуть горошину обратно. Она уже убедилась, что горошина вошла. А горошина-то и не поддается! Застряла и никаких! Лисабет уж ковыряла-ковыряла — не вылезает горошина. Тогда Лисабет побежала за помощью к Мадикен. Мадикен тоже поковыряла. Нет, не получается, горошина не желает вылезать.
— Может быть, она уже пустила корешки, — рассуждает Мадикен. — Вот увидишь, скоро у тебя из ноздрей прорастут гороховые цветы… Хорошо бы, если бы вырос душистый горошек.
Этого Лисабет уже не стерпела и заревела в голос. Душистый горошек ей очень нравится, но пускай он себе растет в саду на клумбе, а не так, чтобы у нее из носа! С оглушительным ревом она бежит к маме.
— Мама, у меня в носу застряла горошина, вынь ее обратно! Не хочу в носу горошину!
— Ой! — говорит мама. — Ой-ой-ой!
У мамы сегодня опять разболелась голова, мама хочет спокойно полежать и подремать, а не вытаскивать у Лисабет из носу горошину.
— Не хочу горошину! — кричит Лисабет. — Выньте горошину!
Мама берет шпильку и пробует достать горошину. Поковыряла, поковыряла — нет, ничего не получается. Горошина застряла и не выходит.
— Мадикен, — говорит мама, — придется тебе отвести Лисабет к дяде Берглунду. Наверно, он сумеет вынуть у нее горошину.
— Правда, сумеет? — спрашивает Лисабет.
— Конечно, — говорит мама и снова ложится в постель. Уж очень у нее болит голова.
— Давай, Мадикен, пошли скорее! — говорит Лисабет.
Она ведь не знает, сколько времени нужно горошине, чтобы прорасти. Вдруг она возьмет и прорастет по дороге — вот будет ужас! Лисабет боится, что люди будут над ней смеяться.
Мадикен ее утешает: если, мол, и вырастет из носу душистый горошек, то в этом нет ничего страшного.
— Ты можешь оторвать ростки, никто ничего и не увидит. А ты их воткнешь себе в петличку, — говорит Мадикен.
Ну, Лисабет вообще-то не из тех, кто долго ломает голову над разными пустяками вроде какой-то горошины. Скоро она уже будет у доктора — с горошиной, можно сказать, покончено. А вот самостоятельный поход в город с Мадикен не каждый день случается!
— Вот здорово-то будет! — говорит Лисабет. — Пошли, Мадикен!
Дядя Берглунд живет далеко. Он живет возле большой площади в самом центре города, а усадьба Юнибаккен находится на окраине.
Мадикен ведет младшую сестренку за руку. Мама порадовалась бы, если бы видела, что они идут так, как полагается.
— Мало ли какая еще глупость взбредет тебе в голову, — говорит Мадикен и чувствует себя при этом взрослой и рассудительной. Она как-то совсем забыла, кому изо всей семьи чаще всего взбредают на ум разные глупости. Однако же поход в город — это и впрямь так здорово, что Мадикен не пристает к Лисабет с дальнейшими нравоучениями.
Вся улица засыпана опавшими листьями. Когда подденешь ногой, они так славно шуршат! И Мадикен с Лисабет старательно загребают ногами, расшвыривая кучи листвы. От усердия они размахивают руками, щеки у обеих разрумянились. Воздух прохладен и свеж, а цветы в садах завяли и побурели. Лисабет может не беспокоиться… по всему видно, что лето отцвело и душистый горошек не покажется.
— А не проведать ли нам Линус Иду? — говорит Мадикен. — Мы ведь долго не задержимся, а только заглянем на минуточку.
— Мы не задержимся, а только заглянем, — говорит Лисабет.
У Линус Иды они давно не бывали в гостях, а горошина пускай себе подождет, ничего с ней не сделается.
И Мадикен, и Лисабет очень любят Линус Иду, а уж о ее домике и говорить нечего! Домик Линус Иды — самый маленький во всем городе. Потолок в нем такой низкий, что Линус Ида только-только не достает до него головой. В доме одна маленькая-маленькая комнатка и маленькая-премаленькая кухонька. Зато какая же там красота! На окошках у Линус Иды стоят цветы, а над кроватью висят две чудесные, ужасно страшные картины. Еще там есть открытый очаг, и она всегда печет в нем яблоки для Мадикен и Лисабет. Поэтому глупо было бы пройти мимо и не заглянуть к ней по пути.
Только собрались Мадикен и Лисабет постучать в дверь, как заметили на ней записку. Мадикен прочитала: «Скоро вернусь». Значит, Линус Ида куда-то ушла. По счастью, девочкам спешить особенно некуда, можно и подождать. Тем более что дверь не заперта на замок, а только притворена.
В домике Линус Иды все так замечательно, что просто чудо! Девочки греются у горящего очага и разглядывают страшные картинки над кроватью Линус Иды. На одной нарисовано извержение вулкана. Мадикен и Лисабет содрогаются от ужаса, глядя, как разбегаются на картинке бедные людишки, спасаясь от огня. Хорошо все-таки, что в Швеции горы не извергаются! Вторая картинка тоже очень страшная. На ней много-много мужчин, которые тонут в реке. Видно, как им всем страшно и как они хотят выбраться на берег. Река так бурно разлилась, хотя она вытекает из опрокинутой бутылки, которая валяется на земле. «Неужели и ты хочешь захлебнуться в водке?» — написано под картинкой. Мадикен и Лисабет содрогаются. Нет, они уж как-нибудь поостерегутся, чтобы не угодить в эту реку!
— В жизни не видала лучше картины! — говорит Мадикен.
— Каттегоритчески! — говорит Лисабет.
Затем они глядят на фотографии Эстер и Рут.
Это дочери Линус Иды. Фотографии присланы из Америки. Рут и Эстер живут там. Обе они — настоящие дамы в красивых цветастых платьях, и волосы у них уложены в прическу, похожую на птичье гнездо. Их фотографии стоят у Линус Иды на комоде, а сами они живут в Чикаго и никогда уже не вернутся домой.
Напротив комода висит гитара Линус Иды. Мадикен осторожно дергает струну, и раздается восхитительный звук. О, Мадикен, кажется, отдала бы все на свете за то, чтобы научиться играть на гитаре, как Линус Ида!
А Лисабет музыкой не интересуется. Она подходит к окну и смотрит во двор, нет ли там чего-нибудь занимательного. Нет, ничего не видно, одни только бочки с мусором, да маленькая лужайка, да посередине большое дерево, а вокруг лужайки стоят домишки, очень похожие на домик Линус Иды. Все это совершенно неинтересно. А вот что интересно, так это рыжая девочка, которая сидит на крыльце одного из домиков. Это, должно быть, Маттис, о которой Лисабет наслышалась от Линус Иды, и вот с ней-то она не прочь потолковать.
— Я скоро вернусь, — говорит Лисабет.
Но Мадикен уже сняла со стены гитару и принялась играть, так что она ничего вокруг не видит и не слышит. Она трогает струну и долго слушает, как замирает звук. Она вслушивается в себя — каждый звук отзывается у нее внутри, и ей делается хорошо и радостно.
А Лисабет уже выскочила во двор. Вон и Маттис сидит у себя на крыльце. У нее в руках ножик, и она обстругивает какую-то палочку, делая вид, будто не замечает, что тут появилась Лисабет. Лисабет медленно приближается и останавливается на почтительном расстоянии, как того требуют правила приличного поведения. Лисабет стоит и выжидает. Наконец Маттис подняла голову.
— Соплячка! — говорит она отрывисто и решительно и опять принимается строгать палочку.
Лисабет обиделась. Если хорошо разобраться, кто тут соплячка и кому надо утереть нос, то уж скорее это относится, к Маттис.
— От соплячки слышу! — говорит Лисабет и тут же пугается своих слов. Маттис не старше Лисабет, но вид у нее очень решительный и грозный.
— А вот как пырну сейчас ножом! Ты этого захотела? — спрашивает Маттис.
Лисабет молчит и не отвечает. Она пятится назад и, отступив на несколько шагов, высовывает язык. Маттис тоже высовывает язык, затем говорит:
— А у меня есть два кролика, а у тебя-то и нету! Накась, выкуси!
Такого выражения Лисабет еще никогда не слышала, но догадывается — раз Маттис ей так говорит, то это, наверное, что-то обидное. За Лисабет дело не стало. Подхватить хорошее новое словечко она — всегда пожалуйста!
— А у меня есть кошка Гося, а у тебя-то и нету! Накась, выкуси! — говорит Лисабет.
— Ха-ха! Удивила! Уж кошек тут полным-полно, прямо спасу нет! — говорит Маттис. — Мне кошки и даром не надо, хоть ты меня озолоти.
Наступает молчание. Лисабет и Маттис уставились друг на друга, кто кого переглядит. Первая заговаривает Маттис:
— А мне вырезали аппендицит, у меня на животе здоровенный рубец, а у тебя-то и нету. Что? Выкусила?
Теперь черед Лисабет. Она быстро думает. Неужели ей нечем похвастать перед девчонкой, у которой есть рубец на животе? Ну конечно же, есть чем!
— A y меня горошина в носу! Выкусила? А у тебя-то и нету!
Но Маттис отвечает ей с издевательским смехом:
— Подумаешь, горошина! У меня их столько, что можно полный нос набить! Тоже мне, удивила!
Лисабет так смущена, что в ответ только и может пробормотать:
— А вот если у меня вырастет душистый горошек…
Но этого бормотания почти не слышно — ведь если ей самой не нужен душистый горошек, чем же тут особенно хвастать?
В это время сидящая на крыльце Маттис утирает нос рукавом. И тут Лисабет сразу сообразила.
— Знаешь что, — говорит она, — не можешь ты набить нос горохом, у тебя нос и так соплями набит. Эх ты, соплячка!
Тогда Маттис окончательно свирепеет.
— Вот я тебе сейчас покажу соплячку! — кричит она и кидается на Лисабет.
Лисабет машет руками и обороняется как умеет. Но Маттис очень сильная. Она орудует кулаками, как заправский боксер, колотит свою противницу и припирает ее к стенке. Тогда Лисабет вопит что есть мочи:
— Мадикен! Мадикен!
С какой стати Лисабет даст себя поколотить, когда у нее есть старшая сестра! С Мадикен не пропадешь, она умеет драться, будь здоров!
Когда Мадикен разозлится — а разозлить ее нетрудно, — тогда она себя не помнит и сама не знает, что делает. Она так налетит, что только держись! Уж мама ей говорила-говорила, и все не впрок. «Нехорошо, когда девочка дерется», — говорит мама. Но Мадикен все время забывает мамины наставления и вспоминает только потом, когда уже поздно. Чаще всего Мадикен позже раскаивается и говорит себе, что никогда больше не будет драться. Но она ни за что не потерпит, чтобы кто-то нападал на ее младшую сестренку. Мадикен стремглав вылетает из двери, как оса из своего гнезда. Не успела Маттис и глазом моргнуть, как получила такого тумака, что сразу шлепнулась на землю.
— Ну что? Выкусила? — спрашивает Лисабет.
Ишь обрадовались! У Маттис небось тоже есть старшая сестра.
И сразу, откуда ни возьмись, из ближайшего дома, точно оса из гнезда, вылетает — кто бы вы думали? — Мия, девочка, которая учится в одном классе с Мадикен и у которой в голове много вошек.
Маттис ревет благим матом и показывает пальцем на Мадикен:
— Вон она меня сейчас так треснула, что я даже свалилась!
— Ты же сама первая полезла, чумичка эдакая! — встревает Лисабет с объяснениями, но ее никто не слушает.
Мадикен и Мия уже схватились врукопашную. Мия — маленькая, жилистая и вредная, как заноза; она щиплется, царапается и норовит вцепиться в волосы. Не то что Мадикен — та дерется, как мальчишка, честно и по-борцовски, к тому же она сильная. Вскоре Мия оказывается на лопатках и даже не может царапаться, потому что Мадикен сидит на ней верхом и крепко держит за руки.
— Будешь просить пощады? — спрашивает она.
В ответ от Мии слышится такое, что просто ужас:
— У тебя ни за что, чертова кукла!
Мадикен и Лисабет в страхе вытаращились на Мию. Можно сказать «соплячка», можно — «чумичка», но чертыхаться никак нельзя, кто чертыхается, попадет в ад, говорит Линус Ида.
Бедная Мия! От жалости Мадикен отпустила руки своей противницы. Нельзя же драться с человеком, который попадет в ад. Но Мия сразу вскочила и — бац — Мадикен прямо в нос. Удар не так и силен, но его оказалось достаточно — у Мадикен пошла из носу кровь. С Мадикен это часто случается, и Лисабет обыкновенно даже не обращает внимания. Но сейчас она при виде крови, капающей из носа Мадикен, поднимает такой крик, точно ее режут.
— Мадикен умерла! — вопит Лисабет. — Мадикен умерла!
Но тут вовремя подоспел ангел-спаситель — прибежала Линус Ида.
— Право слово, вы, кажется, с ума посходили! Совсем оголтелые!
Твердой рукой она хватает Мию и Мадикен и растаскивает их в разные стороны.
— Ишь какую манеру взяли! Как не стыдно!
Мадикен и Лисабет сразу же устыдились. Зато Мия и Маттис — нисколечко. С перепугу они пустились наутек, но, укрывшись в своем доме, стали из-за двери дразниться, показывая Мадикен и Лисабет длинный нос. На дворе уже начало смеркаться, но Мадикен и Лисабет ясно видят две копны рыжих волос и глумливые ухмылки на лицах.
— Получили по мордасам, соплячки, так вам и надо! — кричит Мия.
А Маттис ей подпевает:
— Эй вы, подите сюда! Мы вам обеим врежем по мордасам!
— Ну и девочки! — ворчит Линус Ида. — Помяните мое слово, когда-нибудь они добьются, что сядут в тюрьму.
Оказывается, от драки можно устать. И Мадикен, и Лисабет очень рады, что сейчас могут отдохнуть в домике Линус Иды. Линус Ида ворчит на них и бранится. «Нет, вы только посмотрите на себя! А на кого похожа Мадикен!» У Мадикен кровь так и льется из носу, нарядное синее пальтишко стало пыльным и грязным. Но Линус Ида положила ей на нос холодную примочку, а пальтишко почистила щеткой, и оно опять сделалось нарядное, как было. Затем Линус Ида подбросила в очаг дров, и вот уже девочки с Линус Идой сидят у огня, пекут яблоки, а Линус Ида играет им на гитаре и поет.
— Еще, еще! — просят Мадикен и Лисабет всякий раз, как Линус Ида кончает песню. И Линус Ида поет подряд все свои печальные песни: «Как веет хладный ветер», «Жил-был однажды черный раб» и «Скачет рыцарь Святой Мартин», а под конец спела даже «Железную дорогу в рай». Тогда Мадикен отняла от носа мокрую тряпочку и прижала ее к глазам.
— Ха-ха! Это ты закрываешься, чтобы мы не видели, как ты плачешь! — говорит Лисабет.
Сама она никогда не плачет над песнями, какие бы они ни были грустные. Но Линус Ида уже отложила гитару.
— А теперь вам самое время отправляться домой, — говорит она девочкам. — А то мама начнет беспокоиться, куда вы подевались.
И только тут Мадикен спохватилась: а как же горошина! А доктор! Ой-ой-ой! И как это она все позабыла!
— Скорей, Лисабет! Поторапливайся! Бежим скорее! Вот тебе пальто… Держи! Побежали!
Линус Ида даже растерялась от неожиданности.
— Я же вас не гоню, девочки! Куда такая спешка? — говорит она.
Но Мадикен и Лисабет не слушают, что она говорит. Крикнув торопливо «до свиданья», они ускакали, не успев даже застегнуть пальтишки.
Через пять минут они уже звонят в дверь дяди Берглунда. У Мадикен от быстрого бега снова потекла из носа кровь, и дядя Берглунд, встретив ее в дверях, даже отшатнулся от ее страшного вида.
— Что за страсть такая? — говорит он. — Никак ты с кем-то сражалась?
— А что? Разве заметно? — спрашивает Мадикен.
— Заметно, — говорит дядя Берглунд, и это сущая правда.
Нос у Мадикен покраснел и распух, как картофелина. Ее даже трудно узнать, потому что она совсем на себя не похожа.
Дядя Берглунд ведет девочек в свой кабинет.
— Я ведь думал, что лечиться ко мне придет Лисабет. По крайней мере, мне так сказала ваша мама.
— А что, мама вам звонила по телефону? — спрашивает Мадикен с тревогой в голосе.
— Звонила. И всего лишь три раза, — отвечает дядя Берглунд.
— Ой! — вскрикивает Мадикен.
— Ой! — вскрикивает Лисабет.
— Мама не знала, куда вы подевались, — говорит дядя Берглунд. — Она уже беспокоилась, живы ли вы вообще.
— Да уж живы, конечно, — бормочет пристыженная Мадикен.
Дядя Берглунд усаживает ее на стул и засовывает ей в обе ноздри толстые ватные тампоны. Лисабет смотрит на нее и заливается хохотом.
— С ума сойти, Мадикен! — говорит она. — Ты стала как улитка. Вон у тебя белые рожки торчат.
Но после этих слов Лисабет замолчала, потому что подошел дядя Берглунд и полез ей в нос маленькими смешными крючочками. Это было не больно, но ужасно щекотно. Сначала он полез в правую ноздрю, потом в левую, потом опять в правую.
— Припомни, пожалуйста, в какую ноздрюльку ты засунула горошину! — просит дядя Берглунд.
— Вот в эту, — говорит Лисабет и показывает на левую.
Дядя Берглунд еще раз сует ей в нос свой крючок и вертит туда и сюда, так что Лисабет становится совсем невтерпеж от щекотки.
— Чудеса, да и только! — говорит наконец дядя Берглунд. — Но горошины там нет как нет!
— Конечно же нет! — говорит Лисабет. — Она же выскочила, когда мы подрались с Маттис, раз — и нету!
В этот вечер Мадикен и Лисабет никак не могут уснуть. За день столько всего случилось, и обо всем надо поговорить, лежа в постели!
Конечно, им немножко попало, когда они вернулись домой, но не так чтобы слишком. Мама была рада, что они не совсем заблудились и в конце концов нашлись, а папа только и сказал:
— Сейчас мы девочек быстренько в щечку чмок, потом надаем шлепок, и сразу в постель и спать!
На самом деле девочек только почмокали и уложили в постель без всяких шлепок, а вот спать у них никак не получается, хотя лампа в детской давно уже погашена.
— Можно, я приду к тебе в кроватку? — спрашивает Лисабет.
— Иди. Только смотри, осторожно! Не задень меня по носу, — говорит Мадикен.
Лисабет обещает лезть осторожно и крадучись перебегает из своей кроватки к Мадикен.
— Можно, я лягу головой тебе на плечо? — спрашивает она.
— Можно, — разрешает Мадикен.
Она любит, когда Лисабет кладет головку ей на плечо. Тогда ей кажется, что она совсем большая, а Лисабет очень маленькая, и от этого у нее теплеет на душе.
— Надо бы этой Маттис дать по мордасам, — говорит Лисабет, которая сегодня усвоила несколько новых слов.
— И Мии тоже надо бы дать по мордасам, — говорит Мадикен.
— Каттегоритчески! — говорит Лисабет. — А что, она и в школе такая же дурочка?
— Да вроде того, — говорит Мадикен. — Почти совсем дурочка дурочкой. Можешь себе представить, что она один раз сказала, когда учительница спрашивала нас по Библии?
Нет, Лисабет не может себе представить.
— Понимаешь, там было про то, как Бог создал первых людей. Это было в Эдемском парке. И вот, значит, Мию вызвали рассказать, как он это сделал. Так знаешь, что она сказала?
Нет, Лисабет совсем не знает.
— Она и говорит: «Бог навел на человека крепкий сон, а потом взял ведро и создал женщину» [19].
— А разве не так? — спрашивает Лисабет.
— Ну, знаешь! Ты точно такая же дурочка, как Мия. Он вовсе не ведро взял!
— А что же он тогда взял? — спрашивает Лисабет.
— Да ребро же!
— А откуда он взял ребро? — допытывается Лисабет.
— Ну, почем я знаю! Так написано в Библии. Там же в парке было много зверей, вот он и взял ребро у кого-нибудь!
— А как же тогда зверь? — спрашивает Лисабет.
— Ну, почем я знаю! В Библии об этом ничего не сказано.
Лисабет задумалась над этой историей, а подумав, сказала:
— Надо дать этой Мии по мордасам!.. Выдумала тоже — ведро! Вот уж дурочка!
И девочки дружно решили, что Мия — дурочка. Но тут вдруг Мадикен вспоминает, какое страшное слово сказала Мия. И Мадикен приходит в совершенное отчаянье. Мадикен, конечно, согласна, что Мия заслужила получить по мордасам. Но какой ужас, что ей суждено попасть в ад! И все из-за того, что Лисабет запихала в нос горошину! В сущности, во всем виновата горошина. Иначе они с Лисабет не пошли бы в гости к Линус Иде, и не было бы никакой драки, и Мия не сказала бы такого ужасного слова. Когда Мадикен растолковала сестре, что к чему, та заойкала: «Ой-ой-ой!»
Пораженные ужасом девочки притихли. Обе не знают, как тут быть и как помочь такому горю.
— Давай попросим за Мию прощения у Бога, — говорит Мадикен. — Может быть, это поможет. Сама она вряд ли догадается…
Мадикен и Лисабет складывают руки для молитвы — надо же как-то спасать Мию!
— Милый Боженька, прости на этот раз Мию! Прости ее, пожалуйста!
А Мадикен добавляет:
— Милый Боженька, она ведь, может быть, не нарочно так сказала. А впрочем, по-моему, она и не говорила «чертова кукла»… Вообще-то она, кажется, сказала «черная кукла».
Кончив молитву, девочки почувствовали облегчение. Мия была спасена от вечных мук, и теперь настала пора спать.
Лисабет крадучись перебегает к себе в кроватку. Мадикен осторожно ощупывает свой нос. Как будто бы он стал немного поменьше. Это тоже приятно.
— А ведь сегодня был очень интересный день, — говорит Мадикен. — И если хорошенько подумать, то все только благодаря твоей горошине.
— Вот видишь! Значит, я удачно сделала, что ее запихала, — говорит Лисабет. — Это если хорошенько подумать.
— Да, — соглашается Мадикен. — А если бы ты запихала и другую горошину во вторую ноздрю, то было бы, наверное, еще в два раза интереснее! Ха-ха-ха!
Но Лисабет уже совсем засыпает, и ей не хочется больше ничего интересного.
— Знаешь что, Мадикен, — говорит она сонным голосом. — В моей школе у детей только одна ноздря.
И тут засыпают обе — и Лисабет, и Мадикен.
Мадикен проверяет свои способности к ясновидению
Мама почему-то не очень любит, чтобы Мадикен ходила в гости к Нильссонам. А для Мадикен их кухня — самое любимое место. Однажды она слышала, как папа говорил маме:
— Не мешай ей туда ходить! Я хочу, чтобы мои дети знали, что люди бывают всякие. Может быть, это их убережет от высокомерного отношения.
Поскольку это было сказано не для ее ушей, Мадикен не смогла спросить у папы, почему ее надо уберегать от высокомерного отношения. Скорее всего, папа имел в виду, Что не надо сердиться на дядю Нильссона, если он по субботам бывает пьяный. Мадикен на него не сердится, ведь и он тоже хорошо к ней относится и называет «милой Мадикен из Юнибаккена», и дядя Нильссон никогда не обижает ни тетю Нильссон, ни Аббе.
— Недаром ведь «Люгнет» значит «отдохновение», вот я и хочу, чтобы мне тут хорошо отдыхалось, — говорит дядя Нильссон, укладываясь поудобнее на кухонном диване. — Нельзя же все время трудиться да трудиться, когда-то можно и отдохнуть!
Тетя Нильссон почти всегда понимает, что дяде Нильссону когда-то нужно отдохнуть, и только изредка отказывается его понимать. Когда приезжает мусорщик, тетя Нильссон не хочет сама вытаскивать мусорную бочку к калитке. Тут уж приходится дяде Нильссону приложить руки. Он это очень не любит, и потом долго отлеживается на диване и не разговаривает с тетей Нильссон. Уставясь в потолок, дядя Нильссон горько жалуется, ни к кому не обращаясь:
— Казалось бы, я домовладелец и хозяин усадьбы, а должен сам таскать мусорный бак через весь двор!
Зато когда дядя Нильссон заводит граммофон и танцует с тетей Нильссон, а Аббе лепит крендельки и по всей усадьбе разносится аромат горячего печенья, тогда у них на кухне бывает очень приятно. Правда, Альва, которая иногда заходит в Люгнет, чтобы забрать Мадикен, говорит, что в жизни не видывала более захламленного и грязного дома. А, впрочем, много ли домов перевидала Альва? В чем-то она, наверно, права — ведь Нильссоны действительно не метут пол и не моют посуду без крайней надобности. Но Мадикен считает, что в общем-то у них все выглядит вполне прилично. Полки украшены расшитыми подзорами. Тетя Нильссон сама вышила на них крестиком красным по белому надписи: «Порядок во всем», «Всякой вещи — свое место», а на самом длинном: «Солнце в небе и доме, солнце в сердце и душе».
— Вот как-нибудь соберусь их постирать, — говорит тетя Нильссон. — Тогда виднее будет, что на них написано.
— Да ну! Ты же их все равно не читаешь, — говорит дядя Нильссон, подхватывает тетю Нильссон за талию, кружит ее в танце и поет:
О, Адольфина! О, Адольфина! Вместе забыться! О, Адольфина! О, Адольфина! В вальсе кружиться!— Полно тебе дурачиться, — говорит тетя Нильссон, а сама хохочет так, что у нее даже живот трясется.
Аббе, склонившийся над кухонным столом, тоже насвистывает «О, Адольфина!» и в такт песне вертит из теста колбаску.
Но лучше всего бывает, когда Аббе и Мадикен остаются на кухне одни. Аббе столько всего знает и так хорошо рассказывает между делом, а Мадикен сидит на диване и слушает. Все истории про привидения, убийц и про войну, которые так любит Лисабет, Мадикен узнала от Аббе.
С убийцами Аббе сталкивался всего три раза в жизни, зато привидений повидал очень много. А Мадикен еще ни разу ни одного не видела.
— Это потому, что я — духовидец, — говорит Аббе. — Для этого надо родиться ясновидящим, иначе ты не увидишь привидений.
Духовидец! Мадикен раньше даже слова такого не знала, но Аббе ей объяснил. У духовидцев глаза устроены иначе, потому они и видят разных духов и привидения, а обычные люди, сколько ни глядят, ничего не видят. Аббе и сам удивляется этой разнице:
— Я просто не понимаю, как это получается у обыкновенных людей — перед человеком стоит привидение, а он прет на него, как будто и не видит.
— Как ты думаешь, я — обыкновенный человек? — спрашивает Мадикен с надеждой в голосе. — Вдруг я тоже духовидец, только не бывала в таких местах, где водятся привидения!
Аббе снисходительно смеется:
— Ты-то духовидица? Да из тебя духовидица, как из поросенка!
Некоторое время Аббе молча лепит крендельки, затем говорит:
— А впрочем, изволь! Если хочешь, я как-нибудь схожу с тобой на кладбище темной ночью.
У Мадикен мороз пробежал по коже.
— На кладбище? А разве там водятся привидения?
— Именно что там, — говорит Аббе. — Конечно, я и в других местах встречал привидения, но уж на кладбище их столько, что не протолкнуться, там их прямо-таки навалом! Там шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на привидение.
Мадикен очень хочется узнать, способна ли она увидеть привидение, но отправляться ради этого среди ночи на кладбище, где привидений столько, что не протолкнуться… Б-р-р, этого ей не хочется делать!
— А нет ли другого места, где их чуточку поменьше? — спрашивает Мадикен.
Аббе бросает на нее проницательный взгляд.
— Ты что, трусишь?
Мадикен отводит глаза и молчит. Если Аббе решит, что она трусиха, это будет ужасно. Но еще ужаснее пойти среди ночи на кладбище.
Аббе словно бы задумался.
— Само собой, мы можем попробовать и в другом месте, — говорит он и шлепает на противень готовый кренделек. — Вот хотя бы у нас в старой пивоварне: похоже, что там в северном углу что-то нечисто.
— Давай попробуем! — просит удивленная Мадикен.
Она много раз заходила в старую пивоварню Нильссонов и никогда не замечала там ни малейших следов привидений или призраков… Неужели она и впрямь такой же духовидец, как какой-нибудь поросенок!
— По правде сказать, я не думаю, что от этого будет толк, — говорит Аббе. — Но на всякий случай отчего бы не попробовать! Пойти, что ли, сегодня ночью?
Мадикен опять отводит глаза:
— А что, обязательно только ночью?
— А как же ты думала? Может быть, ты воображаешь, что старикан там среди бела дня шастает, чтобы моей мамаше во время стирки компанию составить? Нет уж, дудки! Ночью, в двенадцать часов — вот самое подходящее время для привидений. Тогда-то он и явится, и ни минутой раньше!
— А почему он живет в вашей пивоварне? — спрашивает Мадикен с интересом.
Аббе сперва молчит, потом отвечает:
— Так и быть, я тебе все расскажу. Только учти, что вообще-то это тайна, и ты никому не должна про нее рассказывать, чтобы ни одна живая душа не узнала.
Мадикен уже вся дрожит от нетерпения. От Мадикен никто никогда не узнает чужого секрета! Аббе и сам это знает, и потому он только ей одной решился рассказать про старика, который по ночам является в пивоварне. О таких чудесах Мадикен и не слыхивала. Оказывается, что это призрак прапрадедушки Аббе. Прапрадедушка жил сто лет назад. Он был графом и владел несметными богатствами… Аббе и сам, можно сказать, граф, он только держит это в секрете.
Мадикен глядит на Аббе во все глаза и никак не может опомниться от изумления. Такого ей еще никогда не приходилось слышать!
— Ты догадываешься, отчего мой прапрадедушка не может спать спокойно в своей могиле, как другие умершие графы? Лежал бы себе, кажется, спокойно в гробу, так нет же — он вместо этого колобродит по ночам в пивоварне. А знаешь отчего?
Нет, Мадикен не знает, но Аббе опять ей все объяснил. Этот граф-богатей вздумал однажды закопать в пивоварне, где теперь прачечная, бочонок с деньгами.
— Просто так, ради интереса, понимаешь ли, — говорит Аббе. — Во все банки он уже положил такие груды денег, что там просто больше некуда стало класть. Тогда-то он и вспомнил про пивоварню. А как зарыл свое сокровище на черный день, так сразу же и окочурился, а богатство в земле так и осталось! Вот потому он теперь и бродит привидением.
Мадикен перевела дух:
— Ты думаешь, что деньги так и остались лежать?
— Ясно, лежат, — говорит Аббе.
Мадикен глядит на него во все глаза:
— А почему ты их не откопаешь?
— Тебе хорошо говорить! Сама бы попробовала! — говорит Аббе. — А ты знаешь хотя бы, где копать?
Нет, Мадикен не знает.
— Вот видишь! — говорит Аббе.
Мадикен смотрит на него так, словно в первый раз увидела. Подумать только! Вот он стоит у плиты, печет кренделечки, а на самом деле он, оказывается, граф, и прапрадедушка у него тоже был граф… Да мало того, что граф, а еще и привидение.
— А как зовут привидение? То есть, я хотела сказать, твоего прапрадедушку?
Аббе застывает с недоконченным крендельком в руках. А когда наконец говорит, то звучит это так, будто он читает по книге.
— И звали его граф Аббе Нильссон Крок! — изрекает Аббе.
Получается так величественно и так страшно, что у Мадикен пробежали мурашки по спине.
— Твое счастье, что мы не гордые, — говорит Аббе Нильссон. — «Ваша светлость, высокородный граф Аббе Нильссон Крок» — вот как ты должна бы меня называть. Ну, да чего там! Можешь по-прежнему называть меня Аббе.
— Хорошо! Иначе бы я просто не могла с тобой разговаривать, — говорит Мадикен. — Если хочешь, иногда я могу называть тебя «ваша светлость высокородный граф Аббе».
Но Аббе не высказывает такого желания. Он хочет одного — чтобы Мадикен пошла с ним ночью в двенадцать часов в пивоварню. Ведь если Мадикен окажется духовидицей, то вдвоем они, может быть, выследят графа Крока и как-нибудь выведают у него, где лежат деньги. Аббе уже много раз пробовал его подловить, но прапрадедушка с леденящим душу стоном исчезал сквозь стену.
От этих рассказов Мадикен приходит в сомнение, быть духовидицей не кажется ей уже так заманчиво. Поглядеть на привидение всякому интересно, но если ради этого нужно в двенадцать ночи гоняться по пивоварне за прапрадедушкой, то это меняет дело!
— Мне мама не разрешит! — говорит Мадикен. — Она нипочем не выпустит меня ночью из дома.
Аббе с жалостью смотрит на Мадикен, надо же сморозить такую глупость!
— Эх ты — голова два уха! Неужели ты собираешься спрашивать разрешения у мамочки? В таком случае, лучше и не пытаться! Ты никогда не узнаешь, можешь ли ты видеть привидения, уж ты мне поверь!
Мадикен верит. Она знает, что Аббе говорит правду. Ведь мама действительно хочет, чтобы по ночам Мадикен спала, и ей совершенно не интересно, может или не может Мадикен видеть привидения.
Но тут Аббе напоминает ей, что она ведь не раз вылезала из окна на крышу веранды. Правда, обычно это бывало днем, но если можно днем, то почему нельзя ночью?.. Конечно, если она не трусиха!
— Ну так ты пойдешь или нет? — спрашивает Аббе строго.
Мадикен не знает, что и сказать.
— Мне не дождаться двенадцати, я усну. Так что ничего не получится.
Но от Аббе не так-то просто отделаться. Подумав немного, он говорит:
— Слушай, я, пожалуй, сумею обмануть прапрадедушку и сделать так, чтобы он сегодня появился пораньше. Знаешь, что я придумал?
Нет, Мадикен не знает. Разве она может так придумать, как Аббе?
— Я поставлю в пивоварне будильник и передвину стрелки на три часа вперед. Ну как? Ловко придумано? Вот прапрадедушка и решит, что уже двенадцать часов, а на самом деле будет еще только девять. Ха-ха!
— Ха-ха! — вторит Мадикен, но смех у нее невеселый.
— Ну так что — пойдешь? — еще строже спрашивает Аббе.
— Да-а, — говорит Мадикен. — Наверно уж пойду.
— Шик-блеск! — говорит Аббе. — Ты молодчина!
В семь часов вечера Мадикен и Лисабет укладываются спать. Но сначала приходит мама немного посидеть с девочками. Она им рассказывает сказки и поет песенки. Последнюю песню поют все вместе — мама, Мадикен и Лисабет. Иногда приходит папа, тогда они поют на два голоса. Они поют: «Вечер прекрасный, мирный покой». Мадикен почему-то испытывает настоящее счастье от этой мелодии, а может быть, еще больше от слов. В чем тут дело — она и сама толком не разберется. Лисабет тоже, наверно, радуется, когда поет эти слова. Во всяком случае, она уже не говорит, как раньше, когда еще была маленькой и мама с ней разучивала эту песню: «Ой, мамочка, как скучно!»
Но тогда ей было только три годика. Теперь-то она знает наизусть всю песню и распевает не хуже других: «Вечер прекрасный, милый покой». Она поет: «милый покой», а не «мирный покой». «Ой, как же это верно! — думает Мадикен. — „Милый“ как раз то слово, которое лучше всего подходит для вечера, когда ты лежишь в мягкой, уютной постельке и мама заботливо подоткнула тебе одеяльце, а за окном так хорошо шелестят березы».
Однако про нынешний вечер никак не скажешь «милый покой». Сегодня у Мадикен совсем другое чувство. При мысли о том, что она собирается сделать, у Мадикен начинают бегать по коже мурашки, но в этом ощущении нет ничего неприятного. Что поделаешь, раз Мадикен уродилась такая беспокойная! Ее так и подмывает искать захватывающие приключения. Она уже решила пойти в пивоварню, чтобы узнать, может ли она видеть привидения, и сейчас у нее приблизительно такое чувство, какое бывает, когда предстоит поход к зубному врачу. Хуже всего — это ждать, пока не скажут: «Ну, все! Завтра пойдем!» Остальное уже не страшно. А кроме того, если Аббе не боится увидеть привидение, то чем, спрашивается, Мадикен хуже? Во всяком случае, так рассуждала Мадикен, пока лежала в своей постельке.
Мама и папа уже давно пожелали девочкам спокойной ночи и ушли. Теперь Мадикен дожидается, когда уснет Лисабет. То, что она задумала, нужно держать в секрете даже от нее.
— Ты не спишь? — спрашивает Мадикен.
— Вовсе даже не сплю, — отзывается Лисабет. — А ты?
— Ну и дурочка ты, Лисабет! — говорит Мадикен.
Она выжидает еще немного и через некоторое время опять спрашивает:
— Лисабет, ты спишь?
— Ни чуточки! — говорит Лисабет. — А ты?
«Ну что за девочка!» — думает Мадикен и начинает сердиться.
— Ты что, всю ночь собираешься не спать?
— Каттегоритчески! — отвечает Лисабет.
Но через минуту она уже перевалилась на живот и уснула.
Никогда еще Мадикен не доводилось одеваться в кромешной тьме.
Она боится зажигать керосиновую лампу, чтобы не разбудить Лисабет и чтобы мама нечаянно не заметила полоску света под дверью детской.
Хорошо, что Мадикен позаботилась с вечера аккуратно сложить одежду на стуле, который стоит возле ее кровати. С бельем она быстро управилась, надела штанишки, лифчик. Потом Мадикен пришлось поволноваться — второй чулок, как нарочно, куда-то запропастился. Мадикен лихорадочно ищет пропажу — правда, ведь неудобно получится, если она явится в одном чулке перед прапрадедушкой Аббе Нильссона, это перед настоящим-то графом! В конце концов чулок отыскивается под стулом рядом с ботинками. Не шуточное дело — зашнуровать ботинки в потемках, но Мадикен кое-как справилась и со шнурками. Теперь остается надеть платье и длинную шерстяную кофту, в которой она играет в саду.
Мадикен стискивает зубы — предстоит самое трудное. Надо открыть дверь, на цыпочках пройти через сени к оконцу, которое выходит на крышу веранды, и ни разу не зашуметь, чтобы не заметили мама и папа. Они еще сидят внизу в гостиной. Сквозь закрытую дверь детской доносятся их приглушенные голоса.
Мадикен благополучно добралась до окошка, никого не потревожив. Она дернула раму, и та открылась с ужасающим грохотом. В гостиной смолк разговор, и Мадикен замерла, трепеща от страха, — что-то сейчас будет?..
Однако все спокойно. Просто мама села за пианино и стала играть. Из-под ее пальцев полилась тихая, ласковая мелодия. Выкарабкиваясь на крышу, Мадикен слышит позади негромкие звуки музыки. На миг у нее защемило в груди. Все, что давало покой и чувство надежности, оставлено позади, а впереди — тьма и ночные страхи.
На дворе стоит ноябрь, холодный и темный вечер. Мадикен не ожидала, что будет так жутко. В деревьях гудит ветер. Они давно облетели, и вместо шелеста листвы слышен сухой стук оголенных ветвей, как будто деревьям тоже страшно.
Мадикен пришла под окно, за которым живет Аббе. Из темноты хорошо видна освещенная кухня, там собрались Аббе, его мама и папа. Мадикен смотрит, и ей тоже хочется к свету и теплу, но Аббе велел ей прийти под окно и прокричать по-совиному. Мадикен послушно выполняет наказ и принимается ухать, как сова. Совиный крик получается таким жутким, что Мадикен сама себя испугалась, а тетя Нильссон даже подскочила на стуле. Аббе тоже оживился. Он срывается с места и надевает кепку. Вот он уже у дверей. Мадикен видит его в тусклом свете керосиновой лампы. Для графа он одет довольно-таки неказисто — штаны с заплатками на коленях, и куртка висит, как на вешалке. И весь он какой-то щупловатенький. На взгляд Мадикен, графу полагается быть потолще и не таким патлатым. Но раз она не знакома с другими графами, то не может судить наверняка. Волосы у Аббе как растрепанная метелка, неприбранные вихры торчат во все стороны из-под кепки. Однако он самодовольно ухмыляется и, как видно, думает про себя, что он вылитый граф.
Разглядев Мадикен в темноте под яблонями, он деловито устремляется ей навстречу.
— Порядок! — говорит он. — Сейчас узнаем, надули мы дедушку или нет и поверил ли он, что сейчас уже двенадцать часов.
— Порядок! — говорит Мадикен, а сама дрожит мелкой дрожью. — А ты завел будильник?
— Спрашиваешь! Неужели же нет! Я завел звонок, чтобы старик не проспал. А то он ведь не привык просыпаться в это время.
Пивоварня Нильссонов находится в дальнем конце сада, почти у самой реки. Туда ведет утоптанная тропинка. Аббе захватил с собой фонарик, чтобы Мадикен не налетела в темноте на дерево и не набила себе шишек о замшелые стволы старых яблонь.
Вот какой Аббе внимательный и предусмотрительный!
— Можно, я возьму тебя за руку? — говорит Мадикен. — Так мне будет лучше видно.
— Давай, — говорит Аббе. — Чудачка ты, Мадикен!
Он берет протянутую ладошку, ладошка холодная и дрожит.
— Но только, когда появится прапрадедушка, я тебя отпущу, — говорит Аббе. — А то старику не понравится, что я якшаюсь с людишками, в которых течет не графская кровь.
Впереди зачернела мрачная стена пивоварни — сразу видно, что там водятся привидения. И тишина кругом такая, что поневоле станет страшно. Неужели это — та самая приветливая сараюшка, где бывает так весело и шумно, когда тетушка Нильссон затевает большую стирку. В чане булькает вода, гулко шлепаются в него мокрые простыни, гремит в руках тетушки Нильссон стиральный валёк, туман стоит такой, что среди ушатов и корыт недолго и заблудиться — Мадикен и Лисабет еле различают друг друга в клубах пара. В пивоварне так здорово, что просто одно удовольствие! А лучше всего там на чердаке — кричи, носись, скачи сколько душе угодно, можно играть в жмурки и прятки. На чердаке под стрехой живут совы. Они не любят беготни и крика. Когда Мадикен и Лисабет разыграются, птицы вылетают в окно и не возвращаются, пока не уйдут девочки. Может быть, и привидение поступает, как совы. Может быть, граф тоже улетал в окно, когда Мадикен с Лисабет поднимали возню на чердаке? Сейчас-то тихо, и он, наверно, засел в темноте вместе с совами… сидит там и поджидает.
Мадикен крепко вцепилась в руку Аббе. Ей страшно, и он это почувствовал. Аббе гасит фонарик, берется за огромный ключ, чтобы отомкнуть тугой замок, и оборачивается к Мадикен.
— Ну, решай, как ты хочешь, — говорит Аббе шепотом. — Я подумал, что ты хотела посмотреть на привидение, но если нет, то можешь и отказаться.
В этот миг за дверью заверещал будильник, так громко, словно хотел перебудить все привидения, которые прячутся в ночной тьме, предупреждая их, что к ним пришла Мадикен. Страшно, просто жуть!
— Если хочешь, давай улепетывай! — говорит Аббе. — Пока старичок очухается ото сна, ты успеешь унести ноги.
Мадикен, конечно же, боится, она трясется как осиновый лист, но ведь иначе она никогда не узнает, может ли она видеть привидения! Нельзя упускать такой случай!
— Я хочу на него посмотреть, — лепечет Мадикен. — Я только взгляну одним глазочком.
— Ну, раз так, давай! — говорит Аббе. — Только чур, на меня не обижаться, если ты бухнешься в обморок!
Аббе поворачивает ключ и осторожно отворяет дверь. Она открывается со страшным скрипом. Если граф Крок не расслышал будильника, то теперь-то уж он наверняка проснется.
Мадикен напряженно вглядывается в черную темь, схватившись рукой за куртку своего провожатого. Она чувствует, что без Аббе она пропала, и жалобно просит его:
— Зажги фонарик, чтобы было виднее.
Но Аббе не зажигает света.
— Сразу видно, что ты говоришь с непривычки, привидения больше всего злятся, если на них посветить фонариком, бывает, они даже рычат от злости! Слыхала когда-нибудь, как рычит привидение?
Нет, такого Мадикен, к счастью, еще не доводилось слышать.
— Тебе повезло! — говорит Аббе. — Один человек услышал, так он до сих пор трясется.
Тут Мадикен поняла, какая это была безумная затея — посветить фонариком на графа Крока: не хватало еще, чтобы он зарычал! Уж Аббе знает, что можно и чего нельзя. И Мадикен беспрекословно вступает с ним в непроглядную тьму. Аббе закрывает дверь изнутри. Кругом темно, как в дымоходе. Где-то в этой тьме затаился граф Крок, и хотя он пока не рычит, рядом с ним все равно очень страшно. Мадикен пугливо жмется к Аббе. Остановившись у порога, они молча ждут, что будет дальше.
Вдруг Мадикен почувствовала, как Аббе вздрогнул, и услышала его шепот:
— Вот он! Появился! Вон там, где стоит плита.
Мадикен взвизгивает и вцепляется в Аббе изо всей мочи. Она крепко прижалась к нему и зажмурилась.
— Видишь его? — спрашивает Аббе шепотом.
Мадикен через силу заставляет себя открыть глаза и посмотреть в ту сторону, где стоит плита с вмурованным в нее чаном. Кругом непроглядная тьма, и ничего не видно. Должно быть, Аббе прав, и ясновидения у нее не больше, чем у поросенка, но сейчас она этому даже рада.
— Неужели ты его не видишь? — шепчет Аббе. — Вон же он — страшучий, весь в белом и еще светится.
— Не-ет, — правдиво отвечает Мадикен.
— Странно, — говорит Аббе. — Я-то его ясно вижу.
И Аббе даже вступает с привидением в разговор:
— Высокородный граф! Позвольте спросить вас, ваша светлость, где вы спрятали кубышку?! Ответьте мне, если будет угодно вашей милости.
Молчание, и никакого ответа. Как видно, его светлости отвечать неугодно.
— Вот он всегда так! — шепчет Аббе Мадикен. — Упрям как бык.
Затем он снова говорит громко:
— Я тоже граф, и мне бы очень пригодилась эта кубышка… Уж ты удружи мне, дедушка… Мы же с тобой родня.
И опять шепотом Мадикен:
— Вид у него довольно-таки страхолюдный! Неужели ты его совсем не видишь?
— Нет, — твердо отвечает Мадикен. — У меня, наверно, нет ясновидения.
— А ты не зарекайся, — советует Аббе. — Бывает, что сперва требуется время для раскачки, а потом вдруг — раз! — и, куда ни повернись, всюду покажутся привидения.
Но Мадикен уже уверилась в том, что она не духовидица. Она испытала себя, а теперь бы ей только поскорее убраться отсюда подальше.
И опять Аббе вздрагивает и шепотом объясняет:
— Гляди, он мне машет рукой… Он хочет, чтобы я приблизился. — Затем, словно откликаясь на зов, кричит: — Сейчас, дедушка! Сейчас я подойду!
Но Мадикен вцепилась в него изо всех силенок и не отпускает.
— Нет, не ходи! — испуганно просит она.
— Надо! — шепчет в ответ Аббе. — Он хочет показать мне, где зарыт клад. А ты стой на месте и не двигайся.
Неожиданно Мадикен очутилась одна в темноте. Она слышит, как Аббе удаляется от нее в потемках, и тут уж окончательно теряет голову. Пойти следом — страшно, стоять — тоже страшно.
— Аббе! — зовет Мадикен. — Аббе!
Но Аббе не отвечает, он исчез во мраке. Секунды идут. Аббе не возвращается. Для Мадикен эти секунды тянутся очень долго.
— Аббе! — зовет она снова. — Аббе! Я хочу домой!
И в этот миг она увидела! О, страх и ужас! Она увидела привидение… Совершенно ясно она видит перед собой белое страшилище, озаренное призрачным светом. Оно стоит в глубине сарая, возле вделанного чана. Нет сомнений, это он — граф Крок!
И тут Мадикен как закричит не своим голосом! С криком она тычется в потемках, чтобы найти дверь. Свет, исходивший от графа Крока, давно погас. Его больше не видно, но Мадикен все кричит и кричит. Из темноты раздается голос Аббе:
— Тише, Мадикен! Ну что ты орешь, как будто тебя режут! Ты же напугаешь графа Крока. Перестань, слышишь!
Но Мадикен так зашлась, что больше ничего не слышит. Ей лишь бы вон отсюда и поскорее!
У Альвы в этот день был выходной. Сейчас она только что вернулась и не успела вставить ключ в кухонную дверь, как на нее, откуда ни возьмись, налетела Мадикен. Не говоря ни слова, она обеими руками схватилась за Альву и уткнулась ей головой в живот. Она так сильно ее боднула, что чуть не сбила с ног.
— Да что же это ты тут делаешь в такое время? — говорит Альва.
Вместо ответа Альва слышит стон, она чувствует, что Мадикен дрожит, как в ознобе. Не пускаясь в расспросы, Альва скорее ведет ее на кухню. Там она зажигает лампу. Это не так-то просто, потому что Мадикен не отпускает ее ни на секунду и цепляется, как утопающая.
— Да что же это с тобой приключилось, что за напасть? — спрашивает Альва.
Она усаживается в обнимку с Мадикен на диван, берет ее на колени и начинает тихонько покачивать.
— Альва, я видела привидение, — говорит шепотом Мадикен. — Ой, Альва! Я — духовидица.
Потребовалось некоторое время, прежде чем Альва добилась от Мадикен кое-каких подробностей. У Мадикен заплетается язык, она с трудом выговаривает слова. Вдобавок Аббе сказал ей, чтобы она никому не проговорилась. Но ей все-таки надо хоть с кем-то поделиться. И в конце концов перед Альвой раскрывается вся история графа Крока, который живет в пивоварне. Альва приходит в неописуемое возмущение:
— Вот пойду сейчас и выдеру за вихры этого Аббе! Я ему покажу — привидение!
Но Мадикен его защищает:
— Он же не виноват, что он духовидец.
— Не виноват он! — негодует Альва. — Вот погоди, уж я с ним разберусь! Он у меня и думать забудет о духах, слово тебе даю! Высокородный граф Аббе! Скажите на милость, что выдумал!
Мама и папа, к счастью, уже спят, и Альва дает Мадикен обещание, что ничего им не скажет.
— Да уж лучше им не знать! Если мама узнает, тебя к ним больше и на порог не пустят. Но с Аббе я все-таки потолкую по-свойски — век будет помнить!
На другой день, возвращаясь из школы, Мадикен еще издалека увидела Аббе. Он околачивается у забора, как будто поджидает кого-то. Вихры у него на месте, Альва их не выдрала. Однако она ему высказала все, что о нем думала, и сейчас у него довольно пристыженный вид.
Увидев Мадикен, он ей свистнул, и она послушно подбежала по первому зову.
— Я же не думал, что у тебя такое сильное ясновидение, — говорит Аббе. — Если бы знал, никогда не повел бы тебя в пивоварню.
— Я никогда больше туда не пойду.
— Ну почему же! — говорит Аббе. — Прапра-дедушку-то больше бояться нечего. Он теперь больше никогда не придет.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает Мадикен с удивлением.
— Кончились его хождения, не сомневайся. Потому что я откопал клад.
— Да ну! — восклицает Мадикен.
— Вот тебе и ну! Но только это — секрет! Так что смотри, не вздумай об этом докладывать Альве!
Смущенно пообещав, что не будет, Мадикен во все глаза уставилась на Аббе:
— Теперь ты богатый? Да, Аббе?
Аббе рассеянно сплевывает себе под ноги:
— Понимаешь, на мой взгляд, прапрадедушка зря хлопотал. Стоило ли шум поднимать из-за каких-то двух с полтиной!
Он сует руку в карман брюк и вынимает три монетки — две кроны и пятьдесят эре.
— И больше ничего не было? — удивляется Мадикен.
— Больше ничего. Но ты учти, что прапрадедушка жил сто лет назад, в его время два с полтиной были приличные деньги. Так что, пожалуй, и не удивительно, что он вставал из могилы и волновался за свое сокровище.
Одну крону Аббе отдает Мадикен:
— Вот. На тебе. За все труды и мучения — или как там еще говорят!
Мадикен просияла во всю рожицу: вот какой Аббе добрый и хороший!
— Спасибо тебе, Аббе, миленький!
— Не за что, — отвечает Аббе. — Денежки не простые, как-никак их привидение сторожило! Но покупать на них можно с таким же успехом, как на обыкновенные.
С этими словами высокородный граф Аббе удаляется к себе на кухню, а Мадикен долго еще стоит, разглядывая свои волшебные деньги. Подумать только! Столько лет пролежали зарытыми в пивоварне, а блестят, как настоящие. Наверняка на них можно купить бумажных куколок. «С народом за отечество» — написано на монетке, а посередине — портрет Густава V[20]. Все правильно — деньги как деньги!
Вот ветер, вздымая метель, налетел…
Долгая зимняя темень опустилась на Юнибаккен. Скоро придет Рождество. В своих вечерних беседах Мадикен и Лисабет вспоминают о нем каждый день.
— Как здорово, что есть Рождество! — говорит Мадикен. — Хорошо, что его придумали, потому что это самое лучшее, что есть на свете.
— Каттегоритчески! — подтверждает Лисабет.
Девочки трясут свои копилки — похоже, что в обеих свинках накопилось много денег. То, что гремит внутри, пойдет на рождественские подарки. Вот почему этот звук так приятно слушать.
В детской висит на стене календарь. Каждое утро девочки отрывают один листок и видят, что Рождество приблизилось еще на один день.
В школе тоже чувствуется приближение Рождества. Учительница читает детям святочные рассказы и разучивает с ними рождественские песни. Дома Мадикен поет их для Лисабет.
Вот ветер, вздымая метель, налетел На горы и долы родные…—поет Мадикен.
Неожиданно быстро настали рождественские каникулы. «Ну кому это, спрашивается, нужны рождественские каникулы!» — так говорила Мадикен в первый школьный день. Это было очень давно. С тех пор она проучилась целое полугодие и теперь считает, что рождественские каникулы придуманы очень удачно, почти так же удачно, как самое Рождество.
Альва и Линус Ида уже принялись за предпраздничную уборку. С окон поснимали все занавески, а на полу в самых неподходящих местах можно наткнуться на ведро. Альва расхаживает по комнатам с длинной шваброй и обметает стены и потолок. Мадикен и Лисабет вертятся под ногами среди расставленных ведер, всем мешают, а главное — пристают и дразнят Альву.
Вот Альвин, вздымая метлу, налетел На стены и полки родные, —распевают перед ней девочки. Лисабет поет, а самой так смешно, что от хохота, того и гляди, плюхнется в ведро с водой.
— Ой, какие же ты хорошие песни придумываешь, Мадикен!
Альва их гонит прочь шваброй и говорит:
— А вот как по одному месту швабра сейчас налетит. И покажет вам горы и долы родные!
Но вообще-то она не сердится — Альва никогда не сердится на Мадикен и Лисабет.
Мама делает колбасу, и солит окорок, и варит напиток из можжевельника, и льет свечи. Для Мадикен и Лисабет тоже находятся всякие дела, и они помогают, где можно. Девочки пекут пряники, варят домашние леденцы, лепят хорошеньких свинок из марципана и вырезают из бумаги фестоны, чтобы украсить по-праздничному жениховский жезл[21].
Каждый день происходят какие-то необыкновенные вещи, и все больше и больше чувствуется Рождество. Юнибаккен пропах дивными ароматами пряников, домашних конфет и хвороста. Мадикен втягивает носом эти запахи и зажмуривается:
— Рождество… Уже запахло Рождеством!
По вечерам девочки составляют длинный список своих пожеланий для Юльтомте[22].
Мадикен читает вслух, что она написала: «„Робинзона Крузо“, много бумажных куколок, оловянных солдатиков, лыжи и алую розочку, чтобы носить в волосах».
— С ума сойти, Мадикен, — говорит Лисабет. — Ты что, взаправду хочешь розочку?
— Да ну, что ты! — говорит Мадикен. — Это я написала так, для красоты. Ведь правда же, это красиво?
Девочки старательно обдумывают, какие подарки сделать папе и маме. За варкой домашних конфет Мадикен спрашивает у мамы:
— Мама, а чего тебе хочется больше всего на свете?
— Больше всего мне хочется, чтобы у меня были две хорошие, добрые девочки.
У Мадикен предательски заблестели глаза. Упавшим голосом она спрашивает:
— А что тогда будет с Лисабет и со мной?
Но мама погладила ее по головке и объяснила, что она вовсе не мечтает о каких-то других девочках, а только хочет, чтобы Мадикен и Лисабет всегда оставались такими же добрыми и хорошими, как сейчас.
Впрочем, Лисабет решает, что было бы совсем не плохо обзавестись в доме еще двумя девочками.
— Мы бы тогда с ними играли, — говорит Лисабет. — Только мы их не пустим жить в детскую. В детской будем жить мы с Мадикен, а им — шиш с маслом!
На дворе стоит мороз. С утра пораньше Альва приходит в детскую и разводит в печке огонь. Она так гремит дверцами и заслонками, что Мадикен и Лисабет просыпаются от шума. Со своих кроваток они смотрят, как в дырочках печной дверцы играет огонь, и слушают, как трещат дрова. Под эти звуки так приятно понежиться в постельке.
Однажды они проснулись совсем рано. Они думали, что это обыкновенный день. Оказывается — нет. На комоде горят в подсвечнике все четыре свечи. Кончается адвент[23], сегодня последнее воскресенье перед Рождеством. Альва уже растопила печь и теперь стала около Мадикен и смотрит очень таинственно.
— Нынче ночью случилось что-то особенное, — говорит она. — Угадайте-ка, что?
— Приходило привидение, — говорит Мадикен.
— Глупышка ты! — говорит Альва. — Привидений не бывает! Я же тебе объясняла, что это Аббе безобразничал — завернулся в простыню и зажег фонарик.
Альва не в первый раз старается втолковать Мадикен, как тогда было дело, но Мадикен ей не верит. Не верит она, что Аббе способен на такое коварство. Кто угодно, но только не Аббе!
— А ну-ка, подумайте хорошенько! — говорит Альва. — Это что-то очень приятное.
— Привидение тоже — приятная вещь, — говорит Лисабет.
— Вот уж нет! — говорит Альва. — Ну как? Отгадали?
— Может быть, снег выпал? — спрашивает Мадикен с надеждой.
— Нет, — говорит Альва. — Зато река замерзла.
Тут Мадикен и Лисабет с радостными воплями повскакали с кроваток. Комната еще не нагрелась, но им уже все равно, они торопятся. Девочки одеваются, натягивают шерстяные гамаши, теплые кофты, шапки, хватают варежки и бегут на улицу.
— Смотрите, чтобы ненадолго, — кричит им Альва. — И сразу возвращайтесь завтракать.
— Да, да, — отвечают Мадикен и Лисабет.
Все березы вокруг Юнибаккена покрылись белым инеем, а над крышей сарая низко стоит красное солнце.
— Вот такая погода мне нравится, — говорит Мадикен.
По правде сказать, погода ей нравится какая ни на есть. Чаще всего погода бывает обыкновенная, и Мадикен ее не замечает. А сегодня она особенная, такая, что нельзя не заметить. «Она красивая», — думает Мадикен. Бывают красивые слова и красивая музыка, а тут — красивая погода. От такой погоды почему-то делаешься добрее.
Мадикен и Лисабет бегом спешат к реке. Под ногами хрустит заледеневшая на морозе трава.
— Может быть, я дам тебе на Рождество два подарка, — говорит Мадикен.
— С ума сойти, Мадикен! — говорит Лисабет.
Это, конечно, очень здорово — получить сразу два подарка, но сейчас ее мысли заняты не тем, главное — лед.
Какое дивное мгновение, когда ты ступаешь на гладкий темноватый лед и пробуешь, хорошо ли по нему скользить! Ой, какая скольжина! Мадикен с одного толчка прокатилась почти до другого берега.
Конечно, крепкий лед не мог появиться за одну ночь. Еще неделю назад начались морозы, но Мадикен и Лисабет не замечали, что с каждым днем река становилась все тише. Только Альва заметила. А сегодня утром она поднялась раньше всех, сходила на реку, пешней проверила лед и увидела, что по нему можно ходить без опаски.
— Раз лед выдержал Альву, то нас и подавно выдержит, — говорит Мадикен.
— Каттегоритчески! — подтверждает Лисабет.
И вот Мадикен и Лисабет с наслаждением раскатывают по льду, щеки у них разгорелись, дыхание вырывается изо рта белым паром. Девочкам странно, как могут взрослые лежать в постели и спать, когда есть такое замечательное занятие. Но в Люгнете, кажется, еще не вставали. И Аббе еще ничего не знает! Не знает, что вся река превратилась в блестящую гладкую дорогу, по которой можно кататься. Она вьется между берегов, за каждым поворотом начинается новый каток, который так и манит, чтобы по нему прокатились. Если бежать достаточно долго, то попадешь на Аппельшё[24], а это уже деревенские места, и там стоит Аппелькюллен[25].
— А не проведать ли нам Карлссонов в Аппелькюллене? — предлагает Мадикен.
— А мама нам разрешит? — сомневается Лисабет.
Но ведь мама еще спит, потому что сегодня воскресенье. Нельзя ее будить по пустякам.
— Конечно, разрешит, — говорит Мадикен. — Вот если бы мы пошли туда по дороге, она бы нас не пустила, потому что по дороге туда далеко идти, а по льду быстро. Раз-два — и мы там.
— Тогда давай! — говорит Лисабет.
Ни та ни другая и не вспомнили, что Альва говорила про завтрак, и девочки весело покатили к Аппелькюллену.
— Как я люблю лед! — говорит Мадикен.
— Все любят лед, — откликается Лисабет.
А Мадикен мало сказать что любит лед… Она так рада, что у нее даже сердце замирает от счастья. Эта ледяная дорога — просто чудо! Река зимой — совсем не то, что летом. Летом они с папой иногда катались по вечерам на лодке и даже плавали на Аппелькюллен покупать яйца. Летом река тихая и уютная, она течет между зеленых берегов. Ласковые ветви в зеленой листве свисают над водой. Проплывая под ними в лодке, можно протянуть руку и сорвать листик. Да, летом тут тихо и хорошо. А зимой река делается точно зачарованная. Блестящий темный лед и застывшие в белом инее деревья, озаренные странным светом красного солнца, — все так красиво! И от этой студеной, замороженной, фантастической красоты на душе у Мадикен становится радостно и привольно. Быстрее и быстрее скользит она по льду, а на душе у нее все привольнее и привольнее, она словно летит, как птица в небе. Лисабет давно отстала.
— Подожди меня! — кричит она сестре.
Лисабет уже устала бежать по льду, она теперь хочет идти шагом. И чтобы не очень торопиться.
— А далеко нам еще до хутора? — спрашивает Лисабет с тревогой.
— Совсем уж близко, — уверяет ее Мадикен. — Скоро будем там.
— Возьми меня за ручку, — просит Лисабет и сует сестре свою ручонку.
Рука об руку они поплелись дальше. За каждым поворотом они ожидают увидеть озеро и хутор, но опять открывается все та же бесконечная река. Уставшей Лисабет это уже надоело.
— Знаешь что, Мадикен, — говорит она. — А я проголодалась.
И тут обе вспомнили, что им говорила Альва. Она сказала: «Сразу возвращайтесь завтракать!» Вот тебе и раз! Девочки остановились и озадаченно посмотрели друг на друга — дом остался далеко позади.
Мадикен тоже проголодалась, но ей неохота возвращаться. Теперь-то уж наверняка осталось совсем немного — еще чуточек, и они будут в Аппелькюллене, а там можно будет и отдохнуть хорошенько.
— Мы купим себе по яичку у тети Карлссон, — говорит Мадикен. — А когда купим, попросим разрешения сварить и прямо там их скушаем.
— А у нас есть деньги? — спрашивает Лисабет.
— Мда… Деньги… Денег-то как раз и нету, — задумчиво говорит Мадикен.
И вдруг она вспомнила: на ней же надето клетчатое платье, а в кармашке должна быть монетка в два эре.
— Я помню, что у меня тут было два эре, я вчера их сама сюда положила, — говорит Мадикен и начинает нетерпеливо рыться в кармане.
— А нам дадут два яйца за два эре? — спрашивает Лисабет.
Мадикен качает головой:
— Скорее всего, нет. Но можно попробовать. Скажем, что нам нужно яиц на два эре, а там посмотрим, что дадут.
Да вот беда, монетки в кармане не нашлось! Пропала куда-то.
— И что же мы теперь будем делать? — спрашивает Лисабет.
Мадикен пожимает плечами:
— Подумаешь, что такое лишние два эре!
Лисабет тоже так считает.
— Все равно пойдем к ним, — говорит Мадикен. — Может быть, тетя Карлссон спросит: «А нельзя ли вас пригласить позавтракать?» А мы скажем, что да, с удовольствием.
При мысли о том, что их, может быть, за ближайшим поворотом ожидает завтрак, девочки приободрились и опять побежали, потом опять долго шли шагом, а Аппелькюллен все не показывался.
— А вдруг зимой вся усадьба Карлссонов переезжает в другое место? — высказывает свое предположение Лисабет.
— Не будь такой ребячливой, — говорит Мадикен.
Но и ей тоже все это начинает казаться странным.
— Чудно, право, — говорит Мадикен. — Если вон за тем поворотом мы не увидим усадьбы, то, значит, нас заколдовали и, значит, плохи наши дела.
Эта мысль ее гложет… Действительно, все похоже на колдовство. Вон и деревья стоят такие красивые и такие мертвые в уборе из белого инея… Такие деревья могут расти только в заколдованном лесу. А темный блестящий лед, который манит своим привольем, чтобы дети ушли из дома и заблудились, — на самом деле это заколдованная дорога, у которой нет конца. И зимней ночью по ней катаются ведьмочки, потому что в такую стужу ведь не полетишь на метле. Да, точно! Все это — сплошное колдовство.
Но Лисабет не соглашается быть заколдованной девочкой. И с ревом, обливаясь слезами, так и заявляет Мадикен.
И надо же такому случиться: едва они проехали следующий поворот, как впереди — что бы вы думали? — показался Аппелькюллен, и перед девочками возникли скотный двор, сараи и красный жилой дом!
Лисабет перестала плакать, ее рев смолк, точно оборвался.
— Красивое место Аппелькюллен! — говорит она с восхищением.
Мадикен с ней согласна.
— Надеюсь только, что они никуда не ушли, — говорит она. — А главное, чтобы мы застали Туре и Майю.
Туре и Майя — дети Карлссонов, и Мадикен с ними дружит, хотя они оба ужасно старые — им почти что по двадцать лет.
Девочки поспели как раз вовремя. Все — и Петрус Карлссон, и тетя Карлссон, и Туре, и Майя — сидели за столом и завтракали, когда открылась дверь и на пороге возникли, словно два румяных рождественских ангелочка, Мадикен и Лисабет.
Никто не успел и рта открыть, как Лисабет выпалила:
— Нет ли у вас яиц?
Мадикен ущипнула ее. Вот дурочка! Надо же было так некстати сказать! Другое дело, если бы у них нашлось два эре, но раз денег нету, то не с того надо было начинать.
— Да что же вы, деточки! Неужто вы по морозу отправились в такую даль за яйцами? — говорит тетя Карлссон. — А сколько штук нужно вашей маме?
Тут уж Мадикен и Лисабет совсем смутились. Как теперь объяснишь, что мама их никуда не посылала? Мадикен очень зла на Лисабет за то, что она вмешалась и все испортила. Покупателей никто не сажает за стол, а приглашают тех, кто пришел в гости.
— Вообще-то мы просто пошли погулять, — говорит Мадикен.
— Да, — говорит Лисабет. — Потому что у нас нету денег. Мы пошли погулять без денег.
— Ага! — говорит Петрус Карлссон и роняет в чашку свой бутерброд. — Таким вот образом. Погодка и вправду хорошая, в самый раз, чтобы прогуляться… без денег!
— Ужас, какая хорошая! — говорит Мадикен. — Такой аппетит нагуливается!
— Понятное дело! — говорит Петрус Карлссон. — Как же иначе!
Но, кажется, он все-таки не совсем понимает. Зато тетя Карлссон оказалась куда понятливей.
— А не согласитесь ли вы покушать с нами каши? — спрашивает она.
— Спасибо, да! — отвечают Мадикен и Лисабет в один голос.
Они быстро скинули шапочки, кофты и варежки и уселись за стол быстрее, чем Майя успела поставить для них тарелки.
Карлссоны уже позавтракали, но никто не встает из-за стола, все остаются сидеть и заводят беседу с Мадикен и Лисабет.
— Так, значит, вы пошли прогуляться на свежем воздухе, — говорит, посмеиваясь, Петрус Карлссон.
У Мадикен и Лисабет рот так набит кашей, что они не могут ответить и только кивают. Тетя Карлссон подвигает им большие ломти хлеба, намазанные маслом. Девочки жуют хлеб с маслом, большими ложками наворачивают кашу. Глядя на них, сразу видно, какая нынче аппетитная погода.
— По-моему, нет ничего вкуснее каши, — говорит Мадикен. — А как по-твоему, Лисабет?
— Не-а, — отвечает Лисабет кратко и решительно.
Конечно, кто же спорит, каша — вкусная еда, сейчас тем более. Но все-таки есть на свете кое-что и повкуснее, а Лисабет всегда говорит начистоту то, что думает.
Карлссоны дружно смеются. В Аппелькюллене все смеются каким-то особенным одинаковым смешком — негромко и добродушно похохатывая.
— А что же тогда, по-твоему, самое вкусное? — спрашивает тетя Карлссон.
— Крыжовенный крем… и просто крем… и еще другой крем.
Карлссоны опять смеются.
— Крыжовенный крем, и просто крем, и еще другой крем, — говорит Петрус Карлссон. — Это же, право, страсть какая уйма крема!
Мадикен им объясняет. Из всех только она поняла, что хотела сказать Лисабет.
— Крыжовенный крем — это крем из крыжовника, а просто крем — это яблочный крем, а другой крем — это все остальные кремы.
Туре тоже смеется:
— Крыжовенный крем, и просто крем, и еще другой крем! Что же, у вас в Юнибаккене одними кремами питаются?
— Представьте себе, нет! — обиженно отвечает Лисабет. — Мы еще питаемся мороженым… Вот когда мне исполнилось пять лет, мне дали многомного мороженого. Наверно, прелых пять килограммов!
— Вот это да! — удивляется тетя Карлссон. — Неужели тебе уже исполнилось пять лет? Когда же это?
— Ну что вы! Разве она помнит! — говорит Мадикен.
Лисабет бросает на нее сердитый взгляд:
— Думаешь, не знаю? Очень даже знаю!
— А знаешь, так скажи! Ну так когда же?
— В мой день рождения… Вот тебе! — говорит Лисабет и показывает Мадикен язык.
Мадикен, разумеется, не остается в долгу и тоже показывает ей язык. Но потом девочки спохватываются, что они не дома и что в гостях так себя не ведут. Поэтому они, как воспитанные люди, благодарят за угощение и, как положено, обходят хозяев по старшинству, делая книксен и подавая руку — сначала Петрусу Карлссону, потом тете Карлссон, потом Туре и Майе.
От сытости девочек немного разморило. Хорошо сидеть в кухне у Карлссонов! И совсем не хочется вылезать на мороз и тащиться домой.
— Знаете что, девочки, позвоню-ка я вашему папе, — говорит Петрус Карлссон. — У вас дома, поди, не знают, что вы отправились покупать яйца без… денег.
От этих слов девочки ужасно застыдились, и, пока Петрус Карлссон звонил по телефону, они порядком перетрусили. Мадикен стояла рядом и дергала его за рукав:
— Спросите, пожалуйста, можно ли нам побыть у вас еще немного, а то мы еще не отдохнули.
Петрус Карлссон сделал так, как она хотела, и спросил, можно ли Мадикен и Лисабет подольше побыть на хуторе.
— Потом я их к вам отвезу, — сказал дядя Карлссон.
Мадикен и Лисабет переглянулись и заулыбались.
Но вот Петрус Карлссон протягивает трубку Мадикен.
— Папа хочет поговорить с тобой, — говорит он.
— Послушай, барышня Шик-блеск! — говорит папа. — Не пора ли тебе научиться думать заранее? Что же ты опять наделала — отправилась путешествовать в такой мороз! А если бы вы обе отморозили себе носы? Что бы ты на это сказала?
После разговора с папой Мадикен долго думала над его словами. Неужели можно и вправду совсем отморозить нос? Вот ужас-то! Даже страшно вообразить: идут они себе с Лисабет как ни в чем не бывало, и вдруг — бац! — у них отвалились носы и лежат на снегу, как две смерзшиеся тряпочки! Ну что на это можно сказать? Может быть: «Прощай, мой нос…» У Мадикен мороз по коже прошел, когда она себе это представила. Вон Альбин из их класса однажды, когда учительница спросила, для чего у человека нос, ответил: «Для соплей». А что делать Мадикен и Лисабет? Вот и девай свои сопли куда хочешь, ведь носы-то отморожены! Мадикен готова разреветься, оплакивая свой пропавший нос, но вовремя вспоминает, что носы у нее и у Лисабет пока что еще на месте. Вот счастье-то!
У Лисабет нос как раз занят делом. Она прижала его к толстой куртке Туре, которая висит на стуле.
— Как хорошо пахнет! — восклицает она. — Пахнет скотным двором. Можно, мы туда пойдем?
Туре такой же добрый и сговорчивый, как его папа.
— Конечно, можно, — отвечает он, весело посмеиваясь своим особенным смешком, так что со стороны кажется, будто бы он знает что-то хорошее, что только ему известно.
Туре ведет девочек на скотный двор и показывает им быка, и всех коровушек, и теляток. А в одном стойле, оказывается, лежит теленочек, который только что родился. Он больше всех понравился девочкам. Теленочек уже начал вставать на ножки, он подходит к загородке и тянется к Мадикен и Лисабет влажной мордочкой. Они протягивают к теленочку руки, он лижет им пальцы. Лисабет рассказывает ему, что скоро будет Рождество, а то он, может быть, еще и не знает.
Затем они отправляются в конюшню. Там живут четыре лошади — Титус, и Мона, и Фрейя, и Конке. Девочки не видели их с лета. Летом лошади паслись на выгоне, сейчас они в стойлах. Лошади встречают Мадикен и Лисабет тихим ржанием. Конке — самый ласковый и самый некрасивый, у него шкура какого-то странного желтоватого цвета.
— Наружность — это пустяки, — говорит Мадикен. — Главное, что ты добрый.
Девочки заходят к коню в стойло, гладят его, чистят щеткой, дают ему овса и сена. Туре стоит рядом, смотрит на них и тихонько посмеивается.
— А в каких яслях у вас тут лежал младенец Иисус?[26] — спрашивает вдруг Лисабет.
Она думает, что только в Аппелькюллене есть конюшня и хлев.
Мадикен ей объясняет, что то случилось не здесь, а совсем в другом месте, в далекой Иудейской земле.
— Откуда ты знаешь? — спрашивает Лисабет.
— Знаю. Нам учительница говорила.
Но Лисабет не верит:
— А вот и нет! В моей школе сказали, что Иисус родился тут, в яслях у Конке. Конке добрый, он его не укусил, а только понюхал, чтобы узнать, кто же такой там лежит.
Мадикен поворачивает голову и осматривается в полумраке конюшни. Вообще-то ей тоже хочется, чтобы это было правдой. Как хорошо, если бы Иисус родился в Аппелькюллене и лежал в этих яслях!
— Может быть, так оно и было, — говорит она горячо. — Мария поставила свечки во всех окнах, а Петрус Карлссон и тетя Карлссон сидят у себя в кухне и вдруг видят — что такое? Кажется, снег заблестел от света. А тетя Карлссон тогда и говорит: «Кто бы это мог быть у нас в хлеву?»
Лисабет уже знает ответ.
— А это был младенец Иисус, — говорит она. — Он лежал в яслях у Конке, и Конке его тронул носом, а Иисус засмеялся, потому что ему было приятно.
— Ну а я? Я тоже был на кухне и видел свет из конюшни? — спрашивает Туре.
— Ой, и дурачок же ты, Туре! — говорит Мадикен. — Это ведь было давно, в незапамятные времена, ты тогда еще не родился.
Пока они были в конюшне, погода на дворе совсем переменилась. Красное солнце скрылось, все небо затянула пелена облаков, и в воздухе запорхали снежинки.
— Ура! — обрадовалась Мадикен. — Будет снег!
И Мадикен не ошиблась. Снег так и повалил, укутывая своим покровом Аппелькюллен.
— В такую погоду я не могу отвезти вас домой, — сказал Петрус Карлссон. — Придется пережать, пока снег не перестанет.
— Давайте переждем, — соглашаются Мадикен и Лисабет.
Обе девочки совсем не против подождать, пока снег не перестанет. У Майи еще сохранились куклы, в которые она играла, когда была маленькая. Она их принесла и дала девочкам. Мадикен и Лисабет усадили кукол на кухонном диване, стали их раздевать и одевать, и занимались этим с большим удовольствием. А снег все валил и валил.
— Пожалуй, ехать надо на санях, — говорит Петрус Карлссон. — Вот только дождемся, чтобы кончился снегопад.
— Хорошо, — говорят девочки. — Дождемся.
Они еще поиграли в куклы. Они уже совсем освоились и чувствуют себя как дома. Вдруг тетя Карлссон подзывает Лисабет и спрашивает:
— Послушай-ка, какой крем ты больше всего любишь — крыжовенный, просто крем или другой крем? Садитесь за стол, девочки, сейчас будем обедать!
И вот Мадикен и Лисабет пообедали. А на обед у Карлссонов было жаркое с луковым соусом и крыжовенный крем с молоком. А снег все еще валил.
— Похоже, что этому снегопаду конца не будет, — говорит Петрус Карлссон. — Придется уж как-нибудь выезжать, а то в Юнибаккене подумают, что мы вас решили украсть.
— Может быть, все-таки скоро перестанет, — говорит тетя Карлссон.
Но снег и не думает переставать и все валит, и валит, и валит на Аппелькюллен. Столбы у ворот уже покрылись пышными белыми шапками, а в воздухе так густо летают хлопья снега, что из кухни нельзя разглядеть скотный двор. Между тем уже начало смеркаться. И Петрус Карлссон сказал:
— Ну, Туре, придется тебе запрягать снегочистку, иначе мы не доедем до Юнибаккена.
И Туре идет запрягать Мону и Фрейю в снегочистку, а Петрус Карлссон запрягает в сани Титуса и Конке. Потом обеих девочек усадили в сани и укутали в шкуры, так что торчали только носы. Они даже не смогли помахать на прощанье тете Карлссон и Майе, которые смотрели из окна на их отъезд. Петрус Карлссон сел на козлы, взял вожжи, и сани тронулись вслед за снегочисткой, которой правил Туре.
— Целых четыре лошади понадобились, чтобы отвезти нас домой. Во как много! — говорит Мадикен.
— Четыре лошади и снегочистка, — говорит Лисабет. — Как на большом катании!
Девочки начинают играть, как будто у них большое санное катание. Уютно спрятавшись под шкурами, они слушают, как звенят бубенчики. И под звон четырех бубенцов Мадикен и Лисабет катят к себе домой в Юнибаккен.
— А хорошо, что мы с тобой отправились в Аппелькюллен, — говорит Мадикен.
— Ведь это надо же, как снег-то зарядил! — говорит Петрус Карлссон. — Все валит, и конца не видно.
Наверно, ему на козлах не так уютно сидится, как Мадикен и Лисабет под шкурами.
— Давай, Лисабет, споем ему песенку, чтобы ему стало повеселее, — говорит шепотом Мадикен.
Лисабет согласна.
Вот метель поднялась, налетела На горы и долы родные… —поют девочки рождественскую песню.
— О, мирный звон…— поет Мадикен.
— О, детства сон…— поет Лисабет,
— На Севере родимом.Но вот уже и калитка Юнибаккена.
— Смотри-ка, в окошке горят четыре свечи, — говорит Лисабет.
— Да, ты же знаешь, что это — адвент, — говорит Мадикен.
Рождество в Юнибаккене
— Ну вот! Как будто со всем управились! — говорит Альва в последний вечер перед сочельником. — Ой, как же я устала, но зато все готово!
— Все, кроме елки! — говорит Лисабет. — А елку украсят мама и папа, когда мы ляжем спать.
Мадикен не говорит ничего, она только поеживается, как от озноба. Это у нее всегда бывает, когда должно случиться что-нибудь такое замечательное, что просто уже невозможно вытерпеть.
Да, теперь уж пускай приходит Рождество, в Юнибаккене все готово к встрече. Полы намыты, из всех углов выметена пыль, на окнах висят белые крахмальные занавески, во все подсвечники вставлены свечи, кухня устлана свежими половиками, медная посуда так и сверкает по стенам, а под печным колпаком красуется в уборе из красных и зеленых бумажных фестонов жениховский жезл, один вид которого напоминает о Рождестве.
В гостиной сплошное благоухание. Тут пахнет белыми гиацинтами, которые мама подгадала вырастить так, чтобы они распустились к Рождеству. А главное — пахнет елкой, она уже стоит посередине комнаты, свежая и зеленая, и ждет, чтобы ее нарядили.
— А уж угощенья наготовлено столько, что хватит, наверно, до следующего Рождества, — говорит Альва.
Мадикен и Лисабет тоже так думают, они уже побывали в подвале и сами видели. На длинном откидном столе наставлены блюда и миски: там и окорок, и зельц, и горшочки с печеночным паштетом, и селедочный салат, и котлеты. С потолка свисают гирлянды разных сосисок и колбас, в большом кувшине стоит напиток из можжевельника, рядом — блюдо с вяленой треской, миска с сырной запеканкой, — все готово. В хлебном ларе сложены горкой домашние караваи, солодовый хлеб, лежат груды пряников и миндальных ракушек, стоят полные жестянки овсяного печенья и хвороста, — есть чем встретить Рождество.
Где-то в мире идет война, о которой на сон грядущий Мадикен рассказывает Лисабет, но Юнибаккен она не затронула, здесь даже воробьи не знают голода. Папа с вечера развесил в саду на яблонях рождественские снопы, чтобы утром, когда воробьи проснутся, у них бы тоже был праздник.
Альва заранее натаскала побольше дров, чтобы жарче горел в печи рождественский огонь. В саду она расчистила от снега дорожки и проложила удобные тропинки к калитке и дровяному сараю и, самое главное, к реке, потому что Юль-томте приедет по льду и увидит, что для него приготовлена дорожка. В прошлое воскресенье, когда Карлссоны отвозили Мадикен и Лисабет домой, Туре дважды проехал по реке со снегочисткой. То-то Юльтомте обрадуется завтра, когда поедет сюда на санях!
Вообще это очень красиво, что Туре расчистил лед. Аббе устроил на реке ледяную карусель с салазками, и Мадикен с Лисабет очень весело на ней катаются, в особенности когда ее крутит Аббе: салазки летают так быстро, что даже голова кружится.
Но Аббе не часто может оторваться от плиты. Перед Рождеством крендельки быстро расходятся. Тетя Нильссон каждый день торгует на рынке. Чем занят дядя Нильссон, не знает никто; по крайней мере, дома он почти не бывает.
Сегодня, в канун сочельника, Мадикен попросилась сбегать в Люгнет, поглядеть, что поделывает Аббе. Ого! Подумать только — Аббе моет пол на кухне! Правда, когда прибежала Мадикен, он сразу же бросил тряпку.
— Вот, плеснул нечаянно на пол, пришлось подтереть, — объясняет Аббе.
А вымыта уже половина кухни. Можно отчетливо различить, до какого места он домыл, вымытая часть совсем уже не такая черная, как немытая. Мадикен посмотрела вокруг… Все остальное не сверкало рождественской красотой. Занавески и вышитые подзоры на полках не стираны. Все, как обычно, не так, как полагается накануне сочельника, решает Мадикен.
— А что, вы еще не наводили порядок? — спрашивает она.
Аббе глядит на нее с изумлением:
— Это где же… не наводили порядок?
Мадикен смущается, не зная, что сказать.
— Так ведь завтра же… сочельник.
— Конечно, мы навели порядок, — говорит Аббе. — Пойдем, сама догляди.
Он ведет Мадикен в комнату напротив кухни. Там на стене висит перевернутый бумажный колпачок, из которого высовываются маленькие бородатые Юльтомте.
— Ну, что ты теперь скажешь? — спрашивает он с торжеством. — Маманя с папаней этого еще не видели. Когда увидят, они рты разинут от удивления, помяни мое слово!
Но Мадикен все еще недовольна.
— А разве у вас нет елки?
— Пока живешь — надейся! — говорит Аббе. — Может быть, папаня к вечеру еще притащит, когда вернется домой. Если, конечно, не забудет. Ну а тогда я пойду утром в лес и сам срублю. Уж елочка-то у меня обязательно будет.
Тут Мадикен вспомнила свою елку, которая стоит у нее дома в Юнибаккене, и даже вздрогнула от радостного чувства.
— Ведь правда же, Рождество — это так замечательно! Да, Аббе?
— Ну да, — отвечает Аббе. — Приятно, когда в доме празднично и нарядно. Этот колпачок мне очень нравится.
Мадикен тоже понравился колпачок с бородатыми Юльтомте, но он украсил только один уголок, а надо, чтобы во всем доме было празднично. Однако Аббе не так привередлив, как Мадикен.
— А как ты думаешь, тебе подарят много подарков? — спрашивает Мадикен.
— Пока живешь — надейся! — говорит Аббе. — Вопрос в том, вспомнят ли об этом папаня с маманей. А вот хочешь, я тебе сейчас покажу, что я для них купил? Только поклянись, что никому не разболтаешь!
Мадикен дает обещание. Тогда Аббе осторожно открывает гардероб. А там стоит новая керосиновая лампа с белым колпаком, должно быть, очень дорогая и красивая.
— Вот это вещь! Не то что наша старая лампочка, — говорит Аббе.
— Это рождественский подарок? — удивляется Мадикен.
— А что? Мое дело — отдать ее папке с мамкой. Пускай они сами решают — рождественский это подарок или нет, — говорит Аббе. — Цену за нее заломили такую, что закачаешься, но я все заплатил из своих заработков.
Мадикен уходит домой в задумчивости. Конечно, и лампа, и колпачок с Юльтомте — это все здорово, а все-таки ее почему-то потянуло домой. У Аббе в доме как-то не чувствуется, что завтра будет Рождество. На душе у Мадикен стало тоскливо. Вечером в постели она рассуждает об этом с Лисабет:
— Представляешь себе, если бы мы завтра проснулись, и вдруг оказывается, что это не сочельник, а, скажем, пятница?
— Тогда бы я сразу в воду, и конец! — отвечает Лисабет. Так часто говорит Альва, а Лисабет любит повторять все, что услышит.
Однако Лисабет не пришлось кидаться в воду, потому что, когда девочки проснулись, был уже сочельник. За окном стояла черная тьма, но папа пришел в детскую со свечой, а снизу уже доносились звуки пианино, там мама играла «Вот Рождество пришло».
— Ну, вот и пришло Рождество, — говорит папа. — Счастливого Рождества, золотые мои лохматки!
— Счастливого Рождества, папочка! — закричали Мадикен и Лисабет.
Они повскакали с кроваток и побежали вниз, в гостиную. А там — елка, она вся сверкает зажженными свечами и так хороша, что Мадикен, кажется, никогда еще и не видала такой красавицы. В комнате топится печка и дивно пахнет елкой, гиацинтами и горящими дровами. Рождество и впрямь настало!
В первую минуту девочки молча замерли на пороге, но сразу ожили и ну давай на радостях скакать и плясать! Они пели и прыгали, а Сассо громко лаял. Наконец-то настало Рождество!
Потом пришла Альва и принесла кофе, и все сидели в честь Рождества у печки — мама, папа, и Альва, и Мадикен, и Лисабет — и пили кофе. Для Мадикен и Лисабет это большое событие — не каждый день можно распивать кофе, сидя у огня в ночных сорочках!
— Это потому, что сегодня Рождество, — говорит Лисабет.
— Да, — говорит Мама. — Потому что сегодня Рождество.
Мадикен опасливо поглядывает, не устала ли мама. Но все благополучно — у мамы веселый и совсем не усталый вид. Мадикен хочет, чтобы всем было весело, чтобы все радовались Рождеству, иначе не получится настоящего праздника. Поэтому, пока мама не покладая рук трудилась во время рождественской уборки, Мадикен ей напоминала:
— Только, пожалуйста, не утомись, а то будешь усталой, когда настанет Рождество! Обещаешь, мамочка?
— Ну что ты! Как это можно — быть усталой на Рождество, — говорит мама.
И вот она сидит рядом с папой и Альвой, и все трое рады Рождеству так же, как Мадикен и Лисабет. Вот хорошо-то!
Скоро за окном начинает светать. Проснулись воробьи и слетелись к рождественским снопам. Мадикен и Лисабет смотрят на них из окна столовой.
— Папа, а воробьи тоже понимают, что сегодня Рождество? — спрашивает Лисабет.
— Может быть, и нет, — говорит папа. — Зато понимают, что такое рождественские снопы.
— А вот я понимаю… Я все-все понимаю, — говорит Лисабет.
Но есть одна вещь, которой не понимают ни Лисабет, ни Мадикен: отчего это сочельник всегда такой долгий, почему он тянется вдвое дольше, чем все остальные дни? И кто это выдумал? Мама старается сделать все, что возможно, чтобы долгие часы проходили побыстрее. Сначала она, как у них принято, отправляет Мадикен и Лисабет с рождественской корзинкой к Линус Иде, чтобы Линус Ида тоже угостилась рождественским окороком, и зельцем, и рыбным пирогом. Линус Иде надо отнести и колбасы, и паштета, и хлеба, и печенья, и яблок, и свеч. Когда мама все собрала и уложила в красную корзинку, Мадикен и Лисабет отправились по морозцу в путь.
Линус Ида живет в своем домишке одна-одинешенька, ее дочери далеко, они уехали в Америку. И вот Мадикен стоит на крыльце и заранее волнуется — вдруг окажется, что Линус Ида совсем не любит Рождества, что оно ей не в радость? Но Мадикен напрасно тревожилась. Линус Ида сидит в плетеном кресле перед очагом, она парит ноги в тазу с горячей водой, и настроение у нее прекрасное.
— Право слово, сегодня-то уж и я почувствовала, что настало Рождество! И ноженьки мои рады, что можно три дня подряд отдыхать и ровным счетом ничегошеньки не делать!
Рождественской корзине Линус Ида тоже обрадовалась. Она не утерпела и сразу попробовала немного паштета и зельца, а потом весело похлопала ладонью по гладкой толстой колбаске:
— Что же это делается-то, а? Вы надрываетесь, тащите мне целую корзинищу еды, а я тут рассиживаюсь, точно графиня, парю ноги и только ем за обе щеки.
Но сегодня девочкам некогда задерживаться у Линус Иды, пора бежать домой, котелок уже, наверное, вскипел, пора макать хлеб[27].
— Счастливого Рождества, Линус Ида! — говорят девочки на прощание и уходят. Линус Ида с куском зельца в руке остается парить ноги. Как видно, это Рождество для нее и впрямь счастливое.
На дворе разгребают снег Мия и Маттис.
— Ну что, соплячки, еще захотели получить по мордасам? — закричала Маттис, едва завидев Мадикен и Лисабет. Но Мия сразу дает ей тычка:
— Заткнись хоть сегодня. Ведь Рождество же!
Мия с улыбкой оборачивается к Мадикен и Лисабет, показывая, что она знает, как надо вести себя в сочельник, и желает обеим счастливого Рождества.
— Счастливого Рождества! — говорят Мадикен и Лисабет.
— Счастливого Рождества, соплячки! — говорит Маттис. — А нам с Мией выдали новые красные штаны от благотворительного общества, а вам-то и не дали. Что, выкусили?
Но тут она получила от Мии такого тычка, что так и села на снег, а Мия еще прикрикнула:
— Заткни ты наконец глотку-то, хотя бы ради сочельника!
Мадикен и Лисабет уходят, но долго еще слышат, как позади ревет Маттис.
Время ползет, как улитка. Мадикен и Лисабет макают в котел с бульоном кусочки хлеба, не потому что вкусно, а потому что весело, собравшись всем у котла, макать в него по очереди свой кусок.
— Макать надо, потому что это тоже праздник, — говорит Мадикен.
Потом они запечатывают сургучом пакетики с подарками. На каждом они ставят большую красную печать, папа им помогает. Уже без папиной помощи Лисабет припечатала заодно собственный палец и подняла крик на всю усадьбу.
— На что этот сургуч? Лучше бы его совсем не было, — говорит она, накричавшись.
— Нет, пускай сургуч будет, — говорит Мадикен. — Без него не пахнет Рождеством.
И Мадикен объяснила сестренке, как было бы хорошо, если бы можно было собрать в банку немного сургучного запаха и сохранить вместе с другими рождественскими запахами. Потом можно было бы ее иногда открывать и целый год нюхать, пока не придет новое Рождество.
Среди пакетиков с подарками, которые приготовила Мадикен, есть один для Аббе, в нем спрятана губная гармошка. Мадикен купила ее на деньги, которые ей достались от привидения после ночного похода на пивоварню Нильссонов.
Раньше Мадикен и Аббе никогда не дарили друг другу рождественских подарков, но Мадикен очень боится, что Аббе получит мало подарков и будет огорчаться. Поэтому она и купила для него губную гармошку и, едва начало смеркаться, побежала к Нильссонам. Следом увязалась и Лисабет.
Нильссоны, как всегда, сидят на кухне, и, как всегда, дядя Нильссон лежит на диване. Но вся кухня озарена непривычным светом. На столе стоит и светится новая лампа, а еще ярче светятся глаза Аббе, когда он на нее взглядывает. Он то и дело посматривает на лампу, а на Мадикен и Лисабет даже не обращает внимания. Зато дядюшка Нильссон встретил их приветливым кивком:
— А вот и Мадикен из Юнибаккена и Пимсик![28]
Он с гордым видом показывает на лампу:
— Ну, как вам это? Как вам понравится великолепное приобретение моего сына? Сколько света! Какой уют!
— Да, шикарная лампа, — говорит Мадикен.
— А загляните-ка в спальню! Как вам понравятся забавные Юльтомте, которых мой сын подвесил на стенке? А елка, которую он достал, чтобы только порадовать старика отца? Что вы о ней скажете? Аббе, Аббе! Хороший ты у меня сын!
Тетя Нильссон попивает кофе, примостившись у самой лампы. При последних словах дяди Нильссона она ставит чашку на стол и гладит сына по голове.
— Как будто он обо мне не подумал! Ведь он и ради мамочки это сделал. Да уж, правда, хороший ты у нас мальчик, Аббе!
Аббе совсем смутился от стольких похвал. Он оборачивается к Мадикен и Лисабет и говорит:
— А вы зачем пришли-то?
Мадикен вынимает руку из-за спины и протягивает ему пакет:
— Я только пришла отдать тебе рождественский подарок, Аббе!
— Мне? — спрашивает Аббе. — Подарок? Чего это ты вдруг?
Но тетя Нильссон от растерянности даже всплеснула руками:
— Рождественский подарок для Аббе! А мы-то и забыли!
Она с укором смотрит на дядю Нильссона, который возлежит на диване:
— Послушай-ка, Нильссон, что же ты не вспомнил про подарок для Аббе?
Дядя Нильссон молчит и недовольно глядит на тетю Нильссон. Наконец он обиженно говорит:
— Я, конечно же, домовладелец и хозяин усадьбы, однако сейчас у меня временные затруднения с финансами. Короче говоря, для Аббе подарка не получилось. Тебя это огорчило, Аббе?
На лице Аббе не заметно огорчения:
— Да ну, что там! У нас же есть лампа!
— И подарок от Мадикен, — напоминает Лисабет.
— Действительно, что же это я! Вот у меня и подарок от Мадикен! — говорит Аббе.
Он открывает сверток и вынимает губную гармошку. Дядя Нильссон громко восхищается:
— Губная гармошка! Вот это да! Вот это ты меня уважила! А ну-ка, Аббе, сыграй что-нибудь хорошенькое, порадуй своего старенького папочку!
Гармошка не из дорогих и шикарных, но Аббе такой умелец, что у него она заиграла разные мелодии. Подсев к лампе, он почти без ошибок сыграл «Вот настало Рождество». Видно, как он доволен. Потом он заиграл «Дом, родной дом», а дядя Нильссон прослезился, потому что для него эта песня — самая лучшая на свете.
Мадикен и Лисабет ушли от них довольные.
— Как они веселятся и радуются! — говорит Лисабет.
— Как же им не веселиться, — говорит Мадикен, — вон какая у них замечательная лампа, нам бы тоже такую!
Между тем настал вечер — наконец-то настал, и Юнибаккен заблистал всеми рождественскими огнями.
— Это чтобы Юльтомте не заблудился в потемках, — решила Лисабет.
Юльтомте можно ждать только после семи часов вечера, так он сам сказал по телефону, рассказывает девочкам папа. Если бы он пришел сейчас, его тоже позвали бы на кухню. На широком кухонном столе Альва выставила все богатства, какие только есть в Юнибаккене: тут тебе и окорок, и рисовая каша, и вяленая треска, и колбасы, и котлеты, и селедочный салат, и много чего еще.
Мадикен и Лисабет насчитали целых двадцать мисок и блюд. Обе девочки до того возбуждены, что им никак не усидеть на месте. Жар от многих свечей разрумянил им щечки, они трещат без умолку, хохочут, резвятся, как жеребята, и к еде почти не притрагиваются.
Но вот папа зажег елку, мама села за пианино, и девочки сразу перестали шалить. Сейчас они споют все рождественские песни, вот это и есть самое настоящее Рождество.
Ты нам свети, звезда, На суше и на море.У Мадикен от нестерпимого счастья даже сердце заныло. Ей кажется, что, когда поешь, свечи горят ярче, и сама она становится добрее и лучше, ей хочется просить прощения у Лисабет за все, только вот за что, она никак не может вспомнить.
Не успела Мадикен об этом подумать, как вдруг папа уже зовет:
— А ну-ка, живо пошли одеваться, Юльтомте вот-вот приедет!.
Все вместе — и мама, и папа, и Альва, и Мадикен, и Лисабет — гурьбой выбегают на крыльцо.
На дворе совсем темно, только белеет снег под ногами и на деревьях, а над крышами Юнибаккена светят в небесах яркие звезды.
Мадикен и Лисабет, взявшись за руки, побежали по тропинке к реке. Кругом стоит тишина, но издали доносится звон бубенчиков — едет, едет Юльтомте! Девочки стоят среди снегов и ночного мрака и слушают, как приближается звон бубенцов, от напряженного ожидания их немного познабливает, и они крепко прижимаются к маме. Вот вспыхнул за излучиной отблеск горящего факела, сполохи света пробежали по снегу, показались лошадка и сани — приехал Юльтомте! Лошадка весело трусит к мосткам, а в санях сидит он сам — с белой бородой, в красной островерхой шапке.
— Тпрру! — говорит Юльтомте и останавливается перед Мадикен и Лисабет.
Девочки от волнения молчат и не могут сказать ни слова. Обе восхищенно глядят на гостя круглыми глазами. И на лошадку тоже глядят: она так себе, совсем неказистая лошаденка, и в точности похожа на Конке из Аппелькюллена. Как странно, что нашлась на свете другая такая же желтенькая и некрасивая лошаденка… только что у Конке нет черной кисточки на лбу.
— Есть ли у вас тут хорошие дети? — спрашивает гость с таким добродушным и застенчивым выражением, какое всегда бывает у Туре из Аппелькюллена.
— Есть ли у нас хорошие дети? — повторяет папа. — А как же! У нас тут есть Мадикен и Лисабет — очень хорошие и добрые девочки!
— Ну, тогда вот вам — получайте! — говорит Юльтомте и достает из саней мешок. — Желаю счастливого Рождества! — говорит Юльтомте на прощание голосом, в котором сквозит как будто смущение.
— Счастливого Рождества! — кричат ему Мадикен, и Лисабет, и мама, и папа, и Альва.
— Счастливого Рождества вам еще раз! — отвечает им Юльтомте.
Он хлопает кнутом, сани поворачивают и едут в обратную сторону той дорогой, которая ведет к Аппелькюллену.
Обитатели Юнибаккена постояли на мостках, глядя им вслед, пока не смолкли вдали бубенчики. Затем папа и Альва подхватили вдвоем мешок и понесли в дом.
Сочельник — очень долгий день, но все-таки и он когда-то кончается. Догорели свечи, все разобрали свои подарки, вволю нащелкались орехов, наелись яблок и леденцов и наплясались вокруг елки так, что уже больше и не хочется. И тут вдруг Мадикен закрывает лицо руками и разражается душераздирающими рыданиями:
— Ах, мамочка! Уже все кончилось! Ну как же так! Кончилось — и все!
Но потом, лежа в постели и разложив рядом рождественские подарки, Мадикен радостно вспоминает, что скоро опять будет утро и новый день, и она будет читать рождественские книжки, и покатается на новых лыжах, и поиграет с новой куклой в матросском платьице, которую зовут Кайса.
Лисабет тоже получила в подарок новую куклу, маленького матросика, и назвала его Аббе. Сейчас Аббе лежит с ней в постели.
— Ты, Аббе, у нас хороший мальчик, — говорит Лисабет и гладит его по головке. Некоторое время Лисабет лежит молча и размышляет, наконец она задумчиво говорит: — Верно, что я домовладелец и хозяин усадьбы, и поэтому для Аббе не получилось подарка. Но уж на следующий год, — говорит Лисабет, поглаживая Аббе по головке, — на следующий год ты каттегоритчески получишь целый мешок. Во всяком случае, если у меня все будет хорошо с финансами.
Иосиф в колодце
Зима кончается, и скоро начнется весна. Мадикен и Лисабет стараются помочь весне, чтобы она скорее приходила. В тех местах, где особенно пригревает солнышко, земля уже освободилась от снега, но на северной стороне еще лежат сугробы. Мадикен и Лисабет надоело на них смотреть. Вооружившись лопатками, девочки нещадно воюют с ними и, чтобы они скорее растаяли, кидают комья снега в бочку для дождевой воды, которая стоит возле кухни.
И вдруг наступила весна. Повсюду среди берез просунулись пушистенькие ростки фиалок. Мадикен и Лисабет каждый день ползают на коленках, чтобы увидеть, насколько они уже выросли. В птичьих домиках, которые папа навешал по всему саду, поселились скворцы, и по утрам Мадикен и Лисабет просыпаются под пение птиц. Вода в реке поднялась и затопила мостки. Девочек даже близко не подпускают к реке. Пока туда нельзя, Мадикен и Лисабет играют в «классики» на садовых дорожках и в «школу мячиков» возле сарая.
Но Мадикен так занята, что ей некогда все время прыгать и играть в мячик, ей задают очень много уроков, и после школы приходится подолгу читать, писать, решать примеры. Иногда она занимается целый час. Мадикен это кажется чересчур — обидно тратить зря столько времени на уроки. Читать вслух она умеет так хорошо, что одно удовольствие ее послушать. Зато с правописанием дело обстоит похуже, а уж с арифметикой — из рук вон плохо.
Иногда Мадикен учит уроки у Альвы на кухне. А Лисабет усаживается в дровяном чулане и играет, как будто она Альва и ей надо чистить рыбу. Она берет полешко и скребет по нему кухонным ножом, вокруг сыплются кусочки коры, а Лисабет ворчит себе под нос, что чешуя больно крепкая, совсем как, бывает, ворчит и Альва.
Лисабет может всласть веселиться, и она жалеет бедную Мадикен, которая замучилась, подолгу просиживая над примерами. Видать, арифметика — очень трудная наука. Папа старается подтянуть свою первоклассницу и занимается с ней устным счетом. И Лисабет, беря пример с папы, тоже придумывает для Мадикен задачки поинтереснее.
— Мадикен! — говорит Лисабет из чулана. — Сосчитай-ка: всего было десять мальчиков, а одному сделали операцию. Сколько тогда останется мальчиков?
Вместо благодарности за такую помощь Мадикен только фыркает на задачку, которую придумала Лисабет:
— Ой, отстань! Не видишь, что ли, что я решаю примеры!
Но Альва хохочет. Ей нравится, как Лисабет учит свою старшую сестру арифметике. Альва и сама задает ей задачки.
— Смотри-ка, вот если я снесу на диван семнадцать яиц, а потом пяток возьму… — начинает Альва, но Мадикен начинает хохотать во все горло:
— Ха-ха-ха! Разве ты умеешь нести яйца, Альва? Зачем же мы их тогда покупаем в Аппелькюллене?
Лисабет тоже захлебывается от смеха:
— Ха-ха-ха! Альва несет яйца! Нам не надо больше покупать яйца в Аппелькюллене! Ой, не могу, пойду расскажу маме!
Девочки еще долго дразнятся, упрашивая Альву снести побольше яиц, потому что скоро уже будет Пасха.
Альва больше не пытается придумывать задачки для Мадикен.
Зато она проверяет у Мадикен Закон Божий. Этот предмет хорошо дается Мадикен. От Линус Иды Мадикен уже знает так много из Библии, что в школе ее часто хвалят.
И все-таки Линус Ида, по-видимому, не все еще рассказала. Однажды перед самой Пасхой Мадикен пришла из школы вся зареванная и сразу бросилась маме на шею.
— Мамочка, — рыдает она, — если бы ты знала, какую подлость они сделали с Иосифом!
Не сразу мама поняла, что речь идет о библейском Иосифе[29]. Мадикен так рыдала, что еле могла говорить:
— Ты только подумай, бывают же такие скверные люди, как братья Иосифа! Ты только подумай, они родного брата бросили в колодец и продали в рабство, а сами пошли домой и сказали бедному папе, что Иосифа сожрали дикие звери!
— Но ведь потом для Иосифа все кончилось хорошо, — утешает мама Мадикен. — И с папой он снова встретился. Ты же знаешь, как это было?
Мадикен знает, но никак не может утешиться. Целый день до самого вечера она прогоревала об Иосифе, и только на ночь глядя немного успокоилась и, перед сном, когда они с Лисабет лежали в постели, рассказала ей, как это было.
— Представляешь себе, Лисабет… представляешь себе, чтобы родного брата взять и продать в рабство!
— А что такое рабство? — спрашивает Лисабет.
— В рабстве человек все время только работает, и работает, и работает, и тогда он называется — раб.
— Значит, наш папа тоже раб? — догадывается Лисабет.
— Да нет же! Никакой он не раб!
— А вот и да! Он же все время работает, работает, работает, — говорит Лисабет.
— Да ну тебя! Ничего ты не понимаешь, — говорит Мадикен. — Рабов бьют кнутом. Когда они перестанут работать, их сразу бьют.
— Хочешь, я попрошу в Аппелькюллене кнут и немножечко побью папу, так, чтобы совсем не больно? Тогда он тоже будет рабом, — говорит Лисабет. Ей рабство показалось очень интересной штукой. С тем она и уснула.
А Мадикен еще долго не спала и все думала об Иосифе — как родные братья продали его в рабство.
Потом настала Пасха. Вокруг Юнибаккена зацвели белые и желтые нарциссы и крокусы, на березах распустились зеленые листочки, у Мадикен начались пасхальные каникулы, а Майя из Аппелькюллена принесла пять дюжин яиц, потому что Альва так и не согласилась снести хотя бы одно яичко. Мадикен и Лисабет считают, что Пасха почти такой же хороший праздник, как Рождество. Очень интересно вместо белых яиц есть красные, синие и зеленые. Мадикен, Лисабет и папа старательно красят яйца. Интересно тоже получать поздравительные открытки. От бабушки и от кузин приходят по почте такие красивенькие, с пушистыми цыплятками и чудными нарциссами. Ну, а уж самое интересное — это, конечно, пасхальный заяц. Он прибегает ночью и, пока все спят, прячет в траве под окошком детской маленькие марципановые яички. В этом году он придумал кое-что еще. Под кустом ракитника он оставил два пакетика. На одном было написано «Для Мадикен», на другом — «Для Лисабет». В каждом лежал мальчик, сделанный из шоколада, — настоящая шоколадная куколка, такой прелести Мадикен и Лисабет никогда еще не видывали.
Мадикен назвала своего шоколадного мальчика Йеркером, а Лисабет своего — Сверкером. Весь первый день Пасхи девочки играли с Йеркером и Сверкером и ни разу даже не лизнули.
— Я буду беречь Йеркера всю свою жизнь, — сказала Мадикен. — Никогда в жизни я его не съем.
А Лисабет сказала:
— Я буду беречь Сверкера, сколько получится.
На второй день Пасхи Лисабет как-то осталась играть в детской, а Мадикен в это время сидела на кухне и играла с Альвой в игру «лиса и гуси». Посреди игры вдруг открывается дверь и входит Лисабет, вся перемазанная шоколадом, и невозмутимо заявляет:
— А я сейчас съела Сверкера.
— Ну как ты могла? Ты же съела своего ребенка! — возмущается Мадикен со слезами в голосе.
Лисабет кивает:
— Вот именно. Совсем как свинья у Карлссонов. Помнишь, она тоже съела своих детей, всех девятерых!
Мадикен возмущена ужасным поступком Лисабет:
— Но ты-то ведь не свинья. Тебе совсем не к лицу поступать так по-свински!
— И так бывает. Загадываешь одно, а получается другое, — отвечает Лисабет любимым присловьем Альвы. — Но сделанного не вернешь, — заканчивает она и кивает, очень довольная собой.
Жалеть она начинает на следующий день, когда Мадикен с утра принимается у нее на глазах играть с Йеркером. Скорее всего, она жалеет не столько о том, что погиб Сверкер, сколько о том, что Йеркер по-прежнему цел и невредим.
— Знаешь что, Мадикен, — говорит Лисабет лукаво. — Возьми-ка и съешь Йеркера!
Мадикен качает головой:
— Никогда в жизни! Ни за что!
Она устраивает Йеркеру постельку в ящичке из-под сигар. Делает ему там матрасик из ваты, а вместо одеяла кладет голубенький шелковый лоскуток. Мадикен так возится с Йеркером, так интересно с ним играет! Лисабет все больше жалеет о своем Сверкере, и в конце концов она, склонив голову на плечо, принимается канючить, чтобы Мадикен разрешила ей поиграть с Йеркером.
— Ну, можно мне хоть немножечко? Ну, хоть один разочек?
— И разочек не дам! — говорит Мадикен.
— А сколько разочков дашь? — спрашивает Лисабет.
— Ни одного не дам. Выкусила? — говорит Мадикен. — Не надо было Сверкера съедать!
Мадикен укладывает Йеркера в постельку, укрывает шелковым одеяльцем и ставит вместе с кроваткой в кукольный домик.
Скоро кончаются пасхальные каникулы. Мадикен снова ходит в школу, а Лисабет все утро одна хозяйничает в детской.
В один прекрасный день Мадикен приходит домой и в ящике из-под сигар, который стоит в кукольном домике, обнаруживает — ну, что бы вы думали? — обнаруживает, что под шелковым одеяльцем Йеркера нет. От Йеркера осталось только жалкое безголовое туловище… Тут раздался такой яростный вопль, что содрогнулась вся усадьба. Примчалась перепуганная мама, она уж было подумала, что с Мадикен стряслось что-то ужасное. Но оказалось, что Мадикен лежит на кровати, уткнувшись в подушку, и орет благим матом:
— Лисабет откусила голову Йеркеру! У-у-у!
Лисабет гуляла в саду с Сассо. Ее позвали домой, и мама строго спросила:
— Ты откусила голову Йеркеру?
Лисабет поглядела направо, поглядела налево, потом подняла глаза и, глядя прямо перед собой, сказала:
— Может быть… и съела. Я уже не помню.
Тут Мадикен взвыла еще громче, а мама принялась бранить Лисабет. Кончив бранить, она сказала:
— А теперь, Лисабет, попроси у Мадикен прощения!
Лисабет стала столбом и молчит, точно в рот воды набрала.
— Ну! — говорит мама.
— А чего? — спрашивает Лисабет.
— Проси прощения у Мадикен!
— Каттегоритчески не буду! — говорит Лисабет упрямо и поджимает губы, как всегда, когда она заартачится.
Мама старается ей растолковать, как плохо она поступила, и Лисабет прекрасно все понимает, но прощения просить не желает — и все тут. «Да и какой от этого толк, — думает Мадикен. — Ведь Йеркеру не вернешь голову!»
Поплакав еще немного, Мадикен грустно доедает то, что осталось от Йеркера. Лисабет стоит рядом и без зазрения совести выклянчивает кусочек:
— Ну дай мне тоже хоть немножечко!
— Противная девчонка! — говорит Мадикен.
Но она — не жадная, Лисабет получает одну ногу Йеркера, а после они вместе отправляются играть в сад.
— Пойдем посмотрим гнездышко, — говорит Мадикен.
Лисабет с радостью соглашается. Гнездышко прячется на одной из яблонь в саду Нильссонов. Аббе недавно показал его девочкам.
Мадикен и Лисабет полюбовались на хорошенькие голубенькие яички, но руками не трогали.
Под яблоней находится заброшенный колодец. Он давно стоит пустой, и воды в нем нет. Мадикен поднимет ветхую крышку и заглядывает вниз. И тут ее в мгновенье ока осенило:
— Я знаю, что нам делать! У нас будет игра «Иосиф в колодце»!
Лисабет захлопала в ладоши:
— Можно, Иосифом буду я?
Мадикен немного подумала. Вообще-то она сама хотела быть Иосифом, но, поразмыслив, поняла, что Лисабет не сумеет сыграть всех сразу: и работорговца, и вредных братьев Иосифа.
— Хорошо, — говорит Мадикен. — Пускай ты будешь Иосифом.
Мадикен быстренько сбегала за пивоварню, принесла маленькую лесенку и опустила в колодец, чтобы Лисабет могла по ней спуститься на дно. Колодец совсем неглубокий, и Лисабет нисколько не боится, ей, наоборот, очень весело и не терпится поиграть. Затем Мадикен вытаскивает лестницу из колодца. То-то интересная будет игра! Сидя на краю колодца, Мадикен глядит сверху на Лисабет, но видит там не ее, а бедного Иосифа, которого хотят продать в рабство в чужую страну. Ой, как же Мадикен его жалеет! Но сейчас она не Мадикен, а злые братья Иосифа, поэтому она говорит:
— Ну что, Иосиф, выкусил? Вот мы сейчас продадим тебя первому встречному работорговцу, и до свиданья! Потому что так тебе и надо!
Лисабет правильно исполняет свою роль:
— Ха-ха-ха! А папа вас выпорет, когда вернетесь домой.
— Жди, как же! — говорит Мадикен. — Мы ему наплетем, что тебя съели дикие звери!
Она сама дрожит, говоря такие слова, но ведь это она не от себя сказала, а за вредных братьев Иосифа!
И вдруг Лисабет спрашивает:
— Неужели Иосифу совсем ничего не давали есть, когда он сидел в колодце?
— Не знаю, — говорит Мадикен, — может быть.
Вообще-то Лисабет здорово придумала. Наверное, это очень интересно, сидя на краю колодца, кидать еду Иосифу. Поэтому Мадикен говорит:
— Ты тут подожди, Лисабет. Я сейчас сбегаю и принесу тебе бутерброд.
Лисабет волей-неволей ничего не остается другого, как сидеть и ждать. Без лестницы ей самой не выбраться из колодца.
Мадикен сначала идет в кладовку и делает два бутерброда с колбасой — себе и Лисабет. Потом она бежит наверх в детскую, достает карандаш и кусочек картона и пишет на картоне большими буквами:
ПРАДАЕЦА ХОРОШИНЬКИЙ МАЛИНЬКИЙ РАБ
Нечаянно ее взгляд падает на опустевший ящичек из-под сигар. При этом печальном зрелище Мадикен вспоминает, как было хорошо, когда в нем лежал шоколадный пупсик. Теперь его больше нету… А все по вине дурочки Лисабет! И Мадикен вдруг снова рассердилась на нее и ясно поняла, что и не думала ее за это прощать.
Все такая же сердитая, Мадикен возвращается к колодцу. Но Лисабет еще ничего не знает. Она-то думает, что пришли вредные братья Иосифа, а с ними она разговаривает заносчиво.
— Что же это такое — засадили человека в колодец, есть не дают! Помирать мне тут, что ли? — кричит она.
Мадикен еще больше возмутилась. Сейчас она не играет. «У-у, какая эта Лисабет, хуже всякой свиньи!» — думает Мадикен.
— Вот и сиди тут, пока не попросишь прощения за то, что откусила голову Йеркеру! — говорит Мадикен.
Лисабет поднимает голову и смотрит со дна колодца на Мадикен. Она обижена до глубины души. Она же — Иосиф, а он ни у каких пупсов головы не откусывал! И что это Мадикен мелет какую-то ерунду?
— Каттегоритчески! Не буду просить прощения! — говорит Лисабет.
— Противная девчонка! — бросает Мадикен и вдруг замечает у себя в руке кусок картона, на котором написано «Прадаеца хорошинький малинький раб».
— Вот возьму и продам тебя в рабство по-настоящему, — говорит Мадикен. — Точь-в-точь как Иосифа. Ну что? Будешь теперь просить прощения или нет?
— He-а! Каттегоритчески не попрошу, — говорит Лисабет и поджимает губы.
Мадикен ее дурацкое упорство приводит в бешенство.
— Ну и сиди тогда! — говорит она и швыряет Лисабет бутерброд. — На тебе, лопай, а то, как попадешь в рабство, тебе уже никогда не дадут есть, так и знай!
Лисабет поднимает вой, но просить прощения все равно не хочет. Мадикен постояла немного, дожидаясь, чтобы Лисабет опомнилась, но та ведь упряма как осел. Она воет, но не сдается. Тогда Мадикен насаживает картонку на палочку, а палочку втыкает в траву возле колодца. Теперь возле колодца красуется объявление с ужасными словами: «Прадаеца хорошинький малинький раб». Любой работорговец, проходя мимо, непременно должен его заметить.
— Как хочешь, — говорит Мадикен. — Ты сама виновата, — и быстро уходит, чтобы не слышать диких воплей Лисабет.
Жуя бутерброд, она бредет к реке. Вода в ней спала, а на мостках лежит удочка. Мадикен насаживает на крючок кусочек колбасы и садится удить рыбу. В воде целыми стаями снуют маленькие окуньки, но, как видно, они не признают колбасы: ни один и не думает клевать. Однако это так увлекательно, что Мадикен совсем забывает про Лисабет. Когда же наконец она о ней вспомнила, то ужасно испугалась. Всю злость точно рукой сняло. Мадикен кидает удочку и со всех ног мчится к колодцу. Еще издалека она начинает кричать:
— Лисабет, я уже иду! Ты не расстраивайся!
Почему-то ей никто не отвечает, все кругом тихо, не слышно ни криков, ни плача. Лисабет нигде не видно! Она пропала. В колодце пусто. Но объявление по-прежнему там, где Мадикен его оставила, на нем красуется та же надпись: «Прадаеца хорошинький малинький раб», но внизу что-то приписано синими чернилами:
ПРАДАЕЦА ХОРОШИНЬКИЙ МАЛИНЬКИЙ РАБ
Я КУПИЛ ЭТОГО РАБА ЗА ПЯТЬ ЭРЕ.
ИСИДОР — ЗЛОЙ БАСУРМАН И РАБОТОРГОВЕЦ
Бедная Мадикен! Отчего она не провалилась тут же на веки вечные под землю! Что же она наделала… Господи, сделай, чтобы это оказалось неправдой… Ведь она продала в рабство родную сестру! На краю колодца действительно лежит монетка в пять эре. О, Мадикен хуже, чем были братья Иосифа, они хоть продали его за порядочные деньги! Пять эре — это как раз столько, сколько стоят пять леденцов или пять булочек. И за какой-то жалкий пятак она продала всю Лисабет! Мадикен даже застонала от горя… О, что же она натворила! Бедная Лисабет! Ведь Мадикен хотела ее только попугать. Кто же мог подумать, что работорговец уже тут как тут! Наверняка эти злодеи издалека чуют, если где-нибудь предлагают купить маленького раба!
Мадикен сидит на краю колодца и тихо скулит. Перед ее глазами проходят страшные видения. Бедная Лисабет! Вот к ней пришел работорговец и заставляет ее работать, а Лисабет, конечно же, отвечает ему: «Каттегоритчески не буду!» И тогда он берется за кнут. Ой, бедная Лисабет, и Мадикен тоже бедная! Зачем только она продала сестренку! И бедная мама, и бедный папа! Остались они без обеих девочек, потому что Мадикен тоже нельзя вернуться. Не может она прийти и рассказать, как за пятачок продала Лисабет какому-то басурману и работорговцу. Нет, ни за что! Лучше уж убежать в лес и скрываться там, как Робин Гуд.
Противный пятак все еще лежит на краю колодца. Мадикен хватает его и, вскрикнув, швыряет в колодец, а сама, громко рыдая, вылетает за калитку. Теперь ей надо бежать в лес, пока дома никто из близких не узнал, какой ужас она совершила. Скоро наступит ночь. Разве у нее хватит храбрости оставаться одной среди леса? Неужели на всем белом свете нигде не найдется пристанища для девочки, которая продала в рабство родную сестру?.. А если у Линус Иды? Линус Ида такая добрая! Может быть, она приютит у себя Мадикен и позволит ей спать у себя на полу и питаться черствыми корочками? Мадикен на все согласна, только бы не жить, скрываясь, в лесу. Да, у нее последняя надежда на Линус Иду!
Линус Ида даже отшатнулась при виде Мадикен, которая ворвалась к ней, обливаясь слезами и икая от рыданий.
— Право слово, ты влетела так, точно по пятам за тобой гонится полиция, — говорит Линус Ида. — Что же это у тебя случилось?
Мадикен глядит на нее как безумная. Полиция! Линус Ида заговорила про полицию! Наверняка за торговлю рабами людей наказывают. Наверное, как только станет известно, что она сделала, за ней придет полиция и ее заберут!
Вскрикнув сдавленным голосом, Мадикен кидается перед Линус Идой на колени и обнимает ее ноги.
— Милая, добрая Ида, — сквозь всхлипывания говорит Мадикен, — ты оставишь меня у себя, позволишь мне спать на полу и питаться черствыми корочками?
— Питаться корочками… что это ты такое несусветное городишь? — говорит изумленная Линус Ида. — Да что же с тобой делается, деточка моя хорошая? Неужто в Юнибаккене какая-нибудь беда?
Беда в Юнибаккене! Мадикен отчаянно зарыдала. Ах, если бы Линус Ида знала, она бы поняла, что в Юнибаккене такая беда, от которой невозможно никакое спасение!
— Ну, может быть, ты мне расскажешь, в чем дело? — говорит Линус Ида.
Мадикен не знает, куда деваться от стыда за свое преступление. Она никак не может заставить себя рассказать Иде о том, как она занялась работорговлей. Но в конце концов после долгих уговоров Линус Ида добилась от нее признания: случилось нечто такое кошмарное, такое ужасное, что Мадикен никогда больше не посмеет вернуться в Юнибаккен.
Линус Ида озабоченно качает головой:
— Право слово, что бы ты там ни сделала, тебе все-таки незачем спать на полу и питаться черствыми корками!
Линус Ида поднимает Мадикен, укладывает ее на своей кровати и потеплее укутывает одеялом.
— Поспи-ка ты лучше, — говорит Линус Ида. — Сон — лекарство от всех бед.
И не успела она это сказать, как Мадикен сразу уснула. Утомительное это занятие — работорговля. Линус Ида смотрит на Мадикен. На щечках у нее — дорожки от высохших слез, а личико такое бледное, что ресницы кажутся совсем черными.
— Бедняжечка ты моя, — бормочет Линус Ида. — Спи, маленькая, а я покамест сбегаю-ка в Юнибаккен.
…Немножко поспав, Мадикен внезапно просыпается, как от толчка. Сначала она не может понять, куда попала, но потом замечает у себя над головой картинки с рекой из пролитой водки и с извергающимся вулканом. Тут она все поняла и сразу вспомнила, почему здесь оказалась. Ах, зачем она только проснулась? И куда девалась Линус Ида? У Мадикен появляется страшное подозрение: неужели Линус Ида пошла за полицией? Может быть, по закону нельзя укрывать преступников? Уж на что Линус Ида добрая, однако вряд ли ей захочется попасть из-за Мадикен в тюрьму. Да, наверное, она пошла за полицией!
Сейчас они придут и заберут Мадикен… Мадикен слышит шаги на крыльце и слышит, как Линус Ида с кем-то разговаривает.
— Заходи, не бойся, — говорит Линус Ида.
Распухшими от слез глазами Мадикен уставилась на дверь… Помогите! Ой, мамочка, помоги!.. Нет, ни от мамы, ни от папы ей больше никогда нельзя будет ждать помощи, ведь это она продала в рабство Лисабет, и теперь за ней в любую минуту могут прийти полицейские и забрать в тюрьму. Вот они уже пришли… Сейчас войдут!
Дверь отворяется, кто-то входит, вот он уже на пороге. Но вместо могучего полицейского на пороге показывается совсем маленький человечек. Лисабет! Мадикен глядит на нее расширенными глазами — она! Лисабет! Неужели же это правда?
Всхлипнув, Мадикен протягивает к ней руки, ей хочется потрогать Лисабет, обнять ее, увериться, что это действительно она. Мадикен хочет прижать ее к себе крепко-крепко. Ах! Как же она ее сильно любит!
Полная раскаяния и любви, Мадикен жадно протягивает к ней руки, и Лисабет устремляется в ее объятия. Но, подбежав к Мадикен, она ее толкает кулачком:
— Подвинься-ка, я тоже хочу посмотреть на водочную реку, ты без меня уже насмотрелась!
Лисабет вскарабкивается повыше, встает на коленки и принимается разглядывать водочную реку и извергающийся вулкан. А Мадикен смотрит только на Лисабет, все время только на нее.
— Ты что, убежала, что ли, от работорговца? — спрашивает она смущенно, в душе гордясь своей сестренкой. Подумать только, до чего же та храбрая!
— Какой там работорговец, — говорит Лисабет. — Да ну его! Мы ведь уже в это не играем. А мне Аббе дал сладкого кренделька. Что, выкусила? Тебе-то не дали!
Мадикен глядит на нее во все глаза.
— Аббе! Так это Аббе выпустил тебя из колодца?
Лисабет не сводит глаз с водочной реки, она почти и не слышит, что ей говорит Мадикен.
— В жизни не видала лучшей картины! — уверяет она сестру.
— Так это был Аббе? — повторяет Мадикен свой вопрос.
— Ну да, конечно! И я съела кренделек, вот… А знаешь что, Мадикен? Если бы я свалилась в водочную реку, я бы поплыла пятью разными способами и выплыла бы. Ты же знаешь, что я уже научилась плавать пятью способами?
— Знаю, — говорит Мадикен. — Ты, Лисабет, у нас молодец, а вот Аббе — жулик!
Над Юнибаккеном опустился вечер. Уснул красный дом над рекой. Солнце только что зашло. Среди берез сгущаются сумерки — голубоватые сумерки, ведь сейчас весна. Нарциссы так и светятся белизной и пахнут так душисто. Березки, облаченные в прозрачные зеленые покрывала, стоят во всей красе под ясным весенним небом, которое дышит прохладой. Кругом тишина. Только что воздух еще звенел от птичьих голосов, и вот уже все птички уснули, спрятавшись по гнездышкам и скворечням.
Но какие-то звуки раздаются в этой тишине. За стенами красного дома поют несколько голосов. И вот что они поют:
Вечер прекрасный, Мирный покой.Если встать под окном детской, можно послушать пение. Так и есть, там кто-то стоит. Худощавый парнишка с лохматой нестриженой головой, которая белеет в темноте, слушает, притаившись за кустом ракитника. Не однажды он уже приходил сюда постоять под окном. Аббе любит пение. Никто не знает, что он тут прячется. Он скоро уйдет, осторожно ступая на цыпочках, чтобы не передавить нарциссы. Высокородный граф Аббе, басурман и работорговец — очень добрый мальчик.
Вечер прекрасный, Мирный покой…Лисабет еще продолжает петь, хотя мама и папа уже пожелали девочкам спокойной ночи и затворили за собой дверь. Но вдруг она замолкает.
— Мадикен, — говорит Лисабет, — можно, я приду к тебе полежать?
— Можно, приходи, — говорит Мадикен.
Лисабет быстро перебегает холодными ножонками расстояние между кроватками.
— Можно, я прилягу к тебе на плечо? — спрашивает Лисабет.
— Можно. Ложись, пожалуйста. Конечно, можно, если ты хочешь!
«Ах, как все прекрасно!» — думает Мадикен. Как она счастлива! Потому что Лисабет лежит рядом, потому что ее сестренка здесь, в Юнибаккене, а не где-то там во власти подлого работорговца.
Мадикен крепко обнимает маленькую Лисабет.
— Лисабет! Ты никогда, никогда не покидай меня!
— Нет, — обещает Лисабет. — Никогда я не расстанусь с тобой. Главное, что мы с тобой в конце концов опять встретились.
Весеннее небо за окном понемногу меркнет. Темно стало по углам детской, но это ведь привычная темнота, и им тут хорошо.
— Мадикен, — говорит Лисабет, прижимаясь к Мадикен озябшими ножками, — расскажи мне про привидения, убийц и про войну!
Мадикен и Пимс из Юнибаккена (пер. И. Стребловой)
Мадикен чувствует, как в ней играет жизнь
Едва проснувшись утром, Мадикен сразу вспомнила, какой сегодня будет необыкновенный день. Таких особенных, веселых дней не так уж много бывает в году. Сегодня ночью, в канун дня святой Вальборг[30], люди празднуют встречу весны, и на Ярмарочном поле зажгут Майский костер. А еще Мадикен вспомнила, что ей сегодня обещали купить новые сандалии и что не надо идти в школу. Одним словом, именно этот день надо бы отметить в календаре красным цветом — так считает Мадикен.
За окном на березе заливаются трелями скворцы, в своем любимом углу возле печки Лисабет заколачивает молотком гвозди в полено, в ванной плещется и насвистывает папа, за дверью скребется Сассо, чтобы его впустили, а внизу на кухне Альва мелет кофе, и скрежет кофейной мельницы разносится по всему дому. Ну как в таком доме не проснуться! Да и кому охота теперь спать? Только не Мадикен! Мадикен не терпится скорее начать новый день, ей, как дяде Нильссону, хочется, чтобы жизнь играла в каждой жилочке!
Дядя Нильссон, если он веселый и бодрый, любит говорить: «Эх, как во мне сегодня бродит жизнь, так и играет в каждой жилочке!» Когда же он хмурый, тогда вроде бы и жизни нет.
«Вот и я так же!» — думает Мадикен.
Сейчас жизнь в ней не просто играет, а бьет ключом, и Мадикен спрыгивает с кровати.
— С ума сойти, Мадикен! — говорит Лисабет. — Уж я тут стучу, стучу, а ты все спишь да спишь! Ты все на свете проспишь, даже… — Лисабет задумывается, чем бы таким поразить сестру, и заканчивает: — Даже если придет каннибал!
Лисабет всегда просыпается раньше всех. А Мадикен может сегодня отсыпаться, раз уж ей не идти в школу. Так сказала мама. И еще мама сказала, чтобы Лисабет не будила сестру. Но мама ведь не говорила, что нельзя заколачивать гвозди, поэтому Лисабет взяла полено и принялась за работу.
Мадикен отворяет дверь, и Сассо влетает в детскую, крутясь, точно клубок шерсти: поиграйте, мол, со мною! Лисабет выпускает из рук молоток и начинает возню с ним. В пуделе, как видно, жизнь всегда играет не переставая!
— А ты напрасно думаешь, что каннибала можно услышать, — объясняет Мадикен сестренке. Лисабет еще многого не понимает в свои пять лет. — Каннибал крадется по джунглям тихо-тихо. Поэтому миссионеру[31] его и не заметить. Каннибал так неожиданно прыгнет на него и хвать зубами, тот даже охнуть не успеет!
У Лисабет пробежали мурашки по спине. Какой ужас, так поступать с бедным миссионером, который никому ничего плохого не делал!
— Зато каннибала никогда не пустят в рай, — говорит Лисабет.
— Это уж точно! Можешь голову дать на отсечение, что не пустят! — подтверждает Мадикен.
Лисабет согласно кивает. Но вдруг задумывается:
— Нет, пожалуй, он, злодей, все-таки туда попадет! Тут уж ничего не поделаешь!
— Куда попадет? — спрашивает Мадикен.
— Да в рай! У него ведь в брюхе миссионер, а миссионер-то уж непременно попадет в рай! Вот и подумай сама!
— Да, действительно! — соглашается Мадикен.
И обе девочки решают, что пролезать в рай таким нечестным способом было бы просто нахальством со стороны каннибала.
— Ничего, еще посмотрим, что будет, когда Бог про это узнает! — грозится Мадикен.
— Вылетит из рая, как миленький! Что, выкусил, каннибал? — говорит Лисабет.
Но больше девочки не вспоминают о каннибале. В такой особенный день у них другие заботы.
Когда они прибежали на кухню, папа кончал завтракать.
— А где мама? — интересуется прежде всего Мадикен.
— Лежит в постели, — говорит папа.
Если сегодня мама будет целый день лежать с головной болью, для Мадикен это означает конец всем ее радостям. Ведь мама сама обещала, что пойдет с Мадикен покупать сандалии. И вдруг, пожалуйста, — голова разболелась! Разве так можно?
— Да нет же! — говорит папа. — Мама просто не в настроении и решила себя немножко пожалеть.
Мадикен с облегчением вздыхает. Такое уже бывало. Сейчас мама себя немножко пожалеет, и все пройдет, это у нее ненадолго.
Альва стоит у плиты и помешивает молочный суп. Но тут она оборачивается и осуждающе смотрит на папу:
— Скажете тоже! Вам ли не знать, что по утрам хозяйке часто бывало нехорошо!
Папа соглашается с Альвой. Он всегда жалеет маму, и, когда девочки поели супу, он идет с ними наверх в спальню. Они останавливаются у дверей маминой спальни.
— Сейчас узнаем, как там дела, — говорит папа и начинает петь песенку, которую он всегда поет маме, когда она себя жалеет:
За что такая немилость? Уж не я ли виноват?А мама лежит на кровати, бледная и грустная. Когда трое гостей появились на пороге спальни, она и вовсе спряталась, закрыв лицо простыней. Мама даже смотреть на них не хочет. Мадикен готова броситься к маме, чтобы ее обнять, но боится ее потревожить.
— Я только хотел сказать:
За что такая немилость? Уж не я ли виноват? —ласково, нежно поет папа.
Тут мама отбрасывает с лица простыню и хохочет:
— А как же иначе! Кто же еще виноват, как не ты, и ты сам хорошо это знаешь. О немилости нет и речи, я действительно чувствую себя неважно. Впрочем, нет ничего удивительного…
— Бедняжечка! — говорит папа. — Давай уж лучше я тебя пожалею, а то куда это годится — закрылась одна и сама себя жалеешь!
— Спасибо за доброе утешение, — говорит мама.
Глаза у нее повеселели. И у Мадикен прошло беспокойство. Но потом она снова вспомнила про сандалии. Вдруг мама раздумала идти с ней в магазин, раз ей нездоровится?
Мадикен правильно угадала. Сегодня мама не хочет идти за покупками.
— Альва сходит вместо меня, — говорит мама. — Ты ее проводишь на рынок, заодно и купите.
— Я тоже хочу на рынок, — говорит Лисабет.
Мама устало машет рукой:
— Иди, пожалуйста!
Как видно, мама рада поскорее от всех отделаться.
— Ну а я, — говорит папа, — я отправлюсь к себе в газету — продолжать борьбу за всеобщую свободу, истину и справедливость. А кстати, и за свой кусок хлеба.
Мадикен и Лисабет идут провожать папу до калитки. Он уходит, помахивая тросточкой, а девочки смотрят ему вслед. Прежде чем свернуть за угол, папа обернулся, приподнял шляпу и помахал им на прощание.
Весна в этом году наступила рано. На лужайках Юнибаккена уже цветут нарциссы и тюльпаны, а на березах вокруг красного дома появились нежные зелененькие листочки. Мадикен, глубоко вздохнув, спрашивает у Лисабет:
— А правда ведь, весна — самое лучшее время года?
— Ну конечно, — отвечает Лисабет.
Лисабет замечает на кухонном крыльце Госю, которая нежится на солнышке. Вот хорошо бы потискать кошку! Гося бросилась наутек, но слишком поздно, Лисабет сгребла ее в охапку, сама уселась на крыльце, а кошку посадила к себе на колени. Гося, зная, что сопротивление будет напрасным, смирилась и замурлыкала.
— Я только сбегаю на минутку к Аббе, мне надо у него кое-что спросить, — говорит Мадикен и в один миг перемахивает через забор к Нильссонам.
Дядя Нильссон расположился в саду на качелях под старой яблоней. Он попыхивает сигарой, отдыхая после трудов. Дядю Нильссона частенько можно увидеть за отдыхом. Как он говорит — нельзя же только и делать, что не покладая рук трудиться от зари до зари на жену и детей. Иной раз и отдохнуть надо. Сейчас Мадикен и застает его за этим занятием.
— Глянь-ка, кто к нам пожаловал — наша Мадикен из Юнибаккена! — восклицает при виде нее дядя Нильссон. — Чему обязан столь ранним посещением?
Мадикен никак не может привыкнуть к вычурным оборотам, которыми любит изъясняться дядя Нильссон, она теряется, не зная, что отвечать. Еще дядя Нильссон придумывает для людей разные замысловатые прозвища. Мадикен у него изысканно именуется «Юной барышней — гордостью Юнибаккена», для Альвы он придумал прозвище «Ангел Юнибаккена», маму называет «благородной дамой», а папу «господином социалистом». Множество разных прозвищ и у тети Нильссон. Когда он доволен, то зовет ее «Мой свет» и «Моя лилея», а когда злится и недоволен, она становится «чучелом», а то еще «котелком с мякиной» — это если она что-нибудь напутает или не сразу поймет, о чем он ей толкует. Когда дядя Нильссон говорит «Бяшка-дурашка» — это означает, что речь идет об Аббе, хотя чаще всего дядя Нильссон зовет его «мой сын» и произносит эти слова так, словно это — почетное звание.
— Аббе дома? — спрашивает Мадикен.
— Смею заверить, мой сын — дома, — говорит дядя Нильссон. — С пяти часов пополуночи посвящает свои труды печению сладких крендельков, а его матушка уже отправилась на базар и усердно ими торгует. Я же в одиночестве предаюсь спекулятивным размышлениям, поэтому весьма рад принять у себя гостью.
Мадикен пришла не для того, чтобы повидать дядю Нильссона, она хочет пройти к Аббе на кухню, но не так-то просто прошмыгнуть мимо его папы.
— А видала ли ты, дорогая Мадикен, мои великолепные цветы? — спрашивает дядя Нильссон, тыкая сигарой в сторону чахлых тюльпанчиков, которые почти затерялись в траве. — Боже мой! Что я чувствую с приходом весны! Как играет жизнь во мне!
— И во мне тоже, — говорит Мадикен.
Но теперь-то уж она побежит к Аббе, а дядя Нильссон пускай себе сидит на качелях и наслаждается жизнью.
Своего приятеля Мадикен, как всегда, застает склонившимся над противнем. Если Аббе и рад ее приходу, то ничем этого не показывает.
— Живем помаленьку? — говорит Аббе при виде Мадикен.
Не будет же он канителиться с маленькими девочками, ведь ему уже пятнадцать лет. Но все-таки они с Мадикен — добрые друзья. И Мадикен давно про себя решила, что ни за кого, кроме Аббе, не выйдет замуж. А если Аббе не захочет на ней жениться, тогда что поделаешь! — тогда она совсем не выйдет замуж; кроме Аббе, ей никого другого не надо.
— А твой папа сидит в саду и занимается спиккуляцией, — говорит Мадикен.
Аббе смеется:
— Я так и знал! Вчера он целый день пролежал в кухне на диване, а маманя гоняла туда и обратно в дровяной сарай, чтобы натаскать дров для печки. Уж он так ее жалел, бедняжку! Да, ничего не скажешь — доброе сердце у моего папани!
Аббе угощает Мадикен крендельком. Просто объедение, до чего вкусно! Недаром все хозяйки наперебой раскупают крендельки Нильссонов. Каждой хотелось бы разведать секрет, отчего они получаются такие вкусные. Но Аббе говорит, что этот рецепт придумала бабушка его бабушки сто лет тому назад, и ни одна дамочка в городе, сколько бы она о себе ни воображала, никогда не дознается и не додумается до бабушкиного секрета.
— Но тебе, может быть, я поведаю его перед смертью. Конечно, смотря по тому, как ты будешь себя вести.
Ох, зачем он только это сказал! Мадикен сразу представила себе такую картину: Аббе лежит бледный как полотно, он вот-вот умрет, он уже еле говорит. И, прошептав: «Сбей десяток яиц», испускает дух — он вздохнул, и его не стало!
У Мадикен подкатывает к горлу комок, и дрожащим голосом она просит:
— Никогда не умирай, Аббе, прошу тебя! А сегодня ты пойдешь смотреть на Майский костер?
— Точно не знаю, — говорит Аббе. — Меня, может быть, еще позовут в другое место, на вечеринку, в хорошую компанию. В общем, там видно будет.
Что поделаешь! Остается надеяться на лучшее. Мадикен так хочется, чтобы Аббе тоже пришел на Ярмарочное поле, — она будет там в новых сандалиях, в зеленой шелковой шапочке и красной жакетке. Вот Аббе, наверно, удивится, какая она красивая! Мадикен надеется удивить не только его, но всех, кто будет на празднике. Всякий, у кого есть глаза, не сможет не заметить, что на ней новые сандалии.
Но сандалии еще не куплены, поэтому ей теперь надо бежать домой и поторопить Альву. Пора идти за покупкой.
Ходить в город с Альвой очень интересно. Слева Мадикен, справа Лисабет — торопятся вприпрыжку, а посередине с большой корзиной на руке плавно выступает Альва. Предстоит сделать много покупок, и Мадикен убеждает Альву, что первым делом нужно сходить за сандалиями. Остальное не так уж важно.
В городе царит оживление. Сегодня базарный день, да еще тридцатое апреля, одним словом — причин достаточно. Все школьники свободны от уроков, завтра, первого мая, — тоже. Мадикен замечает в толпе своих одноклассников.
— Как здорово, что у нас целых два дня не будет уроков! — радуется она.
— Наверно, учителя испугались, как бы вы совсем не заучились! — высказывает Альва свое предположение.
Но вдруг лицо у нее заливается румянцем. Им навстречу идет трубочист. Он подмигивает Альве и улыбается белозубой улыбкой. «Вот уж и напрасно», — думает Мадикен, потому что трубочист женат и у него есть пятеро детей. Но трубочист Берг — первый парень в городе и, по словам Альвы, перемигивается со всеми девушками.
Мадикен хорошо понимает, почему он заглядывается на Альву. На нее многие заглядываются. Ведь Альва такая милашка! По крайней мере, так объяснил дядя Нильссон. Отчего’, дескать, на Альву так приятно посмотреть? Да оттого, что у нее все на месте: где надо — тонко, где надо — округло, а кроме того, она всегда веселая — разумеется, если только не сердится.
— А уж коли Ангел Юнибаккена рассердился, тогда лучше не попадайся ей под горячую руку! — говорит дядя Нильссон.
Мадикен и Лисабет никак не могут решить, кто милее — мама или Альва. Иной раз вечерком, когда Лисабет, примостившись у Альвы на коленях и прижавшись к ее груди, блаженствует в ее мягких объятиях, она от души восклицает:
— Как хорошо, что ты такая уютная!
И вот Альва, сказочно миленькая и уютная, в бумазейном клетчатом платье, заходит в обувной магазин. Господин, который примеривает детям сандалии, спрашивает Альву, придет ли она вечером на Ярмарочное поле. Но Альва будто и не слышит. Я, дескать, пришла купить сандалии, и — точка.
Таких замечательных сандалий Мадикен никогда в жизни не видела. Когда ей вручили сверток, Мадикен прижала его к груди, чувствуя себя на верху блаженства.
— Ты сумасшедшая, Мадикен! Покупать сандалии, когда здесь есть чудные лаковые туфельки!
Оказывается, Лисабет тоже примеряла обувь, никто и не заметил, когда она успела. Одна нога у нее в черной лаковой туфельке на высоком каблуке, на другую надет коричневый мужской башмак. Лисабет, прекрасно зная, что этого делать нельзя, ангельски улыбается. Она знает, что ее улыбка хоть кого обезоружит. Но с Мадикен этот номер не проходит.
— Хватит тебе притворяться, — шипит она на сестренку, а выйдя на площадь, Мадикен напрямик заявляет: — С тобой просто нельзя ходить по магазинам.
Такого же мнения и Альва.
На площади они встретились с Линус Идой. Линус Ида — поденщица, она ходит по домам стирать белье и вообще делает всякую работу, какую попросят. Она часто бывает и в Юнибаккене. А сегодня у нее, так же как у школьников, выходной. Мадикен готова всем рассказывать про свои великолепные новые сандалии, не удержалась и перед Линус Идой, но та только покачала головой:
— Еще скандалии какие-то! Все это — новомодные штучки! Право слово, у нас ничего такого не было, когда мы были детьми, зато мы росли крепкие и здоровье у нас было лошадиное!
Мадикен замечает, что ее из-за прилавка подзывает к себе тетя Нильссон. Мадикен подходит.
— Скажи, ты не видела Нильссона? — спрашивает тетя Нильссон.
— Видала. Он сидит на качелях и занимается спиккуляцией.
Тетя Нильссон качает головой. Вечно он только и делает, что спиккулирует и философствует.
— А как на твой взгляд, он хотя бы трезвый? — спрашивает тетя Нильссон.
— Да кажется, не совсем, — говорит Мадикен.
Но тут подходят люди покупать крендельки, и вопрос о трезвости дяди Нильссона остается невыясненным.
А в это время Альва пошла покупать мятные лепешки, и Мадикен сломя голову помчалась за ней в карамельный ряд. Получив по мятной лепешке и полакомившись, Мадикен и Лисабет входят следом за Альвой в рыбную лавку Нурстрема. Альве надо купить лососины, потому что в Юнибаккене, по заведенному обычаю, подают первого мая холодную лососину под майонезом. Похоже, что во многих домах распространен этот обычай, — у Нурстрема остался только один не проданный кусок, зато очень хороший. Он стоит десять крон.
— Благодарю вас, я его беру, — говорит Альва и протягивает деньги.
Но в эту минуту отворяется входная дверь и в лавку входит бургомистерша, первая дама города. Моментально поняв, что на весах продавца лежит последний оставшийся кусок лососины, она с порога кричит:
— Ах, прошу вас, этот кусочек оставьте мне! Я жду завтра гостей.
Казалось бы, ясно, господин Нурстрем должен понять, кому лососина нужнее всех! Господин Нурстрем действительно понял, но Альве нет дела до гостей бургомистерши.
— Нет уж, извините! — говорит Альва.
Бургомистерше это очень не понравилось, и вообще, мол, она давно заказывала лососину, но господин Нурстрем, вероятно, запамятовал.
Видя, что Альва не собирается уступать, бургомистерша краснеет от злости.
— Разве вы, голубушка, не знаете, кто я такая? Я бургомистерша Далин.
— Знаю, — отвечает Альва добродушно. — Ну а вы разве не знаете, кто я такая?
— Право же, не знаю, — говорит бургомистерша.
— А я та женщина, которая купила эту лососину, — говорит Альва и спокойно кладет рыбу в свою корзинку.
Подталкивая впереди себя девочек, Альва выходит из лавки. Но Лисабет успевает мимоходом высказать бургомистерше то, что она о ней думает:
— Ну и глупая же ты!
Лисабет хотела прийти на помощь Альве. Но Альва недовольна. Она считает, что так нельзя было говорить.
— Теперь она нажалуется на тебя маме, — говорит Альва, останавливаясь у дверей магазина. — Самое лучшее будет, если ты сейчас вернешься и сразу попросишь прощения.
— Каттегоритчески не буду, — говорит Лисабет и крепко сжимает губы.
Альва гладит Лисабет по щечке, чтобы немного задобрить ее.
— Ну, будет тебе, Лисабет! Нельзя говорить взрослой тете, что она глупая, даже если это правда. А теперь беги-ка и скажи, что ты очень сожалеешь о своем поведении.
Лисабет еще крепче сжимает губы. А тут и бургомистерша выплывает из магазина, и по всему видно, что она продолжает сердиться. Проходя мимо Альвы, она фыркает, глядя на корзинку, где лежит лососина.
Альва тихонько подталкивает упрямую Лисабет:
— Ну же, Лисабет!
Но Лисабет по-прежнему не разжимает губ. Бургомистерша уже на середине площади, и тогда Лисабет кричит ей вдогонку как можно громче:
— Очень сожалею, что ты такая глупая!
Наконец наступил вечер. На Ярмарочном поле зажигают Майский костер. Пора, кажется, надевать сандалии? Нет. Никаких сандалий! Вот тебе и раз! Мама говорит, что нельзя.
— Подумай, доченька! Неужели ты хочешь стоптать их в первый же вечер? Тогда надевай и беги скакать вокруг Майского костра!
Мадикен уверяет, что будет очень-очень осторожной. Она обещает так беречь сандалии, чтобы они нисколечко не стоптались.
Однако никакие уверения не помогают. Мама лучше знает, что такое прогулка на Ярмарочном поле. «Наденешь старые башмаки, и кончен разговор!» — говорит мама.
Мадикен остается ни с чем. А она-то думала удивить весь город своими нарядами! Упросить маму уже нет времени, потому что они с папой собираются сегодня обедать в садовом павильоне при гостинице и им уже пора уходить.
— До свиданья, — говорит мама. — Желаю вам повеселиться у Майского костра!
Конечно, ей хорошо говорить! Мадикен расстроена и сердита. Весь вечер для нее испорчен. Обращаясь к Лисабет, она возмущенно спрашивает:
— Ну вот! Зачем тогда было покупать сандалии, если в них нельзя ходить?
— Да уж, действительно! — говорит Лисабет. По ее мнению, Мадикен должна была вовремя помолиться Богу, чтобы он надоумил маму позволить Мадикен идти в сандалиях. Но теперь поздно. Не может ведь он с мамой спорить в павильоне!
Мадикен фыркает:
— Нет, конечно. А кроме того, ты же знаешь: даже если я хочу и Бог хочет, но мама против, то все будет так, как она сказала, и мне придется идти на Майский костер в старых ботинках.
Потом Мадикен, поразмыслив немного, заявила:
— А вот и нет!
Когда до Лисабет дошло, что Мадикен собирается все-таки надеть сандалии, хотя мама ей не велела, она испугалась и даже захохотала от волнения.
— С ума сойти, Мадикен! И как ты не боишься!
Но Мадикен и не думает бояться. Ведь маме не обязательно знать. Когда мама вернется домой, Мадикен будет уже лежать в постели и спать, а сандалии будут стоять на полу под кроватью, такие же чистенькие, нарядные и новехонькие, как были. Что в этом такого страшного, если она разочек их наденет?
Смотреть костер девочек поведет Альва. Она ничего не знает про мамин запрет. И когда она выводит девочек за калитку, Мадикен появляется на улице в том наряде, как и собиралась: на ней зеленая шапочка, красная жакетка и новые сандалии. Действительно можно сказать: «Дивитесь, люди добрые! Вот идет Юная барышня — гордость Юнибаккена!»
На Ярмарочном поле к их приходу уже собралась тьма-тьмущая народу, и первый, кого там Мадикен замечает сразу, это, конечно же, Аббе! Как видно, его так и не позвали в хорошую компанию. И это только к лучшему. Потому что курточка, которую он носит, ему велика и совсем не годится, чтобы надевать ее в гости. Единственное ее достоинство в том, что она — сзади скрывает заплаты на брюках. Впрочем, как Аббе одет, совершенно неважно; на взгляд Мадикен, он и так красив, потому что у него голубые глаза и белые волосы, которые высовываются из-под кепки. Аббе стоит совсем один, и Мадикен со всех ног бросается к нему.
— А, это ты! Ну как ты там — живем помаленьку?
Напрасно Мадикен ждет, что он обратит внимание на ее сандалии. Как ни притоптывала она ногами, он точно ничего и не заметил.
— Тебя что, блохи кусают? — только и спросил Аббе.
К удивлению Мадикен, другие люди тоже, как будто нарочно, не хотят замечать ее обновку.
Вот трубочист поджигает костер. Затрещал хворост, дрова занялись огнем, пламя взметнулось вверх и все выше и выше тянется к весеннему небу; все обрадовались и закричали «Ура!», а мужской хор запел «Солнце майское сияет».
Любимая песня Мадикен! Там есть одна особенная нота, от которой у Мадикен вздрагивает сердце. Огонь костра, и пение, и весенние сумерки… Ах! Просто ужас, до чего это красиво, и великолепно, и грустно! Мадикен чувствует, как что-то переполняет ей грудь, а что, она и сама не знает. Что-то такое, чему нет названия. Это, конечно, взыграла жизнь, но кроме жизни и еще что-то другое. И вдруг она поняла: ее переполняет раскаяние. Ох уж эти сандалии! Да ну их! Сандалии — это чепуха! Ведь жизнь сама по себе прекрасна, великолепна и замечательна. Мадикен почувствовала это всем существом, и ее охватывает такое раскаяние, что она готова плакать навзрыд. Как могла она обмануть маму! Ах, как она будет завтра просить прощения! Но терпеть до завтра она не в силах. Ей надо сейчас же перед кем-то покаяться, и лучше всего перед Альвой. У Альвы всегда найдешь утешение.
Но Альва и Лисабет разговаривали с трубочистом. Дожидаясь, когда Альва кончит, Мадикен решила немного пройтись. Она старается не ступить в грязь, но тут почти всюду грязно; мама, как всегда, была права. Мадикен озабоченно смотрит на свои сандалии. И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила Мия — одноклассница Мадикен — та самая вшивая девочка.
Наконец-то удалось встретить человека, который заметит, что на тебе надето! Мия меряет Мадикен взглядом с головы до ног и фыркает:
— Подумаешь, сандалии! Фифа наряжена, во что кошками нагажено.
Из-за Мии выглядывает ее сестра Маттис, она старается не отстать от сестры.
— Подумаешь, сандалии!.. — начинает Маттис. Но Мадикен не дала ей закончить. Она решила хорошенько отбрить задиру Мию.
— Ну, чего пристала, соплячка! Чем тебе помешали сандалии? — бросает Мадикен для зачина.
Мия не отвечает, а только презрительно ухмыляется.
— Еще шапчонку шелковую напялила, — говорит она. — Коли ты думаешь, что с ней и домой вернешься, то ты ошибаешься!
И с этими словами Мия хватает зеленую шапочку и натягивает ее Мадикен на лицо. Такого обращения Мадикен никому не прощает, она всегда дает сдачи. Раз! — и Мия получила сильный тычок в грудь и плюхнулась прямо в лужу. Не растерявшись, она схватила Мадикен за ногу и дернула. Мадикен тоже плюхнулась рядом, и вот уже обе сидят на земле, сердито уставясь друг на друга. И тут вдруг Мия сделала нечто ужасное. Вцепившись обеими руками в левую ногу своей противницы, она сорвала с нее сандалию. И, не дав Мадикен опомниться, со всего размаху швырнула сандалию куда попало. Сандалия полетела по воздуху и упала где-то в толпе.
Мадикен громко вскрикнула.
— Я тебя убью! — пообещала она Мии.
И только Мадикен это сказала, как Мия уже вскочила и пустилась наутек, а следом за ней и Маттис. Мия не на шутку испугалась, ей расхотелось продолжать перепалку.
Мадикен поднялась на ноги. Лицо у нее побелело от злости и отчаяния. Как ей теперь найти свою сандалию, и как добираться домой, если та не отыщется, и что завтра скажет мама, когда увидит у нее под кроватью только одну перемазанную в грязи сандалию!
Обливаясь слезами, Мадикен поскакала на одной ножке к Альве.
— В жизни не слыхала ничего подобного! — сказала Альва, услышав печальную историю про запрещенные сандалии и ужасное преступление Мии.
Начались поиски. Искать пришлось Альве и Лисабет. Разумеется, без участия Мадикен.
— Ты уж стой тут и жди, — сказала Альва.
— На одной ножке, — с хохотом добавила Лисабет, заливаясь звонким смехом.
Пока они искали, Мадикен стояла и плакала. Одна-одинешенька среди вечерних сумерек. По-прежнему горит костер, по-прежнему звучат песни, на небе уже проглянули бледные звездочки, — чудесный весенний вечер, лучше которого и быть не может. Но для Мадикен на земле больше нет ничего хорошего. Она стоит на одной ножке и плачет.
А Альва и Лисабет ищут и спрашивают у каждого встречного-поперечного. Но сандалии нет как нет. В конце концов у Альвы опустились руки.
— Придется тебе скакать домой без сандалии, — говорит она. — Цепляйся уж за меня и скачи, потому что нести тебя на руках я не согласна.
Бедная Мадикен — какое возвращение! Вместо Юной барышни — гордости Юнибаккена, — домой, повиснув на Альве, поскакала мокрая, выпачканная в грязи, хнычущая и хлюпающая носом Мадикен. И дорога домой кажется такой длинной, когда ее всю нужно проскакать на одной ножке! Время от времени, не в силах больше скакать, Мадикен пробует ступать на обе ноги. Но левой ноге это совсем не нравится. Дорога — каменистая, холодная и к тому же мокрая. Тогда Мадикен снова принимается скакать, она скачет и всхлипывает. Альва ее очень жалеет. Лисабет, конечно, тоже, но ее так разбирает смех, что она не может удержаться, хотя и побаивается, потому что Мадикен очень сердится.
Немного позади идет Аббе и весело насвистывает, но Мадикен от этого не становится веселее.
Когда они прошли полдороги, Аббе вдруг кричит:
— Послушай, Мадикен! Я что-то никак не могу понять, отчего это ты все время скачешь на одной ножке?
Мадикен ничего не отвечает, а только всхлипывает. Вместо нее отзывается Лисабет:
— Потому что у нее только одна сандалия! Представляешь себе!
До сих пор Мадикен делала вид, будто ничего не слышит. Но тут уж она не выдержала. Громко зарыдав, она бросилась в объятия Альвы, изливая в слезах свое горе и оплакивая неудавшийся вечер и злополучные сандалии.
Тогда Аббе забежал вперед и загородил им дорогу. Он встал перед ними в своей широченной куртке и, склонив набок голову, с сожалением смотрел на Мадикен. Потом он сказал:
— Когда я был у костра, мне откуда-то на башку свалилась сандалия. Может быть, она тебе пригодится?
Альва вздрогнула так, точно рядом взорвалась бомба. Вытаращив глаза, она смотрит на Аббе, на сандалию в его руке, затем вырывает у него сандалию и хватает его за вихор:
— Ах ты, поросенок этакий! Неужели ты всю дорогу так и нес сандалию и ничего нам не говорил?
Аббе вырывается от нее:
— Откуда мне было знать, что старый хлам, который мне свалился на башку, — это ее туфля? Так бы сразу и говорила!
— Ах ты, поросенок! — снова повторяет Альва.
…В ту ночь Мадикен спала крепко. Прошедший день выдался на редкость долгим, замечательным, полным потрясений. «Вот какие бывают дни», — засыпая, подумала Мадикен.
Наутро она проснулась рано. Потому что Лисабет уже сидела на корточках возле печки и заколачивала гвозди в полено. Под такой шум не больно-то поспишь.
Мадикен сразу перевесилась с кровати, чтобы посмотреть на свои сандалии. Сандалии были на месте. Добрая Альва все сделала, как обещала. Она их помыла, почистила щеткой и навела такой блеск, что они стали совсем как новые. Только чуть-чуть потемнели, а так ничего не заметно.
Мама и не заметила. Она пришла и принесла девочкам в постель горячего шоколаду, в честь Первого мая. И тут она увидела сандалии.
— Ну, вот сегодня ты можешь их надеть, — говорит мама. — Мы скоро пойдем смотреть, как папа будет идти на демонстрации. Правда же, хорошо, что ты их вчера не надевала?
— Я надевала их вчера вечером, — говорит Мадикен, и так как глаза у нее часто бывают на мокром месте, у нее сразу потекли слезы.
Тут-то мама все и узнала, как было дело и как гадко себя вела Мадикен. Хуже всего было не то, что она надевала сандалии, — хуже всего было, что она сделала это тайком от мамы и хотела от нее скрыть свой поступок.
— Зато одну сандалию она сберегла, — говорит Лисабет. — Она прискакала домой на одной ножке. Правда же, Мадикен?
После этого мама узнала и все остальное.
Мама слушала молча, но у нее было такое выражение, точно она сейчас рассмеется.
— Да, нечего сказать, хороши у меня девочки! — говорит она наконец.
— Только не я, — говорит Лисабет. — Я не брала сандалии.
— Разумеется, ты не брала. Зато я должна передать тебе привет от бургомистерши. Вчера вечером я встретилась с ней в павильоне.
— Да ну ее! — говорит Лисабет. — Она же глупая.
Мама замолчала и долго ничего не говорила.
— Но ты нас все-таки любишь? — робко спросила Мадикен.
— Конечно, любит, — сказала Лисабет.
И мама с ней согласилась:
— Конечно же, я вас люблю! Что бы вы, две дурошлепки, ни натворили, это дела не изменит. Никогда, никогда в жизни!
Лисабет смеется и делает ангельское личико.
— Я так и знала, — говорит она и снова принимается стучать молотком.
Что значит — бедность беззащитна?
Недавно у Мадикен был разговор с папой о деньгах, он ей кое-что объяснил: например, что значит, когда у людей есть деньги и когда их нету. Он рассказал ей, что такое настоящая бедность, когда людям не на что бывает накормить своих детей. Папа сказал, что на свете много бедняков, некоторые из них пишут ему в газету и просят о помощи.
Иногда Мадикен после уроков забегает к папе в редакцию, где все завалено бумагами, заставлено баночками с клеем, ручками и ножницами. Однажды она нечаянно прочитала у него на столе такое письмо. Ах, что это было за письмо! Все только про болезни и разные неприятности, а кончалось оно словами: «Пишет Вам в горе и отчаянии человек, беззащитный в своей бедности».
Мадикен не совсем поняла, что это значит, но почувствовала, что ей было очень грустно это читать.
— Папа, а «беззащитный в своей бедности» — что это значит?
И папа объяснил, что при настоящей бедности человек как будто связан по рукам и ногам, и когда что-то случается — например, болезнь или какие-нибудь неприятности, та человек оказывается совершенно беззащитен.
Мадикен стало очень жалко бедных и беззащитных людей, и она потом много раз вспоминала об этом разговоре.
Взять хотя бы Альву, ей тоже очень хочется иметь побольше денег. «Ну почему, скажите, именно мне выпало на долю быть бедной, точно церковная мышь?» — говорит она.
«Ну уж про Альву, кажется, никак не скажешь, что она беззащитная», — думает Мадикен. К тому же Альва давно изобрела способ разбогатеть, и у нее, наверно, будет целая куча денег. Альва купила лотерейный билет, и Мадикен, будьте спокойны, от нее не отстала. Мадикен тоже не прочь заиметь кучу денег. Альва все устроила так, чтобы никто не узнал. Это у них с Альвой большой секрет. Мадикен взяла две кроны, которые ей подарила бабушка на день рождения. Бабушка сказала, что Мадикен может их истратить на что захочет. А разве можно придумать что-нибудь лучше лотерейного билета! Альва говорит, что скоро будет тираж и тогда по той бумажке можно будет получить деньги. Когда Мадикен это услыхала, она даже не поверила, что возможно такое чудо.
— А это точно? — спрашивает Мадикен. — Ты можешь сказать: «Черт меня побери, если это не так!»?
Мадикен считает, что именно так надо говорить, когда клянешься, что ты сказала правду. Хотя вообще-то поминать черта нельзя, это Мадикен давно знает.
Но Альва не может поклясться, что деньги непременно будут.
— И смотри, не вздумай на меня пенять, если мы не выиграем! — говорит она. — Помни, что ты сама меня просила.
Во всяком случае, у Альвы и Мадикен появилось теперь прекрасное развлечение. Уединившись вечером на кухне, они мечтают вдвоем, что они сделают, когда разживутся деньжатами.
— Если я выиграю главный приз, — говорит Альва, — то обещай мне, что ты на другой день придешь меня будить в шесть утра. И ты мне скажешь: «Вставай, Альва, подымайся и разводи огонь в плите!»
— А зачем это, Альва? — удивляется Мадикен.
— А затем, что я тогда скайсу: «А вот представь себе, и не встану!» Потом я перевернусь на другой бок и буду дальше спать.
Тут Мадикен даже перепугалась: вдруг Альва и правда получит главный приз и так разбогатеет, что не захочет больше оставаться в Юнибаккене! Это было бы очень скверно.
Мадикен взволнованно спрашивает Альву, что тогда будет. Но Альва только смеется на ее расспросы:
— Ну, что ты, золотко! Разве же я могу бросить тебя и Лисабет!
Однажды Мадикен пришла в Люгнет к Нильссонам посмотреть, что делает Аббе. Когда он заставил ее скакать домой на одной ножке, она потом долго на него сердилась, но Аббе оправдывался:
— Если бы ты знала, до чего же ты была смешная, ты бы не стала обижаться, что я над тобой посмеялся!
Нет, на Аббе невозможно долго сердиться.
Зато дядя Нильссон сегодня сердит не на шутку. Едва Мадикен вошла на кухню Нильссонов, как сразу же поняла, что они ссорятся. Конечно, как всегда, ссора началась из-за денег.
— Сам знаешь, если мы не заплатим, придется распрощаться с комодом, — говорит тетя Нильссон.
А дядя Нильссон, стукнув кулаком по столу, кричит:
— Ну да! Ну да! Это я уже слышал! Не глухой ведь, кажется!
Понемногу Мадикен начинает разбираться, о чем спор.
— Сегодня — платежный день, и надо рассчитываться с долгами, — говорит Аббе.
Уж тут Мадикен все поняла: дядя Нильссон еще давно, когда покупал Люгнет, занял денег у фабриканта Линда, и теперь Нильссоны должны возвращать фабриканту Линду по двести крон в год.
— Но ты же знаешь нашего папаню! — говорит Аббе.
Недавно господин Линд предупредил, что придет сегодня вечером за своими двумястами кронами, а если ничего не получит, то «взыщет их судебным порядком» или потребует «описать имущество для аукциона». Это что-то очень страшное, Мадикен раньше о таком и не слыхала. Оказывается, это значит, что, если дядя Нильссон не заплатит двести крон, у него отберут за долги комод. Неудивительно, что он такой сердитый! Он очень любит свой комод, это у них единственная стоящая вещь из всей обстановки. Комод достался Нильссонам еще от бабушкиной бабушки, которая завещала им рецепт крендельков.
— Пеняй на самого себя! — говорит тетя Нильссон. — Если бы не ты, мы бы так не обнищали. Ты сам тащишь последний грош в «Забегайку» и все проматываешь со своими дружками-пьянчужками.
«Забегайка» — захудалый кабак, в котором что ни день сидит и пьянствует дядя Нильссон, так говорит Линус Ида.
Напрасно тетя Нильссон так сказала. Дядя Нильссон, и без того сердитый, еще сильнее разозлился.
— И зачем только я женился на этом чучеле! — кричит дядя Нильссон и хлопает себя по лбу.
Тетя Нильссон сидит на кухонном диванчике и читает газету, но дядя Нильссон глядит на нее так, точно видит перед собой по крайней мере гадюку.
— Вот навязалась на мою шею! Неужели раньше ни одного балбеса не нашлось, чтобы захотел на тебе жениться?
— Как же не нашлось! Один нашелся, — спокойно отвечает тетя Нильссон.
Дядя Нильссон затрясся от возмущения:
— Почему ж ты за него не выскочила?!
А тетя Нильссон смеется:
— Вот именно, что выскочила!
Ответ тети Нильссон можно понимать: дядя Нильссон и есть тот балбес. Дяде Нильссону это совсем не понравилось.
— Я никому не позволю обзывать меня балбесом в моем собственном доме! — заорал он на тетю Нильссон.
Дядя Нильссон берет пиджак и шляпу и собирается уходить.
«И пускай себе идет! — подумала Мадикен. — Так даже лучше». Она боится, когда люди при ней скандалят.
— Куда это ты собрался? — спрашивает тетя Нильссон. Надо же, какая она бесстрашная!
Дядя Нильссон посмотрел на нее очень строго:
— Сколько раз я тебе говорил, что умная жена никогда не задает мужу таких вопросов!
— Ладно, ладно, — говорит тетя Нильссон. — Можешь передать привет своим дружкам-пропойцам.
Тут бы Мадикен перепугалась до беспамятства, если бы не Аббе. Но Аббе рядом, он преспокойно продолжает месить тесто. Аббе и ухом не ведет, хотя дядя Нильссон такой сердитый. Сейчас он перестал месить, собираясь кое-что сказать дяде Нильссону.
— Слушай, папаня! Как по-твоему, станет ли умный человек кричать на свою жену и скандалить напропалую? Разве так поступают умные люди?
«Какой храбрый Аббе, чтобы так вмешаться!» — думает Мадикен.
Дядя Нильссон уже взялся за дверную ручку, но при этих словах он оборачивается и печально качает головой:
— Сын мой! Умный человек никогда не женится. Намотай это себе на ус, пока не поздно!
— А ты у нас и впрямь дурачок, бедненький папанечка! — говорит ему Аббе.
Дядя Нильссон уходит.
Тетя Нильссон расстроилась, но, как всегда, заступается за дядю Нильссона.
— Все-таки его жалко, — говорит она. — Как-никак комод — самая лучшая вещь в доме. Поэтому он на меня и сердится.
— Ну уж нет! — говорит Аббе. — Самое лучшее, что у нас есть, — это ты, маманя. Хотя и ты иной раз глупишь не хуже папани.
— И то правда! Глупа я, конечно, — говорит тетя Нильссон и, немного подумав, прибавляет: — Да и ленива к тому же. Хотя, наверно, не настолько, как наш папаня.
Затем она снова углубляется в газету. Газету ей дает бесплатно папа Мадикен, и она прочитывает ее всю, не пропуская ни слова.
— Умный человек твой папа, — говорит она, обращаясь к Мадикен. — И ведь, поди ж ты, понимает нас, бедняков!
Но потом ей, как видно, попалось в газете что-то особенно интересное, она перестала разговаривать и углубилась в чтение.
Мадикен и Аббе пошли в комнату, чтобы взглянуть на комод. Он очень красивый, полированный, а сверху украшен мраморной доской.
— Прощай, комодик! — с грустью говорит Аббе.
Потом он ведет Мадикен посмотреть на кроликов. Клетка с кроликами стоит у дровяного сарая. Их там двое. Одного Аббе назвал Маманей, другого — Папаней. Папаня — бурый, а Маманя — серенькая. Скоро у них будут детки. Мадикен с нетерпением ждет, когда они появятся.
— Вот только, понимаешь ли, какая вышла закавыка! — говорит Аббе. — Крольчата будут не у Мамани, а у Папани. Ты расскажи это своему папе, пускай об этом напишут в газете. У меня и заголовок готов: «Чудо природы у Аббе Нильссона».
Мадикен спрашивает, не ошибся ли он, когда давал кроликам имена, и не лучше ли будет их переменить — Папаню назвать Маманей, а Маманю — Папаней. Но Аббе и слышать не хочет о таком предложении.
— Уж как назвал, так назвал! Что бы ты сказала, если бы твой папаня взял да и переменил твое имя на Карла-Фредерика?
Мадикен соглашается, что в этом бы не было ничего хорошего. Она помогает Аббе собирать для Папани и Мамани листья одуванчиков, и в самый разгар работы мимо них проходит тетя Нильссон, одетая в выходное платье.
— Я пошла в город, скоро вернусь, — говорит она, закрывая за собой калитку.
Аббе долго провожает ее глазами.
— Только бы она не вздумала тащить домой папаню, а то он нам потом весь дом разнесет!
Тут Мадикен опять вспомнила про комод и осторожно спросила Аббе, сильно ли он будет paсстраиваться, если комод придется отдать. Мадикен не хочет, чтобы Аббе расстраивался.
— Да чего уж там! Одним комодом больше или меньше — не все ли равно! — говорит Аббе.
Он усаживается на качели и начинает рассказывать о бесчисленных комодах, которые стояли у бабушкиной бабушки в графских покоях. Вот это была тетенька богатая так богатая! По словам Аббе, у нее все пальцы были унизаны бриллиантовыми перстнями. Когда она месила тесто для крендельков, то, бывало, потеряет несколько бриллиантов и даже не заметит, что они остались в тесте.
— Тесто, оно ведь липучее, — объясняет Аббе, чтобы Мадикен поняла, почему в нем терялись бриллианты.
— Какая-нибудь бабуся примется жевать кренделек и вдруг слышит — вставные зубы обо что-то хрустнули! Она думает: что такое? Выплюнет, а там драгоценный камень! Ну, бабка-то наша была не жадная. Люди несут ей бриллиант обратно, а она им говорит: «Оставьте себе! Уж что в тесто намешано, того обратно не берут. А бриллиантов у меня — что песку на берегу морском. Чего уж там жадничать!» Так вот и говорила.
С Аббе не соскучишься, и время с ним проходит быстро. Не успела Мадикен опомниться, глядь — тетя Нильссон уже и вернулась. Дядю Нильссона она не привела, зато принесла с собой два большущих пакета. Аббе и Мадикен бегут за нею на кухню — любопытно же узнать, что там такое. Но тетя Нильссон их гонит:
— Мне надо похозяйничать без вас. Я хочу приготовить кое-какое угощение. Мы давно ничего не видели, кроме селедки с картошкой, пора наконец побаловать себя для разнообразия чем-то другим.
— Откуда же ты взяла денег? — спрашивает Аббе.
— А это уж мое дело! — говорит тетя Нильссон.
Вид у нее очень довольный, и она спрашивает Мадикен, не хочет ли та сегодня поужинать в Люгнете.
— Сбегай-ка ты домой и спроси разрешения! — говорит тетя Нильссон.
Мадикен с удовольствием побежала спрашивать. Ее почти никогда не приглашали к столу у Аббе. Такое приглашение для нее приятная неожиданность, и мама тоже должна это понять, хотя она не любит, когда Мадикен ходит в гости к Нильссонам.
Мама не возражала. Она только пригладила Мадикен волосы, надела ей чистый передник и напомнила, что надо вести себя хорошо и не забыть сказать спасибо.
Радостная и полная нетерпеливого ожидания, Мадикен помчалась в гости к Нильссонам и возле их калитки с разбегу налетела на дядю Нильссона. Он возвращался домой трезвый и мрачный, словно и не ходил в пивную. По крайней мере, Мадикен не заметила в нем никакой перемены.
— Вся жизнь — борьба, — говорит дядя Нильссон. — Ты, Мадикен, этого еще не знаешь. А люди очень безжалостны. Ни один человек во всем городе не хочет одолжить каких-то паршивых двести крон, сколько ни проси и ни унижайся.
Он берет Мадикен за руку, и они вместе входят в кухню.
А там тетя Нильссон хлопочет у плиты, гремя кастрюлями и сковородками. Дяде Нильссону она приветливо кивнула:
— Хорошо, что ты пришел. Сейчас будем кушать.
И вот угощение на столе, да ёще какое! Такого пиршества Мадикен еще никогда не видывала в этом доме! Тут и телячьи отбивные в сливочном соусе, и омлет с грибами, и нежный картофель с солеными огурцами, и несколько сортов сыра, и пиво, и лимонад, а для дядюшки Нильссона еще и кое-что покрепче!
Дядя Нильссон выпучил глаза от удивления.
— Уж не рехнулась ли ты часом? — спрашивает он тётю Нильссон.
Но она говорит, что нет, мол, не рехнулась. И тогда у дяди Нильссона глаза разгорелись при виде богатого угощения, потому что он очень проголодался. Мадикен тоже проголодалась, и Аббе, сияя от удовольствия, сам положил ей на тарелку всего помногу — и омлета, и телячью котлетку.
— Вот так, — говорит он, — едали, бывало, в доме у бабушкиной бабушки.
Все уселись за стол и стали пировать, позабыв, кажется, про комод и про фабриканта Линда, который вот-вот должен прийти, чтобы испортить все удовольствие.
Когда все наелись, тетя Нильссон и говорит дяде Нильссону:
— Дай-ка мне свою тарелку!
Дядя Нильссон берет тарелку и хочет ей протянуть. Смотрит, а под тарелкой что-то лежит! Оказывается, это деньги — две бумажки по сто крон. Дядя Нильссон как увидел, так и ахнул:
— Ну и ну! Где же это ты ухитрилась взять взаймы?
— Это не взаймы! — говорит тетя Нильссон.
Дядя Нильссон строго на нее посмотрел и спрашивает:
— Уж не хочешь ли ты сказать, что украла деньги?.
На такую глупость тетя Нильссон и отвечать не стала. Но дядя Нильссон не отстает от нее. Он непременно хочет узнать, откуда у тети Нильссон взялись деньги. Наконец она говорит:
— Я запродала себя доктору Берглунду.
После этого наступает молчание. Потом дядя Нильссон как заорет:
— Так я и знал — рехнулась! Ты действительно рехнулась!
Тогда тетя Нильссон пускается в объяснения. Взяв газету, она пальцем показывает то место, где все ясно и четко написано.
— Если так делают в Стокгольме, отчего бы и мне не сделать! — говорит тетя Нильссон, а затем все узнают от нее, что же люди делают в Стокгольме. Там бедняки идут в больницу к докторам и продают свое тело для того, чтобы доктор мог его потом разрезать. Живых людей, конечно, никто не режет. Ты получаешь несколько сот крон и можешь их использовать при жизни, как тебе заблагорассудится, а когда умрешь, доктор получит твое тело. Докторам надо знать, как человек устроен внутри, чтобы не ошибиться, когда они будут делать больному операцию.
— Таким образом, я сделала доброе дело, — говорит тетя Нильссон. — Заодно я и сама наконец узнаю, отчего у меня в животе все крутит и крутит и почему он иногда болит.
Понемногу до дяди Нильссона дошло, что тетя Нильссон на этот раз додумалась до очень ловкого хода.
— И сколько же тебе заплатили? — спрашивает дядя Нильссон.
— Двести пятьдесят крон! Поэтому у меня хватило денег на котлеты и все остальное, да еще и осталось несколько десяток в запасе.
— Двести пятьдесят крон! Это же надо, какие деньжищи! — говорит дядя Нильссон. — Вот уж никогда бы не дал столько за мертвую старушонку!
Сказав это, он погладил тетю Нильссон по щечке.
— Но ты, конечно, другое дело! — говорит он. — Ты стоишь больше миллиона!
Может быть, тетя Нильссон и стоит миллион, но она довольна тем, сколько ей дали.
— Я и так неплохо получила за мое толстое и неповоротливое тело. Впрочем, теперь-то уж и не мое, если быть точной.
Дядя Нильссон очень доволен тетей Нильссон, он повеселел и оживился. Они сидят рядышком на диване, дядя Нильссон обнимает жену и поет ей песенку:
Как голубок к своей голубке В гнездо родное летит, Так и к тебе, мой свет, моя лилея, Твой друг спешит.Потом Аббе заводит граммофон и ставит пластинку с «Адольфиной», и дядя Нильссон приглашает тетю Нильссон танцевать. Он так ее закружил, что тетя Нильссон стукнулась головой о дверной косяк.
— Ты уж поаккуратней, Нильссон, — говорит ему тетя Нильссон. — А то Берглунд получит купленный товар раньше, чем я ожидала.
Мадикен сидит, притулившись в углу дивана, и смотрит, как они танцуют, но в душе она мечтает сейчас оказаться как можно дальше от этого дома. Только чтобы не видеть тетю Нильссон! Ведь то, что случилось, ужасно! «Неужели никто этого не понимает!» — думает Мадикен. Ужасно даже представить себе, что тетя Нильссон однажды умрет. Но еще ужаснее думать о том, что дядя Берглунд заберет ее тело и разрежет, чтобы посмотреть, что у нее там внутри! Тетя Нильссон частенько повторяла, что «бедняка ничего хорошего в жизни не ждет, одна надежда на честное погребение», а теперь ей и этой надежды не осталось. Мадикен в полном отчаянии. Когда она узнала, откуда взялись эти деньги, ей стало так тошно от съеденной котлеты, лучше бы уж, кажется, вырвало! Бедная, бедная тетя Нильссон! Вот, оказывается, что значат слова про беззащитную бедность и на какие поступки она толкает людей!
А тетя Нильссон танцует и радуется как ни в чем не бывало. В разгар веселья раздается стук в дверь и входит фабрикант Линд. Мадикен его раньше никогда не видала, но сейчас сразу догадалась, кто пришел. Именно такое выражение должно быть у человека, который способен забрать чужой комод.
— Я смотрю, у вас тут веселье! — говорит он недовольным голосом.
— Что ж! Иной раз не вредно и поразмяться, вот мы с женой и поплясали! — говорит дядя Нильссон. — А ты зачем пришел-то?
— Сам знаешь, — говорит Линд. — Добился наконец, что придется описывать твое имущество. Иначе, я вижу, от тебя никогда не дождешься денег.
— Вон как! Не дождешься, говоришь? — И с этими словами дядя Нильссон выгребает из кармана две мятые стокроновые бумажки. — За кого ты принимаешь Э. П. Нильссона, если думаешь, что он не наскребет такой завалящей суммы! Ты еще не знаешь Э. П. Нильссона!
Получив свои деньги, Линд торопится уйти. Дядя Нильссон провожает его на крыльцо и, чтобы Линд покрепче запомнил, втолковывает ему, какой молодец Э. П. Нильссон. Линд, наверно, долго еще не забудет того, что услышал.
В комнате стало тихо. Но вдруг снаружи послышался громкий голос дяди Нильссона:
— Идите-ка сюда, я вам покажу что-то красивое!
Тетя Нильссон выходит на крыльцо, за нею следом Аббе и Мадикен. Дядя Нильссон показывает пальцем на небо:
— Гляньте-ка туда!
Они взглянули вверх и увидели вечернюю звезду. Он сияла над дровяным сараем и переливалась бриллиантовым блеском, как перстни прабабушки, о которых рассказывал Аббе.
— Это — Венера, — говорит дядя Нильссон. — Так называется вечерняя звезда. Ты это знала, дорогая Мадикен?
Нет, дорогая Мадикен не знала, и тетя Нильссон тоже.
— Можно разглядывать звезды, это понятно. Я вот другого никак не пойму — откуда люди узнали их названия?
Ласково посмотрев на жену долгим взглядом, дядя Нильссон говорит:
— Как прекрасна твоя простота, котелок ты мой с мякиной!
Скоро приходит Альва, чтобы забрать домой загостившуюся Мадикен. Тетя Нильссон предлагает ей кренделек, и Альва с удовольствием принимает угощение. Но, выйдя от Нильссонов, Альва говорит:
— Ох, так бы, кажется, и взяла щетку да пять кило мыла и отчистила бы эту кухню! Прямо сплю и вижу, как бы я в ней навела порядок!
Когда Мадикен вернулась домой, Лисабет уже лежала в кроватке, но еще не спала, и Мадикен сразу же рассказала ей, какой невообразимый ужас ожидает тетю Нильссон после смерти.
— Разве ты слыхала когда-нибудь, что бывают такие кошмары? — спрашивает Мадикен у сестренки.
— Подумаешь! Она, может быть, никогда не помрет! — говорит Лисабет.
— Дурочка! Все люди когда-нибудь умирают, — отвечает Мадикен.
— А я так нет! — уверенно говорит Лисабет.
Но у Мадикен никак не идет из головы тетя Нильссон. Она лежит в постели и все вздыхает.
— О чем ты вздыхаешь? — спрашивает Лисабет.
— Я вздыхаю о том, что бедность так беззащитна, — говорит Мадикен.
Лисабет, конечно, ничегошеньки не поняла, а кроме того, ей давно уже хочется спать.
Ни завтра, ни послезавтра Мадикен не заходит в Люгнет. Она боится увидеть тетю Нильссон и старается не думать о том ужасном, что она узнала.
Однажды, возвращаясь из школы, Мадикен издалека увидела, что у калитки ее поджидает Альва. Она так сияла, что это было заметно даже издалека.
— Знаешь, что случилось, Мадикен? — спрашивает Альва.
— Наверно, ты выиграла главный приз, — отвечает Мадикен первое, что ей пришло в голову. С чего бы иначе Альва могла так обрадоваться?
— Да ну его совсем! — говорит Альва. — Не я выиграла, а ты. И целых триста крон! Разве я не говорила тебе, что денежки на тебя так и посыплются!
— Ой! — только и воскликнула Мадикен и даже вся раскраснелась.
Деньги Альва принесла в кармане передника. Она велела, чтобы Мадикен сразу их пересчитала и убедилась, что все на месте. Счет сошелся. Вот две сотенные бумажки да две по пятьдесят — всего триста крон. Никогда еще у Мадикен не было такого богатства.
Альва хохочет и кружит Мадикен, и говорит, что это счастливый день. А уж как мама и папа, наверно, обрадуются, когда узнают про удивительную удачу! Мадикен тоже так думает. Но ей кажется несправедливым, что Альва ничего не выиграла.
— Так уж устроена жизнь! — говорит Альва. — Одни выигрывают, другие — нет. Ничего не поделаешь!
Но вот что удивительно — Альва все равно рада!
— Ты можешь рассказать об этом за обедом, — предлагает Альва. — Только смотри, поосторожнее!
А то еще от неожиданности у папы с мамой кусок попадет не в то горло.
Мадикен смеется. Ведь и правда, будет здорово — сообщить за обедом эту потрясающую новость!
В эту самую минуту на улице показывается тетя Нильссон. Она ходила на рынок продавать крендельки, а сейчас возвращается домой в Люгнет. Тетя Нильссон идет медленно, и видно, она очень устала.
— Ну, как у вас, дела? — спрашивает Альва.
— Дело — дрянь! — говорит тетя Нильссон. — В животе опять так и крутит, а в чем причина, я и не знаю…
Тетя Нильссон скоро скрылась из виду. А Мадикен осталась стоять. Но вся ее радость словно улетучилась. Опять ей вспомнилось то ужасное, но теперь еще добавилось и другое беспокойство — что такое у тети Нильссон с животом? Отчего там ее все крутит? А вдруг это смертельно и можно умереть с минуты на минуту! И тогда…
Альва смотрит на Мадикен:
— Что это с тобой? Уж не захворала ли?
Мадикен не отвечает. Она задумалась. Додумав до конца, она говорит:
— Слушай, Альва! Маме и папа мы ничего не расскажем. Мне очень нужны деньги, но для чего — это секрет. Мне во что бы то ни стало нужны двести пятьдесят крон.
Альва не понимает:
— Выдумываешь ты все! Небось какая-нибудь глупость.
— Совсем не глупость, а что-то очень хорошее, — уверяет ее Мадикен. Но что это такое, она ни за что не соглашается сказать. Пришлось Альве отступиться.
— Как знаешь! Деньги твои, — говорит Альва, — и ты можешь поступать с ними как захочешь. Только не делай никаких глупостей, вот тебе мой совет.
Из пятидесяти крон, которые останутся после ее секретного дела, Мадикен половину собирается отдать Альве, чтобы все было по справедливости.
— Двадцать пять крон — это мой месячный заработок. Таких денег я не могу от тебя принять, — говорит Альва.
И все-таки она обрадовалась, и даже еще больше, чем сначала.
— Зато я знаю, что кто-то купит еще один лотерейный билет! — говорит она. — Я думаю, что в один прекрасный день я все-таки выиграю главный приз.
Когда Мадикен и Лисабет болеют, в Юнибаккен приходит доктор Берглунд лечить девочек, да и сами они много раз ходили в город к нему на прием. Поэтому Мадикен знает, где живет доктор Берглунд. И вот она решила к нему пойти.
Мадикен сидит в приемной и ждет, а в животе у нее все время так и крутит. Как объяснить дяде Берглунду, что обязательно нужно выкупить тетю Нильссон? А вдруг он не захочет! Может быть, он сейчас потирает руки от удовольствия, что сделал такое выгодное дельце!
Наконец Мадикен дождалась своей очереди и вошла в кабинет. Дядя Берглунд сидит за письменным столом. Он приветливый, как всегда, но Мадикен мнется и не знает, с чего начать. Однако выяснилось, что она напрасно боялась. Когда она, глотая подступающие слезы, наконец сумела выговорить свою просьбу, доктор Берглунд рассмеялся и сказал:
— Тетя Нильссон мне совсем не нужна ни живая, ни мертвая. Так что можешь забирать свои деньги и идти домой.
— Но почему же… — начинает Мадикен и тут же умолкает. Она вдруг поняла, что дядя Берглунд тоже кое-что знает про беззащитность бедных людей.
Но ведь тетя Нильссон-то не знает! Она же не знает, что дядя Берглунд согласился ее купить только по своей доброте. Наверное, ей это и в голову не приходило. А Мадикен хочет, чтобы тетя Нильссон спокойно жила в своем Люгнете, зная, что ее толстое и неповоротливое тело по-прежнему принадлежит ей самой, а не кому-то другому.
Поэтому нужно, чтобы дядя Берглунд взял у Мадикен эти бумажки, во что бы то ни стало взял!
В конце концов он согласился на уговоры. Правда, только после того, как Мадикен ему объяснила, откуда у нее взялись деньги.
— Ты добрая девочка и очень упрямая. Но уж такая ты, видно, уродилась! — сказал дядя Берглунд, взяв у нее две бумажки.
Теперь осталось упросить его еще об одном одолжении. Мадикен хочет получить квитанцию. Она объясняет, зачем ей это нужно:
— Чтобы тетя Нильссон была уверена, что все в порядке.
Дядя Берглунд сразу все понял. Он взял листок бумаги и написал:
Квитанция
От госпожи Маргариты Энгстрём мною
получено 250 крон. Означенной суммой
полностью погашен долг тети Нильссон.
Карл Берглунд, городской врач
Вечером Мадикен как на крыльях помчалась к Аббе. Ей очень повезло — Аббе в это время кормил своих кроликов. Мадикен стесняется идти со своим делом прямо к тете Нильссон. С Аббе ей гораздо проще объясниться. Она сует ему под нос квитанцию:
— Слушай, Аббе! Смотри-ка сюда!.. Я… я выкупила твою маму.
— Что там еще такое? — говорит Аббе.
Он сперва ничего не понял. Ему понадобилось несколько раз перечитывать квитанцию. Затем он взглянул на Мадикен так, как будто увидел ее в первый раз.
— Ну, Мадикен! Это же надо придумать такое!
Для верности он еще раз перечитал квитанцию, а затем взял Мадикен за руку и сказал ей спасибо.
— Какая ты добрая, Мадикен! Я прошу у тебя прощения за то, что заставил тогда скакать на одной ножке. Но впрочем, ведь и на твою долю, кажется, досталась телячья котлетка. Ты еще не забыла?
Нет! Этого Мадикен никогда не забудет.
— Маманя-то, чего доброго, от неожиданности грохнется в обморок, когда мы ей расскажем, — говорит Аббе. — Ну, пошли в дом!
Мадикен не хочет идти в дом, она боится увидеть, как тетя Нильссон грохнется в обморок. Но Аббе и слушать ничего не хочет:
— Ладно уж, не ломайся!
Он берет ее под локоть и тянет за собой в кухню.
За столом сидит тетя Нильссон и читает газету. Дядя Нильссон лежит на диване и отдыхает.
— Послушай-ка, Нильссон, это прямо для тебя написано, — говорит тетя Нильссон и читает вслух из газеты: — «Пока человек не женится, он и не догадывается, что такое настоящее счастье».
— Это точно! — говорит дядя Нильссон. — А после свадьбы жалеть уже поздно.
Но в эту минуту Аббе кладет перед мамой поверх газеты квитанцию. Не видя газетных строчек, тетя Нильссон читает, что написано в квитанции:
— «От госпожи Маргариты Энгстрём…» А это что такое, скажите на милость?
Не сразу тетя Нильссон поняла, какое дельце провернула Маргарита Энгстрем. Зато дядя Нильссон, он тотчас все понял. Соскочив с дивана, он в один миг очутился около Мадикен, наклонился и поцеловал ей ручку.
— У Юной барышни, гордости Юнибаккена, благородное сердце! — говорит дядя Нильссон.
После этого в кухне становится очень тихо. Тетя Нильссон легла головой на стол и плачет, слышны только ее всхлипывания.
— Да что же это ты, маманя! — говорит Аббе. — Чего же ты плачешь?
Наконец тетя Нильссон перестала, глубоко вздохнула напоследок, потом высморкалась и погладила рукой квитанцию:
— Сколько дней я тут мучилась и страдала, что не будет у меня честного погребения. Дорогая Мадикен, ангел ты мой! И как ты только догадалась!
Мадикен не знает, куда деваться от смущения. Ей совсем не хочется, чтобы все на нее смотрели и рассыпались в благодарностях.
— Я тебе понемногу выплачу эти деньги, — говорит тетя Нильссон. — По пятерке в месяц буду отдавать. Сумела же я заплатить в рассрочку за швейную машинку, значит, и за себя сумею рассчитаться!
— Человек предполагает… — начал дядя Нильссон и посмотрел на жену.
Она сидит перед ним такая толстая, неуклюжая, с таким зареванным и счастливым лицом, что дядя Нильссон, глядя на нее, не выдержал. В глазах у него появился лукавый блеск, и он сказал:
— Слушай-ка, маманя! Ведь это значит, что на будущий год, когда Линд снова потребует от нас денег, тебя снова можно выгодно продать!
Но тут вступается Аббе:
— Нет уж, дудки, папанечка! На будущий год мы лучше продадим тебя, если повезет найти покупателя!
Мамин день рождения
Каждый год в день маминого рождения папа ведет все свое семейство фотографироваться к фотографу Бакману. Рассмешив их всякими шуточками, чтобы все смотрели весело, господин Бакман залезает с головой под большое черное покрывало, которым накрыт фотоаппарат, и оттуда командует:
— Теперь не двигаться! Смотрите сюда, дети! Сейчас отсюда вылетит птичка! Раз, два, три!
Птичка еще ни разу не вылетала. Этому привычному обману даже Лисабет перестала верить. Потом они получают семейную фотографию, с которой смотрит семья, совсем не похожая на ту, какую они привыкли видеть дома.
Фотографию мама вставляет в альбом с золотой застежкой и зеленым плюшевым переплетом, который хранится на книжном шкафу. Иногда Мадикен достает его и просматривает фотографии. Там она видит себя годовалую, двухлетнюю, трехлетнюю и так далее до семи лет.
— Вообще-то я даже представить себе не могу, что была когда-то такой крошкой, — говорит Мадикен, показывая на себя двухлетнюю.
— А я вот представляю, — говорит Лисабет. — Ха-ха! Ты была тогда еще меньше, чем я теперь.
Они сидят у Альвы на кухне. Сегодня Альва что-то печет, потому что завтра у мамы опять день рождения. В честь него завтра ей подадут кофе и вензель с кардамоном прямо в постель, как только она проснется.
Альбом лежит на кухонном диване, на всякий случай под него подстелили полотенце. Девочки стоят перед ним на коленках и со всей осторожностью рассматривают фотографии — с таким роскошным альбомом нужно обращаться бережно.
Лисабет не понимает — отчего ее нет рядом на карточках, на которых Мадикен снята годовалой и двухлетней малюткой.
— Тебя и не могло там быть, ты тогда еще не родилась! Тогда в Юнибаккене еще не было никакого Пимсика, — говорит Мадикен. — Тебя тогда вообще не было на свете.
— Вот дурочка! Я была, — говорит Лисабет. — Я просто не захотела сидеть рядом с младенцем вроде тебя. И я ушла в ларек за леденцами.
— Да ну тебя! Ты еще скажи: «Была, да сплыла». Тоже мне, Пимсик несчастный! — дразнится Мадикен, покатываясь от хохота.
Лисабет из себя выходит от обиды. Альва принимается ее утешать и говорит, что она тогда была ангелочком и жила на небе. Услышав это, Лисабет просияла:
— Да! Я была ангелочком, а иногда летала в ларек за леденцами, и все другие ангелы на небе радовались, когда я прилетала обратно с полным карманом леденцов, чтобы всем хватило.
«Здорово Лисабет это придумала! — думает Мадикен. — Из этого получится хорошая игра».
— Слушай! А давай играть, как будто мы с тобой обе еще не родились, живем на небе и угощаем других ангелов леденцами.
— Леденцами и мятными лепешками! — радостно предлагает Лисабет.
И вот Мадикен и. Лисабет на несколько часов превратились в добрых ангелов-хранителей. Они ухаживают за маленькими ангелочками на небе и каждые пятнадцать минут кормят их леденцами и мятными лепешками.
Потом они попросили у Альвы два кусочка теста и испекли два крошечных вензелька для своих любимчиков — самых маленьких ангелочков Альмиры и Пальмиры. Но когда Альва вынула вензельки из духовки, они оказались настолько соблазнительными, что Лисабет не удержалась и сразу съела свой вензелек.
— Мой ангелочек не любит вензелей с кардамоном, — объяснила Лисабет и, чтобы Пальмира не обижалась, накидала ей вместо вензеля целую горсть воображаемых леденцов, которые та, по словам Лисабет, просто обожает.
В этом году мамин день рождения пришелся на воскресенье, это очень здорово. За целый день можно напраздноваться до полного удовлетворения. В воскресенье Альва встала спозаранку, нарвала фиалок и сплела два веночка для Лисабет и Мадикен, а когда надела им на головки и увидела, как они стоят перед нею с веночками и в белых ночных рубашечках, она подумала, что девочки и впрямь похожи на ангелочков.
— Ну вот. Только крылышек еще не хватает! — говорит Альва.
Альва помогла девочкам вышить для мамы салфетку. Получилось очень красиво, хотя, если приглядеться, можно отличить, где крестики, которые вышила Лисабет, где те, которые вышила Мадикен, и где — Альвины. Альвиных — больше, но это не считается. Салфетка аккуратно завернута в красивую бумагу.
Папа, конечно, тоже встал рано. Он приготовил для мамы много пакетиков и большой букет роз. Розы он принес вчера из города и припрятал до утра в подвале.
Все вместе они отправляются к маминой спальне: папа с букетом роз, Мадикен и Лисабет несут пакеты, а Альва держит перед собой поднос с кофейником и вензелем. Появившись на пороге, они запели:
Вот пришли мы к нашей миленькой Кайсе, Чтоб так крепко обнять, Как мы любим ее. Так — тралля-ля-ля-ля, Так — тралля-ля-ля-ля! Так крепко обнять, Как мы любим ее!Мама сидит на кровати и весело смеется. Сразу видно, что сегодня она себя не жалеет. Сегодня выдался хороший денек, и погода, как всегда, прекрасная.
— И как это ты умудряешься добиться, что в твой день рождения всегда бывает хорошая погода? — удивляется папа.
— Все очень просто, звоню Деду Тучегону и заказываю у него по телефону десять мешков солнечного света, — говорит мама.
Дед Тучегон может послать любую погоду. По крайней мере, так думает Лисабет. Но Мадикен смеется. Она-то уж знает, что Дед Тучегон есть только в сказке, которую мама иногда рассказывает девочкам на ночь.
Но как бы там ни было, а погода с утра стоит прекрасная, и неважно, кто ее наколдовал. А теперь пора одеваться во все самое нарядное и отправляться к Бакману.
Ателье фотографа Бакмана находится в Кожевенном переулке. Он работает без выходных, фотографирует и в будние дни, и в воскресенье. Но сегодня к Бакману нужно успеть пораньше. Потом он уйдет удить рыбу — это его любимое воскресное развлечение.
Неторопливым шагом все четверо — мама, папа, Мадикен и Лисабет — идут по городу. Улицы еще безлюдны, воздух по-утреннему прохладен, но день, по-видимому, будет жаркий, уже сейчас чувствуется, как припекает солнце.
Вот показался домик Линус Иды — самый маленький во всем городе. Мадикен высматривает, не покажется ли ее лицо в окошке с алыми геранями, но Ида так и не выглянула. Наверное, она еще не проснулась. Только шмели уже проснулись и гудят среди пионов в ее палисаднике. Мадикен и Лисабет с удовольствием заглянули бы к Линус Иде на минутку и послушали бы, как она играет на гитаре. Но им сейчас некогда, потому что надо успеть сфотографироваться.
А вот и богадельня. Там уже никто не спит. Несколько маленьких старушек выглядывают из окон на тихую воскресную улицу. Мадикен и Лисабет помахали им рукой, и старушки тоже помахали в ответ.
— Они мне нравятся, — говорит Лисабет. — Особенно я люблю Нанну Нютт, она такая смешная, когда плачет.
— Ну как тебе не стыдно! — говорит Мадикен. — Нанна Нютт ведь не виновата, что она такая странная.
— А разве я говорю, что она виновата? — говорит Лисабет.
Мама напоминает девочкам, чтобы они никогда не называли этот дом богадельней, надо говорить — «дом престарелых». Это его правильное название.
— А люди все равно говорят «богадельня», сколько им ни объясняй! — говорит Мадикен.
Жалко всех, кто здесь живет, думает Мадикен. А больше всех жалко Линдквиста, потому что он немного тронутый в уме и ни с кем не может поладить. Он живет отдельно, в маленькой лачужке, на задворках, и к нему никто не ходит, все его боятся, кроме директрисы, хотя Линдквист почти всегда ведет себя смирно и вежливо. Только изредка он делается злой и тогда сам не знает, что творит. Поэтому, если Линдквист выходит на улицу, все запираются в домах, а мамы учат своих детей удирать от Линдквиста, как только он покажется. Ведь Линдквист — ужасный силач, и кто знает, что он может выкинуть, когда на него найдет помешательство.
Папа говорит, что Линдквист раньше был не таким. Когда-то у него была жена и маленький ребеночек, но однажды его жена бросилась с ребеночком в реку, и они оба утонули. Когда Линдквист это узнал, то пришел в страшное отчаяние, он от горя потерял разум. С тех пор он и начал чудить.
В глухом деревянном заборе, которым окружена богадельня, есть дырочка, и можно видеть домик на задворках, в котором живет Линдквист. Мадикен и Лисабет с трепетом заглянули в нее и скорее побежали догонять папу и маму.
Вскоре им встретилась фрёкен Йенни, портниха, которая обшивает девочек. Мама задержалась с ней поболтать, Мадикен тоже остановилась, чтобы послушать, какое платье ей сошьют для экзаменов, а Лисабет пошла дальше, за папой, который не спеша продолжал путь.
А у дверей фотографа Бакмана оказалось, что Лисабет куда-то пропала и ее нигде нет.
— Ну что за девчонка! — говорит папа и качает головой.
Вся семья ждет, но младшенькая не появляется. Стали искать — никак не находят! Стали звать — никакого ответа.
Но тут вдруг…
— Глядите, вон же она! — кричит Мадикен, показывая пальцем.
Из калитки в глухом заборе богадельни выходит Лисабет. Но она идет не одна. Она идет с Линдквистом, он крепко держит ее ручку в своей огромной ручище.
— Я тут! — закричала Лисабет еще издалека.
Линдквист немного похож на Юльтомте. У него большая белая борода и белые волосы почти до плеч. Действительно, можно подумать, что Лисабет идет с Дедом Морозом.
Но мама, завидя этого Юльтомте, побледнела и протянула руки к Лисабет:
— Иди сюда! Скорее!
Лисабет спешит на мамин зов. Но и Линдквист тоже, держа Лисабет за руку.
— Вот я увидел маленького человечка, — говорит Линдквист и как будто Усмехается себе в бороду.
— Пустите, мне надо идти! — говорит Лисабет и пытается выдернуть у него свою руку. Но не тут-то было. Линдквист ее не отпускает.
— Пустите же, мне надо к маме! — говорит Лисабет и вырывается еще сильней.
Но Линдквист только крепче сжимает ее ручонку. Посмотрев сначала на Лисабет, потом на маму, потом на Мадикен, он нахмурил брови. Видно, он что-то обдумывает.
— Послушай, женщина! У тебя же есть еще один ребенок, — говорит он маме. — А у меня нет ни одного. Я возьму ее себе. Должна же быть справедливость на свете!
Тут Лисабет принимается плакать и кричать. Еще немного, и папа кинулся бы на Линдквиста, чтобы отнять свою дочку. Но мама его остановила.
— Тише, Лисабет! — говорит мама строго.
Лисабет стихает, но еще всхлипывает. А мама подходит к Линдквисту и гладит его по щеке.
— Я понимаю вас, господин Линдквист, вам хочется иметь ребеночка. Но ведь эта девочка — моя дочка, и теперь я хочу попросить вас, чтобы вы мне ее отдали.
— Не отдам я ее тебе, — говорит Линдквист.
Папа снова порывается кинуться на Линдквиста, и снова мама его удерживает. Подумав немного, она открыла сумку и вынула какой-то пакетик.
— Не хотите ли угоститься жареным миндалем, господин Линдквист? — спрашивает мама. — Или вот еще пряниками, — предлагает она ему, доставая второй пакетик.
Мама протягивает Линдквисту пакетики — один в левой руке, другой в правой. Линдквисту хочется попробовать и миндаля, и пряников, но, чтобы взять это угощение, надо иметь свободные руки. Внезапно освободившись, Лисабет с громким ревом кидается к папе, он подхватывает ее, и вот уже она сидит высоко на руках у папы. Здесь ее никто не достанет!
— Пожалуйста, господин Линдквист, оставьте себе оба пакетика, — говорит мама и снова гладит его по щеке. — До свиданья, господин Линдквист!
— Я тут увидел маленького человечка… — бормочет Линдквист с набитым ртом. Он сразу же принялся жевать и миндаль, и пряники.
Так он и остался стоять посреди улицы, грызя миндаль и провожая взглядом маленького человечка. Когда человечек скрылся из виду, он бросил пакетики и закричал:
— Господи Иисусе! Помоги мне!
Бедняга Бакман! Он-то думал, что сейчас усадит все семейство и заставит их с веселым выражением на лицах смотреть туда, откуда должна вылететь птичка! Но сколько он ни старался всех рассмешить, ничего не получилось. Мама сидит бледная и взволнованная. Мадикен и плачет от жалости к бедному Линдквисту, у которого нет ребеночка, и злится на него за то, что он хотел забрать себе Лисабет. А Лисабет насупилась, как только она умеет. Бакман, несмотря на все уловки, так и не добился от нее веселой улыбки.
— Нет уж, сегодня — ни за что! — сказала Лисабет по дороге домой. — Уж если мне не весело, значит, я не буду веселиться. Значит, я буду печальной и никто меня не развеселит! Вот и все!
Да и как же не быть печальной, пережив такую передрягу, а все из-за того, что захотела посмотреть на дом, в котором живет Линдквист! Лисабет никак не ожидала, что он может выйти и заметить ее.
— Если бы я знала, ни за что бы не заглянула! — убежденно говорит Лисабет.
— Вот погоди, — говорит Мадикен, — мы придем на лужайку с одуванчиками, и у тебя пройдет плохое настроение. Хочешь верь — хочешь не верь!
Лисабет поверила и даже заулыбалась.
— Жаль только, что этот глупый Линдквист слопал весь наш миндаль и пряники, которые мы хотели взять на пикник! — говорит она с сожалением.
Каждый год в мамин день рождения в их семье принято устраивать пикник на лужайке с одуванчиками, неподалеку от фермы Аппелькюллен.
Мадикен считает, что это, наверно, одно из самых прекрасных мест на земле. На этой лужайке цветут тысячи одуванчиков и растут две высокие березы, по которым можно полазить. А еще там есть огромный валун, на него тоже можно залезать. Конечно, если только умеючи! Под валуном живет страшный тролль, Мадикен столько раз рассказывала о нем сестре, что Лисабет в него поверила, да и сама Мадикен, кажется, тоже слегка верит. Две березы да Камень троллей, и кругом — море одуванчиков.
Самое замечательное, что туда можно доплыть по реке. В Юнибаккене садишься в лодку, отчаливаешь от мостков, потом долго-долго плывешь, огибая излучины и заводи, и вдруг видишь перед собой лужайку.
Не дождавшись, когда папа втащит лодку на берег, Мадикен и Лисабет выскакивают и — бегом к одуванчикам.
— И чем вы там полдня занимаетесь до самого вечера? — спросил однажды Аббе.
— Да тем, чем всегда занимаются на пикнике, — ответила Мадикен.
Аббе так ничего и не понял. Ведь Аббе не знал, что люди делают на пикнике. Мадикен могла бы рассказать, что на пикнике люди лазают на березку, купаются в реке, собирают одуванчики, играют, сидят на траве и едят бутерброды, что мама там играет на лютне, которую она всегда берет с собой, что они вместе поют, а папа делает им свистульки, что Мадикен и Лисабет кувыркаются в траве, пьют лимонад и пляшут танец троллей вокруг огромного камня… И как это Аббе не знает, что люди делают на пикнике?
Когда они вернулись от фотографа, у Альвы уже была приготовлена корзинка со съестными припасами.
— Ну, как? Удачно сфотографировались? — спрашивает Альва.
И мама ей отвечает, что сегодняшний снимок, наверно, получится таким, что от одного взгляда на него можно будет упасть в обморок, и рассказывает Альве, отчего так получилось.
— Надо же было такому случиться! — говорит Альва, обнимая Лисабет. — Какой дурак этот Линдквист! Но его можно понять, если он захотел забрать тебя, мое золотце!
— Меня-то да, а ее он не захотел взять! — хвастается Лисабет, кивая на Мадикен.
Тогда Альва и ее заключила в объятия.
— А вот я бы и нашу Мадикен тоже взяла! Потому что Мадикен — моя радость и мое солнышко, большая моя девочка! И не сомневайся, моя миленькая!
Но ехать на пикник Альва наотрез отказалась:
— Я лучше вздремну! Поспать — самое милое дело для такой сони, как я!
— И вовсе ты не соня! — возмущается Мадикен.
— Не соня ты, — говорит Лисабет. — Ты — моя Альва!
Потом Мадикен и Лисабет немного поспорили о том, чья же все-таки Альва, и наконец сели в лодку. А Альва осталась на мостках и помахала им на прощание. Рядом с ней стоял Сассо. Сассо уверен, что Альва — это его Альва, и поэтому он обязан за нею приглядывать и не может отлучиться, чтобы поехать на пикник.
Ну скажите — разве лужайка с одуванчиками не стала еще красивее, чем была в прошлом году? Девочки не помнят, чтобы тогда было так много одуванчиков и чтобы березы были такими ярко-зелеными, как сейчас, и мама с ними соглашается. А папа говорит:
— Наверно, сюда упал с неба кусочек райского сада да так и остался навсегда рядом с выгоном Петруса Карлссона.
Мадикен очень понравилась папина мысль, что лужайка упала с неба из райского сада, и девочки решили после купания поиграть в Адама и Еву.
— Понимаешь, — объясняет Мадикен сестре, — ведь мы тогда обе будем голенькие. Только, чур, я буду Адамом…
— А я буду змеей, — говорит Лисабет и принимается изображать змею.
— Ладно, потом увидим, как получится, — говорит Мадикен.
Она уже давно решила про себя, что Лисабет должна быть Евой, только на это она и годится. Зато Мадикен будет и Адамом, и змеей. Одна береза будет древом познания, Мадикен залезет на нее и обовьется вокруг ветки, и будет искушать Еву булочкой, потому что яблоки еще не поспели.
Но сперва все идут купаться. Мадикен первая залезла в воду. Ах, какая же вода ласковая и прохладная, какая она прекрасная в этом году! Мадикен успела несколько раз сплавать до другого берега и обратно, прежде чем Лисабет с писком и визгом наконец окунулась. Папа плавает, посадив ее себе на закорки, потому что Лисабет еще не умеет плавать.
— А вот и умею! Я просто сейчас не хочу, — говорит Лисабет. — А на будущий год, может быть, захочу и поплаваю.
После купания выясняется, что Лисабет не желает изображать Еву в раю. Она вовсе не собирается во всем поддакивать сестре. Пускай не воображает, что может всегда командовать!
— Я буду сама по себе змеей, — говорит Лисабет. — Я буду ползать в траве и жалить всех подряд.
Залезть на березу она тоже не соглашается, во всяком случае не хочет забираться повыше.
— Я не сумасшедшая, чтобы лазить на такое дерево! — заявляет Лисабет, глядя на сестру, которая забралась почти на самую макушку.
Мама тоже беспокоится, глядя на нее, но папа говорит:
— Не надо ей мешать! Все будет в порядке.
Мадикен прекрасно справляется. Она сама подсадила маленькую Лисабет на Камень троллей, а потом они стали собирать одуванчики для мамы и набрали большущие букеты. Пока они резвились, папа лежал, растянувшись на траве и закрыв лицо соломенной шляпой, а мама сидела рядом, и играла на лютне, и пела для папы песни.
Мамины песни не такие захватывающие, как песни Линус Иды. В них не рассказывается про деток, которые умирают, и пап, которые пьют горькую, а только все про любовь и вообще про что-нибудь красивое. Мама спела «Сагу сердца», потом «Крылатая птичка в просторе небес, куда хочу, я летаю». Ой, до чего же это красиво! Мадикен чувствует, как от маминого пения в ней заиграла жизнь. Но тут мама сказала, что пора всем подкрепиться, и Мадикен сразу почувствовала, что проголодалась, а все остальное забылось.
В ту самую минуту, когда мама хотела открыть корзинку с едой, Лисабет показала пальцем на загородку и сказала:
— А вон к нам идут коровки!
Так оно и было, только это шли не коровки, а пятеро бычков Карлссона. Наверно, они отправились к реке на водопой.
— Ничего! — сказал папа. — Они совсем еще телята!
Но мама перепугалась и сказала, что Петрус Карлссон мог бы получше запирать ворота своего выгона.
— Как ты не понимаешь! Скотине ведь надо ходить на водопой! — объяснил папа.
Но только телята у Карлссона какие-то очень уж буйные, они прямиком несутся к «древу познания», под сенью которого мама хотела разложить еду. Папа так на них закричал и замахал руками, что они остановились и удивленно уставились на него. Разве можно спокойно поесть, когда рядом стоят пятеро бычков и упорно вас разглядывают? Поэтому папа сорвал ветку и пошел их отгонять. Но не тут-то было! Бычки не желают отступать. Наверно, они считали эту лужайку своей. А самый рослый бычок, должно быть, уже понял, что скоро он вырастет и станет настоящим свирепым и грозным быком. Наверно, он сейчас об этом и подумал, потому что он вдруг наклонил рога и сердито всхрапнул. Совсем не по-телячьи! Бычок сначала попятился, чтобы получше разбежаться, и ринулся в бой. Папа прыгнул, как заправский тореадор, и еле увернулся от острых рогов. Тут уж мама, и Мадикен, и Лисабет испугались прямо до смерти. Не хватало, чтобы сейчас перед ними разыгрался бой быков! Они закричали что было мочи:
— Беги, папа, беги!
И папа побежал. Теперь он тоже догадался, что попал в опасную переделку. Потому что все бычки будто взбесились и каждый норовил подцепить его на рога.
— Скорей полезайте все на березы! — закричал на бегу папа.
Мадикен и Лисабет, рыдая и всхлипывая, полезли на «древо познания», а мама схватила зонтик и хотела спасать папу, за которым мчались бычки.
Тут папа как заорет на маму:
— Сказано тебе, лезь на березу!
Мама послушалась и полезла. Не так-то просто залезть на «древо познания» в длинной юбке. Но рядом росла еще одна береза, более удобная для лазания, на нее мама кое-как взобралась. Мама влезла на дерево вместе с лютней. Лютня для нее — сокровище, и она не хочет, чтобы ее растоптали быки.
Мадикен и Лисабет сидят на разных ветвях «древа познания» и, обливаясь слезами, голосят.
«Мама, мама, мама!» — только и слышно с их дерева. Очень им страшно за папу. Наконец папа рванулся вперед, бычки от него отстали, и он с разбегу прыг к маме на дерево. А под ним вокруг березы столпились быки и удивленно смотрят — куда же это он вдруг подевался!
Мадикен и Лисабет еще немного поревели, потому что сразу разве остановишься, и наконец затихли. Главное, что папа спасся, а быкам так и надо, пускай себе топчутся сколько угодно и пялят глаза — до папы им все равно не достать!
Папа никогда раньше не ругался, но тут он заругался так, что хоть уши затыкай, и даже сказал быкам:
— Будь у меня ружье, я бы сейчас вас всех перестрелял!
Папа отер пот со лба, взглянул на маму и улыбнулся:
— Ну что, испугалась?
— Еще бы! Второго такого дня рождения я больше не вынесу. Сначала Линдквист, а потом еще это! — сказала мама, показывая на бычков, которые топтались под березой, и бодали ствол, и ревели, не собираясь уходить. — Теперь нам тут сидеть и сидеть до самой осени. А по осени, может быть, придет Петрус Карлссон и заберет их в хлев зимовать.
Услышав о таком ужасе, Лисабет на «древе познания» опять ударилась в рев. Зато у Мадикен сладко защекотало внутри: подумать только! Ведь как это, наверно, здорово — все лето прожить на дереве! Какой необычайный пикник получился в этом году — не пикник, а настоящее приключение! Оправившись от страха, Мадикен даже обрадовалась. Для нее дело привычное — устраивать пикник где-нибудь на верхотуре. Достаточно вспомнить, как они с Лисабет устроили экскурсию на крышу сарая!
Но когда люди ездят на пикник, они всегда что-нибудь едят, просто так сидеть на дереве — голодно… Так и есть — корзинка с едой осталась внизу под березой. Но как до нее добраться, когда ее сторожит стадо злобных быков? Этот вопрос очень занимает Мадикен. А что, если быстро-быстро спуститься вниз и схватить корзинку, пока никто не успеет опомниться? Надо захватить всех врасплох — и быков, и маму. Главное — маму. Иначе мама ни за что не позволит, сообразила Мадикен. Мадикен тяжко вздыхает и голодными глазами впивается в корзинку.
И тут она проделала все, как задумала. Быстро-быстро спустилась и быстро-быстро залезла обратно, подхватив корзинку. И никто даже не заметил. Никто, кроме Лисабет.
— Ты с ума сошла, Мадикен! — говорит Лисабет.
Но она тоже сильно проголодалась, а для голодного человека ничего нет важнее корзинки с едой.
Выбрав на дереве надежную развилку, Мадикен крепко втиснула туда корзинку, затем открыла крышку и заглянула внутрь. Внутри было все, что полагается.
Мадикен и Лисабет принимаются изучать аккуратненькие свертки, которые уложила Альва. Там есть чудеснейшие бутерброды с жареной телятиной, и с ветчиной, и с сыром, и тоненькие сладкие блинчики, там есть и лимонад для Мадикен и Лисабет, и пиво для папы и мамы, и целая уйма булочек, и полный кофейник кофе, который папа и мама должны были разогреть на костре, — обо всем позаботилась Альва! Одного только она не могла предугадать — что им придется сидеть на дереве.
— Мы с Лисабет решили поесть! — громко объявляет Мадикен. А Лисабет, не теряя времени даром, уже вгрызается в бутерброд с телятиной.
На соседней березе это заявление было встречено с большим удивлением и некоторой завистью.
— Не понимаю! Каким же образом… — начинает папа.
Но тут его перебивает мама:
— Какая несправедливость! Ведь как-никак это же мой день рождения. Неужели я так и буду сидеть голодная?
Нет! Это и дочкам совсем не нравится. Но как тут помочь?
— Идите к нам! — предлагает Лисабет.
Мама, взглянув на быков, вздрогнула. Нет уж!
Пускай она лучше останется голодной, но с березы не спустится!
— Как ты думаешь, Мадикен, — говорит папа, — сможешь ты докинуть до нас парочку бутербродов?
Мадикен и Лисабет заулыбались до ушей. Вот это забава так забава!
— Только ты уж сначала хорошенько прицелься! — предупреждает папа, когда Мадикен собралась кидать.
И Мадикен кидает метко. Один за другим полетели пакетики — бутерброды с ветчиной, бутерброды с телятиной. И все долетели, папа только успевал ловить. Всего два пакетика упали к бычкам, и те их растоптали. Что с них возьмешь, с дурачков!
Потом Мадикен хотела перебросить папе бутылки с пивом, но папа не разрешил — бросаться бутылками слишком опасно.
— Хотя ужасно хочется пить! У меня все во рту пересохло, — говорит папа.
Бедный папа! Как обидно, что здесь есть две бутылки пива, а у папы с мамой нет ни одной. Мадикен немножко подумала, а находчивости ей не занимать. Линус Ида говорит, что Мадикен скора на выдумки. Не успеет, дескать, поросенок глазом моргнуть, как она уже придумает новую проказу. Она и сейчас мигом все сообразила. Мадикен порылась в своем кармашке. Так и есть — нашлась бечевка! Мадикен — запасливая.
И вот что она придумала сделать. Если привязать к бутылке веревочку и подвесить на подходящей ветке, а потом хорошенько размахнуться, бутылка будет качаться, как маятник.
— А папа уж как-нибудь ее поймает, — объясняет Мадикен сестре, которая не сразу поняла, что затеяла Мадикен.
С такой дочерью папа не пропадет от жажды! Ему, правда, пришлось далеко тянуться за бутылкой, и он чуть было не свалился к бычкам, но все кончилось благополучно, и папа по очереди поймал обе бутылки, которые прилетели к нему на веревочке.
И тогда на березах пошел пир горой. Все наелись, напились, выпили за мамино здоровье, кто пива, а кто и лимонаду, пропели ей долгие лета, так что быки под деревом ошалели от удивления. Папа помахал им бутербродом с ветчиной и крикнул:
— Столы с угощением накрыты в зеленой гостиной! Тому, кто хочет отведать, придется подняться наверх!
— Нет уж! Лучше не надо! — сказала Мадикен и порадовалась, что быки не лазают по деревьям.
А как приятно здесь пировать! Лучшего места, чтобы справлять день рождения, нарочно не придумаешь! Сидишь, словно в зеленой комнате с прозрачными светло-зелеными занавесками. Занавески тихонько колышутся, и в листве прыгают солнечные зайчики. Все освещено особенным, нежным светом, от которого блинчики кажутся еще вкуснее. Мадикен спрашивает у Лисабет, как ей это нравится. И Лисабет говорит, что очень. Она уже не думает, что лазать по высоким деревьям — это одно сплошное сумасшествие.
Но когда было покончено с угощением, настал конец веселью. Ну и скукотища — сидеть и ждать, когда можно будет спуститься на землю. До чего упрямые быки! Неужели им никогда не надоест караулить? Время от времени они по одному ходят к реке попить, а потом возвращаются и снова терпеливо несут свою стражу.
Мама попробовала было отпугнуть их пением и музыкой. Взяв лютню, она запела: «Крылатая птичка в просторе небес, куда хочу, я летаю…»
— Вот хорошо бы! — говорит папа. — Слетай-ка ты на ферму Аппелькюллен да скажи Петрусу Карлссону, чтобы он приходил поскорее!
В эту минуту раздался первый раскат грома, пленники заметили, что со стороны фермы надвигается большая сизая туча.
Над лужайкой еще светит солнце, но скоро туча нависнет прямо над головой.
— Да уж, — говорит мама, — гром, и дождь, и быки, и Линквист! Остренькая приправа для дня рождения!
Но ничего не поделаешь! Остается только сидеть на ветках и бессильно наблюдать, как все ближе надвигается стена дождя. Сверкнула молния, и сразу так бабахнуло, что Лисабет снова расхныкалась.
— Признайся, Кайса, о чем ты там договаривалась со Старичком Тучегоном? — обращается к маме папа. — Мне помнится, ты говорила, что заказала солнечный денек!
Как раз тут Мадикен вспомнила очень важную вещь:
— Папа, а учительница говорила нам, что во время грозы нельзя стоять под деревом…
— Совершенно верно, — говорит папа. — Но быки об этом, как видно, не слыхали.
— Да, но ведь сидеть на дереве, наверно, еще опаснее? — высказывает Мадикен свою догадку.
— Может быть, и так, — говорит папа. — Но нам отсюда никуда не деться. Попробуй договориться с быками!
Затем хлынул ливень. Молнии засверкали, гром загремел так, что у них дух перехватило. Разразилась такая страшная гроза, что мама побледнела, а Лисабет громко зарыдала от страха. Мадикен тоже чувствует страх, конечно, ей страшно! Но в глубине души она, несмотря на испуг, чувствует, что в ней живет еще и другая Мадикен, и эта вторая Мадикен до жути наслаждается тем грозным и прекрасным, опасным и величественным, что творится вокруг нее. В этот миг Мадикен опять почувствовала, как играет в ней жизнь.
Иное дело — Лисабет.
— Мама! — вопит Лисабет. — Мамочка, я хочу домой!
Мадикен крепко обнимает ее и утешает как может:
— Не плачь, Лисабет, моя маленькая! Сейчас все пройдет.
И гроза проходит. Почти так же внезапно, как началась. Как будто Старик Тучегон взял в руки метлу и разогнал все, тучи. Небо поголубело, и вся лужайка засверкала, словно ее только что опустили на землю из райского сада.
Но Лисабет все равно недовольна. Она промокла до нитки, замерзла и устала сидеть на ветке.
— Хочу домой! — кричит она. И даже говорит: — У-у, чертовы быки!
Только что так говорил папа. Значит, можно повторить, и зря Линус Ида пугает, что если будешь чертыхаться, то попадешь в ад.
— Слыхал, Юнас? — говорит мама укоризненно.
Но тут их отвлекло новое событие. Быки, которые всю грозу простояли не шелохнувшись под березами, внезапно сорвались с места и галопом помчались на свой выгон. Они бежали так, точно за ними кто-то гнался. Папа вдруг захохотал:
— Это их овод прогнал. Так им и надо!
Не дожидаясь, когда последний бычок скроется за воротами выгона, все четверо, насквозь мокрые и продрогшие, слезли с берез, очень довольные, что наконец-то ступили на землю. Но Мадикен и Лисабет до того продрогли в мокрых платьицах, что у них зуб на зуб не попадает. Это никуда не годится, говорит мама. Из огромной клеенчатой сумки она вынимает теплые курточки и махровую простыню и, прежде чем сесть в лодку, одевает девочек и вместе с ними закутывается в простыню. Только папа остается в чем был. Он говорит, что согреется, когда будет грести.
— Главное, чтобы не простудились мои три девочки, — говорит папа.
Мадикен и Лисабет сидят на корме, им очень хорошо, они всем на свете довольны. Хороша река, хорошо тихо плыть в лодке мимо зеленых берегов, окаймленных кудрявыми деревьями, под которыми проплываешь, как по зеленому коридору. В воде играют блики вечернего солнца, и вдалеке небо озарено красным закатным светом.
— Какой у тебя получился чудесный день рождения, мамочка, — говорит Мадикен.
— Действительно, прекрасный, — соглашается мама.
— Вот только сидеть на дереве… — говорит Лисабет. — Слушай, папа, а кто такой овод?
И папа начинает объяснять, что овод — это противная кусачая муха, которая сосет кровь у коров, и быков, и телят. Поэтому они его боятся и, как только заслышат его жужжание, пускаются в бегство, будто за ними погнался лев.
— Как нам повезло, что прилетел овод! — говорит Мадикен.
У папы вдруг замерли весла, и он перестал грести, о чем-то задумавшись. Потом он сказал:
— Какой же я, в сущности, жалкий слабак! Линдквиста усмирила жареным миндалем наша мама, а какая-то несчастная маленькая мушка отогнала от меня быков, когда я торчал на дереве. Да что же я за такой жалкий слабак!
— Совсем ты не слабак! — в один голос воскликнули все три папины девочки, утешая папу. А Мадикен сразу придумала для него в утешение песенку:
Вот пришли мы к нашему Дорогому папочке. А наш папа не тюфяк! Никакой он не слабак! И тралля-ля-ля-ля, И тралля-ля-ля-ля, Никакой он не слабак! Наш папуля — не тюфяк!Лисабет ликует — как здорово придумала Мадикен!
— Назовем эту песню «Песней про слабака» и споем ее папе на день рождения!
И они стали петь «Песню про слабака» очень громко, и пели ее снова и снова, пока папа не сказал, что больше его не надо утешать.
— Спасибо, — сказал папа. — С меня достаточно!
И вот уже показались мостки Юнибаккена. На мостках стоял Сассо и лаял. Теперь ему, наверно, самому жалко, что не поехал вместе с ними. Едва Мадикен выбралась на мостик, как он запрыгал вокруг нее и заскулил.
— Но ты же ведь сам захотел остаться дома с Альвой. Ты разве забыл? — спросила Мадикен. — Вот если бы ты с нами поехал, то мог бы сегодня погонять быков.
— А так вместо тебя их гонял господин овод, — сказала Лисабет.
Мия
«После воскресенья может наступить только понедельник», — любит повторять папа. И сегодня опять понедельник. Опять надо идти в школу. А вставать что-то совсем не хочется. Однако ничего не поделаешь — надо поторапливаться. В школу нельзя опаздывать. Однажды Мадикен опоздала, и это было просто ужасно — стоять перед закрытой дверью и слушать, как дети поют утренний псалом[32], а когда пение кончилось, ей пришлось постучать и войти. Все уставились на Мадикен и, что хуже всего, увидели, что она плакала. Но учительница ни капельки не заругалась, а только спросила:
— Что с тобой? У тебя, может быть, живот болит?
Мадикен очень любит свою учительницу, и ей нравится школа. Все бы хорошо, если бы не эта дурочка Мия!
Мадикен рассказывает папе про Мию. Утром они с папой почти всегда вместе выходят из дома, потому что папе нужно идти в газету. И прежде чем расстаться на углу возле кондитерской, они очень о многом успевают друг с другом поговорить.
— Я же ей ничего не сделала! — говорит Мадикен. — А она все равно на меня нападает, она вообще на всех нападает, но больше всех на меня.
— А кто такая Мия? Это та рыженькая девочка, которая живет рядом с Линус Идой? — спрашивает папа.
— Да! Они обе рыжие и вшивые — и Мия, и ее сестра. От Мии вши даже на парту выползают.
Мадикен сердится, потому что даже думать о Мии не может спокойно, — она не забыла, как Мия обидела ее на Майском костре.
— Я не удивлюсь, если в один прекрасный день и у меня заведутся вши! Эта Мия сидит сзади и дергает меня за волосы, когда учительница отвернется.
— Какая ужасная девочка эта Мия! — говорит папа. — Ну а ты что тогда делаешь?
— И я ее толкаю… Ну конечно, когда не видит учительница.
— Вот как у вас! — говорит папа.
— А представляешь себе, что она однажды сделала на рисовании? Учительница сказала, чтобы мы рисовали, кто что хочет, — можно домик или кошку, или папу и маму, и вообще что угодно. А Мия и говорит: «Мы слишком бедные люди, и нам папа не по карману!» Такую глупость сказала! Правда, папа?
Но папа не поддержал дочку:
— Мне кажется, что Мию, скорее всего, надо пожалеть. А как по-твоему?
— Ну вот еще! Она же просто совсем глупая! — говорит Мадикен.
Мадикен не рассказала папе только одного — что Мия все время дразнит ее Виктором. Этот толстый мальчик Виктор часто угощает Мадикен конфетами. Но Мии-то какое до этого дело!
«Ишь, какой у тебя шикарный, жирный жених!» — говорит Мия. Мадикен ужасно злится, но, как ни странно, не только на Мию, но и на Виктора, хотя он тихо сидит за своей партой у окна и только исподтишка поглядывает на Мадикен.
— Ну, чего ты глаза пялишь? — спрашивает его иногда Мадикен.
— А тебе-то что! — отвечает Виктор и делается весь красный.
А Мия-то сразу догадалась, в чем тут дело:
— Ха-ха! Он же в тебя влюбился! Вон он какой шикарный, жирный! Ты небось рада-радешенька!
— Ты самая глупая девчонка во всей школе! — говорит Мадикен, и она действительно так думает.
Сегодня понедельник, и первым уроком должен быть Закон Божий. По этому предмету Мадикен хорошо учится, а все благодаря Линус Иде. Линус Ида часто приходит в Юнибаккен стирать и мыть полы, и между делом она рассказывает девочкам увлекательные истории из Библии. Истории про Давида и Голиафа, про Моисея в тростниках и про Иосифа в колодце, и про троих юношей в горящей печи, и про Даниила в львином рву, и про противного царя Ирода, который приказал убить в Иудейской земле всех маленьких мальчиков, когда Иисус был еще младенцем. Все эти истории Мадикен не раз уже слышала и не раз проливала над ними слезы. А больше всего Мадикен плачет, когда Линус Ида рассказывает ей, как жестокие и гадкие люди мучили бедного Иисуса, как они его били и повесили на кресте, а он все сносил кротко и терпеливо.
— Уж они его терзали и мучили немилосердно! А он хоть бы ойкнул разок! Ни слова не сказал! — уверяет Линус Ида.
Еще она рассказывала об аде и о том, какие страсти там ожидают тех несчастных, которые плохо вели себя на земле. Но эти рассказы мама строго-настрого запретила Линус Иде. Мама говорит, что никакого ада нет.
— Ладно, ладно! — грозится Линус Ида. — Вот погодите, как придет Судный день, тогда и поглядим, право слово!
Судный день — очень страшный. Когда он придет, мертвые восстанут из могил, и Бог будет всех судить — кому отправляться на небо, а кому в ад. Мадикен дрожит при одной мысли об ужасах ада, а Лисабет говорит:
— Раз мама сказала, значит, ада нет!
Линус Ида упорно продолжает верить в Судный день и в ад, а когда мама ее уговаривает, чтобы она поменьше работала и дала бы себе немножко отдыха, Линус Ида отвечает:
— Вот положат меня в могилу, тогда и отдохну. Хотя кто его знает, придется ли? Может быть, не успеют похоронить, как на следующий день грянет Страшный Суд и надо будет моим старым косточкам подыматься не отдохнувши!
Однако благодаря Линус Иде Мадикен лучше всех в классе знает Закон Божий. Теперь уже недолго осталось до летних каникул, и учительница повторяет с детьми все, что они выучили за год из библейской истории, чтобы они не осрамились на экзамене, когда их ответы будут слушать мамы и папы.
Сегодня на уроке первый вопрос достается Мадикен. Ей нужно рассказать о том, как Бог создал мир и сделал всех птиц, и рыб, и зверей, как потом из комка глины вылепил самого первого человека.
— Это был Адам, — отвечает Мадикен.
Мадикен могла бы рассказывать и дальше сколько угодно, но учительница велела продолжать Мии.
— Ну, Мия! Что после этого сделал Бог? — спрашивает она.
А Мия забыла и никак не может вспомнить, что там они такое учили. Она стоит возле парты и смотрит в окно, словно ей никакого дела нет до Адама.
Учительница все равно говорит с ней терпеливо и приветливо.
— Что сделал Бог после того, как он вылепил из глины Адама? — повторяет она свой вопрос. — Ты же наверняка это знаешь!
— Наверно, поставил сушиться, так я думаю, — говорит Мия недовольным голосом.
Тут Мадикен прыснула со смеху, а Мия на нее разозлилась. Но Мадикен этого даже не заметила.
Потому что опять спросили ее, и надо было дать правильный ответ.
— Бог вдохнул в Адама свой дух через нос, и тогда он ожил.
Во время первой перемены Мия подошла к Мадикен:
— Вот я сейчас как дуну тебе в нос, жаба противная!
С этими словами Мия накинулась на Мадикен, и они подрались. Весь класс собрался вокруг них поглазеть на драку.
— Давай, Мадикен! Так ее! — кричали почти все дети.
Но это несправедливо, потому что Мадикен сильнее и ее не нужно подзадоривать, она бы и без того справилась с Мией.
Но вдруг стало тихо. Никто не кричит: «Давай, Мадикен!» Мадикен и оглянуться не успела, как чья-то крепкая рука схватила ее за шиворот. Это был старший учитель. Мадикен узнала его, хотя увидала только его огромные ботинки и длинные ноги. Боязливо подняв глаза, она увидела его строгое лицо. Другой рукой он держит за шиворот Мию. Мия отчаянно ревет.
— Девочки, и деретесь! — говорит учитель. Он сказал это с таким выражением, будто ничего хуже и быть не может. А затем потребовал, чтобы ему непременно сказали, из-за чего началась драка. Ни Мадикен, ни Мия и сами не знают, с чего все началось. Но учитель продолжает настаивать, и Мадикен робко говорит:
— Из-за… из-за Адама, мне кажется.
Старший учитель посмотрел на Мадикен так, словно впервые увидел ее, хотя он много раз бывал в Юнибаккене.
— Гм! — только и произнес учитель. Затем он посмотрел на Мию: — А тебя я уже давно заметил. Смотри, как бы мне не пришлось всерьез с тобой разобраться!
Но тут зазвенел звонок и кончилась перемена. Нужно было возвращаться в класс.
Мадикен сидит за партой и думает: «Почему он со мной не захотел всерьез разобраться, а только с Мией?» Ей кажется, что это несправедливо. Старший учитель не нравится ей, и никогда не нравился, а сейчас он стал ей совсем противен. Она догадалась, в чем дело. У Мадикен папа работает в газете, и старший учитель, наверно, не хочет портить с ним отношения. А у Мии папы нет, с ней можно разбираться всерьез, и ничего ему за это не будет.
Мадикен все еще сердита на Мию, и ее раздражает, что Мию приходится невольно жалеть. Но ведь нельзя же поступать так несправедливо, как старший учитель! Мадикен решает попробовать быть с Мией поласковей. Если сумеет.
Однако ничего у нее не получилось. Все рухнуло уже на следующий день.
— Все вы тут трусы, по-моему, — говорит Мия. — Одна я храбрая!
Так она сказала во время завтрака. Все, кто живет далеко и не успевает сбегать домой, приносят завтрак с собой и, сидя в коридоре, жуют бутерброды, пьют молоко, делятся новостями и, как правило, очень хорошо проводят время. Мия живет недалеко от школы, но домой все равно не уходит и бутербродов с собой тоже не приносит. «Зато она такая и худющая», — думает Мадикен. Она ведь решила быть с Мией поласковей.
— Хочешь вот этого? — спрашивает Мадикен и протягивает Мии бутерброд с колбасой.
Взглянув на Мадикен и на бутерброд, Мия презрительно засмеялась:
— Скорее уж я соглашусь съесть яду. Подавись своим бутербродом, жаба противная!
— Ты — самая глупая девчонка в школе! — говорит Мадикен, а про себя решает, что ни за что на свете не будет ласково разговаривать с Мией.
Неразговорчивый Виктор на этот раз пристал к Мии с расспросами: в чем ее храбрость?
— Послушай, вшивая Мия! Что ты такого сделала, чтобы хвастаться храбростью? Может быть, ты пяток вшей раздавила?
Все хохочут. Одна Мадикен молчит. Мадикен не хочет принимать помощь от Виктора, ни за что на свете! Если надо, она и сама управится с Мией.
— Интересно бы узнать, кто из вас в классе самый большой трус! — говорит Мия. — Ты, Мадикен, или твой толстый глупый жених?
Тут Виктор — бац — и стукнул Мию. Сильно. Прямо по лицу. Но Мия только презрительно усмехается. Можно подумать, что она ничего не почувствовала.
— Смотрите, какой храбрый! — говорит она. — Драться всякий может, а вот… — Мия замолчала и подумала. — А вот залезть на крышу и пройтись по самому верху не держась, это только я могу…
— Вот еще! — говорит Мадикен. — Может быть, думаешь, я не сумею?
Она сказала это сразу, не успев подумать, и тут же пожалела о своих словах. Действительно, что особенного — пройтись по крыше! Мадикен не раз забиралась на крышу сарая. Но школьная крыша — совсем другое дело! Ведь на втором этаже живет старший учитель, и нужно быть смельчаком, чтобы пройтись по крыше над его головой.
— Не боишься, говоришь? — отвечает Мия. — А ты сперва докажи, иначе я не поверю!
Вообще-то ни Мии, ни Мадикен очень не хочется лезть на крышу. Но слово сказано, и теперь надо доказать делом.
Конечно, сперва надо дождаться, когда кончатся уроки и все уйдут по домам. Днем старший учитель обыкновенно ложится на часок соснуть. Это всем известно. Существует строгое правило, чтобы после трех часов никто не оставался в школе и не шумел на школьном дворе, потому что в три часа учитель отдыхает. Старшего учителя все боятся и слушаются беспрекословно. А впрочем, кому же охота задерживаться в школе даже на минуту после уроков!
Как только прозвенел последний звонок, все ребятишки гурьбой помчались к калитке, и школьный двор сразу опустел.
Остались только Мадикен и Мия. А кроме них Виктор да еще два мальчика. Их зовут Аксель и Элоф.
— Надо посмотреть, неужели они и вправду такие сумасшедшие! — говорит Виктор.
И Виктор, и остальные ребята ни секунды не сомневались, что Мадикен и Мия не осмелятся залезть на крышу. О таких безумных затеях они еще никогда не слыхали.
— А эти девчонки — обе какие-то странные. Кто их знает, что они выкинут, — сказал Аксель.
— Да. С них станется, — согласился Элоф.
Вот проходит учительница, она тоже собралась домой, но увидела, что во дворе еще стоят дети.
— Вы еще здесь? — спрашивает она. — Чего вы тут дожидаетесь?
— Так, ничего особенного, — отвечает Мадикен.
Не могла же она сказать: «Мы ждем, когда заснет старший учитель». А именно этого они и ждут.
— Бегите-ка скорее домой! До свиданья, завтра увидимся! — прощается учительница и уходит.
На стене школьного здания есть пожарная лестница, которая ведет на крышу. Она сделана для того, чтобы старший учитель и его семья могли выбраться из дома, если случится пожар, а вовсе не для того, чтобы Мадикен или другие дети забирались на крышу.
— Ну, что же ты? Полезай, что ли! — говорит Мия. — Или ты испугалась, жабинька? Тогда так и скажи!
— Придержи-ка ты лучше язык! — говорит Мадикен. — А то сейчас как дам по кумполу! Посмотришь, как тебя будут потом из-под земли откапывать.
Однажды она такие слова слышала от Аббе, а теперь они ей и пригодились. По Мии видно, что даже на нее эти слова произвели впечатление, потому что она заговорила уже гораздо тише:
— Ну, так кто полезет первым?
— Давай посчитаемся, — отвечает Мадикен и говорит считалочку:
Кинул царь Давид — Копье летит, В кого попадает, Тот вылетает.Вылетела Мия, и первой должна забираться на крышу Мадикен. А ей не хочется. Она животом чувствует, что не хочет. Однако надо. Вон Мия уже ухмыляется. Небось решила, что Мадикен испугалась.
Залитый солнцем школьный двор замер в молчании. Такой славный двор, окруженный зелеными деревьями! Обычно здесь так и кишит детвора, все бегают, играют. А сейчас такая тишина, что даже жутко становится. Это потому, что никого нет. Только Мия и Виктор, и Аксель, и Элоф. Они стоят в тени под старой липой и ждут, когда Мадикен полезет по лестнице. А по лестнице всем строго-настрого запрещено лазить. Мадикен тихонько вздохнула и поглядела вверх, на крышу. Зеленая крыша сверкает на солнце железными боками высоко между небом и землей. А между ее крутыми скатами, как раз около пожарной лестницы, открыто окно учительской квартиры. Вдруг кто-нибудь выглянет и увидит ее на лестнице? Мадикен пожалела, что она сейчас не дома. Как хорошо было бы играть в Юнибаккене с Лисабет! А она стоит на школьном дворе и собирается сделать такое, чего ей самой совсем не хочется.
— Ха-ха! Испугалась? Эх ты! Так я и знала! — говорит Мия.
И Мадикен полезла. Сперва медленно, потом быстрее. Вот уже она добралась до открытого окошка и на всякий случай заглядывает в него. К счастью, там никого нет. Мадикен немного задержалась на ступеньке. Интересно ведь посмотреть, что делается в чужой комнате! У окна стоит письменный стол, на нем стопка голубых учебников арифметики, стоят часы, лежит бумажник, кошелек и связка ключей, на столе — фотографии в рамках, но они повернуты в другую сторону. Мадикен замечает некрасивые обои на стенах, видит кресло-качалку, а в самой глубине — диван. Ой! Караул! На диване лежит учитель! От испуга Мадикен чуть было не свалилась с лестницы. У нее все задрожало внутри, а ноги стали будто ватные. Мадикен совсем растерялась и не знает, что делать. Она смотрит как завороженная на учителя и ждет, что сейчас над нею разразится гроза.
Но учитель громко храпит, может быть, грозу и пронесет, надо только поскорее убраться подальше. На что решиться?
Лезть вверх или вниз? Ей-то хочется вниз, больше всего хочется! Но Мадикен вспоминает насмешливую гримасу Мии. Если она повернет назад, Мия её совсем засмеет. Нет, назад нельзя! Тем более она уже забралась так высоко. Надо лезть на крышу. И пускай рядом спит старший учитель, все равно ничего не поделаешь, надо только помолиться Богу, чтобы он не проснулся. И хотя сердце готово выскочить из груди, Мадикен лезет вверх.
Вот и залезла. Она встала на крыше во весь рост. Ой, какая высота! Их сарай в Юнибаккене — сущий пустяк. Теперь предстоит пройти по самому гребню из конца в конец и обратно. С ума сойти, да и только! И надо же было Мии выдумать такую глупость!
Однако хоть ты тут с ума сойди, а идти надо. И Мадикен делает первый шаг. Вот и отлично. Ноги и тело прекрасно сами собой держат равновесие. Смотрите, люди! Вот идет Юная барышня — гордость Юнибаккена. Идет как ни в чем не бывало и ничего не боится! Мадикен идет словно по паркету и даже почти забыла про старшего учителя. Но она все время помнит, что снизу на нее смотрят дети. Ей это даже приятно: «Ну, что скажешь, Мия? Выкусила?»
Когда Мадикен спустилась на землю, Мия ничего не сказала. Но Виктор, и Аксель, и Элоф глядят на нее во все глаза. Они восхищаются тем, что проделала Мадикен, она это чувствует и очень довольна собой.
— А теперь твой черед, Миечка — вшивая девочка, — говорит она. — Поторапливайся, пока не проснулся учитель! Он спит там в комнате!
— Ах так? Ну тогда я войду к нему и серьезно с ним разберусь! — говорит Мия.
На самом деле она чувствует себя не слишком уверенно, храбрость-то ее показная. Но все-таки идет к лестнице и начинает карабкаться вверх, а Мадикен стоит внизу и смотрит. Со стороны похоже, как будто по стене ползет муха. Ноги Мии в черных чулочках кажутся такими худенькими, и так жутко зияет открытое окно! Мадикен становится страшно за Мию, ей хочется крикнуть, чтобы Мия вернулась, пока не поздно. Ведь это же просто глупая затея! А что будет, если учитель проснется? Бедная Мия!
Но Мия уже долезла до окна и дальше не торопится. Наверно, учитель еще спит, иначе она бы не посмела так долго там задерживаться.
— А вдруг она правда так и сделает! — говорит Виктор.
— Что сделает? — спрашивает Мадикен.
— Влезет в окно и разберется с ним по-серьезному. С нее станется, она совсем бешеная! — говорит Виктор, который тоже недолюбливает старшего учителя.
Мальчишки смеются, а Мадикен — нет. Она молча с бьющимся сердцем смотрит на ползущую муху, то есть на Мию, которая карабкается по лестнице, приближаясь к крыше.
И вот она уже взобралась на самый верх, залезла на крышу и выпрямилась во весь рост. Она с торжеством помахала рукой ребятам, затем с большой осторожностью сделала первый шажок и сразу же пошатнулась. Какой ужас! Вот-вот Мия сорвется и грохнется вниз! Она же падает! Испуганный стон вырывается у Мадикен. Охнули от страха Виктор и другие ребята. Всем четверым страшно.
Но затем они увидели, как Мия уселась на крыше, и облегченно вздохнули. Долго там сидела Мия. А когда спустилась к ним, была белая как полотно, но такая же дерзкая и бойкая. Подойдя к Мадикен, она говорит:
— У меня всегда башка кружится с голодухи, так что сегодня мое дело — дрянь! Прощай, жабинька!
И Мия на тоненьких ножках зашагала к калитке, а ребята так и остались стоять, глядя ей вслед.
— Глупее девчонки во всей школе не найдется! — говорит Мадикен и, помахав мальчикам, бегом пускается прочь. Надо спешить, ей давно пора быть дома.
Йенни уже там и ждет ее. Она пришла, чтобы примерить Мадикен платье, которое шьется к экзамену. Платье будет из белого гипюра, на чехле. Розовая материя будет просвечивать сквозь дырочки — Мадикен очень любит маму за то, что она заказала такое дивное платьице, хотя и говорила, что для Мадикен лучше было бы сделать новую матроску с матросской шапочкой.
— У тебя же другой тип внешности, понимаешь? — объясняла мама.
Но Мадикен не желает быть девочкой того типа, о котором говорит мама. Она хочет носить кружевную шляпку, украшенную розочками из алого шелка. И кружевная шляпка ей тоже обещана.
— Я же понимаю, что эта вещь для тебя блаженство, — говорит мама.
Блаженством Мадикен называет те подарки, которые так восхитительны, что невозможно передать никакими словами. Блаженство достается не часто. Иногда, если тебе повезет, его находишь среди рождественских подарков или на день рождения. Ни по каким другим случаям блаженств не бывает. Однако новая шляпка — это блаженство, тут мама не ошиблась.
Но и Лисабет тоже обожает получать в подарок какое-нибудь «блаженство». Увидев на Мадикен новую шляпку, она поднимает горестный вой и не прекращает его, пока мама не отправляется с ней в модную лавку на улице Сторгатан, чтобы и для нее купить такую же шляпку.
Лисабет возвращается с обновкой. Ее золотистая кудрявая головка увенчана белой кружевной шляпкой с алыми розочками. Она с гордостью рассказывает сестре:
— На площади мы повстречали трубочиста. Он сказал, что я — первая красотка в нашем городе!
— Правильно, — говорит Мадикен и целует сестренку в щечку. — Ты у нас — самая красивая!
Мадикен радуется, что у нее такая хорошенькая сестричка. О своей красоте она особенно не заботится. Главное, что у нее ёсть для экзамена кружевное платье и шляпка с розочками, а все остальное не так уж важно.
Но экзамен еще не подоспел, и за это время многое случилось.
На другой день после хождения по крыше Мия, придя в школу, стала угощать весь класс шоколадными трюфелями. Так еще никто у них в классе не шикарил, тем более Мия. У нее раньше никогда не видели и простого леденца. А теперь она явилась с большущим кульком и с такой щедростью всех угощает! Она даже к Мадикен подошла с угощением, и Мадикен, хотя и не забыла обиду, все-таки потянулась за конфеткой — уж очень это заманчиво поесть шоколаду! Но не успела она вынуть конфету, как Мия отдернула кулек.
— Нет уж! У тебя небось хватает денег, жабинька. Как-нибудь сама купишь себе шоколаду!
Раньше незаметно было, чтобы кто-нибудь из детей дружил с Мией. А вот с шоколадными трюфелями все сразу подружились, и дети толпились вокруг нее, пока не зазвенел звонок. Даже Анна-Лиса, девочка, которая сидит за одной партой с Мадикен и должна была бы с ней держаться заодно, сейчас сосет шоколадку. Именно эта девочка неожиданно спросила у Мии:
— И откуда только у тебя взялись деньги?
— От моего папы, из Стокгольма, — говорит Мия.
Никто до сих пор не слыхал от Мии ни про какого папу. Но Мия говорит:
— А что? Папа есть и живет в Стокгольме. А теперь вот и деньжат прислал, давно пора было.
Еще Мия купила закладки с красивыми ангелочками, она их всем показывает и налево и направо одаривает детей ангелочками. Разумеется, всех, кроме Мадикен. А Мадикен и не хочет, ей они не нужны. И Мия ей совсем надоела.
— Поглядите-ка на этого миленького ангелочка! Точь-в-точь как моя сестренка Маттис. — Мия очень довольна, что ее сестренка похожа на ангела, и хочет, чтобы все посмотрели эту картинку. Она даже принесла с собой фотокарточку, чтобы можно было сравнивать.
— И ты можешь посмотреть, жабинька! — говорит она и сует Мадикен под нос маленькую замусоленную карточку. На карточке сразу можно узнать Мию и Маттис по растрепанным волосам. Однако про Маттис все-таки нельзя сказать, что она похожа на ангела.
— Конечно, тебе просто завидно, — говорит Мия. — Да и понятно почему: у тебя-то сестренка настоящая уродина.
Одну за другой Мия раздарила все закладки с ангелочками. И только ангела, похожего на Маттис, она оставила себе и спрятала вместе с карточкой.
— Этого ангелочка я никому на свете ни за что не отдам, потому что он самый красивый из всех! — воскликнула Мия. — Но если вы хорошо будете себя вести, я завтра куплю вам леденцов.
Тут звенит звонок, и дети парами входят в класс.
После утреннего псалма учительница им говорит:
— Скажите, дети, не попадался ли кому-нибудь из вас кошелек старшего учителя? Он говорит, что где-то его вчера потерял. Большой коричневый кошелек. Не видал ли его кто-нибудь?
Мадикен видела. Кошелек лежал на столе в комнате учителя. Но учительнице этого не скажешь. Ну и растяпа этот учитель! Спал-спал, а потом, наверно, куда-нибудь пошел и посеял свой несчастный кошелек. Мадикен его нисколечко не жалеет.
Учительница попросила всех поискать кошелек, и дети на перемене занялись поисками. Все искали, а Мия вдруг говорит:
— Лучше бы держал свои вещи в порядке, как все добрые люди!
Мия и не подумала искать. Вместо этого она полезла на липу, а потом носилась по двору и бесилась, вообще была страшно веселая. «Наверно, потому, что папа прислал ей так много денег», — подумала Мадикен.
А на другой день Мия не принесла никаких леденцов. Потому что у Мии потерялся кошелек. Вот неудача! Совсем как у учителя.
— Мой тоже был коричневый, — рассказывает Мия. — А если найдете, принесите мне. Смотрите, не забудьте отдать!
И вот сегодня действительно-таки нашелся чей-то коричневый кошелек. Он лежал под липой. Нашел мальчик из другого класса, в котором преподавал старший учитель. Мальчик не знал, что Мия тоже потеряла кошелек, и отнес находку своему учителю.
В классе, где учится Мадикен, последний урок — чистописание. Дети сидят и пыхтят над тетрадями, стараясь писать красиво, как в прописях. Вдруг открывается дверь, и в класс входит старший учитель. Он подходит к учительнице и показывает ей какую-то вещь. Что это было, никто не видел, потому что он стоял к детям спиной. Учитель и учительница долго ее разглядывали и о чем-то переговаривались. Затем учительница с озабоченным выражением взглянула на Мию и тихо сказала:
— Вон там она сидит!
Старший учитель впился глазами в Мию:
— Поди-ка сюда! Я тебе говорю, лохматая девочка.
Мия медленно подходит.
— Ты это видела? — спрашивает он и показывает Мии коричневый кошелек. Мадикен узнала его с первого взгляда.
Мия не отвечает. Она смотрит в окно, как в тот раз, когда надо было отвечать про Адама.
— Посмотри на меня! — гаркнул на нее учитель. — И объясни-ка мне, как в мой кошелек попала эта фотокарточка и вот это!
И он высоко, чтобы все видели, поднимает перед классом закладку с ангелочком и фотокарточку, на которой снята Маттис.
Весь класс притих. Дети застыли за партами, затаив дыхание.
— Ты здесь оставила один пятак. Это очень любезно с твоей стороны, — говорит учитель. — Но теперь я хочу услышать, что ты сделала с остальными деньгами, которые тут были.
Мия не желает говорить решительно ничего. Она молчит как убитая, сколько ее ни терзает расспросами старший учитель, а он настойчиво добивается ответа.
— Она купила трюфелей, — говорит наконец Виктор.
И хотя Виктор сказал учителю правду, Мадикен подумала, что он поступил скверно. А учитель вызывает у нее сейчас настоящую ненависть. Никогда в жизни ей не было еще так противно, как сейчас, когда она на него смотрит. Он требует, чтобы Мия во всем призналась. Он говорит, что теперь совершенно убежден — кошелька он не терял, и значит, Мия его украла. Она незаметно пробралась в учительскую, когда там никого не было, увидела оставленный на стуле пиджак и стащила кошелек из кармана.
— Посмотри мне в глаза, Мия! — гремит учитель. — И признайся, что так и было!
— Да-а, — прошептала Мия, отвернувшись к окну и не глядя на учителя.
Мадикен точно знает, когда и как Мия взяла кошелек. Это было не в учительской. «Но раз Мия не поправляет учителя, пускай это так и останется, — думает Мадикен, — это ее дело».
Ведь она уже призналась, что взяла чужой кошелек. Кажется, теперь учитель мог бы отвязаться и оставить ее в покое. Так считает Мадикен.
Но тут она ошиблась. Старшему учителю этого мало. Сначала Мия должна попросить у него прощения, а потом ее еще высекут тростью, чтобы она не привыкала красть и не стала бы настоящей воровкой.
— Когда-нибудь ты мне сама скажешь за это спасибо, — говорит старший учитель.
И еще он сказал, что все дети должны смотреть, как ее будут наказывать. Все должны знать, что бывает за воровство.
— Для вас это будет полезный урок! — говорит учитель.
Мадикен побледнела как полотно. Учительница тоже сидит за столом бледная как полотно. Она хотела что-то сказать старшему учителю, но тот и слушать не стал и ушел за тростью.
Едва он вышел, учительница бросилась к Мии, обняла ее и начала уговаривать:
— Мия, дорогая, попроси ты хотя бы прощения! Может быть, тогда тебя не будут наказывать.
Мия стоит, не поднимая глаз.
— А он мне тогда отдаст моего ангелочка? — спрашивает она.
Закладка с ангелом и фотокарточка лежат на учительской кафедре. Учительница быстро хватает их и торопливо сует Мии в кармашек.
Мия наконец подняла голову и посмотрела на учительницу с таким выражением, что Мадикен сразу расплакалась.
Но тут входит учитель с тростью. Теперь уже не только Мадикен, почти все дети начинают громко плакать.
Все, кроме Мии. Она стоит возле кафедры на виду у всего класса в грязном передничке, надетом на слишком короткое платьице, сверкая продранными коленками. Мия глядит в окно, как будто все это ее не касается.
— Ну, Мия, будешь просить прощения? — обращается к ней учитель. — Можешь сделать это сейчас или после, как тебе угодно.
Но Мия не отвечает. Она только молчит и молчит.
Тогда взбешенный учитель орет на нее:
— Нагнись сейчас же!
Мия покорно наклоняется. Трость учителя со свистом взвилась над Мией и с жутким хлопком опустилась на ее тощенькую попку. Мия не издала ни звука. Но весь класс так и всхлипнул, а учительница закрыла глаза рукой.
Старший учитель снова размахнулся тростью, но тут раздался крик. Кричала не Мия.
— Нет, нет, нет, нет! — кричит, обливаясь слезами, Мадикен.
Старший учитель бросил на нее сердитый взгляд, но все же он растерялся. Как будто о чем-то подумав, он опускает руку с тростью.
— Гм! — произносит учитель, глядя на Мадикен.
Затем он переводит взгляд на Мию.
— Ладно! На этот раз с тебя, пожалуй, хватит! Товарищи тебя жалеют, хотя ты и не заслуживаешь никакой жалости.
Но Мия должна попросить прощения. Иначе нельзя после того, что она сделала.
— Ну, проси прощения! — говорит учитель.
Мия глядит в окно. Она словно не слышит, что ей говорят, и не произносит ни слова. Какая испорченная девчонка! Учитель просто не знает, что ему с ней делать!
— Ты понимаешь — от тебя требуется только одно маленькое словечко, если хочешь, чтобы тебя простили. Я жду, когда ты его скажешь!
Старший учитель ждет. Весь воздух в классе пронизан ожиданием. И вот Мия что-то пробормотала. Ну, это другое дело! А разве может быть иначе? Нет такого ребенка, с которым бы он не справился! Но ему и этого мало.
— Нет, так не годится! Повтори еще раз ясно и отчетливо, чтобы все тебя слышали. Ну, Мия!
Тут Мия обернулась и в первый раз посмотрела ему прямо в глаза. И произнесла вслух то самое словечко. Произнесла так ясно и отчетливо, что все хорошо расслышали:
— Засранец!
И, не дав никому опомниться, она стремглав кинулась на худеньких ножках-палочках к двери и скрылась за ней.
— Неслыханное безобразие! — сказал папа, когда Мадикен, вся заплаканная, вернулась домой и рассказала ему о том, что случилось у нее в школе.
— Ну как же ты не понимаешь! Ведь она… — начинает Мадикен защищать Мию.
— Безобразно вел себя ваш старший учитель, а не Мия, — говорит папа. — Она выразилась совершенно правильно.
Лисабет тоже так считает. Она еще никогда не слышала такого замечательного слова. Но едва она попыталась его испробовать, как мама сказала:
— Ну уж, извините! Этого слова я не хочу больше слышать. Достаточно было и одного раза.
Больше всех рассердилась на учителя Альва. Она вся кипит от возмущения:
— Что ему, делать больше нечего, как драться и колотить маленьких детей? Говорю тебе, Мадикен, если он тебя посмеет хоть пальцем тронуть, я возьму в руки дубину и укокошу его!
Мадикен выслушала это с большим удовольствием. Но папа, оказывается, не хочет, чтобы Альва бралась за дубину. Папа говорит, что, если так, значит, Альва не умнее учителя.
Потом они сели обедать. Но у Мадикен сегодня что-то нет аппетита, и ей кусок не лезет в горло. А Лисабет поела только картошки с соусом, устроив на тарелке размазню. Ей так больше нравится.
— Но правда же, папа, Мия очень плохо сделала, что взяла кошелек? — спрашивает Мадикен. — Воровать ведь нельзя!
— Нельзя, конечно, — говорит папа. — Но с маленькими детьми это иногда случается. И не дело вколачивать в них честность палкой.
— Но Мия могла бы все-таки попросить прощения, — говорит Лисабет, которую обычно никакими силами не заставишь извиниться.
— Я думаю, она бы и попросила прощения, если бы осталась вдвоем с нашей учительницей, — говорит Мадикен.
— Возможно, — говорит папа. — Впрочем, не уверен.
Лисабет кончила есть и принялась вылизывать тарелку.
— Нет, Лисабет! — говорит мама. — Так нельзя. Никогда не вылизывай тарелку, пожалуйста!
Лисабет задумалась. Поразмыслив, она говорит:
— Зачем же тогда люди придумали слово «вылизывать», раз это все равно нельзя делать?
Лисабет часто задумывается над разными словами.
Наконец-то все немного утряслось, и жизнь, как считает Мадикен, снова вошла в свою обычную колею. Она решила забыть этот день в школе, чтобы никогда больше о нем не вспоминать, и забыть, как она путешествовала по крыше. Ей немножко стыдно, что она ничего не сказала об этом маме и папе.
«Может быть, когда-нибудь в другой раз я расскажу папе, — думает Мадикен. — Хотя и не наверняка».
Мадикен быстренько сделала уроки и отправилась играть с Лисабет в крокет. Мадикен несколько раз крокировала[33] шар сестры и выиграла, оставив ее далеко позади.
Тогда Лисабет сказала:
— Знаешь, Мадикен, кто ты такая? Я не буду это говорить, но слово начинается на букву «з».
Девочки немного поиграли с Сассо, а потом пошли нюхать сирень, которая недавно распустилась. Затем они налили молока для ежика, который наведывается за ним по ночам, а когда покончили со всеми делами, оказалось, что пора ложиться спать. Но у Лисабет нашлось еще одно важное дело. И она рассказала об этом сестре:
— Теперь я залезу в шкаф, закроюсь изнутри и скажу «засранец». Я пять раз скажу это слово перед тем, как лягу. Смотри только не рассказывай маме!
— Ну и хороша ты, нечего сказать! — говорит Мадикен. — Только не забудь, что потом еще надо помолиться перед сном!
— А вот и не надо! Я уже в воскресенье молилась целых семь раз! Теперь мне хватит на всю неделю.
Лисабет убежала домой и уж наверно сделала все, как сказано. Мадикен в этом не сомневается. А Мадикен осталась немного погулять, чтобы дождаться ежика. Ежик пришел. Было очень интересно смотреть, как он лакает из блюдечка.
Когда Мадикен смотрела на ежика, кто-то вдруг свистнул. Мадикен обернулась и увидела у калитки Мию. Ну, что ей там еще надо? Неужели эта девчонка никогда не отвяжется? Мадикен неохотно подходит к калитке.
— Слушай, — говорит Мия. — У меня еще осталось два трюфеля. Хочешь, я тебе дам?
Она протягивает руку через калитку и отдает удивленной Мадикен две размякших шоколадных конфетки. А потом она поворачивается и убегает, не дожидаясь, когда Мадикен скажет спасибо.
Летняя вошебойка
И вот настал день экзамена. Первого экзамена в жизни Мадикен. Для нее это очень торжественный день, нисколько не похожий на обычные школьные будни. Ей не верится, что она сидит в том самом классе, где недавно происходили ужасные события. Он украшен цветами и зелеными ветками, и все вокруг удивительно нарядные! Почти все девочки — в новеньких платьицах, а мальчиков просто невозможно узнать, такие они аккуратные в новеньких матросских костюмчиках, в чистых рубашках, с подстриженными волосами! Учительница пришла в голубом платье с белым воротничком, она прекрасна, как в сказке, а сама Мадикен красуется в новом гипюровом платье на розовом чехле и млеет от счастья. Шляпку, к сожалению, пришлось оставить в коридоре на вешалке, но ее можно будет надеть потом, когда придет пора отправляться в церковь. Да, в таком настроении трудно усидеть за партой. Мамы и папы, тоже нарядные, сидят сбоку у стены и слушают, как их дети читают, считают и поют, как хорошо они знают Закон Божий. Ведь в этот торжественный день все стараются отличиться. Но если вдруг запутаешься или ошибешься, это тоже не беда и не конец света, как сказала учительница.
Мадикен достался вопрос про милосердного самаритянина[34], которого она очень любит. Она бы тоже хотела быть такой доброй и так же помогать людям. Мадикен словно сама видела, как это все произошло на дороге между Иерусалимом и Иерихоном, как подъехал верхом на осле самаритянин, как он заметил на обочине окровавленного человека, которого чуть не убили разбойники, и как потом самаритянин смазал его раны маслом и вином, уложил беднягу на своего осла и отвез в гостиницу и заплатил за него, чтобы он мог там остаться, пока не выздоровеет!
Мадикен так хорошо рассказывает, что мама с папой могут на нее порадоваться! Но самое лучшее — прекрасные слова, которые самаритянин сказал на прощание хозяину гостиницы, — еще впереди: «Позаботься о нем, если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе».
За эти слова Мадикен обожает самаритянина и предвкушает, как она произнесет их сейчас при маме, и папе, и всех, кто ее слушает.
Но тут учительница говорит, чтобы дальше продолжал Виктор, а этот балбес, конечно же, все переврал: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, когда возвращусь, задам тебе!»
Ну и дурень Виктор! Мадикен так хорошо рассказывала, а он под конец все испортил и только насмешил всех. Особенно смеялась Лисабет. Она тоже сидела в классе в белой кружевной шляпке с розочками и смеялась громче всех.
А вот Мия вообще не пришла на экзамен. Она не ходила в школу всю неделю. С того самого ужасного дня. Папа поговорил со старшим учителем, иначе Мию, наверно, привели бы в школу силком. Потому что все дети, хотят они или не хотят, должны ходить в школу. А Мия не хочет. И ей позволили до осени не ходить на занятия. А до осени еще далеко. Сперва будет чудное, долгое лето.
После экзамена все пошли в церковь и спели псалом о чудном лете, а потом Мадикен с мамой и папой и с Лисабет вернулись домой, и Альва накормила их блинчиками. Лисабет, хоть и не сдавала экзамена, тоже получила блинчиков. Вся семья сидит на веранде, кушает, смотрит, как ласточки залетают в свои гнезда под крышей. Окна отворены, и в саду так хорошо пахнет сиренью, и тут Мадикен чувствует, что ее куснул комар — первый комар в этом году. И только тогда Мадикен поняла: начались летние каникулы! Такое счастье! Неужели это взаправду!
Потом Мадикен бежит в Люгнет. Надо, чтобы и Аббе узнал, что она уже не первоклассница, не какая-то там малышка! Мадикен все время ему это подчеркивала, но, как ни странно, он эту новость оставил без внимания.
— Теперь я уже перешла во второй класс. Понимаешь, насколько я стала старше? — говорит ему Мадикен.
Аббе мельком взглянул на нее:
— А как же! Я вижу, что ты совсем постарела. Хочешь, я буду называть тебя «тетенькой»?
Нет, этого Мадикен не хочет.
Они беседуют возле кроличьей клетки. У Папани уже родились крольчата. Они еще совсем крошечные и невзрачные, но Аббе очень радуется, глядя, как уютно они лежат на своей подстилке. Аббе говорит, что их нельзя трогать, но охотно позволяет Мадикен смотреть на них сквозь проволочную сетку. Сетка нужна, чтобы защитить крольчат от лис и ястребов и других опасностей.
— Кто только не точит на них зубы! — говорит Аббе. — По ночам сюда повадилась лисица. Ничего, я ее как-нибудь подкараулю!
Дядя Нильссон расположился на качелях и, верно, опять занимается своими непонятными спиккуляциями. Он расслышал, что говорил Аббе.
— Нет, это никуда не годится! — говорит дядя Нильссон. — Лиса может их напугать до смерти, тут никакая сетка не поможет.
— Вот и я боюсь, — говорит Аббе.
Дядя Нильссон еще немного поразмышлял, затем он решительно поднялся с качелей.
— Сын мой, Аббе! У меня, помнится, где-то был лисий капкан. Пока у тебя есть отец, ты можешь не опасаться диких лесных зверей.
И дядя Нильссон, оживившись, с деловитым видом направился к дровяному сараю.
— Он туда, наверно, уже два года не заглядывал, — говорит Аббе.
Мадикен и сама знает, что, если бы не Аббе, никто бы не позаботился даже дров запасти.
Но кроме дров там много всякого другого добра. Аббе только посмеивается, слушая, как отец, ругаясь на чем свет стоит, с грохотом разгребает завалы. Дяде Нильссону самому ни за что не отыскать лисий капкан, и Мадикен подумала, что Аббе мог бы ему помочь.
— Нет уж! Пускай его покопается, раз ему в кои-то веки вздумалось этим заняться.
Наконец дядя Нильссон, гордый и счастливый, выходит из сарая, держа в руках лисий капкан.
— Вот так-то! Что ни говорите, но в одном мне все-таки не откажешь — у меня всегда все на месте!
Он показывает капкан и объясняет Мадикен, как он действует.
— Вот сюда лиса сунет лапу, и тогда все — попалась злодейка. Ни в эту ночь и ни в какую следующую ей уже не охотиться.
Мадикен еще не видала дядю Нильссона таким деловитым и оживленным. Оказывается, он умеет ставить капканы.
— Поставим его возле лаза в живой изгороди, будет ей, злодейке, сюрприз!
Радостно посмеиваясь, дядя Нильссон настораживает[35] пружину капкана.
— Я уж давно ломал себе голову, как подарить мамане к зиме меховой воротник. Как ты считаешь, Мадикен: хорош будет воротник из рыжей лисы?
Мадикен считает, что да. Но ржавый капкан наводит на нее страх, и ей становится жаль лисицу.
— Послушай, папаня! А вдруг сюда вместо лисы угодит кто-нибудь другой? — говорит Аббе.
Но дядя Нильссон об этом не тревожится. Ничего страшного! Сейчас поставим рядом табличку с предупреждением. Как ни странно, его рвение все еще не остыло. Дядя Нильссон снова принимается за работу, и вскоре табличка готова. «Осторожно. Лисий капкан», — написал он крупными буквами на куске картона. Затем он берет свое объявление, прикрепляет его к длинной палке и втыкает палку рядом с капканом.
— А что, если лиса умеет читать? — говорит Аббе, скрывая улыбку.
Но дядя Нильссону такие шуточки не по Душе.
— Если кому-то не нравится — пожалуйста, я могу убрать и капкан, и табличку! Только не приходи ко мне плакаться, когда твои крольчата передохнут от разрыва сердца.
— Да ну тебя, папаня! Что ты, шуток не понимаешь? — говорит ему Аббе.
Аббе убеждает дядю Нильссона, что ему все понравилось — и капкан, и табличка. И дядя Нильссон, наконец поверив, опять заулыбался. Напоследок он еще раз проверяет свой капкан.
— Ладно, ладно, — говорит он сыну. — Можешь меня не благодарить. Всегда зови папу, когда тебе нужна будет помощь.
Вернувшись домой, Мадикен рассказывает Альве про крольчат и капкан, и про лису, и про меховой воротник, который получит тетя Нильссон!
— Ха-ха! — смеется Альва. — Хотела бы я посмотреть на этот воротник!
Проходит несколько дней и ночей, но почему-то ни одна лиса не попадается в капкан. Надпись на табличке выцвела от дождя и от солнца, дядя Нильссон время от времени ее подновляет. Не тот он человек, чтобы так просто махнуть рукой на начатое дело!
— Уж коли я пообещал мамане меховой воротник, значит, она его получит, — говорит дядя Нильссон.
А Мадикен тем временем вовсю наслаждается каникулами. Они с Лисабет купаются возле мостков, наводят порядок в своих игрушках, качаются в саду на качелях, моют в корыте пуделя Сассо, поливают грядки на детском огородике, играют в крокет, а на чердаке сарая с катальным станком устраивают уголок, чтобы было куда спрятаться от дождя.
Иногда Мадикен вспоминает про лисий капкан и бежит его проведать, но он пуст и ни одна лисица в него еще не попадала. Потом она бежит домой сообщить эту новость Альве. Альва только смеется, и на лице у нее написано: «А что я тебе говорила?»
— Меховой воротник! — ворчит Альва. — Интересно будет на него посмотреть!
— А может быть, лисица все-таки умеет читать, — размышляет вслух Мадикен, почесывая голову.
— Сдается мне, что у этой лисицы ума не больше, чем у дяди Нильссона, — говорит Альва и вдруг взволнованно вскрикивает: — Что это ты все скребешь в голове, Мадикен?
Точно коршун, Альва набрасывается на Мадикен и начинает искать у нее в волосах.
— Так и есть! Ты же совсем обовшивела! — говорит Альва.
В Юнибаккене начался большой переполох. Альва громко зовет маму, перепуганная мама запыхавшись прибегает на ее зов, потому что Альва подняла крик, словно в доме начался пожар. Действительно, вши — очень большая неприятность, но мама сказала, что на них есть управа — сабадилловый уксус. От него все вши перемрут, так что не стоит приходить в отчаяние, говорит мама. Надо сейчас же пойти в аптеку и купить несколько бутылок. Вши еще пожалеют, что они полезли на Мадикен!
Потом они на всякий случай осмотрели голову Лисабет, но у нее не обнаружили ни одной вошки.
— Конечно, — говорит Лисабет, — я же не грязнуля, как ты!
— Молчи в тряпочку! — говорит ей Мадикен. — А то вот возьму и напущу на тебя своих вшей.
Как бы там ни было, а Мадикен решила, что это очень интересное происшествие, и очень здорово будет, когда мама принесет из аптеки сабадилловый уксус и начнется борьба со вшами. Мама пойдет в аптеку немного попозже, потому что сначала ей надо проведать Линус Иду. У Линус Иды разболелась нога, и она сейчас лежит в постели.
— Ой, возьми и меня с собой! — говорит Лисабет.
Мадикен тоже хочет идти навестить Линус Иду. Неужели же ей сидеть дома из-за каких-то вшей!
Чистенькая Лисабет, у которой ничего не нашли в голове, удивляется:
— Неужели ты тоже хочешь куда-то идти? У тебя же полно вшей!
— А ты подумай, ведь моих бедных вошиков ждет неминучая смерть. Надо же мне их немного порадовать перед кончиной!
У Линус Иды есть на что порадоваться, это все знают. Она и на гитаре сыграет, и споет, и расскажет что-нибудь интересное, И больная нога ей не помешает.
— Правильно! — говорит Лисабет. — Мы ее попросим, чтобы она спела для вошей что-нибудь не очень грустное.
Лисабет тоже понимает, что это, наверное, печально — быть несчастной вошью, которую не ждет ничего хорошего, а только сабадилловый уксус.
Линус Ида обрадовалась их приходу. Она любит поболтать с Мадикен и Лисабет, к тому же мама принесла ей мазь для больной ноги, килограмм кофе и пять булочек. Как же Линус Иде не радоваться! Мама оставила девочек у Линус Иды, а сама пошла за сабадилловым уксусом и другими покупками.
Линус Ида сидит с гитарой, положив больную ногу на табуретку, и поет писклявым, тоненьким голоском. Но уж больно грустные ее песни. Линус Ида спела песню «В больничной палате», потом «В лачуге пьяниц». Вряд ли вошки повеселели.
Кончив петь, Линус Ида говорит:
— Этот пьянчуга хоть под конец раскаялся. А вот Нильссон из Люгнета — невозможный человек. Право слово, он когда-нибудь плохо кончит!
— Ой, неужели? — говорит Мадикен.
Она испугалась за дядю Нильссона, потому что хорошо к нему относится и не хочет, чтобы с ним случилось что-то плохое.
Но Линус Ида уверяет, что так оно и будет.
— Если бы он прислушивался к предупреждениям! Так нет же! Я недавно встретила его, когда он шел в кабак. Я говорю ему: «По этой дорожке ты, Нильссон, в рай не придешь!» И знаешь, что он мне ответил? «А я, мол, вовсе и не туда. Куда мне так далеко! Я только в „Забегайку“, пивка попить». Право слово, досталось бедной Эмме испытание от Бога — мучиться с таким муженьком!
Лисабет надоело слушать про пьяниц. Она отошла к окну и стала высматривать среди мусорных баков, не покажется ли хотя бы Маттис. Она ведь живет в домишке напротив Линус Иды. Лисабет это запомнила с тех пор, как они с Маттис подрались тут, во дворе.
— Глянь-ка, а вон и Мия! — говорит она вдруг.
Мадикен подошла к окошку и тоже выглянула. И правда, там показалась копна огненно-рыжих волос. Это идет, помахивая старенькой скакалочкой, Мия. Мадикен наверняка знает, что именно из рыжей копны на нее перешли вши. Должно быть, им стало там слишком тесно, бедненьким вошикам! Мадикен машет Мии рукой. Она вспомнила трюфели, которые ей принесла Мия, и вообще, какой смысл им ссориться, когда они обе вшивые! У Мадикен такое чувство, словно у них с Мией появилось что-то общее, что их соединяет. А все благодаря вошкам! И Мадикен вдруг захотелось выйти во двор и потолковать с Мией, какие они теперь одинаковые, вшивые девочки.
— Я пошла. Мне надо поговорить с Мией, — говорит Мадикен.
Линус Ида покачала головой:
— Как хочешь! Мия — плохая девчонка. Но разве она, бедная, виновата при такой матери!
Завидев Мадикен, Мия перестает скакать. Она поглядывает на Мадикен исподлобья, но жабой не обзывает.
— Здравствуй! — говорит Мадикен. — Если бы ты знала, сколько у меня вшей!
Мия в этой новости не видит ничего удивительного:
— У всех ребятишек бывают вши. Так говорит моя мама. — Мия усмехается: — Может быть, это на тебя моих граммчиков сто просыпалось. А ты на меня не сердишься?
— Не-а, — отвечает Мадикен. — Все равно ведь, не успеет скрыться солнце, как их ждет неминучая смерть.
— Почему? — спрашивает Мия.
Она никогда не слыхала про сабадилловый уксус и впервые слышит от Мадикен, как просто, оказывается, можно расправиться со вшами.
— Мама уже пошла в аптеку покупать сабадиллу, — говорит Мадикен.
У Мии сделалось задумчивое лицо.
— Какая же я дура, что купила шоколадных трюфелей! — говорит она. — Надо было вместо конфет купить этой самой сабадиллы. Мало радости ходить вшивой. Да еще ребята дразнятся и обзывают меня «вшивая Мия»…
Мадикен вспомнила, что один раз и она обозвала Мию, и ей стало очень стыдно.
— Зато теперь ты можешь сколько угодно раз назвать меня «вшивая Мадикен», и это будет по справедливости.
Мия засмеялась.
— Вшивая Мадикен, — говорит она с удовольствием. — Вот именно: вшивая Мадикен! Так я и буду называть тебя, вместо «жабы»!
И, взглянув на Мадикен исподлобья, добавляет:
— Вообще-то ты не жаба. Вон у тебя какие красивые каштановые волосы и нарядное платьице!
Мадикен никогда не задумывалась, какие у нее волосы — красивые или некрасивые, но ей все-таки приятно слышать это от Мии.
— А по-моему, это у тебя красивые волосы. Самые красивые в нашем классе, — говорит Мадикен.
И когда она это сказала, то вдруг поняла, что именно так и есть на самом деле, хотя раньше она этого не замечала.
Мия смотрит на нее с удивлением:
— Да ну, ерунда какая!
В эту минуту на крыльцо выходят мама и Лисабет.
— Пойдем домой, Мадикен! — говорит мама, а затем кивает Мии. — А это, наверно, Мия! Я правильно угадала?
Мия ничего не отвечает и только испуганно глядит на чужую тетю, словно ожидая, что сейчас ее будут бранить за то, что у Мадикен завелись вши.
И тут у Мадикен мелькнула отличная мысль:
— Мама! А можно, Мия пойдет с нами, чтобы и ей вывести вшей?
— Ну конечно, — говорит мама. — Ты хочешь, Мия?
Не глядя на маму, Мия тихо пробормотала:
— Да. Если у вас хватит сабадиллы…
— Только ты сбегай и спроси сначала разрешения у своей мамы!
— Ее нет дома, — говорит Мия. — Она ушла на целый день стирать у людей.
— Тогда мы попросим Линуй Иду, чтобы она ей сказала, куда ты ушла. Иначе твоя мама будет беспокоиться, если не застанет тебя дома.
— Нет, мама никогда не беспокоится, — заверяет Мия.
Вдруг на двор выбегает Маттис. Та самая, которая будто бы похожа на ангелочка. Мадикен, хоть убей, не видит в Маттис ничего ангельского. Но, может быть, Маттис и правда хорошенькая девочка. Ее только надо бы немножко причесать. У Маттис волосы еще более лохматые и растрепанные, чем у Мии.
— У нее тоже полно вшей, — говорит Мия, робко поглядывая на маму.
Мама улыбается:
— Ну и устроим же мы вошебойку! Идемте, девочки.
Альва пришла в восторг, когда увидела, что мама привела вместо двух девочек сразу четырех, и попросила маму:
— Давайте их мне, я одна справлюсь. Насчет вшей я первоклассная мастерица. У меня же было семеро младших братьев и сестер.
Тут Лисабет поняла, что затевается что-то интересное и без ее участия. Это ей совсем не понравилось.
— Я тоже хочу мазаться сабадиллой, — говорит она Альве. — На меня только что заползли вши. Просто их не видно.
— Уж мы с этими вшами сейчас расправимся! — говорит Альва. — Идите и садитесь на качели все, кому нужна вошебойка.
Во дворе Юнибаккена есть большие деревянные качели с длинной доской, на которую садятся вдвоем друг против друга. Но можно качаться и вчетвером. Дожидаясь Альвы, девочки покачались.
— Ну скажи, разве это не здорово, Маттис! — говорит Мия. — Ты рада, что у тебя вши? Иначе ты никогда не покачалась бы на качелях.
— Ага. Вши — это здорово! — говорит Маттис.
Потом пришла Альва и натерла им волосы сабадиллой, от которой пошла жуткая вонь. Потом каждой девочке плотно замотали голову полотенцем, а концы закрепили большущей булавкой.
Когда Альва закончила эту процедуру, получилось, как будто на качелях сидят четыре арапчонка в белых тюрбанах.
— Теперь можете еще покачаться, пока там вошки не попадают кверху ножками без воздуха, — говорит Альва.
Мадикен до того стало жалко бедных вошек, что ей даже расхотелось качаться, но Лисабет сказала:
— Да ну тебя! Ты качайся, им же будет приятно. Пускай у них от качания закружится голова, тогда они, наверно, сами не заметят, как помрут.
Мадикен поневоле должна была согласиться, что это было разумное предложение. Девочки качались и качались и даже спели в честь своих вошек прощальную песню, которую придумала Мадикен:
Вошек покачаем, Ха-ха, да-да, Все вошки поумирают, Ха-ха, да-да. Их деток покачаем, Ха-ха, да-да. А сами будем жить всегда. Ура! Ура!— С ума сойти, Мадикен, какие хорошие песни ты придумываешь! — говорит Лисабет.
Затем все пошли на мостки купаться, Альва принесла туда корзинку с булочками и сок. А еще она принесла мыло и щетку.
— Устроим-ка мы сегодня настоящий банный день, — говорит Альва. Подоткнув юбку, она залезает в воду и вылавливает первого попавшегося арапчонка.
Сначала Альве попалась Маттис. Ей действительно давно требовалась хорошая баня.
— Вообще-то у Мии ноги грязнее, чем у меня, — говорит Маттис, протягивая Альве по очереди свои запачканные ножонки. Посмотрев на свои, Мия убедилась, что Маттис права — ее ноги, правда, гораздо грязнее. Мия смеется:
— А как ты думала! Я же на два года старше тебя.
На мостках лает Сассо, он не любитель купаться. Зато арапчата радуются, им такая баня по душе. Альва ловит их по очереди, а они плещут на нее водой, едва она приближается с мылом и щеткой. Но Альва всех переловила, перемыла и оттерла. Из ее рук арапчата выходят чистенькими.
После купания девочки пьют сок и заедают булочками.
— Скажи, Маттис! Ты рада, что у тебя были вши? — спрашивает опять Мия.
Маттис только кивает. Рот у нее набит едой.
Потом Мию и Маттис повели на чердак смотреть уголок. Но они не очень-то поняли, зачем нужно было громоздить друг на друга пустые ящики и старые матрасы и устраивать какой-то уголок.
— А для чего это надо? — удивляется Маттис.
Мадикен подумала.
— Чтобы сделать гостиницу!
А ведь правда, получилась гостиница! Мадикен это только сейчас сообразила. Милосердный самаритянин порадовался бы всей душой, если бы увидел, как здесь удобно. Теперь Мадикен знает, во что они будут играть. Можно поиграть в самаритянина. Коли есть гостиница, надо ее использовать!
— Чур, я буду разбойником! — сразу же объявила Лисабет.
Но Мадикен не соглашается. Разбойниками будут, конечно, они с Мией, как самые большие и сильные. Интереснее всего быть разбойником, думает Мадикен. Поэтому она начинает втолковывать сестре, насколько самаритянин лучше разбойника. Мадикен, уж так и быть, готова уступить сестре его роль.
— Ладно, согласна, — говорит Лисабет. Она поняла, как это будет здорово.
И вот бедняжка Маттис, избитая разбойниками, лежит под кустом сирени, а Лисабет со всех ног бросается ее утешать, гладит ее по голове и уводит с собой на чердак в гостиницу. Но Маттис не знает, как надо играть, и Лисабет принимается ее учить.
«Ой-ой-ой! Кровь! Моя кровь!» — так нужно стонать и приговаривать. Маттис старательно подражает своей учительнице. В конце концов у нее стало очень хорошо получаться.
Зато Мия — вот уж кто действительно умеет представлять. Ее и учить не надо. Из Мии сразу получился самый свирепый разбойник на пути из Иерусалима в Иерихон. Мадикен от нее не отстает. Притаившись в кустах, они неожиданно выскакивают оттуда и нападают на караваны, которые проходят мимо них по дороге. Они совершенно забыли о самаритянине и гостинице, пока Лисабет сама не слезла с чердака и не явилась к ним, злющая, как оса.
— Сколько, по-вашему, можно сидеть в гостинице и поливать его вином и натирать мазутом? — спрашивает она обиженно.
Лисабет спутала мазь с мазутом, а это не одно и то же, объясняет ей Мадикен:
— Если бы его натирали мазутом, он бы в ту же ночь умер!
Но Маттис осталась жива, и теперь она и Лисабет тоже хотят быть разбойниками. Мадикен и тут нашлась: гостиница превратилась в пещеру разбойников. Вскоре в пещере набралось видимо-невидимо золота и драгоценных камней, потому что вся четверка усердно принялась грабить. Никогда еще они так хорошо не играли, как сегодня. Про вшей все давно забыли. И вдруг Мия говорит:
— Слушай, Мадикен! Как ты думаешь: если у нас опять заведутся вши, нас еще раз к вам пустят?
— Да ну! — говорит Мадикен. — Вы можете приходить и без вшей. Хотите завтра?
Когда они вволю наигрались, их позвали на веранду и накормили котлетами с макаронами, а на сладкое дали крем из ягодного сока. Маттис так набросилась на еду, что Мии стало за нее стыдно. Увидев, что Маттис в третий раз потянулась за добавкой, Мия говорит:
— Неужели ты все еще голодная?!
— Еще как наелась! — отвечает Маттис.
— Почему же ты все ешь и ешь? — сердится Мия.
— Я — про запас! — объясняет Маттис.
Она до того наелась, что у нее закололо в боку и ей пришлось отставить тарелку.
А тут и Альва пришла и сказала:
— Ну уж теперь, я думаю, вы все сыты, а ваши вши сдохли.
Она забрала девочек на кухню, разложила на столе газету и стала вычесывать им волосы. На газету так и посыпались мертвые вши. Только у Лисабет ни одной ни оказалось.
— Ведь я не такая грязнуля, как вы, — сказала Лисабет.
Затем Альва промыла им волосы душистым мылом, от которого пахло розами. И Мия, и Маттис отправились домой, они были уже не вшивые и такие чистенькие, какими отродясь не бывали.
Мадикен проводила их до калитки.
— А без вшей ты завтра к нам придешь? — спросила она Мию.
— Приду, если ты хочешь, — ответила Мия. — И Маттис, конечно, придет.
Потом Мия взяла сестренку за руку, и они пошагали, как на ходульках. Их волосы пламенели огненно-рыжими кострами.
В это время папа шел с работы и заметил эти развевающиеся костры. Мадикен рассказала ему про своих вшей и про все остальные радости, которые принес с собой прошедший день.
Папа, проходя мимо забора Нильссонов, увидел дядю Нильссона, который проверял лисий капкан, и отдал ему газету для тети Нильссон.
Мадикен висит у папы на руке и не отпускает ни на минуту. Хорошо, когда папа приходит домой!
— Какая мама добрая, что купила так много сабадиллового уксуса! — говорит Мадикен, и папа с ней соглашается:
— Да, наша мама всегда добрая!
Это слышит дядя Нильссон. Он кивает — значит, он тоже согласен:
— Верно! Благородная дама из Юнибаккена — добрая душа! Чего не скажешь о моем чучеле.
Мама сидит на веранде с вязаньем и ждет папу. Мама тоже обрадовалась папиному приходу:
— Сегодня мы с тобой будем ужинать вдвоем. Мадикен и Лисабет уже поели.
Папа целует маму в щечку.
— Здравствуй, благородная дама! — говорит папа. — Я слышал, что ты избавила от вшей двух бедных детишек. Пожалуй, об этом надо написать завтра в газете.
Мамины глаза становятся совсем черными. Она поднимается с плетеного кресла.
— Как тебе не совестно! — говорит она. И хотя папа сразу попросил прощения за свои глупые слова, было уже поздно. Мама молча уходит наверх в спальню. Мадикен знает — теперь мама будет себя жалеть. Только ей не совсем понятно, почему так получилось. Впрочем, Мадикен тоже готова рассердиться на папу за то, что все так печально кончилось.
— Ну зачем ты так сказал? Объясни мне, что это значит?
— Ох, я и сам не знаю! — говорит папа. — Наверно, я тогда подумал, что, если поморили вшей у двух девочек, от этого мало что изменилось. Ведь на свете еще так много недостатков, которые надо исправлять!
— Зря ты так сказал, не надо было, — строго говорит папе Мадикен.
Папа, Мадикен и Лисабет остались на веранде одни, без мамы. Им без мамы очень грустно.
«Ну почему такой хороший день и так печально закончился?» — думает Мадикен.
Альва входит на веранду с горячими биточками.
— Что тут у вас стряслось? — спрашивает она, поглядев на их унылые лица.
— Это я отмочил глупость, — говорит папа.
— Ну и очень глупо сделали! — говорит Альва и уносит биточки.
На кресле осталось лежать мамино вязанье. Папа подцепляет его указательным пальцем и долго разглядывает. Это крошечная шапочка. Ой, какая она малюсенькая! Даже на Лисабет не налезет.
— А для кого мама вяжет такую шапочку? — спрашивает Лисабет.
И тут папа сказал девочкам удивительную вещь:
— Для маленького братика, который должен родиться. А может быть, для сестрички. Уж не знаю, кто у нас будет.
И эту потрясающую новость он сообщил, как будто в ней нет ничего особенного!
— Неужели у нас будет братик?! — кричит Лисабет. — Пойдем скорей скажем маме, она обрадуется и будет опять веселая.
Мадикен фыркает:
— Как ты не понимаешь! Она и так уже знает. Иначе зачем бы она стала вязать такую шапочку?
Теперь уже девочек никакая сила не удержала бы на месте. Они помчались наверх. Сейчас им непременно нужно поговорить с мамой. Мама и впрямь легла в постель и жалеет себя, но разве можно грустить под радостные вопли обеих дочерей!
— Ну конечно же, я тоже рада, уж можете мне поверить, — говорит мама. — Но это случится еще не скоро. Придется вам подождать примерно до Рождества.
Потом мама спускается вместе с Мадикен и Лисабет к папе. Мама перестала на него сердиться. К тому же она давно проголодалась.
— Милая моя благородная дама! Простила ли ты меня? — спрашивает папа.
— Да. Представь себе, простила, — отвечает мама. — Можешь и это напечатать в своей газете, вредный ты человек!
И вот наступил вечер. Мадикен, как всегда, ставит мисочку с молоком для ежика и видит, как дядя Нильссон широким шагом отправляется в город. Неужели он так поздно еще куда-то пойдет? Наверно, тете Нильссон это не понравится.
Дядя Нильссон ужасно размахивает руками. Кажется, он очень сердитый. Он громко разговаривает сам с собой и не замечает Мадикен.
— И зачем я только женился на этом чучеле! — говорит дядя Нильссон.
Мадикен вздохнула, услышав эти слова. Похоже, сегодня все друг с другом ссорятся.
Но в Юнибаккене все раздоры остались позади. Девочкам пора ложиться спать. Мама и папа приходят в детскую, чтобы пожелать дочкам спокойной ночи. Тут все любят друг друга. Сразу видно, что здесь живут дружные люди. «Вот и хорошо!» — думает Мадикен.
Когда папа и мама ушли, Лисабет говорит:
— Мадикен, можно, я приду к тебе полежать, и мы с тобой поговорим о братике?
Мадикен охотно пускает ее к себе в кровать. Она подвинулась, чтобы Лисабет могла удобно устроиться. Лисабет кладет голову ей на плечо и начинает болтать. Ну что за детский лепет! Мадикен чувствует себя рядом с ней по-настоящему старшей сестрой. Как же иначе, раз у них скоро будет младший братик?
— Представляешь себе, какой нам будет замечательный подарок к Рождеству? — спрашивает она.
Лисабет тоже так считает, и они вместе радуются, как весело им будет нянчить, и кормить, и укачивать братика.
— Только знаешь что, Мадикен! — говорит Лисабет. — Обещай, что ты не будешь любить его больше, чем меня!
— Обещаю! — говорит Мадикен и крепче обнимает сестренку. Разве может она полюбить кого-нибудь сильнее?
— А то, знаешь ли, я очень обижусь, — объясняет Лисабет. Потом она начинает зевать и отправляется на свою постель.
Скоро Лисабет засыпает. Все уснули в Юнибаккене. И Мадикен тоже спит. И ей снятся вши. Вши, которые задыхаются без воздуха. Ох, ну и сон! Вши кричат и зовут на помощь. Они так громко кричали, что Мадикен даже проснулась. Она подскочила и села на кровати. Сердце колотится громко-громко. Мадикен уже поняла, что проснулась, но крики все продолжаются:
— Помогите! Помогите!
Это кричит кто-то в Люгнете. Неужели они там убивают друг друга? Что у них могло случиться?
Мадикен помчалась к Альве. Та спала как убитая, но Мадикен ее разбудила:
— Альва! Там кто-то зовет на помощь! Разве ты не слышишь?
Альва вскакивает с постели. Она тоже услышала крик и заторопилась во двор. Кто же это так ужасно кричит?
А это был дядя Нильссон. Он упал навзничь возле лаза в живой изгороди, а теперь барахтается на земле, точно жук, и никак не может подняться. Он, как видно, решил опереться на палочку, которая торчит из земли совсем рядом. Но от его усилий дощечка с предупреждением свалилась на него. А дядя Нильссон остался лежать.
Подоспевшие на помощь Альва и Мадикен читают надпись, которая красуется у него на груди: «Осторожно. Лисий капкан». Предостережение немножко запоздало. Дядя Нильссон уже угодил в лисий капкан, и, судя по всему, давно. Иначе отчего бы он так раскричался?
Увидев Альву, он перестал кричать и только стонет и охает:
— У меня нога застряла, и какая-то дрянь ее держит. И никак не могу вырваться. Бог знает что это такое, но мне ужасно больно!
Альва не долго думая взялась за дело. Руки у нее сильные, и скоро она вызволила дядю Нильссона из капкана. Он даже прослезился от благодарности:
— О, Ангел Юнибаккена! Будь уверена, ты заслужила награду на небесах и на земле!
Тут подоспела и тетя Нильссон. Она выскочила в ночной рубашке, набросив на плечи серый шерстяной платок. Подбежав к дяде Нильссону, она так и застыла над ним. Он только махнул рукой, чтобы она молчала:
— Не говори ничего, Эмма! Я истекаю кровью. Я скоро умру. И тогда ты пожалеешь о своих жестоких словах.
Мадикен подумала, что это очень несправедливо. Тетя Нильссон редко когда говорит дяде Нильссону жестокие слова. Она и сейчас ни в чем его не упрекнула.
— Не умрешь, — сказала она. — Но как же у тебя хватило ума поставить капкан именно здесь? Разве ты забыл, что всегда пробираешься через этот лаз, когда поздно возвращаешься домой?
— Иной раз и забудешь, со всяким случается, — сурово говорит дядя Нильссон и, опираясь на тетю Нильссон, ковыляет к дому.
— Вот тебе и воротник, — тихо бормочет ему вслед Альва.
Она берет капкан и с размаху кидает его подальше.
— Несчастный пьянчужка! — говорит она. — Пойдем, спать, Мадикен!
В деревне не так уж опасно, как думает мама
Мама и папа задумали съездить в Копенгаген. Когда они об этом сказали за завтраком, Мадикен огорчилась:
— У вас всегда что-нибудь интересное, а мы с Лисабет должны круглый год сидеть дома и скучать.
Жизнь в Юнибаккене показалась ей вдруг ужасно тоскливой, даром что сейчас у нее летние каникулы.
Только что все пообедали, а теперь они с Лисабет сидят на кухонном крыльце и обсуждают свою грустную долю. Чем больше Мадикен об этом думает, тем сильнее убеждается, какие они несчастные девочки.
— Все время только купаться, качаться на качелях да играть в крокет — так и жизнь пройдет!
— Ты еще забыла — нам надо поливать наши грядки и поить молоком ежика, — говорит Лисабет. — А лучше бы съездить в Копенгаген!
— Еще бы! — отзывается Мадикен.
И тогда они пошли к маме для серьезного разговора. Мама мыла на кухне посуду. У Альвы сегодня выходной.
— К сожалению, детки, мы не можем вас взять, — говорит мама. — Но мы попробуем придумать и для вас что-нибудь хорошее.
— Например, вытирать посуду, да? — говорит Мадикен.
Потому что мама уже дала каждой девочке полотенце, чтобы они занялись работой.
— Послушай-ка! Госпожа Кислица! — говорит папа. Больше он ничего не сказал, он только взглянул на Мадикен, и ей сразу стало стыдно.
Папа моет пол в кухне. Мадикен знает, что, кроме него, этого не делает ни один папа во всем городе, но у нее папа не такой, как все. Мадикен это тоже знает и очень гордится своим папой. Вот только сейчас она на него обижается.
Вдруг в дверь постучали, и, кто бы вы думали, вошел? Это был Туре из Аппелькюллена. Он принес яйца, которые заказывала мама. Туре, кажется, огорчен, что не застал Альву. Мадикен давно уже догадывалась, что он в Альву влюбился.
Мама приглашает его остаться на чашечку кофе. Туре с удовольствием соглашается, и взрослые располагаются за кухонным столом. Они выпили одну чашечку, потом другую и третью, беседуя о том и о сем. Правда, Туре от застенчивости больше молчит и только добродушно улыбается. Да и все, кто живет в Аппелькюллене, так же добродушны и приветливы.
— Чем вы сейчас занимаетесь на ферме? — спрашивает мама.
— Сено возим, — отвечает Туре.
— Ой, значит, вы ездите на возах! Как у вас весело! — говорит Лисабет.
— А тетя Карлссон тоже возит сено? — спрашивает Мадикен.
Ее очень заинтересовало, как тетя Карлссон, которая весит, наверно, сто килограммов, забирается на воз?
— Возит сено? — повторяет Туре. — Нет. Мама домовничает, доит коров. А с сеном мы трое — папа, Майя и я.
— Ой, как же у вас в Аппелькюллене весело! — снова говорит Лисабет. — Вы возите сено, у вас коровы, а у нас с Мадикен никого, кроме ежика…
А на другое утро — вы только подумайте! — на другое утро, едва Мадикен и Лисабет проснулись, к ним входит папа и говорит, что, пока они с мамой будут в Копенгагене, Мадикен и Лисабет поживут в Аппелькюллене:
— Хотите, девочки?
Еще как хотят! Конечно, поездка в Копенгаген куда интереснее, думают девочки, но все-таки Аппелькюллен — это тоже хорошо! Девочки мигом вскочили с кроваток и начали собирать все, что надо будет взять с собой. Пришла мама и помогла им укладываться, а между делом давала им наставления, как себя вести. Сколько всяких наставлений! Мама очень боится, как они поедут без нее, но папа считает, что им будет очень полезно пожить самостоятельно.
— Да и что с ними может случиться? — говорит папа. — Трудно найти более спокойное место, чем Аппелькюллен.
— А про быков ты уже забыл? — спрашивает мама.
И мама напоминает девочкам, чтобы они не смели подходить к быкам, бодучим баранам и горячим коням, к сердитым коровам, к острым косам и глубоким колодцам. И чтобы они не упали в навозную яму, не свалились с воза, и чтобы они остерегались змей, клещей, оводов, шершней и других кусачих тварей.
Слушая маму, Мадикен засомневалась, такое ли уж спокойное место Аппелькюллен, как думает папа.
— А еще что мы с Лисабет должны помнить? — спрашивает Мадикен.
Разумеется, надо не забывать по утрам и вечерам чистить зубы, говорить спасибо, вставая из-за стола, вовремя ложиться спать и вообще быть вежливыми и слушаться тетю Карлссон и дядю Карлссона, которые взяли девочек погостить в самый разгар сенокосной страды.
— Но с Майей и Туре ведь можно вести себя как всегда, — говорит Лисабет. Она чувствует, что в Аппелькюллене жить будет трудновато.
Мама и папа тоже укладывают чемоданы. Папа очень веселый, он распевает: «Съездим на денек-другой вместе в Копенгаген…» Но мама никак не может успокоиться, ей мерещатся всякие страсти, которые грозят девочкам в Аппелькюллене, и она очень боится, как они без нее проживут.
— Мне было бы спокойнее, если бы дети оставались здесь с Альвой! — говорит она папе.
Но папа не согласился менять свое решение. Он хочет, чтобы его дети видели, как живут другие люди. Они должны знать, что Юнибаккен — еще не весь свет.
Мама и понимает его, но все равно очень волнуется. Она то и дело спрашивает старшую дочку, все ли та запомнила.
— Помню, помню! — отвечает Мадикен и, подбадривая маму, повторяет ее наказы по-своему: — Ты сказала, чтобы мы остерегались тети Карлссон, а то она нас укусит. Вот видишь, я помню! А еще мы должны утром и вечером хорошенько умывать дядю Карлссона в навозной яме, и не подходить слишком близко к зубным щеткам, и вообще быть вежливыми с быками и слушаться их. Вот, кажется, и все!
— Да, как будто все, — говорит мама со вздохом. — Хорошо бы тебе еще помнить, что ты старшая сестра. Ты уж постарайся, пожалуйста, хоть на этот раз быть благоразумной!
И вот однажды ранним утром Альва на лодке отвезла девочек в Аппелькюллен. Мадикен и Лисабет поплакали, прощаясь с мамой и папой. Мама и папа очень торопились, чтобы не опоздать на поезд. Потом девочки еще раз всплакнули, расставаясь с Альвой на кухне у тети Карлссон. Но тут тетя Карлссон предложила им:
— Хотите покормить цыплят?
Девочки, конечно, захотели. Мама, кажется, не упоминала среди прочих опасностей маленьких желтых цыпляток. Они перестали плакать и спокойно отпустили Альву домой.
— Ладно, Альва! Поезжай домой! — говорит Лисабет.
И девочки отправляются с тетей Карлссон на птичий двор. А там цыплят видимо-невидимо! Они так и кишат под ногами и все хотят поклевать крошева из крутых яиц, и Мадикен с Лисабет их кормят. Тетя Карлссон позволила каждой девочке взять в руки цыпленочка, но только совсем ненадолго. Потом они пошли с ней в курятник и помогли собирать яйца, которые снесли куры.
— Только смотрите, не дразните петуха! — говорит им тетя Карлссон. — Потому что, если его разозлят, он налетает и норовит клюнуть в глаз.
Вот если бы мама знала!
— Про петуха мама забыла, — говорит Мадикен.
Тетя Карлссон не поняла, о чем говорила Мадикен, но Лисабет знает, о чем идет речь.
Петух оказался не так уж страшен, и жизнь в Аппелькюллене пришлась девочкам очень по душе. Да и ничего удивительного! Аппелькюллен — замечательная ферма. Кому бы не понравились его красные строения, стоящие на высоком холме среди яблоневых и вишневых деревьев!
— Как хорошо, что мы тут будем целых четыре дня! — говорит Лисабет. — Ты ведь тоже рада? Да, Мадикен?
— Да! — говорит Мадикен. — А в Копенгаген я никогда в жизни не поеду! Это решено!
А тут и дядя Карлссон возвращается с первым возом сена. Он помахал девочкам, когда телега, громыхая по булыжникам, проезжала мимо них, направляясь на скотный двор. Мадикен и Лисабет побежали за ней. И Майя, конечно, тоже. Она залезла по лестнице на сеновал, чтобы принимать сено у дяди Карлссона.
Девочки подошли к Фрейе и Конке.
— Ведь это не горячие кони, а смирные лошадки, — говорит Мадикен. — Так что к ним можно подходить сколько угодно.
Девочки попрыгали на сене и покувыркались в свое удовольствие, пока дядя Карлссон его сгружал. А потом сели на пустую телегу и поехали с ним на покос. Там Туре уже нагрузил для дяди Карлссона другую телегу, чтобы он мог без задержки забирать следующий воз.
— А вот и вы! — говорит Туре, тихо посмеиваясь. — Как поживает Альва? — спрашивает он девочек.
— Альва хорошо поживает, — отвечает Мадикен. — Что ей сделается плохого! Она сидит дома, смотрит за Сассо и Госей и варит варенье из земляники. А еще она сказала, что будет полеживать в гамаке, чтобы хорошенько отдохнуть от нас с Лисабет.
Туре сказал, что Альва правильно решила. Потом он показал девочкам у груды валунов местечко, где все было красно от земляники. Девочки бросились ее собирать и всласть наелись ягод, пока дядя Карлссон и Туре укладывали воз. Воз получился большой, как дом. Лисабет засомневалась, так ли уж приятно кататься на возу, но Мадикен вскарабкалась и уселась наверху.
— Не трусь, Лисабет! — говорит она. — Давай, поехали!
Туре подхватил ее на руки и усадил около дяди Карлссона. Конке и Фрейя тронули, и телега покатила, переваливаясь на ухабах. Лисабет подумала, что ехать на возу с сеном и впрямь страшновато.
— А мама предупреждала, чтобы мы не свалились с воза, — говорит она, крепко держась за дядю Карлссона.
— Ничего, я присмотрю за вами, чтобы ничего не случилось, — говорит дядя Карлссон. А уж если дядя Карлссон сказал, значит, на это можно положиться.
Так они несколько раз съездили туда и обратно, а между поездками собирали землянику. Незаметно подошло время обедать. Тетя Карлссон приготовила овощной суп и драчену. Обедали на кухне. Все расселись вокруг стола и молча едят, посмеиваясь иногда добродушно, по-аппелькюлленски, что так нравится Мадикен. Карлссоны очень похожи друг на друга — все голубоглазые и носатые. «Может быть, это особенные аппелькюлленские носы, которые только тут и растут?» — подумала Мадикен.
— Такой вкусной еды у нас дома никогда не бывает, — говорит Лисабет. — Хорошо, что мы здесь поживем четыре дня, хоть отъедимся.
А теперь пора кормить свинок. Дяде Карлссону некогда отдыхать после обеда, он отправляется в свинарник, девочки — за ним.
Увидев громадную свинью, Лисабет долго молчит. Такого огромного страшилища она еще никогда не видала.
— Ну и чудище! — сказала она наконец. — Кто это — он или она?
— Это — свиноматка, она принадлежит к прекрасному полу, — отвечает дядя Карлссон. — То есть она — женщина, а скоро у нее, знаешь ли, будут маленькие поросятки.
— Ой, сколько тут в Аппелькюллене интересного! — говорит Лисабет. — И мы пробудем у вас целых четыре дня, во как!
Потом дяде Карлссону опять надо возить сено. А Мадикен и Лисабет остаются, чтобы помочь тете Карлссон на кухне вытирать посуду. Так им велела мама. Потом они поиграли в беседке, увитой зелеными листьями, в куклы, в которые играла Майя, когда была еще маленькой. Но вдруг за ними пришла тетя Карлссон и сказала:
— А теперь мы поедем на покос к Туре и все вместе попьем кофе. Я хочу сама посмотреть, как они там управляются.
Все сели в телегу к дяде Карлссону, на этот раз Майя тоже поехала.
Туре очень обрадовался, когда они приехали. Наконец-то ему привезли кофейку, а он очень любит пить кофе. Девочкам тоже дали по чашечке.
— Один разок не страшно, — говорит тетя Карлссон, выкладывая на скатерть много-много бутербродов и булочек. И вот все уселись в кружок подле большого стога и принялись кушать, макая булочки в кофе. Хорошо сидеть на летнем лугу, где чудесно пахнет сеном.
— Скажи, Мадикен, ты рада, что мы тут пробудем четыре дня? — спрашивает Лисабет.
— Рада. Только перестань ты все время повторять одно и то же! — говорит Мадикен. — Я хочу послушать Майю.
Вот уж кто умеет рассказывать! А рассказывает Майя про лесную ведьму — хульдру[36]. Однажды Майя с ней повстречалась, когда ходила за брусникой. Хульдра спереди красивая, а со спины у нее ничего нет, только хвост! Видала Майя и домовых-томтов, и даже маленьких троллей несколько раз встречала.
— А ты когда-нибудь видела привидение? — спрашивает Мадикен.
— Нет. Я вообще не верю в привидения, — ответила Майя.
Зато в хульдру, томтов и троллей Майя верит и может о них многое рассказать. Вдруг среди ее рассказа тетя Карлссон почему-то забеспокоилась и стала шарить вокруг себя. Кажется, она что-то потеряла. Сперва она поискала в корзинке, в которой принесла еду, потом в своем кармане, поворошила в стогу сено, но ничего при этом не говорит и только продолжает отчаянные поиски.
Тогда дядя Карлссон ее сам спросил напрямик:
— Послушай-ка, матушка! А где же твои зубы?
— Да вот беда! — отвечает ему тетя Карлссон. — Я их на минуточку вынула, потому что они мешали, а теперь и не знаю, куда положила.
Бедная тетя Карлссон совсем расстроилась. И неудивительно, ведь вставные зубы — вещь дорогая и красивая, да к тому же вечером будет на ужин копченая селедка, а ее без зубов не поешь, жалуется тетя Карлссон, чуть не плача.
— Кто их найдет, тот получит от меня что-то очень хорошее, — обещает она.
Услышав обещание, Мадикен и Лисабет кинулись на поиски. Это похоже на игру, когда надо найти спрятанный ключик. Искали все, даже дядя Карлссон, но он вскоре заявил:
— У нас и без твоих зубов дел много. И почему ты за ними никогда не следишь!
Дядя Карлссон и Майя уезжают с возом.
— Наверно, приходила хульдра и утащила зубы, — говорит Лисабет. — Своих-то у нее нету. А теперь она смеется чужими зубами и хвастается, какая она красивая!
— Ну до чего же ты еще ребенок, Лисабет! — говорит Мадикен. Она тоже перестала искать, потому что этих дурацких зубов нигде нету, и нашла себе другую забаву. Она начала примерять деревянные башмаки тети Карлссон, которые стояли возле стога. Первый она уже надела, а вот в левый нога не влезает, внутри что-то мешает. Мадикен сунула руку, а там — зубы тети Карлссон. Вот они, оказывается, где были.
Сколько тут было радости!
— Подумать только! — говорит тетя Карлссон. — Ведь я же их сама туда и положила, чтобы не потерялись.
Тетя Карлссон была очень рада и вовсю нахваливала удачливую Мадикен, хотя та ничего особенного не сделала, а просто примерила чужие башмаки.
— Я тоже хотела там посмотреть, — говорит Лисабет.
— Значит, и ты получишь награду! — пообещала тетя Карлссон. И выполнила свое обещание.
В спальне у тети Карлссон в верхнем ящике комода хранился целый клад, как в сокровищнице. Мадикен и Лисабет глазам своим не поверили, когда увидали, сколько там драгоценностей. Они и не воображали себе, что у одного человека может быть такое богатство! И вдруг тебе предлагают выбрать из этого ящика, что душе угодно. Прямо как будто Рождество наступило! Можно взять крошечную золоченую туфельку из фарфора, или красненькую подушечку для иголок, или витую раковину, в которой шумит море, или зеленый наперсточек, или розовую свинью-копилку, или гномика, сделанного из шерстяных ниток, или брошку с желтеньким камешком, или железную свистульку-петушка.
Мадикен хочет, чтобы ей дали выбрать первой. Ведь как-никак, это она отыскала зубы!
— Только не бери, пожалуйста, петушка! — говорит Лисабет.
А Мадикен и не собиралась брать петушка, ей хочется раковину. Пускай Аббе хотя бы из раковины услышит, как шумит море. Мадикен знает, как Аббе мечтает о море, он ей сам говори.:.
Девочки вежливо поблагодарили тетю Карлссон за подарки. Мама бы порадовалась, какие у нее воспитанные дочери.
Лисабет сразу засвистела так пронзительно, что рядом ничего не слышно, и Мадикен ушла слушать раковину за конюшню.
Вечером тетя Карлссон бодро жевала копченую селедку. А Мадикен и Лисабет сказали, что они не голодные. Тогда им предложили простокваши.
— Кажется, я все-таки проголодалась, — сказала Мадикен, увидев на столе простоквашу.
Обе девочки очень устали. День сегодня выдался хоть и приятный, но долгий.
В Аппелькюллене есть мансарда с двумя комнатами, которые разделяет большой темный чердак. В одной из комнат живет Майя, а в другой будут спать Мадикен и Лисабет. Пожелав спокойной ночи тете и дяде Карлссонам и Туре, они отправились с Майей наверх. Мадикен первая побежала, ей не терпится посмотреть, где они сегодня будут спать.
Спальня ей понравилась. Это была уютная комната, хотя в ней почти ничего не было, кроме двух узеньких кроватей, маленького столика, двух стульев да умывальника. Но больше ничего и не нужно для того, чтобы спать.
В окно заглядывает вечернее солнце, его лучи падают на обои с цветочками, и от этого комната делается еще уютнее. Но в ней очень жарко.
— Фу ты ну ты, — говорит Майя, — какая тут жарища! — Она открывает окно, чтобы впустить свежего воздуха, и выгоняет мух, которые бились о стекла. Присмотрев за девочками, чтобы они как следует помылись, почистили зубы и легли в кровати, Майя, совсем как мама, подоткнула им одеяло.
— А что у вас там лежит? — спрашивает Лисабет, показывая на закрытый гардероб, который стоит в изножье ее кровати.
— Там хранятся наши зимние вещи, — говорит Майя. — Ну, спокойной ночи, девочки! Если вам будет что-нибудь нужно, вы знаете, где меня найти.
Майя уходит.
Мадикен и Лисабет принимаются болтать, вспоминая все хорошее, что случилось за этот день.
— И опасностей никаких не было, — говорит Мадикен.
— Странно, но не было, — говорит Лисабет.
Мадикен взяла раковину и стала слушать, но вдруг с другой кровати раздался пронзительный свист — это Лисабет подула в своего петушка.
— Ты больше не свисти, — говорит Мадикен. — Так и напугать можно.
Кругом тихо-тихо, нигде не слышно ни звука, да и стемнело уже…
Мадикен смотрит на картину, которая висит над ее кроватью. На ней нарисованы два ребенка с кудрявыми головками, одетые в белые ночные рубашечки. Прильнув к маминым коленям, они читают вечернюю молитву. Мадикен смотрела-смотрела и вдруг почувствовала, как она соскучилась по маме. О, какие же счастливые эти дети на картине! И по папе она тоже соскучилась, и по Альве, и Сассо, и Госе, и по Юнибаккену. Ей стало грустно и захотелось плакать. И Мадикен подумала, что вот-вот она зарыдает. Но сперва надо дождаться, когда уснет Лисабет. Ведь Мадикен — старшая сестра, а если она ни с того ни с сего заревет, Лисабет совсем перепугается.
Но, кажется, эта девчонка сегодня вообще не собирается спать! Она лежит в своей постели и только иногда вздыхает. Ну что же она никак не засыпает! Из-за нее даже поплакать нельзя. Мадикен чувствует, что долго она не вытерпит.
И вдруг Лисабет говорит:
— А знаешь что, Мадикен? Надо нам вернуться домой!
От неожиданности Мадикен даже забыла, что ей хочется плакать:
— Ты что — сумасшедшая? Почему это нам надо возвращаться домой?
— Надо. Потому что в шкафу прячется привидение, — говорит Лисабет.
— Да ну тебя! Нету там никого, — убеждает ее Мадикен.
Она догадалась, что Лисабет выдумала привидение, потому что она затосковала по дому, но не хочет об этом говорить.
Но раз Лисабет выдумала привидение, значит, оно там действительно есть и в любую минуту может открыть дверь и выглянуть из шкафа. Не дожидаясь этой минуты, Лисабет что есть мочи завопила:
— Хочу домой!
— Тише, Лисабет. А то Майя тебя услышит, — успокаивает ее Мадикен.
Но куда там! Лисабет заорала еще громче, так что Майя сломя голову прибежала к девочкам.
— Я хочу домой! — кричит Лисабет. — Потому что в шкафу сидит при-ви-и-и-дение!
Тетя и дядя Карлссон, и Туре тоже пришли узнать, что случилось.
— Да что вы, детки! Нет у нас в Аппелькюллене никаких привидений, — говорит тетя Карлссон.
— Да-а-а, как же! Их тут полный гардероб! — хнычет Лисабет. — Домой хочу-у-у!
Мадикен не знает, куда деваться от стыда, и ей жалко бедных Карлссонов.
— Сейчас я пойду и позвоню Альве, — говорит Майя.
— Позвони! И скажи ей, что я хочу домой, — говорит сквозь всхлипывания Лисабет.
Дядя Карлссон ее пожалел:
— Ну, не плачь, пожалуйста, деточка! Сейчас ты поедешь домой. Только не плачь!
И после того, как Майя поговорила с Альвой, Карлссоны исполнили желание Лисабет. Туре идет запрягать Конке. Бедный Туре и бедный Конке! Оба целый день проработали, и вот приходится на ночь глядя снова отправляться в дорогу, чтобы отвезти домой двух глупеньких девочек. Повезло им, что в Аппелькюллене живут такие добрые люди!
Мадикен стыдно, но в то же время она все-таки рада, что ее посадили в повозку и повозка выехала за ворота Аппелькюллена. А Лисабет даже не оборачивается, чтобы помахать на прощание.
— Спасибо за раковину! — крикнула Мадикен, когда повозка заворачивала за угол скотного двора. И только тут Лисабет обернулась, помахала рукой и крикнула:
— Спасибо за петушка!
Потом она так сильно дунула в свистульку, что Конке испугался и чуть не понес. Туре еле его удержал.
Как хорошо, что есть на свете такое чудное место, как Юнибаккен. Здесь можно купаться, качаться на качелях, играть в крокет, поливать огород и поить молоком ежика — вот сколько тут всего интересного! А еще тут есть Альва. И Альва понимает, что не могли они дольше оставаться в Аппелькюллене.
— Вот только не знаю, что на это скажет ваш папа, — ворчит Альва, укладывая девочек спать.
— А я ему скажу, что у них там полный гардероб привидений, — говорит Лисабет, обнимая подушку — свою привычную подушку, самую удобную на свете!
— Ну какой же ты еще ребенок! — говорит Мадикен. — Знаешь ли, Альва, уж больно много опасностей в Аппелькюллене! Спроси, если хочешь, у мамы. Нам очень повезло, что мы остались живы.
Утром девочки проснулись радостные. Сейчас они встанут и пойдут помогать Альве собирать землянику. У обеих девочек есть для ягод свои маленькие корзиночки с умными надписями. У Лисабет на корзинке выжжены слова: «Терпение и труд — все перетрут». У Мадикен написано: «Будь прилежной, не ленись!» И Мадикен бежит к земляничным грядкам, чтобы прилежно поработать. Там, в дальнем конце сада, очень хорошо, солнечно, и земляника быстро созревает. Альва уже насобирала несколько литров. Теперь ей пришла подмога. Полная решимости потрудиться на славу, Мадикен босиком бежит по нагретой солнцем траве. Следом торопится Лисабет. Внезапно она на всем бегу останавливается и в ужасе кричит:
— Змея! Змея!
И в ту же секунду Мадикен почувствовала, как ей что-то впилось в ступню, и она увидела ужасную гадюку, которая уползала от нее к каменной стене, ограждающей сад. Рядом застыла в ужасе Альва. Но, быстро опомнившись, она схватила со стены камень и швырнула прямо в голову змеи. Она даже не целилась, но бросок оказался метким. Эта змея больше уже никого и никогда не укусит.
Мадикен оцепенела от испуга. Она понимает, что с ней случилось. Ее укусила змея. Она уже почувствовала противную ноющую боль в ступне.
— Альва, я умираю, — кричит Мадикен. — Она меня укусила, я теперь умру!
Альва осмотрела ее ногу. После змеиного укуса на коже остались две маленькие дырочки от ядовитых зубов, и ступня начала пухнуть.
— Нет, ты не умрешь, — говорит Альва. — Но тебе нужно срочно в больницу.
Время не терпит. Поэтому Альва решила взять велосипед и посадить Мадикен на багажник. Ничего другого сейчас не придумаешь. Но что делать с Лисабет?
— Будь умницей! — говорит ей Альва. — Беги к Нильссонам и попроси, чтобы они позволили тебе посидеть у них до моего возвращения.
Лисабет громко плачет, но делает, как велено; она и сама понимает, что надо слушаться, — она тоже хочет, чтобы Мадикен осталась жива, если только это возможно, она хочет, чтобы у нее всегда, всегда, всегда была старшая сестра.
— Я буду умницей, — обещает Лисабет дрожащим голосом.
И вот Альва и Мадикен пустились на велосипеде в путь. Альва крепко перевязала укушенную ногу своим красным шейным платком, чтобы яд не пошел дальше, поэтому последнее, что увидела Лисабет, был трепещущий по ветру кончик красного платка. Велосипед исчез за поворотом улицы, и Лисабет осталась одна.
Тут она заплакала и, рыдая, полезла через забор в Люгнет. И надо же было случиться такому невезению — бедная Лисабет никого не застала дома! Она звала, стучала в дверь, но никто так и не вышел. Теперь она действительно очутилась одна в целом свете. От испуга Лисабет даже перестала плакать.
Она перелезла обратно через забор и стала звать Сассо. Милый, ласковый Сассо, он теперь ее единственное утешение! Ну и, конечно же, Гося! Лисабет садится на кухонное крыльцо с Госей на коленях, у ее ног Сассо. Здесь она и будет сидеть и ждать, когда вернется Альва и, может быть, Мадикен… если она останется жива!
— Только вряд ли она выживет, — говорит Лисабет пуделю, потому что, кроме него, ей не с кем поделиться. Слезы опять полились у нее из глаз, когда она подумала, что Мадикен, может быть, уже умерла, и представила себе, как грустно станет без нее в Юнибаккене.
— Правда, тогда мне достанется ее школьный ранец, — говорит Лисабет.
Потом она еще поплакала. Сассо тоже плачет вместе с ней и кладет ей лапки на колено, чтобы показать, что он ее жалеет и горюет вместе с ней.
Как плохо человеку одному, когда приходится ждать так долго. Под конец Лисабет точно оцепенела и даже перестала плакать, она сидит белая как мел и только ждет и ждет.
Но вот… Какое счастье! Наконец-то показалась Альва на велосипеде. Лисабет облегченно вздохнула и спустила с колен Госю.
— Ах, Альва! — воскликнула Лисабет. Она бросилась к Альве со всех ног и споткнулась о Госю, которая не успела увернуться. Раздался ужасный крик. И вот перед Альвой лежит на земле Лисабет с разбитым лбом, она раскроила его о железный скребок для обуви. Лисабет орет благим матом, кровь заливает ей глаза, она с головы до ног закапана кровью и Альву тоже измазала. Это какая-то кровавая баня!
— Альва, я умру! Я умру! Я умру! — выкрикивает Лисабет.
— Нет, не умрешь! — говорит Альва. — Но придется нам ехать в больницу и зашивать твою рану.
— Не-е-е-т! — орет Лисабет. — Не дамся, чтобы меня зашивали.
Но Альва перевязывает ей лоб кухонным полотенцем и на руках тащит к велосипеду, хотя Лисабет брыкается и не хочет ехать. В отчаянии Лисабет кричит:
— Ну разве ты сама не можешь меня зашить!
Много чего умеет Альва, но только не зашивать раны. Тут не обойтись без доктора Берглунда.
Снова Альва едет в больницу, везет орущую Лисабет. Увидев в операционной дядю Берглунда, Лисабет и на него закричала:
— Так и знайте — я только Альве разрешаю, чтобы меня зашивала!
Но не успела она и глазом моргнуть, как дядя Берглунд уже наложил ей пять швов.
— Ну вот и все! Альва может забирать тебя домой, — говорит он. — Или ты хочешь остаться с Мадикен?
В этой суматохе Лисабет совсем забыла про Мадикен.
— А разве она не умерла? — спрашивает Лисабет с удивлением.
— Ну что ты! — отвечает дядя Берглунд. — Она лежит за ширмой в коридоре и завтра вернется домой. Хочешь, мы и тебя положим рядом?
— Хочу! А то как бы я не умерла! — говорит Лисабет.
Альва уезжает на велосипеде одна. Но прежде чем уехать, она зашла заглянуть на Мадикен и Лисабет, которые лежат на кроватях за ширмой.
— Такого мне еще никогда не приходилось переживать! — говорит Альва, качая головой. Затем она уходит.
— Приходи за нами завтра! — крикнула ей вслед Мадикен.
Ее клонит в сон от всех лекарство и уколов, но она очень рада, что Лисабет вместе с ней.
— Он тебе отрезал ногу? — спрашивает Лисабет. Так, по ее представлению, должны лечить от змеиных укусов.
— Глупышка ты! — говорит Мадикен. — Ногу мне не отрезали, но она так распухла, что еле помещается на кровати.
Лисабет захотела поглядеть и, когда увидела, расхохоталась на весь коридор. Отсмеявшись, она поудобнее улеглась в постели и сказала:
— А вообще-то нам здорово повезло, что мы все время спим на новом месте!
Когда мама и папа вернулись из поездки, на вокзале их встречали девочки с Альвой. У Лисабет — забинтованный лоб, у Мадикен — перевязанная нога, но в остальном с ними все в порядке. Девочки так рады и возбуждены, что еле могут устоять на месте.
Паровоз пыхтя подъехал к перрону, поезд остановился, и среди чада и дыма Мадикен и Лисабет узрели двух ангелов, спустившихся с неба. Какое счастье! Папа и мама вернулись домой!
— Мамочка! — закричала Лисабет.
— Папочка! — закричала Мадикен.
В следующий миг мама и папа стояли уже на перроне и держали в объятиях девочек.
— Лисабет! Что с твоей головой? — сразу же спросила мама.
— Дядя Берглунд сделал мне пять швов на лбу, — с гордостью ответила Лисабет.
Мама даже вскрикнула:
— Так я и знала, что в Аппелькюллене с вами что-нибудь случится!
— Это ты так думала… — начинает говорить Лисабет.
Однако мама уже не слушает ее, потому что теперь она заметила забинтованную ногу другой дочери:
— И ты тоже! Да что же это такое с вами!..
— Меня укусила змея, — отвечает с веселой улыбкой Мадикен.
Мама бросает на папу взгляд, полный упрека:
— Ну что я тебе говорила, Юнас?
Но тут в разговор вмешивается Альва:
— Послушайте меня, я вам все сейчас объясню, — говорит она хозяину и хозяйке. И от нее они наконец узнали, как опасно жить в Юнибаккене.
Альва идет на бал
Дни бегут. Мадикен удивляется, как быстро они проходят. Внезапно кончилось лето, вдруг оказалось, что надо опять идти в школу, а потом вдруг наступила осень. Это сразу чувствуется в воздухе, стоит только высунуть нос из дома, да и на глаз тоже видно. Березы вокруг Юнибаккена начали желтеть, в саду запестрели флоксы, астры, а по утрам, отправляясь в школу, Мадикен находит в траве под деревьями упавшие яблоки. Она каждый раз подбирает две-три штуки и выходит за калитку с блестящими от росы ботинками. По дороге в школу они с папой грызут яблоки. Впрочем, папа направляется, конечно, не в школу, а в свою газету.
Мадикен рассказывает ему, как идут дела во втором классе. Все точно так же, как было в первом. Только Мия больше не ссорится с Мадикен. Мия снова ходит в школу. Иначе ведь нельзя. И конечно, то и дело с кем-нибудь ссорится, ребятам даже надоело.
— Со всеми ссорится, а со мною — никогда, — говорит Мадикен. — Мия говорит, что она ко мне хорошо относится.
— А ты к ней? — спрашивает папа.
— Тоже, конечно, — говорит Мадикен. — С ней интересно, она хорошо умеет играть.
Этим летом Мия и Маттис много раз приходили в Юнибаккен, поэтому Мадикен знает, как Мия умеет играть. Но в школе с ней довольно трудно. Сейчас, когда она хорошо относится к Мадикен, она все время старается это перед всеми показывать и очень надоедает своими приставаниями, объясняет Мадикен папе.
— Только и слышно: «Мы с Мадикен, мы с Мадикен!» Если ко мне на перемене подходит Анна Лиса и мы начинаем с ней разговаривать, Мия носится вокруг нас, поет, кричит и визжит, так что ничего не слышно. Зато играть она и правда умеет!
— Вот вы и играйте! — говорит папа.
А Мадикен и так с ней играет. Мия и Маттис часто приходят в Юнибаккен в гости. Иногда является одна Маттис — поиграть с Лисабет, пока Мадикен сидит в школе.
Маттис играет хуже, но Лисабет старается ее научить. Маттис не остается в долгу, от нее тоже можно кое-чему научиться. Лисабет узнала от Маттис уйму всяких слов, которых она прежде никогда не слыхала. Лисабет копит новые слова. Не все они хорошие. Мама совсем не обрадовалась, когда однажды они с Лисабет повстречали на городской площади бургомистершу и Лисабет изрекла:
— Глянь-ка, вон идет толстозадая!
К счастью, бургомистерша не расслышала. Завидя маму, она обрадовалась и на всех парах поспешила ей навстречу, чтобы поговорить об осеннем бале, который решено было устроить в садовом павильоне городской гостиницы. Но рядом с мамой стоит Лисабет, и маме сейчас не до разговоров, она боится, как бы ее дочка не выпалила что-нибудь неподходящее, и ни о чем другом не может сейчас думать.
— Я надеюсь, что вы придете всем семейством, — говорит бургомистерша. — И полагаюсь на вас, что Юнас потом подробно напишет о нашем бале в газете.
— Я его попрошу, — говорит мама.
Бургомистерша уходит, и мама начинает отчитывать дочку:
— Это просто ужасно, Лисабет! Никогда не говори этого слова! Обещай мне, что ты больше не будешь!
— Буду только в гардеробе перед сном, — предлагает маме Лисабет.
Но и это маму не успокоило. Она боится, как бы плохое слово не выскочило из гардероба в самый неожиданный момент. Поэтому она не соглашается:
— И там нельзя! Никогда больше нельзя, ты слышишь!
Но Лисабет не дает маме определенного обещания. Тогда мама решила испробовать другой способ.
— Если ты мне пообещаешь никогда больше не говорить тол… ну, это самое слово, я дам тебе десять эре.
И Лисабет согласилась на сделку. Разговор шел на рыночной площади, рядом с кондитерской фру Эберг, а там можно купить уймищу мятных лепешек.
— Обещаю, что больше не буду, — говорит Лисабет.
Получив свои десять эре, она накупила целый кулек мятных лепешек. И тут она вдруг заметила самые вкусные конфеты — «Театральные».
— А сколько стоят вот эти конфеты?
— Эти, деточка, по двадцать эре десяток, — говорит фру Эберг.
Лисабет подумала-подумала и подошла к маме, которая в соседнем ряду покупала цветную капусту.
— Мама, а мама! — говорит Лисабет. — Я знаю еще одно слово, которое вдвое хуже этого. Если ты дашь мне двадцать эре, я никогда не буду его говорить.
Тут мама на нее рассердилась:
— Как тебе не стыдно, Лисабет! Я с тобой больше не стану торговаться! Но если хоть раз еще услышу от тебя такое слово, ты об этом пожалеешь, так и знай!
На этот раз мама поступила очень разумно. Потому что у Лисабет было в запасе еще много таких словечек, и если бы мама вздумала их скупать, она бы просто разорилась. Во всяком случае, так сказал потом папа. Придя с работы, он узнал новости про гадкие слова, которые знает Лисабет, и про то, как она ими торгует. Услышал он и о встрече с бургомистершей, и о том, что та сказала о предстоящем бале.
— Ага! Теперь он опять на очереди, — говорит папа.
Осенний бал устраивается каждый год, и больше всех хлопочет о нем бургомистерша, ведь бал этот — благотворительный, а она — самая главная благотворительница в городе. Она очень хитро придумала, чтобы богатые люди натанцевали для бедняков кучу денег. Бедняков в городе много, поэтому билет стоит очень дорого. Однако ради такого удовольствия не жалко потратиться — танцевать-то весело!
А уж кто любит потанцевать, так это Альва! И скоро она потанцует, хотя, конечно, не на осеннем балу.
— Это не для прислуги, — сказала Альва. Но и у нее тоже радость — она приглашена на свадьбу двоюродной сестры Берты. Берта многого добилась в жизни. Она выходит замуж, и не за кого-нибудь, а за лейтенанта!
В один прекрасный день в почтовом ящике оказался пригласительный билет. Альва почти никогда не получает писем, и на свадьбу ее еще тоже ни разу не приглашали.
— Уж и не знаю, как тут быть! Как же я пойду на свадьбу! У меня ведь нет подходящего платья, — говорит Альва.
Тогда мама полезла в свой гардероб, и не затем, чтобы говорить гадкие слова, а чтобы посмотреть, не найдется ли там какого-нибудь платья для Альвы.
И оно нашлось. Мама достала из гардероба длинное платье из белого муслина[37] и дала Альве.
— Примерь вот это! На меня оно больше не лезет.
— Ой, этот наряд слишком шикарный для меня, — говорит Альва.
Но мама не соглашается.
— Примерь-ка! — говорит она.
И вот мама, Мадикен и Лисабет сидят на кухне и ждут, пока Альва в своей комнате примеряет платье.
Альвы довольно долго нет, но вот она возвращается. Такой Альвы девочки никогда еще не видели.
— Ой, какая же ты красивая! — кричит Мадикен. — Ты в нем совсем как невеста!
— Только еще красивее, — говорит Лисабет.
Лицо у Альвы разрумянилось, глаза блестят.
— Мне и самой кажется, что выгляжу в нем неплохо. Но что скажет Берта, если я явлюсь на свадьбу в белом, как невеста! Ведь невеста она, а не я.
— Пускай говорит что хочет, — решает мама. — А это платье будет носить Альва.
Альва несколько дней ходила веселая, заранее радуясь, как она потанцует на свадьбе в белом платье. И однажды даже сказала так:
— Ведь я об этом всю жизнь потом буду вспоминать!
Но в понедельник утром от Берты пришло новое письмо. Свадьба не состоится! Надо же было такому случиться — лейтенант, оказывается, смылся!
Альва очень жалеет Берту — ей так не повезло. Но и для Альвы это большое огорчение, она ведь так радовалась, что поедет на свадьбу!
— Вам, хозяйка, наверно, лучше забрать свое платье, — сказала она маме. — Мне оно, как видно, никогда уже не понадобится.
Однако мама проявляет удивительную настойчивость.
— Но я хочу, чтобы ты, Альва, танцевала в этом платье! Почему бы тебе вместо свадьбы не пойти на осенний бал? Я тебя приглашаю!
Сначала Альва и слышать об этом ничего не хотела:
— Спасибо, хозяйка, вы очень добры, но это невозможно, ведь бургомистерша в обморок упадет.
— Ну и пусть падает, — говорит мама.
Мадикен и Лисабет не понимают, почему бургомистерша должна падать в обморок, если Альва пойдет на бал. Девочки еще не понимают разницы между господами и простыми людьми. Бургомистерша хочет, чтобы на балу собирались только господа, так объяснила им Альва вечером, когда она учила их на кухне танцевать вальс. Но Альва все-таки решилась. Она пойдет. Она не в силах отказаться, что бы там ни думала бургомистерша.
— Не выгонит же она меня оттуда! — говорит Альва. — Да и хозяин тоже говорит, чтобы я пошла.
Это Мадикен уже знает, потому что, когда мама ему рассказала, что приглашает Альву на бал, папа с восхищением сказал:
— Ишь ты, какая отчаянная! Вот уж никак от тебя не ожидал!
— Ну как тебе не стыдно! — бросила мама по привычке. Правда, на этот раз она говорила шутливо.
Мадикен и Лисабет никогда еще не бывали на балу. Их берут в первый раз. Они радуются не меньше Альвы и во время уроков, которые им дает Альва на кухне, только об этом и болтают. Как хорошо Альва танцует!
— Еще бы мне не уметь! — говорит она. — Сколько же я набегалась по танцам, ни одного лета не пропустила!
Дни идут, и бал приближается.
— Ну, в субботу будет решительный день, — говорит Альва. Как видно, она немного побаивается.
— Наверно, я сумасшедшая. Лезу зачем-то в господское общество. Жуть, да и только!
— Чепуха! — говорит Мадикен. — Когда ты придешь туда такая красивая, в нарядном платье, они все обрадуются.
Лисабет тоже так думает:
— А если нет, значит, они дураки толсто… Жалко, нельзя сказать это слово, потому что мне мама дала десять эре.
Но Альва сомневается:
— Без вас я бы точно туда не сунулась.
Наконец наступила суббота. И настал вечер.
Значит, бойся не бойся, а пора отправиться на бал.
— Ну вот! Весь Юнибаккен явится как один, — говорит мама. — И не смотри так испуганно, Альва! Мы же идем, чтобы повеселиться, правда?
— Ах, кто его знает, чем еще это кончится! — шепчет Альва.
Еще издали они услышали духовую музыку и увидели за деревьями темного сада яркие огни павильона. Открытая веранда украшена гирляндой разноцветных фонариков. Это очень красиво. А на лестнице горят факелы. Мадикен подумала, что это похоже на сказочный замок. Какой же будет замечательный праздник среди такой красоты! А народу, народу-то сколько! В вестибюле люди снимают верхнее платье, слышится смех, разговоры, кто-то кого-то окликает. Тут все друг друга знают, все здороваются, раскланиваются направо и налево, все говорят, как они рады, что встретились. Все так нарядны! Мужчины — во фраках и мундирах, дамы — в длинных платьях, с жемчужными ожерельями и драгоценными камнями, у всех красивые прически.
«И мы тоже нарядные», — подумала Мадикен. На маме красное бархатное платье с глубоким вырезом, на Альве — белое, а Мадикен и Лисабет пришли в своих гипюровых платьицах.
Альва боится, она совсем оробела от шума и гама. Но Мадикен и Лисабет с торжеством тянут ее в большой зал. Впереди идет папа, показывая дорогу.
Первой, кого они увидели, переступив порог, была бургомистерша. Как приветливо она их встретила!
— Вот я привел всех моих женщин. И все, как видите, прехорошенькие! — с гордостью говорит папа.
Но когда бургомистерша узнала Альву, она перестала улыбаться. Бургомистерша не забыла того лосося, которого ей не уступила Альва. Впрочем, не один лосось виноват в том, что она сейчас поморщилась.
— Милый Юнас, — говорит бургомистерша, — у нас тут не принято приводить на бал прислугу!
Она говорит это тихо и притворяется, будто она считает, что Альва ее не услышала. У Альвы прекрасный слух, и она вся заливается краской.
Папа пристально глядит в глаза бургомистерше.
— Вот как! — говорит он. — У вас не принято? Значит, пора отменить этот обычай, так мне кажется.
Затем он берет под руку маму и Альву и ведет их через зал к заказанному столику. Мадикен и Лисабет едва поспевают за ними.
Мадикен испуганно поглядывает на Альву — очень ли она огорчилась. Но Альва удивленно все разглядывает. И Мадикен тоже начинает разглядывать зал. Ах, как же красиво в павильоне! Весь зал в зеркалах, везде горят лампочки, кругом позолота, а посредине большая площадка для танцев, с блестящим и гладким полом. Уж если тут не затанцуешь, значит, ты сам виноват! Вокруг площадки для танцев стоят длинные ряды накрытых столиков. Кроме танцев, конечно же, будет еще и ужин.
— Бургомистерша хочет, чтобы мы хорошенько поели — в пользу бедных, — говорит папа, усаживаясь за стол. — Так что давайте поедим чего-нибудь вкусного.
Они сели около танцевальной площадки. Это очень здорово, отсюда всем будет видно, какая красивая Альва в нарядном платье! Мадикен уверена, что Альва будет королевой бала. В программке также написано, что будут выбирать королеву. Это выдумка бургомистерши. Пускай завидует, если все возьмут и выберут Альву!
Высоко на эстраде сидит полковой оркестр и так прекрасно играет! Мадикен все кажется здесь прекрасным. Действительно, как сказала Альва, это будешь потом вспоминать всю жизнь!
Папа заказывает что-то, что называется деликатесами. Когда им все принесли и поставили на стол, Альва просияла. До сих пор она сидела нахмуренная, но разве можно хмуриться, когда перед тобой стоят такие кушанья! Тут тебе и омары, и копченая лососина, и копченый угорь, и копченые цыплята, и сардины, и селедка, и разные сыры, и салаты, и заливное, и омлеты, и малюсенькие тефтельки. Альва любит покушать. Мадикен любит омаров, она взяла себе только омара. Лисабет выбрала только тефтельки, она их любит больше всего.
— Стоило платить пять крон, чтобы ты ела одни тефтельки! — говорит папа.
— Стоило! Надо всегда выбирать самое лучшее, — говорит Лисабет так, словно она каждый день ходит в ресторан и все знает.
Во время ужина бургомистерша ходит между столиками и продает мужчинам бумажные цветы. Это еще одна затея, чтобы выручить побольше денег для бедных. Каждый кавалер подарит цветок какой-нибудь даме, и та, которой подарят больше всех цветов, и будет королевой бала. Мадикен в душе ликует, она нисколечко не сомневается, что выберут Альву. Мужчины, купившие цветы, с интересом на нее поглядывают. К столику, за которым сидят Мадикен и Лисабет, бургомистерша так и не подошла. Наверно, она не успела, потому что уже должны начаться живые картины[38] и концерт. Бургомистерша сказала, что это будет семейный праздник и она хочет, чтобы дети тоже могли повеселиться. А когда начнутся танцы, деток отправят по домам спать.
— Мы с Лисабет останемся, — говорит Мадикен. — За нами некому прийти, раз Альва тут.
А главное, они ведь пришли затем, чтобы посмотреть, как Альва будет танцевать в белом платье, а не для того, чтобы слушать, как будет петь бургомистерша.
— Ничего не поделаешь, придется вам потерпеть, — говорит папа.
Но оказалось, что у бургомистерши и правда хороший голос.
«Ах, лучше ночью темной не спать бы никогда», — поет бургомистерша. «Конечно!» — мысленно соглашается с ней Мадикен. Впрочем, здесь никто и не собирался спать.
Бургомистерша пела очень нежно, и Мадикен слушала с удовольствием. Но многим детям ее пение не понравилось. Они стали вертеться и ерзать. Особенно Лисабет. Скучное пение ей надоело, и она вдруг соскочила со стула и затеяла беготню между столами с Мартином, сыном доктора Берглунда. Лисабет ловит Мартина, они смеются, шумят и всем мешают. Мама любит пение. Она заслушалась и не сразу заметила, что вытворяет Лисабет. Мама бросилась ее ловить, чтобы усадить на место, но Лисабет внезапно пропала из виду. Они с Мартином плюхнулись на четвереньки и давай ползать друг за дружкой под столами. Так было еще интереснее.
— С ума сойти, сколько же там ног! — говорит Лисабет. Она совсем расшалилась и начала кривляться и строить Мартину рожи. Тот, глядя на нее, от хохота даже стал икать. Но Лисабет его и погубила. Ползая под столами, они не заметили, как очутились возле самой эстрады. И тут Мартин опрокинул стул, который с грохотом повалился, когда бургомистерша выводила последнюю затухающую руладу. Мартин перепугался и кинулся под защиту мамы и папы. А Лисабет., радостно смеясь, поднялась с четверенек. Вот это бал так бал! Такого замечательного бала она еще никогда в жизни не видывала! Выпрямившись, она увидела, что прямо перед ней стоит бургомистерша. Наконец-то она кончила свое дурацкое пение. Но почему она уставилась на Лисабет с таким свирепым строгим выражением? Вот умора! Лисабет смотрит на нее в недоумении.
А бургомистерша ей и говорит:
— Скажи, дорогая Лисабет, ты меня знаешь?
— Да, — смеясь, отвечает Лисабет. — Но мне дали десять эре.
На этот раз в недоумении осталась бургомистерша, но принялась втолковывать непонятливой Лисабет, чего та не знала.
— Я тобой недовольна, — говорит она, — потому что не люблю, если маленькие девочки не сидят на месте и не слушают, когда для них кто-то поет.
Тем временем подоспела мама и извинилась за выходки своей дочери. Она увела Лисабет на место и наскоро сделала ей внушение. Лисабет отделалась легко, потому что в это время начались живые картины.
Картины были чудо как хороши, Мадикен пришла от них в восхищение. Показывали «Рыцаря и девушку», «Царицу эльфов» и «Пир викингов». Живые картины разыгрывали на сцене люди, а придумала их бургомистерша. Все-таки она — молодчина! Царицу эльфов изображала ее дочка, она выступала в платье из тюля с венком на голове. «Какая счастливая эта девочка!» — подумала Мадикен и сказала Альве:
— Просто умереть можно, до чего это красиво! Правда?
— Да уж! — ответила Альва. — В жизни не видела такой красоты!
Потом вернулся оркестр. Музыканты уходили подкрепиться, а теперь они со свежими силами начали играть танцы. Мадикен с восхищением смотрит на Альву. Интересно, кто первым успеет ее пригласить? Наверно, один из лейтенантов гарнизона или вот тот худощавый маленький нотариус, если он поторопится.
Оркестр заиграл вальс. И сразу вся площадка для танцев наполнилась людьми. У Лисабет ноги сами просятся в пляс, скорей бы потанцевать! Она дергает сестру за руку:
— Пойдем! Станцуем вальс.
Мадикен хотела дождаться, когда пригласят на танец Альву, но Лисабет настойчиво теребит ее — недаром же она выучила этот танец, сейчас самое время показать свое умение!
И Мадикен тоже не прочь попробовать. Она обнимает сестру за талию, и вот уже обе закружились среди танцующих пар. «Раз-два-три», — отсчитывает Мадикен такт, как ее научила Альва. Все получается отлично, куда лучше, чем дома на кухне, под музыку гораздо лучше танцуется. Не беда, если иногда с кем-нибудь столкнешься! Главное, не сбиться с такта: «Раз-два-три, раз-два-три», — кружатся девочки. Но Мадикен следит, чтобы не слишком удаляться от своего столика. Она хочет посмотреть, кто же, в конце концов, пригласит Альву.
Но Альва все так же сидит за столиком. И никто не идет ее приглашать. «Да что же это такое? Почему?» — недоумевает Мадикен. Ей уже и танцевать неохота. Надо посмотреть, не расстроилась ли Альва.
— Больше мы не танцуем, — говорит Мадикен и без долгих разговоров убегает от сестры.
Альва сидит, опустив глаза. Видно, что ей хочется поскорее уйти отсюда. Но разве так ведут себя на балу! Надо весело смотреть по сторонам. Иначе тебя никто не пригласит. Даже Мадикен это понимает.
— Ты улыбайся, Альва! — горячо шепчет ей Мадикен.
Но на губах Альвы не показалось даже слабой улыбки. Чтобы подбодрить Альву, мама и папа развлекают ее разговорами. Но их старания пропадают даром. Она слушает только вполуха и отвечает односложно. Сегодня Альва что-то не расположена к болтовне.
Следующий танец — полька, и опять никто не пригласил Альву! Тогда папа сам ее приглашает. Но Альва смотрит с испугом и говорит:
— Ой, зачем вы, господин редактор! Зачем вам из-за меня срамиться перед господами!
А Лисабет устала и наконец угомонилась. Она залезла к папе на колени и уснула. Теперь папа вообще не сможет ни с кем танцевать — ни с Альвой, ни с мамой. Мама — та и сама не хочет. Она говорит, что не чувствует в себе легкости. Она ведь хотела, чтобы потанцевала и повеселилась Альва.
Но Альве не до веселья. Все кругом танцуют и танцуют, даже пол ходит ходуном, а с Альвой никто не хочет потанцевать. Едва начинается музыка, все кавалеры спешат к другим дамам и барышням, а на Альву никто и не смотрит. Все берут пример с бургомистерши, которая, проплывая в танце мимо их столика, окидывает Альву холодным взглядом и подбирает рукой юбку, словно боится, как бы нечаянно не прикоснуться к такой недостойной особе.
Папа еле сдерживает возмущение. Мадикен видит это по его лицу. А рассерженный папа того и гляди может сорваться, и тогда мало ли что… Мама тоже обижена. Мадикен слышит, как она шепчет папе:
— Эта курица успела обойти все столики и всем наговорить глупостей!
— А как же иначе! — говорит папа. — Когда-нибудь я отведу ее в сторонку и выскажу наконец все, что я о ней думаю!
Мадикен робко оглядывает Альву и замечает, что у нее на глазах навернулись слезы. Одна слезинка сорвалась с ресниц и покатилась по щеке, но Альва ее торопливо стерла платочком. Она не хочет показать, как ей горько.
Но Мадикен все поняла. Как же ей не понять, что сейчас чувствует ее любимая Альва! Альва плачет потому, что бургомистерша и все эти глупые людишки обидели ее своим надменным и презрительным поведением. Мадикен подумала, что Альву стало не узнать, в ней точно что-то надломилось.
«Уж какая есть, такая я и есть. С какой стати я буду другой!» — любила говорить Альва, и то же самое было написано у нее на лице. А сейчас ее точно подменили. Можно подумать, что она себя стыдится.
Мадикен чувствует, что больше не может этого вынести. Еще немного, и она тоже разревется. А это было бы слишком ужасно. Надо куда-нибудь уйти, где можно без стеснения поплакать. Может быть, на веранду?
— Я скоро вернусь, — пробормотала Мадикен, и, к счастью, никто не стал ее удерживать.
Ей повезло: на веранде никого не оказалось. А то обычно толпится народ и заглядывает в окна. Если тебя не пускают на праздник, то можно хотя бы посмотреть, как другие веселятся. Это никому не запрещается. Даже пьяницы из «Забегайки», заслышав музыку, тянутся к освещенным окнам павильона.
Разноцветные фонарики только слабо освещают веранду, и здесь самое подходящее место, чтобы пореветь. И Мадикен дала волю слезам. Закрыв лицо руками, она горько рыдает. Ну почему жизнь так печальна, когда все могло бы быть так хорошо? Почему никто не знает ответа?
Долго проплакала Мадикен в темноте, ей стало холодно в легком платьице. Вдруг она услышала рядом чей-то голос:
— О чем это ты горюешь?
Перед нею, черный как ночь, стоял трубочист Берг. Мадикен испугалась до полусмерти. Вообще-то она никогда не боялась трубочиста Берга. Он ей даже нравился. Она даже часто вела с ним разговоры, когда он приходил в Юнибаккен прочищать печные трубы. Но сейчас он ее очень напугал.
Трубочист Берг возвращался домой после работы. В доме по соседству загорелась сажа в трубе, и он ходил тушить пожар. Хотя сегодня суббота, но дело было неотложное, и ему пришлось пойти, несмотря на позднее время. Потушив пожар, он сходил в «Забегайку», прополоскал горло пивком. А потом решил посмотреть, как пляшут господа. Он совсем не хотел испугать Мадикен.
Трубочист Берг очень обходителен с женщинами. Он всегда находит общий язык даже с такими маленькими, как Мадикен. Он быстро выведал, о чем она горюет. Она ему все выложила. Про белое платье, и Бертину свадьбу, и про бургомистершу, и про то, что у Альвы на глазах слезы и она ни разу не потанцевала.
— Ну и безобразие! — говорит трубочист. — Такая красивая и славная девушка! Вот уж действительно безобразие!
Трубочист заглянул в окно, и Мадикен показала ему, где сидит Альва. Даже отсюда видно, какая она унылая.
— Да уж! Это никуда не годится, чтобы девушка сидела с таким несчастным видом, тем более на балу! — говорит трубочист.
И снова заиграла музыка, это опять вальс — «Прощание ландышей». Мадикен сразу узнала его, это любимый вальс Альвы.
Трубочист такой молодец, что все на свете умеет. Он и поет хорошо. Глядя в окно на Альву, он сначала стал тихонько напевать мелодию вальса, а потом вдруг как запоет во весь голос! Распахнув настежь дверь, он вошел в зал и, продолжая петь, направился прямо к Альве. За ним по пятам мышонком прошмыгнула Мадикен.
— Разрешите вас пригласить, фрёкен Альва! — говорит трубочист, раскланиваясь перед ней. — Уж вы простите, что я так черен и грязен и от меня несет пивом!
«Ну, если бургомистерша до сих пор не грохнулась в обморок, то теперь это с ней непременно случится», — думает Мадикен.
А остальные гости решили, что появление поющего трубочиста входит в программу праздника. Все перестали танцевать, ожидая, что будет дальше.
Ждет и трубочист.
— Ну как, фрёкен Альва? — спрашивает он.
Наконец-то Альва пришла в себя от неожиданности. Она улыбнулась и смело посмотрела в глаза трубочисту.
— Спасибо, я с удовольствием! — сказала Альва, тряхнув головой. — Давно пора выйти на круг и показать этим мокрым курицам, как люди танцуют!
Она встала, трубочист обхватил ее своей черной рукой за талию, и тут уж она всем показала!
Никто, кроме них, не танцует, и только они вдвоем летают по залу, словно птицы, и поют, и не отрываясь глядят в глаза друг другу. Альвино платье развевается в вихре вальса. Они танцуют и танцуют, и поют, и смеются. Такого танца Мадикен никогда в жизни еще не видела. До чего же это красиво! Альва вся в белом, такая красивая, и трубочист тоже — такой красивый и весь черный. Мадикен даже затаила дыхание. Ей хочется, чтобы их танец никогда не кончался.
И тут что-то случилось со всеми, кто на них смотрел. Они ведь обещали бургомистерше выжить с бала служанку Энгстрёмов холодным обращением. Но они словно забыли о своем обещании. Все смотрят увлеченно и тоже поют и хлопают в ладоши в такт музыке. Мадикен посмотрела на папу. Восторженно и весело он говорит маме:
— Смотри хорошенько! Такой красоты ты нигде больше не увидишь!
Бургомистерша в ладоши не хлопает и не поет. Она успела напеться.
Зато бургомистр, который весь вечер просидел за столом, попивая пунш, вскочил со стула и, любуясь бело-черной парой, кружившейся в вальсе, восхищенно захлопал в ладоши и спросил у жены:
— И где это ты их откопала? Эта пара — чудесные танцоры!
— По-моему, тебе пора идти домой! — сказала на это бургомистерша.
А музыка все играет. Кажется, музыканты сами не хотят кончать. И только по знаку бургомистерши, которая сердито махнула рукой, музыка смолкла.
Тогда трубочист отвесил Альве поклон, отвесил поклон бургомистерше и остальным зрителям. Затем он подал Альве руку, и они с песней торжественно покинули зал. Но, прежде чем выйти за дверь, трубочист громко сказал:
— Я ухожу вместе с ландышем! А вы теперь попляшите сами, как умеете. Эх вы, кузнечики!
Придя домой, Мадикен прибежала к Альве на кухню. Хотя было уже поздно, Альва еще не ложилась. Она сидит за столом, пьет молоко с сухарями, и лицо у нее совершенно счастливое. Она еще не сняла с себя белого платья, но только оно уже не совсем белое, потому что на талии стало черным.
— Ой, как же я влюбилась в трубочиста! — говорит Альва.
От таких слов Мадикен встревожилась:
— Нельзя, Альва! Он ведь женатый, и у него пятеро детей.
— Знаю, — говорит Альва. — Поэтому я решила влюбиться до четверга или до пятницы. А потом я образумлюсь… Но уж до тех пор… Ух! Как же я в него влюблена! Просто сил нет, как я влюблена!
— Оно и видно, — говорит Мадикен.
Она успокоилась насчет Альвы. Раз только до пятницы, то пускай себе влюбляется!
Мадикен зевнула. Ей хочется спать. Она никогда еще не засиживалась так поздно. Но есть одна вещь, которую ей обязательно надо обсудить с Альвой перед тем, как они лягут спать.
— А знаешь, что сказал папа, когда начали выбирать королеву бала? Знаешь, что он закричал на весь зал?
— Нет! А что он такое сказал? — спрашивает Альва.
— Он сказал, что выбирать некого. Королева бала уже ушла!
— Ха-ха! — отозвалась на это Альва.
Мой сын — бравый летун
И вот осень всерьез принялась за дело. Дождь льет так, что кажется, он скоро без следа смоет весь Юнибаккен. Мадикен ходит в школу в капюшоне и высоких сапогах и возвращается домой измазанная в глине, вся промокшая, усталая и сердитая. Хорошо тому, кто, как Лисабет, посиживает на диване около печки и слушает мамины сказки. А Мадикен должна сидеть на жесткой скамье за партой и слушать только про то, как правильно пишутся какие-то звуки.
— И ведь надо же, что один и тот же звук в разных слогах пишется по-разному! — жалуется она маме. — Ну почему никто не наведет порядок в грамматике?
Мадикен растянулась на полу перед печкой. Ей тоже охота понежиться. Мама шьет распашонки. Лисабет вяжет крючком. От усердия у нее горят щеки. Лисабет недавно научилась вязать, а это дело не простое.
— Свяжу что-нибудь для нашего братика, — говорит Лисабет, а что свяжет, она еще и сама не знает. — Может быть, шапочку, а может быть, одеяльце. Поживем — увидим, что получится, — говорит Лисабет.
Это выражение она подхватила у мамы. Мама тоже говорит: «Может быть, будет мальчик, а может быть, девочка. Поживем — увидим, кто родится. Вы, пожалуйста, не думайте, что непременно братик».
Видно будет только под Рождество. Но мама уже достала с чердака колыбельку, в которой спали Мадикен и Лисабет, когда они были маленькие. Альва помогла маме обтянуть колыбельку новой материей с цветочками и украсить воланами. Они не переставая восхищались, как это прелестно.
Папа невзлюбил разговоры про воланчики и с тех пор называет все скучные для него разговоры «воланчики».
Часто папа задумывается: а что будет, когда Мадикен и Лисабет вырастут и тоже начнут обсуждать «воланчики»! Хорошо бы, чтобы к тому времени в доме появился мальчик, считает папа. Но, впрочем, он и девочке будет рад.
— Этого народу — чем больше, тем лучше! — говорит папа.
Но прежде чем ОНО появится, надо еще ждать и ждать, пока не пройдет темная долгая осень. Мадикен думает, что это очень скучно.
— У нас ничего нового не случается! — пожаловалась она Альве.
— А как же наводнение в подвале? — спрашивает Альва.
Но Мадикен считает, что от наводнения мало радости, поэтому она часто убегает в Люгнет поболтать с Аббе. С ним, по крайней мере, не соскучишься. Пока Аббе возится у плиты, он столько всего рассказывает между делом. Правда, рассказывает только тогда, когда они остаются на кухне вдвоем. Тогда Мадикен узнает, сколько замечательных дел он собирается совершить, когда будет взрослым. А задумал он немало. Либо он станет капитаном на бриге «Минерва» и всем бурям назло совершит кругосветное путешествие по ревущим морям и океанам, либо станет машинистом на транссибирской железной дороге, — он еще окончательно не решил, что ему выбрать. Мадикен находит, что куда спокойнее будет, если он станет машинистом. Но тут она, оказывается, ошиблась. По транссибирской дороге ездят сплошь одни анархисты с бомбами в кармане, и Чуть ли не каждый день поезда с грохотом взлетают на воздух.
— Если там зазеваешься и вовремя не соскочишь, то превратишься в котлету, — говорит Аббе.
У Мадикен мурашки бегут по коже, но Аббе в восторге от такого будущего.
— А знаешь, куда можно полететь с поезда, если спрыгнешь? В бушующие волны бурной реки, а иногда в яму, где копошатся змеи! А что ты думала! Это тебе не то что в Европе.
И Мадикен все больше склоняется к тому, что пускай уж Аббе лучше будет кладоискателем, как он хотел раньше.
— Может быть, — говорит Аббе. — Хотя кладоискателю приходится забираться в жуткие подземные пещеры, в которых кишат змеи и всякие пресмыкающиеся. Именно там и надо искать! Но уж коли ты напал на подходящую пещеру, то можешь таскать золото ведрами, — утверждает Аббе.
Если останется время, он на воздушном шаре слетает на Северный полюс.
Сворачивая крендельки, он поет песенку:
Был упрям месье Андре, Вбил он в голову себе, Чтоб воздушный шар надуть И на Полюс так махнуть.У Аббе тоже крепко засела в голове мысль, которую вбил себе месье Андре: он хочет когда-нибудь сам затеять такое же путешествие.
— Как здорово, что на свете полно всяких приключений! — говорит он. — Я хотел бы всюду побывать, только бы мне успеть!
— И тогда ты больше не будешь печь крендельки? — спрашивает Мадикен.
— А ты как думала! Разве что когда мы будем праздновать Рождество на «Минерве», тогда я, может быть, еще тряхну стариной. Если только в это время не будет штормить, а то они будут скатываться с противня.
Иной раз бури и ураганы налетают и на Люгнет. Правда, от них крендельки никуда с противня не скатываются. Это бушует дядя Нильссон. Когда вокруг дома клубится туман, а с неба льет дождь, жизнь перестает его радовать, и тогда дядя Нильссон начинает размышлять о печальных вещах и все время указывает тете Нильссон, что она делает глупости. И не одна она такая, а вообще все бабы бестолковые в этом городе, в этой стране и вообще на всем свете. Дядя Нильссон возлежит на диване, сцепив руки на животе, и укоризненно смотрит на нее, точно она виновата во всех глупостях, какие творятся в мире.
— Зато какая удача, что нашелся на свете по крайней мере один человек, который всегда знает, что к чему, и никогда не делает никаких глупостей! — говорит Аббе.
— И кто же это? — недовольно спрашивает его дядя Нильссон.
Аббе слегка дотрагивается кончиком пальца до его носа:
— Ну конечно же ты, папаня!
— Гм! — бурчит дядя Нильссон и замолкает.
Он лежит, размышляя о чем-то, и только временами вздыхает. Тетя Нильссон даже обрадовалась, когда он наконец стал собираться, чтобы заглянуть ненадолго в «Забегайку».
— Больно уж он, бедненький, заскучал, — говорит она.
«А как же тут не заскучать, — думает Мадикен, — когда возвращаешься из школы под дождем, вся мокрая, а дома тебя еще ждут невыученные уроки!»
Но вот однажды все-таки случилось событие удивительное и невероятное! О нем рассказал папа, придя из газеты. Подумать только: в город должен прибыть летчик на аэроплане! Он расположится с аэропланом на Мельничном лугу за Южной заставой и оттуда будет делать полеты над городом. В папиной газете печатают его объявления.
— А он будет выпрыгивать с парашютом? — спрашивает Мадикен, которая сама уже пробовала совершить такой прыжок.
— Ни в коем случае! — говорит папа. — Но зато он будет летать кругами и показывать, как самолет кувыркается в воздухе, а также будет катать пассажиров. Кто захочет, сможет полетать над городом десять минут. В объявлении написано, что это стоит сто крон.
Аббе сделался сам не свой, когда Мадикен принесла в Люгнет газету для тети Нильссон и показала ему объявление. У него даже выступили слезы на глазах:
— Вот несчастье! Ну почему у меня нету ста крон? А то бы я полетал!
Тетя Нильссон считает, что Аббе заслуживает, чтобы ему дали потратить на себя сто крон, он каждый день трудится у плиты не покладая рук. Но чтобы выкинуть такие деньги на пустяки — это никуда не годится! Да кроме того, у нее сейчас нету ста крон, ей нечего дать ему, если бы она и захотела.
— Ты ведь и сам понимаешь, сыночек, — чего нет, того нет!
Аббе, разумеется, все понимает! Летать могут миллионеры и всякие прочие богачи. Но ведь мечтать-то никому не запрещается. И Аббе так сильно размечтался, что у него даже нос побелел.
— Но уж, по крайней мере, я хотя бы погляжу на настоящий аэроплан! — сказал он, когда они с Мадикен остались одни. От этой мысли им стало веселее.
Летчику повезло на хорошую погоду. Солнце сияет, на небе ни облачка. На поле стекается весь город. Явилось семейство бургомистра и все знатные господа, а за ними и прочая шушера — все, кто только мог наскрести пять крон на билет. Вот сколько, по словам папы, стоило удовольствие посмотреть вблизи на настоящий, всамделишный аэроплан. А папу пропустили бесплатно, потому что он журналист из газеты.
— Газетчикам никогда не надо ни за что платить, — объясняет Мадикен сестренке.
Но и папе это удовольствие обошлось недешево: ему надо было заплатить за маму, за Альву и, конечно же, за девочек. Он хотел пригласить и Линус Иду, но тут получил решительный отказ.
— Право слово, я скорей соглашусь, чтобы меня зарезали и разрубили на мелкие кусочки, чем летать по воздуху и еще кувыркаться.
Так Линус Ида поняла папино приглашение, хотя он вовсе не это имел в виду.
Кстати, когда самолет кувыркается, то эти кувырки называются не кувырками, а мертвыми петлями, объяснил папа. И летчики делают мертвые петли только тогда, когда они летают без пассажиров или если пассажир сам попросит.
И вот они стоят на поле и смотрят, как летчик делает высоко в небе мертвые петли. Таких чудес Мадикен и Лисабет никогда в жизни еще не видали.
Аббе, конечно, тоже никогда этого не видел. Мадикен сразу его заметила — он стоит у самого каната, которым отгорожено летное поле, и не отрываясь смотрит, задрав голову, на небо. Наверно, ему кажется, что он сам летает и делает мертвые петли.
Потом летчик приземлился, и люди ринулись на летное поле, чтобы поближе рассмотреть удивительную машину. Внимательнее всех ее рассматривал Аббе, он даже похлопал ее рукой, как будто это не машина, а лошадь.
— Слушай, — говорит он, обращаясь к Мадикен, — на этой штуковине еще лучше лететь к Северному полюсу, чем на воздушном шаре.
Бравый летчик в кожанке и авиаторском шлеме стоит возле своей машины. Он вежливо отвечает на вопросы и готов всем желающим продать за сто крон билет для полета. Но, как видно, никто не хочет тратить столько денег. А может быть, во всем городе не нашлось ни одного смельчака, который рискнул бы полететь?
Тогда летчик подошел к папе и спросил, не захочет ли он как журналист полететь совершенно бесплатно. Потому что папа ему очень помог, и угощал обедом в гостинице, и напечатал в газете его объявление. Так что будет справедливо, если он немного полетает.
— Да и нужно, чтобы люди убедились, что летать совсем не опасно, — говорит летчик.
— Ой, папа, какой же ты счастливчик! — воскликнула Мадикен, прежде чем папа успел даже сказать спасибо. — Ой, какой же ты счастливчик!
Летчик поглядел на нее с одобрением:
— Вот это молодец! Тебя мы тоже возьмем, если хочешь!
Хочет ли Мадикен! У нее даже сердце застучало громко-громко. Подумать только — она будет летать высоко в небе, как ласточка! Разве может быть в мире что-нибудь лучше этого? Хочет ли Мадикен! Конечно, еще как хочет!
— А ты не боишься? — спрашивает летчик.
— У этой девочки ума не хватает, чтобы бояться, — вмешивается мама.
Нет, единственное, чего боится Мадикен, это чтобы кто-нибудь — папа или летчик — не передумал. Со взрослыми ведь никогда нельзя быть уверенной заранее. Мадикен тянет папу за рукав.
— Ну, давай! Пойдем скорее!
И в этот самый миг она заметила Аббе. Он стоит около аэроплана и не может оторвать от него глаз, и не только глаз, но, кажется, и рук тоже. Он поглаживает бок аэроплана, словно хочет и на взгляд, и на ощупь убедиться, что перед ним настоящий аэроплан.
Мадикен хорошо знает, что если есть на свете человек, которому очень хочется полетать, это, конечно, Аббе. А сейчас она на его глазах сядет в аэроплан и полетит. Нет, так нельзя, это было бы просто несправедливо!
Мадикен идет все медленнее, она размышляет. Вот что надо делать!..
— Папа, я раздумала, — говорит она шепотом. — Можно, вместо меня полетит Аббе?
Папа смотрит на нее удивленно:
— Почему же?
— Я боюсь, — промямлила Мадикен.
— Ну нет! Ничего ты не боишься, — говорит папа. — Но пусть будет по-твоему.
Папа все понял. Потому что он знает, как Мадикен относится к Аббе. Если уж ты к кому-нибудь хорошо относишься, то ради него нетрудно отказаться от чего угодно, папа это понимает.
Он объясняет летчику, в чем дело, а затем подзывает Аббе:
— Аббе, иди сюда.
Аббе идет к нему с виноватым видом.
— Я ничего не трогал, — начинает он оправдываться. — Я только посмотрел.
— Хочешь полетать? — спрашивает папа.
Ну что Аббе мог на это ответить? Он даже не мог представить себе, что папа сказал это всерьез. Он молчит и тупо смотрит на папу. Наконец Мадикен не вытерпела:
— Не слышишь разве! Ты можешь полететь с папой. Хочешь ты или нет?
Бедный Аббе! Он точно разучился говорить! Он, конечно же, слышал, что ему сказали, но думает, что над ним хотят подшутить.
Он никак не мог поверить в свое счастье, пока не очутился в аэроплане, одетый в большую кожаную куртку, в кожаном шлеме. Только тут до него дошло, какое невероятное счастье ему привалило. Тут уж он заулыбался, засиял, а люди вокруг, глядя на него, засмеялись.
— Что это они смеются? — подозрительно спросила Мадикен.
— Потому что увидели по-настоящему счастливого мальчика, — говорит мама.
Мама тоже улыбается. Но в душе она боится. Мадикен это знает. Мама совсем не хотела, чтобы папа летал, но она все равно улыбнулась и помахала ему рукой, когда он выглянул из аэроплана.
Вдруг, откуда ни возьмись, примчалась бургомистерша. Протискавшись к летчику, который уже собирался сесть в свою машину, она сказала укоризненным тоном:
— Не кажется ли вам, что бургомистр города все-таки имеет право лететь первым?
Мадикен видит, как испугался Аббе. Он, наверно, подумал, что его полет тю-тю.
Но летчик не обратил никакого внимания на слова бургомистерши. Бургомистру придется подождать. Сам бургомистр ничего не имеет против. Этот маленький, робкий и добродушный толстячок, как видно, совсем не стремится летать. Зато его жена непременно этого хочет. Больше того, он еще должен сделать мертвую петлю над ратушей. Бургомистерша уже договорилась с фотографом Бакманом, чтобы тот ждал на площади и сфотографировал полет бургомистра.
— Такая карточка украсит наш семейный альбом, — объясняет бургомистерша маме.
Но мама ее не слушает. У нее сейчас другая забота: папа вот-вот полетит, и она очень волнуется. Все люди замахали и закричали «ура». Аэроплан поднялся в воздух, полетел в сторону города и исчез из виду. Скоро он уже казался маленькой точкой.
Тут Лисабет заплакала:
— А вдруг папа свалится…
Мама стоит бледная. Должно быть, и она тоже подумала, что папа может свалиться.
— Да ну! Ничего страшного! — говорит Мадикен.
Она берет маму за руку, чтобы успокоить. А заодно и самой успокоиться. Ведь кто его знает — может быть, летать на самолете и правда опасно?
Но только они об этом подумали, как аэроплан прилетел обратно. И вот он делает мертвую петлю. И вторую. Все радостно закричали «ура», а мама рассердилась.
— Это на него похоже! Решил напугать меня до смерти!
— Нет, — говорит Мадикен. — Это, наверно, Аббе попросил.
— Сейчас я у него спрошу! — грозно пообещала мама. — Пускай он только спустится!
Но когда Аббе спустился на землю, все попытки заговорить с ним были напрасны. Он был и здесь, и как бы еще не здесь. Телом он вернулся на землю, а душой, наверно, еще парил высоко в небе.
— Здорово было? — нетерпеливо спрашивает Мадикен.
Аббе потряс головой:
— Здорово! Это еще мало сказано. Это было такое… Невозможно описать, что это было! Вот полетишь сама когда-нибудь, тогда и поймешь!
Потом он засмеялся:
— Мы же сделали мертвую петлю! Каково? Целых два раза! Это я сам так попросил. Когда у меня будет свой аэроплан, я все время буду крутить мертвые петли.
Теперь настал черед бургомистра. Ему надо лететь и делать над ратушей мертвую петлю. Бургомистерша уже всем про этот подвиг раззвонила, и ему теперь некуда деться, хотя и страшно. Бургомистр боится, а бургомистерша до того расхрабрилась, что дальше некуда! Широко расставив ноги, стоит она на краю поля, машет своему мужу и громко кричит, чтобы всем вокруг было слышно:
— Не забудь сделать мертвую петлю над ратушей!
И вот бедный бургомистр взлетел над полем и умчался по воздуху. Вскоре он вернулся. Мертвую петлю над ратушей он сделал, но кроме того наделал еще кое-что — для бургомистра довольно-таки непозволительное, а позволительное только для маленьких детишек.
Скоро об этом уже знал весь народ на лугу. Начались смешки, перешептывания, и даже Лисабет кое-что услышала. Она спрашивает у Мадикен:
— А почему бургомистру надо прямиком ехать отсюда в баню?
Мадикен ответила ей шепотом на ушко, и Лисабет прыснула от смеха.
— Нечего смеяться! — говорит Мадикен. — Думаю, что на месте бургомистра ты бы не очень-то смеялась.
После этого события всякий раз, когда Мадикен приходила в Люгнет, Аббе ни о чем, кроме полетов, не мог говорить. Дядя Нильссон тоже от него не отставал.
— Можно подумать, что в доме вместо людей поселилось два аэроплана, — говорит тетя Нильссон.
Дядя Нильссон гордится своим Аббе. «Мой сын — бравый летун», — называет его дядя Нильссон и то и дело вспоминает, что он не пожалел для сыночка последнюю пятерку на билет.
— Понимаешь, Мадикен, — говорит дядя Нильссон, — я подумал и говорю себе: «А знаешь, Нильссон, стоит ли горевать? Ты привык к лишениям, так отдай сыну пятерку, чего уж там?»
Мадикен думает, что дядя Нильссон поступил очень хорошо. К тому же он и сам смог полюбоваться, как Аббе летает высоко над городом, ведь дядя и тетя Нильссоны наблюдали за полетами с рыночной площади в толпе тех, у кого не нашлось лишних пяти крон, чтобы купить билет.
— А я-то ни сном ни духом не догадывался, что это мой сын летает в небесах, словно орел, — говорит дядя Нильссон.
С тех пор он особенно зачастил в «Забегайку». Там всегда находились охотники послушать о том, как его сын стал бравым летуном, и про знаменитую пятерку.
— Теперь уж, наверно, все пьянчужки в городе наизусть знают твои рассказы, — говорит тетя Нильссон. — Так что мог бы ты для разнообразия дома посидеть.
Лучше бы она этого не говорила. Дядя Нильссон тут же назвал ее «чучелом». Он рассердился, надел пальто и шляпу и отправился в «Забегайку», но скоро вернулся домой совсем не сердитым.
— А, ты еще здесь, дорогая Мадикен, — сказал дядя Нильссон. Затем он погладил по щечке тетю Нильссон и спросил: — Скажи мне, ненаглядная лилея, не найдется ли у тебя селедки с картошечкой для любящего супруга?
У тети Нильссон нашлась и селедка, и картошка.
А осень все больше хмурится, и дождь льет, почти не переставая. Вода в реке поднимается все выше и выше. Девочкам уже не разрешают даже приближаться к мосткам. Но им и самим не хочется туда ходить, так страшно шумит и бурлит река.
— Уж если свалишься в воду — тут тебе и конец, сразу захлебнешься, — объясняет Мадикен сестре.
Девочки почти совсем не гуляют. Правда, им и дома неплохо. Они играют в бумажных куколок, строят в детской домики и танцуют вальс с Альвой. Но Мадикен нет-нет да и скажет в сердцах:
— Ничего-то у нас новенького не случается.
Альва считает, что такие слова говорить опасно:
— Бывает ведь, что и плохое случится. Смотри, как бы не накликать!
И Альва оказалась права.
Однажды в воскресенье в Юнибаккен спозаранку прибежала тетя Нильссон, она так рыдала, что перебудила весь дом. Сначала от нее не могли добиться ни слова, она захлебывалась от рыданий. Тогда папа обхватил ее за плечи и потряс:
— Скажите же наконец, что случилось?
И тетя Нильссон кое-как рассказала. У нее с трудом получалось говорить связно. Глядя на нее, Мадикен почувствовала, как у нее больно защемило в груди. Отчего это так щемит, что такое говорит тетя Нильссон? Она говорит, что Аббе… Аббе утонул в реке! «Нет, — думает Мадикен, — это мне, наверное, снится!» Сумбурный и сбивчивый рассказ тети Нильссон похож на страшный сон, этого не может быть! Мадикен крепко прикусила губу, чтобы проснуться, но по-прежнему слышатся всхлипывания тети Нильссон.
— А я-то, Господи прости, в это время спала и только сейчас узнала! Гляжу, Аббе куда-то пропал. Она даже в кровать не ложился, а мой несчастный Нильссон ничего почти не помнит. Только и помнит, что свалился ночью в реку, когда возвращался из «Забегайки», а плавать-то он не умеет…
— Но я сначала понял так, что это был Аббе, — говорит папа.
— Ну да! Аббе бросился в воду и вытащил его. Это Нильссон еще помнит. Но представляете себе, что этот болван сделал, — он сразу пошел домой и улегся в кровать, с пьяных-то глаз! А про Аббе совсем забыл. И Аббе, видно, там и остался!
И тетя Нильссон бессильно упала головой на кухонный стол и снова зарыдала. Таких страшных рыданий Мадикен никогда еще не слышала. Мама стала утешать бедную тетю Нильссон и тоже заплакала вместе с ней. Заплакала и Альва, и Лисабет. А Мадикен не заплакала, у нее только все больней и больней щемит сердце. Плакать она не может.
— Альва пойдет со мной, — говорит папа. — А вы все оставайтесь здесь.
Папа и Альва побежали к реке. Мадикен видит в окно, как они бегут. Потом они скрылись за стеной камыша, который растет на берегу между мостками Юнибаккена и Люгнета.
Когда же они опять показались, Мадикен увидела, что они несут на руках Аббе. И тут слезы наконец хлынули у нее из глаз, так жалко ей стало Аббе. А тетя Нильссон заголосила, как будто ее режут. Но папа крикнул еще громче:
— Он жив!
— Нет! Не может быть! — закричала тетя Нильссон и выбежала из дома так быстро, как только ее несли ноги.
Мадикен должна была сама убедиться, что Аббе жив. Мама хотела остановить Мадикен, но не смогла ее удержать.
Он был едва жив, почти незаметно было никаких признаков жизни. Лежал с закрытыми глазами и не просыпался, хотя его уже внесли на кухню Люгнета. Он не проснулся и когда с него стаскивали одежду. Лицо у него было белое и холодное как лед. Он много часов пролежал на мостках, хотя, к счастью, и не упал в воду, как думала тетя Нильссон.
— По-видимому, он так обессилел, что сам не мог дотащиться до дома, — сказал папа и сурово посмотрел на дядю Нильссона.
Дядя Нильссон стоит перед ним совсем убитый, глаза у него красные, и слезы текут при виде сына-летуна, который спас ему жизнь и которого он бросил без помощи ночью, в темноте, на холодных речных мостках.
— И долго вы отсыпались? — спрашивает папа.
— Долго! — отвечает дядя Нильссон и в отчаянии утыкается лицом в папино плечо. — Сажайте меня в сумасшедший дом или в тюрьму на хлеб и воду, там мне самое место!
— Сдается мне, что ты прав, — сказала тут тетя Нильссон, которая обыкновенно не говорит ему дурного слова.
Папа заторопился:
— Я пошел домой звонить доктору Берглунду. А вы пока укутайте мальчика потеплее, иначе он умрет!
Наконец Альве удалось снять с Аббе мокрую одежду. Вдвоем с тетей Нильссон они отнесли его в спальню и уложили на широкую кровать. Следом поплелся дядя Нильссон, восклицая:
— Аббе, сын мой! Ты меня слышишь?
— Помолчите! — говорит Альва. — Давайте-ка оба раздевайтесь да ложитесь рядом с ним. Так он скорее согреется.
Только Альва могла так находчиво придумать, что надо делать. Тетя и дядя Нильссон послушно выполнили ее распоряжение.
Альва и Мадикен ушли на кухню ждать доктора. Альва налила несколько бутылок горячей воды и завернула их в полотенце.
— Бедный Аббе! Мы положим ему бутылки к ногам, а то небось у Нильссона у самого ноги холодные, — говорит Альва.
Они с Мадикен опять идут в спальню. Аббе, словно ребеночек, лежит на кровати между мамой и папой. Они легли потеснее, чтобы он поскорее согрелся. Альва укрыла их всеми одеялами, какие нашлись в доме. Получилась гора, из-под которой виднеется только нос Аббе.
— Аббе, сын мой! — говорит дядя Нильссон. — Забирай себе все тепло, которое есть в моих жилах! Только проснись, пожалуйста, и прости меня, несчастного подлеца!
А спустя немного дядя Нильссон пожаловался:
— Но до чего же он все-таки холодный, черт побери! Так, пожалуй, мы все трое простудимся.
Но тут Аббе издает глубокий вздох и открывает глаза.
— Чего это вы оба сюда улеглись? Теснотища какая! — сказал Аббе и опять заснул.
На следующий день у него началось воспаление легких. Мадикен узнала об этом от Лисабет, когда вернулась из школы.
— Это самая опасная болезнь, — уверила ее Лисабет. — От нее в два счета умирают, так сказала Линус Ида.
— Замолчи! — прикрикнула на нее Мадикен. — Не болтай глупостей, дурочка! Помалкивай лучше, понятно?
Мадикен побежала в Люгнет, она хочет сама узнать, насколько плохи дела.
— Увы, его уже не надо согревать, он весь пылает, — говорит тетя Нильссон. — Бедный мальчик! У него такой жар, что прямо кровь закипает.
— А это опасно? — спрашивает Мадикен.
Тетя Нильссон посмотрела на нее усталым и грустным взглядом.
— Это мы узнаем только на десятый день. Дядя Берглунд сказал, что тогда наступит кризис.
Мадикен не знает, что такое кризис. Но тетя Нильссон ей объяснила, что при кризисе наступает решительный поворот в болезни и либо дело идет на поправку, либо…
Тут тетя Нильссон умолкла, не докончив, слово «смерть» она не может произнести.
Каждый день после школы Мадикен заходит в Люгнет, чтобы узнать, не стало ли лучше бедному Аббе. Лучше ему не становится. В спальню к больному ее не пускают. Дядя Берглунд никому не разрешил, кроме тети Нильссон, туда входить. Аббе так сильно болен и так ослаб, что его не решились перевозить в больницу.
Дядя Нильссон перестал разговаривать, словно дал зарок. Он не произносит ни слова и не ходит больше в «Забегайку». Он только лежит все время на диване с несчастным видом и смотрит такими жалкими глазами, какие бывают у Сассо, когда тот грустит. Мадикен чувствует, что ей жалко смотреть на дядю Нильссона.
Дяде Нильссону плохо, но и самой Мадикен не легче. Все эти дни у нее непрерывно щемит и ноет в груди. В школе эта боль иногда забывается, а дома она все время тут как тут. Хуже всего бывает по вечерам, когда Мадикен ложится спать. Тогда ее одолевают страшные мысли.
Что будет, если Аббе умрет? Неужели у нее всю жизнь будет вот так болеть внутри? И как она это выдержит? Иногда Мадикен вспоминает слова Аббе: «Только бы мне успеть!» Она не может заснуть и все думает: а вдруг Аббе не успеет даже на Северный полюс слетать и вообще совсем-совсем ничего не успеет? Придется транссибирской железной дороге искать другого машиниста, а бриг «Минерва» никогда не пустится в кругосветное плавание назло всем бурям и ураганам.
Уткнувшись в подушку, Мадикен плачет.
Дни идут, и Мадикен помнит, что приближается кризис.
— И когда же он наконец наступит, этот дурацкий кризис! — говорит Лисабет. Скучно жить, когда Мадикен ходит такая унылая.
— Уже скоро, — говорит Мадикен.
На девятый день она получила утром письмо.
Юной барышне из Юнибаккена Маргарите Энгстрём.
Юнибаккен Местное —
написано на конверте. Это от дяди Нильссона, у него очень красивый почерк. Вот что он написал:
Мадикен! Я — язычник, и всегда был язычником, так что нет у меня Бога и мне некому помолиться. Но у тебя, может быть, Он есть, тогда ты помолись за Аббе. Его бестолковая мать молится целыми днями напролет, да что-то в ее молитвах мало толку. И вот я подумал, что Он, наверно, скорее прислушается к тебе, потому что ты — невинное дитя. Ты много-то не молись. Только спроси у Него, подумал ли Он, что будет с Эмилем Нильссоном из Люгнета, ежели Он заберет к себе Аббе. Спроси Его, что станет со всей семьей, если не будет Аббе! Ты уж не откладывай, время не терпит!
Заранее благодарный
твой Э. П. Нильссон.
P. S. Я решил повеситься, если Аббе умрет. Наверно, Ему лучше об этом не говорить.
А впрочем, скажи и это!
И Мадикен забралась в гардероб, которому до сих пор Лисабет поверяла разные гадкие слова, и там стала молиться за Аббе. Ах, как же она за него молилась! А заодно и за дядю Нильссона тоже, чтобы ему не пришлось вешаться, и за тетю Нильссон, которая так много плакала. Она упомянула в молитве и о транссибирской железной дороге, и о Бриге «Минерва», чтобы Бог понял, что Аббе должен остаться жить и вырасти большим. Надо же ему успеть сделать что-то кроме крендельков!
— И ради меня самой тоже прошу тебя, Боженька! — закончила Мадикен свою молитву.
Затем она отправилась в школу. Вернувшись оттуда, она в раздумье постояла у калитки Нильссонов, но не решилась зайти. Сейчас у Аббе как раз этот кризис — он должен был наступить сегодня.
И на следующее утро, когда она вышла из дома, чтобы идти в школу, ее через забор окликнул дядя Нильссон. Глаза у него уже не такие, как у Сассо. Наоборот, он сияет от радости.
— Мне незачем вешаться, Мадикен! Успеешь ты забежать на минутку к Аббе?
Мадикен знает, что если заглянет, то опоздает в школу. Ничего! В первый раз как-нибудь обойдется! «Опоздаю — и ладно!» — подумала Мадикен. Надо все-таки проведать Аббе.
Он сидит на кровати, со всех сторон обложенный подушками, и ест простоквашу и бутерброд с сыром. До чего же он бледный!. И все-таки это он, прежний Аббе, такой, каким был раньше. Он полетит на Северный полюс и совершит кругосветное плавание на «Минерве».
При виде Мадикен он расплылся в улыбке:
— Ну как ты там? Живем помаленьку?
— Спасибо, у меня все хорошо! — сказала Мадикен и вдруг почувствовала, что боль, которая все время сидела у нее в груди, исчезла, точно ее не бывало.
Мадикен и Лисабет дождались блаженства
— Конечно же, будем праздновать Рождество, как всегда, — сказал папа утром в сочельник.
Но Мадикен и Лисабет не представляют себе, как это будет. Потому что мама с утра лежит в постели. Очевидно, братик твердо решил появиться на свет не иначе как в Рождество.
— Столько времени ждал, мог бы, кажется, подождать и еще денек-другой, — говорит Мадикен.
— Мог бы! А то ведь так и будет потом все время праздновать рождение в Рождество. Значит, у него и подарков будет меньше, только на Рождество, а на день рождения не будет.
Мадикен и Лисабет давно ждали братика и заранее ему радовались, а сейчас они недовольны, что он нарушил им рождественские праздники. В комнате стоит елка с зажженными свечами, в печке горит огонь. Альва принесла кофейник и поднос со всякими пирожными, сейчас бы все собрались посидеть за завтраком, а тут на тебе! — ничего не получится, раз нету мамы. А что же будет вечером, когда придет Юльтомте и принесет подарки? Какое уж тут веселье, если мама лежит в спальне и ей все время больно!
— Знаете, что мы сделаем? — говорит папа. — Сегодня мы немножко попразднуем, а завтра повторим праздник еще раз с мамой и с братиком. Завтра-то он уже будет с нами. Давайте, я позвоню Юльтомте и скажу, чтобы он подождал с подарками до завтра, хорошо?
Лисабет одобрила папино предложение.
— Хорошо! — говорит она. — Тогда и братик увидит, как приедет Юльтомте на санях. То-то он, наверно, удивится!
Мадикен тоже так думает:
— Он же еще ничего не знает про Юльтомте!
И вдруг она вспоминает:
— А знаешь, папа, что сегодня сказала Мия? Она говорит, Юльтомте приезжает только к богатеньким, а к ним нет.
— Что и говорить! Оплошал Юльтомте, — отвечает папа.
А Мадикен кажется, что не только Юльтомте оплошал, а все Рождество нынче какое-то не такое! Она тяжело вздохнула.
Но тут Альва вмешивается в разговор:
— Что же мы, так и будем тут киснуть? Давайте-ка пить кофе, угощаться пирожными, а после споем «Вот Рождество пришло!». А то вашему братику не понравится такой скучный день.
Альва зажгла свечки во всех подсвечниках, и в комнате стало по-рождественски празднично.
«Наверно, если постараться, то можно вообразить, будто у нас все, как надо», — подумала Мадикен. Но когда они уже принялись за кофепитие, вдруг зазвенел звонок, Мадикен побежала отворять дверь и увидала, что на крыльце отряхивается от снега какая-то женщина. Это пришла городская акушерка фру Экберг, она всегда приходит в дом, когда должен родиться ребеночек, будь то сочельник или Иванов день.
— Как у вас совпало! — говорит она. — И аист, и Юльтомте в один и тот же день! Вот замечательно-то, правда?
Мадикен с ней не согласна. И в аиста она тоже не верит. Она уже знает, что не аисты приносят детей. В глубине души она сомневается и в Юльтомте, но в него уж очень хочется верить, и Мадикен решила, что будет верить в него как можно дольше.
Странный у них получился сочельник! Папа беспокойно расхаживает туда-сюда по всему дому, то и дело бегает наверх в спальню и возвращается ужасно встревоженный.
— Да успокойтесь вы! — говорит Альва. — У меня было семеро младших братьев и сестер, так что я-то уж знаю, как это будет. Наберитесь побольше терпения, и все будет хорошо.
— Да, — говорит папа. — Будем надеяться!
Но глядя на него — не заметно, чтобы он успокоился.
Альва собирает корзинку с рождественским угощением, и Мадикен с Лисабет, как обычно, отправляются поздравлять Линус Иду. Так было во все прежние сочельники.
— А у меня совсем скоро будет маленький братик! — говорит Лисабет Линус Иде.
— Да что ты? — отвечает Линус Ида. — А как же Мадикен? Разве у нее не будет тоже маленького братика?
— Нет, — говорит Лисабет. — У нас будет только один братик. Он у нас будет общий!
— Какой ты все-таки еще ребенок, Лисабет! — говорит Мадикен.
Линус Ида хотела им спеть «Скачет рыцарь святой Мартин», но Мадикен не может спокойно сидеть, сегодня они очень торопятся домой.
— Мы в другой раз придем. Счастливого Рождества! — говорит она на прощание, и девочки уходят.
На улице они встречают Мию. Она ходила в лавку за молоком. Мия идет хмурая, опустив голову. Но, заметив Мадикен, она радостно заулыбалась.
— Счастливого Рождества! — говорит Мадикен.
— И вам того же! — говорит Мия. — А нам в благотворительном обществе выдали окорок. Вкусно — с ума сойти! Маттис так за него принялась, что скоро, наверно, весь стрескает.
Мадикен подумала, что очень грустно и странно, когда одни люди почему-то получают подарки от Юльтомте, а другие — от благотворительного общества. Окорок — это, конечно, хорошо, но жаль, что Мия ничего не получила в придачу. Ей тоже, наверно, хочется получить настоящий рождественский подарок. Мадикен задумалась, нет ли у нее чего-нибудь, что можно подарить Мии. Она порылась в карманах, но там не нашлось ничего подходящего. И вдруг Мадикен вспомнила: у нее же есть золотое сердечко! Она быстро сняла со своей шеи тоненькую цепочку.
— Вот тебе подарок на Рождество, если хочешь! — говорит Мадикен и сует Мие сердечко на цепочке.
Мия застыла от изумления. Но прежде чем она успела осознать свое счастье, Мадикен и Лисабет были уже далеко.
— Ты с ума сошла, Мадикен! — говорит Лисабет. — Разве можно было отдавать золотое сердечко?
Мадикен уже и сама страшно жалеет, что так сделала. Золотое сердечко — самая лучшая вещь, какая у нее есть. И как это у нее хватило глупости отдать такое сокровище?
Сначала Мадикен приуныла, а потом вдруг вспомнила, что сказала Линус Ида. Она сказала, что тому, кто дает бедным, Бог воздаст вдесятеро больше. Если это правда, то у Мадикен скоро будет десять золотых сердечек. Скорее всего, она их получит в подарок на Рождество. Ну если не десять, то хотя бы три или четыре.
Лисабет потрогала свое золотое сердечко. Она очень довольна, что оно при ней осталось. С сочувствием посмотрев на Мадикен, Лисабет говорит:
— А мне жалко тебя. У тебя больше нет сердечка.
— Ха-ха, — говорит Мадикен. — Мне теперь подарят на Рождество сразу десять сердечек. Так сказано в Библии.
Лисабет очень заинтересовалась и потребовала объяснений, а когда поняла, что к чему, хотела бежать обратно и подарить свое тоже. Но Мадикен ее не пустила.
— Вот еще! — говорит Мадикен. — Уж как-нибудь я с тобой поделюсь!
И девочки припустили домой: вдруг там без них уже что-нибудь случилось!
Но нет, там было все по-старому.
За обедом, когда на стол поставили котелок с бульоном из-под окорока, чтобы макать хлеб, на мамином месте сидела за столом фру Экберг. Она — хорошая женщина и не виновата в том, что она — не мама. Но Мадикен в душе желает, чтобы она скорее исчезла с глаз долой, потому что совсем не дело, когда за рождественским столом сидит чужая тетка.
После обеда Мадикен пошла в Люгнет отнести подарок для Аббе. Она решила подарить ему книжку, которую откопала на чердаке. Там стоит целый сундук, набитый старыми книгами. Книжка называется «Среди пиратов и разбойников». Судя по картинке на обложке, она должна быть страшная.
— Это, кажется, что-то интересное! — сказал Аббе.
Аббе почти совсем выздоровел и уже понемногу печет крендельки. Он вовремя поправился, потому что перед Рождеством крендельки лучше всего раскупаются.
Дядя Нильссон взял кулек и доверху насыпал в него крендельков. Он собрался сам отнести их в дом бургомистра. Тот на Рождество всегда щедро приплачивает сверх положенного, а в придачу, как уверяет дядя Нильссон, может подарить еще и сигару.
— Только ты, пожалуйста, нигде не задерживайся! — озабоченно говорит тетя Нильссон.
Дядя Нильссон гладит ее по щечке.
— Цвети спокойно, красуйся безмятежно, мой свет, моя лилея! — говорит дядя Нильссон и уходит.
Так уж повелось, что в сочельник папа и Мадикен, когда стемнеет, идут прогуляться по городским улицам. Эта прогулка стала для них частью праздника, как елка и рождественские подарки. В церкви сейчас рождественская служба. Туда ходят мама, и Лисабет, и Альва. А папа никогда не ходит в церковь. Он тоже — язычник, вроде дяди Нильссона. Значит, так и надо, считает Мадикен, потому что другого такого доброго и хорошего язычника, как папа, не найдешь в целом свете. Мадикен очень любит эти прогулки с папой по сочельникам, она бы их ни на что не променяла. А вдруг папа сегодня не захочет гулять? На этот раз вообще какой-то странный сочельник, все делается не так, как положено. И Мадикен, не откладывая, побежала спрашивать папу.
Папа говорит, что пойдет. Он уже стоит в прихожей и ждет, когда будет готова Мадикен.
— Пойдем, дочка! — говорит папа. — Мама хочет немножко от нас отдохнуть.
Лисабет и Альва уже давно отправились в церковь. По всему городу звонят колокола. Мадикен и папа идут своей привычной дорогой под колокольный звон, как ходили во все прежние сочельники. Они проходят по кривым узеньким улочкам с приземистыми домишками, почти такими же низенькими, как домик Линус Иды. Если хочешь скатать снежок, можно протянуть руку и подхватить снегу прямо с крыши. Здесь на улицах не горят фонари, зато в домах светятся все окна. У тех, кто там живет, на окнах нет жалюзи; наверно, им безразлично, что с улицы все видно.
— Мы с тобой идем и нахально заглядываем в чужие окна, — говорит папа. — Заметила, что здесь все не так, как в Юнибаккене?
Да уж, куда этим домам до Юнибаккена!
«А все-таки у них красиво», — думает Мадикен. Не везде, конечно, но кое-где хорошо. Пускай там довольно бедно и тесно, и маловато вещей, и детям негде как следует поиграть и повозиться, но видно, что к Рождеству все постарались украсить свое жилище. Хотя есть и очень убогие комнатушки.
— Я бы тут не хотела жить! — говорит Мадикен.
— Еще бы! — говорит папа.
А все-таки и здесь красиво, когда на улице лежит снег и крыши у домов белые. Папа тоже так думает. Мадикен, кажется, могла бы гулять здесь часами. Наконец-то она почувствовала Рождество! Ей даже не хочется домой: там сидит акушерка, и вообще тоска. Но папа говорит, что пора возвращаться.
— А хорошо жить в Юнибаккене! — сказала Мадикен, когда впереди показался родной красный дом среди заснеженных деревьев, над которыми мерцали звезды. Все окна ярко освещены, и с улицы кажется, будто это — обычный сочельник, точно такой, как все предыдущие.
Из Люгнета тоже льется свет. А еще Мадикен замечает какой-то слабенький огонек на снегу возле калитки. Может быть, Аббе сделал светильник из снега? Что там мерцает в темноте?
— Ты иди домой, — говорит Мадикен папе, — а я скоро приду.
Надо же ей разобраться, что светится на снегу!
А это светится огонек сигары, которую курит дядя Нильссон. Разлегшись на снегу, он спокойненько покуривает. Мадикен даже испугалась.
— Почему ты тут лежишь, дядя Нильссон?
Дядя Нильссон вынимает сигару изо рта.
— Да вот, видишь ли, дорогая Мадикен, слухом земля полнится, будто бы кто-то свалился и лежит на снегу. И кажется, это был я.
— Ты болен, дядя Нильссон? — спрашивает его Мадикен.
— Да нет! — отвечает дядя Нильссон. — Пьяный я. Ну не то чтобы уж совсем, но вот подняться не могу, боюсь, как бы не повредить сигару. Поэтому я хочу ее сначала выкурить. Но если ты будешь так добра и сбегаешь за моим Чучелом, я буду тебе очень признателен. Скажи ей, что мне нужна подмога.
— Бедная тетя Нильссон! — говорит Мадикен сердито.
Но дядю Нильссона это нисколько не смущает. Он лежит как ни в чем не бывало и между затяжками декламирует:
И вот я засыпаю, Глядя на россыпь Сияющих звезд…— Ладно уж, сбегаю! — говорит Мадикен еще сердитее, идет к Нильссонам и приводит тетю Нильссон.
Ну до чего же странный сочельник! Мадикен и Лисабет ложатся спать рано, как в самый обыкновенный будний день.
— Как будто это какой-нибудь вторник в октябре или вообще незнамо что такое! — сказала Мадикен, когда вместо мамы в детскую пришла Альва, чтобы подоткнуть девочкам одеяла и пожелать им спокойной ночи.
А Лисабет даже рассердилась на братика:
— Вот глупый мальчишка! Зачем он нам такой нужен!
— Да уж! И в кого он только уродился такой копуша! — говорит Мадикен.
Девочки засыпают.
А утром, едва проснувшись, они вдруг услышали жалобный плач. Ой, кажется, и правда — кричит ребеночек!
— Братик родился! — завопила Лисабет.
И тут в дверях появляется папа, он улыбается.
— Хотите посмотреть на сестричку? Тогда пойдемте!
Мадикен и Лисабет от удивления так и разинули рот.
— Вот тебе и братик! — сказала Мадикен, опомнясь от неожиданности. И они бегом помчались в спальню. А там мама сидит на кровати и держит сестричку, и сестричка уже не кричит.
— А почему она кричала? — сразу спросила Лисабет.
— Она хотела, чтобы вы пришли и поздоровались с ней, — отвечает мама. — Она вас дожидается уже несколько часов.
Сестричка оказалась такая прелесть, что просто не описать словами! У нее длинные черные волосики и ясные голубые глазки, а когда Мадикен и Лисабет уселись рядом на краю кровати, она очень серьезно на них посмотрела, как будто все понимает — и про Юльтомте, и вообще все на свете.
— Наверно, она думает: «Куда это я попала?» — говорит Лисабет.
Обеим девочкам дали по очереди немного подержать сестренку. Когда Мадикен взяла ее на руки и почувствовала, какая же она маленькая, у нее даже сердце зашлось, и она подумала: «Как это получается, что едва увидишь такую крошку, как с первого взгляда сразу полюбишь ее так сильно?» Ей даже не хотелось отдавать сестренку маме.
— Посмотрите, как она похожа на маму! — говорит папа. — В точности ее носик! Видите? Это же маленькая Кайса! Потому мы так ее и назовем!
Мама гладит Кайсу по черненьким волосикам.
— Ну и что, если у тебя, малышка, будет мой нос! Главное — чтобы ты душой была в папу и чтобы у тебя было его сердце. Вот чего я желаю.
Второй день рождественских праздников тоже получился довольно странный. Но хороший. Так решили Мадикен и Лисабет. Они посмотрели, как Кайса кушает, поплясали с Альвой и папой вокруг елки, потом посмотрели, как Кайса купается и как она кричит, и спели для Кайсы рождественские песни, и слепили у нее перед окном снежный светильник, чтобы Кайса посмотрела, что это такое. Когда они зажгли свечку, папа поднес Кайсу к окну.
— Наверно, она ничего красивее еще не видала в жизни! — говорит Лисабет.
А потом наконец появились сани Юльтомте. Он приехал по дороге, которая идет из Аппелькюллена. По реке в этот год нельзя было ехать, она еще не замерзла.
Разбирать подарки пришлось в спальне. Это тоже странно. А самое странное, что Мадикен не получила в подарок ни одного золотого сердечка! Но она нисколечко не огорчилась, потому что было много всего другого.
— Ты получила какое-нибудь блаженство? — спросила Лисабет, когда все подарки были розданы.
Мадикен подумала. Она получила книжки, и новые лыжи, и бумажных куколок, и настольную игру, и почтовую бумагу, и платьице, и тортик из марципана. Все это замечательно, но настоящего блаженства среди подарков как будто бы и нет. Однако нельзя же требовать, чтобы каждый год тебе доставалось блаженство! Мадикен и так вполне довольна.
Лисабет тоже сомневалась, можно ли что-нибудь из ее подарков считать настоящим блаженством. И вдруг Мадикен с торжеством говорит:
— А как же! И ты получила блаженство, и я тоже! У нас же есть теперь Кайса.
Лисабет засмеялась от радости:
— Верно! У нас же есть Кайса!
Солнце майское сияет
Кайса — это такое блаженство, от которого с каждым днем в доме становится все больше и больше радости! Скоро она уже научилась поднимать головку, потом стала вдруг смеяться, потом вдруг увидела свои ручки и принялась их подолгу разглядывать, как будто это какое-то невиданное чудо. Что бы ни делала Кайса — чудесно и удивительно. Она всегда мила — и когда зевает, и когда кричит. И все ее любят.
— Какая же ты у нас сладенькая! — говорит Альва. — Так бы тебя, кажется, и украла!
А Кайса хохочет, словно она понимает, что сказала Альва.
«Какая счастливая Лисабет! — думает Мадикен. — Она может целый день проводить с Кайсой».
А Мадикен опять ходит в школу. Чтобы побыть с Кайсой, Мадикен должна пораньше приходить из школы, и она старается нигде не задерживаться. Едва ступив на порог, она уже спрашивает:
— А где Кайса?
Кайса часто спит в своей колясочке. Хотя Линус Ида и старается отговорить маму от такого безумства.
— Никак вы решили уморить ребенка? — спрашивает она. — Право слово, никогда еще не видала, чтобы младенца зимой выставляли на улицу!
Но мама только смеется. Кайса возвращается с прогулки вся румяненькая, свеженькая, и от нее чудесно пахнет.
— Ну, посмотри сама, — говорит мама Линус Иде. — Разве она не похожа на румяное яблочко?
Тут Лисабет идет в прихожую и разглядывает себя в зеркало.
— А правда, я ведь тоже похожа на румяное яблочко? Только я покрупнее.
Ей кажется, что с Кайсой слишком много возятся, и вечером, забравшись к Мадикен в постель и примостившись у нее на плече, Лисабет иногда спрашивает:
— А ты Кайсу любишь больше, чем меня?
И Мадикен отвечает, что вовсе даже нет. Только она любит обеих сестренок по-разному. Кайсу — по-своему, а Лисабет тоже по-своему, но очень, очень сильно!
— Ну а ты-то кого любишь? — спрашивает Мадикен.
— Я тоже люблю Лисабет очень-очень сильно и по-всякому! — говорит Лисабет, заливаясь смехом. — И тебя тоже! И Кайсу! И маму! И папу! И Альву! И Сассо, и Госю! И Мартина Берглунда чуточку! И тоже всех по-разному.
Река покрылась льдом, потом лед сошел. Еще недавно Мадикен и Лисабет бегали по нему на коньках, строили у дровяного сарая снежную крепость, а теперь уже снег растаял, и лед тоже. Выглянул первый подснежник, в один прекрасный день зацвели фиалки, и вдруг настала весна. И вот уже на дворе — последний день апреля. Надо же, как быстро прошел целый год!
— Мама, можно мне вечером пойти в новых лаковых туфельках? — спросила Мадикен уже за завтраком.
— Надевай, если хочешь испортить в первый же день, — говорит мама. — Знаешь, надень-ка ты лучше старые сандалии! В них лучше всего бегать вокруг костра.
Мадикен вспомнила, что случилось на Майском костре в прошлом году, и не стала спорить с мамой.
На этот раз мама и папа тоже решили пойти посмотреть на Майский костер. И Кайса тоже пойдет.
— Надо же ей посмотреть на костер, чтобы знала, какой он красивый! — говорит папа.
— Да, — говорит Лисабет, — чтобы все посмотрели, какая у нас красивая Кайса!
И Мадикен подумала, что Лисабет высказала очень правильную мысль.
— И тогда они, наверно, скажут, как тогда Линдквист: «Я увидел маленького человечка!» Ты еще помнишь?
— Помню, конечно! — говорит Лисабет. — Но теперь-то я уже большая.
Папе пора идти в газету. Сегодня он пойдет один, Мадикен его не провожает, потому что ей не надо в школу.
— Да, кстати о Линдквисте! — говорит папа. — Его, беднягу, скоро отправят в больницу. Его нельзя больше оставлять одного в хибарке, где он живет. Он становится опасен и самому себе, и окружающим.
Альва очень жалеет Линквиста.
— Бедненький дурачок! — говорит она. — Надеюсь, что в больнице ему хоть табачку дадут понюхать. Это же его единственная радость!
Альва уходит в прачечную, сегодня у нее стирка. Но вечером она тоже, конечно, пойдет на Майский костер.
Мама обещала сегодня пойти с Лисабет в город и купить ей ранец и пенал. Такое важное дело нельзя откладывать на последнюю минуту. В школу, правда, идти только через четыре месяца, но Лисабет уже ходила записываться, и теперь она, можно сказать, уже школьница. А ранец — это ее давняя мечта.
— Я хочу заранее все приготовить, — говорит Лисабет.
Мадикен остается дома, чтобы присматривать за Кайсой.
— Она, наверно, проспит до нашего возвращения, — говорит мама. — Но на всякий случай ты все же за ней приглядывай.
Сегодня один из первых теплых весенних дней. Мадикен сидит на кухонном крыльце, поглядывая на коляску, которая стоит под вишней, она читает про тайны заколдованного замка. В этой книге много страшного, но даже привидение старого замка не кажется таким жутким при ярком солнечном свете.
У Госи в первый раз родились котята. Она разлеглась на соседней ступеньке, нежится на солнышке и тоже приглядывает за своими детьми, точь-в-точь как Мадикен. У Госи трое котят. Они прыгают и играют около крылечка и понарошку охотятся. Мадикен очень нравятся котята, она такие хорошенькие! Жаль только, что скоро их придется отдать. Мама не хочет оставлять в Юнибаккене еще одну кошку. Одного котенка отдадут Линус Иде, другой будет жить на скотном дворе в Аппелькюллене. Неизвестно, кому достанется третий, черненький. Может быть, его отдадут учительнице, если она захочет.
Мадикен снова погружается в книжку. Какие ужасы творятся в заколдованном замке! Вот из потайного хода, гремя цепями, выходит скелет и появляется в опочивальне молодой графини. Неудивительно, что та чуть было с ума не сошла и пронзительно вскрикнула.
Крик! Рядом тоже кто-то кричит. Это — Кайса! Оторвавшись от книжки, Мадикен подняла голову и увидела… Кто же это такой стоит перед ней и держит на руках Кайсу? Кто выхватил ее из колясочки, где она мирно спала? Это какой-то высокий дядька с длинными белыми волосами. Он стоит спиной к Мадикен. Но вот он оборачивается. Караул! Да это же Линдквист!
Мадикен не боится лазить по деревьям, карабкаться по крышам, но Линдквист — другое дело! Она так перепугалась, что у нее все похолодело внутри и пропал голос. Она даже не может крикнуть «Помогите!». Что делать?
Наконец Мадикен заговорила дрожащим голосом:
— Это… это моя сестричка, ей надо спать!
Линдквист посмотрел на Мадикен бессмысленным взглядом.
— Уж это мне решать, — говорит он. — Она не твоя, она теперь моя!
— Не-е-ет! — отвечает Мадикен, стараясь говорить твердо.
Линдквист строго нахмурился:
— Не спорь со мной! А то я не знаю, что тогда сделаю! Она — моя. Должна же быть на земле справедливость!
А Кайса кричит. Линдквисту это не понравилось, и он ее потряс.
— Замолчи! У меня в ушах звенит от твоего крика. Замолчи, тебе говорят!
У Мадикен сердце сжалось от страха. Ведь если Кайса не замолчит, Линдквист может разозлиться и покалечить ее своими огромными ручищами. Ах, хоть бы Альва пришла! Мадикен хочет ее позвать, но боится рассердить Линдквиста. Мадикен должна сама спасти Кайсу, без посторонней помощи.
— А зачем вам, господин Линдквист, нужен ребеночек? — спрашивает Мадикен тем же чужим и непривычным голосом.
— Все у меня померли, понимаешь? — говорит Линдквист. — Все померли, и мне нужно что-то живое, что шевелится.
Затем он опять потряс Кайсу:
— Перестань кричать! Сказано тебе, замолчи!
Кайса не привыкла, чтобы ее трясли, она раскричалась еще пуще прежнего. «Миленькая Кайса, неужели ты не можешь помолчать! — думает Мадикен. — Ну что же мне делать?» И тут она увидела рядом с собой играющих котят. Они ведь живые и вовсю шевелятся!
Дрожащими руками Мадикен берет черненького котенка и, хотя у нее даже ноги дрожат, направляется к Линдквисту.
— Поглядите! — говорит Мадикен. — Он живой, и шевелится, и не кричит. Давайте меняться!
— Нет уж! — говорит Линдквист.
Кайсу он держит, как мешок под мышкой. Ей совсем не нравится такое обращение, и она от возмущения совсем зашлась криком. Линдквист недовольно посмотрел на Кайсу, потом на котенка, которого держит Мадикен. Тот перебирает лапками, вырывается из рук, он царапается и хочет вскарабкаться повыше.
— Ладно, бери! — говорит наконец Линдквист. — Давай мне котенка и забирай эту крикунью!
Мадикен кладет котенка на протянутую ладонь Линдквиста. Но Линдквист уже успел передумать и не хочет отдавать Кайсу.
— Я себе оставлю обоих! — говорит он.
— Нет уж! — отвечает Мадикен. — Крикунью надо отдать мне. Должна же быть на свете справедливость!
Это и Линдквисту понятно. Он ведь сам тоже так считал. Он швыряет Кайсу на руки старшей сестре, словно та не ребенок, а мешок тряпья, который можно кидать как попало. Котенок уже барахтается в его бороде, Линдквист доволен:
— Ишь ты, какой хороший! — говорит он.
Он даже не заметил, как Мадикен убежала с Кайсой. Линдквист счастлив. Получив котенка, он отправился восвояси.
А в прачечной в это время сидит на перевернутом корыте Альва, качая в объятиях двух человеческих детенышей. Мадикен рыдает и всхлипывает. А Кайса воркует и радуется, ей тут хорошо и уютно.
— Поплачь! Поплачь хорошенько! — говорит Альва. — Горе надо выплакать, не то потом будут сниться кошмары.
И Мадикен долго проплакала, пока не кончились все слезы.
Тогда она слезла с Альвиных колен.
— Маме лучше об этом не знать, — говорит Мадикен.
Альва согласилась:
— Правильно! Иначе она только будет зря нервничать. А Линдквиста, дурачка убогого, и без того посадят под замок.
Потом Мадикен помогла Альве развешивать белье на веревке, натянутой между березами. Кайса лежит рядом в колясочке, смотрит, как над ней колышутся голые ветки, и воркует от удовольствия. Кто-кто, а уж она-то совсем забыла про Линдквиста!
На кухонном крыльце лежит Гося, а вокруг нее возятся все три котенка. Бедный Линдквист! Он даже одного несчастного котенка не сумел удержать, хотя у него такие огромные ручищи! «А все-таки его жалко!» — подумала Мадикен.
— Скажи, Альва! А мы с тобой не можем посылать ему в больницу табак? — спрашивает она.
— Можем! — отвечает Альва. — Мы ему столько табаку пошлем, чтобы он нюхал сколько захочет и еще осталось в запасе.
Мадикен задумчиво смотрит перед собой.
— Это хорошо! А то мне не верится, что он когда-нибудь найдет себе что-то живое!
Альве тоже не верится. Повесив последнее полотенце, она подозрительно посмотрела на солнышко, потому что оно перестало сверкать, и небо словно затуманилось.
— Скорей бы уж сохло белье. Похоже, что к вечеру будет дождь. Так что пойдем на Майский костер под зонтиками.
Вот и кончился этот день. Наступает вечер, пасмурный и теплый, и весь Юнибаккен отправляется на встречу весны. Мадикен и Лисабет торжественно везут Кайсу на первый в ее жизни Майский костер. Такое важное событие помогло Мадикен забыть то страшное, что ей пришлось пережить нынче утром. Оно стерлось из памяти, точно ничего и не было. Сейчас Мадикен думает об одном — как она покажет людям Кайсу. Не слепые же они, чтобы не заметить «маленького человечка» в колясочке и не удивиться этому чуду. Но люди не замечают. Вот дурачки-то! Все только и ждут, когда наконец трубочист подожжет костер и запоет мужской хор. Им, видите ли, некогда полюбоваться на Кайсу!
— Тоже мне, невидаль! На младенцев все и без вашего давно насмотрелись, — говорит Мия.
Только она да Маттис взглянули на Кайсу. Однако даже Мия не понимает, какое чудо эта малютка! Но тут подошел Аббе. Он любит малышей и с любопытством заглянул в колясочку. Мадикен довольна — Аббе долго рассматривает ее сестренку. Кайса тоже довольна. Она гукает и хохочет.
— Глянь-ка! А ведь я ей понравился! — говорит Аббе. — Впрочем, меня все девчонки любят. По крайней мере, в Юнибаккене. Только Альва не в счет. Про нее — не знаю!
Но с Альвой все ясно — она не спускает с трубочиста глаз. И трубочист ей подмигнул. Мадикен заметила. Вообще-то нечего ему подмигивать! Вокруг него суетятся все пятеро его ребятишек, с нетерпением ожидая, когда он зажжет костер. Так что пора бы ему перестать подмигивать!
— Ничего я с собой не поделаю! — говорит Альва. — Слабость у меня к этому парню.
А вон и дядя Нильссон идет неторопливой походочкой. Он такой шикарный — в черном пальто и шляпе, с тросточкой и сигарой. Немного позади идет тетя Нильссон.
— Какой вечер! — говорит дядя Нильссон, попыхивая сигарой. — А жизнь-то так и играет! Я давно замечаю, что весной особенные вечера.
Мадикен это тоже замечает, да еще и как замечает! И неважно, что вечер выдался темный и пасмурный, все равно чувствуется весна, в воздухе пахнет весной, настоящая весна пришла!
«Неважно, если пойдет дождик! — думает Мадикен. — Весенний дождик, он же теплый. Даже название у него теплое! Пускай идет весенний дождик! Конечно, от дождя развезет землю и сандалии запачкаются в грязи. Но это ничего! — думает Мадикен. — Пускай их пачкаются! Они же старенькие!»
— Интересно, помнят ли они еще, какие были красивые в прошлом году? — спрашивает она сестру.
— Кто — помнит? — Лисабет не поняла, о чем говорит Мадикен.
— Да мои сандалии! Какая я добрая, что дала им два раза посмотреть на Майский костер!
Лисабет расхохоталась:
— Смотри, берегись Мии! А то как бы тебе опять не пришлось скакать домой на одной ножке!
— Уж как-нибудь не поскачу! — говорит Мадикен. Она ведь теперь подружилась с Мией. Девочки сговорились, что будут бегать вокруг Майского костра наперегонки. Скорей бы трубочист зажигал!
Наконец он поджигает костер. Это великий миг. Все закричали: «Ура!» Мадикен торопливо вынимает из колясочки Кайсу.
— Видишь костер, Кайса? Это называется — Майский костер. Так люди встречают весну! Ты понимаешь?
Пламя взмывает к темному небу, трещат поленья, летят искры. И вот грянул мужской хор:
Сияет майское солнце!И тут начался дождь.
Примечания. (Л. Брауде)
«Мы — на острове Сальткрока». Повесть. Впервые на шведском языке: Lindgreii A. Vi ра Saltkräkan. Stockholm, Raben-Sjögren, 1964.
Впервые на русском языке (перевод Л. Брауде и Е. Паклиной): Линдгрен А. Мы — на острове Сальткрока. Л., Детская литература, 1971. — Перевод сделан по первому шведскому изданию.
«Мадикен». Повесть. Впервые на шведском языке: Lindgren A. Madicken. Stockholm, Raben-Sjögren, 1960.
На русском языке впервые (перевод И. Стребловой): в Собрании сочинений Астрид Линдгрен. Т. 2. СПб.: Изд-во «Атос» и «Библиотека „Звезды“», 1994. Перевод выполнен по шведскому изданию 1979 г.
«Мадикен и Пимс из Юнибаккена». Повесть. Впервые на шведском языке: Lindgren A. Madicken och Junibacken Pims. Stockholm, Raben-Sjögren, 1976.
Впервые на русском языке (перевод И. Новицкой) в книге: Линдгрен А. Мадикен и Пимс из Юнибаккена. М., Детская литература, 1990.
Новый перевод И. Стребловой впервые опубликован в Собрании сочинений Астрид Линдгрен. Т. 2. СПб.: Изд-во «Атос» и «Библиотека „Звезды“», 1994. Перевод осуществлен по первому шведскому изданию.
Издательство приносит извинения за техническую ошибку в первом томе на с. 82–83. Абзац следует читать:
До Рождества нужно было пережить еще туманную, дождливую и темную осень. Осень — довольно грустная пора где бы то ни было, а в Каттхульте и подавно. Под мелким сеющим дождем Альфред шагал вслед за быками, вспахивая лоскутки каменистой пашни, а за ним по междурядью семенил Эмиль. Он помогал Альфреду понукать быков, которые были донельзя упрямы и никак не хотели взять в толк, для чего надо пахать. Темнело рано, Альфред распрягал быков, и все они брели домой — Альфред, Эмиль и быки. Альфред и Эмиль вваливались на кухню прямо в сапогах, облепленных комьями грязи, чем выводили из себя Лину, которая тряслась над своими выскобленными добела полами.
Примечания
1
Сальткрока (шв.) — медвежий угол, захолустье. Название острова в Стокгольмском архипелаге.
(обратно)2
Шхеры (шв.) — скалистые острова или группы подводных или надводных прибрежных скал.
(обратно)3
фарватер — водный путь для безопасного плавания судов.
(обратно)4
фьорды — узкие глубокие морские заливы, преимущественно с высокими скалистыми берегами.
(обратно)5
Чёрвен (шв.) — колбаска.
(обратно)6
Зюйдвестка — непромокаемая круглая шляпа от дождя, с широкими полями, которые спереди отгибаются.
(обратно)7
Голанить — придавать лодке движение одним веслом, с кормы, поворачивая его в воде в ту и другую сторону.
(обратно)8
Героиня одноименной сказки великого датского писателя X.-К. Андерсена (1805–1875).
(обратно)9
День летнего солнцестояния бывает 21 или 22 июня.
(обратно)10
Руны — древнескандинавские письмена, выбитые на камне или на металлической пластинке.
(обратно)11
Сага — так называется древнее прозаическое повествование в Исландии.
(обратно)12
Юльтомте (шв.) — рождественский домовой, выступает в Швеции в роли Деда Мороза. Одет он в красный кафтанчик и остроконечную шапочку с белой опушкой.
(обратно)13
Мосес — шведская форма имени Моисей. Согласно библейской легенде, пророк Моисей был пущен в детстве в тростниковой корзинке по волнам Нила. Дочь фараона нашла его и воспитала.
(обратно)14
«Воронье гнездо» — небольшая полукруглая площадка на мачте парусного судна.
(обратно)15
Юнибаккен (шв.) — дословно: Июнь-горка.
(обратно)16
В Библии о рождении пророка Моисея рассказывается так: египетский фараон, считая, что народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее египтян, повелел всякого новорожденного у евреев сына бросать в реку. Мать младенца Моисея три месяца укрывала его от глаз фараоновых слуг, «но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника, и осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки…». И когда дочь фараонова вышла на реку мыться, она увидела корзинку среди тростника и послала свою рабыню взять ее. Открыла и увидела плачущего младенца; она сжалилась над ним и взяла его себе вместо сына.
(обратно)17
Люгнет (шв.) — буквально: отдохновение, спокойствие.
(обратно)18
Йон Блунд — волшебный персонаж шведского и шведоязычного фольклора. Он, как и датский Оле-Лукойе, навевает сны детям.
(обратно)19
В Библии сказано: «И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку».
(обратно)20
Густав V Адольф (1858–1950), с 1907 года — король Швеции.
(обратно)21
Старинный обычай провинции Смоланд, откуда родом А. Линдгрен.
(обратно)22
Юльтомте — сказочный добрый рождественский гость вроде Деда Мороза или Санта-Клауса, который приносит всем подарки.
(обратно)23
В Швеции принято за четыре недели до Рождества отмечать его приближение. В первое воскресенье зажигают одну свечу, во второе — две, в последнее — четыре.
(обратно)24
Аппельшё — буквально: Яблоневое озеро (шв.).
(обратно)25
Аппелькюллен — буквально: Яблоневый холм (шв). Так называется хутор, на котором живут Карлссоны.
(обратно)26
В Евангелии говорится, что Мария своего сына спеленала и «положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице».
(обратно)27
Тоже один из рождественских обычаев — макать хлеб в бульон, в котором варился окорок.
(обратно)28
Пимс — ласковое обращение к маленькому ребенку, в смысле — крошка, карапуз, пупс.
(обратно)29
В Библии рассказывается, что Иосиф был у отца любимым сыном, за это его возненавидели завистливые братья. Однажды, когда они были на пастбище, братья бросили Иосифа в пустой ров, а потом продали его в рабство чужеземным купцам.
(обратно)30
День святой Вальборг — последний день апреля, праздник встречи весны. Святая Вальборг (710–779) — дочь английского короля, уехавшая с христианскими миссионерами в Германию, где стала аббатисой основанного ею монастыря в Швабии. Почиталась также в Швеции. Слыла покровительницей полей, отсюда и традиция зажигать костры в день ее поминовения. У германцев ночь на 1 мая была в древности, по народным языческим поверьям, праздником ведьм в горах Гарца. Поскольку он совпадал с днем святой Вальборг, которую именовали в Германии Вальпургией, праздник ведьм получил название Вальпургиевой ночи.
(обратно)31
Миссионер — человек, посылаемый церковью, чтобы проповедовать свою религию среди иноверцев.
(обратно)32
Псалом — род церковного песнопения.
(обратно)33
Крокировать — ударить своим шаром шар другого игрока так, чтобы он откатился в сторону.
(обратно)34
Самаритянин — персонаж евангельской притчи. Самаритяне, или самаряне, — древние жители Самарии, области в Северной Палестине.
(обратно)35
Настораживать — поставить пружину капкана в такое положение, чтобы капкан захлопнулся, когда его коснется зверь.
(обратно)36
Хульдра — злая фея, ведьма из шведских и норвежских народных сказок.
(обратно)37
Муслин (от названия города Мосула в Малой Азии) — легкая, тонкая и мягкая ткань — бумажная, шелковая или шерстяная.
(обратно)38
Живые картины — род любительского театрального представления, которое состоит из отдельных сценок без слов и движений. Исполняется в соответствующих сюжету костюмах и позах.
(обратно)
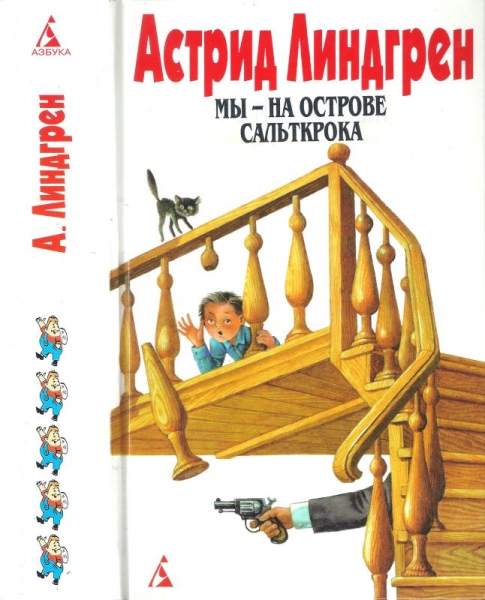

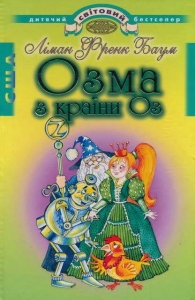
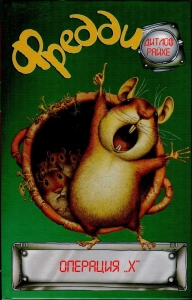



Комментарии к книге «Том 5. Мы — на острове Сальткрока», Астрид Линдгрен
Всего 0 комментариев