7 историй для девочек
Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране Чудес Или Странствие в Странную Страну по страницам престранной пространной истории
Пересказ М.С. Блехмана
Глава 1. Кубарем в кроличью норку
Алиска вконец устала всё сидеть и сидеть без дела рядом с сестрой на берегу речки. Сестра читала книжку, Алиса разок-другой заглянула в неё, но книжка была без картинок, а что это за книжка без картинок – в ней же читать нечего!
День был жаркий, ленивый, голова становилась всё тяжелее, а мыслей в ней – всё меньше. И никак не могла Алиска решить, что же лучше – сидеть вот так и сидеть или, может быть, сплести венок из ромашек, – но ведь для этого же надо встава-ать… и вдруг, откуда ни возьмись, прямо перед её носом пробежал Белый красноглазый Кролик.
Ну, в этом ещё не было ничего чудесного. Не очень удивилась Алиска и тогда, когда Кролик пробормотал: «Ой, мамочки, опоздаю, и всё тут! (Уже потом, когда вся эта история закончилась, она подумала, что удивиться стоило, но сейчас она совсем не удивилась). А вот когда Кролик взял и вынул из жилетного кармана часики на цепочке, да ещё и посмотрел на них, а посмотрев, припустил со всех ног, Алиса вдруг вспомнила, что ещё не видала у кроликов кармашков на жилетках, да не пустых, а с часами, и, подумав так, она вскочила на ноги и, сгорая от любопытства, побежала через поле за Кроликом. Ей повезло: она успела заметить, как он юркнул в большую кроличью норку под живой изгородью.
Алиса тут же прыгнула вслед, даже не подумав, как же она выберется обратно.
Кроличья нора вела куда-то вперёд подобно туннелю, а потом вдруг провалилась – да так неожиданно, что Алиска и ахнуть не успела, как упала в глубокий-преглубокий колодец.
То ли колодец был слишком глубок, то ли она медленно летела, но у неё оказалось достаточно времени, чтобы оглядеться вокруг и подумать: «Ой, что же теперь будет?» Первым делом она попыталась рассмотреть, куда же она падает, но внизу было совсем темно. Потом она разглядела стенки колодца: на них было множество шкафчиков и полочек, а на крючочках висели картинки и карты. Алиска взяла со встречной полки банку, на которой была наклейка «Апельсиновое повидло», но, к огромному сожалению, банка была пуста. Бросить её было страшно (а вдруг внизу кто-нибудь есть?), и Алиска ухитрилась поставить её в один из встречных шкафчиков.
«Вот здорово!» – подумала Алиса. – Теперь и с лестницы скатиться не страшно! Такой смелой стану – дома все позавидуют. А как же? Я и с крышу упаду – не пикну! (Да уж, пикнуть ей бы не удалось).
Вниз, вниз, вниз. Когда же это кончится?
«Интересно, сколько километров я пролетела? – вслух подумала Алиска. – Наверно, уже долетела до центра Земли. Ну-ка, посмотрим: если я пролетела 6 тысяч километров…» Алиска кое-что в этом роде учила в школе; сейчас, правда, было не самое время демонстрировать свои познания – похвалить-то ведь было некому, но почему бы не попрактиковаться? «Да, точно, шесть тысяч. Тогда на какой же я широте и долготе?» – Алиска не знала, что такое «широта» и «долгота», но зато слова такие красивые!
«Интересно, а что если я пролечу всю Землю насквозь? Вылечу – а там люди ходят вверх ногами, вот интересно! Кто под нами вверх ногами? Перевёртыши их называют, кажется…» (Хорошо, что её никто сейчас не слышал – слово-то вроде бы совсем не то).
«Да, надо же узнать, в какую страну я прилетела. Тётенька, скажите, пожалуйста, это у вас Новая Зеландия или Австралия?» – И она попыталась сделать реверанс (представляете – вверх тормашками! Попробуйте – сможете?).
«Нет, спрашивать нельзя: люди подумают, что я двоечница. Может, найду какую-нибудь вывеску или указатель?»
Вниз, вниз, вниз. Делать было совсем нечего, и Алиса снова принялась размышлять вслух:
«Диночке без меня будет вечером так грустно!» (Диночка – это её кошка).
«Хоть бы не забыли ей молока дать на полдник. Солнышко моё! Как мне тебя здесь не хватает! Правда, я, сколько ни летела, ни одной мышки не встретила, зато летучие тут обязательно должны быть, а они на вид почти совсем как обычные, да? Вот только какие они на вкус?»
Тут Алиске стало хотеться спать, она закрыла глаза и уже сквозь сон бормотала:
«Кошки-мышки…»
Потом – «Мышки-кошки…» (а какая, собственно, разница?).
Она чувствовала, что засыпает, и вот уже её начал сниться сон: идёт это она под лапу с Диной и так строго у неё спрашивает:
– Скажи-ка, Дина, приходилось ли тебе лакомиться летучей мышью?
И вдруг – трах, бах! – она шлёпнулась на кучу хвороста и сухих листьев. Наконец-то долетела!
Алиска совсем не ушиблась. Вскочив на ноги, она посмотрела туда, откуда прилетела, но там было совсем темно. Прямо перед собой она увидела длинный ход, а в конце его ещё виднелся Белый Кролик. Нельзя было терять ни секунды.
Алиса стремглав бросилась за Кроликом, и как раз вовремя: Кролик уже сворачивал за угол.
– Опоздаю! – пробормотал он. – Клянусь ушами, опоздаю!
Кролик был, кажется, совсем рядом, но, выбежав из-за угла, Алиса остановилась: Кролик исчез. Она очутилась в длинном зале с низким потолком, с которого свисала вереница ламп, слабо освещавших помещение.
В зале оказалось множество дверей, но все они были заперты. Алиска обошла зал в оба конца, подёргала все ручки и, наконец, вышла на середину, с грустью размышляя, как же она выберется наружу.
И тут она увидела прямо перед собой стеклянный столик на трёх ножках. На нём не было ничего, кроме крошечного золотого ключика. Алиса подумала, не подойдёт ли он к одной из дверей, но, увы, наверно, замки на дверях были слишком большими, а может, ключик – слишком маленьким, только ей не удалось отпереть хотя бы одну дверь.
Зато на этот раз Алиска набрела на портьеру, свисавшую до пола: за портьерой открывалась малюсенькая дверца – ей по колено. Она вставила ключик в замок, и – ура! Он подошёл!
Алиса открыла дверцу и увидела, что та ведёт в узкий ход, не шире мышиной норки. Она стала на четвереньки, заглянула в эту норку и увидела красивый-прекрасивый сад. До чего же ей захотелось выбраться из полутёмного зала и погулять среди клумб с диковинными цветами и журчащих фонтанов, но ей никак не удавалось просунуть голову в дверцу.
«А если бы голова и пролезла, – с грустью подумала Алиса, – она же у человека должна быть на плечах. Вот если бы я умела складываться и раскладываться, как подзорная труба.
Думаю, я бы смогла, вот только бы мне рассказали, как это делается».
Ну и вправду, с ней уже сегодня случилось так много необычного, что всё необычное казалось совсем обычным.
Бесполезно было ждать у дверцы погоду. Алиса вернулась к столику в надежде, что на нём найдётся ещё один ключик или, по крайней мере, какая-нибудь волшебная книга, где будет написано, как человеку сложиться в три погибели.
Но на этот раз на столике обнаружилась маленькая бутылочка («Раньше её точно не было», – подумала Алиса), а на горлышке у неё висела этикетка, а на этикетке было напечатано крупными буквами: ВЫПЕЙ МЕНЯ
Какая хитренькая! «Выпей меня». Алиска была умной девочкой. Разве можно так сразу взять и выпить?
– Нет, – сказала она, – посмотрим сначала – может, тут где-нибудь написано «Яд».
Ей доводилось читать занимательные истории о том, как непослушные дети сгорали дотла, и как их съедали живьём дикие звери, и как с ними случались другие неприятности. А всё почему? Да потому, что они забывали, чему их учили взрослые: не держись слишком долго за раскалённую кочергу – можешь обжечься; не разрезай себе палец ножом слишком глубоко – может пойти кровь.
И ещё она крепко-накрепко запомнила: если напиться из бутылки, на которой написано «Яд», то чего доброго разболится живот.
Нет, на этой бутылочке не было написано «Яд», и Алиска рискнула попробовать капельку. Было вкусно – что-то среднее между пирожком с вишнями, кремом, ананасом, жареной индюшкой, ирисками и гренками с маслом, – и она залпом выпила всё до дна.
* * *
– Ой, как интересно! – воскликнула Алиса. – Я, кажется, складываюсь, как подзорная труба.
Так оно и было. Она теперь была себе ниже колена и с радостью подумала, что сможет, наконец, пройти через дверцу в чудесный сад. Но сначала она немножко подождала – посмотреть, не уменьшится ли она ещё больше. Это её беспокоило.
– Если так пойдёт дальше, – сказала Алиска, – я ведь могу совсем закончиться, как свечка. Интересно, куда я тогда денусь?
И она попыталась представить себе задутое пламя свечи – она ведь раньше видела только горящее.
Нет, больше она не уменьшалась; значит, можно идти в сад. Но увы – подойдя к двери, Алиска вспомнила, что забыла золотой ключик, а когда вернулась за ним к столу, ключика было не достать: она его видела снизу через стекло, несколько раз пробовала взобраться на стол по ножке, но соскальзывала вниз.
Вконец измучившись, бедняжка села на пол и расплакалась.
– Ну-ка, перестань плакать! – строго приказала она себе. – Я кому сказала!
Она часто давала себе мудрые советы (правда, не всегда им следовала), а иногда ругала себя, да так строго, что начинала плакать. Однажды она даже попыталась надрать себе уши – за то, что сама себя обхитрила, играя в крокет. Алиса была большая фантазёрка и обожала играть, как будто она – два человека сразу.
– Нет, – рассудила бедная Алиска, – сейчас не получится быть двумя. Меня ведь и на одну не наберётся!
Внезапно её взгляд упал на маленькую стеклянную коробочку под столом. Она открыла её; в коробочке оказался малюсенький пирожок, а на нём смородинками были выложены слова: СКУШАЙ МЕНЯ.
– Вот и хорошо, – сказала Алиса. – Если я его съем и вырасту, то достану ключ, а если уменьшусь – смогу пролезть под дверью. Будь что будет!
И она откусила кусочек, приговаривая озабоченно:
– Вверх или вниз? Вверх или вниз?
А сама в это время держала руку на макушке, чтобы определить, растёт голова или уменьшается.
К её удивлению, она осталась, какой была. Собственно, от пирожка можно только поправиться, но сегодня с Алиской уже приключилось так много чудес, что было ужасно досадно, когда они переставали приключаться.
Алиска снова принялась за дело, и вскоре от пирожка не осталось ни крошки.
Глава 2. Море слёз
– Вот так чудо! – воскликнула Алиса. – Не чудо, а чудище! (Это она от удивления). – Я же раздвигаюсь, как самый большущий подзорный телескоп! Прощайте, ножки!
Представляете, взглянув вниз, на свои ноги, она увидела, что они всё удаляются и удаляются и почти уже скрылись из виду.
«Бедные мои ножки! Кто теперь будет надевать на вас туфельки и чулочки, солнышки вы мои! Мне уж никак, я ведь буду так далеко, придётся вам самим управляться…»
«Надо к ним подлизаться, – подумала Алиса, не то они возьмут, да и пойдут туда, куда не надо. Придумала! Подарю им на Новый год новые туфельки».
И она принялась фантазировать, как пошлёт туфельки с доставкой на дом.
– Ой, как смешно – дарить подарки собственным ногам! Да ещё и открытку вложу:
Глубокоуважаемая Правая ножка! Поздравляю Вас с Новым годом! Желаю здоровья, счастья, успехов в личной жизни. Ваша Алиса.
– Ой, мамочка, что же это я болтаю?!
В ту же секунду Алиска упёрлась головой в потолок: она уже выросла раза в три. Схватив золотой ключик, она бросилась к двери, ведущей в сад.
Бедняжка! Теперь она только и могла – лёжа на боку, заглянуть одним глазищем в сад, пробраться ж туда было невозможно. Алиска села на пол и снова расплакалась.
«Как тебе не стыдно! – пристыдила она сама себя. – Такая большущая девочка» (и верно – куда уж больше), а плачешь, как маленький ребёнок. Сейчас же перестань, слышишь?!»
Но слёзы не останавливались и всё текли ручьями, пока, наконец, не наплакалась большая лужа – по щиколотку взрослому человеку, и не растеклась до середины зала.
Через некоторое время послышались чьи-то негромкие шаги, и она поспешно вытерла глаза – посмотреть, кто идёт. Это возвращался Белый Кролик. Был он изысканно одет, в одной руке держал белые шерстяные перчатки, в другой – большой веер. Кролик быстро семенил, приговаривая:
– Ой, что будет, ой, что будет! Герцогиня меня съест, если я опоздаю!..
Алиска чувствовала себя такой беспомощной, что готова была обратиться за помощью к первому встречному. И вот, когда Кролик пробегал мимо неё, она обратилась к нему – тихонько, с дрожью в голосе:
– Простите, дяденька…
Того как током ударило. Он вздрогнул, уронил перчатки и веер и бросился наутёк.
Алиска подняла их и принялась обмахиваться веером – в зале было жарковато. Обмахиваясь, она говорила:
– Ой, мамочка, до чего же всё непонятно сегодня! А ведь ещё вчера всё было как обычно!.. Может быть, меня во сне подменили? Ну-ка, припомню, какая я была, когда утром встала? Кажется, я уже была капельку другая… Но если меня и вправду подменили, то к т о же я т е п е р ь? Вот в чём вопрос!
И она принялась перебирать в памяти всех своих подружек, размышляя, не подменили ли её на кого-нибудь из них.
– Я точно не Ада, – решила она, – потому что у неё волосы кудряшками, а у меня прямые. И, конечно же, я не Молли: я ведь столько всего знаю, а она – ой, да она почти ничегошеньки! И вообще, она – это она, а я тогда – это… ой, ну до чего же это всё непонятно!
– Надо попробовать вспомнить всё, что я раньше знала. Ну-ка: четырежды пять – двенадцать, четырежды шесть – тринадцать, четырежды семь… ой, мамочка, я так и до двадцати не доберусь!
– Ну, ладно, таблица умножения не считается. Попробуем лучше географию. Лондон – столица Парижа, Париж – столица Рима, Рим… нет, нет, всё неправильно!
– Попробую лучше рассказать на память какое-нибудь стихотворение…
Она выпрямилась, положив руки, как примерная ученица, и принялась декламировать. Но голос у неё был чужой и хриплый, а слова получились какие-то не те:
У меня растут года,
Скоро старой стану.
Кем же стану я тогда,
Если не устану?
Я до неба доросла,
Задеваю тучи.
В лилипуты б я пошла,
Пусть меня научат.
До чего же я мала!
Как любить такую?
В Гуливеры бы я пошла,
Пусть меня надуют!
– Нет, это совсем не то, – проговорила Алиса, и на глазах у неё снова выступили слёзы. – Значит, я всё-таки Молли. И буду я теперь жить в её крохотном домишке, и игрушек у меня почти совсем не будет, а вместо них – сплошное домашнее задание!..
– Нет, если уж я превратилась в Молли, лучше мне навсегда остаться здесь! И пусть старшие не заглядывают сюда и не упрашивают меня: «Ласточка, вернись назад!» Я только взгляну на них строго снизу вверх и скажу: «А кто я такая? Ответьте сначала: в кого я превратилась? Если мне понравится быть ею, тогда выйду, а если нет – останусь тут, пока не подменюсь на кого-нибудь другого…
– Ой, мамочка моя! – запричитала Алиска, и слёзы брызнули у неё из глаз. – До чего же хочется, чтобы сюда хоть кто-нибудь заглянул! Как тяжело быть одной-одинёшенькой!
Сказав это, она взглянула на свои руки и с удивлением обнаружила, что сама не заметила, как надела одну из Кроличьих перчаток.
«Как же мне это удалось? – подумала Алиска. – Неужели я снова уменьшилась?»
Она подошла к столику, чтобы измериться, и увидела, что стала себе до пояса и продолжает быстро уменьшаться. Оказывается, всё дело было в веере, который она держала в одной руке. Алиска поспешно бросила его, и правильно сделала, а то совсем бы исчезла.
– Чуть было не испарилась! – проговорила она с испугом, но довольная, что от неё хоть что-то осталось. – Ну, а теперь – в сад!
И она подбежала к заветной дверце, – но – увы! та снова была заперта, а золотой ключик лежал на столе, как и прежде.
– Вот беда! – горько вздохнула бедняжка. – Я теперь совсем крохотная. Ужасно, говорю я вам, просто ужасно!
Сказав это, Алиска вдруг поскользнулась и – плюх! – оказалась до подбородка в солёной воде. Сначала она подумала, что упала в море. «Тогда обратно доберёмся поездом», – решила она. Алиска была на море всего один раз и при слове «море» представляла себе кабинки для переодевания, малышей с лопатками, играющих в песочке, вереницу дачных домиков, а за ними – железнодорожную станцию. Но тут было не море, вернее – это было море слёз. Она сама его наплакала, и получилось оно таким глубоким, что в нём не достал бы до дна самый высокий человек.
Алиса принялась плавать туда-сюда в поисках выхода, а плавая, приговаривала:
– Нельзя было столько плакать. Вот утону в собственных слезах – буду знать! Такого чуда ни с кем ещё не случалось! Что и говорить: сегодня со мной приключаются одни чудеса!
И тут она услышала, как что-то невдалеке шлёпает по воде. Алиска подплыла поближе – посмотреть, что это такое. Сначала она подумала, что это морж или бегемот, но вовремя вспомнила, какая она теперь крошечная, и сообразила, что это – всего-навсего мышь. Должно быть, она тоже поскользнулась и упала в море.
«Заговорить с ней, что ли? – подумала Алиска. – Тут так всё необычно, что, наверно, и мыши умеют разговаривать. Ну, попытка не пытка».
– О Мышь! – сказала она. – Не знаете ли вы, как выбраться из этой лужи? Я так устала плавать, о Мышь!
Алиска считала, что именно так надлежит обращаться к мышам. Конечно, раньше ей с ними разговаривать не доводилось, зато у брата был учебник латинского языка, а там было ясно сказано: именительный – «мышь», родительный – «мыши», дательный – «мыши», творительный – «мышью», звательный – «о мышь!».
Мышь с любопытством посмотрела на неё и, кажется, подмигнула одним глазком, но ничего не сказала.
«Наверно, она иностранка, – подумала Алиса. – Скорее всего, француженка. И приплыла она к нам с войсками Вильгельма Завоевателя». (Алиска не была сильна в истории и постоянно путала имена и памятные даты). Подумав так, она сказала:
– Oùe est ma chatte? – это было первое предложение из её школьного учебника французского языка. В переводе оно означает: «Куда запропастился мой кот?»
Мышь в ужасе дёрнулась, выпрыгнула из воды, плюхнулась обратно и задрожала всем телом.
– Ой, простите, пожалуйста! – затараторила Алиска: надо же так оскорбить бедное животное! – Я совсем забыла, что вы недолюбливаете кошек.
– Недолюбливаю?! А вы бы их любили, окажись вы на моём месте?
– Конечно, конечно, – примирительным тоном ответила Алиска. – Пожалуйста, не сердитесь на меня. А всё-таки, жаль, что вы не знакомы с нашей кошечкой Диной. Думаю, после неё вы полюбили бы всех остальных кошек. Она такая ласточка! – И Алиса принялась рассказывать, плавая по морю туда и обратно:
– Такая хорошенькая! Сидит себе у огня и мурлычет. Лапку облизывает, личико умывает… А какая она мягенькая, пушистенькая – так приятно её гладить! А как она мышей ловит!.. ой, простите, пожалуйста! – закричала она снова: на этот раз Мышь так рассердилась и оскорбилась, что её затрясло от усов до кончика хвоста. – Давайте не будем о Дине, если вы против!
– Хорошенькое дело! – воскликнула Мышь, продолжая содрогаться. – Можно подумать, что это я завела такой разговор! Все члены нашей семьи ненавидят котов, этих мерзких, подлых, грубых животных, в которых нет ничего человеческого! Не произносите в моём присутствии это бранное слово!
– Не буду, честное слово, не буду! – пообещала Алиска и поспешила переменить тему. – Скажите, а как вы относитесь… к собакам?
Мышь промолчала, и Алиска радостно продолжала:
– По соседству с нами живёт ужасно симпатичный пёсик! Вы бы его только видели! Маленький такой терьерчик. Глазки блестящие, шёрстка коричневая – длинная, волнистая. Если что-нибудь бросить, он принесёт, и служить умеет, да и вообще он такой умный – всего и не упомнишь. Живёт он у фермера. А фермер говорит, что он приносит большую пользу в хозяйстве, и за него предлагают огромные деньги. Он и крыс умеет убивать, и… ой, мамочка! – закричала она извиняющимся тоном. – Простите меня, я вас снова обидела!
На этот раз Мышь бросилась наутёк, оставляя за собой след, как моторная лодка.
Алиска позвала её ласковым голоском:
– Мышенька, дорогая! Пожалуйста, вернитесь! Давайте не будем о кошках и собаках, если вам не хочется.
Услышав эти слова, Мышь развернулась и медленно подплыла к Алисе. Лицо её было бледнее мела («от негодования!» – подумала Алиса), и она сказала с дрожью в голосе:
– Выберемся на сушу! Я расскажу вам о природе своей ненависти к котам и псам.
Выбираться было самое время – в море становилось тесновато: пока они беседовали, в воду нападало множество зверей и птиц. Тут были Попка-Чудак и Летучий Голландец, Мокрая Курица с Мокрым Петухом и много других диковинных созданий. Алиска поплыла к берегу, а за ней – все остальные.
Глава 3. А ну, не догони!
Общество на берегу собралось пёстрое и несчастное. У птиц размокли крылья, у зверей отсырел мех, со всех капало, всем было сыро и грустно.
Первым делом нужно было обсохнуть – но как? Принялись они совещаться, и вскоре Алиска уже была со всеми на «ты», как будто всю жизнь только и делала, что совещалась с птицами да зверушками. А с Попкой она даже поспорила, да так, что тот в конце концов нахмурил брови и сказал:
– Не спорь со мной, а почитай! Я редкий экземпляр. Таких Попок нигде больше не сыщешь!
Алиса осведомилась, где он, собственно, бывал, но Попка-Чудак ничего ей на это ответить не мог, поэтому она не стала его почитать.
Наконец Мышь, которую все здесь уважали за мудрость, обратилась к присутствующим:
– Садитесь все и слушайте! Сейчас вам станет сухо!
Все уселись в кружок вокруг Мыши. Алиска приготовилась внимательно слушать, от напряжения у неё даже в горле пересохло, но всё остальное оставалось мокрым. «Ещё немножко, – подумала она, – и начнётся воспаление лёгких!»
Мышь откашлялась и торжественно произнесла:
– Лекция начинается. Явка обязательна!
А как раз накануне папа говорил о какой-то лекции, что в ней – сплошная вода. «Как бы мы не промокли ещё больше!» – с тревогой подумала Алиска.
– Предлагаю вашему вниманию лекцию о сухой, вкусной и здоровой пище! – начала Мышь. – Приготовление диковинного пирога. Диковинный пирог делают с начинкой из ломтиков диковинного фрукта.
– Ик! – икнул Попка-Чудак.
– Вы хотели что-то сказать? – строго осведомилась Мышь.
– Это не я! – поспешно отозвался Попка.
– Вопросы попрошу подавать в письменном виде. Итак, продолжим. Готовое тесто раскатать слоем в полсантиметра, положить на противень, обрезать лишнее тесто, положить ломтики диковинного фрукта и загнуть края…
– Простите, – робко вмешался Мокрый Петух, – но ведь достать ломтики диковинного фрукта будет непросто!
– Очень даже просто, уважаемый! – хмуро ответила Мышь. – Это можно сделать путём надкусывания пирога.
– Да, но как же они попадут в пирог? – засомневался Мокрый Петух. – Для этого ведь нужен целый диковинный фрукт.
– Целый ананас не поместится в пирог! – сказала Мышь и быстро продолжала, пока Мокрый Петух не спросил чего-нибудь ещё:
– Из остатков теста нарезать узкие полоски и сделать… Как вы себя чувствуете, дорогая? – обратилась она к Алисе.
– Мокрее мокрого, – печально ответила Алиска. – Мне этот рецепт не помогает…
– Тогда попробуем другое средство!.. – без спросу взял слово Летучий Голландец.
– Не мешало бы с народом посоветоваться, гражданин! Вы не у себя дома! – перебил его Божий Бычок. – Может, с вами не согласятся!
При этих словах остальные птицы хихикнули.
– Я же хотел как лучше… – обиженно проговорил Летучий Голландец. – Поверьте, лучшее средство для согревания – «А ну, не догони!».
– А что такое «А ну, не догони!»? – спросила Алиса, не столько из любопытства, сколько для того, чтобы разредить обстановку.
– О, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, – ответил Летучий Голландец.
Может быть, в морозный зимний день вам тоже захочется поиграть в эту игру, поэтому послушайте, как в неё играют.
Первым делом Летучий Голландец нарисовал беговую дорожку – что-то вроде круга («Необязательно, – сказал он, чтобы было совсем кругло») и выстроил всех вдоль этого круга. Никто не кричал «на старт, внимание, марш!», никто никем не командовал, просто каждый побежал, когда ему захотелось, и бежал, пока ему не надоело. И не было у «А ну, не догони!» ни начала, ни конца.
Спустя полчаса, Летучий Голландец вдруг скомандовал: «Игре конец!», и все окружили его, отдуваясь и наперебой спрашивая: «Ну как, кто победил?»
Это был сложный вопрос. Летучий Голландец сел, приставил палец ко лбу, как великий учёный, и надолго задумался. Воцарилась тишина. Наконец он подумал, подумал и сказал:
– Главное не победить, а участвовать! Всем причитаются призы.
– А кто их будет выдавать? – раздался нестройный хор голосов.
– Она, конечно, – указал Летучий Голландец на Алису. Тут все окружили её и закричали:
– Призы, призы! Хотим призы!
Что делать? Алиска пошарила в карманах и вынула коробочку монпансье (к счастью, солёная вода в неё не попала) и раздала конфеты всем участникам. Каждому досталось по леденцу.
– Послушайте, – сказала Мышь, – а ей ведь тоже полагается приз.
– Разумеется! – очень серьёзно ответил Летучий Голландец. – Что у тебя ещё в карманах?
– Только напёрсток остался, – грустно проговорила Алиса.
– Давай!
Снова все зашумели, и Летучий Голландец торжественно вручил Алиске напёрсток со словами:
– Примите наш скромный подарок – этот изысканный напёрсток!
Алиске стало ужасно смешно, но все присутствующие быль так серьёзны, что она не осмелилась улыбнуться. Не найдя подходящих слов, Алиса просто поклонилась и с торжественным видом приняла приз.
Все принялись есть леденцы. Однако это оказалось нелёгким делом. Большие птицы не успели как следует распробовать свои монпансьешки, как те закончились, а маленьким они попадали не в то горло, и приходилось хлопать их по спине. Наконец, с праздничным банкетом было покончено, все снова уселись в кружок и стали упрашивать Мышь рассказать ещё что-нибудь.
– Помните, вы мне обещали кое-что рассказать, – обратилась к ней Алиска шёпотом, опасаясь, как бы Мышь снова не обиделась. – О том, почему вы не любите мяу и гав.
– Расскажу, – согласилась Мышь, – хотя сейчас не самое удобное время: хочется есть… сыро… – и она тяжело вздохнула.
– Сыра у меня, к сожалению, ни кусочка, – сказала Алиска, – а про себя подумала: «Бедняжка! у неё даже хвостик похудел!»
Мышь начала свой рассказ, а Алиска всё смотрела и смотрела на Мышин хвост и услышала вот что:
РАССКАЗ МУДРОЙ МЫШИ
Жили-были Кот и Мышка,
ели кашу с молоком.
Кот на Мышку рассердился,
съел всю кашу целиком.
Жили-были Пёс и Мышка.
Ели кашу с молоком.
Пёс на Мышку рассердился,
съел всю кашу целиком.
Мышка не пила, не ела
и серьёзно похудела
– О чём это вы задумались, милочка?! – сурово спросила Мышь у Алисы. – Вам не интересно?
– Простите, пожалуйста, – робко отозвалась Алиска. – Просто рассказ может не поместиться: у вас хвостика почти не осталось. Лучше, наверно, немножко укоротить его.
– Что?! – возмутилась Мышь. – Да это же прямое оскорбление!! – Она вскочила и пошла прочь.
– Вы меня неправильно поняли! – воскликнула Алиса. – Ну нельзя же быть такой обидчивой!
Мышь только зарычала в ответ.
– Прошу вас, вернитесь и доскажите! – прокричала ей вслед Алиса. И все остальные тоже закричали:
– Вернитесь, пожалуйста!
Но Мышь была неумолима: она покачала головой и прибавила шагу.
– Как жаль, что она ушла! – вздохнул Попка, когда Мышь скрылась из виду.
А мама Крабиха назидательно сказала своей дочурке:
– Вот видишь, доченька, никогда нельзя выходить из себя!
– Помолчи, мама! – ответила та раздражённо. – Ты и устрицу выведешь из терпения.
– Вот бы Диночку сюда! – мечтательно проговорила Алиска. – Она бы её быстро вернула!
– А кто такая Диночка, позвольте узнать? – спросил Попка.
Алиса, как всегда, с удовольствием принялась рассказывать о своей любимице:
– Это наша кошка! Ой, она так здорово ловит мышей! И птиц тоже! Вы себе не представляете: она только заметит птичку – цап-царап – и съела!
Эта тирада произвела на присутствующих заметное впечатление. Птицы заторопились домой. Пожилая Сорока принялась потеплее кутаться в пёрышки, приговаривая:
– Что-то я засиделась… Да и свежий воздух мне вреден…
Канарейка дрожащим голоском позвала своих птенчиков:
– Пойдёмте, маленькие, вам уже пора спатки!
И так все, пока Алиска не осталась одна.
– Не надо было им рассказывать про Диночку, – грустно подумала она. – Никто её здесь не любит, а ведь она – лучшая кошка на свете! Миленькая моя Динусенька! Когда мы теперь с тобой встретимся?
Ей стало грустно и одиноко, и она снова расплакалась.
Вдруг вдалеке послышались чьи-то шаги. Она вскочила и прислушалась: может быть, это Мышь передумала и возвращается, чтобы досказать свою историю?
Глава 4. Кролик лезет в бутылку. Билли вылетает в трубу
Оказывается, это был Белый Кролик. Он медленно возвращался, озираясь по сторонам, как будто что-то искал. Алиска услышала, как он бормочет:
– Пропала моя головушка! Спустит с меня Герцогиня семь шкурок! А что с лапками будет? А с усиками? Погубит меня Герцогиня, покусай меня хорёк! Да где же, где я их выронил?
Всё ясно. Он разыскивает веер и перчатки. Алиса с удовольствием принялась ему помогать, но напрасно: всё вокруг так изменилось после того, как она выбралась на сушу: и огромный зал, и стеклянный столик, и дверца – всё исчезло.
Вскоре Кролик заметил Алису и сердито окликнул её:
– Послушай, Мэри-Энн, что ты тут делаешь? Сейчас же марш домой, принеси мне пару перчаток и веер! Марш, я сказал!
Алиска ужасно испугалась и побежала, не говоря ни слова, куда показал Кролик.
«Он меня принял за свою служанку, – подумала она. – Вот удивится, когда узнает, кто я такая! Только сначала нужно принести ему веер и перчатки – если, конечно, я их найду».
Тут Алиска увидела прямо перед собой хорошенький маленький домик. На двери домика висела маленькая табличка с надписью: Б. КРОЛИК
Она вбежала, не постучав, и побежала по лестнице наверх, страшно переживая, как бы не попасться на глаза настоящей Мэри-Энн: та сразу выставила бы её за дверь, и тогда Кролик остался бы без веера и перчаток.
– Вот чудеса! – снова заговорила Алиска сама с собой. – Никогда в жизни не прислуживала кроликам! Теперь, наверно, и Динка будет мною командовать.
И она принялась фантазировать:
Няня скажет, как обычно: «Мисс Алиса, собирайтесь быстренько, пора гулять!» – «Не могу, нянечка. Тётя Дина мне приказала до её прихода сторожить мышиную норку, чтобы мышка не сбежала».
– Нет, – решила Алиска, – если Дина так раскомандуется, не видать ей больше ни молока, ни сметаны.
Наконец, Алиска нашла маленькую прибранную комнатку. Возле окна стоял стол, а на нём, как она и надеялась, лежали веер и несколько пар крошечных шерстяных перчаток. Она взяла одну пару и веер и уже собиралась уходить, как вдруг заметила возле зеркала пузырёк. На нём не было написано: «Выпей меня!», но Алиска всё равно открыла его и поднесла ко рту.
– Что бы я ни съела и ни выпила, происходит какое-нибудь чудо, – подумала она. – Ну-ка, посмотрим, какое чудо в этой бутылочке. Вот если бы она меня снова увеличила! Не могу больше оставаться такой коротышкой!
Так и случилось. Не успела Алиса выпить и полбутылочки, как упёрлась головой в потолок. Пришлось ей нагнуться, чтобы не сломать себе шею. Быстро поставив пузырёк на стол, она проговорила:
– Хватит, хватит! Хорошего понемножку! Я же теперь и в дверь не пролезу! Ну, зачем я столько выпила?!
Увы, жалеть было поздно. Она всё росла и росла, и вскоре ей пришлось стать на четвереньки. Через минуту она и на четвереньках не помещалась в комнате. Пришлось лечь на пол, одним локтем упереться в дверь, а другую руку завести за голову. Но и это было не всё – она продолжала расти. Оставалось одно: высунуть руку в окно, а ногу – в трубу.
– Ну, – сказала Алиска, – больше расти некуда. Что же теперь-то будет?
Тут, к счастью, волшебная бутылочка перестала действовать. Правда, лежать всё равно было ужасно неудобно, и главное – никакой возможности выбраться наружу. Алиска загрустила.
«Как хорошо дома! – подумала она. – Там ходишь всё время одинаковый, никакие мыши и кролики тобой не командуют. Зачем я только прыгнула в эту нору?.. А всё-таки… всё-таки интересно так жить! Ума не приложу, что же со мной случилось? Когда читаешь сказку, думаешь, что на самом деле чудес не бывает, – а вот, оказывается, бывает! Обо мне непременно должны написать книжку. Вот вырасту – обязательно сама напишу!..»
Алиска подумала и печально добавила:
«Впрочем, я уже и так выросла, дальше некуда».
Тут она всё взвесила и рассудила так:
«А раз больше расти некуда, значит, я никогда не состарюсь!.. Хотя, конечно, с одной стороны, хорошо всегда оставаться молодой, но ведь и уроки придётся учить всю жизнь. Хуже некуда!»
– Какая же ты глупая, Алиса! – ответила она себе на это. – О каких уроках ты говоришь? Ты и сама-то здесь не помещаешься, а для учебников и подавно не найдётся места!»
Она ещё некоторое время беседовала сама с собой, как вдруг за окном послышался голос:
– Эй, Мэри-Энн! Сейчас же принеси мои перчатки!
По лестнице зашлёпали шаги. Всё понятно: Кролик вернулся. Алиска так задрожала, что затрясся весь дом. Она совсем забыла, что по сравнению с ней Кролик теперь был просто карапузик.
Дверь-то открывалась внутрь, а Алиска как раз упиралась в неё локтем.
– Ладно, – буркнул Кролик. – Пролезу в окно.
«Только попробуй!» – подумала Алиса.
И вот, когда шаги Кролика послышались под окном, она быстро высунула руку из окна и попробовала схватить его. В руку ничего не попалось, но кто-то вскрикнул и упал. Зазвенело разбитое стекло – это, наверно, Кролик угодил в огуречный парничок.
– Патрик! Патрик! – раздался сердитый голос Кролика. – Ты где? Чего ты там копаешься?
В ответ послышался новый голос:
– Вот он я, ваша судейская милость! Яблоки выкапываю. Ух, и урожай в этом году!
– «Яблоки выкапываю»! – передразнил его Кролик. – А ну, идите сюда, ваша ослиная милость! Помоги мне выбраться!
Снова зазвенело разбитое стекло.
– Теперь скажи, Патрик, что это такое в окне?
– Однако, рука, ваша судейская милость.
– Ну, и дурак. Где ты видел такие ручищи, на целое окно?
– Насчёт окна – это вы в самую точку, ваша судейская милость. А всё равно – рука.
– Ну, ладно, рука так рука. Убери-ка её отсюда!
Голоса затихли, и только время от времени Алиске удавалось расслышать отдельные слова:
– Ой, что-то мне совсем не хочется, ваша судейская милость!..
– Делай, что сказано, трус ты этакий!
В конце концов, Алиса сделала рукой то же самое, что и в первый раз. Раздались крики и звон стекла.
«Сколько же у них парников?.. – подумала Алиса. – Интересно, что они теперь станут делать? Если попробуют вытащить меня, я бы с удовольствием! Сил моих нет больше тут торчать!»
Спустя некоторое время к дому подкатили тележку, и наперебой затараторило множество голосов:
– Где вторая лестница?
– У меня одна только, вторая – у Билли.
– Билли, дружище, тащи её сюда!
– Ну-ка, приставьте их к стене!
– Сначала связать их надо – они и до середины не достают.
– Вот так.
– Ладно тебе!
– На, Билли! Держись за эту верёвку!
– А крыша выдержит?
– Смотри, там черепица отходит!
– Ой, падает!
– Поберегись!
Тррр-ах!!
(«Кто это натворил? Билли, наверно?»)
– Надо кому-то в трубу лезть.
– Я ни за что. Сам лезь!
– Ещё чего!
– Пусть Билл лезет.
– Эй, Билли! Хозяин говорит – пусть Билл лезет!
«Ну, вот. Теперь этот Билли в трубу полезет, – подумала Алиска. – Всё Билли да Билли! Не завидую этому Билли: дымоход такой узкий. Ну, ничего, немножко лягнуться можно!»
Она поглубже подобрала ногу – ту, что в трубе, и принялась ждать, пока в дымоходе, рядом с её ногой, не послышалось шуршание какого-то маленького зверька.
«Это Билли», – подумала Алиска и наподдала ему ногой. Теперь оставалось ждать, что будет дальше.
Первое, что она услышала, было:
– Билли летит!!
Потом – голос Кролика:
– Эй, у палисадника! Ловите его!
Потом тишина, и голоса наперебой:
– Поднимите ему голову!
– Теперь бренди вливайте.
– Не в то горло льёшь! В другое горло лей, а то захлебнётся!
– Ну, что, старина?
– Что это там было?
– Слушай, расскажи, а?
В ответ послышался слабенький писклявый голосочек («Это Билли», – догадалась Алиса):
– Ой, братцы, прямо не знаю… Спасибо, хватит… Мне уже лучше. Сердце колотится, говорить не могу… Ничего не помню… Помню только: ка-ак что-то ни с того ни с сего выскочит да ка-ак меня трахнет – я и полетел, прямо как ракета.
– Точно, старина! Всё так и было, – подтвердили остальные.
– Остаётся одно – сжечь дом! – раздался голос Кролика.
Тут Алиса как закричит:
– Только попробуйте! Динищу на вас напущу!
Стало тихо-тихо.
«Что теперь будет?» – подумала Алиска. – Взяли бы да и сняли крышу!»
Минуту-другую спустя они снова забегали.
– Грузите в тележку! – командовал Кролик. – Думаю, должно хватить.
«Что это они грузят?» – встревожилась Алиса.
Но долго размышлять не пришлось: в окно полетел град камешков, которые попадали ей прямо в лицо.
«Вот я им сейчас!» проговорила она и закричала:
– Лучше прекратите по-хорошему!
Снова тишина.
И вдруг Алиска с удивлением заметила, что камешки на полу превращаются в пирожные. Её осенило:
«Если я съем пирожное, то наверняка снова изменюсь. Расти уже некуда, значит – уменьшусь».
Она с аппетитом съела одно пирожное – и тут – наконец-то! – начала уменьшаться. Увидев, что может пролезть в дверь, она выбежала из домика. Перед домом собралось множество зверушек и птиц. Посередине две морские свинки поддерживали Билли – маленькую ящерку – и поили его чем-то из бутылочки. Увидев Алису, все бросились к ней, но она пустилась наутёк и бежала, пока не очутилась одна одинёшенька в дремучем лесу.
Принялась она бродить по лесу, раздумывая, как быть дальше.
«Первым делом надо стать такой, как прежде. А когда стану – попробую найти тот чудесный сад… Да, это самый правильный план».
План действительно был хорош. Но одно дело – составить план, и совсем другое – выполнить его. Бродила она, бродила, озираясь по сторонам, как вдруг прямо у неё над головой раздался звонкий лай. Алиска подняла голову, и…
… огромный щенище пристально смотрел на неё большущими круглыми глазами, потом осторожно протянул к ней лапу, пытаясь потрогать.
– Бедненький! – ласково, но дрожащим голоском проговорила Алиска и даже попробовала свистнуть. На самом деле ей было жутко подумать, что если он голодный, то съест её, как ни подлизывайся.
Трясущимися руками она подняла с земли прутик и протянула его щенку. Тот от радости подпрыгнул, тявкнул и бросился на прутик, как будто хотел укусить его. Алиска забежала за большой куст чертополоха, чтобы не попасться псу под горячую лапу. В ту же секунду щенок снова бросился на прутик и со всего размаху шлёпнулся на землю.
Это было всё равно, что играть с тягловой лошадью: того и гляди – попадёшь под копыта. Алиска снова спряталась за чертополох. Тогда щенок изменил тактику: он делал шаг вперёд и два шага назад, и снова вперёд, и снова назад. При этом он, не переставая, хрипло лаял. Наконец, он удалился от Алиски на приличное расстояние, уселся, вывалил язык, прикрыл глаза и устало задышал.
Было самое время уносить ноги. Алиска бросилась бежать, и бежала, пока не выбилась из сил, а лай щенка был почти не слышен.
Она прислонилась к лютику, чтобы перевести дух, и принялась обмахиваться листочком.
«Какой он всё-таки хорошенький! – подумала Алиска. – Можно было бы приручить его… если бы только подрасти!.. Ой, мамочка, чуть не забыла: мне же ещё надо вырасти! Только как же это сделать? Думаю, нужно что-нибудь съесть или выпить, но что?»
Действительно, что? Алиска обвела взглядом цветы, траву, но не увидела ничего съедобного. Рядом, правда, рос большущий гриб, с неё ростом. Алиса заглянула под гриб, обошла вокруг него и решила посмотреть, что у него на шляпке.
Она встала на цыпочки, заглянула за край гриба – и встретилась взглядом с большой гусеницей голубого цвета, – точнее, это был гусениц, потому что он курил длинную-предлинную диковинную трубку. Руки его почивали на груди, он был спокоен, безмолвен и не обращал ни на что, в том числе и на неё, ни малейшего внимания.
Глава 5. Мудрый Гусениц
Гусениц и Алиска некоторое время молча смотрели друг на друга. Наконец, Гусениц вынул трубку изо рта и спросил вялым, сонным голосом:
– Ты кто такая?
Начало было не очень обнадёживающее.
– Понимаете, дяденька, – робко проговорила Алиска, – я и сама уже не знаю… Вернее, знаю, кем была, когда утром встала… Но, по-моему, с тех пор я несколько раз менялась.
– Что это значит? – спросил Гусениц. – Ты сама-то себя понимаешь?
– К сожалению, теперь не очень, дяденька, – ответила Алиска. – Видите ли, как бы это сказать… Я всё время разная, и сама не своя.
– Не вижу, – сказал Гусениц.
– Извините, пожалуйста, – вежливо сказала Алиса. – Я бы и рада объяснить понятнее, но сама ничего не понимаю. Когда за день столько раз становишься то больше, то меньше, поневоле запутаешься.
– Не запутаешься, – сказал Гусениц.
– С вами, наверно, это ещё не случалось. А вот когда придёт время превращаться в куколку, а потом в бабочку, вам ведь будет немножко не по себе, правда?
– Неправда, – сказал Гусениц.
– Ну, может быть, у вас всё по-другому. А мне было бы.
– Тебе? – сморщился Гусениц. – А кто ты такая?
Вот так-так! Сказка про белого бычка! И, кроме того, говорил он такими отрывистыми фразами… Алиска помолчала и сказала очень серьёзно:
– Сначала вы должны представиться.
– Почему? – спросил Гусениц.
Ещё один трудный вопрос. Ответить на него Алиска не могла, а Гусениц был в таком плохом расположении духа, что она повернулась и пошла прочь.
– Вернись! – сказал Гусениц. – Я тебе скажу кое-что важное.
Это звучало многообещающе. Алиска вернулась.
– Никогда не выходи из себя, – сказал Гусениц.
– Это всё? – спросила Алиса, с трудом сдерживая возмущение.
– Нет, – ответил Гусениц.
«Почему бы не послушать? – подумала она. – Дел у меня никаких нет, да и, может быть, он всё-таки скажет что-нибудь стоящее».
Некоторое время Гусениц молча пыхтел своей трубкой. Наконец, он вынул её изо рта и проговорил:
– Итак, по-твоему, ты – это не ты?
– Да, дяденька, к сожалению, я это не я. Последнее время я стала всё забывать, и, кроме того, пяти минут не проходит, чтобы я не увеличилась или не уменьшилась!
– Что именно ты стала забывать? – спросил Гусениц.
– Хотела рассказать «Кем быть?», а вышло всё наоборот, – ответила Алиска со слезами в голосе.
– Расскажи «Что такое хорошо и что такое плохо», – потребовал Гусениц.
Алиска стала по стойке «смирно» и начала декламировать:
Крошка сын к отцу пришёл,
И спросила кроха:
«Что такое хорошо»
И что такое «плохо»?
– Если мальчик стёкла бьёт
И баклуши тоже,
Слава о таком идёт:
Очень он хороший!
– Если в лужу он полез,
Замочил трусишки,
Говорю я: Молодец!
Так держать, детишки!
– Если маме нагрубил,
Бабушке и деду,
Мне такой мальчишка мил,
Дам ему конфету!
– Если ж учится на «пять»,
Слабому поможет,
Про такого говорят:
Очень нехороший!
Если он цветы полил
И сварил картошку,
Я б такого отлупил
И подставил ножку!
Мудрый папа спать пошёл,
И сказала кроха:
«Плохо делать хорошо!
Лучше делать плохо!»
– Неправильно, – сказал Гусениц.
– Да, к сожалению, немножко неправильно, – робким голоском проговорила Алиска.
– Неправильно от начала до конца, – сурово сказал Гусениц, и они оба погрузились в молчание.
Первым заговорил Гусениц:
– Ну, и какой же величины ты хочешь быть?
– Ой, мне вообще-то всё равно, – поспешно ответила Алиска, – только бы не изменяться так часто, понимаете?
– Не понимаю, – сказал Гусениц.
Алиска промолчала. Она уже начинала терять терпение: никогда с ней только не спорили.
– Такой, как сейчас, тебе нравится быть? – спросил Гусениц.
– Если не возражаете, дяденька, я бы хотела стать немножко побольше. Ужасно грустно быть ростом в полкарандаша.
– Это прекрасный рост! – сердито заявил Гусениц и расправил плечи. Ростом он был как раз в полкарандаша.
– Да, но я-то привыкла быть больше! – жалобно возразила Алиска, а про себя подумала: «До чего же они тут все обидчивые!»
– Привыкай теперь быть поменьше, – сказал Гусениц и снова закурил свою диковинную трубку.
Алиса терпеливо ждала, когда же он снова заговорит. Через несколько минут Гусениц вынул трубку изо рта, зевнул разок-другой и встряхнулся. Потом слез с гриба и пополз, куда глаза глядят, а глядели они у него в траву. На прощанье он проговорил:
– Один бок увеличит, другой – уменьшит.
«Один бок чего? – подумала Алиса. – Другой бок чего?»
– Гриба, – сказал Гусениц, как будто услышал её мысли. В следующую секунду он скрылся из виду.
Алиска постояла, постояла, задумчиво разглядывая гриб и размышляя, где у него бока, и в конце концов придумала: обхватила гриб обеими руками и отломила от шляпки по кусочку каждой рукой.
– Где же какой? – подумала она вслух и надкусила тот, что был в правой руке, – посмотреть, что получится.
В ту же секунду её сильно ударило снизу в подбородок: он налетел на туфельки. Алиска от неожиданности обмерла. Нельзя было терять ни секунды: она быстро сжималась. Тогда она принялась за другой кусок. Подбородок её так плотно прижался к ногам, что открыть рот было почти невозможно. Наконец ей это удалось, и она откусила от левого кусочка.
– Фу-у-у! Наконец-то голова освободилась! – облегчённо вздохнула Алиска, но тут же испуганно замолчала: её плечи исчезли. Внизу виднелась только длинная-предлинная шея, возвышавшаяся над зелёным морем.
«Что это там зеленеет? – подумала она. – А куда подевались мои плечи? Ой, и руки! Что-то я нигде их не вижу…»
Алиска двигала руками, но не находила их, только листья далеко внизу слабо шевелились.
Видя, что руками до головы не достать, она решила достать головой руки. К счастью, шея двигалась в любом направлении, изгибаясь, как змея. Только Алиске удалось изящно выгнуть её и приготовиться нырнуть головой в листья (это ведь были всего-навсего верхушки деревьев, под которыми она ещё недавно гуляла), как вдруг раздалось пронзительное шипение, и Алиса даже отпрянула от неожиданности: большая взрослая Голубка налетела на неё и принялась колотить по её лицу крыльями.
– Змея!! – закричала Голубка.
– Никакая я не змея! – возмущённо возразила Алиса. – Оставьте меня в покое!
– Нет, змея! – уже тише повторила Голубка и вздохнула. – Как ни стараюсь – ничего не помогает!
– Понятия не имею, о чём вы говорите, – сказала Алиса.
– И под деревьями нельзя, и на берегу речки нельзя, и под изгородью нельзя, – продолжала Голубка, не обращая внимания на её слова. – Никакого сладу нет с этими змеями!
Алиска уже совсем ничего не понимала, но всё-таки решила не перебивать.
– Мало того, что яйца насиживаешь, так ещё и от змей их уберегай круглые сутки! Последние три недели я глаз не сомкнула!
– Я вам очень сочувствую, – сказала Алиса. Она начинала понимать, в чём дело.
– И вот, когда я нашла самое высокое дерево в лесу, – говорила Голубка, и голос её постепенно переходил в крик, – когда я уже надеялась, что наконец-то от них избавилась, они на меня прямо с неба валятся! У-у, змеиная порода!
– Да поймите же: я не змея! Я … я…
– Ну, кто, кто? Не можешь придумать?!
– Я – девочка… – очень неуверенно проговорила Алиска. Она ведь уже столько раз менялась за сегодня!
– Ври больше! – сказала Голубка с глубочайшим презрением. – Я на своём веку немало девочек повидала, но такой длинношеей что-то не припомню! Нет уж, ты – самая настоящая змея, и нечего спорить! Может, скажешь ещё, что никогда яиц не ела?!
– Конечно, ела, – ответила Алиска. Она всегда говорила правду. – Только девочки тоже едят яйца.
– Не верю! А если и едят, значит, это тоже такие змеи, вот и всё!
Алиске эта мысль показалась такой неожиданной, что она потеряла дар речи. А Голубка продолжала:
– Ты яйца ищешь, меня не проведёшь! Так какая разница – девочка ты или змея?!!
– Для меня большая! – поспешно возразила Алиска. – Только я всё равно яиц не ищу. А если бы и искала, мне бы ваши не подошли – они ведь сырые.
– Ну, так проваливай! – угрюмо бросила Голубка и полетела в своё гнездо. А Алиска пошла себе, согнувшись в три погибели. Её шея время от времени запутывалась в ветвях, и тогда приходилось её распутывать.
И тут она вспомнила, что в руках у неё остались кусочки гриба. Она принялась их есть, только на этот раз очень осторожно, откусывая по очереди то от одного, то от другого и становясь то выше, то ниже, пока, наконец, не стала такой, как обычно.
Алиска уже и забыла, когда последний раз была нормального роста, и сначала ей было как-то не по себе. Но постепенно она привыкла, а привыкнув, снова заговорила сама с собой:
– Так, полдела сделано! Всё-таки до чего же это всё необычно! Сама не знаю, какой буду через минуту! Ну, да теперь я стала обыкновенной. Самое время постараться найти тот чудесный сад!
Говоря так, она подошла к лужайке. На лужайке стоял домик – высотой как раз с неё.
– Кто бы тут ни жил, – подумала Алиска, – нельзя являться к ним такой огромной, величиной с целый дом!
Она принялась за правый кусочек, и только когда уменьшилась в несколько раз, осмелилась подойти к дому.
Глава 6. Поросёнок с перцем
Минуту-другую она стояла и рассматривала дом, не зная, что же делать, как вдруг из лесу выбежал лакей в ливрее. Алиска догадалась, что это лакей по его одежде; что касается лица, то оно было рыбье. Лакей подбежал к дому и постучал в дверь костяшками пальцев. Ему открыл другой лакей в ливрее, круглолицый и пучеглазый – вылитая лягушка. У обоих лакеев на головах были парики.
Алиске стало ужасно интересно, она подкралась поближе и приготовилась слушать.
Лакей-Рыба вынул из-под мышки большущий конверт – почти как он сам – и торжественно вручил его Лакею-Лягушке со словами:
– Герцогине. Приглашение от Королевы на крокет.
Лакей-Лягушка таким же торжественным тоном повторил почти слово в слово:
– От Королевы. Приглашение Герцогине на крокет.
Тут они так низко поклонились друг другу, что стукнулись буклями.
Алиске ужасно захотелось смеяться. Пришлось даже убежать обратно в лес, чтобы её не услышали. Насмеявшись, она выглянула из-за дерева и увидела, что Лакей-Рыба уже ушёл, а Лакей-Лягушка неподвижно сидит на земле у порога, уставившись в небо. Алиска робко подошла к двери и постучала.
– Стучать бесполезно, – сказал Лакей, – причём по двум причинам. Во-первых, потому, что я нахожусь с той же стороны двери, что и вы. Во-вторых, в доме так шумно, что вас всё равно не услышат.
Действительно, в доме стоял ужасный шум: непрерывно ревели и чихали, время от времени что-то с треском разбивалось – то ли тарелка, то ли кофейник.
– Скажите, пожалуйста, – спросила Алиска, – а можно мне войти?
– Стучать имело бы смысл, – продолжал Лакей, не обращая на неё внимания, – если бы между нами была дверь. Например, если бы вы были в доме и стучали, чтобы выйти, и я бы вас выпустил.
Говоря так, он всё время смотрел вверх. Алиске это показалось очень невежливым. «Хотя он, наверно, и не может иначе, – подумала она, – у него ведь глаза на лбу. Но всё равно – на вопросы он мог бы отвечать».
– Можно мне войти? – повторила она погромче.
– Я буду здесь сидеть, – проговорил Лакей, – до завтра…
В ту же секунду дверь распахнулась и из неё вылетела большая тарелка. Она чиркнула Лакея по носу, ударилась о дерево и разлетелась на куски.
– … или до послезавтра, – продолжал он, как ни в чём не бывало.
– Можно войти? – ещё громче спросила Алиса.
– А нужно ли вам входить? Вот в чём вопрос, – отозвался Лакей.
Алиска и сама не знала, нужно ли ей входить, но это ведь не значит, что с ней можно разговаривать в подобном тоне!
– Ох, какие же тут все зверушки строптивые! – негромко сказала она. – Просто голова идёт кругом!
Лакей тем временем заговорил снова:
– Я просижу здесь много-много дней, много-много дней…
– А как же я? – спросила Алиска.
– Как угодно, – ответил Лакей и принялся насвистывать.
«Нет, с ним бесполезно разговаривать! – отчаялась Алиска. – Он же совсем глупый!»
Она сама открыла дверь и вошла.
Дверь вела в большую кухню, полную дыма. Посреди кухни на табуретке сидела Герцогиня и нянчила ребёнка, а у печки стояла Повариха и помешивала суп в большущем горшке.
«Ой, кажется, пере-пер-чхили!» – прочихала Алиска про себя.
Воздух в кухне был и впрямь полон перца, даже Герцогиня время от времени подчихивала. Ну, а ребёнок у неё на руках чихал и ревел не переставая. Не чихали только Повариха и огромный кот. Котище сидел возле печки и беззаботно улыбался.
– Скажите, пожалуйста, – несмело обратилась Алиска к Герцогине. Она не помнила, разрешается ли детям первыми заговаривать с герцогинями. – Почему ваш кот такой весёлый?
– Это – Кот Без Сапог, – ответила Герцогиня. – Зато с юмором. Свинья ты такая!!
Последние слова она произнесла с такой яростью, что Алиска вздрогнула. Но они были адресованы не ей, а ребёнку, и она осмелилась продолжать:
– А разве коты без сапог умеют улыбаться? По-моему, все коты такие серьёзные…
– Ещё как умеют! Только некоторые ленятся.
– А мне весёлые почему-то не встречались, – вежливым-превежливым голоском сказала Алиска. Ей очень хотелось поговорить по-человечески.
– Мало ли, что тебе встречалось! – ответила Герцогиня. – Тоже мне!
Алису встревожил её тон. Лучше, наверно, переменить тему. Она принялась размышлять, что бы ещё обсудить, а Повариха тем временем сняла горшок с огня и принялась швырять в Герцогиню и в ребёнка всем, что под руку попадёт: кочергой, щипцами, лопаткой, потом кастрюлями, тарелками, блюдцами…
Некоторые из них попадали в герцогиню, но она не обращала внимания. Что же касается ребёнка, то он вопил, как и прежде, и непонятно было, больно ему или он просто капризничает.
– Ой, что вы делаете! – в ужасе закричала Алиска. – Ой, осторожно, бедный носик!
Это большущий чайник просвистел рядом с ребёнком и едва не отбил ему нос.
– Если бы люди не совали носы в чужие дела, – прорычала Герцогиня, – они бы никогда не болели насморком.
– Насморк – это не болезнь, – сдерживая обиду, терпеливо возразила Алиска. – Вот если горло красное или температура, тогда даже в школу разрешается не идти…
– Кстати, о горле, – перебила Герцогиня. – А не задушить ли тебя? Или, может, лучше, отрубить голову?
Алиска испуганно скосила глаза на Повариху, но старая перечница только помешивала суп и слушала. Тогда Алиса продолжала:
– Мне всегда ставят горчичники, когда…
– Не морочь голову! – оборвала её Герцогиня. – У меня изжога от горчицы!
С этими словами она снова принялась баюкать ребёнка и припевать что-то вроде колыбельной, а в конце каждой строчки изо всех сил встряхивала его:
Баю-баюшки баю,
Ляг, малютка, на краю,
Чтоб когда придёт волчок,
Он отгрыз тебе бочок.
Герцогиня перешла ко второму куплету. Тут она принялась из всех сил размахивать ребёнком, да так, что бедное создание завыло громче её самой.
Тут она принялась из всех сил размахивать ребёнком, да так, что бедное создание завыло громче её самой.
Спи, малютка, засыпай,
Не скули и не чихай.
Мама песенку споёт,
Крошке ушки надерёт!
С этими словами она поспешила к двери. Повариха бросила ей вдогонку сковородку, но не попала.
Алиса с трудом поймала ребёнка: он был какой-то странной формы, руки и ноги у него торчали во все стороны, как у морской звезды. К тому же он пыхтел, как паровоз, и всё время то сжимался, то разжимался. Алиска едва удерживала его.
В конце концов она поняла, как его лучше баюкать: пришлось скрутить его узлом и держать за правое ушко и левую ножку, чтобы он не развязался. Взявшись поудобней, Алиска вынесла ребёнка на свежий воздух.
«Если его не забрать, – подумала она, – его и прибить могут чего доброго. Никогда бы себе этого не простила!»
Последние слова она подумала вслух, и ребёнок в ответ хрюкнул (чихать он уже перестал).
– Не хрюкай! – сделала ему замечание Алиса. – Учись правильно выражать свои мысли.
Ребёнок снова хрюкнул. Алиска с тревогой принялась разглядывать его лицо. Несомненно, носик был слишком курносый – скорее пятачок, чем обычный нос. И глазки слишком крошечные. Алисе они очень не понравились.
«Может, это он просто плачет?» – подумала она и заглянула в глаза малышу – посмотреть, есть ли в них слёзы.
Нет, слёз не было.
– Послушай, мальчик, будь человеком! – строго приказала ему Алиса. – Ты же ребёнок! А с поросятами я не дружу, так и знай!
Малыш снова всхлипнул или хрюкнул и замолчал.
Некоторое время они шли молча. Не успела Алиска подумать «А что же я буду с ним делать дома?», как ребёнок снова хрюкнул, и к тому же очень громко. Алиска испуганно посмотрела на него. Всё ясно: вылитая свинья. Нести его дальше не имело никакого смысла.
Алиса поставила ребёнка на землю, и он, к её радости, потрусил себе в лес.
– Лучше порядочная свинья, чем плохой человек, – сказала она сама себе. – А свинья из него получится порядочная!
Тут она принялась перебирать в памяти знакомых детей, из которых могли бы получиться отличные поросята.
«Если бы только знать, как их превратить…» – подумала Алиска, но не успела додумать: на ветке дерева, прямо перед ней, сидел тот самый Кот Без Сапог.
Завидев Алиску, Кот заулыбался. Настроение у него, кажется, было хорошее. Зато когти – такие длинные, а во рту – столько зубов, что она прониклась к нему уважением.
– Кис – кис – кис! – робко сказала Алиска. («Ой, а можно его так?!»).
Кот улыбнулся ещё шире. «Доволен!» – подумала Алиска и продолжала:
– Вы не подскажите, как мне отсюда выбраться?
– Смотря, куда ты хочешь добраться, – ответил Кот.
– Вообще-то мне всё равно…
– Тогда всё равно, куда идти.
– … мне бы только куда-нибудь прийти, – договорила Алиска.
– Не беспокойся, – успокоил её Кот. – Если долго идти, обязательно куда-нибудь придёшь.
С этим Алиска была вполне согласна.
– А кто тут поблизости живёт? – спросила она.
– Налево пойдёшь – к Лопуху придёшь, – махнул Кот левой лапой.
– Так он же, наверно, растёт, а не живёт, – удивилась Алиска.
– Ну, что ты! Это же Лопоухий Заяц, по прозвищу Лопух. Он уже давно вырос. Лопух большой.
– А если направо?
– Направо пойдёшь – к Странницу придёшь, – махнул Кот правой лапой.
– Его, должно быть, нету дома, – предположила Алиска, – он, наверно, странствует?
– Да нет, Странник – домосед. Он шляпных дел мастер, а Странником его прозвали за странности: целыми днями шьёт всякие диковинные шляпы – цилиндры, котелки, и сам же их носит. В общем, у обоих не все дома.
– Мне бы с такими не хотелось встречаться, – проговорила Алиска.
– Ничего не попишешь, – ответил Кот. – Тут у всех не все дома. И у меня тоже. И у тебя.
– А у меня почему? – удивилась Алиса.
– Как почему? Ты же сейчас здесь, значит, дома тебя нет. Значит, дома у тебя не все, верно?
Алиска всё равно не согласилась, что у неё не все дома, но решила не спорить.
– А почему у вас не все дома?
– Нет ничего проще. Ты согласна, что собака без странностей?
– Согласна.
– Так вот. Когда у собаки хорошее настроение, у неё хвост морковкой, а когда плохое – она рычит. А у меня – наоборот: когда злюсь – хвост морковкой, а когда в настроении – рычу. Странный я…
– По-моему, вы не рычите, а мурлычете.
Дело не в словах, а в сути дела, – сказал Кот. – Слушай, ты собираешься сегодня к Королеве на крокет?
– Я бы с удовольствием, – ответила Алиса, – только меня никто не приглашал…
– Там и увидимся, – сказал Кот и исчез.
Алиску это не очень удивило: с ней ведь уже приключилось столько чудес!.. Она постояла, посмотрела на то место, где только что был Кот, как вдруг он снова появился.
– Чуть не забыл! – сказал Кот. – А как же ребёнок?
– Не жеребёнок, а поросёнок, – ответила Алиса, как будто Кот никуда не пропадал. – Он стал п о р о с ё н к о м.
– Так и знал, – кивнул Кот и снова исчез.
Алиска постояла, подождала, не вернётся ли он, и, не дождавшись, пошла туда, где жил Лопоухий Заяц.
«Шляпных дел мастеров я уже видела, – рассудила она. – Лучше мне познакомиться с Лопоухим Зайцем. Думаю, странности у него появляются, когда он линяет, а сейчас май, он уже давно полинял».
Тут она подняла глаза и снова увидела на ветке Кота.
– Ты сказала «поросёнком» или «жеребёнком»? – спросил Кот.
– Я сказала «поросёнком, – ответила Алиса. – Вы бы не могли не исчезать так быстро, без предупреждения»?
– Ладно, – сказал Кот. – Предупреждаю: исчезаю!
И он исчез постепенно, от кончика хвоста до улыбки. Улыбка посидела на дереве, отдохнула минутку-другую и тоже исчезла.
«Вот так чудеса! – подумала Алиса. – Котов без улыбки я видела тысячу раз, а вот улыбку без кота ещё не видывала!»
Шла она, шла и вскоре набрела на дом, в котором жил Лопоухий Заяц. Дом этот нельзя было не узнать: у него на крыше возвышались две трубы – точь-в-точь заячьи уши, а сама крыша была выложена заячьим мехом вместо соломы.
Дом был очень большой, и Алиске пришлось откусить от левого кусочка. Теперь она была ростом с новорожденного телёнка и осмелилась направиться к дому, хотя всё равно было страшновато:
«А вдруг он как раз сейчас заперся и линяет?! Лучше бы я пошла к Страннику!..»
Глава 7. Странный полдник
Под деревом возле дома был накрыт стол. За ним сидели Лопоухий Заяц и Шляпных Дел Мастер. Между ними приютился Мышонок-Соня. Он сладко спал, а Лопух и Странник облокотились на него, как на мягкую подушку, и вели беседу через Сонину голову.
«Бедный Сонечка! – подумала Алиса. – Одно утешает: спит он так крепко, что, наверно, ничего не чувствует».
Хотя стол был большой, троица теснилась в углу, а завидев Алису, Странник и Лопух заголосили:
– Занято! Занято!
– Очень даже свободно! – возмутилась Алиска и села в большое кресло во главе стола.
– Компот будешь? – спросил Заяц.
– Алиска обвела взглядом весь стол, но не увидела никаких напитков, кроме чая.
– А где же компот?
– А кто тебе сказал, что у нас есть компот? – удивился Заяц.
– Не очень-то вежливо предлагать то, чего нет! – рассердилась Алиска.
– Не очень-то вежливо усаживаться за стол без приглашения.
– Откуда же я знала, что это только ваш стол? Он же накрыт на много персон.
– Тебе бы не мешало подстричься, – неожиданно заговорил Странник. До сих пор он с огромным любопытством разглядывал Алиску.
– Разве вы не знаете, – строго ответила она, – что человеку в приличном обществе нельзя делать такие замечания? Это очень невежливо!
Странник даже глаза раскрыл от удивления, но сказал только:
– Чем ворон похож на парту?
«Вот и хорошо, поиграем сейчас! – подумала Алиска. – Загадки я люблю!»
А вслух сказала:
– Кажется, я знаю!
– Ну да?! – не поверил Заяц и переспросил:
– Ты говоришь, что знаешь?
– Да, – решительно подтвердила Алиса.
– Тогда говори, что знаешь! – потребовал Заяц.
– А я и говорю, что знаю, – повторила Алиска. – Я же знаю, что говорю… Ой, это, кажется, одно и то же, да?
– Да ты что! – воскликнул Странник. – Разве одно и то же «Что ни увижу, то съем» и «Что съем, то не увижу»?
– Или «Что ни понравится, то дадут» и «Что не дадут, то понравится», – добавил Заяц.
– Или, – сквозь сон проговорил Соня, – «Где ни лягу, там засну» и «Где не засну, там лягу»…
– Для тебя это как раз одно и то же! – сказал Странник.
Тут все замолчали, а Алиска тем временем вспоминала всё, что знает о воронах и партах, но что-то не вспоминалось. Первым прервал молчание Странник.
– Который сейчас день? – спросил он у Алиски и тут же вынул из жилетного кармана часы, обеспокоенно посмотрел на них, потряс, приложил к уху, и так – несколько раз.
Подумав, Алиска ответила:
– Четвёртый.
– На два дня опаздывают! – вздохнул Странник. – Говорил я тебе – нельзя их смазывать маслом! – и он сердито посмотрел на Зайца.
– Такое хорошее было масло… – кротко отозвался тот. – Сливочное…
– Масло-то хорошее, да с крошками! – буркнул Странник. – Кто же смазывает хлебным ножом?!
– Лопух взял часы, посмотрел на них уныло, потом окунул в чай и снова посмотрел.
– Такое хорошее было масло!.. – повторил он, не найдя ничего более подходящего.
Алиске всё это было очень интересно.
– Какие смешные часы! – удивилась она. – У нас дома ходики ходят гораздо быстрее, а это – настоящие ползики.
– А вот и нет! – сказал Шляпных Дел Мастер. – Самые быстрые часы – те, которые всё время стоят.
– Почему это?
– Ну, подумай сама: если тебе нужно куда-нибудь прийти, ты тратишь время. А раз часы стоят, значит, когда вышел, тогда и пришёл. А стоят они всё время, значит, времени не тратят.
Алиска растерялась. Все слова в отдельности ей были понятны, а вместе – не очень.
– Я вас не совсем поняла, – сказала она вежливо.
– Соня опять уснул, – заметил Странник и капнул горячего чаю Соне на нос.
Тот замотал головой и проговорил сквозь сон:
– Присоединяюсь к мнению предыдущего оратора.
– Отгадала загадку? – спросил Странник у Алиски.
– Нет, сдаюсь, – ответила она. – А какой ответ?
– Какой тебе ещё ответ? Хватит и загадки. Главное – спросить.
Алиска тяжело вздохнула:
– Наверно, вам совсем не дорого время, раз вы его тратите на загадки без разгадок.
– Знала бы ты время так, как я, – сказал Странник, – не называла бы его «оно», как будто оно неживое. – Время не «оно», а «он»!
– Как это? – удивилась Алиса. – Я вас не понимаю…
– Ещё бы! – пренебрежительно заметил Шляпных Дел Мастер. – Откуда тебе знать! Ты, наверно, и не разговаривала никогда с Временем.
– Что-то не припомню, – осторожно проговорила Алиска. – Но всё равно, по-моему, оно – «оно». «Время истекло»… Конечно, «оно»!
– Стекло – «оно», согласен. Что оно может? Только разбиться, и всё. А Время – и идёт, и ползёт, и терпит, и не ждёт. И ещё спит, обедает, учится. Не зря же говорят: «Время спать!» «Время делать уроки!» И часами командует. Что скажет им – то они для тебя и сделают, только подружись с ним. Представь себе: пробило 9 утра, в школе звонок на первый урок, а ты Времени шепнула на ушко, стрелка – прыг! – пожалуйста – половина второго, пора обедать!
– Если бы!.. – мечтательно проговорил Лопух.
– Да – а, – задумчиво протянула Алиса, – это было бы замечательно… Правда, мне бы ещё совсем есть не хотелось…
– Аппетит приходит во время еды, – сказал Шляпных Дел Мастер. – А если не придёт, попроси Время, чтобы половина второго продержалась, пока ты не проголодаешься!
– Вы, наверно, так и делаете?
Странник грустно-прегрустно покачал головой:
– Увы! Уже больше года он с нами не разговаривает. Не успел этот, – он указал чайной ложечкой на Зайца, – не успел этот полинять, как всё и случилось. Червонная Дама, наша королева, давала концерт. Я там не без успеха исполнял известную вещицу:
Му – у – равей мой, му – у – равей,
Непоседа, м у – у – равей!
– Знаешь её?
– Кажется, я что-то такое слышала, – проговорила Алиска.
– Дальше там так: -
Ты ку – у – да-а, куда спешишь?
Почему – у так мало спишь?
Тут Соня встряхнулся и запел сквозь сон:
Спи – и – и – и – и – шь…
Спи – и – и – и – и – шь…
И так до тех пор, пока его не ущипнули.
Ну, так вот, – продолжал Странник. – Не успел я допеть первый куплет, как Королева как вскочит да как закричит: «Ему не жаль нашего времени! Голову с плеч!!»
– Какой ужас! – воскликнула Алиса.
– С тех пор, – печально заключил Шляпных Дел Мастер, – он для меня ничего не хочет делать! Целыми днями у нас тут 5 вечера.
Алиску осенило:
– Так вот почему тут так много чайных приборов?
– Точно, – вздохнул Странник. – Теперь у нас вечный полдник. Даже посуду вымыть не успеваем. Нет времени.
– Поэтому, вы всё время пересаживаетесь, да?
– Вот именно, – ответил Странник. – Выпьем из одной чашки – перебираемся к следующей.
– Ой, а что же вы делаете, когда возвращаетесь на старое место?
– А не поговорить л нам о чём-нибудь другом? – зевнул Заяц. – Скучно что-то… Ну-ка, девушка, расскажите нам что-нибудь!
– Я бы с удовольствием, – растерялась Алиска, – только мне совсем нечего рассказывать.
– Тогда пусть Соня! – вскричали оба приятеля разом. – Сонька, проснись! – И они ущипнули его за оба бока сразу.
Соня неохотно открыл глаза.
– Я и не думал спать, ребята, – проговорил он слабеньким, хрипловатым голоском. – Могу повторить всё, что вы тут говорили.
– Лучше расскажи нам что-нибудь новенькое! – потребовал Заяц.
– Ой, пожалуйста, расскажите! – попросила Алиска.
– Да поживей! – добавил Странник. – И не засни на самом интересном месте, знаю я тебя!
– Жили-были три сестрички, – начал Соня. – Звали их Птичка, Рыбка и Ласточка. Жили они на самом дне глубокого-преглубокого колодца. Жили они в иле, не тужили…
– Как же не тужили, если выли?! – воскликнула Алиска. – Бедняжки! Видно, несладко им жилось!
Соня подумал, подумал и заметил:
– Как раз очень даже сладко. Питались они одними сливками.
– Фу! – поморщилась Алиса. – С пенкой, наверно?
– Не с пенкой, а с косточками.
– Какая гадость – сливки с костями!
– Косточки они не ели. Их у них вырывал прямо из рук крот. Они ему для хозяйства были нужны.
– Как рот?! Чей? – поразилась Алиска.
– Что же ты не пьёшь больше чаю? – строго спросил у неё Заяц.
– Я ещё совсем не пила! – обиделась Алиса. – Как же можно выпить больше?
– Раз не пила, значит нельзя выпить меньше, а больше-то как раз можно, – вставил Шляпных Дел Мастер.
– А вас не спрашивают! – огрызнулась Алиска.
– Ага! – обрадовался Странник. – Сама говорила, а сама грубишь.
Алисе нечего было возразить на это. Она отпила чаю, откусила хлеба с маслом и снова спросила у Сони:
– Чей же он был?
Соня снова подумал и сказал:
– Что значит «чей»? Свой собственный. Он был сам по себе.
– Странно! – удивилась Алиска. – Улыбка бывает без кота, а рот без чего может быть?
– Понятия не имею! – буркнул Соня. – Без зубов, наверно.
– Лучше уж без языка, чтоб не задавал глупых вопросов! – добавили Лопух и Странник хором.
А Соня сердито проговорил:
– Не хочешь слушать – сама досказывай.
– Нет-нет, продолжайте, пожалуйста! – попросила Алиса и кротко взглянула на Соню. – Я больше не буду!
– Можно подумать! – поджал губки Соня, но всё-таки продолжал: – Когда сливок не хватало, сестрички ели ещё ирис.
– Но он же, наверно, был сырой! – воскликнула Алиска. О своём обещании она уже забыла. На этот раз Соня ответил не задумываясь:
– А обёрточные бумажки зачем? Не отсыреет!
– Мне нужна чистая чашка! – вмешался в разговор Странник. – Давайте пересядем.
С этими словами он пересел на одно место, а его стул занял Соня. За Соней передвинулся Лопух, а на место Лопуха села Алиска, хотя ей очень не хотелось пересаживаться. В выигрыше остался только Странник, а Алисе пришлось хуже всех: Лопух, вставая, опрокинул молочник в блюдце.
– Скажите, пожалуйста, – вежливо обратилась Алиса к Соне, чтобы случайно не обидеть его, – а почему они жили в этом колодце?
– Да потому, что в нём воды не было! В воде же невозможно жить! – снова вмешался Шляпных Дел Мастер. – До чего тупая!
Алиса пропустила последнюю фразу мимо ушей и продолжала, обращаясь к Соне:
– Как же они могли выжить без глотка воды?
– Без глотка выжить легко, а вот совсем без воды – никак.
Алиска снова запуталась. А Соня тем временем продолжал:
– Приходилось им напиваться вдосталь.
– Но ведь в колодце же не было воды… – робко вставила Алиса.
– Потому и не было, что они её всю выпивали, – ответил Соня. – А напившись и наевшись, они садились и начинали рисовать всё, что начинается на букву «В».
Тут он принялся зевать во весь рот и тереть глаза.
– А почему на «В»? – спросила Алиска.
– Было бы на «А» – ты бы спросила, почему на «А», – ответил Заяц.
На это нечего было возразить.
Соня тем временем закрыл глаза и почти уже совсем уснул, но Странник ущипнул его, он подскочил как ужаленный и затараторил:
– Волка, вилку, ветку, ватку, ветчину, всячину… Ты когда-нибудь рисовала всячину? – спросил он у Алиски.
– Какую всячину?
– Всякую, какую же ещё!
– Честно говоря, – заколебалась Алиска, – я…
– Ну, так и помалкивай! – отрезал Странник.
Такой грубости Алиса вытерпеть не могла. Она вскочила и пошла, куда глаза глядят. Соня тут же уснул, да и Странник с Лопухом не обращали на неё больше ни малейшего внимания. Пару раз Алиска оглянулась – может, позовут? – но напрасно. Уже издалека она увидела, как Заяц и Шляпных Дел Мастер стараются затолкнуть Соню в чайник – наверно, чтобы разбудить.
«Ни за что больше туда не пойду!» – решила Алиса, бродя по лесу. – Разве с ними пополдничаешь по-человечески?»
Тут она заметила в одном из деревьев дверцу.
«Вот так чудеса! – подумала Алиска. – Ну-ка возьму и войду!»
И она вошла.
Очутилась Алиса в том самом заветном зале, прямо возле стеклянного столика.
«На этот раз сделаю всё, как надо», – подумала она. Сначала взяла золотой ключик и открыла дверь, ведущую в сад. Потом достала из кармана кусочек гриба, откусила от него несколько раз и стала ростом с котёнка. Оставалось только пройти по маленькому коридорчику…
И вот, наконец, она очутилась в прекрасном саду, среди ярких цветочных клумб и фонтанов с чистой, прохладной водой.
Глава 8. Крокет по-королевски
У входа в сад росло высокое розовое дерево. Розы на нём были белые, и трое садовников деловито перекрашивали их в красный цвет. Алиске было очень интересно, она подошла поближе и услышала, как один из садовников говорит другому:
– Эй, Пятёрка! Ты чего краску разливаешь?!
– Причём тут я? – недовольно отозвался Пятёрка. – Меня Семёрка толкнул.
– Ну, да, – сказал Семёрка. – У тебя кто угодно виноват, только не ты!
– Уж ты бы помолчал! – огрызнулся Пятёрка. – Королева вчера говорила, что не мешало бы отрубить тебе голову, я сам слышал!
– А за что? – осведомился первый садовник.
– Не твоё дело, Двойка! – буркнул Семёрка.
– Нет, его! – возразил Пятёрка. – За то, что ты подсунул королевскому повару вместо обычных луковиц тюльпановые.
Семёрка от возмущения даже бросил кисточку:
– Да как же тебе … – тут он заметил Алису и запнулся на полуслове. Его собеседники оглянулись, увидели её, и все трое низко поклонились.
– Скажите, пожалуйста, – робко заговорила Алиска, – зачем вы перекрашиваете розы?
Пятёрка и Семёрка только посмотрели на Двойку, и тот ответил почти шёпотом:
– Видите ли, сударыня, тут должно было расти красное розовое дерево, а мы перепутали да и посадили белое. Если Королева увидит, что мы наделали, не сносить нам головы. Вот мы и спешим, сударыня, до её прихода…
Вдруг Пятёрка, внимательно смотревший в противоположный конец сада, испуганно закричал:
– Королева! Королева!
Услышав сзади звук множества приближающихся шагов, Алиска обернулась – её очень хотелось посмотреть на Королеву.
Впереди процессии маршировали десятеро солдат со скрещёнными дубинками. Солдаты были такими же прямоугольными, как и садовники, а руки и ноги у них находились по углам прямоугольников.
За ними шествовали придворные, украшенные с ног до головы алыми бубнами. Они, как и солдаты, шли парами.
За придворными, тоже парами, держась за руки, вприпрыжку бежали десятеро наследников престола. Их камзольчики украшали червонные сердечки.
Затем шли гости – большей частью Короли и Дамы, вернее, Королевы. Среди гостей Алиса узнала и Белого Кролика. Он сильно нервничал, тараторил, глотая слова, постоянно улыбался, что бы ему ни сказали, и прошёл мимо, не заметив Алису.
За гостями шествовал Червонный Валет. Он нёс красную бархатную подушечку, на которой лежала королевская корона. А завершала процессию королевская чета – Червонный Король и Червонная Дама.
Алиска не знала, полагается ли ей, как и всем, пасть ниц. Во-первых, она никак не могла вспомнить, есть ли такой закон, чтобы падать ниц при виде королевской четы и придворных, а во-вторых, что же это за процессия, если её никто не видит, а все лежат лицом вниз? И она решила не падать ниц.
– Это кто такая? – строго спросила Королева у Червонного Валета, но тот только поклонился и улыбнулся в ответ.
– Дурак! – вскинула голову Королева и, обратившись к Алиске, спросила:
– Как тебя зовут, дитя моё?
– Алиса, ваше величество, – как можно вежливее ответила та, а про себя подумала: «Что же я так колоды карт испугалась?»
– А это кто такие? – спросила Королева, указывая на троих садовников, лежащих пластом вокруг недокрашенного розового дерева. А спрашивала она потому, что лежали бедные садовники лицом вниз, а спина у садовника, как известно, такая же, как у вельможи, военачальника и наследника престола.
– Откуда мне знать? – ответила Алиса и сама удивилась своей храбрости. – Сами тут разбирайтесь.
– Королева побагровела от ярости. Несколько секунд она бросала на Алису испепеляющие взгляды, подобно сказочному дракону, а потом как закричит:
– Голову с плеч! С плеч!!! С…
– Какие глупости! – громко и уверенно ответила ей Алиса, и Королева тут же замолчала.
– Король взял Королеву под руку и робко проговорил:
– Кисонька, не сердись: ребёнок есть ребёнок!..
– Королева вырвала руку и приказала Валету:
– Перевернуть их!
– Валет осторожно перевернул садовников носком сапога.
– Встать! – рявкнула Королева.
– Садовники вскочили как ужаленные и принялись отвешивать поклоны Королю с Королевой, и королевским деткам, и всем остальным.
– Прекратить!! – заверещала Королева. – Меня тошнит от вас!!
Тут она с подозрением посмотрела на розовое дерево и спросила:
– Чем это вы тут занимаетесь?
– Да мы, ваше величество… – робко-преробко пробормотал Двойка и упал на колени, – мы хотели…
– Королева уже успела рассмотреть розы.
– Всё ясно, – сказала она. – Головы с плеч!
– И процессия двинулась дальше, а трое солдат остались, чтобы отрубить головы несчастным садовникам. Те бросились к Алисе, умоляя защитить их.
– Ничего не бойтесь! – сказала Алиса и спрятала их в большой цветочный горшок, стоявший поблизости. Солдаты походили-походили, поискали-поискали и вернулись к Королеве, несолоно хлебавши.
– Сделали? – прокричала Королева.
– Голов как не бывало, ваше величество! – прогремели солдаты в ответ.
– Так им и надо, безголовым! – пророкотала Королева. – В крокет умеешь?!
– Солдаты вопросительно посмотрели на Алису, проходившую мимо, – Королева обращалась к ней.
– Да! – крикнула Алиска.
– Так пойдём! – громыхнула Королева.
– Алиска присоединилась к процессии. Что будет дальше – она не могла себе представить…
– Какой денёчек сегодня хорошенький!.. – раздался дрожащий голосок. Это был Белый Кролик. Он семенил рядом и встревоженно заглядывал ей в глаза.
– Да, чудесный, – ответила Алиска. – А где Герцогиня?
– Тс-с! – поспешно проговорил Кролик и испуганно оглянулся. Потом стал на цыпочки и прошептал ей на ушко:
– Её приговорили к отрублению.
– Как же так? – удивилась Алиска.
– Вы сказали «Как жаль?» – переспросил Кролик.
– Не «как жаль», а «как же так». Потому что совсем даже не жаль.
– Всё потому, что она надавала Королеве по ушам… – начал было Кролик, но Алиска так громко прыснула, что он испуганно зашептал:
– Пожалуйста, тише! Королева может услышать! Понимаете, она опоздала, а Королева и говорит…
– По местам!! – гаркнула Королева так, что земля задрожала. Тут все засуетились, забегали кто куда, стали натыкаться друг на друга. В конце концов игроки кое-как пришли в себя, и началась игра.
Алиска ещё никогда в жизни не видела такой необычной крокетной площадки – сплошные бугры да рытвины. Вместо мячиков были ежи, вместо молоточков – большие длинноногие птицы фламинго, а вместо воротцев – солдаты: каждый изогнулся дугой и упёрся ногами и руками в землю.
Но труднее всего было справиться с фламинго. Алиска взяла его себе под мышку – так, что ноги свесились до земли. Но как только она попыталась выпрямить ему шею и стукнуть головой по мячику-ежу, фламинго поднялся и озабоченно посмотрел на неё. Это было ужасно смешно. Алиска сначала нагнула ему голову, замахнулась и… – надо же – ёж развернулся и пополз себе прочь.
Куда бы Алиска ни прицеливалась – везде были бугорки и канавки. К тому же, солдаты без спросу поднимались и переходили на другие места, куда кому вздумается… Вот и попробуйте играть в таких условиях!
Играли все разом, не ожидая своей очереди. Игроки ссорились, никак не могли поделить ежей. Вскоре Королева разъярилась и всё ходила да топала ногами, выкрикивая:
– Голову с плеч! Голову с плеч!
Алиске стало не по себе. Хорошо хоть, на неё Королева ещё не осерчала, но кто её знает!..
«Бедная моя головушка! – подумала Алиса. – Этой Королеве ужасно нравится оставлять людей без головы. Удивляюсь, как у неё в королевстве кто-то ещё уцелел!»
Она оглянулась по сторонам, ища, куда бы незаметно улизнуть, как вдруг в небе появилось что-то необычное. Она присмотрелась и поняла: это была улыбка!
«Кот Без Сапог! – подумала Алиска про себя. – Вот и хорошо! Теперь будет с кем поговорить!»
– Как делишки? – спросил Кот, как только улыбка обросла ртом.
Алиска подождала, пока появятся глаза, и приветливо кивнула. «Говорить бесполезно, – решила она. – Без ушей он всё равно ничего не услышит. Пусть хоть одно ушко появится».
Наконец, возникла вся голова. Тогда Алиса поставила фламинго на землю и принялась рассказывать Коту, как тут играют в крокет.
Её было очень приятно пообщаться с внимательным собеседником.
А тот, наверно, посчитал, что его и так уже достаточно, и больше возникать не стал.
– Играют они нечестно, – пожаловалась Алиска. – И ругаются всё время, и перекрикивают друг друга. И правил у них никаких.
А если и есть правила, то их всё равно никто вы соблюдает. И потом: кому же понравится, когда всё вдруг без спросу оживает! Возьмите воротца: мне надо пройти через них, а они берут и уходят непонятно куда. Только что хотела стукнуть королевского ежа, так он заметил моего и пустился наутёк.
– А как тебе Королева? – тихонько спросил Кот.
– Хуже некуда. Настоящая… – тут она увидела, что Королева остановилась поодаль, навострив уши.
– Настоящая чемпионка. Придётся мне сдаваться.
– Королева величественно улыбнулась и прошествовала дальше.
– С кем это ты разговариваешь? – удивлённо спросил Король у Алиски, разглядывая усатую голову.
– Позвольте мне представить вам моего друга, ваше величество, – ответила она. – Его зовут Кот Без Сапог.
– Не нравится он мне, – сказал Король. – Впрочем, пусть поцелует мне руку, если уж ему так хочется.
– Перебьюсь, – отозвался Кот.
– Не груби, – сказал Король. – И не смотри на меня свысока. – С этими словами он спрятался за Алису.
– А котам закон не писан, – сказала Алиса. – Я это где-то читала, только не помню, где.
– Убрать его, – нерешительно заявил Король и обратился к Королеве (она как раз проходила мимо):
– Пупсик, распорядись убрать эту кошку!
– У Королевы на семь бед был один ответ.
– Голову с плеч! – сказала она, даже не обернувшись.
– Пойти позвать палача!.. – заторопился Король.
Алиска тем временем решила досмотреть игру. Издалека доносились вопли разгневанной Королевы. Она уже приговорила к смертной казни трёх игроков за то, что те прозевали свою очередь. Алиске всё это начинало сильно не нравиться: игра совсем запуталась, свою очередь она давно потеряла. Оставалось только отправиться на поиски мячика-ежа.
Ёж нашёлся: он как раз дрался с другим таким же мячиком. Самое время было ударить одного о другого, вот только бить было нечем: её фламинго ушёл в другой конец сада и всё пытался взлететь на дерево, как воробей, но у него ничего не получалось.
Когда, наконец, она поймала своего фламинго и вернулась с ним на площадку, ежи-мячи уже додрались и куда-то ушли.
«Ну и ладно, – подумала Алиска. – Зачем мне мяч, если воротцев тоже нет?»
С этими словами она взяла фламинго поудобней и покрепче и пошла к своему другу – ещё немножко поболтать.
Каково же было её удивление, когда она увидела под Котом целое собрание. Палач, Король и Королева громко спорили, перебивая друг друга, а все остальные помалкивали: им было как-то не по себе.
Завидев Алису, спорящие попросили её рассудить их. Правда, они ужасно тараторили, и понять, что к чему, было очень нелегко.
Палач говорил, что если голову, то с плеч, а раз их нет, то ему тут делать нечего. Пусть вырастут – тогда другое дело, а иначе – никак.
Король говорил, что главное – голова, а остальное приложится, и молчать, и не возражать.
Королева говорила, что или сейчас же будет, как она сказала, или она всех до единого лишит головы, так и знайте.
Тут все загрустили.
Алиска только и могла сказать, что голова – Герцогинина, а значит, нужно спросить у неё разрешения.
– Привести её из тюрьмы! – приказала Королева Палачу, и тот бросился со всех ног в тюрьму.
Не успел Палач убежать, как Голова начала таять и к его возвращению совсем исчезла. Сколько Король с Палачом ни бегали взад и вперёд, всё было бесполезно. Тем временем народ вернулся к игре.
Глава 9. Нет повести печальнее на свете
– Солнышко, ты себе не представляешь, как я рада тебя видеть! – С этими словами Герцогиня, как старая приятельница, взяла Алису под руку, и они пошли гулять.
Алиске было очень приятно, что у Герцогини прекрасное настроение. Наверно, это просто перец её доводил до такого бешенства.
«Вот стану Герцогиней, – сказала она про себя, правда, не очень уверенно, – ни перчинки дома держать не стану! Если суп вкусный, зачем его ещё перчить? А если невкусный – сколько ни перчи, не повкуснеет… Да, всё дело в перце. Вот говорят – «воспитание», «воспитание». А главное – не воспитание, а питание ! Почему, спрашивается, что ни мальчик, то не пряник, что ни девочка, то не конфетка, что ни ребёнок, то не сахар? Да потому, что их, то есть нас, неправильно кормят. От лука дети плачут, от уксуса киснут, от чеснока морщатся. От горчицы им горько, да и от перца несладко. Надо детям давать побольше сладостей, тогда жизнь будет – сплошное наслаждение!..»
О Герцогине Алиска совсем забыла, поэтому, когда та вдруг заговорила, она даже вздрогнула от неожиданности.
– Дорогуша, ты, кажется, о чём-то задумалась? Не молчи, пожалуйста. Знаешь, какая тут мораль? Я забыла, сейчас вспомню и скажу.
– А что, обязательно должна быть мораль? – предположила Алиска.
– Разумеется, дитя моё! – воскликнула Герцогиня. – Как же можно без морали?! Во всём есть своя мораль, нужно только разглядеть её. – И она потеснее прижалась к Алисе.
Алиске это не очень понравилось. Во-первых, слишком уж Герцогиня была уродливая, а во-вторых, она положила подбородок Алиске прямо на плечо, а был он ужасно острый. Что поделаешь – пришлось терпеть, чтобы не обидеть собеседницу.
– Игра пошла веселее, – сказала Алиса, просто чтобы поддержать разговор.
– О, да! – согласилась Герцогиня. – А мораль тут такая: «Позаботься о партнёре, и он в долгу не останется!».
– А кто-то говорил, – шепнула Алиса, – что если совать нос в чужие дела, заболеешь насморком…
– Ну, да, это же одно и то же, только по-другому сказано! – воскликнула Герцогиня и поудобней упёрлась своим острым подбородком в Алискино плечо. – А мораль тут такая: «Главное – что думаешь, а не что говоришь!»
«Ох, до чего же она любит всякие морали!» – подумала Алиса.
– Ты, наверно, думаешь: «Почему бы ей не обнять меня по-дружески за талию?» – помолчав, снова заговорила Герцогиня. – Понимаешь, я ведь не знаю, какой характер у твоего фламинго. Попробовать, что ли?
– Осторожно, он может клюнуть! – предупредила Алиса. Ей что-то совсем не хотелось, чтобы Герцогиня попробовала.
– Твоя правда, – сказала Герцогиня. – А мораль тут такая: «Не клюй на чужие удочки. Лучше сматывай свои!»
– Вы, наверно, любите ловить рыбу? – вежливо спросила Алиска.
– Ой, а как ты догадалась, умница моя? – воскликнула Герцогиня. – Ужасно люблю, особенно в мутной воде. Моё любимое блюдо – заливной рак под перцем.
– Рак – это не рыба, – возразила Алиса. – Он, кажется… животное…
– Ещё бы ему не быть! – подтвердила Герцогиня. Она теперь только и делала, что соглашалась. – Кто бы его тогда ел?! А мораль тут такая: «Аппетит приходит во время еды».
Алиска тем временем хорошенько подумала и обрадовано закричала:
– Вспомнила! Рак называется «водоплавающее»… Вернее – «водоползающее»!
– Совершенно согласна, – кивнула Герцогиня. – А мораль тут такая: «Одно дело – дело, а другое – слово». Или, проще говоря: «Дело становится делом после того, как слово превращается в дело, потому что дело не в слове, а в деле».
– А вы не могли бы записать всё это? – осведомилась Алиска. – Я всё запомнила с первого раза.
– Это ещё что! – похвасталась Герцогиня. – Я, если захочу, такое могу сказать – и со второго раза не запомнишь!..
– Ой, что вы, не беспокойтесь, пожалуйста! – поспешила ответить Алиска.
– Какое там беспокойство! Обожаю делать людям приятное. Пусть это будет моим скромным подарком тебе!
«Ну и подарочек! – подумала Алиска. – Хорошо, что на день рождения дарят кое-что получше!» – но вслух сказать не решилась.
– Опять молчишь? – забеспокоилась Герцогиня и уткнулась ей своим подбородком в плечо.
– Имею право! – огрызнулась Алиска. Она уже начала терять терпение.
– Такое же право, как лево, – ответила Герцогиня. – А мораль…
И тут она, к Алискиному удивлению, осеклась, не успев договорить, а руки у неё задрожали. Алиса подняла голову, и… прямо перед ними стояла Королева. Руки её были скрещены на груди, брови грозно нахмурены.
– Какой сегодня денёчек прекрасненький, ваше величество!.. – пролепетала Герцогиня.
– Предупреждаю тебя, – прогремела Королева. – Либо ты сейчас же уйдёшь, с головой, либо останешься без головы! Считаю до одного.
В ту же секунду Герцогиня исчезла, как заправский Кот Без Сапог.
– Продолжим игру, – обратилась Королева к Алисе как ни в чём не бывало. Алиска от испуга не смогла вымолвить ни словечка и покорно пошла за Королевой.
Тем временем гости отдыхали от Королевы в тенёчке, но, завидев её, все как один вскочили и бросились играть. Королева ничего на это не сказала, только проговорила, что не вскочи они вовремя, не сносить бы им голов.
Итак, игра продолжалась. Королева по-прежнему ругала всех на чём свет стоит, то и дело выкрикивая:
– Голову с плеч! Голову с плеч!
Приговорённых брали под стражу воротца-солдаты, и вот через каких-нибудь полчаса воротцев совсем не осталось, а все игроки, кроме Короля с Алиской, покорно ждали казни.
Королева решила передохнуть: у неё началась одышка.
– Ты у Морского Бычка была уже? – спросила она.
– Нет, а кто это? – удивилась Алиска.
– Бычки в томате ела?
– Ела…
– А этот наоборот, без томата.
– Тогда совсем непонятно, – вздохнула Алиска.
– Ну, так пойдём. Он тебе кое-что расскажет о себе.
И они пошли. Уходя, Алиса услышала, как Король тихонько говорит:
– Вы все помилованы.
«Вот и хорошо!» – подумала Алиска: ей бы не хотелось, чтобы безвинно погибло столько народу.
Шли они недолго и пришли к Старому Морскому Волку, спавшему на солнышке, на берегу моря.
– Вставай, старый лоботряс! – приказала Королева. – Отведи эту молодую даму к Морскому Бычку. Да пусть он ей расскажет о себе. А то у меня дела. Казнить ту нужно некоторых.
С этими словами она пошла обратно, и Алиска осталась со Старым Морским Волком. На первый взгляд он ей не очень-то понравился, но Королева была не лучше. Итак, что же будет дальше?
Морской Волк протёр глаза. Потом посмотрел вслед Королеве, подождал, пока она скроется из виду, и ухмыльнулся:
– Смехота!
– Что смехота? – не поняла Алиса.
– Да с ней одна смехота, с этой. Всё она выдумывает. Никого они там не казнят. Пойдём!
«Опять «пойдём»! – подумала Алиска, но всё-таки пошла. А про себя добавила: «Никогда ещё мной так не командовали!»
Шли они недолго и вскоре увидели Морского Бычка. Он сидел себе один-одинёшенек на камне, пригорюнившись, а когда они подошли поближе, Алиса услышала, что он тяжело вздыхает, да так, что, казалось, сердце разорвётся. Алиске стало его ужасно жалко.
– О чём он так горюет? – тихонько спросила она у Морского Волка, и тот ответил почти слово в слово:
– Да всё он выдумывает. Какое там у него горе!
Тут они подошли к Морскому Бычку, и он посмотрел на них своими большими бычьими глазами, полными слёз, но ничего не сказал.
– Тут вот дамочка пришла, – обратился к нему Морской Волк. – Хочет тебя послушать.
– Пусть слушает, – ответил Морской Бычок. – Садитесь же и слушайте, и не перебивайте.
Они уселись. Несколько минут все молчали.
«Как же я смогу его перебить, – подумала Алиска, – если он молчит?» – но снова промолчала.
Наконец, Морской Бычок заговорил:
– Был я когда-то молод и красив. – Тут он снова тяжело вздохнул. – Бывало, подплыву к берегу – все Божьи Коровки засматриваются… А теперь я старый, больной, неповоротливый, как черепаха. И совсем не похож на бычка…
Снова воцарилась тишина. Только Старый Морской Волк время от времени прочищал горло, да старый Морской Бычок всё всхлипывал. Алиска подумывала, не встать ли и не сказать ли: «Спасибо, дедушка, было очень интересно», но всё-таки ей очень хотелось узнать, что же будет дальше, и она ещё раз промолчала.
Наконец, Морской Бычок заговорил, уже спокойнее, хотя и всхлипывая время от времени:
Давным-давно это было. Мы были тогда совсем маленькие и ходили в школу. А школа была на дне морском. И был у нас классный лаповодитель…
– Кто-кто? – переспросила Алиска.
– Лаповодитель, тебе говорят, – повторил Бычок. – Тебя что, никогда не водили за лапу? Ну, так вот: был он строгий, но справедливый, зря никогда не ставил нас в угол.
– Откуда же в море углы? – удивилась Алиска.
– Это на суше их всего четыре, – гордо сказал Бычок. – А в воде знаешь, сколько! Ну, так вот. Мы все его любили и звали «дорогой мучитель».
– Ой, как же вам было не стыдно? – воскликнула Алиска.
– Что же тут стыдного?! – вспылил Бычок. – Он же сам говорил: «Вас учить – сплошное мучение!» А ты, если не понимаешь, помалкивай!
– Постыдилась бы старшим перечить! – вмешался Морской Волк. – Чему вас только в школе учат?
Некоторое время они с укоризной смотрели на Алиску, и она готова была провалиться сквозь землю от стыда. Наконец, Морской Волк сказал Бычку:
– Давай, старина, не трави душу!
И Бычок продолжал:
– Ну, так вот. Ходили мы в школу, хоть ты и не веришь…
– Да нет, что вы! – воскликнула Алиска.
– Нет, да!
– Цыц! – вмешался Морской Волк.
И Бычок продолжал:
– Учили нас как нигде. В школу мы ходили каждый день…
– Ну и что? – сказала Алиса. – Я тоже хожу в школу каждый день. Можете не задаваться!
– А продлёнка у тебя есть? – заволновался Морской Бычок.
– Конечно, есть. Там делают домашнее задание, гуляют и спят. Правда, я туда не хожу, меня няня забирает.
– А отбивают там всех или только некоторых?
– Какие глупости! – возмутилась Алиса.
– Так я и знал! – обрадовался Бычок. – А у нас в расписании было чёрным по белому написано: «Продлёнка: с двух до трёх прогулка, с трёх до четырёх – домашнее задание, в четыре – общий отбой и мёртвый час». Жаль, я так и не узнал, что это такое: родители не захотели сдать меня в продлёнку. Зато уроки я посещал регулярно.
– А чему вас учили? – спросила Алиска.
– Всему, что нужно и не нужно в жизни, – сказал Морской Бычок. – Сначала – то, что не нужно: не нужно сидеть, сложа лапы, не нужно работать спустя чешую, не нужно пресмыкаться и метать икру перед недостойными. Потом – нужное. Арифметика: сложение в три погибели…
– Ой, а как это? – удивилась Алиска.
– Я бы показал, да стар стал, – вздохнул Морской Бычок. – Мне теперь и одну погибель не осилить…
– Не расстраивай человека! – прикрикнул на неё Морской Волк. – До чего недогадливая!
Алиске стало стыдно.
– А что ещё вы учили по арифметике? – спросила она у Бычка.
– Много чего. Умножать радости, делить горести с друзьями…
– А отнимать?
– За кого ты нас принимаешь?! – с достоинством ответил Бычок. – Мы ни у кого ничего не отнимаем!
Он гордо вскинул голову и продолжал:
– Раз в неделю у нас было чистописание. Учил нас старый Угорь. Угрюмый был старик, зато писал чисто. Моя бабушка говаривала: «Ох, как красиво пишет! Чистый писатель!» Он нас учил писать автолапкой. Чистая работа! А стирать кляксы мы научились без труда – воды вокруг достаточно.
– А у меня был другой учитель – Морской Лев, – сказал Морской Волк.
– Говорят, он учил физике и культуре, – вздохнул Бычок. – «Физкультура» называется.
– Ещё как учил! – вздохнул Старый Морской Волк, и они зарылись лицами в лапы.
– А сколько лет вы ходили в школу? – поспешила Алиса переменить тему.
– Пока не выйдем в люди, – ответил Бычок.
– И у вас это получалось? – осторожно спросила Алиска.
– Хороший учитель кого угодно в люди выведет! – сказал Морской Волк.
– Да, добавил Бычок, – а когда выходили, у нас был выходной.
– А чем вы занимались после выходного? Неужели возвращались обратно?
– Что это мы всё об уроках да об уроках?! – решительно заявил Морской Волк. – Лучше расскажи ей, как мы играли.
Глава 10. Полька «Раковая фантазия»
Морской Бычок печально вздохнул и провёл лапой по глазам. Потом посмотрел на Алиску, хотел что-то сказать, но не смог: слёзы подступили к горлу, и он закашлялся.
– Прямо как будто ему что-то не в то горло попало, – сказал Морской Волк и принялся хлопать друга по спине.
Наконец, Бычок проглотил комок, слёзы побежали по его щекам, и он заговорил:
– Не знаю, доводилось ли тебе подолгу жить на дне морском…
– Не доводилось, – вздохнула Алиса.
– … и ты, наверно, не знакома ни с одним приличным раком…
– Я однажды пробовала… – начала Алиска, но вовремя поправила себя: – познакомиться с одним, но у меня не получилось…
– … значит, ты не представляешь себе, какая это прелесть – полька «Раковая фантазия»!
– Совсем не представляю, – призналась Алиса. – А как её танцуют?
– Ещё как танцуют! – воскликнул Морской Волк. – Сначала все выстраиваются вдоль берега…
– … в две шеренги! – перекричал его Морской Бычок. – Тюлени, бычки, лососи, все-все! Сначала нужно разгрести медуз…
– … а их знаешь сколько! – перебил Морской Волк.
– … потом делают два шага вперёд…
– … каждый ведёт под руку рака!.. – прокричал Морской Волк.
«Наверно, не рака, а… ракушку…, – неуверенно подумала Алиска, – или… раковину…»
– Под самую руку! – подтвердил Бычок. – А кому не достанется рака, танцует с таранкой. Делают два шага вперёд, поворачиваются к партнёршам…
– … меняются партнёршами, делают два шага назад, – продолжал Морской Волк.
– А потом, – сказал Бычок, – а потом каждый бросает свою…
– … партнёршу! – закричал Морской Волк и показал, как это делается.
– … подальше в море!..
– … потом все прыгают за партнёршами! – завопил Морской Волк.
– … Выпрыгивают из воды, делают кувырок! – прокричал Бычок и забегал, запрыгал, заскакал.
– Снова меняются партнёршами! – заверещал Морской Волк.
– Возвращаются на берег, вот и вся первая фигура, – прошептал Бычок.
И друзья, только что прыгавшие и скакавшие, сели, загрустили и вопросительно посмотрели на Алиску.
– Это, наверно, очень красивый танец, – робко проговорила Алиса.
– Хочешь посмотреть? – с надеждой спросил Бычок?
– Конечно, даже очень!
– А ну-ка, давай покажем ей первую фигуру! – обратился Бычок к Морскому Волку. – Обойдёмся без партнёрш. Кто запевает?
– Лучше давай ты, а то я слов не помню.
И они принялись танцевать, всё кружа и кружа вокруг Алиски, с очень серьёзными лицами, иногда наступая ей на ноги и дирижируя самим себе. А Морской Бычок тем временем пел песню:
Станьте, рыбки, станьте в круг!
Станьте в круг, станьте в круг!
Дай плавник, раз нету рук!
Потанцуем, друг!
Я Таранка, ты Лосось,
Ты лосось, ты лосось.
Раскрути меня и брось,
Прямо в море брось!
Подползай сюда, Рачок,
Да, рачок, ты, рачок!
Подставляй-ка свой бочок,
Розовый бочок!
За бочок возьмёт Бычок,
Да, бычок, да, бычок,
Полетит в волну Рачок,
Розовый рачок!
А Таранка весела,
Весела, весела!
Закрутилась, как юла,
Колесом пошла!
– Большое спасибо, мне очень понравилось, – сказала Алиска. – В душе она радовалась, что танец, наконец, закончился. – И песня такая смешная! Никогда бы не подумала, что таранка любит танцевать.
– А ты когда-нибудь видела Таранку? – спросил Морской Бычок.
– Конечно! Она такая солёная и сухая.
– Солёная – это от морской воды, – проговорил Бычок, – а вот почему сухая – непонятно. Она ведь всё время живёт в воде – поневоле намокнешь. Ты где её видела?
– На рынке, с няней, – ответила Алиска и тут же испуганно подумала: «Ой, она же там была сушёная!»
– Интересно, какая она у тебя? – осведомился Бычок?
– Ой, она такая миленькая! Строгая, но справедливая.
– Я имею в виду, как она относится к Таранке?
– Не знаю, по-моему, она ей не по вкусу. Какая-то она, знаете, не такая…
– Горбуша, наверно, – задумчиво проговорил Морской Бычок.
– Ну что вы! – воскликнула Алиска. – Она ещё очень стройная.
= А я и не говорю, что сутулая. Ты что, никогда Горбушу не видела? Ну, хотя бы маленькую Горбушечку?
– Ой, я вас неправильно поняла! – воскликнула Алиска. – Я очень люблю горбушечку. Я и мякушку люблю, но меньше.
– Мякушку? – удивился Бычок? – А как она выглядит? Что-то я о таких не слыхивал.
– Как, разве вы питаетесь одними горбушками?! – изумилась Алиса.
– Как тебе не стыдно! – возмутился Морской Волк. – Это же Бычок, а не акула!
– Кроме того, очень невежливо называть Горбушу Горбушкой, – обиженно заметил Бычок. А Морской Волк продолжал:
– Расскажи-ка нам лучше о своих приключениях, а то всё мы да мы.
– Я вам, наверно, расскажу о сегодняшних приключениях, – несмело проговорила Алиска. – А то вчера я всё равно была не я. Вернее, сегодня.
– То есть? – удивился Бычок. – Нельзя ли яснее?
– Нет уж! – вмешался Морской Волк. – Чем яснее, тем длиннее. Сначала пусть о приключениях расскажет!
И Алиска принялась рассказывать им всё, что с ней приключилось, с той самой минуты, как она повстречала Белого Кролика и прыгнула за ним в норку.
Старые друзья сидели рядом с ней – один по левую руку, другой – по правую. Глаза и рты у них были так широко раскрыты, что Алиске сначала было как-то даже не по себе. Но она собралась с силами и заставила себя не бояться.
Морской Бычок и Морской Волк не проронили ни слова, пока она не дошла до своей встречи с Гусеницем. Когда же Алиска поведала о том, как рассказала «Что такое хорошо и что такое плохо» и как всё получилось шиворот-навыворот, Бычок тяжело вздохнул и проговорил:
– Весьма странно…
– Страннее не бывает! – подтвердил Морской Волк.
– Никуда не годится!.. – задумчиво сказал Бычок и обратился к Морскому Волку, как будто тот был главным:
– Скажи ей, чтоб ещё какой-нибудь стишок рассказала!
– Ну-ка, встань и расскажи нам что-нибудь детское! – распорядился Морской Волк.
«Ой, как же они любят командовать! Просто учителя какие-то!» – подумала Алиска, но всё-таки встала и принялась декламировать. Увы, в голове у неё всё ещё звучала «Раковая фантазия», и стишок получился совсем не тот, который она хотела рассказать:
Уронили рака на пол,
Оторвали раку лапу…
– Что-что?! – воскликнул Морской Волк. – Мы в садике ничего такого не проходили!
– Не говоря уже о школе! – подтвердил Бычок. – Не стихи, а форменное безобразие.
Алиска ничего не ответила, только села, спрятала лицо в ладошки и решила про себя, что, наверно, теперь уже никогда не вернуть старое доброе время, когда всё получалось правильно.
– Объясни, что всё это значит, – потребовал Морской Бычок.
– Да ей и сам о й непонятно! – поспешил вставить Морской Волк. – Давай дальше!
– Нет, но как же можно уронить рака на пол? – не успокаивался Бычок. – Спрашивается, откуда же в море пол? В море живут на дне морском, а не на полу!
– Наверно, это был не морской рак, а комнатный, – попробовала объяснить Алиска. – То есть прирученный…
Но она уже так запуталась, что с большущим удовольствием поговорила бы на другую тему.
– Дальше давай! – повторил Морской Волк и добавил, пытаясь ей помочь: – Там говорится, что, мол, я его не брошу… Ну, давай, давай!
Алиска не осмелилась перечить, хотя знала, что снова всё получится неправильно:
Раскручу его и брошу,
Он без лапы нехороший!
– Я требую прекратить это безобразие! – потребовал Бычок и поджал губы.
– Да уж, – согласился Морской Волк. – Хорошего понемножку!
Алиска облегчённо вздохнула. Она и сама была рада прекратить это безобразие.
– Ну что, станцевать тебе ещё одну фигуру или, может, пусть Бычок песню споёт? – обратился к ней Морской Волк.
– Ой, я бы с удовольствием послушала песенку! – так радостно воскликнула Алиска, что теперь уже Морской Волк поджал губы.
– О вкусах не спорят, – буркнул он. – Спой ей «Вечерний суп», старина.
Морской Бычок глубоко вздохнул и запел, всхлипывая время от времени:
Вечерний суп, суп, суп,
Вечерний суп, суп, суп
Люблю слизать – ать, – ать
Я с сытых губ, губ, губ.
Не из цыплён – плён – плён —
ка табака – ка – ка,
А из отбор – бор – бор —
ного бычка, ка– ка.
Я с юных лет, лет, лет
Его люблю, – лю, – лю,
И блюд иных, – ных, ных
Я не терплю, – плю, – плю.
Вечерний суп, суп, суп,
Вечерний сон, сон, сон —
На радость нам, – ам, – ам
Приготовлён, – лён, – лён.
– А теперь – хором! – закричал Морской Волк.
Но только Бычок собрался запеть хором, как вдали послышалось:
– Встать! Суд идёт!
– Пойдём! – крикнул Морской Волк, схватил Алису под руку, и они побежали, не дожидаясь конца песни.
– А кого судят? – запыхавшись, еле выговорила Алиска на бегу.
– Какая разница? – пожал плечами Морской Волк. – Поторапливайся, а то пропустим самое интересное.
А издали всё ещё доносились затихающие звуки грустной песни:
Вечерний суп, суп, суп,
Вечерний суп, суп, суп…
Глава 11. Кто украл калач?
На королевском троне восседали Червонные Король и Дама. Перед троном собралась целая толпа – всякие птички, зверушки, да ещё и целая колода карт в придачу. Среди карт Алиса увидела и Червонного Валета. Был он закован в кандалы, с двух сторон его караулили стражники.
Подле Короля стоял Белый Кролик. В одной руке он держал трубу, а в другой – свиток пергамента. Посередине суда поставлен был стол, на котором стояла тарелка с одним-единственным бубликом или, вернее, калачом. На вид калач был такой вкусный, что у Алисы потекли слюнки.
«Скорей бы суд закончился, – подумала она, – и начали бы раздавать угощения!»
Но надежд на это было очень мало, и она принялась рассматривать суд, чтобы как-то скоротать время.
Алиска ещё никогда не бывала в суде, зато читала о нём в книжках, и теперь с удовольствием всё узнавала.
«Вот и судья! – подумала она. – Они все в большущих париках».
Судьёй был сам Король. Корону он надел поверх парика, ему было жарко, и выглядел он не лучшим образом.
«А вот и скамья присяжных, – подумала Алиска. – А вон те двенадцать птичек и зверушек – это, наверно, и есть присяжные».
Слово «присяжные» она повторила несколько раз. Ещё бы! Многие ли девочки знают, кто такие присяжные?
Все присяжные с деловым видом писали что-то грифелями на дощечках.
– Что это они пишут? – шёпотом спросила Алиска у Морского Волка. – Суда же ещё не было!..
– Фамилии свои записывают, – ответил Морской Волк, тоже шёпотом. – Чтобы не забыть.
– Какие глупые, а ещё судьи! – возмутилась Алиса, но тут же осеклась, потому что Белый Кролик прокричал:
– Просьба соблюдать тишину! Суд пришёл.
Король надел очки и озабоченно обвёл суд взглядом – узнать, кто разговаривает.
Алисе было хорошо видно, что все до единого присяжные принялись записывать на дощечках: «Какие мы глупые!», а один не знал, как пишется «какие»: «какие» или «кокие» – и списал у соседа.
«Представляю, что они ещё там понаписывают, пока суд закончится!» – подумала Алиска.
У одного из присяжных грифель невыносимо скрипел. Алиса зашла ему за спину и выхватила грифель – да так быстро, что бедняжка присяжный (кстати, это был Билли) ничего не понял. Он поискал, поискал свой грифель, но, конечно, не нашёл, так что ему пришлось писать пальцем – да что толку от чистого пальца?
– Глашатай, зачитайте обвинительную часть! – распорядился Король.
Белый Кролик трижды продудел в трубу, развернул свиток и прочитал:
Наша Дама громко плачет:
«Потерялся мой калачик!»
Тише, дамочка, не плачь!
Знай: Валет украл калач.
– Огласите приговор! – обратился Король к присяжным.
– Ещё рано, ваше величество, ещё очень рано! – услужливо затараторил Кролик. – До приговора ещё дожить нужно!
– Тогда пригласите первого свидетеля, – приказал Король.
– Тут Белый Кролик снова трижды продудел в трубу и громко позвал:
– Первый свидетель!
Первым свидетелем был Странник. В одной руке он держал чашку чая, а в другой – хлеб с маслом.
– Прошу прощения у ваших величеств, что пришёл не с пустыми руками, – пробормотал Странник. – Я, изволите ли видеть, как раз завтракал, когда меня, так сказать, взяли…
– Быстрей надо есть, – ответил Король. – Вы когда начали?
Странник вопросительно взглянул на Лопуха: они с Соней пришли в суд под руку.
– Кажется, четырнадцатого марта.
– Пятнадцатого, – уточнил Заяц.
– Шестнадцатого, – вставил Соня.
– Внесите это в протокол, – обратился Король к присяжным.
Те старательно записали все даты на своих дощечках, потом сложили и перевели в копейки.
– Сейчас же снимите эту вашу шляпу! – приказал Король Страннику.
– А она не моя, ваше величество, – ответил тот.
– Ворованная! – воскликнул Король, снова обращаясь к присяжным.
Те мгновенно записали: «Шляпа – ворованная».
– Они у меня продажные, ваше величество, – объяснил Странник. – Сделаю и продам, сделаю и продам. Промышляю я ими…
Тут Королева надела очки и принялась внимательно смотреть на Странника. Тот побледнел и стал переминаться с ноги на ногу.
– Отвечать! – приказал Король. – Стоять смирно! Не то приговор будет приведён в исполнение.
Услышав это, свидетель совсем оробел, стал ещё больше переминаться с ноги на ногу, застеснялся и откусил большой кусок чашки вместо бутерброда.
И вдруг с Алиской стало происходить что-то очень странное. Вскоре она поняла, что именно: она снова увеличивалась. Первым её желанием было поскорее уйти, но потом она передумала и решила не уходить, пока есть место.
– Что вы напираете?! – обиделся Соня (он сидел рядом с Алисой). – Вздохнуть же уже невозможно!
– Я бы с удовольствием не напирала, – ответила Алиска, – но я, к сожалению, расту.
– Нашли тоже, где расти! – возмутился Соня. – Нечего расти в общественном месте!
– Ну, вот ещё! – в тон ему сказала Алиса. – Я ведь вам не мешаю расти, где вам вздумается.
– Я расту постепенно, а не сломя голову! – с этими словами Соня встал, и, нахмурив брови, ушёл в другой угол.
А Королева всё смотрела и смотрела на Странника и, как раз когда Соня переходил из угла в угол, приказала одному из стражников:
– Подать мне список тех, кто пел на последнем концерте!
Тут бедный Странник затрясся с головы до пят и трясся, пока не вытрясся из собственных башмаков.
– Отвечать! – грозно повторил Король. – Или приговор будет приведён в исполнение, хоть трясись, хоть не трясись.
– Ваше величество, я человек маленький, козявочка, можно сказать… – проговорил Странник. – Целую неделю – всё чай да чай… А заварки нужно – сами знаете, сколько… Я так расстроился, вот и заварилась вся эта каша…
– Нечего было заваривать, – сказал Король.
– С вашего позволения, было, ваше величество, – осмелился возразить Странник. – Заварка-то у нас хорошая…
– А каша?
Странник совсем запутался и пролепетал:
– Я человек маленький, ваше величество… Мне не всё так понятно, как вашему величеству…
– Каша, говорю, причём? – нахмурился Король. – Которую вы якобы заварили.
– Это всё Заяц!.. – принялся оправдываться Странник. – С ним кашу не сваришь…
– Сваришь! – поспешно вставил Заяц Лопух.
– Нет, не сваришь!
– Протестую! – заявил Заяц.
– Вы что, не видите: человек протестует! – перебил Странника Король.
– А с Сонькой… – проговорил Странник и испуганно обернулся, но Соня не протестовал: ему, кажется, как раз снилось что-то интересное. – А с Сонькой-то уж точно не сваришь!.. Беру я тогда хлеб с маслом…
– Это почему же с Соней не сваришь? – осведомился один из присяжных.
– Да мало ли… – протянул Странник.
– Боюсь, что много! – язвительно заметил Король. – За это мы вас, милейший, по головке не погладим. Мы её лучше с плеч!
– Бедный странник уронил чашку и бутерброд и рухнул на одно колено.
– Помилуйте, ваше величество! Будьте отцом родным!..
– Тоже мне принц нашёлся! – пренебрежительно ответил Король.
Тут одна морская свинка весело хрюкнула. Тогда двое стражников схватили её и намылили ей шею. Мыло было мокрое, а морские свинки, в отличие от обычных, боятся сырости как огня. Вода для них – худшее наказание.
«Здорово! – подумала Алиска. – Где бы я ещё увидела, что значит «намылить шею»!
– Если вам больше нечего сказать, можете сесть, – повелел Король.
– Да я и так уже почти сижу, ваше величество…
– Тогда можете встать, – ответил Король.
Тут и вторая морская свинка насмешливо хрюкнула, и ей тоже намылили шею.
«Так им и надо! – подумала Алиска. – Не будут насмехаться!»
– Я, если позволите, пойду, чаёк допью, ваше величество, – осмелился попросить Странник и с тревогой взглянул на Королеву: та как раз читала список певцов.
– Можете идти, – разрешил Король.
Странник, забыв о башмаках, опрометью бросился домой.
– Голову ему там с плеч! – деловито распорядилась Королева, но Странник уже скрылся из виду.
– Позвать следующего свидетеля! – приказал Король.
Алиска сразу догадалась, что следующим свидетелем будет Герцогинина повариха. Так оно и было. В руке у старой перечницы была перечница. Не успела она войти, как все, кто сидел у двери, разом чихнули.
– Давайте показания! – повелел Король.
– Дудки! – ответила Повариха.
Король озабоченно посмотрел на Белого Кролика, и тот шёпотом подсказал ему:
– Ваше величество, необходимо подвергнуть свидетельницу перекрёстному допросу!..
– Перекрёстному, так перекрёстному, – покорно согласился Король. Он перекрестился и сказал величественным басом:
– Свидетельница, отвечайте: с чем был калач?
– С перцем, – ответила Повариха.
– Со сливками, – раздался сзади сонный голос. – Только сливки были не с пенкой, а с косточками.
– На цепь негодяя! – заверещала Королева. – Намылить ему шею! Намять бока!! Голову с плеч!!! Усы с лица!!!!
Стражники набросились на Соню и принялись приводить приговор в исполнение. Король же тем временем всё крестился и крестился. Когда, наконец, Соне намылили шею и намяли бока, все успокоились, а Поварихи и след простыл.
– Вот и хорошо, – вздохнул Король с огромным облегчением. – Позвать следующего свидетеля!
И добавил шёпотом, обращаясь к Королеве:
– Ласточка, этого ты, пожалуйста, сама подвергай перекрёстному допросу, а то у меня рука совсем онемела.
Алиска с любопытством посмотрела на Белого Кролика: кого же он теперь вызовет? Может, хотя бы этот свидетель даст какие-нибудь показания?
Кролик покрутил свиток взад-вперёд, и… представьте себе Алискино удивление, когда он вдруг что есть силы прокричал:
– Алиса!
Глава 12. Алиска даёт показания
Здесь! – крикнула Алиска и вскочила с места, совсем позабыв, какая она теперь большая.
Краем платья она задела скамью присяжных, та перевернулась, и бедные присяжные кубарем полетели на зрителей. Как тут Алиске было не вспомнить аквариум с рыбками, который она прошлой неделе опрокинула!..
– Ой, простите, пожалуйста! – испуганно воскликнула она и бросилась поднимать зверушек, растянувшихся на полу.
Она и рыбок тогда собирала так же точно, ведь если кто-то откуда-то выпал, его надо побыстрее бросить обратно, не то он задохнётся.
– Мы не сможем продолжать заседание, – строго произнёс Король, – пока все присяжные не займут свои места. Повторяю: все! – ещё строже произнёс он и сурово посмотрел на Алису.
Тут Алиска увидела, что в спешке усадила ящерку Билли вверх тормашками. Бедняга печально покручивал хвостиком, не в силах перевернуться. Алиска усадила его как следует, хотя и подумала про себя:
«Вообще-то проку от него вниз тормашками не больше, чем вверх тормашками».
Как только присяжные немного пришли в себя от пережитого потрясения и получили обратно свои дощечки и грифели, они принялись старательно записывать всё, что с ними приключилось. Не писал только Билли: новое происшествие так подействовало на него, что он просто раскрыл рот и уставился в потолок.
– Что вы можете сообщить по существу дела? – обратился Король к Алисе.
– Ничего.
– Совсем ничего?
– Совсем ничего.
– Это же очень важно! – воскликнул Король, обращаясь к присяжным.
Те принялись записывать высочайшие слова, но Белый Кролик осмелился возразить:
– Ваше величество, наверно, хотели сказать не «же», а «не» – «не очень важно», – и принялся исподтишка подмигивать Королеве, ища у неё поддержки.
– Конечно, конечно, – поспешил поправить себя Король. – Одна буква не считается! Я хотел сказать «не очень важно».
И он принялся повторять шёпотом:
– Это не – это же, это не – это же… – как будто определяя, как красивее звучит.
Поэтому одни присяжные написали «Это же», а другие – «Это не». Алиске всё это было хорошо видно – она ведь возвышалась над скамьёй присяжных.
«По-моему, они и сами не знают, как будет правильно», – подумала она.
Король тем временем что-то озабоченно записывал в блокноте. Вдруг он выкрикнул:
– Тишина!
И прочёл:
– Правило сорок второе: «Тем, кто вымахал, нет места в суде».
Все как один посмотрели на Алису.
– Ничего я не вымахала! – возмутилась Алиска. – Я и не думала вымахивать!
– Нет, вымахала! – возразил Король.
– А ведь и вправду вымахала! – подтвердила Королева.
– Всё равно не уйду! – заявила Алиска. – И потом, такого правила всё равно нет, вы его сейчас нарочно выдумали.
– Что?! – возмутился Король. – Да это самое главное правило! И самое-пресамое старое!
– Тогда у него должен быть первый номер! – решительно возразила Алиска.
Король побледнел и поспешно захлопнул блокнот.
– Огласите приговор, пожалуйста, – с дрожью в голосе попросил он присяжных.
– Ой, ваше величество, обнаружена ещё одна улика! – затараторил Кролик, вскакивая с места. – Только что был найден вот этот документ.
– Что ещё за документ? – спросила Королева.
– Я не осмелился прочитать, ваше величество, – ответил Кролик, – но, скорее всего, это письмо подсудимого кому-то.
– Ещё бы не кому-то! – понимающе заметил Король. – Раз письмо написано, значит, кто-то должен его прочесть, иначе зачем же писать?
И он торжествующе обвёл взглядом присутствующих, в душе удивляясь собственной мудрости.
– Так точно, ваше величество, но неясно, кому именно оно адресовано, – сказал Кролик. – Потому что адреса на письме нет.
Он развернул свиток и добавил:
– Оказывается, это вовсе не письмо, а стихи.
– А почерк – подсудимого? – осведомился Король.
– Отнюдь нет, – многозначительно произнёс Кролик. – И это внушает наибольшие подозрения.
Тут присяжные призадумались.
– По всей вероятности, он подделал почерк, – предположил Король.
– Помилуйте, ваше величество! – взмолился Валет. – Не писал я этих стихов, и улик против меня никаких нет: стихи ведь не подписаны.
– Значит, это анонимка? – вскинул брови Король. – Тем хуже для вас!
Эти слова были встречены бурными аплодисментами присутствующих: Король был поистине мудр!
– Вина подсудимого доказана! – сказала Королева.
– Ничего не доказана! – вмешалась Алиска. – Вы же даже ещё не прочитали эти стихи!
– Прочесть! – приказал Король.
Кролик надел очки и обратился к Королю:
– С чего прикажете начать, ваше величество?
– С начала, – твёрдо сказал Король. – И читайте, пока не дочитаете до конца. А когда дочитаете, больше не читайте, потому что больше нечего будет читать.
И Кролик принялся читать:
Присели трое кое-где
И стали совещаться
О том, что было не везде,
Но будет повторяться.
Один тираду произнёс
Второму в назиданье
И третьего довёл до слёз
Речами о купанье.
Второй сидел и уплетал
С улыбкой кое-что:
Давным-давно он это знал,
Давней, чем кое-кто.
Ведь что же может быть вкусней?
И он не притворялся,
Что, мол, задумался о ней,
Когда проголодался.
Ей было не до пирогов,
Вязания и лепки:
Она рубила лес голов —
Так, что летели щепки.
С тех пор одни едят и пьют,
Другие их не любят,
А третьи счёт голов ведут
И иногда их рубят.
Эта самые важные улики из всех! – воскликнул Король, радостно потирая руки. – Пусть теперь присяжные…
– …попробуют объяснить, что к чему! – договорила Алиса. Она успела так вырасти, что совсем перестала бояться. – Кто отгадает, получит конфетку! В этих стихах нет ни капли смысла!
Присяжные записали на своих дощечках:
«Алиса говорит, что в стихах нет ни капли смысла».
А разгадать загадку никто из них даже не попробовал, это ведь не их ума дело, а королевского.
– Тем лучше! – сказал Король. – Раз смысла нет, то и искать его не придётся!
Тут он взял свиток, развернул его у себя на коленях, внимательно посмотрел, прищурившись, как будто прицеливаясь, и проговорил:
– Ну-ка, ну-ка! Я, кажется, кое-что понимаю… «довёл до слёз речами о купанье». Обвиняемый, вы бы огорчились, если бы вас заставили искупаться?
Валет печально вздохнул:
– Ах, ваше величество… Разве по мне не видно? Чем больше воды, тем меньше меня…
По нему было очень даже видно – он ведь был бумажным.
– Чудесно! – воодушевился Король и принялся читать дальше, приговаривая:
– «стали совещаться» – это, конечно, присяжные. «Сидел и уплетал с улыбкой кое-что» – ну, это, скорее всего, похищенный калач!..
– А как же тогда этот калач оказался здесь? – вмешалась Алиса.
– Очень просто! Там сказано «уплетал», а не «уплёл». Значит, не успел уплести!
И Король торжествующе обвёл взглядом присутствующих.
– Так, дальше: «Она рубила лес голов, так что летели щепки». Ты ведь время от времени порубываешь головы, мой котёночек? – обратился он к Королеве.
– Рублю!! – рявкнула Королева и запустила чернильницей в бедного Билли.
Тот до сих пор так ничего и не написал – много ли напишешь сухим пальцем? Зато теперь у него со лба потекли чернила, он поспешно обмакнул в них палец и принялся что-то записывать.
– Вот от них щепки и летят! – мудро улыбаясь, сказал Король и снова обвёл взглядом всех присутствующих. – Как говорится, лес рубят – щепки летят!
Воцарилась мёртвая тишина.
– Это же очень остроумно! – обиделся Король.
Тут все верноподданно засмеялись.
– Присяжные, огласите приговор! – приказал он снова, кажется, уже в сотый раз.
– Нет! – вмешалась Королева. – Сначала пусть приведут в исполнение, а потом – приговаривай себе, сколько хочешь.
– Че-пу-ха! – во всеуслышание заявила Алиса. – После исполнения некого уже будет приговаривать!
– Молчать!!! – гаркнула Королева, наливаясь кровью.
– И не подумаю! – заявила Алиса.
– Голову с плеч!!!! – взвыла Королева. Но никто не сдвинулся с места.
– Да кто вас боится, карты несчастные!? – воскликнула Алиса. Она уже стала такой, какой была дома.
Тут все карты взвились в воздух и посыпались на неё. Алиса вскрикнула от испуга и возмущения, принялась отмахиваться… и проснулась на берегу реки. Голова её лежала на коленях у сестры, та ласково и осторожно убирала с её лица сухие листья, сорванные ветром с дерева.
– Вставай, Алисонька! – сказала сестра. – Как же долго ты спала!
– Ой, до чего же интересный сон мне приснился!.. – проговорила Алиска.
И она рассказала сестре всё, что с ней приключилось. А когда закончила рассказывать, сестра поцеловала её и сказала:
– Да, солнышко, это был очень интересный сон! Ну, а теперь беги домой, пора полдничать.
Алиска вскочила и побежала, и пока бежала, всё думала, какой же всё-таки чудесный сон ей приснился!
Заключение
Каждая из двух моих дочек задала мне один и тот же правильный и очень важный вопрос:
– Папа, а это всё было на самом деле?
– Конечно, – ответил я. – Как же может быть не на самом?
– Ну что ты! – удивилась моему непониманию каждая из них. – Может быть не по-настоящему, а понарошку. Вот хотя бы Баба Яга. Ты когда-нибудь видел настоящую Бабу Ягу?
– Да сколько угодно! В том числе и среди твоих подружек. Правда, они ещё маленькие бабушки, вернее, девочки Яжечки, но рано или поздно станут настоящими Бабами.
И та, и другая подумали и согласились. А потом каждая сказала:
– Зато среди них есть и Алиски. С ними так интересно было бы прыгнуть в кроличью норку!
– Нет ничего проще! Как только тебе этого очень-преочень захочется, бери за руку свою подружку и отправляйтесь в путешествие. Только торопитесь: Кролик и Алиска бегут со всех ног. И в норку прыгайте, не раздумывая, а дальше всё будет ещё лучше, чем в прошлый раз. НЕ ВЕРИШЬ? КЛЯНУСЬ УШАМИ!
Лидия Чарская
Особенная
I
На дебаркадер вокзала царила обычная сутолока, предшествующая приходу каждого поезда. Ежеминутно к краю дебаркадера подходили мужские и женские фигуры, со смутной надеждой увидеть вдали огненные глаза локомотива; слышалась полная волнения, то срывающаяся на полуфразе, то снова возобновляющаяся речь…
Все были неспокойны… Все сердца наполнены одним и тем-же желанием: скорее бы встретить, дождаться, увидать…
Студеный августовский денек хмурился и грозил встретить тучами и дождем вернувшихся на родину путешественников. Серое небо, как бы вяло и нехотя, смотрело на землю. Утренний ветерок пронизывал тело неприятным колючим холодом. Все до крайности было скучно, серо и пусто в природе в это неприглядно начавшееся осеннее утро.
Невысокая, элегантно одетая дама, под темной вуалеткой, стояла неподалеку от вокзального колокола и, не отрываясь, смотрела в туманную, серую даль, откуда должен был вынырнуть заграничный поезд. Вот она нетерпеливо сдернула вуалетку, мешавшую ей смотреть. Из-под загнутой сбоку фетровой шляпы выглянуло красивое, еще молодое, неспокойное лицо. Живые, полные блеска, серые глаза светло смотрели на мир Божий. Яркие губы были чуть полуоткрыты и по временам вздрагивали от волнения.
Трудно сказать, сколько ей было лет; ее лицо было изменчиво; оно то улыбалось молодо, весело и беззаботно, то хмурилось и как-то разом, в одну минуту, старело. Красивая дама волновалась, это было видно по всему.
– Боже мой! Скоро ли? – чуть слышно сорвалось с ее губ и глаза ее с новой настойчивостью впились взглядом в серую пелену утреннего тумана.
– Поезд! Поезд идет! – послышался за ее плечами чей-то нервно вибрирующий голос.
Дама вздрогнула и подалась вперед. Действительно, вдали показались два ярко горящие кружка, рельефно выделившиеся среди серого туманного фона. Но как они еще далеко!.. Чуть приметно, бледно мерцают они вдали. Озноб нервного напряжения охватил даму. Ее сердце забилось усиленным темпом. Под нарядной кружевной пелериной манто вздымалась ее грудь тяжелым бурным дыханием.
– Господи! Когда же? – беззвучно произнесли ее дрожащие губы и вся она замерла в мучительном созерцании приближающихся огненных точек. Вот он ближе… ближе… яснее… Вот уже можно различать медленно ползущее чугунное тело локомотива… Слава Богу, теперь скоро уже…
Толпа встречающих бесшумно сосредоточилась у края платформы. Ни слов, ни возгласов больше не было слышно… Вот высокий полный субъект купеческой складки с полуаршинной бородою, снял цилиндр и, вынув клетчатый фуляровый платок, вытирает им пот с лица, не отрывая в то же время жадного взора от приближающегося к дебаркадеру огромного чудовища. Какая-то маленькая старушка, с моськой под мышкой, суетливо топчется тут же, поминутно вздыхая. Подле нее девочка с глазами, полными мучительного ожидания, смотрит на огненные точки и чуть внятно шепчет что-то побелевшими губами. Вот еще и еще разные лица… Мария Александровна Карская (так звали элегантную даму с красивым лицом) смотрит на купца и на девочку, и на старуху с моськой машинальным взглядом человека, думающего о чем-то другом, и снова глаза ее приковываются к заветным фонарям локомотива. Теперь они уже совсем близко, тут, почти рядом, перед глазами. Наконец, поезд подполз вплотную к дебаркадеру и остановился. Бесшумная толпа носильщиков метнулась к вагонам и быстро потонула в темных недрах купе. Мария Александровна двинулась, было, туда же за толпою встречающих, но, мигом сообразив что-то, подалась назад и, подойдя к вокзальному колоколу, остановилась около него. Отсюда она могла отлично видеть выходивших из купе пассажиров. И, не отрывая от глаз лорнета, она принялась смотреть, вся исполненная мучительного ожидания, туда, откуда вслед за носильщиками, нагруженными чемоданами, пледами, корзинами и сундучками, выходили вновь прибывшие. Слышались восклицания, шум приветствий, поцелуи, слезы и смех. Напряжение разрешилось разом… Мимо Карской шли теперь люди торжествующие, счастливые, об руку с теми, для кого они приехали сюда сегодня. Вот идет толстый купец, сияющий и красный, бросая вокруг себя радостные улыбки; с ним рядом полная рыхлая женщина в маленькой шляпе, с добродушным лицом. Вот маленькая старушка с моськой и молоденькая девушка, ведут под руки красивого, бледного, болезненного вида господина в безукоризненно сшитом дорожном костюме. Глаза старушки полны слез, но она не замечает их. И девочка плачет тоже, хорошими, счастливыми слезами.
Что-то подступает и к горлу Карской. Что-то сдавило ей грудь. И ей хочется заплакать. Нервы напряглись до крайности. Ожидание делается почти нестерпимым. Ее глаза с тревогой перебегают взглядом с одного вагона на другой, тревожно впиваются в каждое новое лицо, появляющееся из мрака купе, на платформе.
– Да где же она? Где же? – бессвязно лепечут губы, – ее нет… она не приехала… Со следующим поездом, значить? – и Карская готова уже бежать с расспросами по поводу прихода следующего поезда к неподалеку стоящему начальнику станции, готова расплакаться, как ребенок, но ее неожиданно останавливает чей-то голос:
– Мама!
Карская вздрагивает, оборачивается с живостью девочки и во все глаза смотрит на ту, которая только что позвала ее.
Перед ней высокая, стройно сложенная девичья фигурка в сером платье. Из-под дорожной шляпы выглядывает красивое, юное личико. Что-то бесконечно милое, близкое, родное чудится в нем Карской.
Мария Александровна еще раз пытливо взглядывает в эти юные, дорогие, ей черты, в большие, яркие глаза девушки и разом сладкая, теплая, волна захлестывает ее всю с головою.
– Лика! Моя девочка! – лепечет она в порыве счастья.
II
– Так вот ты какая! Покажись! Дай мне посмотреть на тебя, – с восторженной гордостью говорит Мария Александровна, любуясь изящной фигуркой и прелестным личиком дочери.
– Ах, что я! Вот вы – прелесть, мама! Если бы вы только знали, какая вы прелесть! – лепечет Лика, любящим взором лаская мать, – и подумать только: я – ваша дочка, – добавляет она с наивным детским простодушием.
И действительно, в своем радостном порыве и без того моложавая Мария Александровна кажется старшей сестрой своей дочери. Сияющие глаза Карской ласково встречают горящий взгляд Лики.
– О-о! наконец-то, моя деточка, я дождалась тебя!.. – шепчет она нежно, прижимая к себе девушку.
Новый град поцелуев служит ей ответом.
– Как ты узнала меня? – все с тою же сияющей радостной улыбкой, помолчав минуту, спрашивает она дочь, когда обе они, крепко прижавшись друг к другу, движутся к выходу вокзала.
– А ваш портрет, мама! Я с ним не расставалась ни на минуту… – серьезно, без улыбки отвечает Лика и ее глаза загораются каким-то новым, тихим, глубоким светом.
– Милая девочка! – ласково шепчет ей Карская, – я думала, что ты не узнаешь меня, и потому написала, что буду ждать у колокола.
– Ах, этого и не надо было! – горячо возразила Лика, – я, как вышла из вагона, оглянула толпу и вдруг увидела: такая молодая, красивая… Чудная… ну значит, моя мама!
И она нежно поднесла руку матери к своим губам.
– Лика, mon enfant, [1] а твои вещи? – вдруг спохватилась Мария Александровна, – я ведь не взяла выездного с собою, никого не взяла… хотела первая увидеть мою девочку, одна увидеть без посторонних свидетелей, да! Я даже petit papa [2] не позволила тебя встретить… Он цветы прислал… там, в карете.
– Ах, мамочка! – и Лика покраснела от удовольствия и смущения.
Румянец удивительно шел к ее милому личику. Марии Александровне казалось, что она грезит во сне, видя свою дочь такой прелестной. Она так боялась, так страшно боялась этой встречи. Оставив дочь десятилетней девочкой, она имела о ней весьма смутное понятие и далеко не ожидала найти в ней такое доброе, отзывчивое сердце и эту любовь и ласку к себе. А оказалось совсем иное. Нет, положительно, Лика прелестна. И Карская с нескрываемым восхищением следила, как молодая девушка позвала носильщика, передала ему квитанцию от багажа, вручила свой адрес и, приказав доставить вещи как можно скорее, снова обернулась с тою же счастливой улыбкой к матери.
– Откуда у тебя этот навык, крошка? – изумленно обратилась к ней Мария Александровна.
– О, это – метода тети Зины! – засмеялась Лика, – ведь моя тетя Зина не терпит беспомощности, и разгильдяйства!
– Но неужели ты ехала одна, Лика?
– От Вены одна, эта австриячка Готенбург довезла меня до своего города, а там мы расстались. Что же вы беспокоитесь, мамочка? Ведь я не маленькая! – с истинно детской гордостью заключила Лика.
– Ты – прелесть! – улыбнулась Мария Александровна, с трудом удерживаясь от желания расцеловать это чудное личико, – однако, едем, малютка, пора!
Они вышли на перрон вокзала: Кровный рысак под английской упряжью с крохотной впряженной в ней кареткой-купе ждал их у крыльца.
С легкостью птички Лика прыгнула в купе и тихо ахнула: великолепный букет белых роз слал ей свой душистый привет из угла кареты.
– Ах, какая роскошь! – прошептала молодая девушка, погружая в цветы свое заалевшее личико.
Но не один букет этот, – все радовало и волновало ее сегодня: и серые петербургские улицы, и частые пешеходы, и встречные экипажи, и самые здания, так мало похожие на те венцы человеческого творчества, которые приходилось встречать Лике в Европе. Ведь это было свое русское, родное! Это была родина. Это – Русь… Русь с ее колокольными звонами, с ее снежными сугробами, с ее троечными бубенцами и истинно православным радушием, мягкостью и весельем, это – Русь родная, святая, дивная Русь!
Глаза Лики увлажнились. Она опустила окно каретки и с наслаждением пила свежесть августовского утра. И ее глаза блестели, губы улыбались. Она – дома. Она у себя – дома! В своей белой, родной, студеной стране, которую, несмотря на долгие восемь лет, помнила так хорошо, так свято!
– Какое счастье! Какое счастье! Мамочка! – неожиданно вырвалось из груди молодой девушки горячим порывом.
III
Мария Александровна Зарюнина или Мими, как ее называли в свете, рано осиротела и тотчас после смерти отца, вышла замуж за товарища его и друга, пожилого, видного по занимаемому им посту генерала Горного. Это был рьяный, суровый и исполнительный служака доброго старого времени. Женился он на дочери своего товарища хорошенькой Мими из жалости к одинокой сиротке, девушке, знакомой ему с самого раннего детства, и сумевшей тронуть этого сурового воина своей печальной судьбой. Не долго однако пользовался своим счастьем Горный. Через семь лет генерал неожиданно умер, оставив вдовою совсем еще молодую женщину с тремя детьми, из которых старшей Ирине было всего четыре года, сыну Анатолию полтора, а младшая Лидия, или Лика, была еще в то время двухмесячным младенцем. Овдовев Мария Александровна уехала с детьми в имение мужа, оставленное ей с крупною суммою капитала умершим генералом.
Обрушившееся на нее несчастье случилось так неожиданно, что молодая женщина не успела даже отдать себе отчета, как она перенесет потерю. Мария Александровна не могла не уважать и не любить своего покойного мужа, за его честность и доброту и искренне оплакав его, решила посвятить себя целиком воспитанию своих двух девочек и сына Толи, на которого возлагала самые горячие надежды.
Но Мария Александровна была еще слишком молода, чтобы отказаться от привычной ей светской жизни. Прожив три года в «Нескучном», она не выдержала в конце концов, и забрав подросшую детвору, снова вернулась в Петербург, где ее ждали выезды, балы и рауты, опера и круг друзей, который с удовольствием принял в свой центр молодую богатую вдовушку. К девочкам была приставлена сухая и чопорная англичанка мисс Пинч, к Толе веселый и жизнерадостный швейцарец monsieur Колье. Дети мало заботили Марию Александровну. Они пользовались завидным уходом со стороны воспитателей. Только Лика постоянно тревожила мать. Девочка росла худеньким, болезненным и слабым ребенком, подверженным постоянным простудам севера. Никакие летние поездки к морю, в дачные местности вроде Ораниенбаума или Сестрорецка, не помогали ей. Год от году бледненькая худенькая Лика становилась все бледнее и прозрачнее. Мария Александровна пробовала возить ее на лето в «Нескучное», жертвуя собою, отнимая от себя прелесть дачных удовольствий. Но ничего не помогло.
Здоровье Лики не улучшалось.
И вот, как снег на голову, в семье Горных, появилась внезапно приехавшая в Россию золовка Марии Александровны, Зинаида Владимировна Горная, родная сестра покойного генерала.
Зинаида Владимировна безвыездно проживала за границей в силу некоторых обстоятельств, и на родине считала себя, как бы, гостьей. Это было до крайности доброе существо. Она сыпала щедрою рукой помощь нуждающимся, отказывая себе во всем. Резкая, чрезвычайно добрая, честная и прямая, она представляла собой редкое необычайное явление.
Зинаида Владимировна неожиданно перелетела сюда в снежные сугробы из цветущих долин и от прозрачно голубых озер Италии в холодный и суровый климат России, в семью золовки и прямо приступила к цели.
– Сестра, отдайте мне Лику, – сказала она. – Я сделаю из нее здоровую, сильную девушку. Мария Александровна сначала заохала.
– Расстаться с Ликой! с этим бедным хрупким ангелом! Низачто в мире! Нет! Нет! Это ужасно!
– Тогда нечего было писать мне, что Лика слаба, больна, что Лика умирает, когда вы не хотите спасти ее! – резко выкрикнула энергичная тетя Горная и этим решила все: Лику отпустили с нею. Лику ей отдали на долгие годы. Но, к довершению всего, увозя Лику от матери, ее новая воспитательница поставила в условие последней: не навещать дочери за границей, не растравлять сильными острыми впечатлениями хрупкого организма ребенка и дать девочке возможность подняться при нормальных условиях жизни и окрепнуть вполне.
Мария Александровна повздыхала, поплакала, но ради интересов дочери, согласилась на все это, скрепя сердце.
Десятилетняя Лика без особенного горя рассталась с семьею. Мать она привыкла видеть ежедневно лишь очень непродолжительное время по утрам единственное время, которое Мария Александровна, занятая светом и выездами, могла посвящать детям.
С сухой, требовательной, и как бы застывшей в своей английской невозмутимости мисс Пинч у Лики не было ничего общего; со старшею сестрой Ириной, точным сколком той же мисс Пинч, еще меньше, с Толей… Но Мария Александровна была против дружбы ее с Толей, находя, что мальчик может дурно влиять на склад характера «барышни», и таким образом Лика была вполне одинокой среди своей большой семьи.
Восемь лет за границей промчались, как во сне для Лики. Тетя Зина горячо привязалась к бледной хрупкой девочке.
Зиму они жили в Париже, где к Лике ходили учителя, лето – в Италии, где-нибудь около Пармы или Негри, у тихо плещущих, вечно голубых и вечно юных волн Адриатического моря.
Ежемесячно из России приходили письма от матери, а Лика с затаенным смятением и радостью пробегала их.
Лишенная присутствия матери, девочка унесла с собою за пределы России прелестный образ Марии Александровны. Если она чуждалась, матери в детстве, у себя, дома, в Петербурге, чуждалась этой обаятельной блестящей красавицы, то на далеком расстоянии, оторванная от нее, бледненькая Лика в своих детских грезах запечатлела этот образ, прочно, раз и навсегда. Не мало способствовала этому и тетя Зина, постоянно беседуя с ней о ее далекой маме.
Время шло. Лика подрастала. Вместе с ее трогательной любовью к Марье Александровне, какою-то заоблачною любовью к далекому существу, тетя Зина постаралась внушить лике и любовь к ее родине, глубокую, бесконечную любовь; как и сама она тетя Горная любила Россию, всем сердцем, так и научила любить ее и свою юную воспитанницу.
– Гляди, – гуляя как-то под сводом собора святого Петра в Риме, неожиданно воскликнула тетя, хватая Лику за руку, – гляди! Если бы к нам его в Россию нашу перетащить! Вот было бы славно!
Маленькая Лика, внимательно вслушиваясь в слова тетки, всем сердцем обнимала милую родную страну, в которой, по словам тети Зины, было не так, и далеко не так хорошо, как в первых культурных странах шагающей быстрыми шагами вперед Европы.
И в большом сердечке маленькой девочки, умевшем горячо воспринимать в себе всякие добрые побуждения, зародилась впервые мысль, как хорошо было бы, если бы все эти чудесные великолепные здания, все эти дворцы и музеи, наполненные чудесами искусств можно было бы считать русскими, своими!
Впервые Лика, когда они, с тетей Зиной странствуя по Швейцарии, остановились как-то в одной жалкой бедной деревушке, заметила еще одно обстоятельство, заставившее ее глубоко вздохнуть.
Тетя Зина поманила какого-то крошечного мальчугана и спросила его, умеет ли он читать. Мальчик гордо взглянул на любопытную иностранку и отвечал утвердительно.
– Видишь! Видишь! – торжествуя обратилась тетя Горная к Лике, – все они здесь, все! все! знают грамоту. А у нас еще сколько безграмотных, темных людей в России! Посещение школ должно быть обязательно в культурных странах: это рассеет громадную долю мрака. А потом…
Но тут тетя Зина как-то разом спохватилась, вспомнив, что еще далеко не все можно говорить племяннице, что она еще слишком молода.
В четырнадцать лет у Лики появился голос. Боясь за хрупкое здоровье девочки, Зинаида Владимировна стала, однако, исподволь учить Лику пению. Был приглашен учитель итальянец по имени синьор Виталио, и он стал знакомить девочку со своим любимым искусством.
Это был дивный человек, положивший всего себя на дела милосердия, проконцертировавший всю свою молодость с благотворительными целями и теперь отдававший себя целиком на славу родного искусства.
– Если у меня окажется голос, я буду так же эксплуатировать его в делах милосердия! – во время одного из уроков сорвалось с губ пятнадцатилетней Лики.
– Дитя мое! Дорогое дитя! – мог только выговорить итальянец, потрясенный до глубины души этим чистым детским порывом. – Помните, что вы сказали, Лика. Это – великие слова, моя милая деточка!
– Да! да! – вскричала восторженная юная певица, – и не только теперь и всегда это так будет. О, синьор Виталио, и ты, тетя! Слышите ли? Я всегда… всеми силами… буду стараться сеять все доброе вокруг себя. Господи, если бы вы знали, как хорошо мне! Как я счастлива! как все любят меня? Тетечка! Вчера еще синьор Виталио сказал, что у меня хороший голос. Господи, как мама обрадуется! Какое счастье! За что мне дано все это?
– Да, Лика, громадное счастье иметь хороший, голос! Господь дает его не многим избранным, дитя мое. Надо заслужить это благо, – почти молитвенно произнес старый учитель.
– Я постараюсь заслужить его, – пылко вскричала девочка, – клянусь вам, я заслужу его! Вот тетя говорить всегда, что в нашей суровой стране мало солнца, что там больше мглы и, что самое солнце так далеко в тучах, что мы все, как слепые, не видим его… Так надо же, чтобы оно засветило и заулыбалось и у нас, синьор Виталио! Тетя! Пусть и я, и другие такие же, как я, молодые и сильные, стремятся к тому. Ведь если делать много добра, много хорошего и светлого, оно появится? оно засияет наше солнце? И будет хорошо у нас, как и здесь, как и всюду? Скажи мне, тетя! Синьор Виталио! Скажите мне!
– Дорогое дитя! – могла только выговорить Горная и крепко обняла племянницу.
А еще через год Лика выступала уже с благотворительною целью в пользу недостаточных русских, которые были волей рока заброшены сюда на чужбину. Небольшая колония русских и все итальянское население города откликнулись на призыв молодой девушки и каждый внес посильную помощь в это доброе дело. Вслед за тем Ликой и ее учителем был дан новый концерт в Милане в пользу неаполитанских рыбаков, пострадавших от наводнения.
Синьор Виталио мог гордиться своей ученицей. Она обладала прекрасным голосом и школой. Юная певица привела в восторг ее слушателей. Успех Лики превзошел все ожидания. Один из директоров итальянской оперы предложил ей тут же ангажемент, неслыханно-выгодный для такой молоденькой девушки. Но тетя Зина поблагодарила за высокую честь, оказанную маэстро, и увезла Лику к морю, где у нее была своя собственная крошечная вилла.
В ту же осень тетка и племянница получили письмо, извещавшее о вторичном замужестве Марии Александровны с человеком, занимавшим очень видное место при одном из министерств. А еще через год новое письмо матери к Лике перевернуло весь строй жизни молодой девушки.
Лику отзывали назад, домой в Россию.
IV
– Что это? Разве приехали? – и молодая девушка точно проснулась от своего зачарованного сна.
Карета остановилась у Царскосельского вокзала. Носильщик предупредительно распахнул дверцу экипажа.
– Ах, да! ведь вы еще на даче! – сообразила Лика и звонко рассмеялась своим детски-искренним смехом.
Мария Александровна, не отрывая глаз, следила за дочерью. Нет, положительно, с каждой минутой все больше и больше нравилась ей эта милая, ласковая, добрая, жизнерадостная Лика.
Когда, по настоянию своего нового мужа Андрея Васильевича Карского, утверждавшего, что столь продолжительное отсутствие из родного дома Лики, может совсем отлучить девушку от родной семьи, она решила выписать дочь. Мария Александровна, успевшая отвыкнуть от своей девочки, не без трепета подумывала об их будущей совместной жизни. Она знала резкий характер тети Зины и чуточку даже побаивалась ее, этой энергичной, быстроглазой, с легкой проседью в гладко зачесанных волосах женщины. Боялась насмешливости тети Зины, боялась ее строгого отношения к людям, боялась ее резких быстрых, но всегда метких и чрезвычайно справедливых суждений. Но больше всего боялась она влияния тетки на Лику, тех же резких суждений могущих проявиться и у молодой девушки, которые были бы слишком странны для ее юных лет.
И вот, ей пришлось приятно ошибиться при первом же взгляде на добрую, нежную и мягкую Лику. Мария Александровна успокоилась сразу и прогнала от себя напрасные страхи. Идя под руку с Ликой по платформе Царскосельского вокзала она с горделивым чувством счастливой матери отвечала на поклоны знакомых и в то же время глаза ее говорили: «Не правда ли, как она хороша? Это – моя дочь! Моя Лика!»
– Лика! Вот и наши! Они приехали встретить тебя из Павловска, – заметив две знакомые мужские фигуры вдали, радостно проговорила Мария Александровна, нежно сжимая руку дочери.
– Ах!
Девушка ускорила шаг и почти бегом побежала навстречу приближающимся, но внезапно сообразив, что это не удобно, остановилась, подалась назад и стояла теперь с лицом, залитым краской смущения, розовая, юная, прелестная, как никогда.
– Petit papa? – робким застенчивым звуком сорвалось с ее губ, когда перед ней склонилась высокая, представительная фигура безукоризненно одетого в легкий летний костюм штатского, и она привстала на цыпочки, чтобы достать губами до его головы, с которой он снял шляпу.
– Petit papa! Как я рада!
– Chère [3] Лика! – Карский выпрямился, поцеловав несколько раз подряд нежные ручку и щечку падчерицы, и молодая девушка могла сейчас рассмотреть выразительное, несколько усталое лицо с тщательно выхоленными баками и честными, суровыми, чуть сощуренными глазами.
Мы будем друзьями, не правда ли, Лика? – произнес он снова, – я так люблю, так уважаю вашу маму, а вы ее дочь и этим сказано все.
– O Andre, [4] – вмешалась Мария Александровна, – говори «ты» Лике, – она ведь совсем еще дитя.
– Ça viendra avec le temps si elle, met le permet, [5] – любезно улыбаясь своей несколько холодной улыбкой, отвечал отчим.
– Лика злая! А меня ты не узнаешь?
– Боже мой! Толя! Ведь, Толя, правда?
И Лика протянула обе руки молоденькому пажу, который во все глаза смотрел на сестру.
Лика едва узнавала теперь в этом миловидном с черными усиками пажике своего десятилетнего братишку Толю, с которым она не раз, обманув бдительность мисс Пинч, потихоньку от старших играла в лошадки.
– Толя, милый Толя! – и она несколько раз подряд поцеловала брата.
– Постой! Постой! – с озабоченным видом остановил ее тот, – дай взглянуть на тебя хорошенько…
– Да какая же ты славненькая, сестренка! Настоящая красавица, совсем, как мама, право, вот тебе раз! – и он шутливо развел глазами.
И впрямь Лика была очень хороша собою. Снежно белое личико с тонким, породистым носиком, несколько припухлые розовые губки, большие, чистые, серые глаза, добро и мягко сияющие из-под темных прихотливо изогнутых бровей; длинные черные ресницы, делающие глаза значительнее и темнее; и целый сноп белокурых волос с золотистым отливом, все это давало одно чудесное и гармоничное целое. И при всем этом неподражаемая простота во всех движениях, бессознательная грация и какое-то врожденное благородство осанки дополняло ее существо.
– Премилая ты, милая сестреночка! – с искренним восторгом проговорил еще раз Анатолий, не спуская с сестры восхищенного взора, своих веселых, жизнерадостных глаз.
Но Лика почти не слышала и не чувствовала того, что происходило вокруг нее.
Словно во сне, как зачарованная, шла она, опираясь на руку брата, отвечая бессознательными улыбками на общие взгляды, обращенные к ней.
И снова сквозь тот же сон говорила она с кем-то, кого подвел ей отчим, пожимала чьи-то протянутые ей руки и улыбалась, но кому улыбалась она решительно не различала и не понимала сейчас.
В том же зачарованном сне провела Лика те три четверти часа, которые перенесли ее из Петербурга в Павловск, и очнулась только лишь перед решеткой, отделяющей их дачу от пыльного Павловского шоссе, расположенную совсем поблизости парка.
– Пойдем к Рен! – тут же предложил ей Толя и, подхватив сестру под руку, чуть ли не бегом помчался с нею по прямой, как стрела, усыпанной мелким гравием, дорожке сада.
Лика невольно отступила, смущенная неожиданностью встретить здесь в саду такое большое и блестящее общество.
На гладко утрамбованной садовой площадке, окаймленной со всех сторон зелеными лужайками, с коротко подстриженным на них изумрудным газоном, и усеянными здесь и там куртинами с душистыми садовыми цветами, гелиотропом, резедой, горошком, левкоем и розами, несколько человек играло в лаун-теннис. Высокая сетка разделяла площадку по самой средине на две равные части и вокруг этой сетки, по всем углам эспланады, группировались играющие.
Тут были два пажа, тоненький шатен и довольно плотный блондин, оба юноши по восемнадцатому году, товарищи Толи и длинный, как жердь, штатский в каком-то необычайном спортсменском костюме, позволявшем видеть его затянутые в шелковые чулки тощие ноги. Сам он имел очень надменное и самодовольное выражение лица, увенчанного рыжими баками и усами.
Не обратив внимания на присутствующих незнакомых людей, Лика так и впилась глазами в одну из двух барышень, находившихся тут же.
Сомнений не было. Подле мисс Пинч, ни мало, ни капли не изменившейся в эти восемь лет разлуки с Ликой, стояла старшая из сестер Горных. Впрочем, Лика скорее догадалась, нежели узнала сестру.
Высокая, с длинными костлявыми руками и ногами, с некрасивым надменным лицом и белокуро-пепельными, гладко зачесанными волосами, двадцатилетняя Ирина Горная казалась старше своих молодых, почти юных лет. Краски молодости, казалось, никогда не оживляли этого длинного лица; глаза давно потеряли свой детский радостный блеск, или даже вернее, и не были знакомы с тем ярким блеском, который так присущ молодости. На ней были надеты короткая клетчатая юбка и английская рубашечка с мужской крахмальной манишкой, заканчивавшейся тугим стоячим воротником с черным галстуком. На голове блинообразная спортсменская фуражка, на ногах желтые туфли без каблуков.
Помахивая рэкетом и сильно раскачиваясь на ходу, Ирина подошла к сестре.
– Очень рада! – процедила она сквозь зубы, сильно, энергично встряхивая худенькие пальчики Лики и, подставляя ей в то же время свои щеки для поцелуя. Потом, еще раз, проговорила уже по-английски: – очень рада тебя видеть, сестра!
– Реночка! Дорогая! Сколько лет не видались! – восторженно восклицала младшая Горная, покрывая лицо Ирины бесчисленными поцелуями.
Та спокойно выслушала это горячее приветствие, потом, обернувшись назад, в сторону играющих, негромко произнесла по-английски:
– Мисс Пинч! Это моя сестра Лика; вы не узнали ее?
Мисс Пинч, сухая, пожилая особа с тщательно причесанными седыми волосами, приблизилась ко вновь прибывшей и с любезным вниманием приветствовала ее.
– Это ваша сестра, Рен? – послышался в туже минуту за плечами Лики веселый молодой голосок, и перед ней предстало смеющееся, оживленное личико с потешным пуговицеобразным носиком, точно вспухшим ртом и крошечными черными, быстрыми как у мышат, глазками. – Бэтси Строганова, – отрекомендовало себя смеющееся существо, – собственно говоря, Лиза Строганова, если хотите, но Рен пожелала превратить меня в Бэтси, и я – самая ревностная поклонница и последовательница Рен, хотя столько же похожа на англичанку, как…
– Как я на любезнейшего мистера Чарли! – вставил не отходивший от сестры все это время Анатолий.
– Ах, оставьте, пожалуйста! – весело отмахнулась та; – вы отлично знаете, что я не то хотела сказать. А впрочем… – и, лукаво усмехнувшись всей своей забавной мордочкой, Бэтси добавила совсем уже серьезно: – Monsieur Толя! однако, представьте же m-lle Лике наше общество!
– Вы правы! – с новым шутливым поклоном подхватил Анатолий, – и я начинаю с вас. Елизавета Аркадьевна Строганова, так безжалостно превращенная в мисс Бэтси нашей достоуважаемой сестрицей, – достойный потомок тех знаменитых Строгановых, которые помогли Ермаку покорить Сибирь или которых покорил Кучум вместе с Сибирью… что-то в этом роде! – присовокупил молоденький паж, дурачась.
– Но вы невозможны, monsieur Анатоль, – захохотала Бэтси.
– Простите меня, мадемуазель! – серьезно-деловитым тоном заключил Анатолий.
– Барон Чарли Чарлевич, – минутой позднее продолжал он докладывать несколько смущенной всем этим шумом Лике, – барон Карл Карлович Остенгардт, – указывая на штатского, добавил он уже громко.
Длинный барон с чувством собственного достоинства почтительно поклонился молодой девушке.
– Мои закадычные друзья Боря Туманов и Федя Нольк, – продолжал Анатолий, подводя к сестре обоих своих друзей, пажей. – Теперь все мы, кажется, знакомы! – со вздохом облегчения проговорил молодой человек.
– Хотите партию? – продолжала маленькая Бэтси, протягивая Лике свой рэкет.
– Нет, нет, – поторопилась отказаться та, – если позволите, я буду лучше издали следить за игрою. Я несколько устала с дороги!
– А разве ты не хочешь переодеться? – шепотом спросила Рен, вскидывая на сестру свои бесцветные глаза.
– Разумеется! – поспешила ответить та.
Мисс Пинч предупредительно предложила свои услуги проводить Лику в ее комнату. Через две-три минуты она открыла молодой девушке какую-то дверь и Лика очутилась в прелестном гнездышке, обитом светло-розовым крепоном, с мебелью в стиле Помпадур, усеянной пестрыми букетиками по нежному розовому фону. Всюду, словно ненароком, были разбросаны крошечные по объему диваны, креслица, пуфы, ширмочки и козетки. Во всю комнату был разостлан пушистый ковер, в котором преобладали самые нежные цвета и оттенки. Небольшой с инкрустациями дамский письменный столик стоял у окна, наполовину завешанного белоснежною занавеской: в одном углу комнаты помещался задрапированный розового цвета материей прехорошенький туалет. В другом углу высился зеркальный шкаф; неподалеку от него находились ширмочки с изображениями маленьких маркиз и маркизов; ширмочки скрывали белоснежную кровать, отгороженную ими. И всюду: на этажерках, на туалете, на столиках – ютилась целая масса красивых безделушек из хрусталя, фарфора и бронзы.
Лика, привыкшая у тетки к простому, безо всякой роскоши образу жизни, молча отступила в удивлении и восторге при виде всех этих очаровательных вещиц. Ей даже диким показалось, что вся эта сказочно-красивая обстановка будет отныне принадлежать ей, одной ей; только она, а никто другой – обладательница всего этого очаровательного гнездышка, похожего на бомбоньерку.
– Ах, Господи! – могла только тихо проговорить Лика и, как ребенок, всплеснула руками.
– Что, крошка, нравится тебе все это? – послышался знакомый голос за нею, и Мария Александровна, успевшая уже переодеться во что-то чрезвычайно легкое, белое и изящное, протянула дочери обе руки.
Лика с жаром приникла к ним губами, целуя их.
– Я не знаю, как отблагодарить вас, мама! – горячо вырвалось у нее, – за все, что вы сделали мне.
– Очень рада, что, тебе нравится все это. Будуар отделан по моему вкусу. У княжны Столпиной точно также. Я хотела отделать так твое гнездышко в Петербурге, на городской квартире, но побоялась, что моя девочка почувствует себя неуютно на даче. Все это в город всегда можно перевезти. А здесь, по крайней мере, на первых порах тебе понравится твой уголок и ты почувствуешь себя хорошо и приятно в домашней обстановка.
– Ах, мама! Как вы можете так думать! Я и без этого… так ужасно счастлива вернуться домой и увидеть вас, мама, и всех наших!
– Милая девочка! – нежно пригладив выбившуюся прядь волос на голове Лики, произнесла Марья Александровна. – Однако, тебе следует переодеться, Лика. Я позвоню Фешу, она поможет нам.
Молодая, очень расторопная с виду горничная в ослепительно белом переднике и чепце появилась на пороге.
– Вы будете служить младшей барышне, Феша! – деловым тоном произнесла хозяйка дома.
– Слушаюсь, барыня! – почтительно отвечала девушка, в то же время бойким взглядом окинув фигуру Лики, как бы желая удостовериться сразу, какова будет ее молоденькая госпожа.
– Ах, ведь я и забыла. Мои вещи отправлены на городскую квартиру, – спохватилась вдруг Лика, – и мне не во что переодеться сейчас.
Мария Александровна чуть заметно улыбнулась с лукавым видом.
– Об этом мы здесь уже позаботились с Фешей, детка, без тебя, – успокоила она дочь, – я в письме к тете Зине осведомилась о мерке для твоих платьев и, получив ее, тотчас же заказала тебе заочно несколько костюмов на первое время, по крайней мере.
И, приказав горничной сейчас же принести все наряды, Мария Александровна нежно обняла бросившуюся ей на грудь Лику.
– Мамочка! Мамочка! Чем я заслужила все это? Господи! – восторженно лепетала та, осыпая шею, лицо и руки матери градом исступленных поцелуев, – подумайте только, я – точно скромная Сандрильона, которую добрая волшебница превращает в нарядную принцессу, по мановению волшебного жезла! Точно в сказке! Чем мне отблагодарить вас за все ваши заботы обо мне, мама? Скажите, чем?
– Чем? – и Мария Александровна чуть прищурила на дочь свои живые серые глаза, – люби меня немножко, чуточку люби, детка… ну, хоть наполовину меньше, нежели тетю Зину, и я буду вполне счастлива этим.
– Мама! – с искренним порывом вырвалось из груди Лики. – Боже мой, да кого же любить-то как не вас, мама, красавица моя!
– Да я вас и без всех ваших подарков всегда любила. И как любила-то еще. Господи! Как я постоянно думала о вас мама! Знаете ли, что вы мне всегда представлялись каким-то неземным существом, какою-то волшебницей, право! Доброй феей. Я всегда гордилась тем, что я – ваша дочь. Ангел мой! Когда синьор Виталио как-то сказал, глядя на вашу фотографическую карточку, что вы похожи на Мадонну, я поцеловала у него руку за это. Тетя Зина, помню еще, выбранила меня тогда за излишнюю экзальтированность и сентиментальность, но, если бы он еще раз сказал это, я еще раз поцеловала бы, да…
– Ты очень любишь тетю Зину, моя дорогая? – осторожно осведомилась у дочери Мария Александровна.
– Очень!
– Больше, чем меня?
– Как можете вы так говорить мама! – начала Лика, и ее голос дрогнул затаенными слезами.
– Люби меня, детка! Люби меня больше всех в мире, больше всех, моя Лика! – взволнованно произнесла Карская, привлекая молодую девушку к себе на грудь, – согрей меня твоим чувством, моя крошка, девочка моя ненаглядная! Дай мне это, чего я так долго была лишена.
– Мама, мама! А разве Рен и Толя?..
– Молчи! Молчи, Лика! Они правы, может быть, по своему. – Мои дети оба хорошие, добрые, милые, но они не умеют быть ласковыми вообще, а я так ищу детской, нежной ласки!
Глаза Марии Александровны увлажнились слезами; ее лицо раскраснелось. Она поднесла платок к глазам и тяжело дышала в ожидании ответа дочери.
– Мамочка! – вырвалось горячо из груди Лики сильным, дышащим неподкупным порывом молодости и чистоты, возгласом. – Никто, слышите ли, никто не сможет любить вас так, как я люблю вас. Вы так добры и прекрасны, так ласковы и нежны, чудная моя мамочка, и я так люблю вас, так сильно люблю!
– Лика моя, – растроганно произнесла Мария Александровна, – ты не поверишь, как много дала ты мне счастья и тепла своими словами! Господь да благословит тебя за это, моя милая девочка! О, мы будем с тобою большими друзьями! Не правда ли? Я чувствую это, я обрела, наконец, друга в моей дочурке, искреннего и не подкупного друга. Дорогая моя, незаменимая крошка! – и Мария Александровна поспешно стерла следы слез со своего красивого, доброго лица. Когда в комнату вошла Феша с целым ворохом юбок и лифов, она уже улыбалась привычной улыбкой светской женщины и, зорко следя за движениями горничной, с ловкостью и проворством раскидывавшей все эти воздушные костюмы и украшения по козеткам и креслам изящного будуара и уже совершенно лишенным недавнего волнения голосом произнесла:
– Ну! ну, посмотрим, что ты, выберешь одеть на сегодняшний день, моя милая девочка?
Но Лика, еще не успевшая опомниться от только что происшедшей сцены, еще исполненная сладкого чувства, горячего влечения к матери, стояла растерянная и взволнованная посреди этого царства кисеи, лент, воланов и кружев и устремив свой взгляд на красивое лицо матери, которое она так привыкла любить, за тысячи верст расстояния отсюда всем своим сердцем, всей душою.
Мария Александровна поймала этот любящий дочеринский взгляд девушки и снова ласково улыбнулась ей.
– Ну, ну, выбирай же, что тебе надеть сегодня, моя птичка, а то мы не покончим до самого вечера, пожалуй, с этим вопросом.
Но Лике было решительно все равно, во что бы ее не одели. Все казалось ей безразлично, все, что не касалось ее матери, ее чаровницы-матери, которой, не задумываясь, Лика отдала бы всю свою жизнь.
V
Яркое солнце заливало потоками света прелестную уютную комнату, когда на другой день Лика проснулась.
Из сада неслось звонкое веселое чириканье птиц, смешанное со звуками падающей воды искусственного каскада, устроенного неподалеку от окон ее чудесной комнатки.
Приятное сознание разом проникло в голову Лики. Она – дома.
Весь вчерашний день промчался, как вихрь, и ей не было времени сознательно проанализировать всю эту радость. После позднего обеда, на который были приглашены хохотунья Бэтси, оба товарища Анатолия и мистер Чарли, как его называла Рен, вся компания отправилась на музыку в сопровождении Марии Александровны. У Лики слегка шумело в голове от всей этой веселой суеты, французской болтовни и шуток брата.
Все казалось дивно-прекрасным и чарующим, как сказка для впечатлительной натуры молодой девушки.
На вокзале, где играла музыка, они заняли столик всей семьей со своими гостями и, весело болтая, пили чай. Но не больше, как через пять-десять минуть были окружены веселой толпою молодежи, преимущественно товарищей Анатолия и приятельницами Рен.
Вскоре в голове Лики произошла целая путаница от всех имен, отчеств и фамилий, которые ей нынче пришлось услышать.
Она улыбалась и кланялась, кланялась и улыбалась все время и ей было весело, приятно и хорошо сознавать себя центром собравшегося общества. И даже сегодня, лежа на своей свежей мягкой постельке, потягиваясь и поеживаясь в ней как котенок, в это ясное августовское утро, Лика не может отделаться от того сознания счастья, которое наполняет ее сердце теплой, нежной волною. Ничего подобного она не ожидала, едучи сюда домой в Россию.
Правда, в ее воспоминаниях осталась прежняя полная комфорта жизнь ее дома в детстве, но то, что она нашла здесь теперь, превзошло все ее ожидания.
Карские жили роскошно, богато и открыто принимая у себя в доме массу народа.
«Господи! Как хорошо! Как весело! – мысленно произносила в сотый раз Лика, впервые окунувшись накануне в светскую беспечную жизнь и вдруг, точно окаченная холодной водою, вся встрепенулась и затуманилась сразу. – А тетя Зина и ее напутствие? Что она сказала бы, заглянув сегодня сюда…»
Тетя Зина… да…
И перед мысленным взором Лики, как живой, предстал энергичный образ суровой и строгой на вид пожилой женщины с резким голосом и манерами, с речами, исполненными силы выражения и так несвойственными женщине, с прямым и неподкупным взглядом о долге и о человеческих обязанностях.
– Помни, Лика, – звучат сейчас снова эти речи в ушах девушки, – не трудно размякнуть и разнежиться, распустить подпруги и тащиться кое-как, спустя рукава в триумфальном шествии дешевых победителей, жизненных удовольствий, проводя время в праздности и безделье, моя девочка! Это самое легкое, что берется от жизни. Старайся достичь иного, трудного, настоящего, верного идеала. Стремись к свету, моя Лика! Не обращай внимания на роскошь и веселую праздность, которые будут непременно царить вокруг тебя, и думай об одном: как бы достичь совершенства… той точки совершенства, когда ты можешь спокойно сказать себе: да, я поработала вдоволь, и сколько могла и умела принесла пользу другим, а теперь могу взять и для себя самой у судьбы свою долю. Я заслужила ее вполне.
И тут же, рядом с голосом тетки слышит Лика и другой голос… Голос седого, как лунь, старого, но сильного и мощного духом синьора Внталио, своего далекого маэстро.
– К солнцу, Лика! К солнцу! Где свет его – там и свет науки, искусства и труда, главным образом, огромного самоотверженного труда на пользу человечества, сопряженного с милосердием – там счастье!..
– Да, там счастье! – мысленно воскликнула молодая девушка, – там счастье! Они правы оба, и я сделаю все, что могу, чтобы оправдать их доверие. И ты, тетечка, и вы, дорогой мой наставник, вы будете довольны мною, вашей Ликой! Да, да, довольны, сто раз довольны вашей девочкой! И вам не придется напоминать о том, что вы уже столько раз говорили мне!
И с этими мыслями девушка быстро вскочила с постели и стала проворно одеваться.
Вошедшая на звонок Феша была не сказанно удивлена, увидя почти готовой свою «младшую» барышню.
– Разве так еще рано, Феша? – в свою очередь изумилась Лика.
– Для кого как, барышня! – сдержанно и почтительно улыбнулась та; – оно по времени, пожалуй, что и не рано, как будто десятый час, на исходе. А только у нас это еще далеко не поздним временем, барышня, считается; мамаша к завтраку только из спальни выходят, барин давно уехали в город, Анатолий Валентинович на озере катается в лодке, по холодку…
– А Рен?
– Ирина Валентиновна еще с восьми часов с мисс Пинч на велосипедах отправились…
– Так рано?
– Обыкновенно-с… Оне ежедневно в семь часов какао кушают, и после того на утреннюю прогулку едут. А вернутся – гимнастикой занимаются… Да оне поди уж и вернулись, должно быть. Иван на дворе ихние машины сейчас чистит.
– Ну, так я пройду к сестре; как вы думаете, Феша, можно это? – осведомилась Лика.
– Можно, можно, потому как оне гимнастикой в этот час занимаются, – поспешила успокоить ее девушка.
Но Лика уже не слышала окончания слов своей разговорчивой служанки; через минуту она уже стояла перед дверью комнаты сестры.
– Войдите, – в ответ на ее стук отвечал из-за двери знакомый ей уже по звуку резкий голос Ирины.
Лика вошла. Рен стояла посреди комнаты с гирями в обеих руках, приподнятых над головою.
Ее комната резко отличалась от розового будуара Лики. Это было помещение о двух окнах с большим столом, заваленным книгами и брошюрами, преимущественно спортивного содержания на английском языке, с жесткою мебелью, и такой же постелью в одном углу и платяным шкафом в другом. Ни признака драпировок, ни мягких диванов и кресел, ни изящных украшений не было в этой строго выдержанной комнате, напоминавшей собою суровую келью монахини.
– Я не помешаю тебе? – спросила Лика, не без смущения взглядывая в лицо сестры.
– Ничуть. Садись, пожалуйста. У меня полчаса времени, – бегло взглянув сначала на циферблат висевших на стене часов, потом на Лику, произнесла Ирина.
– Очень рада тебя видеть, – добавила она голосом, ни чуть, однако, не обнаруживая при этом ни малейшей радости.
Лика села в жесткое кресло у стола и стала смотреть на сестру. На Рен была та же короткая клетчатая юбка, что и вчера, но вчерашнюю блузку заменяла другая, в виде матроски, выпущенной поверх пояса, очень широкая и удобная для гимнастики.
– Ты ежедневно делаешь гимнастику, Рен, каждое утро? – спросила Лика, чтобы как-нибудь прекратить наступившее молчание.
– Каждый день, разумеется.
– И тебе не скучно это?
– Я не признаю этого слова, – серьезно и строго, наставительным тоном произнесла Ирина, – оно раз и навсегда изгнано из моего обихода, понимаешь? Скучать может только разве одна праздность. Когда же день заполнен сполна, то нет ни время, ни возможности скучать.
– Значит, ты довольна вполне своею жизнью, Рен? – помолчав немного, снова спросила сестру Лика.
– Я изменила бы весь строй ее, если бы она мне не пришлась по вкусу. Ведь от самого человека зависит создать себе полезное и нужное существование, а для того, чтобы достичь такового, необходимо нужно прежде всего, приобрести…
– Самоудовлетворение, – живо подсказала Лика, – не правда ли? Ты это хотела сказать?
– О, нет! – далеко не так громко усмехнулась Ирина. – Мы еще не дошли до этого: надо приобрести методу, Лика. Понимаешь, методу! – и Рен еще более приподняла свои белесоватые брови, в знак важности произнесенного ею слова.
– Методу? – удивленно переспросила Лика.
– Ну да, то, что англичане так высоко ставят и ценят и за что я так высоко ценю англичан; именно, методу, заполнять свой день делом полезным для самой себя, распределенным ею по периодам для заранее избранных тобою и нужных, полезных для тебя занятий…
– Полезных для себя или для других, я не поняла тебя вполне? – прервала ее на миг Лика.
– Это – экзамен? – проронила Рен, вскинув на нее свои холодные глаза.
– Ах, нет, пожалуйста! – спохватилась младшая сестра. – Я не хотела тебя обидеть вовсе, прости Ириночка!
– Я и не обиделась, – хладнокровно отвечала старшая. – Видишь ли, ты все это найдешь невозможным варварством и эгоизмом как и мама, – тут Ирина поморщилась, сделав гримасу от усилия вытянуть свою вооруженную тяжелой гирей руку, – но я отрицаю всякую сентиментальность. Наша мама очень много занимается благотворительностью. Устраивает кружки, комитеты… Выискивает бедных и вообще широко проявляет свою благотворительную, так называемую филантропическую деятельность. А мне все это кажется пустым времяпрепровождением. Каждый человек обязан только думать о себе самом. А помогать жить другому, значит делать его слабым: ничтожным и решительно не снособным к труду. Вот мое искреннее мнение об этом деле.
– Но… но… – смущенно пролепетала Лика, – тогда многие бы умерли с голоду без помощи другого, если следовать по твоему примеру, Рен.
– Если им с детства твердить постоянно, что человеку надо надеяться только на самого себя и жить на собственные силы, а помощи ждать ему помимо не откуда, небось, приучатся к труду с малолетства, будут трудиться и работать, а стало быть, и сумеют просуществовать без чужой помощи.
– Какая жестокая теория! – прошептала Лика смущенно и печально.
– Для тех, кто не хочет и не умеет жить! – отозвалась ее старшая сестра. – А все вы, помогающие другим людям, как тетя Зина, твой учитель, ты сама, насколько вы увеличиваете только сами этим число ленивых и тунеядцев, которые, предоставляют другим заботиться о себе.
– Нет, нет, храни Господь поверить тому, что ты говоришь! – горячо вырвалось из груди Лики. – Я могу быть сама только тогда счастлива, когда счастливы другие вокруг меня. Иначе, лучше не жить, нежели быть эгоистом.
– Каждый живет для себя! Только для себя! – резко подтвердила старшая Горная.
– Рен! Ты какая-то странная, особенная, не такая как все. Я в первый раз слышу такие речи! Тетя Зина… – начала было смущенно Лика.
– Не я, а ты особенная с твоей тетей Зиной, вместе, – покраснев и теряя свое обычное на минуту спокойствие, вспыхнув, произнесла Рен.
– Скажи мне, пожалуйста, Лика, кто тебя научил таким странным, таким сентиментальным мыслям?
– Как, кто? Тетя Зина, синьор Виталио! – с детской горячностью произнесла Лика, – да и сама я с детства поняла, что жизнь для самой себя – эгоизм и скука.
– Ну, моя милая, советую тебе поскорее изменить свои взгляды. В нашем кругу, смею тебя уверить, они придутся совсем не ко двору… – усмехнулась Рен. – Однако, мне надо еще идти на партию крокета в сад, мистер Чарли и мисс Пинч должно быть уже давно ждут меня там, – бегло взглянув на часы, произнесла Ирина и с силой по-мужски пожала протянутую ей руку сестры.
Лика вскинула еще раз на нее удивительными глазами, тихо вздохнула и низко опустив голову, как виноватая, вышла из комнаты Рен.
VI
Две недели пролетели с тех пор, как младшая Горная вернулась под кровлю родительского дома, в круг родной семьи, две недели бестолковой сутолоки, праздной болтовни, постоянных приемов и недолгих часов одиночества за томиком французского или английского романа в руках. В этом, однако, не было вины Лики. Неоднократно собиралась молодая девушка поговорить с матерью о своих планах, открыть ей свои заветные мечты и поделиться ими с близким человеком. Но ее свиданья с Марией Александровной совпадали, как нарочно, в те часы, когда Лика не могла застать мать одну. По утрам Марья Александровна Карская вставала лишь к позднему завтраку, то есть к двум часам, в то время именно, когда дом уже кишел посторонними посетителями, приезжими из города родственниками и знакомыми. Впрочем, Лика и не особенно горевала покамест, уходя вся с головой в свое праздное бездействие.
«Вот переедем осенью в город, тогда все, все будет уже иначе. Можно и благотворительность, и пением заняться!» – неоднократно утешала она сама себя, чувствуя по временам острую тоску от такого пустого существования.
Однажды, возвратившись с музыки в свой розовый будуар-коробочку, молодая девушка нашла на своем письменном столике объемистый конверт с заграничной маркой.
«Венецианский штемпель. От тети Зины!» – мелькнуло вихрем в голове молодой девушки, и она дрожащими руками вскрыла конверт. С первых же строк этого объемистого письма Лику стало бросать от волнения то в жар, то в холод… Неприятное сосущее чувство недовольства собою, неловкость перед прямой и честной душой тети Зины наполнило до краев ее сердце.
«Что-то ты поделываешь, моя девочка? – писала ей тетка. – Надеюсь, не изменилась и старательно занимаешься пением по нашему уговору? Боюсь я одного, моя милая Лика, чтобы окружающая тебя теперь светская жизнь не засосала тебя в свою трясину. Она заманчива, привлекательна, дитя мое, с наружной стороны. Но какая в ней пустота, моя девочка, если бы ты знала только! Но я слишком уверена в тебе, моя Лика, чтобы могла серьезно беспокоиться и сильно волноваться за мою честную, умную, и вполне уравновешенную Лику, которая обещала своей старой тетке положить себя всю на пользу другим.
Я слишком уверена в тебе, слишком знакома с твоей чуткой душой, чтобы бояться за нее, Лика. Мишурный блеск не может заслонить от тебя сияния настоящего солнца, дорогая девочка.
Учись же, пополняй пробелы своего образования, не складывай рук, обессиленная праздностью, не изменивайся среди роскоши и довольства светской жизни.
Говорила ли ты с твоей мамой о твоем давнишнем намерении учить бедных ребятишек? Когда начнешь заниматься пением?.. Синьор Виталио велел передать тебе, что грех зарывать в землю талант, данный Богом. Но ты уже знаешь нашего доброго старика, знаешь его постоянные речи на эту тему и поэтому я не буду распространяться по этому поводу.
А у нас здесь персики отягощают чуть ли не до земли ветви деревьев. Я как-то ходила вчера на наше любимое место и вспоминала тебя, моя милая, моя славная, родная девочка. Помнишь ли ты тот вечер, моя Лика, когда ты пела впервые «Addio Napoli» [6] и когда синьор Виталио расцеловал тебя, сказав, что в твоем голосе кроется бесспорный талант, Божия искра.
Тогда была весна, Лика, и магнолии цвели и апельсинные деревья стояли все белые-белые, как невесты под фатою своих чудесных цветов.
Лика, Лика, моя девочка, помнишь ли ты также и ту весну, когда впервые сознала в себе острую потребность отдаться всем своим существом на пользу людям. Помни, Лика моя, – будут говорить кругом тебя: «один в поле не воин, одна ласточка не может сделать весны». Но, дитя, если каждая из нас проникнется общей идеей любви к беднякам и сознанием необходимости прийти им на помощь, отдать все свои силы на труд, работу и пользу людям, легче, поверь мне, станет жить не только тем, кому помогаешь, но и самой себе!!.»
– Да, да, да!
Безумный восторг, охватил снова Лику по прочтении этого письма. Чем-то теплым, ласковым, чудным и бодрым повеяло на нее от этих ласковых строчек…
– Да, да, да! именно, так и надо поступить, как пишет незабвенная тетя Зина. И как вовремя подоспело оно, это милое, родное письмо!
Как раз вовремя подоспело, когда Лику уже начал закруживать этот водоворот светской сутолоки, в котором утонули уже ее сестра и Толя, и все ее здешние знакомые, и который, действительно, способен заманить, втянуть в свою с виду соблазнительную и увлекательную пучину.
Нет, тысячу раз нет, он не осилит ее, не затянет ее, Лику!
И перед молодой девушкой мысленно встала та дивная весенняя ароматичная итальянская весна, о которой писала в своем письме тетя Зина, когда Лика впервые почувствовала, ощутила в себе эту жгучую потребность служить людям. Да, тогда была весна, теплая, ласковая, голубая… Пахло апельсинами и миндальными цветами… Море курилось серебряной дымкой, а в зеленой траве синели фиалки. И на террасе виллы она, Лика, поет свое «Addio Napoli»… И весна поет вместе с нею, и море, и фиалки. И самый воздух поет, ароматичный и чудо-прекрасный в этой благословенной южной стране.
Лика забылась в своем сладком дурмане! В голове встали грезы, а душа ее уже томилась и тосковала по звукам песен. Губы раскрылись, невольно, глаза заблестели и вдруг, неожиданно, розовая комнатка огласилась первыми звуками прекрасной, как мечта, неаполитанской песни.
Лика распахнула окно. Студеная волна ночного воздуха ворвалась в комнату. С вокзала долетали умирающие звуки музыки, с неба глядела луна, таинственная и точно робкая, под легкой дымкой облаков. «Addio Napoli», – пела Лика и, глядя на эту северную студеную ночь, на испещренное золотистыми бликами небо, на таинственный палевый месяц и молчаливо замерший в своей жуткой непроницаемости сад, она думала о другом небе, ясном и прозрачном, о других ночах, благовонных и горячих ночах юга…
В саду под самыми окнами Лики блеснул огонек сигары…
– Лика! – послышался чей-то не громкий голос.
Девушка разом отпрянула от окна. Песнь круто оборвалась, замолкла, неоконченная, на полуслове.
– Это – я, Лика, не бойтесь… – и Андрей Васильевич Карский выступил из тени в полосу лунного света.
– Ах, это вы, petit papa! А я не узнала вас! Думала чужой! – произнесла Лика дрогнувшим голосом.
– А вы хотели бы увидеть вместо меня волшебника той дивной страны, о которой вы так очаровательно сейчас пели? Но какой у вас голос, Лика! Я и не воображал и не подозревал даже, что вы поете, как настоящая певица.
– Я училась три года пению! – скромно отвечала ему Лика.
– Но вы поете бесподобно, как никто. Я ничего подобного не слышал вне сцены театра. Однако послушайте, Лика, вам сейчас еще не хочется спать, – спросил отчим и не дожидаясь ее ответа, прибавил: – накиньте что-нибудь на плечи потеплее и сойдите в сад. Мы потолкуем с вами.
– С удовольствтем, – вскричала Лика, обрадованная как ребенок возможностью найти собеседника, и через минуту вышла к отчиму, закутанная в белый оренбургский платок.
Он взглянул на нее и улыбнулся.
– О чем вы, papa? – изумилась она.
– Знаете ли, Лика, на кого вы похожи так? На какую-нибудь белую виллису скандинавской древней саги или фею волшебной страны. Но, впрочем, оставим фантазии! Я нахожу, что вы сегодня совсем иная, нежели всегда.
– И вы тоже иной, papa, совсем иной, нежели прежде, – в тон ему отвечала падчерица.
– То есть? – изумленно приподнял свои строгие брови отчим.
– Вы не рассердитесь, если я буду откровенна с вами? Не обидитесь на меня? – и Лика, нежно прижавшись к нему, продернула ему под руку свою тонкую ручку.
– Можно ли сердиться на вас, Лика. Вы сама – доброта.
– Ну, так слушайте же, что я буду говорить вам. Вы сегодня совсем, совсем иной, чем эти две недели, что я вас знаю. Вы всегда такой деловой, такой озабоченный, и строгий, как в министерстве. Вид у вас такой замкнутый, такой серьезной, какой-то непроницаемый, сказала бы я… И, когда вы с гостями даже или на музыке, от вас холодком веет, деловым холодком.
– Что поделаешь! Я – «человек портфеля», как про меня весьма остроумно выразился один шутник. У меня своя система жизни.
– Ха, ха, ха! – звонко расхохоталась Лика и ее смех так и прорезал восстановившуюся было тишь мглистой осенней ночи. – У вас система, у Рен – метода, Господи, что за люди такие собрались! А по-моему – жить «по мерке» – ужас.
Тут смех ее разом прервался и сама она нервно вздрогнула, кутаясь в платок.
– А вы как понимаете жизнь, Лика?
– О, совсем, совсем иначе! Я бессистемная какая-то, papa, право, – и она рассмеялась, – я понимаю жизнь…
– В вечном празднике и в погоне за удовольствиями. Не так ли? – подсказал отчим.
– Бог с вами, papa! – и Лика с нескрываемым негодованием блеснула на спутника своими большими глазами, – я хотела бы жить исключительно для других, хотела бы стать нужной, необходимой людям, хотела бы сделать многих счастливыми кругом… и потом трудиться, учиться, самосовершенствоваться… Я хотела бы отдать свое лучшее «я» тем, кто нуждается в этом.
– Вы, значит, хотите заняться делами милосердия… да? – ласково обратился к ней с вопросом отчим…
– Да, да, это – главное, – горячо сорвалось у нее. – Вы знаете, papa: стыдно бездействовать и купаться в довольстве, когда… Ах, Господи… нужды бедноты, лишений кругом сколько, ужас! Заграницей бедность не так сильно бьет в глаза. Они все там изворотливы, как кошки, и умеют устроиться. А у нас эти жалкие лачуги в дебрях России, этот хлеб с мякиной и песком… и полное невежество в глуши, незнакомство с букварем, с грамотой. – Конечно, я не видела всего этого, а по книгам и по словам тети Зины знаю много, очень много.
– А, а, вот она, ваша капризница тетушка, всегда недовольная ничем! – пошутил Андрей Васильевич.
– Тетя Зина не то, что о ней думают, – строго остановила его Лика. – Вы ее не поняли. У нее одна жажда, стремление увидеть все у нас в России, так же благоустроенно и хорошо, как и заграницей.
– И потому-то она и заперлась в Италии и не показывается сюда, – снова своим обычным ледяным тоном проронил Карский.
– Papa! – совсем уже серьезно произнесла Лика, – вы и не подозреваете сколько она делает тайного добра людям. Она отрывает от себя больную часть своей души, больную от людских нужд и горя, но переменить жизнь ей не под силу. Она уже старушка, моя тетя Зина! – пылко вырвалось из груди Лики. – Ведь под конец жизни очень трудно менять свои привычки на старости лет. – Я же, хочу дела, большого, огромного, чтобы всю меня захватило оно, всю без изъятия. Я не могу довольствоваться долей светской барышни, я не могу всю себя передать спорту, как Рен и всегда веселиться, как Толя, я хочу иного, поймите? Мне с мамой не приходилось говорить об этом. Да и потом, у мамы свои взгляды. Она предложила мне заниматься кроме моего пения английским языком и рисованием по фарфору или выжиганием, чтобы убить время. Но я не хочу его убивать. Оно мне нужно, как святыня, нужно. У меня голос, хороший голос; синьор Виталио сумел эксплуатировать свой голос на пользу других, я хочу так же идти по его стопам, я выступала в Милане и помогла несчастным своим концертом. И тут я могу так же… тем же способом, если…
– Это не удобно, Лика, – прервал девушку Карский, – вы барышня из общества, из большого свъта. Приходится считаться с этим. А, впрочем, – мама устраивает какой-то концерт в-пользу их общества.
– Какого общества?
– Филантропического общества, в котором принцесса Е. председательницей. Ваша мама ее помощница. Общество носит название «Защиты детей от жестокого обращения».
– Как, у мамы есть общество? И она ни слова не сказала мне, моя голубушка, об этом! – горячо воскликнула Лика. – Боже мой! – да ведь я и там могу работать. Papa! Позволит мне это мама, как вы думаете? А?
– Разумеется. Я поговорю с нею, если вы уполномочиваете меня, Лика.
– И потом еще, – заторопилась молодая девушка, – этого мало… Я хотела бы где-нибудь в захолустье школу основать… но только, чтобы самой там учить. Около «Нескучного», мне говорила тетя, есть такие деревушки; избы там у них бедные-прибедные, закоптелые, детвора там бегает без призора, чуть ли не нагая… Тетя Зина говорила…
– Ох уж эта нам тетя Зина! – смеясь погрозил Карский, а затем сочувственно, пожав ручку Лике и еще раз пообещав поговорить о ней с матерью, проводил ее до крыльца.
– Какой он славный и совсем, совсем не строгий, как я думала прежде, – решила девушка пока шаги отчима затихали в отдалении. – А я еще боялась его! И как он меня понял скоро! Милый, хороший, славный petit papa!
VII
Было около двух часов солнечного сентябрьского дня, когда Карская, в сопровождении Лики, поднималась по застланной коврами лестнице, ведущей в роскошное помещение большого дома особняка на Милионной, где жили две пожилые двоюродные сестры, две светские барышни, княжны Столпины. Обеих звали одинаково Дарьями, и обе имели сокращенные имена Дэви в большом свете. Обе княжны Дэви были большие филантропки и им исключительно принадлежала благая мысль устройства общества «защиты детей от жестокого обращения». Обе княжны Дэви очень гордились своим делом. Им посчастливило привлечь в председательницы высокую попечительницу принцессу Е., в члены общества многих светских дам и барышень из лучших семейств.
– Мы выбрали неудобное время для нашего заседания, однако, – произнесла Мария Александровна, когда она и Лика остановились перед большим трюмо в княжеском вестибюле, чтобы поправить шляпы, – теперь не «сезон» и большая часть публики, многие члены нашего общества разъехались в Крым и заграницу, присутствовать будут очень не многие из дам. А главное, жаль, что не придется тебя представить принцессе Е.; она прибудет в Петербург только в октябрь месяце… А то мне очень кстати было бы похвастать своей хорошенькой дочуркой, – улыбкой закончила Карская эту маленькую тираду.
Лика вся смущенная похвалою матери и предстоящим ей новым знакомством со светским обществом, только молча ласково-ласково улыбнулась в ответ на слова Марии Александровны.
Посреди большого, светлого зала, посреди которого стоял длиннейший стол, покрытый зеленым сукном, сидело большое дамское общество.
Лика с матерью немного опоздали на заседание, которое уже началось.
– Мы думали, что вы не будете и уже отчаивались вас видеть. Bonjour, madame! O, la belle creature! C’est mademoiselle votre file, u’est-ce pas? Mais eu voils beauté, a perdre la tête, [7] – полетели им навстречу приветливые любезные возгласы.
– Можно вас поцеловать, малютка? – и маленькая полная пожилая, но подвижная чрезвычайно женщина, лет сорока пяти, заключила смущенную Лику в свои объятья. – Княжна Дэви старшая, – предупредительно отрекомендовалась она молодой девушке, – и вот княжна Дэви младшая, моя кузина, – быстро подведя Лику к красивой смуглой тоже пожилой даме с усталым печальным лицом добавила – Прошу нас любить и жаловать, как своих друзей.
– Покажите-ка мне ее, моя красавица, покажите-ка мне сокровище ваше! – послышался в тот же миг с противоположного конца стола громогласный, совсем не женский по своему низкому тембру голос.
Лика вздрогнула от неожиданности и подняла глаза на говорившую.
Это была громадного роста женщина с совершенно седыми волосами, с крупным некрасивым лицом, полным энергии, ума и какой-то, как бы светящейся в нем, ласковой необычайной доброты.
– Баронесса Циммерванд! – спешно шепнула Лике княжна Дэви старшая и подвела девушку к баронессе.
– Славная у вас девочка, моя красавица! – одобрительно загудел по адресу Марии Александровны бас титулованной великанши. – Хотелось бы мне очень, чтобы она с моими Таней и Машей знакомство свела покороче. А то они уже со старыми подругами и все переговорить, да и поссориться успели!
– Ах, maman! – в один голос, как по команде, соскочило с губ двух уже не молодых барышень, с нескрываемым недовольством вперивших в лицо матери свои вспыхнувшие смущением глазки, – вы уж скажете, тоже!
Лика сконфуженно пожала руку обеим баронессам и поспешила подойти к крошечной старушке с собачкой на руках. Эта старушка, как узнала Лика из слов княжны Дэви старшей, была отставная фрейлина большого двора, жившая теперь на покое. Звали ее Анна Дмитриевна Гончарина.
По соседству с нею сидела высокая, длинная и худая девушка, племянница ее, Нэд Гончарина, отравлявшая всем и каждому существование своим злым языком. Она сухо приветствовала Лику.
Обойдя прочих дам, молоденькая Горная опустилась на указанное ей место между худенькой Нэд и княжной Дэви старшей, понравившейся ей сразу своим симпатично грустным видом и большими печальными глазами.
Княжна Дэви старшая позвонила в серебряный колокольчик, заявляя этим, что заседание открыто.
– А князь Гарин? Разве он не будет? – спросила Мария Александровна, вопросительным взором обводя собравшееся общество. – Он так занят своей приемной дочуркой, этой маленькой дикаркой, что благодаря ей частенько манкирует своими обязанностями.
– Это – наш секретарь князь Гарин, – пояснила Лике ее соседка и племянница баронессы Циммерванд.
– С некоторых пор он совершенно игнорирует нашим обществом, – недовольным голосом произнесла баронесса. – Заперся дома и всячески ублажает свою дикую маленькую воспитанницу.
– Вы правы как и всегда, ma tante! Сейчас только убеждал Хану заняться французским чтением с ее гувернанткой! – произнес с порога залы красивый мужской голос.
– «Точно поет!» – разом мелькнула быстрая мысль в голове Лики при первых же звуках этого голоса, и она подняла глаза на говорившего.
Это был невысокий, тонкий и чрезвычайно изящный человек лет сорока в безукоризненно сидевшем фраке, с сильною проседью в волнистых волосах, с ясным смелым и добрым взором больших темных глаз, с несколько усталой усмешкой и опущенными углами рта, и с какою-то тихой печалью в чертах лица, во взгляде и в самой этой усмешке.
Когда Гарин улыбнулся, показав ослепительно белые зубы, Лике он напомнил синьора Виталио, ее далекого друга.
– Тетушка-баронесса права, я действительно был занят Ханой все это время! – повторил еще раз князь, входя в комнату и красивым движением головы и стана склонился в одном общем поклоне перед дамами. Потом он бросил портфель, который держал в руке, на сукно стола и тут только, заметя Лику, поклонился ей отдельно, официальным поклоном незнакомого человека, который в силу необходимости обязан быть представленным ей.
– Князь Гарин! – произнесла соседка Лики, в то время когда девушка отвечала смущенным наклонением головки в ответ на его молчаливое приветствие.
«Это – тот самый, который поет так хорошо», – вспомнила Лика относящиеся к князю слова ее брата Анатолия.
Несколько дней тому назад, когда дело концерта в пользу общества было уже решено и Мария Александровна дала свое согласие Лике участвовать в нем. Анатолий, стараясь успокоить светскую щепетильность матери, сказал:
– Отчего бы и не выступить Лике в качестве певицы, я не понимаю. Ведь сам князь Гарин – настоящий аристократ по крови и рождению, а дал вам свое согласие, мама, участвовать со своими песнями в вашем концерте, – и тут же попутно рассказал своей сестре, как дивно поет эти песни князь Гарин, каким успехом пользуются они у избранной публики их круга.
Лике князь понравился сразу своим открытым добрым лицом и смелыми проницательными глазами, где было много открытого благородства, честности и доброты. Баронесса Циммерванд ласково поглядывала на своего племянника.
– Утомился, небось, с Ханой. Все балуешь свою любимицу, вот и поделом тебе! Назвался груздем – полезай в корзину… – проговорила она шутливо, похлопывая по плечу князя.
– В кузов! – в один голос поправили ее обе юные баронессы, ее дочери.
– Ну и в кузов! – ворчливо пробурчала их мать своим басом, – точно я не знаю сама, что в кузов. Обрадовались, что мать в ошибке уличить могли. Вы, детка, не удивляйтесь, – неожиданно обратилась она к Лике, – что они меня ловят на словах. У меня хоть и фамилия немецкая, да и супруг – настоящий немецкий барон, а я вот взяла да и стала на зло всему – русскою. Щи да кашу люблю до смерти, габерзуппы немецкие разные и всякие там миндальности терпеть не могу, а по-немецки знаю два слова лишь: Donnervetter (гром и молния) да «клякспапир» еще, и ничегошеньки больше. Честное слово.
– Клякспапир – не немецкое слово, – пискнула одна из баронесс, которую звали Машенькой.
– Эх, умна! Эх, умна, матушка! – так и набросилась старуха Циммерванд на дочку, в то время как князь Гарин, обе княжны Столпины и Лика громко и весело рассмеялись шутке старухи.
– Silense, [8] mesdames! – внезапно прозвучал голос Марии Александровны, занимавшей сегодня место отсутствующей председательницы, принцессы Е.
Князь Гарин встал со своего места и прочел месячный отчет общества. Потом стали обсуждать дела о приеме в него многих детей, которых за последние дни отобрали у их хозяек и родственников, дурно обращавшихся с ними.
В ушах Лики замелькали имена и фамилии то смешные, то звучные и красивые, то самые обыкновенные, каких можно много встретить на каждом шагу.
– Двадцать человек детей! – присовокупил секретарь общества, закончив чтение отчета.
– Вы справлялись насчет их бумаг, князь? – спросила его старшая из хозяек дома.
– Как же, как же! Был даже лично, – поклонившись в ее сторону по-французски ответил тот.
– А ты по-русски говори. Нечего тут французить. Господи! совсем они все свой родной язык загнали! – накинулась на него неугомонная баронесса. – Что это? Минуты без французского кваканья прожить не могут, – возмущалась она ни то шутливо, ни то серьезно.
– Слушаю, ваше превосходительство! – вытягиваясь в струнку перед теткой, шутя отрапортовал племянник.
– А есть дети, которые сами пришли, Арсений? – обратилась княжна Дэви старшая, повернув голову к высокому представительному лакею, обносившему в эту минуту чаем общество, помещавшееся за столом.
– Есть, ваше сиятельство, как же! Мещанка Федосья Архипова в кухне дожидается, сидит. Просит позволения войти. Девочка, этак лет четырнадцати, от «мадамы» убегла, от модистки… Говорит били ее там шибко, жизни не рада была своей.
– Зови же ее, Арсений! Зови скорей! – приказала княгиня Дэви лакею.
Тот бесшумно удалился, ступая по ковру мягкими подошвами, и через минуту снова появился в сопровождении чрезвычайно миловидной девочки с наивным бледным личиком и испуганными детскими глазами.
– Какая хорошенькая! – успела шепнуть княжна Дэви младшая, наклонившись к уху Лики. – Просто картинка! И такую бедняжку они могли обидеть!
Однако, «картинка» была далеко не в приятном настроении духа от внимания стольких нарядных и важных барынь. Она пугливо смотрела на них изподлобья своими детскими глазами и, то и дело закрываясь рукавом кофты, стыдливо краснела и потупляла глаза.
– Не бойся, милая, подойди сюда, – ласково обратилась к ней хозяйка дома.
Но Феня Архипова только метнула на нарядную барыню тем же смущенным и испуганным взором и приблизилась лишь по новому приглашению к зеленому столу.
– Как тебя зовут, мой голубчик? – обратилась к Фене Архиповой, княжна Дэви старшая.
– Федосьей-с, Феней звать, – отвечала та и вспыхнула до корней волос.
– Чем недовольна, на что нам жалуешься, голубушка? – обратилась Мария Александровна к Архиповой.
По свеженькому личику Фени пробежала судорога; оно разом искривилось в плачущую гримасу, и прежде чем кто-либо мог того ожидать, девочка с громким рыданием упала к ногам старшей княжны, сидевшей у края стола, и запричитала, всхлипывая, как маленький обиженный ребенок:
– Барыня… голубушка… родненькая… да, что же это такое! Да сколько же времени это продолжаться будет. Господи! Что за напасть такая! Ведь били меня, так били у мадамы нашей, чуть что не пондравится ей самой, али мастерицам, за волосы, либо за ухо трепали. А реветь зачнешь, еще того хуже осерчает хозяйка, грозилась и вовсе в гроб вогнать… Ну я и прибежала сюды, значит, потому, как слыхала, что заступятся здесь, – всхлипывала Феня.
– А что же ты слышала? – вмешалась старая баронесса, обращаясь к девушке.
Плач Фени разом прервался. Глаза блеснули, она поборола остаток робости и смущения и, доверчиво взглянув на старуху, она сказала:
– Слыхала, значит, как при мне у мадаминых заказчиц разговор был, что барыни ласковые «обчество» собирают такое, в котором обиженных детей в приют определяют, али на места. Услыхала, значит, и побегла сюда кряду, тишком побегла, чтобы никто не узнал. Думала не здеся, выгонят, – чуть слышно закончила девочка свою сбивчивую, расстроенную речь и вдруг бухнула снова на колени и снова заголосила истошным голосом.
– Барыньки! Миленькие! Хорошие, пригожие, – не гоните меня отселева. Дайте мне от колотушек и щипков отойти; заступитесь за меня, ласковые, хорошие! Места живого на мне нет, вся в синяках хожу от щипков да палок. Господа милостивцы, заставьте за себя Бога молить! Родненькие! Добренькие! Заступницы вы наши! – и совсем припав лбом к паркету, Феня пуще зарыдала отчаянными рыданиями измученного, в конец обездоленного, ребенка.
Все присутствующие были очень потрясены и взволнованы этим неподдельным порывом детского горя.
Старая баронесса Циммерванд налила воды из графина в стакан, стоявший тут же на столе и подала его своему племяннику Гарину. Тот встал со своего места и передал воду плачущей девочке.
Мария Александровна, сочувственно покачивая головою, первая прервала молчание.
– Mesdames et monsieur, – прозвучал под сводами нарядной большой комнаты ее звучный, красивый голос. Она обвела всех присутствующих взволнованным взглядом. – Эта бедная девочка нуждается в немедленной защите. Нам необходимо записать все то, что она сейчас говорила здесь, необходимо тотчас же навести подробные, верные справки, о жестоком обращении с ней хозяйки мастерской и ее помощниц.
– Непременно навести справки, – в один голос произнесли обе княжны Дэви, а за ними и остальные дамы.
– Успокойся, девочка, – обратилась затем старшая княжна к продолжавшей все еще плакать и всхлипывать Фене, – утри свои слезы и возвращайся с Богом в мастерскую, а завтра мы пришлем полицию к твоей хозяйке. Поедет князь наш секретарь за тобою и велит сделать протокол о дурном с тобою обращении. А затем возьмет тебя уже оттуда совсем и ты уже никогда туда не вернешься больше.
– Да, да, – глухим старческим голосом проговорила фрейлина, тетка Нэд, – ты потом туда никогда уже не вернешься больше. Иди же с Богом, крошка, и да хранит Он тебя!
При этих словах Феня снова округлившимися от ужаса глазами взглянула на теснившихся за зеленым столом присутствующих.
– Как назад? – проронили ее побелевшие губы, – да как же я могу назад то таперича вертаться? Да она, хозяйка моя, до полусмерти изобьет меня, лиходейка, за то, что без спросу от нее убегла.
– Что ты! Что ты, девочка! Да кто же ей позволит сделать это! – произнесла Мария Александровна, гладя Феню по головке, – да мы Арсения с тобой снарядим в мастерскую. Она не посмеет пальцем тронуть тебя, не то, чтобы бить.
– Как же не посмеет! – неожиданно резко, почти в голос выкрикнула Феня, – так и спросила она позволения у вас! До смерти заколотит таперича, до утра не дожить мне, коли к ней вернуться!
И она опять запричитала слезливым, протяжным голосом, плаксиво растягивая отдельные слова:
– Барыньки, голубоньки, милые, родненькие… Оставьте вы меня у себя здесь… Ради Христа Спасителя, я на кухне побуду, убирать посуду повару пособлю… Я умеющая, ни какая-нибудь лентяйка, не дармоедка какая! Вот вам Христос, заслужу вам за вашу доброту.
Все молча потупились при этих словах взволнованной девочки. Всем было бесконечно жаль Феню.
Никто ни высказывал волновавших в эти минуты душевных настроений, но далеко неспокойно было в сердцах всех собравшихся здесь людей.
Бледная, без кровинки в лице, сидела Лика на своем месте. В продолжении всей этой тяжелой сцены, она была как на иголках. Ей было бесконечно жаль эту бедную жалкую плачущую Феню, и она искренно негодовала в глубине души на всякие правила и уставы общества, которые мешали вырвать сразу маленькую жертву из рук ее мучителей.
Когда же бедная девочка вне себя от волнения зарыдала еще громче, еще сильнее, сердце Лики замерло от боли сострадания и жалости к ней.
Какая-то горячая волна прилила к сердцу молодой девушки и захлестнула ее с головою. Какое-то мучительное чувство, нестерпимое по своей остроте переживаний заставило Лику привстать со своего места и задыхаясь, не помня себя проговорить:
– Ах, нет! Нет! Не делайте этого, не делайте, ради Бога! Это жестоко! не надо ждать до завтра! Оставьте ее сегодня у вас!
– Явите такую Божескую милость, не отсылайте никуда отседа! – эхом отозвалась и Феня, и в ожидании ответа, слезливо заморгала припухшими, красными от слез веками.
Худая, тонкая Нэд теперь поднялась со своего места:
– Ты просишь чересчур многого уже, моя милая! – проговорила она сухим деревянным голосом обращаясь к Фене, – не забудь, что наше общество должно твердо выполнять раз и навсегда установленное правило: прежде нежели взять откуда бы то ни было обиженного злыми людьми ребенка, мы должны навести справки о нем, затем отправить дитя к его «обидчикам» для составления протокола и тогда только можно будет взять тебя от твоих угнетателей, тогда, но не раньше! – ледяным тоном заключила она.
– Убьет она меня, бесприменно убьет, – скажет: «Господам нажалилась, потихоньку от меня бегаешь, так-то» и забьет до смерти, пока что, до завтра-то, – не слушая никаких доводов и увещаний, по-прежнему шептала в смертельной тоске Феня.
– Ах, какая ты скучная, однако, девочка, – вмешалась сидевшая княжна Дэви, – сказано тебе: ты можешь идти спокойно, тебя проводит лакей и пристращает твою хозяйку, а завтра…
Но Феня и не дослушала того, что ей обещано было княжною завтра. Жестом отчаяния всплеснула она руками и крикнула уже в голос:
– Увидите, до смерти забьет она меня! – и как безумная бегом бросилась из залы заседания.
Гробовое молчание воцарилось в зале после ее ухода. Все дамы застыли, как мраморные изваяния, на своих местах. Темные брови высоко поднялись на красивом лице Марьи Александровны Карской, и Лика услышала, сдержанное: – «Какая мука» долетевшее до ее ушей. Что было потом, Лика едва ли запомнила впоследствии… Волнуясь и спеша, она снова поднялась со своего места, сознавая только одно: она не могла молчать. Ей надо было высказаться во что бы то ни стало. Волна, прихлынувшая бушующим потоком к сердцу молодой дъвушки, окончательно поглотила ее. Дрожащая, бледная стояла она теперь, опираясь руками о края зеленого стола и из ее маленького ротика внезапно полилась горячая речь в защиту убежавшей из зала Фени:
– Так нельзя! Нельзя! – захваченная своим волнением, пылко говорила, торопясь и несказанно горячась Лика: – вы доводите до полного отчаяния таким отказом бедную девочку. Поймите одно: она же говорила, ей нельзя возвращаться в мастерскую, хозяйка ее там прибьет до смерти. Кто знает? еще могут ее искалечить побоями. Ведь она просила, ах, как просила оставить ее здесь… Верните же ее… нельзя ее пускать! Господи! Господи! как страшно все это! До полусмерти забьют неповинного ребенка. Что тогда будет со всеми нами? Да наша совесть замучает нас всех, членов общества защиты от жестокого обращения с детьми! Разве мы ее защитили, эту Феню? Разве мы сделали для нее все, что надо было… Завтра уже может быть поздно будет. Завтра. Да если бы я, кажется… Господи… не знаю только, только…
Лика не договорила. Крупные слезы, все время наполнявшие ее большие серые глаза, медленно выкатились из них и повисли на длинных ресницах.
Едва только она закончила свою так неожиданно вырвавшуюся из уст ее пылкую речь, как тотчас же, вслед за нею загудел могучий бас баронессы Циммерванд, в свою очередь с волнением ловившей каждое слово молодой девушки.
– Пойди ты ко мне, моя прелесть, дай ты мне, старухе, как следует расцеловать тебя! – и когда золотистая головка Лики прильнула к ее могучей груди, великанша продолжала гудеть своим неописуемым басом, оглядывая собрание торжествующими и умиленными в одно и тоже время глазами: – А ведь она права. Устами детей Сам Господь глаголет! Девочка, ребенок, всех нас, взрослых да старых, уму-разуму научила. Мы тут бобы разводим, тути-фрутти всякие, а там молодые жизни гибнут. Куда как хорошо!
– Девочка моя! – обратилась она к смущенной Лике, – большое тебе спасибо, что ты меня, старуху глупую, уму-разуму научила! Ведь и я тоже… против Фени этой грешна была, а ты мне точно страницу из Евангелия прочла, как мне поступать велено. Ах ты, умница моя, родная!
– Арсений! Что эта девочка, не ушла еще? – обратилась она к почтительно склонившемуся пред нею лакею.
– Никак нет-с, ваше превосходительство, она здесь, еще на кухне!
– Так подавай нам ее сюда да скажи ей по дороге, кто за нее ходатайствовал, – обрадовалась и заторопилась старая баронесса.
– Слушаю-с!
И Арсений вышел, мягко шурша подошвами.
– Ну, что притихли? – снова обратилась старуха ко всему действительно притихшему обществу, – не по-формальному, не по-законному Циммервандша поступила скажете? а? «сбрендила»? на старости лет старуха? – Да, пусть «сбрендила», по вашему по-законному вышло. Что делать? Что делать, друзья мои! Еще раз повторяю, устами детей сам Бог… – она не договорила, махнула рукой и повернула голову к двери, на пороге которой уже стояла Феня. Баронесса улыбнулась девочке своей доброй улыбкой: – Вот твоя ходатайша, благодари ее! – и она указала рукой ребенку на смущенную Лику.
– Барышня моя золотая! Ангел вы мой! Спасительница! всю мою жисть неустанно за вас Богу молиться буду. Спаси вас Господи, – снова залепетала Феня и, как сноп, рухнула к ногам Лики.
– Господи! Ей худо! Худо ей! Помогите, – взволнованно пролепетала испуганная девушка, – ах, Боже мой, какое несчастье! Воды! Капель… Феня! Феня… Что ты!
Лика сама была близка к обмороку в эту минуту от потрясающего ее волнения. Почва точно уходила из-под ее ног, голова кружилась. Ей хотелось и плакать и смеяться в одно и то же время.
Все переживаемое ею давало себя сильно чувствовать молодой девушке.
– Успокойтесь! – вдруг раздался звучный мужской голос над ухом Лики, – вот вода! Выпейте! Она вас несомненно успокоит, бедное дитя! – и чья-то рука протянула ей стакан, до краев наполненный водою.
Лика повернула голову и встретилась глазами с князем Гариным.
– Благодарю вас, – тихо, чуть слышно прошептала она.
– Нет, уж не вам, мне, старику, позвольте лучше поблагодарить вас, дорогое дитя, – произнес он своим певучим красивым голосом, – за то, что познакомили меня сегодня с настоящим драгоценным порывом настоящей русской души! – и низко склонив перед вспыхнувшей до ушей Ликой свою красивую седеющую голову, князь отдал всем короткий общий поклон и исчез за толпою окружавших Лику дам из глаз девушки.
В ту же минуту Лика услышала взволнованный голос матери, и перед ней предстало нахмуренное лицо бледной Марии Александровны со следами явного волнения на нем.
Лика едва узнала в нем прежнее, всегда обаятельное, чудно ласковое лицо прежней ее чаровницы мамы.
От Марии Александровны как бы веяло ледяным холодом. Что-то суровое залегло между бровями.
– Pardon! – еще раз сухо проронила едва пробираясь сквозь толпу дам к креслу дочери. Потом взяла под руку Лику и вывела ее из залы.
На пороге вестибюля их догнала великанша баронесса.
– Послушайте, chere ami, вы должны привести ко мне вашу прелестную девчурку! – прогудела она вслед им своим неподражаемым басом.
– Что за ужас вы выкинули сегодня! – словно чужим, деревянным голосом, вдруг ставшим внезапно похожим на голос Рен, начала Мария Александровна, лишь только она с дочерью очутилась в карете, все время ожидавшей их у дома княжена.
– О, мама! – могла только выговорить Лика.
– Ты скомпрометировала меня перед обществом, Лика, – еще строже произнесла Мария Александровна. – Эта Нэд Гончарина и обе княжны Дэви сегодня же разнесут по городу, что у меня невоспитанная оригиналка-дочь. Какой ужас!
– Но, мамочка! – снова взмолилась Лика.
– Молчи лучше! Ты была неподражаема с твоей защитительною речью! Точно какой-то присяжный адвокат в юбке. Ужас! О чем думала тетя Зина! Как она воспитала тебя! Разве можно молоденькой девочке таким образом разговаривать со старшими? Что ты хотела показать, наконец, своим поступком; что все мы отсталы, бессердечны и глупы, а что ты одна только сумела вникнуть в самую суть дела и придать ему истинную оценку? И эта странная, вроде тебя самой, баронесса, прославившаяся на весь Петербург своей оригинальностью, и князь такой же оригинал и эксцентрик! Что скажет обо всем этом принцесса Е…, высокая покровительница нашего общества?.. А графиня Муримская и графиня Стоян? У них дочери воспитаны в полном повиновении старшим и твоя выходка поразила их всех.
«Мама! – хотелось крикнуть Лике в порыве детского отчаяния и тоски, – не будь такою суровою, мама! Прости меня, ради Бога. Не сердись, умоляю тебя, милая, золотая! Мамочка! сердце мое, голубушка! Будь прежней ласковой, вернись ко мне, вернись».
Но, внезапно поймав на себе критическо-строгий, чуть насмешливый взгляд матери, Лика разом осеклась и замолчала на первом же слове.
И мать и дочь впервые в этот вечер разошлись опечаленные, огорченные по своим комнатам. Мария Александровна негодовала на Лику за ее резкую выходку, не вязавшуюся по ее мнению с условиями светских приличий. Лика страдала.
VIII
Князь Всеволод Михайлович Гарин жил в роскошном доме-особняке на самом конце Каменностровского проспекта.
Это было чудесное здание старинного барского типа, какое очень трудно встретить между новыми постройками Петербурга. Дом стоял среди огромного сада. Разросшиеся липы, буки и дубы почти скрывали его от любопытных глаз прохожих со стороны улицы.
Было около восьми часов вечера, когда князь Всеволод после утомительного дня разъездов по делам общества остановился в своем изящном кэбе у ворот своего роскошного сада, еще не потерявшего вполне своей багровой и желтой в это осеннее время листвы.
Князь возвратился домой сегодня позднее обыкновенного.
После отъезда матери и дочери Горных с заседания общества, он побыл еще около четверти часа в гостиной княжен, потом отправился хлопотать по делам общества, исполнять не легкие обязанности его секретаря. По пути мысли князя то и дело возвращались к сегодняшнему случаю, происшедшему на заседании.
Добрый, отзывчивый и очень чуткий по натуре человек он не мог не оценить поступка Лики Горной, вызванного горячностью и добротою девушки. Ее личико, возбужденное, дышащее восторженным порывом, взволнованное и прекрасное в своем порыве, стояло перед ним, как живое в ореоле золотистых кудрей. Большие, серые глаза, чистые и исполненные огня, неотступно светили князю с той самой минуты, как он увидел в них слезы, – эти прозрачные слезинки, так беспомощно повисшие на длинных ресницах Лики. А молодой звучный сильный голос девушки, напоминающий ему другой такой же сильный, врывающийся прямо в душу голос его умершей жены, не переставал слышаться князю и заставлять его вспоминать Лику.
И потом эта страстная сила, этот чистый экстаз, скрывающий в гибком, стройном, духовном облике девушки в соединении с ее изящной головкой еще более напоминали ему его любимую жену-покойницу, такую же экзальтированную молодую и прекрасную, но ни одной внешней красотою, сразу привлекла его к себе почти не знакомая ему чужая девушка. Лика Горская совсем не походила на тех светских барышень, которых он встречал до сих пор. Разве которая-нибудь из них решилась бы произнести в присутствии большого собрания свою пылкую защитительную речь в пользу бедной обездоленной девочки? Разве бы другая молоденькая барышня выступила бы так смело со своей просьбой! Разве все эти эгоистичные, жаждущие только удовольствий, девушки осмелились бы защищать права человеколюбия и милосердия?
Князь печально усмехнулся, живо вообразив себе одну из молодых баронесс Циммерванд или Нэд Гончарину на месте Лики.
Когда князь только что вошел в зал Столпиной, он сразу увидел ее с ее большой шляпой и чудным личиком.
Он сразу заметил ее сходство с покойной женой Кити, которую он обожал и которую пять лет тому назад схоронил от скоротечной чахотки – в далекой, чужой стране, где тогда служил в консульстве.
– Какое сходство! Точно то были две сестры, две родные сестры Кити и Лика!
Князь сошел со своего высокого, щегольского кэба, приказав откладывать лошадь, а сам по широкой аллее прошел к дому. Войдя в просторный вестибюль его, он проследовал оттуда дальше, минуя ряд больших просторных комнат, поражавших роскошью убранства, достиг, наконец, кабинета, сплошь заставленного массивными шкафами красного дерева и бюстами Вольтера, Ницше, Шопенгауэра, Спенсера и прочих крупных философов мира.
Князь любил философию больше прочих родов науки. Не меньше ее любил и путешествия князь Гарин. Почти всю свою жизнь он проводил за границей. Его манила красота, та античная красота древней Греции, которая водила слепца Гомера во время его создания «бессмертной» «Илиады», которая создавала людей, похожих на богов и титанов, которая воздвигла мощную силу классической Эллады. Манила не менее и красота в природе. Только причудливо переплетенные кисти плюща, чуть дышащие лепестки розы и готические колонны древних развалин какого-нибудь греческого портика действовали в почти одинаковой силе на причудливую натуру князя.
Он рыскал по свету, делал огромные концы, кидался от холодных волн Ледовитого океана к певучим водам теплой Адриатики, ища чего-то неуловимого и неопределенного, чего-то смутного, как сон.
И только когда он погружался в чтение своих философов, отыскивая в них решение того, что казалось ему самому непонятным и что они решали так просто и легко или же занимался пением своих излюбленных, им самим скомпонованных песен, князь Гарин находил некоторое удовлетворение и затихал на время от своей печали.
А печаль у него была крупная, большая, мучительная и неизлечимая. Пятнадцать лет тому назад он встретил на своем пути хрупкую, нежную и очаровательную девушку и назвал ее своей женой. Счастье их брачной жизни было не прочно. Прелестная Екатерина Аркадьевна таила злой недуг в груди. Ее родители передали ей в наследство этот семейный недуг. Чтобы поддержать эту хрупкую жизнь, князь Гарин увез жену за границу. Там она тянула десять мучительных лет, чтобы растаять, умереть на одиннадцатом. За год до смерти своей, молодая еще, двадцатисемилетняя княгиня, не имея собственных детей, привязалась к маленькой японочке-сироте, которую они с мужем подобрали на улице. Это было в Токио, столице Японии, в стране «Восходящего солнца». Малютка Хана, княжеский приемыш, так привязалась к умирающей, так полюбила княгиню, что перед смертью молодая женщина умоляла мужа оставить у себя девочку, перевезти ее в Россию, лелеять и холить, как родную дочь. И князь Гарин без малейшего колебания исполнил просьбу обожаемой супруги. Княгиня Екатерина Аркадьевна умерла под кровом далекого восточного неба… Там, на берегу Тихого океана, потерявшийся от горя и отчаяния князь, ухватился как утопающий за соломинку – за свою последнюю привязанность на земле, оставшуюся ему в наследство после княгини, – за маленькую еще тогда семилетнюю японочку Хану. Благодарный и тронутый ее рабским обожанием покойной воспитательницы князь Гарин, в свою очередь, как родной отец, привязался к девочке. О ней думал он и теперь, сейчас, вместе с мыслями о доброй, милой Лике, сидя в своем огромном кабинете, с потухшею сигарою в руке.
Внезапный легкий стук в дверь вывел князя из его глубокой задумчивости. Он спросил по-французски:
– Ты, Хана? Войди, малютка!
Портьера зашевелилась и между двумя половинками тяжелых бархатных драпри появилась странная, маленькая фигурка, совсем молоденькой девочка в голубом, расшитом цветными шелками по лазурному фону, кимоно, [9] особенный род платья, какие носят японки. Вошедшая была еще совсем ребенком. Она казалась крошечной куколкой с ее прелестным, как бы фарфоровым личиком, по которому то здесь, то там ясно и отчетливо проступали голубые жилки; с черными кротко-шаловливыми глазками и с алым ротиком, похожим на два маковые лепестка. Ее изжелта-белое личико напоминало своим цветом цвет слоновой кости. Высокий, розовый оби (шелковый пояс) с золотыми шнурами на концах был завязан громадным щегольским бантом на узкой тонкой спине этой маленькой куколки; из-под распахивающихся пол халатика-кимоно выглядывали крошечные ножки девочки, обутые в щегольские, шитые золотом европейские туфельки, на голове вздымалась высокая прическа из блестящих, словно глянцем покрытых волос, прическа, обильно снабженная всевозможного рода черепаховыми гребнями, золотыми ободками и металлическими стрелами и шарами. Руки этого миниатюрного создания были почти сплошь унизаны бесчисленными браслетами и запястьями, которые при каждом движении производили металлический звон.
Ее можно было бы свободно принять за семилетнюю по росту, хотя Хане было уже от роду двенадцать лет.
– Здравствуй, papa Гари! – проговорила она едва понятно по-русски. (Этому языку выучил ее князь). И, подбежав к отцу, вскарабкалась на ручку его кресла.
– А ты опять по-своему оделась, Хана! Зачем? Сколько раз я просил тебя, дитя мое, приучаться к нашему европейскому платью, – недовольно нахмурив брови, но скорее печально нежели строго, произнес князь, бросив беглый, проницательный взгляд на прелестный костюм японочки.
– Так ты никогда не приобретешь европейский образ, моя девочка.
– Но ведь Хана надела же русские сапожки, – засмеялась звонким совсем детским смехом, похожим на шелест весеннего ветерка, Хана, забавно ломая и коверкая слова. – Гляди! они золотые, точно желтые хризантемы нашей страны. А если бы и так, – прибавила она с лукавой усмешкой, – а если бы и так! Хана не любит русского платья, в нем тесно, неудобно; у себя в Токио Хана его же не носила никогда.
– Но у себя Хана была маленькой дикаркой. А теперь, когда Хана в России, ей надо вести себя иначе, – с улыбкой проговорил князь, ласково гладя блестящую, черную головку своей воспитанницы.
– А papa Гари разве едет сегодня куда-нибудь? – с любопытством, понятным ее возрасту, осведомилась японочка, не отвечая на замечание отца.
– Нет, твой papa проведет с тобою вечер, будет читать тебе книжку и учить тебя русской азбуке, – печально и ласково говорил князь. Таким печальным и ласковым он был всегда со дня смерти любимой жены, в лице которой лишился большого друга.
– Вот славно! – обрадовалась Хана и даже, подпрыгнув на своем месте, захлопала в крошечные ладоши, причем все ее бесчисленные браслеты зазвенели еще музыкальнее и звонче на ее руках. – А потом Хана споет тебе песенку о красавице-мусме (девушке), взятой морем? Хорошо, papa Гари? Хочешь, папа Гари? Да?
– Нет! Не пой мне сегодня, Хана! Мне не до песен, моя малютка.
– Ты опять скучаешь по маме Кити? ты болен? – уж тревожно спрашивала маленькая японочка, подняв свои тоненькие, словно выведенные кисточкой с тушью брови и делаясь уже совсем похожей на маленького ребенка с этим, замечательно шедшим к ней, наивно-милым выражением лица.
– Успокойся! Со мной не случилось ничего особенного, Хана, мне просто взгрустнулось нынче, – успокоил ее князь.
– Тебе скучно! – печально улыбнулась малютка, с преданностью собачки глядя в глаза названного отца, которого она называла papa Гари не будучи в силах произнести его имени. – Но позови тогда своих друзей и родственников, papa, купи сладкого, фруктов и конфет, вели Хане надеть ее новый, лучший кимоно и новый пояс оби и вели ей спеть свою лучшую песенку. И тогда милый отец перестанет скучать… Верно говорит Хана?
– Нет, моя малютка, не перестанет, – печально усмехнулся князь и, взяв в обе руки ее крошечное личико, поцеловал в детский открытый лобик. Маленькая японочка вся просияла от этой ласки единственного близкого ей в мире человека. Всю свою бесконечную любовь к покойной княгине она теперь перенесла на князя. Он был для нее в одно и то же время и отец и друг, добрый старый друг сироты Ханы, увезший ее так далеко от голубого неба ее родины, который любил и баловал ее как собственного ребенка. Князь, на сколько мог, старался скрасить жизнь своего маленького приемыша.
По ее неотступной просьбе, он отделал с возможной роскошью ее комнатку, разбросал в ней мягкие циновки и татами, [10] расставил всюду хорошенькие ширмочки, выписанные из Японии, развесил разноцветные фонарики, чтобы как можно точнее воспроизвести родную обстановку в ее памяти и напоминать ей ее далекую, покинутую родину, по которой она скучала. В углу комнаты князь устроил настоящую японскую хибаччи, [11] около которой грелась малютка. В противоположном же углу комнатки стояла высокая конусообразная самогрелка-ванна, [12] которую ежедневно наполняли горячей водою и в которой купалась Хана, согласно привычке своего народа.
На полочках по стенам комнаты, выстеганным голубым атласом, были расставлены крошечные изображения Будды и маленькие кумиры. Перед ними лежали засохшие цветы, травы; кусочки пирожного и конфет казались в виде жертвоприношений перед ними, тут же стояли японские чашечки величиною с наперсток, наполненные до краев душистым, ароматичным чаем. Словом, всевозможные дары, которые ежедневно приносила в жертву своим божкам аккуратная маленькая Хана.
Князь никак не мог убедить девочку принять, христианство. Хана молилась по-своему своим божкам и ни о чем другом и слышать не хотела. В этой странной азиатской комнатке постоянно пахло ирисом или мускусом, и сама ее маленькая хозяйка походила на редкий и нежный цветок. Даже самое имя «Хана» значило цветок по-японски, – красивое имя, по мнению маленькой девочки, которым она справедливо гордилась.
Здесь, в ее прелестном уголке, было немало и настоящих цветов. Князь заботился о том, чтобы его приемной дочурке, любившей цветы с трогательным постоянством, было приятно видеть их всегда перед глазами. Тут были и желтые и розовые и белые, как снег, хризантемы, наполнявшие фарфоровые вазы, расставленные на низеньких, в виде подносов и скамеечек, столиках, и редкостные лотосы, дети оранжерей, и розы всевозможных цветов и оттенков. Цветы заменяли игрушки Хане.
И когда ей становилось невыносимо тяжело и грустно без этой родины, без ее славного «Дай-Нипон», о котором она сладко и грустно мечтала, бедная девочка брала свой музыкальный ящик и извлекала из него жалобно-певучие звуки, подтягивая им своим тонким, как пастушья свирель, голоском.
Обыкновенно это случалось в то время, когда ее дорогой приемный отец уезжал из дома, а гувернантки, приставленной к ней, Хана дичилась и избегала почему-то.
Умерла княгиня Гари, «мама Кити», и papa Гари оставляет Хану одну, – трогательным голосом жаловалась девочка в своих, ею самой сочиненных, песенках. Она тут же развивала приходившие ей мысли в целые песни и пела эти заунывные японские песенки на весь дом звонким и нежным голоском.
Но сегодня ей не хотелось плакать. Ей было хорошо сидеть так, подле ее названного отца, который раскрыв большую книгу азбуки с раскрашенными картинами, учил по ней читать маленькую Хану.
Сегодня Хана как-то особенно трогала князя и в голове его, в этой убеленной, благодаря пережитому горю, ранними преждевременными сединами, голове невольно вставала мысль!
– Бедная девочка жестоко скучает в одиночестве. Никакие гувернантки не смогут заменить ей той сердечной ласковой привязанности, которую она встречала в лице покойной княгини. Хорошо было бы найти ей такого же доброго друга, любящего и отзывчивого, который бы позаботился о ней; старшую сестру и подругу, которая бы сумела занять, развлечь Хану, приучить ее понемногу, исподволь к мысли принять христианство, быть ее названной матерью и руководительницей, как трогательно его просила перед смертью своей княгиня Кити, обожавшая маленькую японку, как собственное горячо любимое дитя.
– Женись поскорее вторично, Всеволод, иначе тоска загубить тебя и нашу бедную малютку в одиноком огромном Петербургском доме… Душа Ханы ищет веселых детских радостных впечатлений, звучит еще и сейчас в его ушах нежная предсмертная мольба покойнице.
Но князь был далек от мысли вступить в брак вторично. Слишком уж исключительно прекрасно было сердце усопшей доброй княгини!
И такой другой женщины, по мнению князя, не могло более встретиться на земле. Так, по крайней мере, думал князь до сегодняшнего дня, а сегодня перед ним неотступно стоял образ бледной взволнованной девушки с золотистыми прядями пушистых волос, со смелой горячей речью, образ Лики Горной с ее прекрасным порывом любви и милосердия, с ее ангельской добротою.
И потом, это поразительное сходство с покойной женою! То же обаяние, та же кротость во всем существе.
– Ты хотела бы снова увидеть море, Хана? – чтобы спугнуть странное впечатление, обратился он к своей питомице.
– Море? Какое? – так и встрепенулась она точно маленькая птичка.
– Ну море… океан, что ли, ваш океан, тихий… Хотела бы ты его повидать?
– О!
В этом «о» вырвалась такая бездна чувства и скорби по оставленному родному краю, что князь Гарин невольно крепче прижал к себе черненькую головку, исполненный жалости к ней.
– И Токио хотела бы видеть? И Физияму? [13] – и родные зары… и дженерикши, [14] и Курума… [15] Да? Хана? Скажи мне все, что чувствуешь, скажи мне правду, крошка моя!
Глаза маленькой японки блеснули, личико ее заалелось.
– Ради всего тебе дорогого не говори этого, отец мой! Не говори так! – вскричала она, прижимая свои крошечные ручонки к сильно забившемуся сердечку.
– Ты тоскуешь по родине, Хана? Хочешь вернуться туда?
Глаза маленькой японки расширились в каком-то благоговейном ужасе.
– Кван-Нан! [16] Родина! Наш океан. Наше солнце!
– Хана моя, бедная, маленькая девчурочка! Хочешь ехать со мною на родину, спрашиваю я тебя?
– В Дай-Нипон? Навыки? Совсем? – чуть слышно поняли ее дрожащие губки.
– Это будет зависеть от тебя самой, пожелаешь – вернешься в Россию, нет – останешься там навсегда, малютка?
– А ты разве, papa Гари, останешься там со мною?
– Нет, я отвезу тебя туда, помещу там в надежные руки, останусь ждать тебя здесь, пока ты не пожелаешь вернуться ко мне, моя дочурка! – ответил князь, ласково гладя Хану по головке. Она забилась сильнее и вдруг застонала, до боли прикусив зубами свои яркие губки.
– Не хочу! Не хочу! Не останусь, не останется там без тебя твоя Хана! Помнишь, что «она» сказала Хане? Она велела беречь отца, papa Гари… Беречь до смерти… А Дай-Нипон и океан сберегут боги небес. И Хана останется с тобою, отец, ей не надо и родина, если papa Гари не останется там с нею! – волнуясь, заключила девочка.
И в экстазе любви и самоотречения, Хана прижалась губами к рукам ее названного отца.
– Крошка моя! – радостно произнес князь Всеволод, растроганный этой беззаветной преданностью своей приемной дочери.
– Да благословит тебя Бог за твое сердечное чувство к твоему papa Гари!
IX
К концу августа Карские переехали в город, этому не мало способствовали хлопоты по устройству благотворительного концерта, который был затеян еще весной. Да и время стояло уже позднее. Сентябрь уже царствовал над природой. Лика теперь чаще оставалась наедине с матерью, ежедневно сопутствуя ей в поездках по магазинам, закупая материи, цветы и гарнитуру для костюма, в котором она должна была в самом непродолжительном времени выступить в концерте. Добрые отношения между матерью и дочерью снова восстановились, но Мария Александровна стала строже обращаться с дочерью, следить за ее воспитанием, и постоянно напоминать девушке, что одно из самых ценных качеств человека – это уменье владеть собою.
После злополучного заседания и проявления горячности Лики по отношению к окружающим, девушки заметно изменились. Лика стала сдержаннее, осторожней, стала учиться владеть собой, в проявлении своих порывов, и, как будто даже, сделалась точно вдумчивей, серьезней. Карская, внимательно приглядываясь к дочери, стала замечать, к своему крайнему удовольствию, что ее младшая девочка, мало-помалу, овладевает своими порывами и, оставаясь в душе той же чуткой Ликой, старается воспитать свой характер. Это не могло не тронуть Марию Александровну, которая сама будучи молодою старалась воспитывать в себе твердую волю, сдержанность в обществе, как это требовалось от молодой девушки хорошей дворянской семьи. Девушка ее лет должна была повиноваться старшим и не поднимать голоса против их решений. И ей горячо хотелось видеть дочь свою таковой.
– Во всем этом виновата молодость и излишняя пылкость, – решила Мария Александровна в тот же вечер, когда она впервые осталась недовольна Ликой за ее поступок на заседании.
– Да и тетя Зина невозможно избаловала девочку и надо много еще потрудиться над воспитанием Лики, чтобы сделать ее такою же, как другие девушки. А то эта особенность Лики, ее экзальтированность и порывистость много повредят ей.
И она, не теряя времени даром, тут же горячо принялась за Лику, в душе одобряя и ее чувствительность и чуткость.
Но сама Лика, воспитанная тетей Зиной на свободе, с детства приученная ею выражать громко все то, что ее волнует и возмущает, заметя перемену к ней в отношении матери, как-то сразу затихла и сжалась. И веселость и детская откровенность Лики исчезли куда-то.
Видя, что мать не довольна ею и в то же время не сознавая вины в своем поступке там, на заседании общества, она, Лика, недоумевающая и опечаленная, ушла в «самое себя». Больше читала девушка, меньше выходила к гостям и в длинных письмах к тете Зине жаловалась на скуку, пустоту и холод ее великосветской жизни. Действительно, в большой комфортабельной квартире Карских от всех углов ее так и веяло тем холодом, тем ледяным светским холодком, который способен заморозить каждое чуткое, впечатлительное существо. Особенно тягостны были будничные обеды и завтраки, когда весельчак Анатолий не приезжал из своего корпуса, где заканчивал курс учения для того, чтобы выйти в офицеры в следующую осень.
Эти завтраки и обеды с поминутно прерывающеюся нитью разговора или уже слишком оживленною болтовнею гостей были тягостью для Лики. Один только Андрей Васильевич, приезжавший только к обеду из своего министерства, мало говорил и больше слушал, храня тот же непроницаемый, всегда невозмутимо спокойный вид.
С того вечера в саду Лике так и не удалось поговорить с ним и отблагодарить за выхлопотанное у матери разрешение поступить в их филантропическое общество и участвовать в концерте.
Она и сейчас уже глубоко раскаивалась в том, что упросила мать записать ее в члены общества защиты детей от жестокого обращения. Разве она, Лика, знала заранее, что ей там нечего будет делать? И что первое же ее выступление на заседании в качестве защитницы Фени так не понравилось ее матери и повлекло за собою неприятность? Да, Лика теперь же так раскаивалась, что поступила туда. Не о такой помощи бедным мечтала она с детства. Ей хотелось бы самой ездить по бедным углам чердаков и подвалов и помогать лично угнетенной детворе, так безумно нуждающейся в материальной помощи. Да, что же это наконец? Как же это? Где же проявлять можно истинное милосердие? Где то солнце, о котором говорили и синьор Виталио и тетя Зина? – с тоскою думала девушка мучительно ища выхода из того заколдованного лабиринта, в который она попала. Где же те бедные люди, нуждающиеся в хлебе и утешении? Как дойти, дотянуться до них? Между ними и мною, светской блестящей девушкой, целая стена, стена из бархата, шелка, веселой болтовни и равнодушных светских людей, сквозь строй которых ей нельзя к ним прорваться. И, чтобы увидеть их нужды, помочь им, сблизиться с ними, она должна опять-таки пройти через те же воротца филантропических учреждений, к которым она совсем не умеет применяться пока. Что же делать, однако? Не раз задавала себе вопрос девушка.
И она хандрила и томилась, и ее частые письма к тете Зине звучали все больше тоской и разочарованием. И только предстоящий концерт несколько оживлял и рассеивал Лику. Она теперь целые часы проводила у рояля, распевая свои песенки, от которых веяло ее милым коротким прошлым.
* * *
Устроители концерта буквально выбились из сил, отыскивая подходящего аккомпаниатора на мандолине. Наконец и этот был найден; последнее препятствие было устранено, и Лика могла во всеоружии появиться перед требовательной петербургской публикой.
В день концерта молодая девушка встала гораздо раньше обыкновенного, около восьми часов утра, и чтобы убить, как-нибудь остающееся ей до вечера время, попросила Рен взять ее с собой в манеж, где последняя, под надзором мисс Пинч, в обществе мистера Чарли и Бэтси Строгоновой брала у берейтора уроки верховой езды. Они приехали туда как раз в то время, когда Бэтси в сопровождении своей компаньонки, немолодой и бесцветной швейцарки, садилась на лошадь. Чарли Чарлевич приехал еще раньше ее и теперь гарцевал с хлыстиком в руке на караковой породистой лошади в короткой жокейской вестке.
Лика, как не участвующая в верховой езде, села в стороне, невдалеке от мисс Пинч и компаньонки Бэтси. Рен, со своей высокой фигурой, плотно охваченной амазонкой, в которой еще резче обозначались ее костлявые плечи, напоминала Лике какую-то большую черную птицу.
Длинный барон, гордо восседавший на своем караковом скакуне, был исполнен, по своему обыкновению, величайшего самодовольства и торжественности.
«Точно священнодействуют оба, – подумала Лика; – интересно было бы узнать, о чем говорят они с моей дражайшей сестрицей?»
Как раз в это время мистер Чарли повернул голову в сторону Рен, отчего его высокие воротнички так и впились в худую, длинную шею, и говорил что-то невидимому очень серьезно, потому что выражение торжественности приняло еще более значительный отпечаток на его лице.
«Пари держу, он говорит о том, какие рекорды побил он на последнем состязании велосипедистов, а по виду точно решает дела государственной важности», – заключила Лика и невольно рассмеялась своим мыслям, громко и весело, на весь манеж, как давно уже она не смеялась за последнее время.
– Наконец-то! – услышала она подле себя веселый голос и перед ней предстала кругленькая, маленькая Бэтси Строгонова, чрезвычайно миленькая и смешная в своей синей амазонке и съехавшим на лоб высоченном цилиндре.
– Что «наконец-то?» – не могла не рассмеяться снова при виде ее забавной фигурки Лика.
– Смеетесь вы, наконец! – весело отвечала ей девушка, помахивая перед собою своим изящным хлыстиком, – а то сидит такая скучная-скучная. Знаете, вам не идет скучающее лицо, мадемуазель Лика, – серьезно прибавила она, – а впрочем, ваш брат говорит, что вы в серьезные минуты делаетесь похожи на святую Женевьеву.
– Толя? Это очень любезно с его стороны! – засмеялась Лика. – Братья редко восторгаются своими сестрами, милая m-lle Бэтси, но мой брат, кажется, искренне любит меня. А у вас тоже есть брат? – осведомилась она у своей сверстницы.
– Ах, разве вы не знаете моего брата, m-lle Лика. Если бы вы видели его! Какая это бесконечная, редкая доброта! Он только и думает о том, чтобы всем жилось хорошо и радостно на земле! Зато и его любят же наши рабочие, вот любят, если бы вы знали! А на заводе у нас так вслух говорят о нем: «Совсем не видно, что купец наш, Сила Романович, будущий заводчик, со всеми за панибрата держится». Я вас обязательно познакомлю с ним. Ведь вы не побрезгуете, что мы купеческого звания? – лукаво усмехнулась Бэтси.
– Какие вы глупости говорите! – полушутливо, полусердито проговорила Лика, – не все ли равны: купцы, князья, нищие, крестьяне. Все умирают рано или поздно, и их бренные останки превращаются в прах… Впрочем, вы немножко кривите душой, Бэтси. Ведь вы – графиня Строгонова, как мне пояснила Рен.
– Ха, ха, ха, – весело расхохоталась Бэтси. – И не думала даже никогда быть графиней! Храни Господи! Чур меня, чур! Я купчиха, и дядя купец-заводчик, и брат двоюродный Сила тоже. Что вы делаете такие удивительные глаза? – еще веселее рассмеялась хохотушка, заметив удивление на лице Лики.
– Но… как же? ведь вы, как я слышала, происходите от тех знаменитых Строгоновых, которые помогали Ермаку в покорении Сибири и были возведены потом в графское достоинство.
– Ах, нет! совсем нет! – нисколько не смущаясь, весело вскричала Бэтси. – Мы просто Строгановы, понимаете? Стро-га-но-вы! – растянула она с тем же смехом. – Но вашей сестрице показалось гораздо удобнее заменить «а» – «о» и придать моей фамилии сходство с именем титулованных Строгоновых. Около нее не должно быть купеческих имен, вы поймите…
– А! – протянула Лика и густо покраснела от слов своей собеседницы. – Неужели же Рен – уж такая глупенькая и пустая? – досадливо пронеслось в ее голове, и ей стало стыдно за сестру.
– Мы очень богаты, – между прочим, болтала Бэтси, – накопленные до нас еще столькими трудами по заводу капиталы Строгановых дали нам большое наследство, и мой дядя и двоюродный брат Сила, кроме того, потрудились немало для завода. Вот почему они и помогли благотворительному обществу княжен Столпиных, вы слышали, верно, где участвует ваша мама, и Мария Александровна в благодарность пригласила меня бывать у вас, а Рен приблизила к себе, заранее попросив только изменить для вида мою фамилию и называться Бэтси, как настоящая аристократка. Ха, ха, ха, отчего было не потешить ее! Если б вы знали только, как брат мой вначале смеялся над этим! Да он у нас славный – Сила! Добряк, каких мало, настоящая русская душа, чуткая и отзывчивая на всякое доброе дело.
– Ах, Боже мой! – почти не слушая ее, задумчиво роняла Лика, все еще углубленная в свои мысли. – Да неужели же Рен такая? И вы можете уважать и любить ее? Ведь вы постоянно вместе с нею, Бэтси?
– Я очень уважаю ее! – спокойно и вполне серьезно произнесла молоденькая Строганова, – но… – тут глаза ее лукаво блеснули, – вы понимаете, это – маленькая военная хитрость с моей стороны. Вы не осудите меня за нее? Не правда ли, Лика? Ведь находясь в дружбе с Ириной Валентиновной, я могу бывать в великосветском обществе. А великосветское общество – это моя маленькая слабость. У моего дяди и опекуна (вы знаете, что я круглая сирота и живу у него в доме) не бывает так весело, как здесь, а веселье и смех – моя жизнь! – подхватила Бэтси.
В эту минуту к ним приблизились на своих конях Рен с мистером Чарли. При виде величественной «Англии», как торжественно окрестила Лика эту удивительную пару, так подходивших друг к другу молодых людей, девушкой овладело какое-то смешливо-задорное настроение. Она подошла к сестре, которая после беседы с Бэтси казалась ей такой ничтожной и пустенькой в одно и то же время, и, вперив в нее смеющиеся глаза, спросила:
– О чем вы говорили сейчас, Рен? Позволь полюбопытствовать? О новом спорте или о втором колесе велосипеда-мотора, или о новом количестве фунтов, которые ты свободно выжимаешь теперь правой рукой в обязательные часы гимнастики?
– Ни о том, ни о другом, ни о третьем, ты жестоко ошибаешься, моя милая, – холодно сверкнув на Лику своими бесцветными глазками, отвечала Ирина. – Барон Карл Карлович Остенгардт удостоил меня чести просить моей руки! – отчеканила она каждое слово, бросив на Лику гордый и самодовольный взгляд и проехала мимо нее с величием настоящей принцессы королевской крови.
X
Концерт должен был начаться в девять, но публика стала съезжаться значительно позднее. Уже какой-то, еще далеко неведомый миру, кудлатый композитор, подававший громадные надежды, как о нем говорили в публике, добросовестно отбарабанил с полдюжины плачущих вальсов при почти пустом зале, когда, наконец, избранное общество начало наполнять его.
Лика стояла перед трюмо крошечной дамской уборной, уже совсем готовая к своему выходу перед публикой. В своем белом платье какого-то необычайного фасона, созданном красивой фантазией Марии Александровны и похожим на белую одежду ангела, испещренном прошивками и кружевами на белом же шелковом транспаранте, с веткой белой магнолии, словно нечаянно запутавшейся в волосах, величаво, по новому красивая Лика, казалась теперь каким-то неземным видением.
– Святая Женевьева! – говорил Анатолий, с нескрываемым восторгом любуясь сестрою, поминутно подбегая к ней в качестве распорядителя.
– Ах, прелесть! – могла только поддакнуть ему Бэтси Строганова.
В голубом шелковом платье с букетиками незабудок, приколотыми у пояса и в пышных русых волосах она казалась, премиленькой в этот вечер. На Лику она смотрела таким восторженным взглядом восхищения, что скромная Лика даже сконфузилась, наконец.
– Волнуешься? – спросил Горный сестру, продолжая оглядывать ее костюм и прическу, – хочешь я позову маму?
– Ах, нет! – с искренним испугом вырвалось из груди Лики. – Нет, нет! не надо, а то мама сама будет волноваться при виде моего волнения, и мы только взбудоражим одна другую.
То, что собиралась петь Лика, требовало настроения, подъема и громадной дозы воображения.
Это воображение и должно было способствовать ее будущему успеху. Оно перенесет ее далеко, за тысячу верст, в ту чудную страну, о которой будет говорить ее песенка. Нет, тысячу раз нет! Она, Лика, не хочет видеть никого до своего выхода, по крайней мере.
– Уйди и ты, Толя, и вы, очаровательная Бэтси, уйдите! – сказала она. – Простите меня, но у меня настоящая артистическая лихорадка. Я волнуюсь. Не судите же меня за это!
– Как жаль! – разочарованно произнесла Строганова, – а я к вам моего кузена Силу привести хотела. Вы должны познакомиться с ним, повторяю вам. Он замечательный человек, Лика, и может быть очень полезен для дела вашего общества. Только предупреждаю вас: он совсем, совсем не светский человек.
– Да ведь и вы не светская, Елизавета Аркадьевна, – рассмеялся Толя, – а это не мешает вам, однако… – он запнулся на минуту и потом докончил после небольшой паузы. – Дружиться с такой светской особой, как наша сестричка m-lle Рен.
– Приведите мне вашего кузена после моего выхода, – успокоила девушку Лика, – тогда я и познакомлюсь с ним, а теперь простите великодушно!
И она шутя выпроводила из артистической комнаты молодежь.
Странное чувство сейчас охватило Лику, совсем иное чувство, нежели то, которое предшествовало ее пению в Милане более года тому назад.
Тогда настоящее артистическое волнение захватило ее. Тот святой огонь, о котором говорили и синьор Виталио и тетя Зина. Тогда Лика сознавала, что цель ее была собрать возможно большие деньги в пользу бедных недостаточных русских жителей заграницей, больных и слабых или нищих неаполитанских рыбаков. Тогда она знала святую цель этих двух концертов – цель спасения голодающих. А тут? Цель процветания филантропического общества, общества, которое как казалось ей, Лике, по крайней мере, мало достигало своей цели, не могла захватить молодую девушку.
Это ли – могущая удовлетворить душу, благая цель?
Лика гнала от себя эти тревожные мысли, ища успокоения и не находя его.
Смутно с эстрады до нее долетали звуки рояля. Очевидно, это была импровизация лохматого композитора. Она старалась внимательно слушать их, чтобы развлечься немного и ни о чем не думать, чтобы обрести хотя некоторое спокойствие перед выходом на эстраду.
Легкий стук в дверь заставил вздрогнуть молодую девушку.
– Il est temps – mademoiselle. Ayez l’obligence de me suivre, [17] – появляясь на пороге уборной, произнес почетный распорядитель концерта, граф Стоян.
Лика машинально положила руку на рукав его фрака и последовала за ним на эстраду.
Вид большого ярко освещенного зала и целой толпы нарядной, блестящей публики сразу ошеломил и смутил молодую девушку. Пока аккомпаниатор настраивал мандолину, Лика машинально направила глаза в партер, ища среди нарядной публики своих родных и знакомых. Вот, в первом ряду кресел между обеими дочками сидит баронесса Циммерванд. Она поймала взгляд Лики и улыбнулась ей ободряющей, ласковой улыбкой. Вот сухопарая Нэд подле своей глухой тетки-фрейлины. Вот обе княжны Дэви… Подле них Бэтси… Толя… Жорж Туманов и Федя Нольк, пажи, товарищи брата. Правее от них Рен с ее женихом Чарли Чарливичем, а там дальше petit papa, спокойный, и серьезный и мама… мама похожая на фею лета в своем зеленоватом тюлевом платье затканном водорослями, с белым венчиком из жемчугов над пышной прической. Глядя на них всех Лика почему-то вспомнила о других людях, далеких от нее теперь и в тоже время чудно близких ее чуткому, волнующемуся сердечку.
Тетя Зина и синьор Виталио, положившие всю свою жизнь для других, представились сейчас так живо ее взорам…
И вмиг перед Ликой выплыли милые, хорошо знакомые ей картины: ароматично-душная итальянская ночь, запах роз и магнолий, белая вилла, словно повисшая над синими водами красавицы Адриатики, и чья-то песнь, сладкая, как жизнь, свободная, как радость…
Как во сне стоит перед Ликой эта дивная страна песней и аромата цветов.
Лика словно видит перед собою голубое море и тут же видит и другое море, море цветов и зелени, ласкающее взор… И волны звуков над этими двумя морями, волны песен, какие только может дарить эта лучезарная, певучая страна, слагаются в ее сердце…
И, вспомнив о них, об этих песнях, Лика запела «Addio Napoli» (прощание с Неаполем). Аккомпаниатор чуть слышно вторил ей на мандалине. И рыдание серебристых струн инструмента слилось со звучным, сочным молодым голосом Лики.
Нежный, мягкий, чарующе-красивый, он так и лился теперь серебристой волной прямо в зал, впиваясь в мозг и сердца слушателей таких равнодушных и выдержанных светских господ и дам.
И Лика уже не волнуется больше, как за минуту до этого. Она видит благоухающий юг, голубое небо, тетю Зину и дорогого учителя и точно забывает обо всем остальном.
И, когда девушка замолкла внезапно, оборвав свою песню на высокой ноте, и услышала бурные аплодисменты по своему адресу, она точно очнулась, точно проснулась от долгого и сладкого сна.
Публика не унималась, продолжая выражать свои восторги.
Она неистово хлопала, требуя новых песен, нового исполнения.
И Лика пела одну песенку за другою, пела просто и искренне, выбрасывая слова и звуки мелодий из самых недр своей девичьей души. Это было и красиво, и трогательно в одно и тоже время, и все больше и больше наэлектризовывало вечно скучающую, вечно резонирующую петербургскую толпу.
Когда Лика, наконец замученная, усталая покинула под оглушительный гром аплодисментов эстраду и вошла в свою уборную, ей казалось еще, что ее сон продолжается наяву.
Здесь посреди комнаты стоял высокий пожилой цыган в красивом, расшитом золотом, костюме, с гитарой, обвязанной широкой лентой.
Что-то знакомое показалось Лике в лице пожилого цыгана в его огромных печальных глазах.
– Князь Гарин! – машинально произнесли губы девушки, и она стала внимательно разглядывать симпатичного ей человека в его новом виде.
– Простите! – произнес князь Всеволод, – простите, но я думал, что вы пройдете с эстрады в зал, и воспользовался вашей уборной… Но как вы пели! Лидия Валентиновна!
– Вам нравится? – с детской простотой спросила Лика.
– О! Я не мог быть в зале, – он указал на свой костюм, – но слышал все до слова из этой комнаты. Если бы вы не были светской барышней, мадемуазель Горная, то из вас вышла бы знаменитая певица…
– Правда? – искренне обрадовалась Лика. – Синьор Виталио говорил мне то же постоянно.
– Это ваш маэстро?
– Да! Ах, какой он дивный, если б вы знали, какой чудесный!
– Если позволите, мы поговорим о нем с вами за котильоном. Ведь неправда ли вы останетесь на танцы? Да?
– О, да! – воскликнула Лика, – мне так хочется движения, радости звуков… А разве вы танцуете? – удивленно осведомилась она.
– Только «тяжелые» танцы, – усмехнулся он. – Мой возраст не позволяет мне уже кружиться, как юноше… Но кадриль я люблю до сих пор, – с достоинством подтвердил Гарин. – Во время кадрили так славно говорится под аккомпанемент музыки. А теперь вы не откажите мне в счастье послушать мое пение, неправда ли? Не такое строго-прекрасное пение, как ваше, конечно, но которое должно быть близко вам, как продукт вашей родины? Да?
Лика молча наклонила свою золотистую головку и направилась в зал.
«Какой он милый, этот князь! – подумала она по дороге, – и совсем не гордый».
А она еще так сконфузилась там, на заседании, когда он подошел поблагодарить ее. Как он сказал тогда, как сказал? – припоминала в своих мыслях молодая девушка. – Ах, да.
«Позвольте вас поблагодарить за ваш настоящий порыв настоящей русской души».
Значить, и он также понимает и ценит такие порывы! Значить и он был на моей стороне и он сочувствовал этой бедной Феничке, значит он добрый, чуткий, а не холодный и прячущий ради условий света все лучшее, что есть у него в душе. И под впечатлением встречи с добрым чутким человеком Лика вся радостная вышла к публике.
Поздравления, похвалы, улыбки и комплименты так и посыпались со всех сторон на молодую девушку.
Мария Александровна, приятно польщенная успехом дочери, притянула ее к себе и стояла подле Лики, с удовольствием разделяя ее радость и триумф.
– Где она? Давайте мне ее сюда злую, недобрую! – пробасил навстречу им знакомый голос баронессы, – до сих пор не навестила меня, старухи, гордячка этакая! – и, энергично очищая себе дорогу, великанша Циммерванд предстала перед Ликой во всем своем грандиозном величии. – Молодец девочка! Как жаворонок пела. Уж ты прости, что я от полноты души «ты» тебе говорю. Приятно было слушать! Дай-ка я поцелую тебя за это. У тебя такая чистота в твоем пении, точно цветами от него пахнет… право, цветами полевыми, душистыми. Вы, ma chère, дочку-то побалуйте! – неожиданно обратилась баронесса к Марии Александровне, – она у вас – сокровище неоцененное! Да!
– Лидия Валентиновна! Вот кузен Сила, горит желанием быть представленным вам! – произнесла Бэтси Строганова, подводя к Лике огромного роста широкоплечего и полного мужчину.
Лика была поражена внешностью молодого заводчика. Это был настоящий русский богатырь по виду; тот, о которых поется в былинах народного эпоса: «и в плечах сажень косая, и роста богатырского, и очи соколиные, и кудри русые», и при всем этом необычайное добродушие, запечатлевшееся в его полном румяном лице, заканчивающемся мягкой курчавой бородкой. Доброта и несказанная сердечность, почти кротость, сияющая в больших ясных голубых глазах, делали его похожим на большого ребенка. Здоровьем, исполинской мощью и детским добродушием веяло от всего существа Силы Романовича Строганова. И при этом в нем была какая-то застенчивость, не подходившая к внешнему облику этого великана. Лика с ласковой улыбкой протянула ему свою маленькую ручку, которая потонула, как в пучине, в громадной руке молодого заводчика.
– Осчастливили, барышня, благодарим вас покорно! – приятным низким басом произнес Сила Романович, осторожно пожимая хрупкие пальчики девушки. – Такого пения я и не слыхивал… не земное что-то! Да-с!
– Очень рада, что угодила вам, – с милой застенчивостью произнесла Лика.
– Уж так угодили, что кузен Сила даже тысячный билет в пользу общества пожертвовал! – с улыбкой произнесла Бэтси.
– Ну, уж вы это напрасно, сестрица, – пробасил молодой купец, – после такого неземного пения и вдруг о деньгах-с. Не годится.
– Сила Романович, неужели опять пожертвовали? – взволнованно произнесла Мария Александровна.
– Так точно. Благоволите принять.
– О, какой вы великодушный и благородный! Завтра же напишу подробный доклад принцессе.
«Славный какой!» – подумала Лика, с удовольствием глядя на этого большого ребенка, застенчиво улыбающегося ей.
Она хотела чем-либо выразить ему свое расположение, как-нибудь ободрить его застенчивость, но вдруг неожиданно утихли звуки оркестра, заполнявшего антракт, и на эстраду высыпала целая толпа цыган и цыганок.
В ту же минуту зал дрогнул рукоплесканиями. Этим он приветствовал появление нового певца, легко и свободно вышедшего на эстраду. Это был князь Гарин, почти не отличавшийся своим внешним видом от прочих настоящих цыган.
Князь низко наклонил свою красивую седеющую голову в общем поклоне, потом непринужденно опустился на стул и взял первый аккорд на гитаре.
Лике никогда еще не приходилось слышать цыганского пения, и теперь ее глаза с нескрываемым любопытством и ожиданием впились в князя, когда он пропел со своеобразной, привлекательной цыганской оригинальной манерой первую фразу им самим составленной песни.
Что-то печальное, ласковое, заунывное и красивое зазвенело в мягких переливах приятного мужского голоса, что-то тоскливое и грустное в то же время.
И, когда хор цыган подхватил со своими характерно гортанными вскрикиваниями припев песни, сердце Лики сжалось оттого, что эти цыгане заглушают милый, в душу вливающийся голос князя.
И опять, когда умолкали они, снова предоставляя одному князю выводить соло, девушка ликовала, вся поддавшись очарованию его песен.
– Ах, как хорошо! – шепнула в восторге Лика.
– О, он еще лучше умеет петь. Если бы вы слышали его «Зимнюю ночку», например. Что это за прелесть! – произнес дрогнувший от волнения голос баронессы Циммерванд, очень любившей пение племянника.
И князь точно услыхал эти слова своей старой тетки; после бурного взрыва аплодисментов начал свою «Зимнюю ночку», сочиненную им самим с неподражаемым мастерством артиста. Это была совсем уже новая, совсем особенная песнь. В ней сказывалась тоскующая мелодия русских степей… Белыми снежными сугробами, поющей вьюгой и метелицей, и темными зимними северными ночами веяло от нее.
Студеный холодок русской зимы точно прошел по залу, насыщенному, наэлектризованному тысячью горячих дыханий…
Точно серебристые колокольчики послышались с их монотонным позвякиванием под дугою… Точно ямщик, понукая пристяжную, пел да пел себе, заливаясь, свою тоскливую и сладкую песнь. Старая баронесса вперила в эстраду взволнованные глаза и шептала:
– Дивно, хорошо, чудесно! Ай да племянник! Ай да молодец!
– Браво! Князь Гарин! Браво! – крикнул кто-то из дальнего конца зала, и снова гром аплодисментов покрыл все.
По лицу Лики текли слезы. Но она не замечала их… не чувствовала… Сладкая тоска, навеянная такими родными, хорошими словами, безусловно близкими каждому отзывчивому русскому сердцу, и прекрасный мотив песни совсем захватили ее.
XI
Стулья раздвинули и отставили к стенкам. Теперь уже на эстраде поместился оркестр. Капельмейстер взмахнул своей палочкой и танцы начались.
– Лидия Валентиновна! Прошу вас! Тур вальса!
Лика машинально положила руку на рукав Жоржа Туманова и понеслась с ним по залу, едва касаясь своими беленькими туфельками пола. Но она вальсировала точно во сне: она тщательно выделывала па на паркете, а ее сердце выстукивало одно и то же без конца:
«Как он пел! Как он пел! Точно в сказке!»
И в ее ушах вместо мотива вальса звучали дивные звуки мелодично-тоскливой песни, заставившей ее плакать несколько минут тому назад.
– Лика, да очнись же ты наконец, маленькая колдунья, право, колдунья! Что ты шепчешь там такое? – со смехом говорил ей Анатолий, обхватывая тоненькую талию сестры своей сильной рукою. – Тур вальса со мною, сестренка! Да?
– Ах, это – ты, а я думала – Жорж Туманов.
– Вот это славно! Но после Жоржа ты уже вальсировала с Нольком и с полудюжиной других. Ты точно во сне! Проснись, проснись, Лика! – смеялся молоденький паж.
– Ах, как он пел! как он пел, Толя! Я не слышала ничего подобного в жизни! – повторяла Лика в упоении.
– Кто? Гарин? – понял наконец приподнятое настроение Лики ее брат, вальсируя с ней. – Да, он – молодчинища! Кстати, вот и он, легок на помине!
Лика невольно остановилась посреди залы… В двух шагах от нее стоял со своим обычным спокойным, печальным видом князь Всеволод. Он уже успел переодеться во фрак, и от прежнего живописного цыгана в нем не осталось и следа. И Лике стало жаль, что больше она не услышит его чудной захватывающей песни, от которой веяло такой искренностью и красотой. Теперь девушка, снова кружась без устали по зале под мелодичные звуки вальса, поминутно оглядывалась в ту сторону, где находился князь.
– Кто твой кавалер на котильон, Лика? – заботливо осведомился Анатолий, проходя мимо сестры под руку с Бэтси.
– Князь Гарин.
– Ой, какие мы важные. Боже мой! Сам князь Всеволод, герой вечера, танцует с нами! – рассмеялся Толя, с шутливой почтительностью раскланиваясь перед сестрой.
– В чем провинился князь Всеволод Гарин? – послышался в ту же минуту за ними голос незаметно приблизившегося князя.
– Как вы легки на помине! – произнес весело Толя. – А помните, князь, русскую поговорку, что только злые люди легки на помине? – добавил он тоном набалованного маменькина сыночка, которому все заранее прощалось.
– О, нет, князь – не злой! – заступилась Лика, – злые не могут вкладывать столько чувства в пение! – после легкого замешательства заключила она.
– Еще раз благодарю вас, мадемуазель, за лестное мнение обо мне, – почтительно склонил перед нею свою седеющую голову Гарин, – а теперь позвольте предложить вам руку… Сейчас начинают котильон.
Действительно, оркестр проиграл ритурнель и котильон начался. Князь Всеволод отвел свою даму в дальний уголок зала, где они заняли места.
– Итак, вы меня не считаете злым? – произнес он, обращаясь к Лике и улыбаясь своей печальной улыбкой, – благодарю вас еще раз за доброе мнение.
– Не только злым… нет, я вас очень, очень добрым считаю, князь! – искренне вырвалось из груди девушки, – очень, очень добрым, – повторила она еще раз. – Вы только один и поняли меня там, на заседании, – вы и ваша тетя, а все остальные… Не знаю почему, но мне кажется, что вы с баронессой искренне сочувствовали этой Фене и что дела благотворительности в том виде, как они поставлены у нас, не удовлетворяют вас. Правда ли, князь?
– Правда, Лидия Валентиновна, и насколько не удовлетворяют они меня, вы можете судить по тому, что я недавно составил проект нового питомника для детей-сирот, вне всякого общества. На днях думаю открыть его, жду только разрешения со стороны администрации.
– Ах, как это хорошо! – искренно вырвалось из груди Лики, – как бы мне хотелось так же по мере сил и возможности участвовать в нем!
– Так за чем же дело стало? Хотите, я вас выберу попечительницей этого питомника? Это далеко не так трудно, так как вполне зависит от меня, – предложил князь Гарин своей даме.
– Ах, я была бы так счастлива! – произнесла вся сияя от радости Лика.
– Буду рад служить вам. Вы знаете, дела благотворительности поставлены у нас так, что наводят невольно на самые печальные размышления. Ведь пока соберутся все члены нашего благотворительного общества помочь такой Фене, пока доберутся до ее жестокосердной хозяйки, последняя, может статься, действительно изобьет до полусмерти девочку, изуродует ее. Надо самим очень любить детей, чтобы отдавать им душу, чтобы посвящать им всю жизнь, а не короткие досуги, как это делают члены нашего общества. Нет, такая постановка дела меня не удовлетворяет совсем. Вот почему, не задаваясь никакими особенными целями, я и открываю свой питомник, куда помещу бедных беспомощных маленьких сирот, оставшихся без угла и призора… Отзывчивые, чуткие души, я уверен, откликнутся на это дело… За детьми будет прекрасный уход, здоровый стол, воздух и ласка, та ласка, которая вдвое необходимее здорового воздуха и стола. Это маленькое дело будет вверено рукам истинно отзывчивых, чутких людей, которые без всяких отчетов, справок и заседаний сумеют свято выполнить свою нелегкую задачу.
Князь Гарин говорил очень горячо и убедительно. Очевидно, давно ему пришла в голову эта чудесная идея создания благотворительного учреждения. Когда еще он впервые увидел в зале заседания белокурую девушку, услышал ее горячую речь в защиту угнетенной Фени, эта мысль об устройстве питомника приняла совсем уже почти законченную форму. Сегодня же, когда до него донеслись чистые звуки молодого девичьего голоса, распевающего простые неаполитанские песенки, он окончательно решил это дело…
– Да эта девушка может помочь мне в таком деле! – решил он. – У нее много сердца, душевного тепла и горячей отзывчивости.
К тому же, при виде сегодня кроткой Лики, услышав ее нежный голос, князь уже не мог не сомневаться более в том, что эта девушка затронула его душу, сродную с нею по чуткости, отзывчивости и доброте.
Он сразу понял жгучее стремление Лики к добру, на пользу человечеству, понял это еще там, в нарядном салоне княжен Столпиных и решил во что бы то ни стало помочь развиться порыву этого чуткого сердечка. К тому же, его новая идея основания приюта казалась ему такой прекрасной!
Это развлечет и Хану, которая впоследствии сойдется с детишками питомника.
Услужливое воображение уже рисовало в мыслях князя новые картины. Его взоры видели златокудрую девушку, окруженную крошечными существами, попавшими под ее попечение и надсмотр. И златокудрая фея, и маленькие существа – все будут счастливы!.. Бедные дети будут сыты и довольны в новой хорошей жизни, Лика Горная вполне удовлетворена воплощением своей мечты. Хана перестанет тосковать и капризничать с новыми сверстницами и сверстниками, детьми будущего приюта. И, мысленно решив привести свою идею как можно скорее в исполнение, князь Всеволод с еще большим жаром стал развивать ее перед своей собеседницей.
Лика была в восторге. Ее сердечко так и рвалось на встречу к этому милому, отзывчивому человеку и к его благим целям.
Нет, она не ошиблась в нем; у него родная, одинаковая с ней душа. Они близки по взглядам друг другу, они оба преследуют одну и ту же цель, великую цель помощи нуждающемуся человечеству. О, да! она примет его предложение, она возьмет на свое попечение его новое детище и не на словах только, а на деле будет заботиться о новом питомнике, на сколько возможно, будет отдавать все свое время этим бедным, обиженным до сих пор судьбою сиротам-ребятишкам, станет ухаживать за ними и всячески любить и баловать их… ее заветная цель, ее постоянное стремление оказывались выполненными легко и свободно, благодаря доброте этого чуткого князя.
Лика молча подняла благодарный взор на своего собеседника. Все ее разочарования, вся тоска последних дней, навеянная ее душевным одиночеством, куда-то исчезли; недавно минувшее казалось теперь Лике одним пустым призрачным горем. Впереди все было так светло, ясно и определенно. Так чудно ей сияло солнце, о котором мечтала она и ее далекие друзья, синьор Виталио и тетя Зина.
И вся радостная, вся сияющая поднялась со своего места Лика и, плавно выделывая затейливые фигуры котильона, думала о том, что жизнь хороша, светла и прекрасна, когда подле бьется сердце, сочувствующее добрым целям и хорошим предприниманием.
XII
– Милая Мария Александровна, вы слышали новость? Князь Гарин покидает нас, слагает с себя обязанности секретаря и основывает новое общество.
И княжна Дэви старшая, войдя в гостинную Карских, оставила на лице хозяйки дома недовольный взгляд.
– Как, что такое? – воскликнула Мария Александровна, очень пораженная сообщенным ей известием. – Но принцесса Е. сама пожелала утвердить его в звании секретаря; ведь это, по меньшей мере, рискованно со стороны князя идти против воли принцессы.
– А разве он смотрит на риск, моя дорогая? Ведь князь – большой чудак. Это – совсем странный, не от мира сего человек. Все его поступки такие удивительные! Он достойный племянник своей оригинальной тетушки, баронессы Циммерванд.
– Какое такое общество учреждает он? – не слушая княжны, волновалась Мария Александровна.
– Представьте себе, – подхватила последняя, – что-то вроде нашего общества! Какой-то питомник для подобранных на улице детей. Впрочем, ваша дочь может дать более точные сведения об этом деле, нежели я, – прибавила княжна в сторону находившейся тут же, в гостиной, Лики.
– Лика? – вопросительно проронила Мария Александровна.
– Княжна права, мама, князь Гарин действительно устроил питомник для малолетних сирот, и я принимаю в нем горячее участие, – твердо произнесла молодая девушка, бросая на княжну Столпину взгляд, полный укора и смущения.
– Но, моя прелесть, я и не знала, что это – такая большая тайна, – принимая самый невинный вид произнесла та.
– У Лики не может быть никаких тайн от меня, – строго подчеркнула Мария Александровна и, в свою очередь, наградила молодую девушку недовольным взглядом. Вслед за тем ее лицо приняло снова обычно спокойное выражение и она повела с гостьей ту легкую светскую болтовню, которая является на выручку в самые щепетильные минуты жизни.
Но едва только пожилая княжна Дэви ушла, лицо матери Лики снова приняло недовольное выражение, и она строгим голосом обратилась к дочери:
– Ты объяснишь мне, не правда ли, что все это значит?
– Но я, право, не знаю, какого объяснения вы желаете от меня, дорогая мама, – спокойно отвечала молодая девушка. – Княжна Дэви права; князь учредил питомник и вверил его моему попечению.
– Но почему ты скрывала от меня столь великую тайну?
– Я не имела основания болтать о ней, мама; до поры до времени, пока питомник не был еще открыт, все разговоры о нем являлись бы лишними. Теперь же, когда он начал свою деятельность, я могу вам рассказать о нем. Тем более, что нынче же я собиралась сделать это. Тетя Зина учила меня всегда и постоянно свершать в тайне все добрые дела.
– Уж не туда ли вы ездите с Бэтси Строгановой ежедневно, моя дорогая, и преподаете там по целым часам! – тем же недовольным тоном продолжала расспрашивать дочь Мария Александровна.
– Именно, мама. Мне пришлось прибегнуть к маленькой тайне, простите меня и дайте мне разрешение на мои дальнейшие занятия в питомнике, – смущенным голосом проронила Лика.
– Нет, моя дорогая, я нахожу это не вполне удобным, и запрещаю тебе посещать питомник! – резко произнесла Мария Александровна, недовольная тем, что ее Лика скрывала так долго то, что должна была ей сказать, как матери и другу.
– Дорогая мама, вы не должны сердиться на меня, но… но не могу бросить питомник, ни в каком случае, мама, не могу, дорогая. Это живое дело с головой захватило меня! – горячо срывалось с губ взволнованной Лики, – и я вполне счастлива теперь благодаря ему.
– Но я запрещаю тебе это! Слышишь ли, запрещаю! – уже совсем вспыльчиво бросила Карская.
Вся обычная сдержанность разом покинула сейчас всегда корректную Марию Александровну. Она сердито взглянула на дочь, ее глаза блеснули гневом.
Поймав этот взгляд, Лика заговорила, волнуясь:
– Хорошо, мама, – я сделаю как вы приказываете, но я умру с тоски без дела, без того огромного дела, которое захватило меня. Ах, мама, дорогая мама! Поймите меня голубушка: тетя Зина приучила меня с детства работать целыми днями. Мы собственноручно развели с нею сад в нашей вилле на берегу моря, сами руководили молоденькими работницами и работниками при разбивке сада, наравне с ними копали гряды, сажали цветы. Потом вслух читали им итальянские новеллы в часы отдыха. Затем устроили мастерскую шитья для бедных подростков бедняков… Потом я пела по два часа с синьором Виталио. А вечером читала тете приходившую из России почту, газеты и письма. Таким образом, весь мой день был заполнен трудом с утра до вечера. А здесь? дома? Что мне делать? Мамочка, простите меня ради Бога, но это не та жизнь, о которой я мечтала едучи сюда. Я думала, что мне разрешат здесь работать и трудиться, что, как и там у тети Зины, смогу устраивать, одевать и кормить бедных, ухаживать за детишками, которых так много в больших домах Петербурга… Думала, что ради этих бедняков я буду часто выступать с моими песенками и на вырученные деньги помещать в приюты бедных детишек, в школы – подростков, в богадельню – слабых стариков и старух. Я так горела моими милыми надеждами, я делилась ими с тетей Зиной и с синьором Виталио в письмах, и они одобряли меня оттуда, издалека. И теперь, мамочка, когда я нашла то, что желала, когда душа моя возликовала от счастья, погрузившись в дорогое дело, вы желаете меня лишить его! Правда, я очень виновата перед вами, что не спросила у вас разрешения принять под свое попечение княжеский питомник, но мне было неловко признаваться в этом, точно навязываться на похвалу… Простите же меня, мама, родная, и разрешите мне продолжать посещать приют!
И Лика молящими глазами взглянула на мать.
Мария Александровна задумалась на минуту. Лицо ее прояснилось, и она уже другим сердечным и мягким голосом заговорила с дочерью, оценив ее светлый порыв.
– Разумеется, я сочувствую всей душой всем благим начинаниям, Лика… Не хочется мне запрещать тебе исполнять, по-видимому, хорошую работу, и вместе с тем, – Мария Александровна пристально заглянула в глаза дочери, – вместе с тем, откровенно говоря, Лика, мне глубоко не нравится твой поступок. Без моего спроса ты стала ездить в этот питомник, наполненный нищими и, может быть, больными детьми, рискуя заболеть и, в то же время, скрывала от меня так долго свое новое занятие. Вместо того, чтобы дружески посоветоваться с твоей матерью, ты, Лика, действовала тишком от меня…
Когда я поджидала твоего приезда, счастливая заранее возвращением моей девочки, я мечтала сама как взрослое дитя. Я думала; вот вернется после долгой разлуки со мною моя любимица Лика. Мы будем отныне всегда и всюду неразлучны с нею. Я стану брать ее повсюду с собою: на соседние общества, на балы, на концерты, в театры, на рауты. Будем читать вместе, разговаривать целыми часами. А то я совсем одинока: petit papa занят службой, Рен спортом, Толя еще в корпусе. Я так радовалась твоему приезду. И что же? Вместо обыкновенной выдержанной барышни из общества, я нашла в тебе какую-то странную, куда-то стремящуюся из дому девушку, какую-то особенную мечтательницу, которая сама хорошенько не понимает, чего ей хочется, куда она стремится. А во всем этом виновата одна тетя Зина, да простит ей Бог! И тебе да простит Он за это, ты огорчила твою маму, Лика. Но больше я не сержусь на тебя.
Слезы навернулись на красивые глаза Марии Александровны. Лика, печальная и угнетенная, стояла перед нею, теребя пальцами конец своего шелкового банта.
– Неужели, – продолжала после недолгой паузы Мария Александровна. – Неужели тебе нельзя быть как все наши барышни, как обе Циммерванд, Нэд и другие. Они читают, занимаются музыкой, вышивают, выезжают, участвуют в том обществе, куда их поместили членами их матери или родственницы. Нет, почему-то ты стремишься представить что-то особенное, из ряда самовыдающее из своей особы. Не хорошо, это, Лика! Разумеется, я не буду стоять на твоем пути, запрещать тебе посещение питомника. Езди туда с мисс Пинч или с гувернанткой Бэтси, как хочешь, но вся эта история причинила мне большую неприятность и заставила меня перенести много тяжелых минут. Разумеется, ты вольна теперь поступать против моего желания и больше я тебе ничего не скажу по этому поводу! – окинув дочь печальным и недовольным взглядом, заключила Мария Александровна и вышла из комнаты, оставив угнетенную Лику одну.
Молодая девушка машинально подошла к окну. На улице было гадко, скверно и тоскливо. Стоял скользкий, мокрый ноябрь с его обильными лужами на улицах, с дождем, мелко моросившим с неба, с серым туманом, без намека на солнце. И на душе девушки было не менее смутно и тоскливо. Лика невыразимо волновалась. Разговор с матерью точно вспугнул ощущение радости и удовлетворенности с души Лики, ожившей за последнее время и от недавнего светлого настроения в ней не осталось и следа. Опечаленная словами матери она чувствовала, как недавнее счастье, воцарившееся в ее сердце со дня учреждение приюта, куда-то скрылось, исчезло и, казалось ей, навсегда.
Что-то горькое и больное заменило его в душе девушки.
Слова Марии Александровны разом заставили призадуматься Лику и оглянуться на последний прожитой ею период времени.
О, этот период! Какой чудной сказкой, каким розовым сном промчался он в жизни Лики!
С Бэтси или с горничной Фешей, или с гувернанткой первой, она ежедневно ездила в питомник, где ее ждали два десятка малюток, бросавшихся ей навстречу с веселыми криками радости. Она и Бэтси Строганова собственноручно причесывали одних, лечили других, мыли третьих, читали им, рассказывали сказки. Обе они с головою ушли в это поглотившее их целиком дело.
Иногда к ним присоединялся Сила Романович, привозивший их новым питомцам груды игрушек и сластей.
Князь Гарин также аккуратно, каждый день, заглядывал в приют, входя в малейшие нужды и подробности жизни и воспитания его маленьких приемышей.
Надзирательница питомника, добрая, уже не молодая женщина Валерия Ивановна Коркина, и ее единственная помощница нянюшка Матвеевна, горячо любившая детвору, являлись горячими сторонницами князя и обеих девушек в их добром деле. Лика была бесконечно счастлива посреди своего маленького царства, как шутя называл князь Всеволод приютских детей.
И вот, слова Марии Александровны наполнили горечью душу молодой девушки. Ее мать была недовольна ею! Марии Александровне не нравилось, что она, Лика – «особенная», ни такая, как все остальные барышни ее круга, девушка…
Ей бы хотелось видеть Лику обыкновенной светской девицей, довольствующейся скучными выездами в свет, чтением, пустячными рукоделиями и музыкой.
Но разве она, Лика, может спокойно сложа руки сидеть среди всей этой роскоши богатого барского дома, спокойно есть дорогие кушанья и ездить в роскошных экипажах, словом, спокойно принимать все блага жизни, в то время как тысячи, нет, десятки тысяч бедняков, нищих, нуждаются в корке насущного хлеба и умирают от холода и голода в своих не топленных пустых углах.
Нет, нет, она не может равнодушно утопать в роскоши и удовольствиях, когда за стеною дома улица полна бесприютными голодными людьми!
Тетя Зина и синьор Виталио покраснели бы за свою ученицу, если бы она была иною…
А Бэтси, как нарочно, замедлила сегодня со своей компаньонкой. Надо было просить разрешения у матери поехать одной в их карете в питомник, так как мисс Пинч уже заранее вышла из дому с Рен. Скрепя сердце Лика пошла за этим разрешением и Мария Александровна, не имея духу отказать Лике, согласилась отпустить дочь.
XIII
Питомник для малолетних находился в одной из линий Васильевского острова. Кровные рысаки Карских домчали туда Лику в какие-нибудь четверть часа.
Взвинченная, с приподнятыми нервами, подъезжала она к приюту, но сразу «отошла» и перестала волноваться, едва только переступила порог знакомого убежища.
– Тетя Лика приехала! Тетя Лика! – услышала девушка, едва только успела позвонить у дверей квартиры, нанятой под приют князем, и тотчас же несколько пар крошечных детских ножек затопало по ту сторону дверей.
«Милые! – мысленно произнесла Лика и ее сердце наполнилось сладостно-нежным чувством, – хорошие вы мои ребятишки, как вы дороги мне!»
Дверь отворилась, и едва только Лика успела переступить порог большой светлой комнаты, как мигом была окружена шумной, веселой толпой детишек, преимущественно возраста от двух до шести лет.
– Тетя Лика! Холосяя! – Поцелуй меня, – пищал один голосок подле нее.
– И меня, и меня тозе, тетя Лика! – вторил ему другой.
– А гостинциков привезла, тетя Лика? – лепетала, бесцеремонно вскарабкавшись ей на колени, ее любимица четырехлетняя Танюша, прелестный, несколько болезненный на вид, голубоглазый ребенок.
И град детских поцелуев посыпался со всех сторон на приятно ошеломленную Лику. Она едва успевала отвечать на них.
Окруженная детьми, юная, разгоравшаяся от удовольствия, Лика сама казалась ребенком, старшею сестрою всей этой кишащей вокруг нее детворы. Она точно забыла в минуту все свои только что пережитые волнения и с удовольствием отдавалась тому светлому, чистому потоку, который подхватил и понес ее за собой. С улыбкой выслушивала она карапузика Федю, любимца Бэтси и Силы Романовича, о том, что «дядя Силя» опять прислал большущий ящик конфет.
– Они объедятся еще, пожалуй, Валерия Ивановна, – опасливо проговорила Лика, обращаясь к стоявшей тут же надзирательнице приюта.
– Не беспокойтесь, Лидия Валентиновна, – почтительно проговорила симпатичная пожилая девушка, умевшая удивительно гуманно и сердечно вести свою маленькую паству, – мы с няней зорко следим за этим.
– А Тане князинька куклу прислал. Покажи, Таня, куклу тете Лике, – командовал пучеглазый карапуз Федя.
Лика взяла в руки куклу, красивую, с эмальевыми глазами, до смешного похожую на саму Танюшу, долго рассматривала ее и хвалила к величайшему удовольствию ребят.
– А разве князинька не был еще сегодня? – спросила она вслед за этим.
– Нет, еще; – отвечал за всех бойкий вихрастый мальчик лет шести, с чрезвычайно умными и смышлеными глазенками, по имени Митюша, – но он еще придет, наверное. Он обещался приехать.
– Валерия Ивановна, отчего это у Митюши шишка на лбу? – спросила озабоченно надзирательницу Лика.
– Дерутся они, Лидия Валентиновна, – отвечала та, – ужасные драчуны, право, сил с ними нет!
– Ай-ай-ай! – произнесла, укоризненно покачивая своей белокурой головкой, Лика, обращаясь к детям, – вам стыдно драться, ребятки? Драться будете, любить не стану, – неожиданно пригрозила она.
В эту минуту дрогнул звонок в прихожей и вскоре рослая фигура Силы Романовича предстала на пороге.
– Дядя Силя! Дядя Силя! – с искренним восторгом вскричали ребятишки, и всей оравой метнулись навстречу вошедшему Строганову.
Маленькие питомцы приютта гораздо проще и менее смущенно относились к этому добродушному дяде Силе, как к более доступному по своей простоте их детскому понятию, нежели к самому директору приюта «князиньке», на которого смотрели с каким-то рабски-восторженным обожанием. Дядю «Силю» они любили, перед «дядей-князинькой» благоговели и точно чуточку боялись его.
Эти маленькие крошки инстинктивно понимали, что между ними и блестящим ласковым князем лежит целая пропасть. Зато, когда дядя Сила своими сильными руками подхватывал их и вскидывал на воздух, они визжали от удовольствия, теребили его за усы и за бороду и приходили в настоящий бешенный восторг от возни с ним. Чуткие сердечки детишек подсказывали им, что этот простой, сильный человек более родной им, более «свой» по духу, нежели все остальные.
И сейчас Строганов подвигался к Лике, облепленной, как мухами, со всех сторон детворой, вскарабкавшейся ему на плечи, на руки, державшейся за полы его сюртука, прильнувшей к нему с той беззаветной ласковостью, на которую способны только разве одни дети.
– Здравствуйте, здравствуйте, Сила Романович! – улыбаясь, приветствовала его Лика, – вы – точно Гулливер, шествующий в триумфальном шествии маленьких лилипутов. А вы поблагодарили дядю, дети, за присланные гостинцы и за игрушки? – спросила она свою расшумевшуюся команду.
– Не за что благодарить-то, – произнес своим добродушным басом молодой заводчик, – помилуйте-с, Лидия Валентиновна, чем богаты, тем и рады. Когда же и побаловать-то ребяток, как ни в раннем детстве? – со своей необычайно мягкой улыбкой закончил он, присаживаясь подле Лики и лаская детей.
– Да уж вы чересчур усердствуете в баловстве этом. Уж и не знаю, право, чем отблагодарить вас, Сила Романович! – говорила молодая девушка.
– Вот-вот. Только этого еще не хватало! Ведь самому себе этим удовольствие доставляю, а вы благодарить! Не ожидал я этого от вас! – махнул он обиженно рукою.
– Дядя Силя, а ты на елку к нам приедешь? – спросила самая крошечная девочка, приютившаяся на коленах Строганова.
– Беспременно! И елку вам пришлю, и игрушек пришлю целый короб.
– Большую? – захлебываясь от удовольствия, прошептала Танюша, и ее голубые глазки стали огромными.
– Вот этакую! – и Строганов разом подбросил чуть не под самый потолок обеих девочек, отчаянно завизжавших от радости.
– Вы очень любите детей, должно быть, Сила Романович? – спросила Лика.
– Я все живое люблю, Лидия Валентиновна, – серьезно произнес молодой заводчик, – и деток, и тварь всякую, и букашку. И не от доброты-с это, заметьте, а от жалости. Жалко мне всего такого. Беспомощное, маленькое, копошится, силенки мало… Ну, вот и притягивает меня к себе… От жалости этой самой, можно сказать, и судьбу свою опустил.
– Какую судьбу?
– Будущность. У меня папаша, изволите ли видеть, на этот счет строг. Отдали меня в гимназию. Ну-с, все это, как у людей, чинно-благородно, все, как следует. А я возьми, да и пристрастись к книгам разным, где про все этакое написано. Зоология там… Знаете, зверюшки, козявки всякие… Страх их люблю… Ну-с все прекрасно с первоначалу, учусь хорошо… Так и лезу вперед, так и лезу… А тут вдруг, как в пятый класс это перевели, тут тятенька и уприся: «не хочу, – говорит, – сына профессором видеть, дело заводское ухлопает, промотает, – говорит, – обдерут его как липку, доверенные и управляющие всякие, ежели он с книжками своими возиться станет и на соломе в бедности жизнь свою еще кончит, пожалуй. Не для того, – говорит, потом и кровью копил я, чтобы из за сыновней глупости фирма своего представителя лишилась». Дело, изволите ли видеть, у нас мануфактурное, чистоты и глаза требует, а уж чей глаз пуще хозяйского сбережет? Ну, так вот и стал я недоучкой, купцом, вместо профессора! – закончил он свою речь далеко не веселым, как показалось Лике, смехом.
– Ну-с, детвора! – внезапно встряхиваясь и выпрямляясь во весь свой богатырский рост, крикнул Сила Романович, – пора дяде Силе уходить. Пустите, ребятишки, скоро опять приеду. Мое почтение вам, Лидия Валентиновна, простите, что поскучали со мною на моих глупых рассказах, – произнес он, застенчиво улыбаясь и осторожно принимая в свою огромную руку нежную ручку Лики.
– Что вы! Что вы, Сила Романович! – поспешила произнести молодая девушка, – мне с вами поболтать большое удовольствие доставляет. Вы ведь хороший, простой, детишек вот как любите. Разве можно с вами скучать!
– Вот и спасибо вам, Лидия Валентиновна! – задушевным ласковым тоном ответил Строганов. – Век не забуду похвалы вашей! осчастливили вы ею меня, можно сказать. Такая, как вы, да вдруг…
– Какая же я такая, по вашему, особенная? – весело смеясь, произнесла молодая девушка.
– Именно-с! Именно-с, особенная, Лидия Валентиновна. Нет уж больше таких. Светлая вы какая-то, точно лучи от вас исходят. Там, тогда, в концерте, как услыхал я вас, пение ваше, так я подумал: точно ангел!
– Ну, я довольно-таки строптивый ангел, надо сознаться! – засмеялась Лика, вспоминая сегодняшний разговор с матерью.
– Уж это нам судить позвольте! – снова застенчиво улыбнулся он и, еще раз с каким-то благоговением пожав пальчики молодой девушки, вышел из комнаты, сопровождаемый до прихожей облепившей его толпою ребятишек.
Получасом позднее и сам князь приехал в свой питомник.
– А, я поджидаю вас сегодня! – приветствовала его Лика.
– Разве что-нибудь случилось в приюте за мое отсутствие? – с явной тревогой в голосе спросил князь.
– Нет, нет! Случилось, но не тут, успокойтесь!
– Что такое? Вы тревожите меня, Лидия Валентиновна, – заволновался он снова.
– Мама очень неохотно пускает меня сюда, в ваш питомник, – вот что случилось, не более! – созналась Лика.
– И что же? – после недолгого молчания опечаленным голосом спросил князь.
– А вы же видите, я все-таки приехала, хотя это и очень дурно так огорчать заботливую и любящую мать! – печально произнесла девушка.
– Из-за нас, стало быть, вы ослушались Марию Александровну, во имя нашего дела принесли нам жертву, Лидия Валентиновна? Позвольте же от души поблагодарить вас за это! Дети! дети! – обернулся он к толпившимся вокруг них ребятишкам, – вы знаете, что ваша добрая фея, ваша тетя Лика чуть было не улетела от нас?
– Тетя Лика – ангел! Дядя Сила это сказал, – серьезнейшим тоном произнесла голубоглазая Танюша, потянувшись губами к лицу Лики.
– Правда, правда, дети, тетя Лика – вам ангел, – глядя на молодую девушку произнес князь и, вдруг поймав печальный взгляд Лики спросил: – вы не должны сердиться на нас однако, Лидия Валентиновна, что мы невольно приносим вам столько неприятностей и тяжелых минуток.
Лика удивленными глазами вскинула на своего собеседника. Да разве она могла сердиться, что он говорит! Ведь это живое дело захлестнуло ее с головою вполне и заставило снова почувствовать полноту и радость жизни!
О, нет, сердиться она не может, ей только грустно, грустно, что так печально складываются обстоятельства.
И Лика тут же рассказала князю, как она всегда стремилась найти такое, именно, большое захватывающее дело, каким является княжеский питомник.
Князь внимательно слушал девушку.
Да, он с первого же дня встречи не ошибся в ней. Он не встречал среди избалованных светских барышень ничего подобного Лике.
Ему показалось, что снова воскресла его покойная любимая княгиня. Это ее голос, ее взгляд, ее великодушные порывы и неизъяснимая доброта! И вторично толкнулась мысль в голову князя о том, что лучшей матери одинокой малютке Хане, лучшей подруги жизни ему, князю, нежели эта чудесная, добрая и чистая душой и помыслами девушка, не найти. Взволнованно вслушивался он в слова Лики, ловя каждое из них больше сердцем, нежели умом и все тверже, все определеннее крепла и развертывалась робкая в начале мысль в голове князя.
Да, она будет доброй, чуткой матерью, и подругой его Хане и верным товарищем мужа на трудном жизненном пути.
В этот день князь уехал позднее обыкновенного из приюта, обласкав детей и щедро одарив их подарками. Он решил в скором времени просить Лику Горную выйти за него замуж.
XIV
Барон Карл Карлович Остенгардт и Рен Горная являлись совершенно исключительными женихом и невестой. Прежде всего Рен категорически отказалась от шитья приданного, а деньги, назначенные для этой цели, решила употребить целиком на покупку автомобиля. Между нею и ее женихом никогда не происходили столь обычные для будущих молодых супругов совещания по поводу предстоявшей им совместной жизни.
Мистер Чарли приходил ежедневно к шести часам и после обеда усаживался с Рен за партию шахмат, храня свое обычное величественное спокойствие. Жених и невеста никогда не говорили о своих чувствах друг другу, да и вообще мало говорили о чем-нибудь, кроме спорта.
– Очень удачное супружество! Они так чудесно подходят один к другому, – следя глазами за прямыми, длинными фигурами, чуть склоненными над шахматной доской, говорил со смехом Анатолий.
Лика по-прежнему ездила в приют, часто встречала там князя, и с каждой новой встречей все больше и больше привыкала к этому прекрасному и достойному человеку.
Князь Гарин по-прежнему был изысканно почтителен и предупредителен с нею и с каждым разом все больше приходил к убеждению, что лучшей жены, нежели Лика, ему не найти. Лишь бы молодая девушка согласилась осчастливить его самого и будущность маленькой Ханы.
Свадьба Рен должна была состояться в середине ноября, а к Рождеству молодая чета стремилась уехать в Финляндию, где у барона было большое поместье, которое он важно называл своим замком, хотя на замок оно и не походило ничуть.
Мария Александровна, несмотря на ярое сопротивление будущих молодых, решила все-таки отпраздновать свадьбу Рен с возможною пышностью. Она радовалась предстоящему торжеству и тому, что холодная, эгоистичная, всем недовольная Рен нашла наконец себе партию, да еще такую хорошую партию, по мнению матери.
«Хоть бы и Лике впору, несмотря на то, что она умница, красавица и воплощенная доброта!» – мысленно рассуждала Марья Александровна, вглядываясь в лицо младшей дочери и мечтая теперь о еще более прекрасном жребии судьбы для Лики.
«Все эти питомники, благотворительность, вся эта возня с чужими ребятишками, как это должно изводить бедную девочку! – тревожно рассуждала госпожа Карская, – она даже похудела заметно. Немудрено. Только и заботы о том, что здоровы ли, сыты ли, веселы ли ее питомцы!»
А молодая девушка, которою были сейчас полны мысли ее матери, тщательно занятая в это время рассматриванием подвенечного платья сестры, быстро повернула голову в сторону Марьи Александровны, увидела ее озабоченный любящий взгляд и низко опустила над каким-то затейливым кружевным воланом свою золотистую головку.
– Дитя мое, Лика! Что с тобой? – Сердце Марии Александровны невольно сжалось при виде осунувшегося личика дочери. Она давно не говорила так ласково, так просто и сердечно с Ликой. Сердце и инстинкт матери разом заглушили ее прежнее недовольство молодой девушкой. – Моя девочка, что с тобою?
Что-то родное, давно утраченное и вновь приобретенное послышалось Лике в звуках материнского голоса. Через минуту она уже очутилась в объятиях Марии Александровны, вся дрожала, билась как подстреленная птичка на ее груди и, плача и смеясь в одно и то же время, шептала:
– Мама! Мама! Дорогая моя! Вы – моя, вы вернулись ко мне! Я знала, о, мама! Как я счастлива снова!
– Дитя мое, скажи, чем ты несчастна? – размягченная, взволнованная и испуганная спрашивала дочь Мария Александровна.
– О, как я страдала без вас, без вашей ласки все это время, мама, моя родная! – чуть слышно вырвалось у Лики. – Я ведь чувствовала свою вину перед вами и… и…
Мария Александровна обняла и расцеловала Лику…
– Все забыто! Все забыто и прощено… Ведь я сама так горячо люблю мою «особенную» маленькую девочку! – шептала она, сама едва удерживаясь от рыданий.
– Слезы? В самый день моей свадьбы! Весьма любезно с твоей стороны, Лика! – внезапно появляясь на пороге, вскричала недовольная Рен.
– Дайте ей лавровишневых капель, она успокоится! – коротко бросила она мисс Пинч, как тень следовавшей за нею всюду. – Ехать в церковь с красными глазами нельзя… Советую тебе прийти в себя и успокоиться хорошенько, – закончила она своим обычным ледяным тоном.
– В самом деле, девочка моя! Постараемся успокоиться обе! – шептал на ухо плачущей девушки нужный и взволнованный материнский голос.
Но Лика уже овладела собою. Счастливая, успокоенная и обрадованная внезапной материнской лаской, она, крепко поцеловав мать, вбежала в свой розовый будуар, где все говорило ей о нежных заботах той же милой мамы, и в этой розовой комнатке дала полную волю своему радостному порыву. Ах, как она снова счастлива сегодня! ее дорогая мама снова горячо приласкала ее! Она ее простила вполне и больше не будет сердиться на нее, Лику. И Лика впервые с восторгом взглянула на нарядное розовое платье, тщательно разложенное на маленьком канапе, которому до сих пор не уделяла никакого внимания. Она наденет сейчас это розовое платье, этот венок розовых маргариток, приготовленных для нее тою же баловницей мамой, и без тени недавних тревог поедет на венчание сестры.
– Феша! – крикнула Лика тем радостным голосом, которого не слышно было за последнее время в огромной квартире Карских, – дайте мне скорей одеваться, Феша!
И, весело напевая, принялась за свой туалет. Расторопная Феша ловкими руками поспешила нарядить свою «любимую» барышню, как называла в глубине души молодая горничная Лику в отличие ее от нелюбимой Рен.
Она отлично понимала всю разницу между обеими сестрами. От Лики Феша не слыхала ни одного резкого слова, тогда как сестра последней всегда презрительно и свысока обращалась с ней.
Через полчаса младшая Горная, уже вполне готовая, вышла в гостиную со счастливым лицом, с сияющими, хотя и заплаканными глазами. Надо было ехать в церковь. Она быстро подбежала к матери, прижалась к ней на минуту и прошептала глубоким, прочувственным тоном:
– Мамочка! Милая, родная! Так вы все-таки любите свою Лику?
– Глупышка маленькая! И ты смеешь еще сомневаться в этом?
И притянув к себе дочь, Мария Александровна еще раз горячо поцеловала ее в знак полного своего прощения.
XV
Как и в обычное, обыденное время, так же и сейчас, во все время венчания, Рен была невозмутимо спокойна по своему обыкновению.
Бросая вокруг себя гордые, самодовольные взгляды, она высоко поднимала свою чопорную голову, гордясь, казалось, перед сверстницами выпавшим на ее долю счастьем.
И мистер Чарли не уступал в этом своей невесте. Он был вполне доволен ею и самим собой.
– Поздравляю тебя от души, сестра, – обратилась к новобрачной с искренним сердечным порывом Лика, когда, по окончании обряда, Чарли и Рен остались на амвоне, чтобы принять поздравления приглашенных. – Я надеюсь, ты будешь счастлива вполне!
– Надеюсь, – ответила Рен и ее деревянный голос прозвучал такой не допускающей возражения самоуверенностью, что Лика сама преисполнилась уверенностью за счастье сестры.
– Брат Чарли! Поздравляю вас!
– Сестра Лика! – барон нагнулся и поцеловал руку своей новой belle soeur по обязанности родственника.
Лика поспешно отдала ему поцелуй в голову или, вернее, в тщательно подстриженную щетинку волос и поспешила в смежный с церковью зал, где приглашенных ждали конфеты, фрукты, шампанское и чай.
– Позвольте поздравить вас, Лидия Валентиновна! – послышался Лике звучный, уже хорошо знакомый голос.
– С чем? – улыбнулась она, радуясь видеть снова своего друга князя. – С чем поздравить? Ведь не я же венчалась, Всеволод Михайлович, а сестра.
– Да, но это так принято поздравлять родных и знакомых новобрачных, – пояснил ей улыбаясь князь, передавая ей бокал с искрящимся в нем вином.
Лика неудобно приняла его из рук князя, намереваясь подойти с ним еще раз поздравить молодых, что хрупкая хрустальная вещица выскользнула из ее руки и упала на пол, разбившись на мелкие кусочки.
Лика вспыхнула до слез от смущения за свою неловкость.
– Ничего, Ликушка, бей больше, это счастливая примета! – весело подхватил Толя, состоящей шафером Рен, подбегая к младшей сестре, и тут же поправил ее оплошность, подавая ей новый бокал, до краев наполненный искрящимся вином.
– За вашу идею, князь, за ваше учреждение, за ваш милый питомник! Да? – с доброй улыбкой чокнулся с Гариным веселый, жизнерадостный юноша.
– И за наших детей, – подтвердил князь Всеволод, – не правда ли, вы согласитесь выпить за наших детишек, за здоровье Феди, Митюши, Тани и других, – протянул свой бокал к брату и сестре Гарин. И Лика, снова сияя, выпила за здоровье своих любимцев-малышей.
XVI
Елка в приюте была назначена на третий день праздника. Лика пригласила на это скромное торжество самых близких и симпатичных из своих друзей. Баронесса Циммерванд, Сила Романович, его кузина Бэтси и Анатолий должны были присутствовать на торжестве приютских малышей. Мария Александровна была не совсем здорова и поневоле осталась дома, хотя и рвалась поглядеть ее приют.
Лика приехала еще задолго до назначенного часа в питомник и деятельно занялась последними приготовлениями к елке.
Последняя вышла на славу. Сила Романович не пожалел денег, чтобы побаловать ребятишек и прислал целый транспорт всевозможных украшений, сюрпризов и конфет, навешанных усилиями Лики, Валерии Ивановны и няни на пышные ветви огромного дерева.
В ожидании почетных гостей, детишки толпились в зале, ахали, пищали, восторгались и с каким-то трепетом и благоговением смотрели на пышную ветвистую красавицу, наполнявшую запахом лесной хвои небольшой приютский зал.
– Ну-с, детвора, а теперь помолимся, пока нет никого; помолимся хорошенько за ваших благодетелей и за то счастье, которое Господь Бог даровал всем вам! – произнесла Лика, покончив с последними украшениями и соскакивая на пол с высокого табурета, на который она вскарабкалась, чтобы возможно удобнее украсить верхушку зеленого деревца.
Вмиг детишки притихли и, еще теснее окружив свою юную попечительницу, опустились по ее приказанию на колени посреди зала и вперили в висевшую перед ними, освещенную светом лампады, икону свои детские чистые глазки.
Лика ласковым взглядом окинула свое маленькое стадо и, поместившись позади них, тихим, торжественным голосом запела мелодичную и красивую «Молитву Девы». Почему она выбрала именно эту арию вместо церковной молитвы, молодая девушка решительно не могла себе дать отчета…
Она стояла среди толпы всех этих коленопреклоненных ребятишек, такая же прекрасная и детски чистая, как и они. И песнь ее звучала тою же чистотой, той же всеобъемлющей силой истинного милосердия и любви.
Увлеченная, унесенная как на крыльях куда-то высоко-высоко своим неземным порывом, Лика не слышала как дрогнул звонок в передней, как горничная открыла дверь, как на пороге появилась стройная, высокая фигура князя. И лишь, как гимн закончился мелодичной и особенно красивой нотой, молодая девушка подняла голову, ее глаза встретились с растроганным и просветленным взором Гарина.
– Это вы! А я и не слышала, как вы подошли! – проговорила она смущенно, наскоро поправляя растрепавшиеся во время возни и уборки елки волосы.
– Если бы вы знали только, как вы были трогательны сейчас, сию минуту, окруженная молящимися детьми! – произнес князь, добрым, ласковым взглядом глядя в лицо девушки, – и как страшно жаль, что по причине простудного недомогания моя Хана не могла приехать сюда сегодня повидать вас и познакомиться с нашей детворой. Она бы приняла вас за ангела, слетевшего к нам с неба.
Баронесса Циммерванд и оба Строгановы – Сила и Бэтси застали князя и Лику, окруженными шумящей, визгливой, в полном смысле слова, ошалевшей от радости детворой.
– Вы – точно добрые волшебники среди чающих от вас щедрот всех этих крошечных людей, – загудел бас вошедшей в зал великанши баронессы.
– Нет, волшебники – не мы, а вот кто волшебник! – вскричала Лика, выдвигая вперед несказанно смущенного ее вниманием Силу Романовича. – Посмотрите, чего только он не надарил детям!
– Ну, вот, помилуйте! Как же не послужить доброму делу! – смущенно оправдывался тот, краснея и меняясь в лице от непривычного для него всеобщего внимания и любезности.
– Господа! Mesdemes et monsieurs! Чтобы не терять золотого времени даром, я предлагаю сейчас же зажечь елку! – весело вскричал Анатолий к немалому удовольствию карапузика Феди, преважно восседавшего у него на плечах. Другие дети тоже в одну минуту окружили молодого пажа.
– Федя! Зажигай елку! – живо командовал юноша, протягивая малютке палку, на конце которой была прикреплена тоненькая розовая свечка.
– И я, дядя Толя! И я! – подняла голос Танюша, общая любимица взрослых и малышей.
– Нет я! Я зазгу всех люцсе, – пищал чей-то тоненький голосок. И детишки со всех сторон затеснились к елке, отчаянно шумя и суетясь. При вмешательстве взрослых удалось установить кое-какой порядок. Елку, наконец, зажгли к полному восхищению ребят и ро́здали малышам рождественские подарки. Федя завладел прекрасным зеленым пароходом, привезенным сюда Силой Романовичем, а голубоглазая Танюша укачивала, как заботливая мамаша, своего ребенка – очаровательную куклу – подарок князеньки.
– Ох, какая она красивая, тетя Лика! Чудесная, красивая, совсем как ты! – говорила, захлебываясь восторгом, девочка, то и дело покрывая поцелуями фарфоровое личико куклы. Лика с заботливой нежностью заплетала в это время в косичку растрепавшиеся локоны ребенка, не замечая, как две пары глаз смотрят на нее с необычайным сочувствием и добротою.
То были глаза князя Гарина и добродушной баронессы, его тетки.
– Как она мила, как необычайно добра эта милая Лика! – произнесла шепотом огромная баронесса, обращаясь к своему племяннику. – Вот такая девушка способна сделать вполне счастливым человека, который назовет ее своею женой.
А знаешь ли, о чем я часто подумываю, Всеволод, – еще более понизив свой чересчур зычный голос и отводя в сторону племянника, заговорила она снова, – вот бы тебе такую подругу жизни, старшую сестру, воспитательницу твоей любимицы Ханы. А! Права я или нет, говори?
– Что вы говорите, тетя, – даже в лице изменился князь, так как догадливая тетка угадала его сокровеннейшие заветные мечты. – Я слишком стар для mademoiselle Лики, она не пойдет за меня! – прибавил он смущенно.
– Ах, глупости, – снова забасила баронесса, – Лика серьезная, милая девушка, а не бальная танцорка, не пустая, легкомысленная светская кукла. Ей не балы, не танцы нужны, а полезная, хорошая трудовая жизнь. Я поняла это с первого же знакомства с нею. Ей гораздо важнее получить друга и сотрудника в общем деле, нежели веселого молодого мужа, и таким другом и сотрудником ты ей можешь быть вполне.
– Если бы это случилось, я был бы счастливейший из смертных, дорогая тетя! – горячо вырвалось из груди князя Всеволода. – Только… только я сам никогда не решусь предложить себя в мужья этой очаровательной и великодушной девушке! – Сделав короткую паузу, шепотом заключил он свою речь.
– И не надо! – загудел шепот баронессы, – и не надо! Кто тебя просит соваться. Я это сделаю за тебя. Сама ведь я давно вижу, как тебе нравится Лика – моя любимица и, откровенно говоря, давно задалась целью сосватать ее тебе.
– Поди-ка ко мне, прелесть моя! – подозвала энергичная старуха проходившую за руку с Таней мимо них девушку. – Мне надо переговорить с тобою… Нет ли у вас здесь укромного уголка, где бы никто нам не помешал, – обратилась попутно к Валерии Ивановне баронесса.
– Пожалуйте в мою комнату, ваше превосходительство, там вам никто не помешает, – любезно и предупредительно предложила та.
– Ну вот и прекрасно, к вам так к вам! – загудел снова на всю залу всем хорошо знакомый голос и, взяв Лику под руку, огромная баронесса поспешила вслед за надзирательницей в ее уютный кабинет, находившийся тут же, поблизости залы.
– Вот в чем дело, дитя мое! – понижая насколько это было только возможно свой басистый голос, начала баронесса, усаживаясь вместе с Ликой на диване в уютной маленькой горнице Валерии Ивановны и ласково глядя в лицо изумленной девушки, – не удивляйся, пожалуйста, если я, по моей простецкой привычке, приступлю прямо к цели без всяких подходов и вывертов ваших светских? Вот в чем дело, дорогая моя девчушка: есть человек на свете, добрый, чуткий, гуманный, честный и отзывчивый, который всю свою жизнь отдаст на служение другим, ну, словом, как две капли воды похожий на тебя духовно. И этот человек любит тебя, Лика, и мечтает о тебе как о доброй волшебнице, могущей помочь ему в его добрых начинаниях, мечтает увидеть тебя около него другом и второю матерью его приемной дочери, которую он любит без границ… Но этот человек не молод, Лика, и опасается открыть тебе свою душу, не зная твоего отношения к нему, и ему тяжело будет выслушать отказ от любимой им девушки, а по этому, мой племянник (ты угадала, конечно, с первого слова, о ком я говорю) и уполномочил меня узнать у тебя решение его судьбы, дорогая Лика. Согласна ли ты стать его женою и другом, матерью его дочери и ее старшей заботливой сестрой. Подумай об этом хорошенько, дитя мое, сможешь ли ты осчастливить своим согласием этого достойного и прекрасного во всех отношениях человека?
Баронесса замолкла и смотрела внимательно и ласково в вспыхнувшее личико девушки. Лика молчала. Глубокое волнение охватило ее. Сердце ее забилось, взволнованные мысли закружились в голове.
Князь Гарин давно нравился Лике. Нравился своею добротою, чуткостью и отзывчивостью к детям, к беднякам, ко всему нуждающемуся в его помощи человечеству.
Эти качества Лика ценила в нем больше всего. Чрезвычайно трогала ее и эта постоянная печаль в лице князя. Она слышала от окружающих о его одиночестве, о безутешности после смерти жены, о его крепкой любви к приемной маленькой дочери и все это вместе взятое привлекало ее сердце к доброму, прекрасному, человеку.
Но она никак не думала, что может сама так сильно понравиться ему.
Работая бок о бок с князем в его детском питомнике, Лика ни разу не задумывалась о том, что случилось сегодня так неожиданно с нею. Она растерялась, смутилась так сильно, что баронесса поспешила прийти на помощь молодой девушке. Обняв Лику, она проговорила ласково, по-родственному заглядывая в лицо Горной.
– Откройся же мне доверчиво, твоему старому другу, Лика, скажи мне по правде, искренно, без утайки, нравится ли тебе князь, радует ли тебя мысль работать с ним совместно отныне в качестве его жены и друга? Привлекает ли тебя мысль об руку с ним продолжать сообща твое служение людям. Ответь мне, подумав хорошенько, моя милая девочка, так как чувствует это твое доброе сердечко. Да или нет? – заключила вопросом свою речь баронесса.
Лика опустила глаза. В них выступили слезы волнения. Она ясно представила себе все то, что ожидало ее впереди. Любимое дело об руку с прекрасным, чутким человеком, который стремится к той же цели, к которой стремится всю свою коротенькую жизнь и она, Лика. Такой человек уже по одному этому не может быть ей чужим и далеким. Он нравится ей, Лике, она привязалась к нему, она его полюбила за недолгое, сравнительно, время их совместного труда. Но только сейчас впервые отдает она себе ясный отчет в своем новом искреннем чувстве к князю.
И, подняв свои светлые, ясные и чистые глаза на баронессу, Лика ответила слегка дрогнувшим голосом:
– Да, я согласна и благодарна за честь оказанную мне князем. Завтра он может приехать просить разрешения у моей матери на наш брак.
И тут же крепко прижалась к груди баронессы, обнявшей с чисто материнской нежностью свою любимицу.
Несколько минут спустя последняя позвала князя.
Тот вошел неуверенно, не зная еще ее решения Лики.
Но по сияющим глазам обеих женщин он понял внезапно всю величину, свалившегося на него счастья.
– Благодарю вас! О, благодарю и благословляю вас за ваше великодушное решение, – стать ангелом-хранителем моим и моей маленькой Ханы! – произнес он, склоняясь к руке Лики и с жаром целуя эту маленькую ручку.
– А меня, что ж ты не благодаришь? – засмеялась добродушным смехом баронесса. – Или мне ты не обязан тоже частичкой этого счастья, а?
Князь Гарин бросился целовать добрую старуху, ее сияющее от счастья и волнения морщинистое лицо, ее большие пухлые руки. Потом все трое присоединились к гостям и детям, и хотя ни слова не было произнесено о торжественном событии, происшедшем в кабинете приютской надзирательницы, но по улыбающимся лицам «трех заговорщиков», как их потом со смехом весь вечер называл Анатолий, было и без слов понятно, о чем так долго совещались они… Первый, как и надо было этого ожидать, догадался о событии Толя, и, не выдержав, шепнул о нем Силе Романовичу и Бэтси, с которыми был очень дружен.
Сила Романович особенно обрадовался за князя, которого глубоко ценил и уважал. А Лику, продолжавшую казаться ему неземным ангелом, он считал вполне достойной самого огромного счастья на земле.
На правах избалованного взрослого мальчика, которому всегда прощались все его выходки, благодаря его подкупающей веселости, Толя, попросту кинулся на шею баронессы, стал целовать ее морщинистые щеки и бурно благодарить за устроенное ею счастье сестры.
– Вот вы какая настоящая русская сваха! Самая разрусская, московская, а еще носите немецкую фамилию! И вам не стыдно! – смеялся он.
– А ты почтительнее будь со старшими, мальчуган! Я тебя, небось, с пеленок знаю и за вихор трепала в детстве не раз! – весело отшучивалась та. – Небось помнишь, да не скажешь, так ты и не смей меня моей немецкой фамилией попрекать. А то ведь и не посмотрю на то, что ты под потолок вырос и за ушко да и на солнышко живо вытащу, только держись у меня.
– Ха, ха, ха! – весело рассмеялась молодежь при этой шутке.
– А не отпраздновать ли нам сегодня же столь торжественное событие! Не взять ли тройку, да не прокатиться ли по морозцу крещенскому. Ведь еще не поздно и к вечернему чаю успеем вернуться за глаза! – предложил Сила Романович и тут же сконфузился, точно сказал Бог весть какую нелепость.
– А баронесса ее превосходительство за старшую у нас соблаговолит быть, – развил дальше его идею Толя и скосил на баронессу хитро прищуренные глаза. – Вот молодчина-то, что придумал Силушка Романович. Люблю друга за ум! – в восторге от плана молодого человека, неистовствовал он.
– И так это ты всегда хорошо придумаешь, Сила, – одобрила и Бэтси своего двоюродного брата.
– Едем! Едем, господа! Нечего терять драгоценного времени! – суетился Толя.
– Да ты совсем никак ума рехнулся, мой голубчик. Ты меня-то спросил раньше, разрешу ли я ехать вам, да и поеду ли я вообще с вами, – притворно сердитым голосом накинулась на юношу баронесса.
Но тут молодежь окружила ее со всех сторон и стала так трогательно просить исполнить их желание поехать с ними, что добрейшая в мире старуха, не желая огорчать молодую компанию, живо дала свое согласие.
Сила Романович и Толя помчались заказывать тройку, а Лика и Бэтси с князем и баронессою снова принялись забавлять детей.
Молодые люди очень скоро подкатили к крыльцу приюта в великолепной тройке с бубенцами, запряженной чудесными вороными лошадями. Попрощавшись с детьми и с их двумя наставницами, все шумно высыпали на крыльцо, и стали размещаться в просторном шестиместном экипаже, весело болтая и смеясь. Ямщик молодцевато гикнул, и тройка сразу, сорвавшись с места, бешено понеслась по снежной дороге.
Быстро меняясь, словно в калейдоскопе, замелькали тускло горящие фонари по обеим сторонам улиц, дворцы, величественные здания, деревья скверов, запушенные снегом, и дома с их ярко освещенными окнами. Во многих из них виднелись пышно украшенные ели, мелькали силуэты нарядно одетых взрослых и детей. Снежные комья попадали в тройку, осыпая путников к всеобщему оживлению. Снежная пыль летела прямо в лицо.
Морозный воздух щипал щеки, лоб, губы… Глаза горели, дыхание захватывало от этой бешено быстрой езды.
– Ах, хорошо! – вырвалось вместе с прерывистым вздохом из груди Лики.
– Чего уж лучше! – откликнулся ей своим мягким басом Сила Романович.
Лика посмотрела на него и не узнала в эту минуту молодого человека.
Весь ушедший в свою тяжелую шубу, с высокой бобровой шапкой на голове, широкоплечий и огромный, он казался ей настоящим косматым медведем.
А из меха шубы выглядывало доброе, открытое, улыбающееся ей, ласковое лицо, мягко сияли светлые, кроткие глаза.
– Какой он добрый, – мелькнуло у нее в голове.
– А князь еще добрее и лучше! Князь лучше всех в мире! Лучше всех! – мелькнула в ее головке новая мысль.
И она перевела ласковый взгляд на своего жениха.
Вечернее освещение и свет мелькавших по дороге фонарей наложили какой-то странный отпечаток на лицо князя. Обычной печали не было в нем сейчас. Напротив, оно точно сияло и из его глаз исходили лучи тихого безмятежного счастья. Седеющие волосы и старившие обыкновенно его лицо были не видны сейчас, прикрытые шапкой, и весь он казался радостным и оживленным.
– Вам не холодно, Лика? – озабоченно обратился он к девушке, заметив ее пристальный взгляд.
– Нет, нет, ничего! Мне так хорошо! Так славно! – поспешила она ответить.
– Еще недоставало простудить девочку! – загудел из-под собольей перелины голос баронессы, – долго ли до греха, хватила студеного воздуха и готова… Ах, уж и раскаиваюсь же я, что послушалась вас, негодные вы этакие, и согласилась ехать с вами! – добавила она ворчливо.
Быстрее помчалась тройка… Снежная пыль закрутилась сильнее, залились звонче и веселее бубенцы под дугою… Ямщик то и дело весело покрикивал на лошадей.
Никто уже теперь не говорил ни слова.
Все находились под приятным впечатлением чудесной поездки.
Было уже десять часов, когда Толя привез домой сестру.
Лика хотела немедленно пройти к матери поделиться с нею своим счастьем, но подумав, решила, что уже поздно беспокоить Марию Александровну, которая улеглась раньше обыкновенного, так как чувствовала себя не вполне хорошо, – и решила отложить разговор на завтра.
XVII
– Хана, что с тобою? Куда ты бежишь от меня, моя девочка.
– Ах, это ты papa Гари.
Хана не знала, что papa Гари дома сейчас.
– Ты плутуешь что-то, Хана, подойди-ка ко мне, моя крошка!
Маленькая японочка, проскользнувшая было мимо двери комнаты своего названного отца, вошла в кабинет по его зову.
У Ханы были заплаканные глаза сегодня и вся она казалась очень расстроенной. Ее крошечные губки казались надутыми, щеки были бледны.
И все лицо носило следы слез.
– Что такое с тобой случилось, Хана? Или ты опять не поладила с m-elle Веро? – озабоченным тоном спрашивал князь девочку.
M-elle Веро когда-то была воспитательницей самой княгини Екатерины Гариной. Теперь эта почтенная особа осталась после смерти хозяйки в княжеском доме, чтобы воспитывать маленькую японочку.
С Ханой у бедной француженки было не мало хлопот однако.
Часто старуха Веро жаловалась на девочку князю, так как какой-то капризный, непокорный бесенок вселялся частенько в дикарку, и в такие минуты Хана решительно отказывалась повиноваться своей гувернантке, не слушала ее замечаний, садилась в угол, надувала губы и целыми часами просиживала так, недовольная всем и злая на весь мир.
Обыкновенно, в такие периоды один только князь умел развлечь и успокоить маленькую капризницу.
Он звал девочку к себе, вспоминал с Ханой ее родину, голубой океан, милый Токио и пестрые цветы красивых царственных хризантем, и целые поля лотосов, любимых Ханиных цветов.
И девочка оживлялась от этих воспоминаний, веселела, утихала и делалась более кроткой и покорной; глазки ее начинали сиять, губки складываться в улыбку, и самая жизнь на чужбине переставала казаться печальной и несносной маленькой Хане.
Она брала музыкальный ящик, привезенный ею с ее родины, усаживалась на ковер, поджав ножки, и ставила себе его на колени. Тогда глаза ее принимали задумчиво грустное выражение, а тонкие пальчики бегло перебирали струны, в то время как нежный тонкий голосок напевал любимые ею песенки ее родины.
И сегодня, предполагая, что его любимицей Ханой овладело так часто посещавшее ее капризное настроение, князь притянул к себе девочку, посадил ее рядом с собою и стал озабоченно расспрашивать маленькую дикарку о причине ее недовольства.
– Смотри мне прямо в глаза, Хана! – поднимая ее кукольное личико и заглядывая в него внимательным, зорким, встревоженным взглядом, говорил он, – скажи мне откровенно, моя крошка, отчего ты такая надутая сегодня? Ты плакала опять нынче? Я хочу знать всю правду, говори.
– О, Хана не умеет плакать… – гордо и с достоинством отвечала девочка. – Разве papa Гари не знает, что Хана не умеет плакать, как другие мусме ее лет. Хана только петь да плясать умеет. Papa знает, что слез быть не может у Ханы, потому что Хана не захочет обижать своего отца.
И, как бы в подтверждение своих слов, японка схватила музыкальный ящик, положила его на колени и, поджав под себя ножки, уселась на пестрой циновке поверх ковра.
Князь Всеволод стал внимательно прислушиваться к тому, что извлекали из серебристых струн ее крошечные пальчики и думал в это же время о той милой девушке, которая дала ему слово осветить своим присутствием жизнь этого милого, но строптивого ребенка.
– Да, не легко будет первое время ей с Ханой! Бедняжка Лика! Девочка дичится всяких новых знакомых и наверно будет чуждаться и ее первое время. И, Бог весть, как еще встретит она новость о приобретении новой «mama».
Он давно не вел тех бесконечно длинных бесед с Ханой, которые происходили между ними раньше.
С тех пор, как охваченный заботами о бедных детях, призреваемых в его питомнике, князь постоянно был в хлопотах с делами убежища и поручал Хану заботам madame Веро. Теперь же им необходимо «сговориться» с его приемной девочкой по поводу нового события в ее жизни.
Неужели же она не полюбит Лику? Последняя так обаятельно прекрасна со своей чистой хрустальной душою в роли ангела-хранителя его приютских детей; неподражаемо хороша с ее самоотверженным любвеобильным сердцем!
Неужели она не сможет покорить эту дикую, необузданную, но добрую и восприимчивую ко всякой ласке, избалованную девочку.
Эта мысль сейчас снова промелькнула в голове князя и сердце его сжалось тоской. Неужели Хана откажется в повиновении ее будущей молодой матери?
Однако, что такое с ней, с Ханой, сегодня? Она заметно изменилась за это время. Ее кукольное личико осунулось, кожа стала прозрачнее, синие жилки обозначились сильнее на висках. И вся она точно сделалась легче, миниатюрней.
– Ты похудела, Хана? Ты изменилась? Ты не здорова? Больна? – заботливо и тревожно наклоняясь к ней, спрашивал ее названный отец.
В одну минуту музыкальный ящик, из которого до сих пор японочка извлекала печальные звуки, был далеко отброшен с жалобным стоном.
– Papa Гари! Papa Гари! Дорогой мой! Радость моей радости, солнечный луч моей родины! Синяя струйка серебряного ручейка! Отец мой, дорогой отец! Ты не разлюбил? Значит, по-прежнему ты любишь Хану. Не сердишься на нее? – вскричала, вскакивая на ноги, смеясь и плача в одно и то же время, маленькая дикарочка.
– Что ты, Хана? Разве я сказал тебе это? – испуганный ее порывом, говорил князь, гладя черненькую головку девочки.
– Хане было скучно… Хана тосковала без тебя! – залепетала снова своим прежним капризным тоном девочка. – M-elle Веро злая, велит учиться по-французски, а Хана не хочет… Хана не хочет учиться. Хана любит петь, играть и плясать свои любимые песни и танцы… Как птичка кружиться по комнате… А madame Веро не позволяет ей это… Ненавидит Хана за это злую Веро.
– Слушай, деточка, – прервал князь взволнованный лепет ребенка, – хочешь твой papa найдет тебе старшую подругу, одну милую, хорошую девушку, которая заменить тебе в одно и то же время мать и сестру? И ты будешь играть и болтать с нею, а madame Веро может жить у нас на покое.
– Что ты говоришь, отец? Подругу? – Хана широко раскрыла свои черные глазки, чуть заметно приподнятые на углах. – Правду ты говоришь, папа Гари? Подруга! Большая мусме! У Ханы будет новая подруга! – кричала она восторженным голосом и, как пестрый мотылек, закружилась по комнате.
– Мусме! Такая же Мусме, как Хана! – заразительно весело смеялась она.
Потом неожиданно стала серьезной и, приблизившись к своему названному отцу, начала самым обстоятельным образом расспрашивать князя, какого возраста новая подруга, какие у нее волосы, глаза, губы. Будет ли она любить ее, Хану, будет ли охотно забавлять ее, или предпочтет сидеть в углу над книжкой, как это делает эта скучная madame Веро.
Князь обстоятельно рассказал Хане про Лику. Самым тщательным образом описал ее наружность и долго-долго говорил о ее необычайной доброте и умении привязывать к себе и детей, и взрослых. Об одном только не сказал князь Гарин, что белокурая девушка, которую он так хвалил своей приемной дочурке, сделается его женою, и что он так же будет любить ее и заботиться о ней, как заботился до сих пор после смерти первой жены об одной только Хане.
– Надо исподволь подготовить девочку к тому, что у нее будет новая воспитательница, сразу не следует волновать ее и без того взволнованную новостью приобретения старшей подруги, – решил он в глубине души. И снова стал рассказывать о Лике дочурке, заставив маленькую японочку радоваться от души от предстоящего ей удовольствия иметь такую прекрасную подругу.
В этот вечер Хана заснула позднее обыкновенного, сладко мечтая о златокудрой девушке, которая придет делиться с нею ее, Ханиными, радостями и невзгодами. И во сне она видела Лику, такою, какою описывал ей ее князь. И сонная девочка сладко улыбалась своим грезам и протягивала руки, желая во что бы то ни стало обнять милое златокудрое существо.
XVIII
– Тише! Не будите их. Они только что уснули.
– Но разве теперь время спать? Что за странные порядки в этом доме!
Рен, щегольски одетая в дорожный суконный туалет, с сумочкой через плечо, заглянула в спальню Лики.
– Всю ночь не спали… Головка разболелась… под утро только и соснули немножко, – предупредительно докладывала ей Феша.
– Экая досада! Я только что с дороги. У вас какое-то сонное царство… И могут же безалаберные люди спать целые дни! – возмущалась Рен, пожимая своими тонкими плечами.
– Я не сплю. Что такое? Кто там, Феша? – послышался с постели тревожный голос Лики. – Ах, Рен, как я рада тебя видеть! Отчего вы вернулись так рано, однако?
– Но мы и не думали возвращаться. Барон, мой муж, остался в замке, а я прилетела сюда с мисс Пинч с курьерским. Ты посмотри только на эту телеграмму, – возмущенным тоном заключила она, протягивая бумажку Лике.
Феша ловко раздвинула драпировки окна, и целый сноп солнечных лучей ворвался в комнату. Рен тут только при ярком освещении заметила счастливое личико Лики.
– Ну, так я и знала, ты сияешь! Значить, ты счастлива. Взгляни, однако, что телеграфировал мне ночью Анатоль.
...
«Милая Рен. Случилось событие: нынче вечером князь сделал предложение Лике. Надо, чтобы ты приехала домой поздравить ее».
– Как? Что такое? Когда же он успел однако! – смущенно залепетала Лика.
– Это мне надо спросить тебя! Вы живете здесь и находитесь в курсе всего. Послана срочной. Я, как только получила, сейчас же с ночным поездом сюда. Как видишь, я достаточно нежная сестрица, – и Рен иронически скривила губы, что должно было означать улыбку на ее длинном лице.
– Благодарю тебя, Рен, от всего сердца! А вот Толя бессовестный, ни говоря ни слова телеграфировал тебе, прежде нежели мама обо всем узнала. Это верно тогда, когда он за тройкой ездил.
– За какой тройкой?
– Да ведь мы катались вчера! Ах, да ты не знаешь!
И Лика рассказала сестре все, что случилось с нею, торопливо одеваясь в то же время при помощи Феши.
Было около часа дня, князь или уже был у ее матери или должен был приехать каждую минуту. Ах, как она волновалась сейчас! Полночи она провела за письмом к тете Зине и синьору Виталио. Она писала им, что теперь ее деятельность на пользу человечеству развернется шире и мощнее. Она выходит замуж за человека, который будет помогать ей в этом, который чувствует так же, как и она, горячую потребность всю свою жизнь, все силы отдавать на пользу нуждающимся, сирым и голодным людям.
Да, она счастлива, вполне счастливее их Лика…
Князь Гарин положительный, серьезный человек, много переживал в своей жизни, и тетя Зина и добрый синьор Виталио могут быть вполне спокойны за их девочку.
И пока девушка писала эти письма, наполняя их страницы похвалами своему жениху, самое чувство Лики к князю разрасталось с каждым мгновением в груди ее.
И долго еще не могла заснуть в эту ночь девушка: перед ее духовным взором неотступно стоял образ князя и ей казалось, что она давно сильно и крепко любит этого человека. Да, любить его крепко, всей своей душой, такого отзывчивого и мягкого ко всему доброму, светлому и благородному в мире. Сейчас же волнуясь, едва успевая отвечать на вопросы Рен, Лика одевалась, причесывалась, умывалась… Вот она и готова. Вот подает руку Рен. Выходить с нею в коридор. Идет, не слыша ног под собою в столовую, оттуда в зал, где обычно Мария Александровна принимает гостей.
В соседней с залом гостиной у Марии Александровны сидит кто-то. Кто-то знакомый и бесконечно уже дорогой ее, Ликиному, сердцу и говорит с ее матерью.
Она сразу узнала этот голос, тот же певучий и мягкий баритон, который так понравился ей еще там, на эстраде, в концертном зале.
И снова сильное чувство к князю заставило забиться ее юное сердечко.
Она не помнит, как вошла в гостиную по зову матери, как бросилась в ее объятия, как выслушивала ласковые речи Марии Александровны, произносившей добрые, светлые слова.
– Дитя мое! Князь Всеволод Николаевич Гарин делает нам честь – просит твоей руки…
И другой бесконечно дорогой голос, прозвучавший где-то близко-близко от нее.
– Нет, я должен просить Лидию Валентиновну оказать мне эту честь.
И потом все сразу смешалось в каком-то розовом хаосе счастья. Поздравления родных, лучшие пожелания счастья, сердечные советы матери, все это посыпалось сразу на счастливую Лику и ее жениха.
Пришел Анатолий, приехал отчим, прикатила великанша баронесса. Лику затормошили расспросами на счет их будущей жизни.
Обычно степенная, холодная гостиная Карских ожила, повеселела. Даже чопорная Рен, вызвав на свое сухое лицо некоторое подобие улыбки, постаралась выразить свое удовольствие по поводу счастья, доставшегося на долю сестры.
Про Толю нечего было и говорить. Молодой пажик словно голову потерял от радости, забыв свой почтенный восемнадцатилетний возраст, он прыгал через кресла и стулья, барабанил на рояле свадебный марш и, разойдясь окончательно, кончил тем, что схватил мисс Пинч и завертелся с нею в вальсе к полному ужасу чопорной старухи.
XIX
Для Лики настали новые радостные дни. Теперь ежедневно в квартиру Карских приезжал князь. Он подолгу просиживал со своей невестой, строя планы их будущей жизни, раскрывая перед ней свои мечты на счет устройства новых сиротских домов, питомников, школ и богаделен. Все то, о чем мечтала тетя Зина, не имевшая достаточно средств для осуществления этой мечты, мог сделать свободно и легко князь Гарин, обладающей громадными капиталами.
Грезы Лики сбывались наяву. Все ее желания осуществлялись на деле. Нашелся человек, который поможет ей жить так, как она мечтала с детства. Школы, питомники, богадельни! О, сколько труда и работы ждет ее впереди! Спасибо! Спасибо ему сердечное, этому великодушному человеку! – восклицала не раз мысленно девушка и с каждым днем все больше и крепче привязывалась к князю, все больше и глубже чувствовала свою благодарность, уважение и горячую привязанность к нему.
Теперь ей часто казалось странным, как могла она не думать раньше о князе. Теперь, беседуя подолгу с ним, Лика много и подробно расспрашивала его о покойной княгине, о маленькой Хане, восторгаясь добродетелью первой, она мечтала как можно скорей увидеться и познакомиться со второй.
– Успеете еще сделать это, моя дорогая! – утешал ее князь. – Хана – капризное маленькое создание. Ее надо исподволь подготовить к готовящейся ей в жизни перемене. Теперь я приучаю ее понемногу к мысли, что у нее будет прелестная, очаровательная подруга ее занятий и игр. И когда Хана, очень легко поддающаяся привязанности, будет просить меня познакомить ее с вами и привезти ее к вам поскорее, тут я и скажу ей, чем, в сущности, будете вы для нас обоих, дорогая, несравненная Лика! Не правда ли так будет лучше всего?
– Разумеется! – согласилась Лика, – все это вы сделаете, все хорошо и мудро! – прибавила она, с беззаветной преданностью глядя в лицо своему жениху.
Иногда Лика и князь пели дуэты. Их чудные голоса разливались по всему дому, зажигая восторгом сердца слушателей. Теперь Лика уже не дичилась общества, как раньше. Напротив, ей было приятно выезжать с князем, посещать своих и его родственников и родных. Приятно было навещать светских приятельниц и делиться с ними своим счастьем.
Она не могла не гордиться своим прекрасным, благородным женихом!
Иногда они ездили втроем с Анатолием, когда он приходил из корпуса, или с Бэтси, часто наведывающейся к Лике, в театр и, замирая от восторга, слушали оперы, которые так любила Лика. В честь молодой пары устраивались обеды, рауты, вечера среди друзей. Князя очень любили и уважали в свете и всячески стремились почтить его и его юную невесту. Лика писала теперь уже менее длинные письма тете Зине, признаваясь, что счастье немного закружило ее и что она решительно не может понять, куда теперь уходит так много времени. И тут же, попутно, давала обещание как можно скорее войти в обычную колею и снова приниматься за обычную работу в питомнике и других благотворительных учреждениях, которые должны были быть учреждены к концу года щедрыми руками князя.
XX
...
«Ваша любимица Танюша опасно занемогла. Зовет вас в бреду и в сознании. Ради всего дорогого приезжайте, Лидия Валентиновна! Ребенок очень привязан к вам и вы усладите своим присутствием ее последние минуты. Почтительно преданная вам Валерия Коркина».
– Танюша! Боже мой, Танюша! Она умирает! – дрожа и волнуясь, произнесла Лика, нервно комкая в руках злополучное письмо. – Когда вы его получили, Феша?
– Вчера с посыльным. Вы из театра поздно приехали, барышня, я и не посмела вас беспокоить к ночи! – самым обстоятельным образом доложила расторопная служанка.
– Опасно занемогла вчера, а сегодня, может быть, уже без дыхания… Ужас! А я-то! Я-то забросила их, малышей моих! Ради своей глупой беспечности забросила! – мысленно казнила себя Лика. – По театрам да раутам разъездилась, ради удовольствий всяких жертвовала этой милой детворою… Хороша благотворительница, нечего сказать! – злорадно прибавила она, исполненная самоуничижения и негодования к своей особе. – Ехать во что бы то ни стало, ехать туда сейчас же. Танюша! Умненькая, тихонькая, голубоглазая Танюша, так доверчиво глядевшая на всех своими огромными глазами, и вдруг она умрет! Умерла уже, быть может! Танюша! Танюша! Какой ужас! Какое несчастье!
Лика дрожащими руками застегивала на себе пальто, завязывала вуаль, и ее сердце билось в груди тревожным боем.
Через полчаса она уже мчалась по Васильевскому острову в своей карете, по дороге в питомник.
– Слава Богу, вы приехали, Лидия Валентиновна! – встретила молодую девушку надзирательница. – Но что с вами? Вы больны были? Отчего мы вас не видели так давно?
– Я, нет… разве долго? – смутилась молодая девушка. – Что Танюша! Ей лучше? Хуже? Да?
– Плоха Танюша! Вряд ли выживет! Жаль девочку! Такая хорошенькая, нежненькая… Самая ласковая изо всех наших детей! – печально роняла надзирательница.
– Умрет! – едва удерживая слезы, глухо проронила упавшим голосом Лика. – Но… но почему же вы раньше не дали мне знать об этом? – с упреком бросила она Коркиной.
– Да помилуйте, Лидия Валентиновна! Вы сами должно быть были больны! – оправдывалась та. – Кто бы вас посмел беспокоить? И потом, ухудшение в последние три дня началось только. Мы вас зря беспокоить не хотели. Если бы вы здоровы были, приехали бы сами! А раз вас нет, значит, больны. Иначе и быть не могло!
– Иначе и быть не могло! – эхом откликнулась Лика, в то время как ее сердце сжалось вполне заслуженным упреком. Она отлично поняла, что добрый князь не хотел тревожить ее в счастливые минуты и о Танюшином недуге умышленно не сказал ни слова. А она-то! Ни разу не навестила питомника за все время. О, как жестоко, как несправедливо было с ее стороны уйти в свое эгоистическое счастье, забыв обо всем остальном мире. Разве эти дети, маленькие, жалкие сироты, призреваемые здесь в питомнике, не брошены были ею на произвол судьбы за все это время?
– Где Танюша? – резко произнесла она, желая замаскировать охватившее ее волнение.
– Пожалуйте. Я ее у себя в комнате держу: в детской совсем невозможно, ребята беспокоят. Сила Романович пожертвовал опять на устройство лазаретной палаты, по этой лестнице же велел нанять небольшую квартиру.
– Сила Романович… да… да… хорошо! – как во сне роняла Лика.
Страх за Таню, раскаяние, угрызение совести, негодование на себя, все смешалось в душе Лики, все слилось в один сплошной мучительный хаос.
– Тетя Лика приехала! Кто скорее к тете Лике! – услышала она веселый голос Федюши, и вся орава детишек бросилась навстречу к ней.
– Ты больна была? Отчего не ехала? А мы ждали, ждали! Танюша захворала… Кричит все время… Страшно! Доктор ездит, такой важный с очками на носу! Страсть! – докладывали ей со всех сторон ребятишки.
– Милые вы мои… – бегло ласкала их мимоходом Лика, – соскучилась я без вас. Постойте-ка, сейчас к Танюше схожу и вернусь к вам снова.
Она нежно отстранила от себя прильнувшего к ней Федю, кивнула остальным и быстро направилась в комнату Коркиной.
На широкой постели надзирательницы вся красная и пылающая, как огонь, лежала Танюша. Белокурые локоны растрепались по подушке, окружив точно сиянием исхудалое и заострившееся личико больной. Глаза девочки были широко раскрыты и блестели нестерпимым, горячечным блеском. Засохшие губки с трудом выпускали горячее дыхание.
– Тетя Лика… – с трудом произнесли эти губки, и исхудалая, похожая на лапку цыпленка, ручка, с трудом отделившись от одеяла, протянулась к молодой девушке.
– Сокровище мое! – изнемогая от жалости, произнесла Лика, осторожно охватывая исхудалое тельце ребенка.
– Я рада, что ты приехала! Я рада! – лепетала Танюша, – я боялась, что не увижу тебя и князеньку. Я так тебя люблю, тетя Лика, так люблю и вот… вот увидала, наконец.
«Что это? – сознательное предчувствие смерти или так детский лепет у нее?» – подумала тревожно Лика и вдруг, наклонившись над Таней, сейчас только увидела багровые пятна, зловещими кругами выступившие на груди и шейке больной.
– Когда был доктор? – дрожащим голосом спросила она надзирательницу.
– Вчера вечером, Лидия Валентиновна.
– А этого он не видел? – спросила Лика, указывая на пятна, покрывавшие тельце Тани.
Валерия Ивановна, очевидно, сама только что заметила их сейчас.
– Боже мой, заразное что-то у Танюши нашей, – прошептала она в ужасе и тревоге.
– Надо детей отделить… или ее увезти отсюда… Надо весь приют перевернуть вверх дном. Доктора еще позвать, консилиум собрать, что ли, – роняла слово за словом Лика, хватаясь за голову и в волнении дрожа всем телом.
– Сейчас же детей перевести в другое помещение… сию минуту необходимо сделать это. Да.
– Нельзя этого, Лидия Валентиновна, нельзя без княжеского приказания, он сказал, что все сделает сам, не могу действовать без него, – отвечала Коркина, волновавшаяся не менее Горной.
– Но Танюша умрет, пожалуй, пока мы узнаем распоряжение князя?
– Ничего не могу поделать, Лидия Валентиновна, неудобно без его разрешения, – твердо произнесла Коркина, а у самой сердце облилось кровью при мысли о том, что могло случиться с Таней.
– Я поеду к нему! – глухо произнесла Лика, – и привезу его сюда к Танюше… Надо ее спасти! – во что бы то ни стало спасти, поймите!
– Не уходи, тетя Лика… побудь у меня… побудь, – залепетала в ту же минуту в смертельной тоске больная, цепляясь своими худенькими пальчиками за платье молодой девушки.
– Сокровище мое, я опять к тебе приеду… Маленькая моя! Бесценная моя бедняжка!
И Лика осыпала бесконечными поцелуями слабенькую, крошечную грудку, где зловещими пятнами выступили признаки болезни. Потом, наскоро пожав руку Коркиной и сказав, что через полчаса будет здесь снова, вышла из приюта.
XXI
Одно жгучее безумное желание выхватить из когтей смерти Танюшу руководили Ликой, пока она ехала по бесконечным линиям Васильевского острова на Каменноостровский проспект, где жил князь. Личные чувства ее к жениху, точно придавились под тяжестью сознания несчастья, которое теперь овладело всем ее существом.
Она винила себя в недосмотре, невнимании и в полном равнодушии к делам питомника за все последнее время, погрузившись с головой в свое личное счастье, в свои собственные мелкие, как ей казалось теперь, интересы.
«Забросила! Забросила, цыпляток моих! – с горечью мысленно повторяла самой себе Лика, – забросила жалких, маленьких, точно и не было их у меня совсем на свете. Гадкая я, бездушная, скверная эгоистка!»
Так громила она себя во всю долгую дорогу к дому князя. Но, чем ближе подъезжала Лика к незнакомому ей еще дому Гарина, тем тише и тише становилась ее злоба на себя, тем острее и ярче вспыхивала в ней неясная бессознательная радость предстоящего свидания с князем… Сейчас она увидит его, скоро, скоро… сию минуту увидит его добрые глаза, услышит его ласковый голос, так и врывающийся прямо в душу, который так близок ее любящему сердцу. С сильно бьющимся сердцем сошла Лика с извозчика у ворот княжеского дома и направилась по широкой дороге прямо к главному крыльцу, наугад отыскивая путь.
Не слыша ног под собою, она поднялась по ступеням крыльца и позвонила у подъезда.
Внушительного вида лакей открыл ей двери.
– Князь дома? – спросила молодая девушка срывающимся от волнения голосом.
– Никак нет!
При этом ответе на прелестном личике Лики выразилось такое красноречивое отчаяние, что даже видавшему на своем веку виды лакею стало жаль от души этой неожиданной посетительницы. Он смутно догадывался к тому же, что белокурая барышня и есть будущая хозяйка дома, будущая новая княгиня.
– Да вы пожалуйте в кабинет-с, записочку оставьте его сиятельству! – предложил он.
– А… в кабинет? Хорошо!..
Лика быстро сбросила пальто на руки лакея и, предшествуемая им, направилась по длинной анфиладе комнат.
Вот эта громадная, мрачная комната с бюстами философов, картинами и коврами, вся заставленная громоздкой, тяжелой мебелью, о которой князь так часто говорил ей. Здесь он проводит часы, думая о ней. Здесь читает свои любимые книги, здесь работает, составляя проекты новых благотворительных дел.
– Дайте мне бумагу, – сказала Лика лакею, – я напишу князю.
– Слушаюсь! – произнес он, почтительно глядя на молодую девушку, про которую уже слышал много хорошего и которая сразу расположила его в свою пользу открытым, добрым, честным лицом. Лика присела к письменному столу и написала на блокноте три коротенькие строчки на всякий случай.
...
«Князь Всеволод! Танюша при смерти, сделайте соответствующие распоряжения насчет остальных детей, пожалуйста, так как у малютки, несомненно, заразная болезнь».
Потом, подумав немного, Лика прибавила внизу: «жду вас немедленно в питомнике», и, отложив перо, не покидая своего места, окинула глазами комнату. Как здесь было хорошо! Здесь она непременно будет читать вслух поочередно с князем, здесь же, в этой прекрасной большой комнате станет заниматься с маленькой Ханой как с родной сестренкой: учить ее и забавлять ежедневно. Жаль только, что при всей привязанности к князю и к его покойной жене, так сильно любя обоих, до сих пор не переменила веры и осталась все тою же маленькой язычницей, проводя столько лет в европейской семье. И Лика невольно перенеслась мечтами о том недалеком будущем, когда она будет стараться убедить Хану принять христианство. Как бы это было хорошо!
– Здравствуй, – произнес неожиданно за ее плечами звонкий детский голосок. Молодая девушка вздрогнула и обернулась.
Между двумя половинками темных бархатных портьер стояла яркая, пестрая, крошечная фигурка с устремленным на нее любопытным взором небольших черных блестящих глаз. Странная фигурка со своим ярким костюмом, в котором преобладали голубые, желтые и черные цвета, казалась сошедшей с какой-нибудь фарфоровой японской вазы.
– Вы Хана? – обратилась Лика ласково к маленькой незнакомке. – Здравствуйте, голубушка.
– Я – Хана! – получился утвердительный и очень серьезный ответ.
И лицо крошечки озарилось прелестной улыбкой.
– Таксан иеруси мусме! Таксан иеруси, [18] – произнесла она, разглядывая лицо, волосы и фигуру Лики, – кра-са-ви-ца, – с трудом выговорив по-русски трудно произносимое слово. – Хана слышала, что русская мусме похожа на ангелов, которым молятся европейцы, и волосы у русской мусме сияют, как солнце! Но такой не видала! Про такую не думала! Вот какая мусме! – закончила она с восторгом, и затем добавила, задумчиво помолчав мгновенье.
– Papa Гари говорил Хане про тебя, мусме! Не раз говорил отец Хане… Ты знаешь его?.. Русский князь, что взял Хану с ее родины, где целые поля лотосов, и целые сады хризантем, где небо синее-синее и где есть много хорошеньких маленьких мусме.
И Хана уехала оттуда, от синего океана, от родной Фузи-Ямы, от всех людей своего племени уехала Хана, как только умерла добрая мама Гари. Долго ехала по морю Хана. Увезли Хану от ее подруг из Токио в страну белых дикарей, где такой холодный снег, где надо день и ночь топить хиббачи, чтобы не превратиться в ледяную сосульку и где такие большие белые люди…
– Милая Ханочка, – произнесла Лика, притягивая к себе девочку, в восторге впивавшуюся взором в ее золотистые волосы и чудесные добрые глаза.
– Так ты скучаешь здесь, в России, бедная маленькая Хана?
– Да, Хана скучает и очень… Очень скучает! – воскликнула маленькая дикарка с такой неподдельной искренностью, что сердце Лики дрогнуло от жалости к ней.
– Отец обещает Хане привезти к ней большую красивую подругу, эта подруга такая же, как ты, светлая, златокудрая. Она будет рассказывать Хане о бедных маленьких детях, будет петь чудные песни и будет играть с Ханой, читать ей прекрасные книги о ее далекой Дай-Нипон и тихом океане, и синем небе над ним. И Хана будет любить златокудрую добрую фею и благодарить утром и перед ночью ложась спать Великого Духа и шесть главных божеств за то, что они, светлые, прислали ей, Хане, чудесную подругу! – восторженно закончила маленькая дикарочка.
– Послушай, Хана! – серьезно глядя в лицо девочки, тихо, но внушительно, проговорила Лика. – Когда ты молишься твоим богам, малютка, в минуты грусти и тоски, и легче тебе становится после молитвы? Я хочу знать. Подумай хорошенько и ответь мне потом.
Хана задумалась на минуту, ее узкие восточные глазки сузились еще больше. Она долго стояла подле Лики с опущенной головой и теребила пальцами конец своего расшитого шелками пояса.
– Ах, – произнесла она печально, – Хану не утешает молитва. Не проясняется сердце после нее. Papa Гари говорит, оттого это, что Хана молится не тому, кому надо. Что Бог христиан внимателен и чуток к просьбам его детей, а что другие… – она не договорила.
– Твой отец говорит правду, малютка, – произнесла Лика, – наш Христос Единственный Господь мира. Он кроток и добр, милостив и светел, как никто. Стоит попросить усиленно у Него чего-либо и Он облегчит страдающему горе, и Он милосердный придет на помощь каждому нуждающемуся и вот унесет его страдания. Ты послушай только, как Он пришел на землю, как отдал Свою жизнь за грехи людей, как пошел на злейшие страдания, чтобы искупить вину всего грешного человечества. Неужели papa Гари не говорил тебе о Нем?
– О, много раз говорил, – произнесла малютка, – но ты, белая мусме, во сто крат лучше говоришь о Христе, нежели папа Гари. Но… но… Хана знает свое божество и не станет тебя слушать, мусме!
У Ханы свои боги… Хана привыкла верить в них, в Великого Буду и в шесть главных божеств. И вера Ханы останется ее прежней верой, милая мусме. Ведь все равно ваш Христос, Бог христиан и русских, не полюбит Ханы, она слишком дурная для этого! – и заключила свою речь пытливым вопросом девочка.
– О, Он любит всех, моя крошка, и, конечно, тебя тоже, но почему ты считаешь себя дурною, Хана? – осведомилась заинтересованная Лика.
Японочка улыбнулась лукаво, потупилась со смущенной улыбкой и начала перечислять, отгибая свои крошечные пальчики.
– Хана злая… капризная… непослушная… Хана не слушается madame Веро… Не слушается и papa Гари… Хана дурная девочка. Papa Гари, уезжая нынче до утра, просил Хану учиться по французски с madame Веро – Хана не училась. Просил носить европейские платья, а Хана, лишь только уехал papa Гари, надела кимоно и оби и причесалась по-японски. Отец не любит, когда Хана ходит в своих японских костюмах; papa Гари говорит, что так Хана никогда не привыкнет к русским обычаям, а Хана…
– Разве отец твой уехал до завтра? – с трепетом проговорила Лика в то время, как страх за участь Танюши и остальных детей мучительно всколыхнул душу.
– Да, – ответила Хана, – papa Гари поехал в свою пригородную усадьбу, чтобы приготовить там помещение для деток приюта и перевезти их туда, так как одна малютка там заболела, и papa Гари боится, чтобы болезнь не перешла на других… Надо их отделить, поэтому так сказал и решил papa Гари перевезти их на время в дачу… Но это еще тайна, и там в доме, где живут дети, этого не знает никто, – с важным таинственным видом заключила малютка.
– Какой он предупредительный и добрый, однако! – мысленно подумала Лика. – И из страха огорчить и испугать меня скрыл болезнь моей любимицы Танюши. А я-то что думала, гадкая эгоистка! Я-то и думать забыла о детках моих! – И со стесненным сердцем, смущенная и опечаленная, она прикрыла лицо рукою.
– Что с тобой, мусме? Ты плачешь? – прозвенел снова детский мелодичный голосок у уха Лики, и в ту же минуту две маленькие ручонки обвились вокруг ее шеи.
– Милая златокудрая мусме, – залепетала девочка, – не надо плакать… Хана не любит, когда люди плачут!.. Хана хочет, чтобы все улыбались весело, чтобы всем было радостно. И ты должна радоваться около нас, милая мусме. Ты такая прекрасная, кроткая! У тебя глаза, как океан близь Токио, а волосы точно золотые хризантемы в Дай-Нипон! У наших мусме нет таких волос. Милая мусме, скажи Хане, ведь не ошиблась Хана, ведь это ты придешь сюда к нам и будешь милой подругой Ханы? Да? Ты так похожа на ту, что описывал Хане papa Гари? Ты и есть та чудесная златокудрая волшебница, фея, скажи, мусме, да?
Лика с улыбкой смотрела на девочку, нежно гладя рукой ее черненькую головку.
– Детка моя, – проговорила она, – ты не ошиблась, я скоро поселюсь в вашем доме, буду играть и заниматься с тобою. Буду петь тебе мои песни, буду безотлучно с моей маленькой девочкой. Ведь ты будешь любить меня хоть немножко… хоть в половину того, как ты любишь покойную княгиню mama? Да?
Лика наклонилась к девочке, ласково заглядывая ей в глаза. Мгновенно худенькие ручки Ханы снова обвились двумя тонкими змейками вокруг шеи молодой девушки. Град поцелуев посыпался на щеки, губы, глаза и волосы Лики.
– Мусме моя! Дорогая! Красоточка! Хана угадала сразу тебя! Как взглянула, так и угадала мусме, подружку золотоволосую, синеглазую! Чудная моя! Ах, как Хана будет тебя любить! Как будет слушаться тебя во всем!
И девочка глядела на свою будущую воспитательницу восторженными глазами.
Лика с не меньшей горячностью возвращала милой дикарке ее ласки.
Они сидели, крепко обнявшись, на широкой кожаной тахте в тишине кабинета и разговаривали о близком будущем. Как они славно заживут все втроем: Лика, князь-отец и Хана.
Прошло не менее часа, по крайней мере, пока Лика не поднялась и не объявила своей маленькой собеседнице, что ей пора ехать, что ее ждет больная Танюша, за которой придется ухаживать всю ночь.
– Теперь я уеду, крошка, – проговорила она, обращаясь к Хане, уеду в приют к больной девочке, но скоро вернусь сюда и буду уже безотлучно с тобою. Скажи твоему отцу, когда он вернется, что Танюше стало хуже в его отсутствие и что Лика будет ждать его около кроватки больной. Передашь все в точности, Хана?
– Передам, миленькая мусме.
– Пока, до свиданья, детка!
Лика наклонилась к дикарочке и крепко обняла и поцеловала ее.
Черные узкие глазки Ханы впились в лицо девушки преданным восторженным взглядом.
– Поди сюда, мусме! – прошептала Хана и с торжественным видом потянула Лику к противоположной стене комнаты. Там на большом в натуральный человеческий рост портрет была изображена прелестная молодая женщина с неизъяснимым выражением кротости на болезненном личик, с ангельской улыбкой на губах.
– Мама Кити, княгиня Гари, – прошептала чуть слышно маленькая японочка. – О, как Хана любила ее! Она была добрая, как Кван-Нан и очень баловала Хану. Она все просила Хану: – дочка моя, хочешь, я научу тебя молиться Иисусу христианскому… А Хана все не хотела. И тогда не покорилась Хана, – дитя Дай-Нипон, страны восходящего солнца. Хана боялась прогневить богов и не слушалась mama Кити! Потом Кити зарыли около посольской церкви в землю, положили тяжелую мраморную плиту над нею, насадили розы около, много роз. Как думаешь ты, миленькая мусме, не рассердился русский Бог на Хану за ее упорство и не унес к себе в наказание Кити, ее дорогую mama?
Глаза девочки пытливым взором уставились в лицо Лики.
– Нет, нет, успокойся Хана! – поспешила утешить ее молодая девушка. – Наш Бог добр и милосерден, Он не обижает сирот. Княгиня Кити была слишком неземная, чтобы долго оставаться на земле! – прибавила она, любуясь очаровательным образом покойной жены своего жениха.
– Ты похожа на нее! – неожиданно вскричала Хана. – О да, ангельская мусме, ты на нее похожа, как будто ты ей родная сестра… И как это раньше Хана не заметила этого! О, глупая, глупая маленькая Хана!
И она снова бросилась целовать лицо, руки и платье своей гостьи.
XXII
– Князь не может быть сегодня, он приедет завтра. Я не застала его дома, – печально произнесла Лика, появляясь на пороге комнаты, где лежала больная Танюша. – Детей переведите пока в дальнюю горницу. Завтра князь увезет их всех за город, к себе на дачу.
– Хуже ей? – взволнованным голосом спросила она Коркину, наклоняясь над мечущейся в жару и стонущей Таней.
– Без вас был доктор, Лидия Валентиновна, сказал, что вряд ли доживет до утра наша бедняжка! У нее тяжелая, опасная болезнь, да и заразительная, вдобавок, – чуть слышно тихо произнесла Валерия Ивановна и назвала мудреное латинское слово, определявшее недуг Тани по отзыву врача.
– Господи! этого еще не доставало! – с отчаянием в голосе произнесла Лика и на минуту замерла, подавленная гнетущим впечатлением. Потом она как-то разом встрепенулась вся. Взор ее загорелся энергией. Голос прозвучал затаенной силой.
– Валерия Ивановна! Пойдите к детям и запечатайте двери на вашу половину. Изолируйте их хорошенько, заприте кругом. Завтра мы переведем их с князем отсюда… Только бы уберечь их до утра. А теперь оставьте меня вдвоем с Танюшей. Пожалуйста. Я сама хочу ухаживать за нею!
– Но, Лидия Валентиновна, – попробовала было запротестовать Коркина. – Не лучше ли, если я приглашу сиделку?
– Я одна останусь у Тани! – решительно заявила Лика. – Только будьте добры предупредить моих домашних письмом, что я здесь!
Надзирательнице оставалось только подчиниться воле Лики, молодой попечительницы, и она пошла исполнять поручение последней.
Тяжелая, мучительная ночь бесконечно потянулась для Лики. Около одиннадцати часов еще раз заезжал доктор; он снова выстукивал, выслушивал и всячески мучил бедняжку Таню, и, в конце концов, заявил, что консилиум бесполезен и что вряд ли малютка дотянет до утра.
– А вам, барышня, я советовал бы убраться отсюда подобру, поздорову, – дружески сказал он Лике, – болезнь заразительная, и я не ручаюсь ни за что… Может случиться большое несчастье, предупреждаю вас, мадемуазель!
– Я останусь все-таки здесь до утра! – упорно возразила молодая девушка.
– Но девочка очень плоха, повторяю, – снова пытался убедить Лику доктор, – а болезнь заразительна… Вашу Таню вряд ли что может спасти… Одно еще средство остается нам. Если больная уснет хорошенько, пропотеет и наберется силы, тогда еще есть кое-какая надежда на спасение. Лекарства здесь не помогут ничем. Я пропишу только кое-что для поддержки сил и прошу сохранять покой у ее постели. И все же не могу скрыть от вас, что на выздоровление надежды мало, – закончил свою речь доктор, прощаясь с Ликой.
Молодая девушка осталась у постели больной. Точно добрый ангел повеял крылом над умирающей малюткой. Точно Лика хотела во что бы то ни стало вознаградить усиленными заботами и уходом свою маленькую любимицу за недавнюю небрежность к ней и к остальным детям питомника. И каждый раз, когда сознательно открывались голубые глазки Танюши, они встречали ответный взор больших, исполненных любви и сострадания глаз молодой девушки.
– Тетя Лика, ты? – с трудом произносили запекшиеся губки малютки.
– Я, мое сокровище! Я, моя крошечка! – отвечала Лика и, подавляя подступающие к горлу слезы, обнимала Танюшу, чувствуя под своими пальцами выступившие от худобы ребрышки бедного ребенка.
Девушка с ужасом думала о том, что, догляди она раньше, поинтересуйся прежде обо всех этих вверенных ее попечению крошечных существ, жизнь Танюши не погибла бы в самом ее начале.
Ребенок затих на некоторое время. Танюша не бредила и не металась больше, а только слабо трепетала в постельке, как подстреленная птичка, ее жалкое, худенькое тельце, ее губки, широко раскрытые, как у птенчика, жадно хватали воздух.
– Жарко! Пить! – шептала то и дело охрипшим голоском больная. – Тетя Лика, пить! Где ты, где ты?
– Я тут, моя радость! Малютка моя ненаглядная! Я тут! – и Лика поила Танюшу, с трудом пропуская воду сквозь судорожно сжатые зубы ребенка.
– Душно! Душно! – пролепетала снова через минуту Танюша тем же беззвучным, слабым голосом.
Тогда Лика быстро схватила ножницы со стола и в одну секунду обрезала пышные локоны девочки.
– Так лучше, не правда ли, мой ангел? – нежно наклонясь над больною, спросила она.
Та силилась ответить и не могла, силилась улыбнуться, но улыбка не вышла. Только слабая судорога скривила запекшиеся губки.
– Боже! Спаси ее! Сделай чудо, спаси ее, Господи! – в отчаянии простонала Лика. – Не накладывай вечного укора мне на душу за мой непростительный эгоизм, исцели ее! – падая перед киотой, стоявшей в углу комнаты, лепетала она, судорожно сжимая руки. – Возьми мою жизнь, но сохрани Танюшу! Молю Тебя, Господи, о ее исцелении!
Горячая молитва так и лилась без удержу с губ молодой девушки.
Так никогда еще не молилась в своей жизни Лика. Слезы струились по ее лицу. Глаза с теплой верой и надеждой смотрели на образ.
– Господи! – произносила она в страстном порыве, – если выздоровеет Таня, я отрекусь от веселья, выездов и все свое время целиком буду посвящать нуждающимся в моей помощи, а особенно детям… – шептала она, до боли сжимая руки, – только услышь меня, Господи!
Уже светало, когда Лика обессиленная поднялась с колен.
– Танюша! – тихо позвала она, склоняясь над постелью девочки.
Ответа не было.
– Умерла! – вихрем пронеслось в мыслях Лики и, вся холодная от ужаса, она склонилась ближе к лицу Тани.
Девочка лежала без движения и теперь казалась мертвой. Но детская грудка еще дышала неровно. Губки ловили воздух, как и вчера.
– Что это, однако?
Глаза Лики впились в лицо Тани… Что-то блестело на ней, точно росинки здесь и там. Крупные капли пота выступили незаметно по всему лицу девочки.
Танюша спала. Это был тот сон, придающий силы, о котором говорил доктор, что он один может облегчить тяжелое положение больной.
Танюша слабо застонала. Лика быстро прильнула к ней.
– Танюша! – тихонько прошептала она, – тебе лучше, скажи?
Глаза Тани внезапно раскрылись во всю их величину и сияли теперь, как два огромные синие камня. Все личико светилось какой-то непонятной, точно неземной улыбкой.
– Да, мне лучше, – слабым шепотом проронила она. – Тетя Лика, дай мне твою ручку! Мне лучше… я люблю тебя, тетя Лика!..
Таня глубоко вздохнула продолжительным, как бы облегченным вздохом, вырвавшимся из самых недр ее детского существа, затем снова опустилась головой на подушку. И вскоре заснула опять.
Когда под утро врач снова приехал взглянуть на больную, он был удивлен больше самой Лики той поразительной перемене, которая произошла с ее любимицей.
– Девочка спасена просто чудом! – произнес он радостно, – что вы сделали с ней?
Что сделала Лика? Увы, ничего! Она только молилась…
* * *
Когда князь приехал в приют и Валерия Ивановна пришла известить о его приезде Лику, молодая девушка едва нашла в себе силы выйти навстречу жениху. Сердце ее радостно билось в груди, лицо улыбалось, но полная слабость и головокружение совершенно валило с ног Лику.
– Но вы больны, дитя мое! – с испугом и тревогою при виде состояния Лики, вскричал князь.
– О, это пустяки… Танюша спасена, вот где радость! – проговорила та слабым, чуть слышным голосом и вдруг зашаталась и с бледным, как смерть, лицом упала на руки подоспевшего доктора…
XXIII
По занесенной снегом улице Петербурга под свист зимней метелицы, медленно трусил в своем невозмутимом равнодушии извозчик.
В санях сидела дама лет пятидесяти, некрасивое, но энергичное лицо ее с выражением явного неудовольствия, поминутно поворачивалось из стороны в сторону. Несколько короткая верхняя губа брезгливо подергивалась.
Но несмотря на кажущуюся суровость лица, дама производила очень выгодное, приятное впечатление. Начиная с умного взора, кончая сжатыми губами, все говорило о силе воли и непобедимой энергии в этом пожилом существе.
Сани въехали на Невский, затем на Морскую и затрусили еще медленнее, еще томительнее теперь.
«Господи, да что же это за ужас! – мысленно негодовала путница, – какие здесь извозчики, однако. И это столица, знаменитый Петров-город… прославленная Северная Пальмира».
– Да скоро ли! Скоро ли, наконец, – совсем уже теряя последнее спокойствие, обратилась она взволнованным голосом к вознице.
– Да почитай, что уже приехали. На Караванную нанимала, а здесь Караванная евона, – невозмутимо изрек возница.
– Что ж ты раньше не говорил! Фу, ты какой батюшка мой странный! – ворчливо укоряла дама своего флегматичного возницу. – Мне нужен дом № 18. Скорее!
Извозчик подстегнул лошадь и подъехал к указанному дому.
С легкостью девочки приезжая дама выпрыгнула из саней, быстро расплатилась с извозчиком и еще быстрее вбежала в подъезд.
– Здесь живут Карские? – спросила она дрогнувшим голосом у открывающего ей дверь швейцара.
– Так точно-с. Только они нынче не принимают, сударыня. Не знаете вы, видать, что у них: не все благополучно в доме! – произнес тот, смущенно глядя в лицо даме, – и чужих не велено принимать.
– А что такое?
Внезапная бледность покрыла лицо вновь прибывшей.
– Больны барышня у них очень. Сегодня вторая неделя пошла, как в беспамятстве они… барышня-то наша. Как привезли их тогда из приюта, значит, вторая неделя тому пошла. Обморок с ними приключился. А потом и пошло: кричат, бредят, не узнают никого, в полном беспамятстве, значит. Докторов лучших выписали, ничего не помогают, нет облегченья.
– Слушайте, – внезапно прервала речь словоохотливого швейцара вновь приезжая, – я – тетка, родная тетка и воспитательница Лидии Валентиновны, я – Зинаида Владимировна Горная, меня нельзя не впустить!
– Пожалуйте, барыня, пожалуйте, ваше превосходительство, – засуетился швейцар, – Лидия Валентиновна почитай, каждый день в бреду вас поминают, ихняя горничная Феша сказывала. Тетя Зина, – кричит, тетя Зина, иди ко мне! Да таким жалобным, жалобным голосом, что даже слезы всех прошибают.
– Бедная детка! – чуть слышно прошептали губы Горной, – бедная детка, – повторила она еще раз и с замирающим от волнения сердцем стала подниматься по лестнице.
Лишь только Зинаида Владимировна Горная получила письмо Лики, извещавшее ее о предложении князя, она тотчас же стала устраивать свои дела, чтобы ехать в Россию.
Ее до смерти потянуло к ее любимице Лике, в жизни которой готовилась произойти такая крупная перемена. И вот случилась беда! Бедная девушка при смерти, а она, тетя Зина, этого и не подозревала. С сильно бьющимся сердцем Горная прошла в огромную квартиру Карских, наскоро поздоровалась с обезумевшей от горя Марией Александровной и, узнав от нее, что Лика заразилась тяжелой формой тифа от Тани, тотчас последовала к дорогой больной. Увидя разметавшуюся по постели Лику, тетя Зина тихо вскрикнула от жалости и страха за свою любимицу.
Все нежное личико Лики было покрыто багровыми пятнами, теми самыми пятнами, которые так испугали ее самое на детском тельце Танюши. Рот ссохся до неузнаваемости, почернел и жадно глотал воздух. Огромные, ярко горевшие горячечным блеском глаза, были широко раскрыты в их потемневших орбитах, и смотрели на тетку безумным, ничего непонимающим взглядом.
А губы чуть слышно произносили непонятные, странные слова:
– Танюша! – лепетала в бреду Лика. – Куколка бедная… Цветочек лотоса и хризантемы… Хризантемы!.. О, сколько их! Целый лес… Целое поле… Хризантемы – царственный цветок Японии… Хана… Хана… Держите ее… Она идет в храм Будды… Зачем! Зачем! Она должна быть христианкой! Хана, моя девочка, останься, побудь со мною… О, как кричит кто-то! Как больно ушам от этого голоса! Пусть уйдут! Пусть уйдут! Прогоните их. Куда мы едем? Куда? Какие у тебя глаза, Танюша! Точно звезды!.. Я люблю твои глаза. Смотри, кто это там в гробу? Хана? Хризантемы, или Танюша! Танюша! Бедная! Не хочу! Не хочу! Где тетя Зина! Позовите тетю Зину! Сюда! Сюда! Скорее!
И она снова заметалась в мучительном, нечеловеческом по своей силе, томлении и забилась головой о подушки.
– Лика, моя деточка, моя дорогая! – склоняясь над дорогой больной, произнесла тетя Зина.
И, никогда, во всю жизнь не проронившая ни единой слезы, эта энергичная женщина заплакала, как ребенок, горячими, жалобными слезами…
* * *
День и ночь тетя Зина не отходить от постели больной. Никого не подпуская к ней, кроме доктора, жениха и матери. Кровать Лики поставили в светлую, большую комнату, предварительно вымытую и дезинфекцированную сулемой. Лучший доктор столицы приезжает к ней ежедневно, тщательно осматривает и выслушивает больную и то и дело меняет лекарство каждый день.
Зинаида Владимировна, как верный страж, день и ночь прикована к большому креслу у Ликиной кровати, где дежурила с не меньшим самоотвержением до сих пор, теперь из сил выбившаяся Мария Александровна. С мучительным ожиданием вглядывается тетя в исхудалое до неузнаваемости лицо своей любимицы, всеми силами стараясь облегчить невыносимые страдания молодой девушки, вслушиваясь в ее бессвязный лепет.
Четырнадцатый день борется между жизнью и смертью Лика. И только на четырнадцатый день, неожиданно для всех окружающих, приходит в себя. Болезнь приняла лучший оборот, лечение и тщательный уход восторжествовали над смертью, и ей стало лучше.
– Небывалый случай! – произнес знаменитый доктор, изумленно поднимая брови. – Небывалый случай, – повторил он еще раз. – Тяжелая форма… – он произнес мудреное латинское слово, – в соединении с нервным волнением. – Поздравляю вас, сударыня, у вашей племянницы железный организм, – обратился он к тете Зине, – и к вечеру больная окончательно придет в себя. Позаботьтесь только, чтобы ничто не взволновало ее… Никакая случайность, так как организм субъекта еще очень хрупок.
– Детка моя, отходили тебя, родная моя! – полным трепета и волнения голосом говорила тетя Горная по уходе врача, склоняясь над головой Лики. – Спаси тебя Господь, бедная, милая детка! – и она перекрестила затихшую теперь в легком забытьи племянницу.
– Мери, голубушка! – минутой позднее обратилась тетя Зина к Марии Александровне, тоже не отходившей ни на шаг от постели дочери. – Я не могу ей показаться сразу, а она не сегодня, завтра все понимать будет. Подготовьте осторожно к моему приезду мою милую деточку…
И Мария Александровна приняла на себя эту нелегкую задачу.
Прошла еще неделя. Лика уже сознавала все окружающее, слабо улыбалась матери и ела из ее рук и кашку и бульон.
– Наделала же я вам хлопот, мамочка, – тихо говорила она своим измученным, слабым голоском.
– Золотая моя! Живи только, поправляйся и ни о чем не думай, – отвечала та, с беззаветной любовью глядя в исхудалое личико больной.
– А известий нет из приюта, милая мамочка? – осведомилась минутой позднее Лика.
– Как же, как же! – поспешила ответить Мария Александровна. – Князь каждый день приезжает, говорит, что детишки чувствуют себя великолепно на даче. И твоя Таня поправилась вполне.
Лика счастливо улыбнулась.
– И еще есть для тебя и другая приятная новость, – снова заговорила Мария Александровна. – Тетя Зина едет сюда к нам… – с легкой нерешительностью заключила она.
– Что?
Сильно-сильно забилось сердце молодой девушки, грудь ходуном заходила под тонкой тканью сорочки от охватившего ее волнения.
– Когда? Когда она приедет, тетя моя? – задыхаясь от радости, пролепетала больная.
– Да теперь уж скоро, Ликушка, телеграмма была, – фантазировала Мария Александровна, с тревогой следя за малейшими изменениями на этом худеньком личике и все еще не решаясь сказать правду, трепеща за свою слабую дочурку.
– Скоро будет теперь, говорите вы? А как скоро? Сегодня? Или, может быть, мамочка… да говорите же, не мучьте, милая! – едва слышно прошептала Лика.
– Ликушка, золотая, не тревожься детка моя! – совсем растерявшись и гладя по головке как ребенка молодую девушку, успокоила дочь Карская.
– Лика моя! – послышалось в ту же минуту с порога комнаты и заплаканная Зинаида Владимировна в одно мгновение была уже подле постели больной.
– Тетечка! – могла только вскрикнуть Лика, замерла от счастья у нее на груди.
XXIV
Месяца два спустя, совсем уже выздоровевшая, Лика венчалась с князем Всеволодом Гариным.
Богатырь Сила Романович и Толя были шаферами у невесты.
Лика убедила мать не делать роскошной свадьбы. Она упросила князя ассигнованные на свадебные торжества деньги пожертвовать на питомник.
Приглашенных было немного: семья Карских, тетя Зина, Рен с мужем, баронесса Циммерванд, Сила с сестрою и больше никого. Таково было желание жениха и невесты. Тотчас после венчания решено было поехать в Нескучное, которое князь купил у Марии Александровны, и где они с Ликой решили устроить богадельню и больницу для бедняков. Тетя Зина и Хана должны были сопутствовать им туда.
– Да, да, в Нескучное… и не на лето только, а навсегда, как в детстве! мечтала я жить среди бедняков, – мысленно говорила себе Лика. – Вот где смысл жизни ее, где ее заветные идеалы! Вот оно ее счастье, неизменное счастье! Благо, тетю Зину удалось уговорить Лике остаться теперь вместе с ними навсегда в России. – Добрая, милая тетя, она только и мечтает видеть довольной и счастливой свою Лику. И как чудесно сделал князь, купив Нескучное. Сколько им всем предстоит теперь там дела и труда! Любимого труда!
Когда кончился свадебный обряд и новобрачные прошли на амвон слушать напутственный молебен, Лика взглянула на мужа… Да, именно он, а никто иной не мог бы так подойти душою к ее, Ликиной, душе. И как она благодарна за это! Пока она болела, пока лежала при смерти, он целыми днями и ночами простаивал у ее дверей, полный ужаса и скорби за нее. И каким счастьем сияло его лицо, когда она стала поправляться! Он так неисчерпаемо добр и предупредителен к ней, Лике, к ее малейшим желаниям!
Да, да, такого именно спутника жизни надо было ей, душевного, отзывчивого к нуждам других, чуткого и доброго, доброго без конца. Как они будут работать все вместе! Они оба – тетя Зина, Хана… Да, да, и маленькую Хану тоже, они приучат к работе. Она тоже должна идти по стопам старших, окружающих ее, друзей.
Лика живо воспроизвела в своем воображении трогательный образ маленькой японочки. Сегодня ее не было в церкви… Почему?
Несколько дней тому назад девочка приехала к Лике в сопровождении madame Веро.
До глубины души растрогало их недолгое свидание Лику.
Едва увидя выздоровевшую, поправившуюся от болезни Лику, Хана бросилась к ее ногам и залепетала в иступленном восторге, покрывая поцелуями лицо, руки и платье молодой девушки.
– О, миленькая, бедненькая мусме! Хана счастлива снова, когда видит тебя живою! Хана дрожала… Хана боялась, что бедненькую мусме зароют, как покойную mama-княгиню в могилу. А Хана так любит мусме! Так любит, Хана слышала от мусме, что Христос христиан и русских милосерднее Великого Будды и шести главных божеств. Милосерднее самой Кван-Нан и всех в мире. И вот Хана решилась: если мусме поправится, сделать такое большое, большое дело.
Тут Хана таинственно замолкла, приложив пальчик к губам. Об этой таинственности думала Лика, едучи в карете из церкви в дом мужа.
В роскошной квартире князя Гарина уже собрались все немногие приглашенные на свадьбу, когда сияя своей скромной красотою и белизной своего свадебного наряда, Лика об руку с мужем переступила порог его гостиной.
И вмиг что-то стремительное и бурное бросилось к ней на шею.
– Беленькая мусме! – Задохнувшись от прилива восторга, кричала Хана, покрывая поцелуями шею новобрачной. – Беленькая мусме! Дождалась тебя, наконец, дождалась.
– Хана, милая Хана! – ласкала девочку Лика.
– Послушай, мусме Лика, Хане надо открыть своему другу большую, большую тайну! – Торжественно произнесла последняя, увлекая новобрачную в кабинет названного отца.
– Слушай, миленькая мусме, что скажет тебе Хана, твоя верная собачка, – заговорила она новым серьезным голосом, какого еще не слышал у нее никто, и, усаживая Лику на тахту, сама устроилась, как котенок, подле ее плеча. – Когда была больна маленькая девочка из приюта, что ты обещалась Богу? – задала она тем же серьезным тоном вопрос, пытливо глядя в лицо нового друга.
– Я дала слово, Хана, – в тон японочке не менее серьезно ответила Лика, – дала слово бросить отныне всякие удовольствия и отдать себя всю на служение людям, моим ближним, всю без остатка.
– Papa Гари говорил мне это и ставил тебя мне в пример; – подхватила все тем же серьезным тоном японочка, – и когда в свою очередь заболела моя миленькая мусме, Хана чуть не помешалась от страха и горя… И тогда же вспомнив твое обещание, решила тоже пообещать, как ты, лишь бы не умерла миленькая мусме!
– Что же ты обещала, Хана, дитя мое? – живо заинтересованная речью девочки, спросила Лика.
– О, беленькая мусме! Вот что пообещала Хана. Помнишь, ты говорила Хане о милосердии вашего христианского Бога. О Христе рассказывала ты ей, о Том милосердном Христе, Который исполняет все, что просят у Него люди. И вот, что сказала Христу маленькая Хана… – Сделай так, чтобы выздоровела мусме Лика, чтобы не умерла мусме и тогда возьми Хану Милосердый Христос в число твоих христианских детей. Вот что пообещала тогда Хана.
– О! – вырвалось радостным возгласом из груди Лики и она прижала девочку к своему усиленно забившемуся сердцу.
– Да, теперь Хана будет христианкой! Мусме Лика жива. Хана счастлива и должна отплатить за это счастье христианскому Богу! – серьезным и проникновенным тоном говорила девочка. – Papa Гари приводит теперь каждый день русского священника к Хане, и он учит ее молитвам, символу веры и десяти заповедям христиан. Сейчас еще Хана не может войти в христианскую церковь, но после, потом, там, в деревне ее окрестят. Дядя Сила и тетя Бэтси будут слушать обеты Ханы быть верной христианкой Милосердному Христу. Так сказал papa Гари и Хана исполнит все, что ей велят! – с неизъяснимой трогательной покорностью закончила свою речь дъвочка.
Лика снова заключила девочку в свои объятия.
Пришедший за ними князь Всеволод застал эту трогательную картину.
– О, Лика! добрый ангел, вошедший в мой дом! Чем отблагодарить вас за дарованное мне счастье, – дрожащим голосом произнес князь, целуя руки молодой жены.
И все трое они вышли к гостям.
За ужином Анатолий весело шутил и дурачился с Бэтси и Ханой, говоря, что в «Нескучном очень скучно», и что вместо лошадей там ездят зимою на волках, а летом, наоборот, волки ездят на людях.
Обе они: и девушка, и девочка заразительно смеялись шуткам молоденького пажа.
В это же время на другом конце стола Сила Романович, у которого было свое имение близь Нескучного, предложил князю и Лике совместно построить еще один питомник, убежище для призрения бедных деревенских сирот и дом для бобылок, одиноких нищих старух.
Лика внимательно вслушивалась в каждое слово молодого заводчика, сочувствуя и изредка вскидывая глаза на сидевшую против нее тетю Зину.
– Видишь, тетя, сколько добрых людей на свете, – казалось, говорили без слов эти сияющие взоры молодой женщины, – и как приятно, как хорошо, как дивно хорошо иметь кругом таких добрых, таких отзывчивых людей!
И радостно сияющий взор Лики уже видел где-то далеко, далеко отсюда еще так недавно, бедные деревенские избушки, теперь превратившиеся как в сказке в хорошие, крепкие деревянные дома… Огромные здания, прекрасной больницы, богадельни, убежища для бедных старух и детей, и светлый фасад новой деревенской школы, который мерещился ей уже давным-давно…
И радостно торжествовала красивая душа Лики…
Записки институтки
Моим дорогим подругам, бывшим воспитанницам Павловского института выпуска 1893 года, этот скромный труд посвящаю.
Автор
Когда веселой чередою
Мелькает в мыслях предо мною
Счастливых лет веселый рой,
Я точно снова оживаю,
Невзгоды жизни забываю
И вновь мирюсь с своей судьбой…
Я вспоминаю дни ученья,
Горячей дружбы увлеченья,
Проказы милых школьных лет,
Надежды силы молодые
И грезы светлые, живые
И чистой юности рассвет…
ГЛАВА I
Отъезд
В моих ушах еще звучит пронзительный свисток локомотива, шумят колеса поезда – и весь этот шум и грохот покрывают дорогие моему сердцу слова:
– Христос с тобой, деточка!
Эти слова сказала мама, прощаясь со мною на станции.
Бедная, дорогая мама! Как она горько плакала! Ей было так тяжело расставаться со мною!
Брат Вася не верил, что я уезжаю, до тех пор пока няня и наш кучер Андрей не принесли из кладовой старый чемоданчик покойного папы, а мама стала укладывать в него мое белье, книги и любимую мою куклу Лушу, с которой я никак не решилась расстаться. Няня туда же сунула мешок вкусных деревенских коржиков, которые она так мастерски стряпала, и пакетик малиновой смоквы, тоже собственного ее приготовления. Тут только, при виде всех этих сборов, горько заплакал Вася.
– Не уезжай, не уезжай, Люда, – просил он меня, обливаясь слезами и пряча на моих коленях свою курчавую головенку.
– Люде надо ехать учиться, крошка, – уговаривала его мама, стараясь утешить. – Люда приедет на лето, да и мы съездим к ней, может быть, если удастся хорошо продать пшеницу.
Добрая мамочка! Она знала, что приехать ей не удастся – наши средства, слишком ограниченные, не позволят этого, – но ей так жаль было огорчать нас с братишкой, все наше детство не расстававшихся друг с другом!..
Наступил час отъезда. Ни я, ни мама с Васей ничего не ели за ранним завтраком. У крыльца стояла линейка; запряженный в нее Гнедко умильно моргал своими добрыми глазами, когда я в последний раз подала ему кусок сахару. Около линейки собралась наша немногочисленная дворня: стряпка Катря с дочуркой Гапкой, Ивась – молодой садовник, младший брат кучера Андрея, собака Милка – моя любимица, верный товарищ наших игр – и, наконец, моя милая старушка няня, с громкими рыданиями провожающая свое «дорогое дитятко».
Я видела сквозь слезы эти простодушные, любящие лица, слышала искренние пожелания «доброй панночке» и, боясь сама разрыдаться навзрыд, поспешно села в бричку с мамой и Васей.
Минута, другая, взмах кнута – и родимый хутор, тонувший в целой роще фруктовых деревьев, исчез из виду. Потянулись поля, поля бесконечные, милые, родные поля близкой моему сердцу Украины. А день, сухой, солнечный, улыбался мне голубым небом, как бы прощаясь со мною…
На станции меня ждала наша соседка по хуторам, бывшая институтка, взявшая на себя обязанность отвезти меня в тот самый институт, в котором она когда-то воспитывалась.
Недолго пришлось мне побыть с моими в ожидании поезда. Скоро подползло ненавистное чудовище, увозившее меня от них. Я не плакала. Что-то тяжелое надавило мне грудь и клокотало в горле, когда мама дрожащими руками перекрестила меня и, благословив снятым ею с себя образком, повесила его мне на шею.
Я крепко обняла дорогую, прижалась к ней. Горячо целуя ее худенькие, бледные щеки, ее ясные, как у ребенка, синие глаза, полные слез, я обещала ей шепотом:
– Мамуля, я буду хорошо учиться, ты не беспокойся.
Потом мы обнялись с Васей, и я села в вагон.
Дорога от Полтавы до Петербурга мне показалась бесконечной.
Анна Фоминишна, моя попутчица, старалась всячески рассеять меня, рассказывая мне о Петербурге, об институте, в котором воспитывалась она сама и куда везла меня теперь. Поминутно при этом она угощала меня пастилой, конфектами и яблоками, взятыми из дома. Но кусок не шел мне в горло. Лицо мамы, такое, каким я его видела на станции, не выходило из памяти, и мое сердце больно сжималось.
В Петербурге нас встретил невзрачный, серенький день. Серое небо грозило проливным дождем, когда мы сходили на подъезд вокзала.
Наемная карета отвезла нас в большую мрачную гостиницу. Я видела, сквозь стекла ее, шумные улицы, громадные дома и беспрерывно снующую толпу, но мои мысли были далеко-далеко, под синим небом моей родной Украины, в фруктовом садике, подле мамочки, Васи, няни…
ГЛАВА II
Новые лица, новые впечатления
Было 12 часов дня, когда мы подъехали с Анной Фоминишной к большому красному зданию в Х-й улице.
– Это вот и есть институт, – сказала мне моя спутница, заставив дрогнуть мое и без того бившееся сердце.
Еще больше обомлела я, когда седой и строгий швейцар широко распахнул передо мной двери… Мы вошли в широкую и светлую комнату, называемую приемной.
– Новенькую-с привезли, доложить прикажете-с княгине-начальнице? – важно, с достоинством спросил швейцар Анну Фоминишну.
– Да, – ответила та, – попросите княгиню принять нас. – И она назвала свою фамилию.
Швейцар, неслышно ступая, пошел в следующую комнату, откуда тотчас же вышел, сказав нам:
– Княгиня просит, пожалуйте.
Небольшая, прекрасно обставленная мягкой мебелью, вся застланная коврами комната поразила меня своей роскошью. Громадные трюмо стояли между окнами, скрытыми до половины тяжелыми драпировками; по стенам висели картины в золоченых рамах; на этажерках и в хрустальных горках стояло множество прелестных и хрупких вещиц. Мне, маленькой провинциалке, чем-то сказочным показалась вся эта обстановка.
Навстречу нам поднялась высокая, стройная дама, полная и красивая, с белыми как снег волосами. Она обняла и поцеловала Анну Фоминишну с материнской нежностью.
– Добро пожаловать, – прозвучал ее ласковый голос, и она потрепала меня по щечке.
– Это маленькая Людмила Влассовская, дочь убитого в последнюю кампанию Влассовского? – спросила начальница Анну Фоминишну. – Я рада, что она поступает в наш институт… Нам очень желанны дети героев. Будь же, девочка, достойной своего отца.
Последнюю фразу она произнесла по-французски и потом прибавила, проводя душистой мягкой рукой по моим непокорным кудрям:
– Ее надо остричь, это не по форме. Аннет, – обратилась она к Анне Фоминишне, – не проводите ли вы ее вместе со мною в класс? Теперь большая перемена, и она успеет ознакомиться с подругами.
– С удовольствием, княгиня! – поспешила ответить Анна Фоминишна, и мы все трое вышли из гостиной начальницы, прошли целый ряд коридоров и поднялись по большой, широкой лестнице во второй этаж.
На площадке лестницы стояло зеркало, отразившее высокую, красивую женщину, ведущую за руку смуглое, кудрявое, маленькое существо, с двумя черешнями вместо глаз и целой шапкой смоляных кудрей. «Это – я, Люда, – мелькнуло молнией в моей голове. – Как я не подхожу ко всей этой торжественно-строгой обстановке!»
В длинном коридоре, по обе стороны которого шли классы, было шумно и весело. Гул смеха и говора доносился до лестницы, но лишь только мы появились в конце коридора, как тотчас же воцарилась мертвая тишина.
– Maman, Maman идет, и с ней новенькая, новенькая, – сдержанно пронеслось по коридорам.
Тут я впервые узнала, что институтки называют начальницу «Maman».
Девочки, гулявшие попарно и группами, останавливались и низко приседали княгине. Взоры всех обращались на меня, менявшуюся в лице от волнения.
Мы вошли в младший класс, где у маленьких воспитанниц царило оживление. Несколько девочек рассматривали большую куклу в нарядном платье, другие рисовали что-то у доски, третьи, окружив пожилую даму в синем платье, отвечали ей урок на следующий день.
Лишь только Maman вошла в класс, все они моментально смолкли, отвесили начальнице условный реверанс и уставились на меня любопытными глазами.
– Дети, – прозвучал голос княгини, – я привела вам новую подругу, Людмилу Влассовскую, примите ее в свой круг и будьте добрыми друзьями.
– Mademoiselle, – обратилась Maman к даме в синем платье, – вы займетесь новенькой. – Затем, обращаясь к Анне Фоминишне, она сказала: – Пойдемте, Аннет, пусть девочка познакомится с товарками.
Анна Фоминишна послушно простилась со мной.
Мое сердце екнуло. С ней уходила последняя связь с домом.
– Поцелуйте маму, – шепнула я ей, силясь сдержать слезы.
Она еще раз обняла меня и вышла вслед за начальницей.
Лишь только большая стеклянная дверь закрылась за ними, я почувствовала полное одиночество.
Я стояла, окруженная толпою девочек – черненьких, белокурых и русых, больших и маленьких, худеньких и полных, но безусловно чужих и далеких.
– Как твоя фамилия? Я не дослышала, – спрашивала одна.
– А зовут? – кричала другая.
– Сколько тебе лет? – приставала третья.
– А ты любишь пирожные? – раздался голос со стороны.
Я не успевала ответить ни на один из этих вопросов.
– Влассовская, – раздался надо мною строгий голос классной дамы, – пойдемте, я покажу вам ваше место.
Я вздрогнула. Меня в первый раз называли по фамилии, и это неприятно подействовало на меня.
Классная дама взяла меня за руку и отвела на одну из ближайших скамеек. На соседнем со мною месте сидела бледная, худенькая девочка с двумя длинными, блестящими, черными косами.
– Княжна Джаваха, – обратилась классная дама к бледной девочке, – вы покажете Влассовской заданные уроки и расскажете ей правила.
Бледная девочка встала при первых словах классной дамы и подняла на нее большие черные и недетские серьезные глаза.
– Хорошо, мадмуазель, я все сделаю, – произнес несколько гортанный, с незнакомым мне акцентом голос, и она опять села.
Я последовала ее примеру.
Классная дама отошла, и толпа девочек нахлынула снова.
– Ты откуда? – звонко спросила веселая, толстенькая блондинка с вздернутым носиком.
– Из-под Полтавы.
– Ты – хохлушка! Ха-ха-ха!.. Она, mesdames, хохлушка! – разразилась она веселым раскатистым смехом.
– Нет, – немного обиженным тоном ответила я, – у мамы там хутор, но мы сами петербургские… Только я там родилась и выросла.
– Неправда, неправда, ты – хохлушка, – не унималась шалунья. – Видишь, у тебя и глаза хохлацкие и волосы… Да ты постой… ты – не цыганка ли? Ха-ха-ха!.. Правда, она – цыганка, mesdames?
Мне, уставшей с дороги и смены впечатлений, было крайне неприятно слышать весь этот шум и гам. Голова моя кружилась.
– Оставьте ее, – раздался несколько властный голос моей соседки, той самой бледной девочки, которую классная дама назвала княжной Джавахой. – Хохлушка она или цыганка, не все ли равно?.. Ты – глупая хохотунья, Бельская, и больше ничего, – прибавила она сердито, обращаясь к толстенькой блондинке. – Марш по местам! Новенькой надо заниматься.
– Джаваха, Ниночка Джаваха желает изображать покровительницу новенькой… – зашумели девочки. – Бельская, слышишь? Попробуй-ка «нападать», – поддразнивали они Бельскую.
– Куда уж нам с сиятельными! – с досадой ответила та, отходя от нас.
Когда девочки разошлись по своим местам, я благодарно взглянула на мою избавительницу.
– Ты не обращай на них внимания; знаешь, – сказала она мне тихо, – эта Бельская всегда «задирает» новеньких.
– Как вас зовут? – спросила я мою покровительницу, невольно преклоняясь перед ее положительным, недетским тоном.
– Я – княжна Нина Джаваха-алы-Джамата, но ты меня попросту зови Ниной. Хочешь, мы будем подругами?
И она протянула мне свою тоненькую ручку.
– О, с удовольствием! – поспешила я ответить и потянулась поцеловать Нину.
– Нет, нет, не люблю нежностей! У всех институток привычка лизаться, а я не люблю! Мы лучше так… – И она крепко пожала мою руку. – Теперь я тебе покажу, что задано на завтра.
Пронзительный звонок не дал ей докончить. Девочки бросились занимать места. Большая перемена кончилась. В класс входил француз-учитель.
ГЛАВА III
Уроки
Худенький и лысый, он казался строгим благодаря синим очкам, скрывавшим его глаза.
– Он предобрый, этот monsieur Ротье, – как бы угадывая мои мысли, тихо шепнула Нина и, встав со скамьи, звучно ответила, что было приготовлено на урок. – Зато немец – злюка, – так же тихо прибавила она, сев на место.
– У нас – новенькая, une nouvelle eleve (новая ученица), – раздался среди полной тишины возглас Бельской.
– Ah? – спросил, не поняв, учитель.
– Taisez-vous, Bielsky (молчите, Бельская), – строго остановила ее классная дама.
– Всюду с носом, – сердито проговорила Нина и передернула худенькими плечиками.
– Mademoiselle Ренн, – вызвал француз, – voulez-vous repondre votre lecon (отвечайте урок).
Очень высокая и полная девочка поднялась с последней скамейки и неохотно, вяло пошла на середину класса.
– Это – Катя Ренн, – поясняла мне моя княжна, – страшная лентяйка, последняя ученица.
Ренн отвечала басню Лафонтэна, сбиваясь на каждом слове.
– Tres mal (очень плохо), – коротко бросил француз и поставил Ренн единицу.
Классная дама укоризненно покачала головою, девочки зашевелились.
Тою же ленивой походкой Ренн совершенно равнодушно пошла на место.
– Princesse Djiavaha, allons (княжна Джаваха), – снова раздался голос француза, и он ласково кивнул Нине.
Нина встала и вышла, как и Ренн, на середину класса. Милый, несколько гортанный голосок звонко и отчетливо прочел ту же самую басню. Щечки Нины разгорелись, черные глаза заблестели, она оживилась и стала ужасно хорошенькая.
– Merci, mon enfant (благодарю, дитя мое), – еще ласковее произнес старик и кивнул девочке.
Она повернулась ко мне, – прошла на место и села. На ее оживленном личике играла улыбка, делавшая ее прелестной. Мне казалось в эту минуту, что я давно знаю и люблю Нину.
Между тем учитель продолжал вызывать по очереди следующих девочек. Предо мной промелькнул почти весь класс. Одни были слабее в знании басни, другие читали хорошо, но Нина прочла лучше всех.
– Он вам поставил двенадцать? – шепотом обратилась я к княжне.
Я была знакома с системой баллов из разговоров с Анной Фоминишной и знала, что 12 – лучший балл.
– Не говори мне «вы». Ведь мы – подруги, – и Нина, покачав укоризненно головкой, прибавила: – Скоро звонок – конец урока, мы тогда с тобой поболтаем.
Француз отпустил на место девочку, читавшую ему все ту же басню, и, переговорив с классной дамой по поводу «новенькой», вызвал наконец и меня, велев прочесть по книге.
Я страшно смутилась. Мама, отлично знавшая языки, занималась со мною очень усердно, и я хорошо читала по-французски, но я взволновалась, боясь быть осмеянной этими чужими девочками. Черные глаза Нины молча ободрили меня. Я прочла смущенно и сдержанно, но тем не менее толково. Француз кивнул мне ласково и обратился к Нине шутливо:
– Prenez garde, petite princesse, vous aurez une rivale (берегитесь, княжна, у вас будет соперница), – и, кивнув мне еще раз, отпустил на место.
В ту же минуту раздался звонок, и учитель вышел из класса.
Следующий урок был чистописание. Мне дали тетрадку с прописями, такую же, как и у моей соседки.
Насколько чинно все сидели за французским уроком, настолько шумно за уроком чистописания. Маленькая, худенькая, сморщенная учительница напрасно кричала и выбивалась из сил. Никто ее не слушал; все делали, что хотели. Классную даму зачем-то вызвали из класса, и девочки окончательно разбушевались.
– Антонина Вадимовна, – кричала Бельская, обращаясь к учительнице, – я написала «красивый монумент». Что дальше?
– Сейчас, сейчас, – откликалась та и спешила от скамейки к скамейке.
Рядом со мною, согнувшись над тетрадкой и забавно прикусив высунутый язычок, княжна Джаваха, склонив головку набок, старательно выводила какие-то каракульки.
Звонок к обеду прекратил урок. Классная дама поспешно распахнула двери с громким возгласом: «Mettez-vous par paires, mesdames» (становитесь в пары).
– Нина, можно с тобой? – спросила я княжну, становясь рядом с ней.
– Я выше тебя, мы не под пару, – заметила Нина, и я увидела, что легкая печаль легла тенью на ее красивое личико. – Впрочем, постой, я попрошу классную даму.
Очевидно, маленькая княжна была общей любимицей, так как m-lle Арно (так звали наставницу) тотчас же согласилась на ее просьбу.
Чинно выстроились институтки и сошли попарно в столовую, помещавшуюся в нижнем этаже. Там уже собрались все классы и строились на молитву.
– Новенькая, новенькая, – раздался сдержанный говор, и все глаза обратились на меня, одетую в «собственное» скромное коричневое платьице, резким пятном выделявшееся среди зеленых камлотовых платьев и белых передников – обычной формы институток.
Дежурная ученица из институток старших классов прочла молитву перед обедом, и все институтки сели за столы по 10 человек за каждый.
Мне было не до еды. Около меня сидела с одной стороны та же милая княжна, а с другой – Маня Иванова – веселая, бойкая шатенка с коротко остриженными волосами.
– Влассовская, ты не будешь есть твой биток? – на весь стол крикнула Бельская. – Нет? Так дай мне.
– Пожалуйста, возьми, – поторопилась я ответить.
– Вздор! Ты должна есть и биток, и сладкое тоже, – строго заявила Джаваха, и глаза ее сердито блеснули. – Как тебе не стыдно клянчить, Бельская! – прибавила она.
Бельская сконфузилась, но ненадолго: через минуту она уже звонким шепотом передавала следующему «столу»:
– Mesdames, кто хочет меняться – биток за сладкое?
Девочки с аппетитом уничтожали холодные и жесткие битки… Я невольно вспомнила пышные свиные котлетки с луковым соусом, которые у нас на хуторе так мастерски готовила Катря.
– Ешь, Люда, – тихо проговорила Джаваха, обращаясь ко мне.
Но я есть не могла.
– Смотрите на Ренн, mesdames\'очки, она хотя и получила единицу, но не огорчена нисколько, – раздался чей-то звонкий голосок в конце стола.
Я подняла голову и взглянула на середину столовой, где ленивая, вялая Ренн без передника стояла на глазах всего института.
– Она наказана за единицу, – продолжал тот же голосок.
Это говорила очень миловидная, голубоглазая девочка, лет восьми на вид.
– Разве таких маленьких принимают в институт? – спросила я Нину, указывая ей на девочку.
– Да ведь Крошка совсем не маленькая – ей уже одиннадцать лет, – ответила княжна и прибавила: – Крошка – это ее прозвище, а настоящая фамилия ее – Маркова. Она любимица нашей начальницы, и все «синявки» к ней подлизываются.
– Кого вы называете «синявками»? – полюбопытствовала я.
– Классных дам, потому что они все носят синие платья, – тем же тоном продолжала княжна, принимаясь за «бламанже», отдающее стеарином.
Новый звонок возвестил окончание обеда. Опять та же дежурная старшая прочла молитву, и институтки выстроились парами, чтобы подняться в классы.
– Ниночка, хочешь смоквы и коржиков? – спросила я шепотом Джаваху, вспомнив о лакомствах, заготовленных мне няней.
Едва я вспомнила о них, как почувствовала легкое щекотание в горле… Мне захотелось неудержимо разрыдаться. Милые, бесконечно близкие лица выплыли передо мной как в тумане.
Я упала головой на скамейку и судорожно заплакала.
Ниночка сразу поняла, о чем я плачу.
– Полно, Галочка, брось… Этим не поможешь, – успокаивала она меня, впервые называя меня за черный цвет моих волос Галочкой. – Тяжело первые дни, а потом привыкнешь… Я сама билась, как птица в клетке, когда привезли меня сюда с Кавказа. Первые дни мне было ужасно грустно. Я думала, что никогда не привыкну. И ни с кем не могла подружиться. Мне никто здесь не нравился. Бежать хотела… А теперь как дома… Как взгрустнется, песни пою… наши родные кавказские песни… и только. Тогда мне становится сразу как-то веселее, радостнее…
Гортанный голосок княжны с заметным кавказским произношением приятно ласкал меня; ее рука лежала на моей кудрявой головке – и мои слезы понемногу иссякли.
Через минут десять мы уже уписывали принесенные снизу сторожем мои лакомства, распаковывали вещи, заботливо уложенные няней. Я показала княжне мою куклу Лушу. Но она даже едва удостоила взглянуть, говоря, что терпеть не может кукол. Я рассказывала ей о Гнедке, Милке, о Гапке и махровых розах, которые вырастил Ивась. О маме, няне и Васе я боялась говорить, они слишком живо рисовались моему воображению: при воспоминании о них слезы набегали мне на глаза, а моя новая подруга не любила слез.
Нина внимательно слушала меня, прерывая иногда мой рассказ вопросами.
Незаметно пробежал вечер. В восемь часов звонок на молитву прервал наши беседы.
Мы попарно отправились в спальню, или «дортуар», как она называлась на институтском языке.
ГЛАВА IV
В дортуаре
Большая длинная комната с четырьмя рядами кроватей – дортуар – освещалась двумя газовыми рожками. К ней примыкала умывальня с медным желобом, над которым помещалась целая дюжина кранов.
– Княжна Джаваха, новенькая ляжет подле вас. Соседняя кровать ведь свободна? – спросила классная дама.
– Да, m-lle, Федорова больна и переведена в лазарет.
Очевидно, судьба мне благоприятствовала, давая возможность быть неразлучной с Ниной.
Не теряя ни минуты, Нина показала мне, как стлать кровать на ночь, разложила в ночном столике все мои вещи и, вынув из своего шкапчика кофточку и чепчик, стала расчесывать свои длинные шелковистые косы.
Я невольно залюбовалась ей.
– Какие у тебя великолепные волосы, Ниночка! – не утерпела я.
– У нас на Кавказе почти у всех такие, и у мамы были такие, и у покойной тети тоже, – с какой-то гордостью и тихой скорбью проговорила княжна. – А это кто? – быстро прибавила она, вынимая из моего чемоданчика портрет моего отца.
– Это мой папа, он умер, – грустно отвечала я.
– Ах да, я слышала, что твой папа был убит на войне с турками. Maman уже месяц тому назад рассказывала нам, что у нас будет подруга – дочь героя. Ах, как это хорошо! Мой папа тоже военный… и тоже очень, очень храбрый; он – в Дагестане… а мама умерла давно… Она была такая ласковая и печальная… Знаешь, Галочка, моя мама была простая джигитка; папа взял ее прямо из аула и женился на ней. Мама часто плакала, тоскуя по семье, и потом умерла. Я помню ее, какая она была красивая! Мы очень богаты!.. На Кавказе нас все-все знают… Папа уже давно начальник – командир полка. У нас на Кавказе большое имение. Там я жила с бабушкой. Бабушка у меня очень строгая… Она бранила меня за все, за все… Галочка, – спросила она вдруг другим тоном, – ты никогда не скакала верхом? Нет? А вот меня папа выучил… Папа очень любит меня, но теперь ему некогда заниматься мной, у него много дел. Ах, Галочка, как хорошо было ехать горными ущельями на моем Шалом… Дух замирает… Или скакать по долине рядом с папой… Я очень хорошо езжу верхом. А глупые девочки-институтки смеялись надо мной, когда я им рассказывала про все это.
Нина воодушевилась… В ней сказывалась южанка. Глазки ее горели как звезды.
Я невольно преклонялась перед этой смелой девочкой, я – боявшаяся сесть на Гнедка.
– Пора спать, дети, – прервал наш разговор возглас классной дамы, вошедшей из соседней с дортуаром комнаты.
М-lle Арно собственноручно уменьшила свет в обоих рожках, и дортуар погрузился в полумрак.
Девочки с чепчиками на головах, делавших их чрезвычайно смешными, уже лежали в своих постелях.
Нина стояла на молитве перед образком, висевшим на малиновой ленточке в изголовье кроватки, и молилась.
Я попробовала последовать ее примеру и не могла. Мама, Вася, няня – все они, мои дорогие, стояли как живые передо мной. Ясно слышались мне прощальные напутствия моей мамули, звонкий, ребяческий голосок Васи, просивший: «Не уезжай, Люда», – и мне стало так тяжело и больно в этом чужом мне, мрачном дортуаре, между чужими для меня девочками, что я зарылась в подушку головой и беззвучно зарыдала.
Я плакала долго, искренно, тихо повторяя милые имена, называя их самыми нежными названиями. Я не слышала, как m-lle Арно, окончив свой обход, ушла к себе в комнату, и очнулась только тогда, когда почувствовала, что кто-то дергает мое одеяло.
– Ты опять плачешь? – тихим шепотом произнесла княжна, усевшись у моих ног.
Я ничего не ответила и еще судорожнее зарыдала.
– Не плачь же, не плачь… Давай поболтаем лучше. Ты свесься вот так, в «переулок» (переулком назывались пространства между постелями).
Я подавила слезы и последовала ее примеру.
В таинственном полумраке дортуара долго за полночь слышался наш шепот. Она расспрашивала меня о доме, о маме, Васе. Я ей рассказывала о том, какой был неурожай на овес, какой у нас славный в селе священник, о том, как глупая Гапка боится русалок, о любимой собаке Милке, о том, как Гнедко болел зимой и как его лечил кучер Андрей, и о многом-многом другом. Она слушала меня с любопытством. Все это было так ново для маленькой княжны, знавшей только свои горные теснины Кавказа да зеленые долины Грузии. Потом она стала рассказывать сама, увлекаясь воспоминаниями… С особенным увлечением она рассказывала про своего отца. О, она горячо любила своего отца и ненавидела бабушку, отдавшую ее в институт… Ей было здесь очень тоскливо порою…
– Скорее бы прошли эти скучные дни… – шептала Нина. – Весной за мной приедет папа и увезет меня на Кавказ… Целое лето я буду отдыхать, ездить верхом, гулять по горам… – восторженно говорила она, и я видела, как разгорались в темноте ее черные глазки, казавшиеся огромными на матово-бледном лице.
Мы уснули поздно-поздно, каждая уносясь мечтами на свою далекую родину…
Не знаю, что грезилось княжне, но мой сон был полон светлых видений.
Мне снился хутор в жаркий, ясный, июльский день… Наливные яблоки на тенистых деревьях нашего сада, Милка, изнывающая от летнего зноя у своей будки… а на крылечке за большими корзинами черной смородины, предназначенной для варенья, – моя милая, кроткая мама. Тут же и няня, расчесывающая по десять раз в день кудрявую головенку Васи. «Но где же я, Люда?» – мелькнуло у меня в мыслях. Неужели эта высокая стриженая девочка в зеленом камлотовом платьице и белом переднике – это я, Люда, маленькая панночка с Влассовского хутора? Да, это – я, тут же со мной бледная княжна Джаваха… А кругом нас цветы, много-много колокольчиков, резеды, левкоя… Колокольчики звенят на весь сад… и звон их пронзительно звучит в накаленном воздухе…
– Вставай же, соня, пора, – раздался над моим ухом веселый окрик знакомого голоса.
Я открыла глаза.
Звонок, будивший институток, заливался неистовым звоном. Туманное, мглистое утро смотрело в окна…
В дортуаре царило большое оживление.
Девочки, перегоняя друг друга, в тех же смешных чепчиках и кофточках, бежали в умывальню. Все разговаривали, смеялись, рассказывали про свои сны, иные повторяли наизусть заданные уроки. Шум стоял такой, что ничего нельзя было разобрать.
Институтский день вступал в свои права.
ГЛАВА V
Немецкая дама. Гардеробная
Торопясь и перегоняя друг друга, девочки бежали умываться к целому ряду медных кранов у стены, из которых струилась вода.
– Я тебе заняла кран, – крикнула мне Нина, подбирая на ходу под чепчик свои длинные косы.
В умывальной был невообразимый шум. Маня Иванова приставала к злополучной Ренн, обдавая ее брызгами холодной воды. Ренн, выйдя на этот раз из своей апатии, сердилась и выходила из себя.
Крошка мылась подле меня, и я ее разглядела… Действительно, она не казалась вблизи такой деточкой, какою я нашла ее вчера. Бледное, худенькое личико в массе белокурых волос было сердито и сонно; узкие губы плотно сжаты; глаза, большие и светлые, поминутно загорались какими-то недобрыми огоньками. Крошка мне не нравилась.
– Медамочки, торопитесь! – кричала Маня Иванова и, хохоча, проводила зубной щеткой по оголенным спинам мывшихся под кранами девочек. Нельзя сказать, чтобы от этого получалось приятное ощущение. Но Нину Джаваху она не тронула.
Вообще, как мне показалось, Нина пользовалась исключительным положением между институтками.
Вбежала сонная, заспанная Бельская.
– Пусти, Влассовская, ты после вымоешься, – несколько грубо сказала она мне.
Я покорно уступила было мое место, но Нина, подоспевшая вовремя, накинулась на Бельскую.
– Кран занят мной для Влассовской, а не для тебя, – строго сказала она той и прибавила, обращаясь ко мне: – Нельзя же быть такой тряпкой, Галочка.
Мне было неловко от замечания Нины, сделанного при всех, но в то же время я была бесконечно благодарна милой девочке, взявшей себе в обязанность защищать меня.
К восьми часам мы уже все были готовы и становились в пары, чтобы идти на молитву, когда в дортуар вошла новая для меня классная дама, фрейлейн Генинг, маленькая, полная немка с добродушной физиономией. Она была совершенной противоположностью сухой и чопорной m-lle Арно.
– Ах, новенькая!.. – воскликнула она, и ее добрые глаза засияли лаской. – Komm herr, mein Kind (подойди сюда, дитя мое).
Я подошла, неистово краснея, и молча присела перед фрейлейн.
Но каково же было мое изумление, когда классная дама наклонилась ко мне и неожиданно поцеловала меня… В горле моем что-то защекотало, глаза увлажнились, и я чуть не разрыдалась навзрыд от этой неожиданной ласки.
– Видишь, какая она у нас добрая, – шепнула мне Маня Иванова, заметя впечатление, произведенное на меня наставницей.
Мы сошли в столовую. После молитвы, длившейся около получаса (сюда же входило обязательное чтение двух глав Евангелия), каждая из иноверных воспитанниц прочла молитву на своем языке. Когда читала молитву высокая, белокурая, с водянистыми глазами шведка, я невольно обратила внимание на стоявшую подле меня Нину. Княжна вся вспыхнула от радости и прошептала:
– Она выздоровела, ты знаешь?
– Кто выздоровел? – шепотом же спросила я ее.
– Ирочка… ах! да, ведь ты ничего не знаешь; я тебе расскажу после. Это – моя тайна.
И она стала горячо молиться.
За чаем Нина сидела как на иголках, то и дело поглядывая на дальние столы, где находились старшие воспитанницы и пепиньерки. Она, видимо, волновалась.
– Когда ж ты мне откроешь свою тайну? – допытывалась я.
– В дортуаре… Фрейлейн уйдет, и я тебе все расскажу, Галочка.
До начала уроков оставалось еще полчаса, и мы, поднявшись в класс, занялись диктовкой.
Едва я тщательно вывела обычную немецкую фразу: «Wie schon ist die grune Viese» (как прекрасен зеленый луг), как на пороге появилась девушка-служанка, позвавшая меня в гардеробную.
– Gehe, mein Kind (ступай, дитя мое), – ласково отпустила меня фрейлейн, и я в сопровождении девушки спустилась в нижний этаж, где около столовой, в полутемном коридоре, помещались бельевая и гардеробная, сплошь заставленная шкафами. В последней работало до десяти девушек, одетых, как и моя спутница, в холстинковые полосатые платья и белые передники. На столах были беспорядочно набросаны куски зеленого камлота, старого и нового, а между девушками сновала полная дама, Авдотья Петровна Крынкина, с сантиметром на шее. Это была сама «гардеробша» – как ее называли девушки.
– Вы – новенькая? – недружелюбно поглядывая на меня поверх очков, задала она мне довольно праздный, по моему мнению, вопрос, так как мое «собственное» коричневое платьице наглядно доказывало, что я была новенькая.
Я присела.
Не избалованная вежливым обращением, старуха смягчилась.
Она еще раз посмотрела на меня пристальным взглядом, смерив с головы до ног.
– Я вам дам платье с институтки Раевской, которую выключили весной: новое шить недосуг, – ворчливым голосом сказала она мне и велела раздеться.
– Маша, – обратилась она к пришедшей со мной девушке, – сбегай-ка к кастелянше и спроси у нее белье и платье номер 174, знаешь, – Раевской; им оно будет впору.
Девушка поспешила исполнить поручение.
Через полчаса я была одета с головы до ног во все казенное, а мое «собственное» платье и белье, тщательно сложенное девушкой-служанкой, поступило на хранение в гардероб, на полку, за номером 174.
– Запомните этот номер, – резко сказала Авдотья Петровна, – теперь это будет ваш номер все время, пока вы в институте.
Едва я успела одеться, как пришел парикмахер с невыразимо душистыми руками и остриг мои иссиня-черные кудри, так горячо любимые мамой. Когда я подошла к висевшему в простенке гардеробной зеркалу, я не узнала себя.
В зеленом камлотовом платье с белым передником, в такой же пелеринке и «манжах», с коротко остриженными кудрями, я совсем не походила на Люду Влассовскую – маленькую «панночку» с далекого хутора.
«Вряд ли мама узнает меня», – мелькнуло в моей стриженой голове, и, подняв с пола иссиня-черный локон, я бережно завернула его в бумажку, чтобы послать маме с первыми же письмами.
– Совсем на мальчика стали похожи, – сказала Маша, разглядывая мою потешную маленькую фигурку.
Я вздохнула и пошла в класс.
ГЛАВА VI
Сад. Тайна Нины. Ирочка Трахтенберг
Едва я переступила порог, как в классе поднялся шум и гам. Девочки, шумя и хохоча, окружили меня, пользуясь переменой между двух уроков.
– Ну, Галочка, ты совсем мальчишка, – заявила серьезно Нина, – но знаешь, ты мне так больше нравишься, – кудри тебя портили.
– Стрижка-ерыжка! – крикнула Бельская.
– Молчи, егоза, – заступилась за меня Маня Иванова, относившаяся ко мне с большой симпатией.
Следующие два урока были рисование и немецкий язык. Учитель рисования роздал нам карточки с изображением ушей, носов, губ. Нина показала мне, что надо делать, как надо срисовывать. Учитель – добродушнейшее, седенькое существо – после первой же моей черточки нашел меня очень слабой художницей и переменил карточку на менее сложный рисунок.
В то время как я, углубившись в работу, выводила палочки и углы, ко мне на пюпитр упала бумажка, сложенная вчетверо. Я недоумевающе развернула ее и прочла:
...
«Душка Влассовская! У тебя есть коржики и смоквы. Поделись после завтрака.
Маня Иванова».
– От кого это? – полюбопытствовала княжна.
– Вот прочти, – и я протянула ей бумажку.
– Иванова ужасная подлиза, хуже Бельской, – сердито заметила княжна, – она узнала, что у тебя гостинцы, и будет нянчиться с тобой. Советую не давать… А то как хочешь… Пожалуй, еще прослывешь жадной. Лучше уж дай.
Я повернула голову и, увидя Иванову, сидевшую возле Ренн на последней скамейке, кивнула ей в знак согласия. Та просияла и усиленно закивала головой.
Презрительная гримаска тронула строгие губы моей соседки. Гордое бескорыстие княжны нравилось мне все больше и больше.
– Нина, а твоя тайна? – напомнила я ей.
– Подожди немного, на гулянье, а то здесь услышат.
Я сгорала от нетерпения, однако не настаивала.
Урок рисования сменился уроком немецкого языка.
Насколько учитель-француз был «душка», настолько немец – «аспид». Класс дрожал на его уроке. Он вызывал воспитанниц резким, крикливым голосом, прослушивал заданное, поминутно сбивая и прерывая замечаниями, и немилосердно сыпал единицами. Класс вздохнул свободно, заслыша желанный звонок.
После завтрака, состоявшего из пяти печеных картофелин, куска селедки, квадратика масла и кружки кофе с бутербродами, нам роздали безобразные манто коричневого цвета, называемые клеками, с лиловыми шарфами и повели в сад. Большой, неприветливый, с массой дорожек, он был окружен со всех сторон высокой каменной оградой. Посреди площадки, прилегавшей к внутреннему фасаду института, стояли качели и качалка.
Едва мы сошли со ступеней крыльца, как пары разбились и воспитанницы разбрелись по всему саду.
– Фрейлейн в свое дежурство позволяет ходить на последнюю аллею, – почему-то шепотом сообщила Нина, – пойдем, Галочка.
Я последовала за ней на самую дальнюю дорожку, где нам попадались редкие пары гуляющих. Под нашими ногами шелестели упавшие листья… Там и сям каркали голодные вороны.
Мы сели на влажную от дождя скамейку, и Нина начала:
– Видишь ли, Галочка, у нас ученицы младших классов называются «младшими», а те, которые в последних классах, – это «старшие». Мы, младшие, «обожаем» старших. Это уже так принято у нас в институте. Каждая из младших выбирает себе «душку», подходит к ней здороваться по утрам, гуляет по праздникам с ней в зале, угощает конфетами и знакомит со своими родными во время приема, когда допускают родных на свидание. Вензель «душки» вырезывается перочинным ножом на «тируаре» (пюпитре), а некоторые выцарапывают его булавкой на руке или пишут чернилами ее номер, потому что каждая из нас в институте записана под известным номером. А иногда имя «душки» пишется на стенах и окнах… Для «душки», чтобы быть достойной ходить с ней, нужно сделать что-нибудь особенное, совершить, например, какой-нибудь подвиг: или сбегать ночью на церковную паперть, или съесть большой кусок мела, – да мало ли чем можно проявить свою стойкость и смелость. Я никогда не обожала еще, Галочка, я была слишком горда, но недавно-недавно… – тут вдруг прервала она: – Побожись мне три раза, что ты никому не выдашь мою тайну.
– Изволь, – и я исполнила ее желание.
– Видишь ли, – продолжала Нина оживленно, – незадолго до твоего поступления к нам я была больна лихорадкой и сильно кашляла. Пока я лежала в жару, в мое отделение привели еще одну больную, старшую, Ирочку Трахтенберг. Она так ласково обращалась со мной, ничем не давая мне понять, что я младшая, «седьмушка», а она первоклассница. Мы вместе поджаривали хлеб в лазаретной печке, целые ночи болтали о доме. Ирочка – шведка, но ее родители живут теперь здесь, в Петербурге; она непременно хочет познакомить меня с ними. Ее отец, кажется, консул или просто член посольства – не знаю, только что-то очень важное. Ирочка почему-то молчит, когда я ее об этом спрашиваю. У них под Стокгольмом большой замок. Ах, Галочка, какая она милочка, дуся! Какие у нее глаза, синие, синие… и волосы, как лен! Впрочем, ты сама сейчас увидишь. Только ты никому, никому не говори, Галочка, о моем обожании, а то Бельская и Крошка поднимут меня на смех. А я этого не позволю: княжна Джаваха не должна унижать себя.
Последние слова Нина произнесла с гордым достоинством, делавшим особенно милым ее красивое личико.
– Теперь ты увидишь «душку»!.. – таинственно сообщила она мне.
В последнюю аллею стали приходить старшие, в таких же безобразных клеках, как и наши, но на их тщательно причесанных головках были накинуты вместо полинялых лиловых косынок «собственные» шелковые шарфы разных цветов.
Они разгуливали чинно и важно и разговаривали шепотом.
– Смотри, вот она, – и Нина до боли сжала мне руку.
В конце аллеи появились две институтки в возрасте от 16 до 18 лет каждая. Одна из них темная и смуглая девушка с нечистым цветом лица, другая – светлая льняная блондинка.
– Вот она, Ирочка, – волнуясь, шептала княжна, указывая на блондинку, – с ней Анюта Михайлова, ее подруга.
Девушки поравнялись с нами, и я заметила надменно вздернутую верхнюю губку и бесцветные, водянистые глаза на прозрачно-хрупком, некрасивом личике.
– Это и есть твоя Ирочка? – спросила я.
– Да, – чуть слышно, взволнованным голосом ответила княжна.
«Душка» Нины мне не понравилась. В ее лице и фигуре было что-то отталкивающее. А она, моя милая княжна, вся вспыхнув от удовольствия, подошла поцеловать Ирочку, ничуть не стесняясь ее подруги, очевидно, посвященной в тайну… Белокурая шведка совершенно равнодушно ответила на приветствие княжны.
– Ты ее очень любишь? – спросила я Нину, когда молодые девушки были далеко от нас.
– Ужасно, Галочка! Я ее люблю первой после папы!.. За нее я готова претерпеть все гонения «синявок»… Я ее буду обожать до самого выпуска.
Все это было сказано так восторженно-пылко, что у меня на душе, где-то далеко-далеко, зашевелилось незнакомое мне до сих пор чувство ревности. Я ревновала мою милую, славную подружку к «белобрысой» шведке, как я уже мысленно окрестила Ирочку Трахтенберг.
ГЛАВА VII
Суббота. В церкви. Письмо
Прошло шесть дней с тех пор, как стены института гостеприимно приняли меня. Наступила суббота, так страстно ожидаемая всеми институтками, большими и маленькими. С утра субботы уже пахло предстоявшим праздничным днем. Субботний обед был из ряда вон плох, что нимало не огорчало институток: в воображении мелькали завтрашние пирожные, карамели, пастилки, которые приносились «в прием» добрыми родными. Надежда на приятное «немецкое» дежурство в воскресенье тоже немало способствовала общему оживлению. М-lle Арно, Пугач, как ее называли институтки, была дружно презираема ими; за то милая, добрая Булочка, или Кис-Кис, – фрейлейн Генинг – возбуждала общую симпатию своим ласковым отношением к нам.
В половине шестого нас отвели наверх в дортуар и приказали переодеться перед всенощной в чистые передники.
За последние шесть дней я не жила, а точно неслась куда-то, подгоняемая все новыми и новыми впечатлениями. Моя дружба с Ниной делалась все теснее и неразрывнее с каждым днем. Странная и чудная девочка была эта маленькая княжна! Она ни разу не приласкала меня, ни разу даже не назвала Людой, но в ее милых глазках, обращенных ко мне, я видела такую заботливую ласку, такую теплую привязанность, что моя жизнь в чужих, мрачных институтских стенах становилась как бы сноснее.
В тот день мы решили после «спуска газа», то есть после того как погасят огонь, поболтать о «доме». Нина плохо себя чувствовала последние два дня; ненастная петербургская осень отразилась на хрупком организме южанки. Миндалевидные черные глазки Нины лихорадочно загорались и тухли поминутно, синие жилки бились под прозрачно-матовой кожей нежного виска. Сердитый Пугач не раз заботливо предлагал княжне «отдохнуть» день-другой в лазарете.
– Ни за что! – говорила она мне своим милым гортанным голоском. – Пока ты не привыкнешь, Галочка, я тебя не оставлю.
Мне хотелось в эти минуты броситься на шею моей добровольной покровительнице, но Нина не терпела «лизанья», и я сдерживалась.
Суббота улыбалась нам обеим. Мы еще за три дня решили посвятить время после церкви на писание писем домой.
Ровно в шесть часов особенный, тихий и звучный продолжительный звонок заставил нас быстро выстроиться в пары и по нашей «парадной» лестнице подняться в четвертый этаж.
На церковной площадке весь класс остановился и, как один человек, ровно и дружно опустился на колени. Потом, под предводительством m-lle Арно, все чинно по парам вошли в церковь и встали впереди, у самого клироса, с левой стороны. За нами было место следующего, шестого класса.
Небольшая, но красивая и богатая институтская церковь сияла золоченым иконостасом, большими образами в золотых ризах, украшенных каменьями, с пеленами, вышитыми воспитанницами. Оба клироса пока еще пустовали. Певчие воспитанницы приходили последними. Я рассматривала и сравнивала эту богатую по убранству церковь с нашим бедным, незатейливым деревенским храмом, куда каждый праздник мы ездили с мамой… Воспоминания разом нахлынули на меня…
Вот славный весенний полдень… В нашей церкви служба по случаю праздника Св. Троицы. На коврике с правой стороны, подле стула, склонилась милая головка мамы… Она, в своем сереньком простом оческовом «параде», с большим букетом белой сирени в руках, казалась мне такой нарядной, молодой и красивой. Рядом Вася, в новой красной канаусовой рубашечке и бархатных штанишках навыпуск, с нетерпением ожидал причастия… Я, Люда, в скромном и изящном белом платьице маминой работы, с тщательно расчесанными кудрями… Невдалеке Гапка, обильно напомаженная коровьим маслом, в ярком розовом ситце… Сзади нас старушка няня, кряхтя и вздыхая, отбивает поклоны… А в открытые окна просятся развесистые яблони, словно невесты, разукрашенные белыми цветами… Тонкий и острый аромат черемухи наполняет церковь…
Наш деревенский старичок священник – мой духовник и законоучитель, – еле внятно произносивший шамкающим ртом молитвы, и несложный причт, состоящий из сторожа, дьячка и двух семинаристов в летнее время, племянников отца Василия, тянущих в нос, – все это резко отличалось от пышной обстановки институтского храма.
Здесь, в институте, не то… Пожилой, невысокий священник с кротким и болезненным лицом – кумир целого института за чисто отеческое отношение к девочкам – служит особенно выразительно и торжественно. Сочные молодые голоса «старших» звучат красиво и стройно под высокими сводами церкви.
Но странное дело… Там, в убогой деревенской церкви, забившись в темный уголок, я молилась горячо, забывая весь окружающий мир… Здесь, в красивом институтском храме, молитва стыла, как говорится, на губах, и вся я замирала от этих дивных, как казалось мне тогда, голосов, этой величавой торжественной службы…
Около меня все та же неизменная Нина, подняв на ближайший образ Спаса свои черные глазки, горячо молилась…
Я невольно поддалась ее примеру, и вдруг меня самое внезапно охватило то давно мне знакомое религиозное чувство, от которого глаза мои наполнились слезами, а сердце билось усиленным темпом.
Я очнулась, когда соседка слева, Надя Федорова, толкнула меня под локоть.
Мы с Ниной поднялись с колен и посмотрели друг на друга сияющими сквозь радостные слезы глазами.
– О чем ты молилась, Галочка? – спросила она меня, осветленное личико ее улыбалось.
– Я, право, не знаю, как-то вдруг меня захватило и понесло, – смущенно ответила я.
– Да и меня тоже…
И мы тут же неожиданно крепко поцеловались. Это был первый поцелуй со времени нашего знакомства…
Придя в класс, усталые девочки расположились на своих скамейках.
Я вынула бумагу и конверт из «тируара» и стала писать маме. Торопливые, неровные строки говорили о моей новой жизни, институте, подругах, о Нине. Потом маленькое сердечко Люды не вытерпело, и я вылилась в этом письме на дальнюю родину вся без изъятия, такая, как я была, – порывистая, горячая и податливая на ласку… Я осыпала мою маму самыми нежными названиями, на которые так щедра наша чудная Украина: «серденько мое», «ясочка», «гарная мамуся» писала я и обливала мое письмо слезами умиления. Испещрив четыре страницы неровным детским почерком, я раньше, нежели запечатать письмо, понесла его, как это требовалось институтскими уставами, m-lle Арно, торжественно восседавшей на кафедре. Пока классная дама пробегала вооруженными пенсне глазами мои самим сердцем диктованные строки, я замирала от ожидания – увидеть ее прослезившеюся и растроганною, но каково же было мое изумление, когда «синявка», окончив письмо, бросила его небрежным движением на середину кафедры со словами:
– И вы думаете, что вашей maman доставит удовольствие читать эти безграмотные каракули? Я подчеркну вам синим карандашом ошибки, постарайтесь их запомнить. И потом, что за нелепые названия даете вы вашей маме?.. Непочтительно и неделикатно. Душа моя, вы напишете другое письмо и принесете мне.
Это была первая глубокая обида, нанесенная детскому сердечному порыву… Я еле сдержалась от подступивших к горлу рыданий и пошла на место.
Нина, слышавшая все происшедшее, вся изменилась в лице.
– Злюка! – коротко и резко бросила она почти вслух, указывая взглядом на m-lle Арно.
Я замерла от страха за свою подругу. Но та, нисколько не смущаясь, продолжала:
– Ты не горюй, Галочка, напиши другое письмо и отдай ей… – и совсем тихо добавила: – А это мы все-таки пошлем завтра… К Ирочке придут родные, и они опустят письмо. Я всегда так делала. Не говори только нашим, а то Крошка наябедничает Пугачу.
Я повеселела и, приписав, по совету княжны, на прежнем письме о случившемся только что эпизоде, написала новое, почтительное и холодное только, которое было благосклонно принято m-lle Арно.
ГЛАВА VIII
Прием. Силюльки. Черная монахиня
Утро воскресенья было солнечное и ясное. Открыв заспанные глаза и увидя приветливое солнышко, я невольно вспомнила другое такое утро, когда, глубоко потрясенная предстоящей разлукой, я садилась в деревенскую линейку между мамой и Васей…
Сладко потягиваясь, стала я одеваться. Некоторые из девочек встали «до звонка», будившего нас в воскресные и праздничные дни на полчаса позже.
Крошка и Маня Иванова – две неразлучные подруги – чинно прохаживались по «среднему» переулку, то есть по пространству между двумя рядами кроватей, и о чем-то шептались.
Обе девочки туго заплели волосы на ночь в мелкие косички и в чистых передниках, тщательно причесанные, выглядели очень празднично. Подле меня, широко раскинувшись на постели, безмятежно спала моя Нина.
– Сегодня у нас чай с розанчиками, – неожиданно выкрикнул чей-то звонкий голосок, разбудивший княжну.
– Влассовская, завяжи мне, душка, «оттажки», – говорила, подойдя к моей постели, Таня Петровская, рябая, курносенькая брюнетка, удивительно, до смешного похожая на Гапку.
Я завязала ей передник красивым бантом и, полюбовавшись несколько секунд своим произведением, принялась натягивать на ноги грубые нитяные казенные чулки.
Фрейлейн Генинг, Булочка или Кис-Кис, как ее прозвали институтки, вышла из своей комнаты, помещавшейся на другом конце коридора, около девяти часов и, не дожидаясь звонка, повела нас, уже совсем готовых, на молитву. Дежурная пепиньерка Корсак, миниатюрная блондинка – «душка» Мани Ивановой, – особенно затянулась в свое серое форменное платье и казалась почти воздушной.
– Увидишь, ее выведут сегодня из церкви, – говорила Нина, с нескрываемым удивлением оглядывая осиную талию Корсак, – ее каждый раз выводят.
Слова Нины оправдались. Леночка Корсак не достояла и половины службы: ей сделалось дурно. Ее едва успела подхватить стоявшая у стула Кис-Кис и при помощи другой классной дамы вывела из церкви.
Обедня прошла с еще большей торжественностью, нежели всенощная.
В 12 часов мы уже шли завтракать. Воскресный завтрак состоял из кулебяки с рисом и грибами. На второе дали чай с вкусными слоеными булочками.
Тотчас после завтрака, когда мы не успели еще подняться в класс, раздался звонок, возвещающий о приеме родных.
На лестницу уже поднимались желанные посетители с разными тюричками и корзиночками для своих любимиц.
– Знаешь, – оживленно шептала Миля Корбина своей «паре» Даше Муравьевой, – сегодня тетя обещала мне принести в муфте пузырек горячего кофе.
– Смотри, как бы не поймали, – озабоченно шепнула серьезная не по летам Даша, или Додо, как ее прозвали институтки.
– Дежурные в приеме, в зал, – раздался голос оправившейся после обморока Корсак.
Несколько девочек, и в том числе княжна, вышли на середину класса. Это были наши «сливки», то есть лучшие по поведению и учению институтки.
– M-lle Корсак, позвольте мне вам сказать по секрету, – робко произнес гортанный голосок Нины.
– Говори, малютка, – и Корсак, любившая покровительствовать маленьким, обняла Нину и отошла с ней к сторонке.
– Мне хочется уступить мою очередь кому-нибудь, – просящим шепотом говорила княжна.
При всем моем желании услышать, что говорила Нина, я не могла, только видела, как глаза ее поблескивали да бледные щечки вспыхивали румянцем.
Корсак улыбнулась, погладила княжну по головке и перевела глаза на меня.
– Влассовская, – сказала она, – Джаваха передает свою очередь дежурства в приеме из-за вас. Если бы вы были назначены с ней, она не лишила бы себя этого удовольствия. Вы только что поступили, но я попрошу фрейлейн Генинг назначить и вас дежурить в приеме. Одна ваша дружба с Ниной говорит уже за вас.
И, поцеловав княжну, симпатичная девушка пошла просить за нас классную даму.
Кис-Кис, разумеется, согласилась, и мы, веселые, торжествующие, побежали в приемный зал.
– Право, она премилая, эта Леночка Корсак, – говорила по дороге Нина, – и я жалею, что смеялась над ней. Знаешь, Галочка, мне кажется, что она вовсе не затягивается.
– Спасибо, – горячо поблагодарила я мою добрую подружку.
– Э, полно, – отмахнулась она, – нам с тобой доставит удовольствие порадовать других… Если б ты знала, Галочка, как приятно прибежать в класс и вызвать к родным ту или другую девочку!.. В такие минуты я всегда так живо-живо вспоминаю папу. Что было бы со мной, если бы меня вдруг позвали к нему! Но постой, вот идет старушка, это мама Нади Федоровой, беги назад и вызови Надю.
Я помчалась исполнять данное мне Ниной поручение. Когда я вернулась в зал, меня поразило шумливое жужжанье говора, по крайней мере, двух сотен голосов. Княжна подвинулась и дала мне место на скамейке у дверей, между собой и Дашей Муравьевой.
– Ты тоже дежуришь, привыкай, – со своим чуть заметным немецким акцентом шепнула мне фрейлейн Генинг и углубилась в вязание трехаршинного шарфа.
Невдалеке от нас сидела Маня Иванова со своим маленьким гимназистиком-братом. Она разделила принесенное им сестренке большое яблоко на две половины, и оба, смеясь и болтая, уплетали его. Еще дальше вялая Ренн, сидя между матерью и старшей сестрой, упорно молчала, поглядывая на чужие семьи, счастливые кратким свиданьем.
– Смотри, это к Ирочке, – воскликнула, вся вспыхнув, моя соседка, и, прежде чем я успела сказать что-либо, Ниночка приседала перед высоким седым господином почтенного и важного вида.
– Мадмуазель Трахтенберг сейчас выйдет, – произнесла она и бросилась звать свою «душку».
Постоянные посетители приема, увидя незнакомую девочку между всегдашними дежурными, спрашивали фрейлейн – новенькая ли я. Получив утвердительный ответ, они сочувственно-ласково улыбались мне.
Побежав вызывать кого-то из наших, я столкнулась в дверях 5-го «проходного» класса с княжной.
– Я отдала Ирочке твое письмо, будь покойна, оно будет сегодня же опущено в почтовый ящик… – шепнула она мне, вся сияющая, счастливая.
Снова бежала я в класс и снова возвращалась. Прием подходил к концу. Я с невольной завистью смотрела на разгоревшиеся от радостного волнения юные личики и на не менее довольные лица родных. «Если б сюда да мою маму, мою голубушку», – подумала я, и сердце мое замерло. А тут еще совсем близко от меня Миля Корбина, нежно прильнув к своей маме белокурой головенкой, что-то скоро-скоро и взволнованно ей рассказывает. И ее мама, такая добрая и ласковая, вроде моей, внимательно слушает свою девочку, тщательно и любовно приглаживая рукой ее белокурые косички…
Мне стало больно-больно.
«Больше полугода без тебя, моя дорогая мамуся», – горько подумала я и сделала усилие, чтоб не разрыдаться.
Прием кончился… Тот же звонок прекратил два быстро промелькнувшие часа свидания… Зашумели отодвинутые скамейки. Родители торопливо целовали и крестили своих девочек, и, наконец, зала опустела.
– Миля, давай меняться, апельсин за пять карамелек! – кричит Маня Игнатьева Миле Корбиной.
– Хорошо, – кивает та.
– Федорова, тебе принесли чайной колбасы, дай кусочек, душка, – откуда-то из-за шкапа раздается голос Бельской, на что Надя, податливая и тихенькая, соглашается без колебаний.
Мы идем в столовую.
Еще в нижнем коридоре передается отрадная новость: «Mesdam\'очки, на третье сегодня подадут кондитерское пирожное».
Обед прошел с необычайным оживлением. Те, у которых были родные в приеме, отдавали сладкое девочкам, не посещаемым родителями или родными.
После молитвы, сначала прочитанной, а затем пропетой старшими, мы поднялись в классы, куда швейцар Петр принес целый поднос корзин, коробок и мешочков разных величин, оставленных внизу посетителями. Началось угощение, раздача сластей подругам, даже мена. Мы с Ниной удалились в угол за черную классную доску, чтобы поболтать на свободе. Но девочки отыскали нас и завалили лакомствами. Общая любимица Нина, гордая и самолюбивая, долго отказывалась, но, не желая обидеть подруг, приняла их лепту.
Надя Федорова принесла мне большой кусок чайной колбасы и, когда я стала отнекиваться, пресерьезно заметила:
– Ешь, ешь или спрячь, ведь я же не отказывалась от твоих коржиков.
И я, чтобы не обидеть ее, ела колбасу после пирожных и карамелей.
Наконец с гостинцами было покончено. Полуопустошенные корзины и коробки поставили в шкап, который тут же заперла на ключ дежурная; пустые побросали в особый ящик, приютившийся между пианино и шкапом, и девочки, наполнив карманы лакомствами, поспешили в залу, где уже играли и танцевали другие классы.
Институтки старших классов, окруженные со всех сторон маленькими, прохаживались по зале.
Ирочка Трахтенберг, все с той же неизменной Михайловой, сидели на одной из скамеек у портрета императора Павла.
– Княжна, пойдите-ка сюда, – кликнула Михайлова Нину.
Но моя гордая подруга сделала вид, что не слышит, и увлекла меня из залы на маленькую лесенку, где были устроены комнатки для музыкальных упражнений, называемые «силюльками».
– Если б меня позвала Ирочка, я бы, конечно, пошла, – оправдывалась Нина, когда мы остались одни в крохотной комнатке с роялем и табуретом, единственной в ней мебелью, – но эта противная Михайлова такая насмешница!
И снова полилась горячая дружеская беседа. Из залы доносились звуки рояля, веселый смех резвившихся институток, но мы были далеки от всего этого. Тесно усевшись на круглом табурете, мы поверяли друг другу наши детские похождения, впечатления, случаи… Начало темнеть, звуки постепенно смолкли. Мы заглянули сквозь круглое окошечко в зал. Он был пуст…
– Пойдем, Галочка, мне страшно, – вдруг шепнула Нина, и ее личико сделалось мертвенно-бледным.
– Что с тобой? – удивилась и вместе встревожилась я.
– Потом, потом, скорее отсюда! Расскажу в дортуаре.
И мы опрометью кинулись вон из силюлек.
В тот же вечер я услышала от Нины, что наш институт когда-то, давно-давно, был монастырем, доказательством чего служили следы могильных плит в последней аллее и силюльки, бывшие, вероятно, келейками монахинь.
– Не раз, – говорила Нина, – прибегали девочки из силюлек все дрожащие и испуганные и говорили, что слышали какие-то странные звуки, стоны. Это, как говорят, плачут души монахинь, не успевших покаяться перед смертью. А раз, это было давно, когда весь институт стоял на молитве в зале, вдруг в силюльках послышался какой-то шум, потом плач и все институтки, как один человек, увидели тень высокой, черной монахини, которая прошла мимо круглого окна в коридорчик верхних силюлек и, спустившись с лестницы, пропала внизу.
– Ай, замолчи, Нина, страшно! – чуть не плача, остановила я княжну. – Неужели ты веришь в это?
– Я? Понятно, верю, – и, подумав немного, она прибавила задумчиво: – Конечно, потому что иногда я сама вижу мою покойную маму…
– Джаваха, дай спать, ты мешаешь своим шептанием, – нарушила тишину дортуара Бельская.
Скоро весь дортуар затих, погруженный в сон.
Мне было невыразимо жутко. Я натягивала одеяло на голову, чтоб ничего не слышать и не видеть, читала до трех раз «Да воскреснет Бог», но все-таки не выдержала и улеглась спать на одну постель с Ниной, где тотчас же, несмотря ни на какие страхи, уснула как убитая.
ГЛАВА IX
Вести из дому. Подвиг Нины
Проходили дни и недели со дня моего поступления в институт.
Однажды, когда мы собирались спускаться завтракать, в класс вошел швейцар.
Появление швейцара всегда особенно волновало сердца девочек. Появлялся он единственно с целью вызвать ту или другую воспитанницу в неприемный час к посетившим ее родственникам. Поэтому один вид красной, расшитой галунами ливреи заставлял замирать ожиданием не одну юную душу.
На этот раз он никого не вызвал, а молча подал письмо дежурной даме и исчез так же быстро, как вошел. Кис-Кис вскрыла конверт и, едва пробежав первую страницу мелко исписанного листка, громко позвала меня:
– Влассовская, du hast einen Brief von deiner Mama bekommen (тебе письмо от твоей мамы).
Вся вспыхнув от неожиданной радости, я приняла письмо дрожащими руками.
Письмо было действительно от мамы.
...
«Деточка ненаглядная! – писала моя дорогая. – Долго не писала тебе, так как Вася был очень болен: бедняжка схватил корь и пролежал две недели в постели. Теперь наш мальчик поправляется. Он так часто вспоминает свою далекую сестренку. Даже в бреду он поминутно кричал: «Люда, Люда, позовите ко мне Люду».
Очень рада, деточка, что ты начинаешь привыкать к новой жизни… Поблагодари и крепко поцелуй от меня твою милую маленькую княжну за те заботы, которыми она окружила тебя. Бог да воздаст сторицей доброй девочке!
У нас стоит ясная, сухая украинская осень. Теперь заготовляем к зиме капусту. Пшеницу – увы! – продала не всю, и вряд ли мне придется увидеть тебя до лета, моя ясочка; ты знаешь, что наши средства так скромны.
Тебя крепко-крепко целуют няня и Вася; он просит переслать тебе вот этот цветок настурции, чудом уцелевший на клумбе. Гапка, Ивась, Катря – словом, все-все шлют тебе поклоны. Вчера была у отца Василия; он заочно благословляет тебя и молит Господа за твои успехи.
Пусто в нашем хуторе с твоего отъезда, моя деточка; даже Милка приуныла и долго искала тебя по саду и двору; теперь она не отходит от Васи и все время его болезни пролежала у кроватки нашего мальчика.
Ну прости, моя дорогая девочка, радость, счастье мое. Теперь я буду писать чаще. А пока горячо обнимаю мою стриженую головенку и благодарю за присылку милого черного локона. Христос Бог да поможет тебе в твоих занятиях. Не грусти, голубка, сердце мое, ведь о тебе день и ночь думает твоя
Мама».
Институтки, длинная столовая с бесконечными столами, давно стынувшая котлетка – все было забыто…
Слезы капали на дорогие строки, поднявшие во мне целый рой воспоминаний. Она стояла передо мной как живая, моя милая, чудная мамуня, и грудь моя разрывалась от желания горячо поцеловать дорогой призрак. А между тем вокруг меня шумел и жужжал неугомонный рой институток. Они о чем-то спорили, кричали, перебивая друг друга.
– Все это вздор, mesdam\'очки, одни глупые сказки, – важно произнесла Петровская.
– В чем дело? – спросила я сидевшую подле Нину, сразу как бы разбуженная от сладкого сна.
– Видишь ли, хвастаются, что они ничего не боятся, да ведь ложь, трусишки они все. Вот та же Петровская боится выйти в коридор ночью… А Додо утверждает, что видела ночью лунатика.
– Что это такое – «лунатик»? – заинтересовалась я.
– А ты разве не знаешь? – закричала через стол Маруся Запольская, которую прозвали Краснушкой за ее ярко-красного цвета волосы.
– Нет.
– Это болезнь такая. Человек, у которого расстроены нервы, – объясняла с комической важностью Иванова, – вдруг начинает ходить по ночам с закрытыми глазами, взбирается на крыши домов с ловкостью кошки, ходит по карнизам, но избави Бог его назвать в такие минуты по имени: он может умереть от испуга. Вот таких больных и называют лунатиками.
Девочки, обожавшие все таинственное, слушали с жадным вниманием сведущую подругу.
– А ты кого видела, Додо? – набросились они разом на Муравьеву.
– Я, mesdam\'очки, – таинственно сообщала Даша, – пошла пить воду под кран вчера ночью и вдруг вижу – в конце коридора, у паперти, идет что-то белое, будто привидение. Ну я, понятно, убежала в дортуар.
– И все ты врешь, душка, – недоверчиво оборвала ее Краснушка. – Верно, у кого-нибудь из старших зубы болели, а ты, на, уж и решила, что это лунатик.
– А-а, – разочарованно протянули девочки, недружелюбно поглядывая на Краснушку, так грубо сорвавшую маску таинственности с интересного случая.
– Ну да, ты ничему не веришь, ты и в черную монахиню не веришь, и в играющие на рояле в семнадцатом номере зеленые руки не веришь, – рассердилась Додо.
– Нет, в монахиню верю и в руки тоже, – призадумалась Краснушка, – а в лунатика не верю… Это чушь.
– Mesdam\'очки, – вдруг раздался гортанный голосок до сих пор молчавшей княжны, – хотите, я сегодня же ночью пойду и узнаю, какой такой появился лунатик? – И глазки предприимчивой Нины уже засверкали от одушевления.
– Ты, душка, сумасшедшая! Тебя, такую больнушку, и вдруг пустить на паперть! Да и потом ты у нас ведь из лучших, из «сливок», «парфеток», а не «мовешка» – тебе плохо будет, если тебя поймают.
(«Сливками» или «парфетками» назывались лучшие ученицы, записанные за отличие на красной доске; «мовешки» – худшие по поведению.)
– Ну сотрут с доски – и все! – тряхнула беспечно головкой Нина. – Только ты, Крошка, не насплетничай, – крикнула она сидевшей на противоположном конце стола и внимательно прислушивавшейся к разговору Крошке.
Та презрительно передернула плечиками.
– Я правду говорю, – не унималась княжна, – от кого Арно узнала, что ее Пугачом называют, а? Ты передала. А что Вольской репу в прием принесли, ты тоже съябедничала, – горячилась княжна. – Нет, Маркова, уж ты не оправдывайся лучше – нехорошо.
И Нина отвернулась от нее, не желая замечать, как личико Крошки покрылось пятнами.
– А на паперть караулить лунатика я все-таки пойду, – неожиданно добавила княжна, задорно оглядывая нас своими черными глазами.
– Ниночка, тебя моя мама целует и благодарит, – сказала я, желая отвлечь подругу от неприятного предприятия.
– Спасибо, Галочка, – ласково улыбнулась она и крепко пожала своей тоненькой, но сильной ручкой мои пальцы.
Весь остальной день Нина вела себя как-то странно: то задумается и станет вдруг такая сосредоточенная, а то вдруг зальется громким, долго не смолкающим смехом. За уроком француза Нина особенно ясно и безошибочно перевела небольшой рассказ из хрестоматии, за что получила одобрение преподавателя.
За Ниной вызвали Крошку Маркову. Крошка вспыхнула: она не успела повторить урока, уверенная, что сегодня ее не вызовут, и переводила сбивчиво и бестолково.
Monsieur Ротье недоумевающе приподнял брови. Крошка шла одной из лучших учениц класса, а сегодняшние ее ответы были из рук вон плохи.
– Qu\'avez-vous, petite? Je ne vous reconnais plus (что с вами? Я не узнаю вас больше)! Вы хорошо училь и зналь ваш урок, et maintenant (а сегодня…) oh, мне только остает хороший ученица маленькая princesse et plus personne (княжна и больше никто).
Monsieur Ротье в исключительные минуты жизни всегда объяснялся по-русски, немилосердно коверкая язык.
Я видела, как краска то отливала, то приливала к щекам взбешенной и сконфуженной Крошки.
– Ну, Ниночка, – сказала я моей соседке, – этого она тебе не простит никогда.
Нина только передернула худенькими плечиками и ничего не ответила.
В девять часов, когда фрейлейн, послав свое обычное «gute Nacht» лежащим в постелях девочкам, спустила газ и, побродив бесшумно по чуть освещенному дортуару, скрылась из него, меня охватил страх за Нину, которая еще раз до спуска газа подтвердила свое решение во что бы то ни стало проверить, правду ли говорят о лунатике институтки.
– Ну не ходи, Нина, милая, если не из-за меня, то хоть ради Ирочки, – молила я свою храбрую подружку.
– Нет, Люда, я пойду, ты не проси лучше… ради нее-то, ради Ирочки, я и пойду. Ведь я еще ничего особенного не сделала, чтобы заслужить ее дружбу, вот это и будет моим подвигом. И потом я уже объявила всем, что пойду. А княжна Джаваха не может быть лгуньей.
– Ну в таком случае позволь мне пойти с тобой.
– Ни за что! – пылко воскликнула она. – Иначе мы поссоримся.
И молча одевшись и накинув на плечи большой байковый платок, Нина осторожно выскользнула из дортуара.
Где-то чуть скрипнула дверь, и снова все стихло.
Долго ли, нет ли пролежала я, прислушиваясь к ночным звукам и замирая от страха за свою подружку, но наконец не вытерпела и, быстро накинув на себя грубую холщовую нижнюю юбку и платок, прокралась с величайшей осторожностью мимо спящих в умывальной прислуг в коридор, едва освещенный слабо мерцающими рожками.
Все двери, ведущие в дортуары остальных классов и в комнаты классных дам, расположенные по обе стороны длинного коридора, были плотно заперты. Я миновала его, дрожа от холода и страха, и подошла к высоким, настежь раскрытым стеклянным дверям, ведущим на площадку лестницы перед церковью, называемую папертью, и притаилась в углу коридора за дверью, где, не будучи сама замечена, могла, хотя не без труда, видеть происходящее на паперти. Она была не освещена, и только свет из коридорных рожков, слабо боровшийся с окружающей темнотой, позволил мне разглядеть маленькую белую фигурку, прижавшуюся к одной из скамеек.
То была она, моя взбалмошная, смелая Нина!
Она не двигалась… Я еле дышала, боясь быть открытой в моей засаде.
Прошло, вероятно, не менее часа. Мои ноги затекли от сидения на корточках, и я начала уже раскаиваться, что напрасно беспокоилась, – княжне, очевидно, не грозила никакая опасность, – как вдруг легкий шелест привлек мое внимание. Я приподнялась с пола и замерла от ужаса: прямо против меня в противоположных дверях стояла невысокая фигура вся в белом.
Холодный пот выступил у меня на лбу. Я чуть дышала от страха… Княжна между тем встала со своего места и прямо направилась к белому призраку.
Тут я не помню, что произошло со мной. Я, кажется, громко вскрикнула и лишилась чувств.
ГЛАВА X
Первая ссора. Триумвират
Очнулась я в дортуаре на моей постели. Около меня склонилось озабоченное знакомое лицо нашей немки.
– Лучше тебе, девочка? – спросила она. – Может быть, не свести ли тебя в лазарет, или подождем до утра?
В голове моей все путалось… Страшная слабость сковывала члены. Я вся была как разбитая.
– Где Нина? – спросила я классную даму.
– Sie schlaft bleib\'ruhig! (она спит, будь покойна!) – строже произнесла Кис-Кис и, видя, что я успокоилась, хотела было отойти от моей постели, но я не пустила ее, схвативши за платье.
– Фрейлейн, что же это было? Что это было, ради Бога, скажите? – испуганно вырвалось у меня при внезапном воспоминании о белой фигуре.
– Dumme Kinder (глупые дети)! – совсем уже сердито воскликнула редко сердившаяся на нас немка. – Ишь, что выдумали! Просто запоздавшая прислуга торопилась к себе в умывальню, а они – крик, скандал, обморок! Schande (стыд)! Тебе простить еще можно, но как это княжна выдумала показывать свою храбрость?.. Стыд, срам, Петрушки этакие! (Петрушки было самое ругательное слово на языке доброй немки.) Если б не я, а кто другой дежурил, ведь вам бы не простилось, вас свели бы к Maman, единицу за поведение поставили бы! – хорохорилась немка.
– Да мы знали, что вы не выдадите, фрейлейн, оттого и решились в ваше дежурство, – попробовала я оправдываться.
– И не мы, а она! – сердито поправила она меня, мотнув головой на княжну, спящую или притворявшуюся спящей. – Это вы мне, значит, за мою снисходительность такой-то сюрприз устраиваете, danke sehr (очень благодарна)!
– Простите, фрейлейн.
– Ты что, ты – курица, а вот орленок наш и думать забыл о своем проступке, – смягчившись, произнесла менее ворчливым голосом фрейлейн и вторично взглянула на спавшую княжну.
Лишь только она скрылась, я приподнялась на локте и шепотом спросила:
– Нина, ты спишь?
Ответа не было.
– Ты спишь, Ниночка? – немного громче позвала я.
Новое молчание.
Я посмотрела с минуту на милое личико, казавшееся бледнее от неровного матового света рожков. Потом, зарывшись с головой под одеяло, я заснула крепким и тяжелым сном.
Проснулась я от громкого говора институток. Кто-то кричал, ссорился, спорил. Открыв глаза, я увидела Нину почти одетую, с бледным, нахмуренным лицом и сердитыми, глядящими исподлобья глазками.
– Никогда и ничем я не хвасталась, – холодно и резко говорила она Крошке, старательно заплетавшей свои белокурые косички. – Никогда! Оправдываться ни перед тобой, ни перед классом не буду. Я не струсила и шла на паперть одна. Больше я ничего не скажу и прошу меня оставить в покое!
– Ниночка, в чем они тебя обвиняют? – встревоженно спросила я моего друга.
– Ах, оставь, пожалуйста, меня в покое. Ты мне только испортила все, все! – с сердцем и горячностью воскликнула она и, круто повернувшись, отошла от кровати.
Я видела ее ожесточенное выражение лица, слышала ее холодный, недружелюбный голос, и сердце мое упало. Как жестоко и несправедливо было ее обвинение!
Я быстро оделась, еле сдерживая накипавшие в груди слезы, и пошла искать Нину. Она стояла у окна в коридоре с тем же сердито-нахмуренным лицом.
– Нина! – подошла я к ней и положила на плечо руку.
– Уйди, не зли меня! Из-за тебя, из-за твоего глупого вмешательства они, эта Маркова и Иванова, издеваются над моей трусостью… Уйди!..
– Ниночка, – растерявшись, произнесла я, – сейчас же пойду и скажу им, что ты ничего не знала, что я сама прокралась за тобой…
– Этого еще недоставало! – вспыхнула она гневом и даже с силой топнула ножкой: – Уйди, пожалуйста, ты ничего умного не придумаешь! Ты меня только злишь! Я видеть тебя не хочу!
И она почти с ненавистью взглянула на меня и резко повернулась ко мне спиной.
Все было кончено…
Точно что-то перевернулось у меня в сердце.
Нина, моя милая Нина, мой единственный друг разорвал со мной тесные узы дружбы!..
Опустив голову, молча двинулась я назад в дортуар, чувствуя себя бесконечно одинокой и жалкой.
«Мамочка! – рыдало что-то внутри меня. – За что, за что? Ты не слышишь, родная, свою девочку, не знаешь, как ее обидели! И кто же? Самая близкая, самая любимая душа в этих стенах! Ты бы не обидела, ты не обидела ни разу меня, дорогая, далекая, милая!»
Я точно нарочно растравляла еще сильнее этими причитаниями мою глубоко возмущенную детскую душу, стараясь задеть самые болезненные, самые чувствительные струны ее.
Дойдя до своей постели, я повалилась на нее и, скрыв лицо в подушках, зарыдала горько, неутешно, стараясь заглушить мои рыдания.
Вдруг чья-то маленькая ручка коснулась меня.
«Нина! – мелькнуло в моей голове. – Нина, она раскаялась, она пришла!»
И счастливая от одной этой мысли, я подняла голову и отшатнулась.
Но это была не Нина.
Белокурая Крошка стояла передо мной и улыбалась приветливо и ласково.
Эта улыбка делала чрезвычайно обаятельной ее недоброе, капризное личико.
– Ты поссорилась с Джавахой? – спросила она меня.
– Нет, я не ссорилась, я не понимаю, за что рассердилась Нина и прогнала меня… Мне это очень больно…
– Больно? – И красивое личико Крошки исказилось гримаской. – Ну так пойди, проси у нее прощения, может быть, она и простит тебя! – насмешливо проговорила Крошка.
Эти ее слова точно хлестнули меня по душе… Хитрая девочка поняла, чем можно поддеть меня. Во мне заговорило врожденное самолюбие, гордость.
«В самом деле, что за несчастье, если княжна дуется и капризничает? – подумала я. – Чего я плакала, глупенькая, точно я в самом деле виновата? Не хочет со мной дружить, так и Бог с ней!»
И я постаралась улыбнуться.
– Ну вот и отлично, – обрадовалась Крошка, – охота была портить глаза. Глаза-то одни, а подруг много! Да вот, чего откладывать в долгий ящик, хочешь быть со мной подругой?
– Я, право, не знаю… – растерялась я. – Да ты ведь с Маней Ивановой, кажется, дружна?
– Так что же! Это не помешает нисколько; мы будем подругами втроем, будем втроем гулять в перемены: я – в середине, как самая маленькая, ты – справа, Маня – слева, хорошо? Теперь как-то все по трое подруги; это называется в институте «триумвират». Ты увидишь, как будет весело!
Я не знала, что ответить. Крошка была враг Нины, я это отлично знала, но ведь Нина первая изменила своему слову и прогнала меня от себя. А Крошка успокоила, обласкала да еще предлагает свою дружбу!.. Что ж тут думать, о чем?
И не колеблясь ни минуты я протянула ей руку:
– Хорошо, я согласна!
Мы обнялись и поцеловались. Позвали Маню Иванову и с ней поцеловались.
«Триумвират» был заключен.
Раздался звонок, призывающий к молитве и чаю. Сейчас вслед за m-lle Арно, вышедшей из своей комнаты, вошла Джаваха.
Увидя меня между Ивановой и Марковой, она, очевидно, сразу поняла, в чем дело. Краска залила ее бледные щеки, глаза загорелись ярко-ярко.
– Какая гадость – поступать так, – сквозь зубы произнесла она, глядя на меня в упор пронизывающим душу взглядом.
Я невольно опустила глаза. Сердце как-то екнуло… Но минута, другая – и все мое колебание исчезло.
Возвращаться назад было незачем да и неловко перед моими новыми подругами… С прежней дружбой все счеты были кончены…
Началась новая жизнь, новые друзья, новые разговоры, новые тайны.
Крошка и Маня Иванова, в особенности же первая, целиком завладели всем моим существом.
Я невольно подпадала под влияние Марковой, умевшей, несмотря на ее детские годы, подчинять меня своей воле. Что была, в сущности, Крошка, я не могла докопаться никаким образом. Очень неровна, минутами страшно капризная, настойчивая, любившая властвовать и, очень метко подмечая чужие недостатки, издеваться над ними, – она, однако, считалась одной из лучших воспитанниц. Лишь только ей приходилось попасться на глаза классной дамы или учителя, капризное личико принимало почтительно-кроткое выражение и вся она казалась маленьким ангелом. Уходило начальство – и исчезало кроткое ангельское выражение с лица Крошки… Классные дамы, не постигшие всей несимпатичной двойственности маленького существа, любили Крошку, относя ее к числу «парфеток», то есть лучших учениц класса.
Зато подруги единодушно ненавидели Маркову, называя за глаза «фискалкой». Что касается последнего недостатка Крошки, то уличить ее в нем было невозможно. Ее подозревали в том, что она бегает жаловаться своей тетке – инспектрисе, но доказать этого никто не решался, и потому Крошка благополучно выносила все из класса, а класс ее ненавидел всеми силами, хотя отчасти и побаивался втайне. Ее дружба с Маней Ивановой заключалась в полном подчинении последней Крошке. Маня была добрая, славная, несколько ленивая девочка, имевшая один страшный недостаток, по мнению институток: она любила поесть. Есть Маня могла во всякое время, не разбирая что и как. Иногда после целой коробки мармеладу, уничтоженной в один присест, она тут же, не передохнув, как говорится, принималась за калач, намазанный маслом и густо посыпанный зеленым сыром. Как-то раз на пари, призом которого был назначен апельсин, Маня Иванова съела восемь штук больших институтских котлет. Второй слабостью Мани было «обожание» Крошки, о которой она отзывалась самыми восторженными похвалами.
– Лидочка – прелесть, – говорила она мне, пережевывая кусок чего-нибудь и вся сияя удовольствием, – они ее не понимают и дуются; да ты вот подружишь с нами подольше и тогда сама узнаешь.
А Лидочка неимоверно злоупотребляла дружбой Мани. Она командовала ею, заставляла оказывать ей тысячу мелких услуг и, к довершению всего, подняла на подругу целое гонение за то, что Маня «обожала» Леночку Корсак. Несмотря на недостатки Мани, меня тянуло гораздо больше к ней, нежели к лукавой, неискренней Крошке.
Крошка замечала это и всеми силами старалась скрепить наши недавние узы дружбы.
Не знаю цели, заставлявшей Крошку так ухватиться за меня, но думаю, что она руководилась местью к княжне, которую считала своим злейшим врагом. Или просто ей хотелось заручиться преданной душой среди недружелюбно относящегося к ней класса.
С первых же часов моей новой дружбы я поняла, что сделала непростительную ошибку.
Холодная и эгоистичная Крошка, ничего не делавшая спроста, и веселая сладкоежка Маня не могли мне заменить моего потерянного друга. А ссора с Ниной вышла нешуточная. Она сидела на уроках на одной со мной скамейке, ходила в одной паре и спала подле. Но я видела, как это стесняло ее. Всеми силами Нина старалась выказать мне свое полное негодование, почти ненависть. Она отодвигалась от меня на самый кончик скамейки, за обедом она передавала тарелки не через меня, а за моей спиной; она не ходила со мной под руку в паре, как это было принято; приходя в дортуар, она ложилась скоро, скоро и засыпала, еще до спуска газа, как бы боясь разговоров и объяснений с моей стороны.
Так прошло много времени. Я изнывала и не могла найти исхода. Крошка все ловчее и ловчее опутывала меня еле уловимыми сетями своей дружбы, а я, по свойственному моей натуре малодушию и слабости, не могла сбросить с себя этой власти, всем сердцем продолжая любить мою единственную, дорогую Ниночку. Последняя очень изменилась со времени нашей ссоры. Всегда сдержанная и сосредоточенная прежде, любившая тихие, долгие беседы о Кавказе, о доме, она вдруг стала неузнаваемо весела. Целые досуги проводила она в бесцельной визгливой беготне по зале с «мовешками», в рисовании на доске смешных фигурок или пробиралась на половину старших и прогуливалась там с Ирочкой и Михайловой, не боясь «накрытия синявок».
Последние не могли не заметить перемены, происшедшей с примерной воспитанницей, но относили это к болезненным проявлениям слабого организма княжны и смотрели сквозь пальцы на выходки Нины.
К довершению всего, Нина подружилась с Бельской – «разбойником» класса – и была постоянной ее спутницей и соучастницей в проказах.
Маме я ничего не писала о случившемся, инстинктивно чувствуя, ведь это сильно огорчит ее, тем более что она, ничего не подозревая, писала мне длинные письма, уделяя в них по странице на долю «милой девочки», как она называла мою дорогую, взбалмошную, так незаслуженно огорчившую меня княжну…
ГЛАВА XI
Невинно пострадавшая
Однажды после завтрака, в большую перемену, гуляя по саду в обществе моих двух новых подруг, я была удивлена необычайным оживлением, господствовавшим на последней аллее. День был сырой, промозглый – одним словом, один из тех осенних дней, на которые так щедр петербургский ноябрь. Мы прибавили шагу, желая поскорее узнать, в чем дело.
Посередине аллеи неуклюже прыгала, громко, беспомощно каркая, большая черная ворона. Правая лапка и часть крыла были у нее в крови. За ней бежало несколько седьмушек с Ниной Джавахой и Бельской во главе.
– Осторожнее, клюнет! – кричала Петровская, всячески удерживая княжну.
Но Нина не обратила внимания на ее слова. Вся красная от волнения и тщетных попыток поймать птицу, она наконец изловчилась и бесстрашно схватила ворону, забившуюся у ножек садовой скамейки.
– Поймала! – сказала она, торжествующе обводя глазами маленькое общество.
– Какая ты храбрая, Ниночка, – заметила Надя Федорова, подобострастно глядя на смелую подругу.
Ворона билась и каркала в руках Нины, но девочка ловко закутала ее в платок, надетый внизу под клекой, и понесла ее в класс.
– Сохрани Бог, синявки узнают, – замирая, шептала Федорова.
– Нет! Куда им! Бельская, беги за бинтом в лазарет.
К счастью, ворона притихла и ничем не обнаруживала своего присутствия. Ее посадили в корзинку с крышкой, в которой мать Тани Петровской в прошлое воскресенье привезла яблок. Мигом был принесен бинт из лазарета. Дождавшись, когда дежурный в этот день Пугач вышел из класса, Нина быстро перевязала поломанное крыло вороны, предварительно обмыв его хорошенько. Потом птицу силой накормили оставшейся у кого-то в кармане от чая булкой и усадили в корзину, прикрыв сверху казенным платком.
Следующий урок был батюшкин. Славный был наш добрый институтский батюшка! Чуть ли не святым прослыл он в наших юных понятиях за теплое, чисто отеческое отношение к девочкам.
Рассказывает ли он о страданиях Иова или о бегстве иудеев из Египта, глаза его ласково и любовно останавливаются на каждой из нас по очереди, а рука его гладит склоненную перед ним ту или другую головку…
Батюшка никогда не сидел на кафедре. Перед его уроком к первой скамейке среднего ряда придвигался маленький столик, куда клались учебники, журнал и ставилась чернильница с пером для отметок. Но батюшка и за столом никогда не сидел, а ходил по всему классу, останавливаясь в промежутках между скамейками. Особенно любил он Нину и называл ее «чужестраночкой».
– Я, батюшка, русская, – немного обидчиво говорила она.
– Ну что ж, что русская, а из какой дали к нам прилетела!
И широкий рукав нарядной шелковой рясы совсем прикрывал бледное личико и глянцевитые косы.
Батюшку мы все буквально боготворили. Мы поверяли ему наши детские невзгоды, чистосердечно каялись в содеянных шалостях, просили совета или заступничества и никогда ни в чем не терпели от него отказа. Худых баллов батюшка не ставил. Выйдет ленивая, не знающая урока ученица, вроде Ренн, он ее самыми немудреными и легко понятными вопросами наведет на ответ так, что урок она хотя слабо, а все-таки ответит и получит 11 в классном журнале. Зато не знать урока у батюшки считалось преступлением, за которое «нападал» весь класс без исключения. Да, впрочем, таких случаев, к нашей чести будь сказано, почти не случалось. Девочки-«парфетки» следили за девочками-«мовешками», заботясь, чтобы урок Закона Божьего был выучен. Даже Ренн не имела меньше 11 баллов.
После класса мы все окружали батюшку, который, благословив теснившихся вокруг него девочек, садился на приготовленное ему за столиком место, мы же располагались тесной толпой у его ног на полу и беседовали с ним вплоть до следующего урока.
Всех нас он знал по именам и вызывал на уроках не иначе как прибавив к фамилии ласкательное имя девочки:
– А ну-ка, Манюша Иванова, расскажите о явлении Иеговы праведному Моисею.
И Манюша рассказывала звонко, ясно, толково.
Так было и в этот день, но едва Таня Покровская, особенно религиозная и богобоязненная девочка, окончила трогательную повесть о слепом Товии, как вдруг из корзины, плотно прикрытой зеленым платком, раздалось продолжительное карканье. Весь класс замер от страха. Дежурившая в этот день в классе m-lle Арно вскочила со своего места, как ужаленная, не зная, что предпринять, за что схватиться. Батюшка, недоумевая, оглядывал весь класс своими добрыми, близорукими глазами…
«Кар-кар», – зловеще неслось из угла.
– В классе – ворона, – вдруг произнес, дрожа от злости, Пугач, – это не шалость, а безобразие, и виновная будет строго наказана!
И вся зеленая от негодования она бросилась искать ворону. Но последняя не заставила себя долго ждать: вылезши из корзины, она стала ковылять по полу с громким, пронзительным карканьем.
Классная дама кричала, девочки шикали, чтобы прогнать ворону, суматоха была невообразимая.
Я взглянула на княжну: она была белее своей белой пелеринки.
Между тем раздался звонок, возвещающий окончание урока, и батюшка, поспешно осенив нас общим крестом, вышел из класса.
Мы притихли.
М-lle Арно приказала дежурной воспитаннице позвать коридорную девушку, чтобы убрать «этот ужас», как она назвала ворону, а сама помчалась доносить инспектрисе о случившемся.
Лишь только классная дверь закрылась за ней, как Бельская вскочила на кафедру и громко на весь класс прокричала:
– Mesdam\'очки, не выдавайте Нину, слышите! Нам всем ничего не будет, а ее, пожалуй, за эту шалость сотрут с красной доски и выключат из «парфеток».
– Нет, зачем же классу страдать из-за одной? Я непременно сознаюсь, – пробовала запротестовать княжна.
– И думать не смей! – зашумели девочки со всех сторон. – Мы все хотели взять ворону… все… только боялись ее клюва, а ты бесстрашная… Всему классу это сойдет, а тебе нет.
Между тем коридорная девушка ловила виновницу случая – ворону, но никак не могла поймать.
– Ну-с, так решено: Нины не выдавать и у батюшки просить всем классом прощения, что это случилось на его уроке, – проповедовала Бельская.
– Ты, Феня, не выбрасывай ее на двор, – просила Джаваха коридорную девушку, одолевшую наконец злополучную ворону, – ворона ведь больная.
– А куды ж я с ней денусь? Еще от начальства влетит, беда будет. Нет, барышня, отнесу-ка я ее в сад на прежнее место… И что за птицу вы облагодетельствовали! Ведь падаль жрет, – у, глазастая! – И Феня потащила нашу протеже из класса, куда в этот миг входила инспектриса.
Мы снова присмирели, предчувствуя грозу.
Худая, длинная как жердь инспектриса производила впечатление старушки, но двигалась она быстро и живо, поспевая всюду.
Тон ее был раздражительный, сухой, придирчивый. Мы ненавидели ее за ее брезгливое пиление.
Худая фигурка в синем шелковом платье с массой медалей у левого плеча грозно предстала поднявшемуся со своих скамеек классу.
– Кто осмелился принести в класс ворону? – резко прозвучал среди восстановившейся мигом тишины ее визгливый голос.
Молчание.
– Кто? – снова повторила инспектриса.
Новое молчание было ответом.
– Что же, у вас языков нет? – еще грознее наступала она. – Я требую, чтобы виновная призналась.
– Мы все, все виноваты, – раздались одиночные голоса.
– Все! – хором повторил весь класс.
– Трогательное единодушие, – проговорила с недоброй усмешкой инспектриса, – но будьте уверены, я все узнаю, и виновная будет строго наказана.
– Маркова насплетничает, непременно насплетничает, – зашептали девочки, когда инспектриса вышла из класса, а мы стали спускаться с лестницы.
Меня охватил внезапный страх за милую княжну, согласившуюся на защиту и покрывательство класса. Я предвидела, что княжне это не пройдет даром.
«Крошка непременно выдаст», – подумала я, и вдруг внезапная мысль осенила меня. Я слишком еще любила княжну, чтобы колебаться.
И, не откладывая в долгий ящик своего решения, я незаметно выскользнула из пар и бегом возвратилась обратно, делая вид, что позабыла что-то в классе.
Там, подождав немного, когда, по моему мнению, «седьмушки» достигли столовой, я быстро направилась через длинный коридор на половину старших, в так называемый «колбасный переулок», где жила инспектриса. Почему он назывался колбасным, я до сих пор себе не уяснила, да и вряд ли кто из институток мог бы это сделать. Там находились комнаты классных дам, и в том числе комната инспектрисы. Я со страхом остановилась у двери, трижды торопливо прочла: «Господи, помяни царя Давида и всю кротость его!» – как меня учила няня делать в трудные минуты жизни – и постучала в дверь с вопросом: «Puis-je entrer» (могу войти)?
– Entrez (войдите)! – прозвучало в ответ, и я робко вошла.
Комнатка инспектрисы, разделенная пополам невысокой драпировкой темно-малинового цвета, поразила меня своей уютностью. Там стояла очень хорошенькая мебель, лежал персидский ковер, висели на стенах группы институток и портрет начальницы, сделанный поразительно удачно.
Сама m-lle Еленина – так звали инспектрису – сидела за маленьким ломберным столиком, накрытым белой скатертью, и завтракала.
Она подняла на меня свои сердитые, маленькие глазки с вопросительным недоумением.
– Medemoiselle, – начала я дрожащим голосом, – я пришла сказать, что… что… ворону принесла я.
– Ты? – И еще большее недоумение отразилось в ее взоре.
– Да, я, – на этот раз уже ясно и твердо отчеканила я.
– Отчего же ты не созналась сразу, в классе?
Я молчала, мучительно краснея.
– Стыдись! Только что поступила, и уже совершаешь такие непростительные шалости. Зачем ты принесла в класс птицу? – грозно напустилась она на меня.
– Она была такая исщипанная, в крови, мне было жалко, и я принесла.
Боязнь за Нину придала мне храбрости, и я говорила без запинки.
– Ты должна была сказать m-lle Арно или дежурной пепиньерке, ворону бы убрали на задний двор, а не распоряжаться самой, да еще прятаться за спиной класса… Скверно, достойно уличного мальчишки, а не благовоспитанной барышни! Ты будешь наказана. Сними свой передник и отправляйся стоять в столовой во время завтрака, – уже совсем строго закончила инспектриса.
Я замерла. Стоять в столовой без передника считалось в институте самым сильным наказанием.
Это было уже слишком. На глазах моих навернулись слезы. «Попрошу прощения, может быть, смягчится», – подумала я.
«Нет, нет, – в ту же минуту молнией мелькнуло в моей голове, – ведь я терплю за Нину и, может быть, этим поступком верну если не дружбу ее, то, по крайней мере, расположение».
И, стойко удержавшись от слез, я быстро сняла передник, сделала классной даме условный поклон и вышла из комнаты.
Мое появление без передника в столовой произвело переполох.
Младшие повскакали с мест, старшие поворачивали головы, с насмешкой и сожалением поглядывая на меня.
Я храбро подошла к m-lle Арно и заявила ей, что я наказана инспектрисой. Но за что я наказана, я не объяснила. Затем я встала на середину столовой. Мне было невыразимо совестно и в то же время сладко. Лицо мое горело, как в огне. Я не поднимала глаз, боясь снова встретить насмешливые улыбки.
«Если б они знали, если б только знали, за что я терплю эту муку! – вся замирая от сладкого трепета, говорила я себе. – Милая, милая княжна, чувствуешь ли ты, как страдает твоя маленькая Люда?»
Наши «седьмушки», видимо, взволновались. Не зная, за что я наказана, они строили тысячу предположений, догадок и то и дело оборачивались ко мне.
Я подняла голову. Мой взгляд встретился с Ниной. Я не знаю, что выражали мои глаза, но в черных милых глазках Джавахи светилось столько глубокого сочувствия и нежной ласки, что всю меня точно варом обдало.
«Ты жалеешь меня, милая девочка», – шептала я восторженно, и, стряхнув с себя ложный, как мне казалось, стыд, я подняла голову и окинула всю столовую долгим, торжествующим взглядом.
Но меня не поняли, да и не могли понять эти беспечные, веселые девочки.
– Смотрите-ка, mesdames наказана, да еще и смотрит победоносно, точно подвиг совершила, – заметил кто-то с ближайшего стола пятиклассниц.
В ответ я только равнодушно пожала плечами.
Лицо мое между тем горело все больше и больше и стало красное как кумач. У меня сделался жар – неизменный спутник всех моих потрясений.
М-lle Арно со своего места обратила внимание на мои пылающие щеки, на неестественно ярко разгоревшиеся глаза и, оставив свое место, подошла ко мне.
– Тебе нехорошо?
Я отрицательно покачала головой, но она, приложив руку к моей пылающей щеке, воскликнула:
– Но ты больна, ты вся горишь! – и, подхватив меня под руку, поспешно вывела из столовой мимо еще более недоумевающих институток.
Пытка кончилась.
Меня отвели в лазарет.
ГЛАВА XII
В лазарете. Примирение
Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Этот свет исходил, казалось, от самих чисто выбеленных стен лазарета. Вход в него был через темный коридорчик, примыкавший к нижнему длинному и мрачному коридору. Первая комната называлась «перевязочная», сюда два раза в день, по лазаретному звонку, собирались «слабенькие», то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы: одна – кругленькая, беленькая, молодая девушка, Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая – Мирра Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной «шипучкой» (смесь соды с кислотою) или беленькими мятными лепешками…
– Меня тошнит, Вера Васильевна, – говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам.
И Пышка открывает шкап, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку.
– Мне бы мятных лепешек от тошноты, – тянет другая.
– А не хотите ли касторового масла? – добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется.
Пропишет ли доктор кому-либо злополучную касторку в дежурство Веры Васильевны, она дает это противное масло в немного горьковатом портвейне и тем же вином предлагает запить, между тем как в дежурство Жучки касторка давалась в мяте, что составляло страшную неприятность для девочек.
Из перевязочной вели две двери: одна – в комнату лазаретной надзирательницы, а другая – в лазаретную столовую. В столовой стоял длинный стол для выздоравливающих, а по стенам расставлены были шкапы с разными медицинскими препаратами и бельем.
Из столовой шли двери в следующие палаты и маленькую комнату Жучки.
Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две больших и третья маленькая для труднобольных. Около последней помещалась Пышка. Затем шли умывальня с кранами и ванной и кухня, где за перегородкой помещалась Матенька.
Матенька была не совсем обыкновенное существо нашего лазарета. Старая-старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и кастелянши, она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством.
– Матенька, – кричит Вера Васильевна, – лихорадочную привели, пожалуйста, дайте липки.
И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в две-три минуты по щучьему велению.
– Матенька, помогите забинтовать больную. – И Матенька забинтовывает быстро и ловко.
И откуда силы брались у этой славной седенькой старушки?!
Ворчлива Матенька была ужасно, но и ворчание ее было добродушное, безвредное: сейчас побранит, сейчас же прояснится улыбкой.
– Матенька, – увивается около нее какая-нибудь больная, – поджарьте булочку, родная.
– Ну вот что выдумала, шалунья, чтобы от Марьи Антоновны попало! Не выдумывайте лучше!
А через полчаса, смотришь, на лазаретном ночном столике, подле кружки с чаем, лежит аппетитно подрумяненная в горячей золе булочка. Придется серьезно заболеть институтке, Матенька ночи напролет просиживает у постели больной, дни не отходит от нее, а случится несчастье, смерть, она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей.
Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая.
M-lle Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу – и узнать, почему я наказана, но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее.
– Что с девочкой? – спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную.
И, не теряя ни минуты, она усадила меня на диван и поставила градусник для измерения температуры.
– Mademoiselle Арно, оставьте ее у нас, видите, какая горячая, – посоветовала фельдшерица.
– Ведите себя хорошенько! – холодно бросила мне классная дама и поспешила выйти из перевязочной.
– Вы простудились, да? – допрашивала меня добрая девушка.
– Да… нет… да… право, не знаю! – путалась я.
Действительно, может быть, я простудилась как-нибудь. Я не сознавала, что последние неприятности разрыва с Ниной могли так подействовать на меня.
– У вас повышенная температура, – озабоченно покачала головой Пышка.
– Матенька, – крикнула она, – прикажите постлать постель в средней палате и приготовьте липки.
Поспела постель, поспела и липка. Меня раздели и уложили. Голова моя и тело горели. Обрывки мыслей носились в усталом мозгу.
Точно тяжелый камень надавил сердце.
Едва я забылась, как передо мной замелькали белые хатки, вишневая роща, церковь с высоко горящим крестом и… мама. Я ясно видела, что она склоняется надо мною, обнимает и так любовно шепчет нежным, тихим, грустным голосом: «Людочка, сердце мое, крошка, что с тобой сделали?»
Я открываю глаза, в комнате полумрак. Ноябрьский день уже погас. Около меня кто-то плачет, судорожно, тихо.
Я приподнимаюсь на подушках.
«Мама?» – вдруг мелькает в моей голове безумная мысль.
Нет, не мама.
Надо мной склонилось знакомое бледное личико, все залитое обильными слезами; глянцевитые черные косы упали мне на грудь.
– Княжна! Нина! – каким-то диким, не своим голосом вырвалось из моей груди, и, полузадушенная рыданиями, я широко распахнула объятия.
Мы замерли минуты на две, сжимая друг друга и обливаясь слезами.
– Галочка, моя бедная! – шептала между поцелуями Нина. – Что я с тобой сделала!
И опять слезы, горячие, детские слезы потерянного и вновь обретенного счастья.
– Ах, милая, глупая! Зачем ты… – лепетала Нина. – За меня ведь ты наказана, за меня больна! Какая я злая, скверная! Боже мой! Простишь ли ты меня, Люда?
– Родная! – могла только выговорить я, потрясенная до глубины души.
– Но как же ты узнала? – спросила я, когда прошли первые острые минуты радости.
– Инспектриса пришла в класс и сказала, за что ты наказана… Ну…
– Ну?.. – невольно дрожащим голосом проговорила я.
– Я созналась, и меня стерли с доски и выключили из «парфеток», а тобой все восхищаются… Ты стоишь этого, Людочка; ты такая прелесть, ты ангел! – шептала княжна.
– Но, Ниночка, ведь тебя стерли с доски, – встревожилась я.
– Так что же? А ты что претерпела за меня! Я этого никогда не забуду!
– И княжна горячо поцеловала меня.
– Да, теперь мы будем подругами на всю жизнь! – торжественно произнесла я.
– А как же «триумвират»? – лукаво шепнула княжна.
– А как же Бельская? – не потерялась я.
И обе мы звонко расхохотались.
Княжна прилегла головой ко мне на подушку и, поглаживая мои непокорные стриженые вихры, говорила, как тяжело ей было без меня последнее время.
– Ни есть, ни спать не хотелось.
– Как же ты ко мне пробралась?
– А вот! – И она торжествующе в полутьме подняла свою правую ручку, обвязанную чем-то белым.
– Что это?
– Взяла чинить карандаш, да и обрезала палец перочинным ножом, ну и попала на перевязку, – гордо зазвенел ее гортанный голосок.
В ответ она обняла меня и чуть слышно прошептала:
– А что ты за меня вынесла, Люда!
«Люда!» Как восхитительно звучало мне мое имя в милых губках княжны: не Галочка, а Люда.
– Вы что, шалуньи, притаились, – вдруг прозвучал у нас над ухом знакомый голос Матеньки. – Вы ведь, ваше сиятельство (она всегда так обращалась к княжне), под кран идти изволили ручку смочить, а сами к подруге больной свернули… Не дело… Им покой нужен.
– Матенька, милушка, дайте еще посидеть, – упрашивала Нина.
– Ни-ни, что вы, матушка! А как в классе хватятся? Пойдите, родимая, – ответила старушка.
– Завтра приду, если не выпишешься! – шепнула Нина, целуя меня.
– Выпишусь, – с уверенностью произнесла я, находя себя совсем здоровой.
Она ушла, а я еще чувствовала ее около себя – милую, добрую, великодушную Нину!
В эту ночь я уснула крепким, здоровым сном, унесшим с собою всю мою болезнь.
На другой день к вечеру я уже выписалась из лазарета.
Едва я появилась в классе, девочки устроили мне шумную овацию. Меня обнимали, целовали наперерыв, громко восхваляя за геройский подвиг. Потом всем классом просили инспектрису простить Нину – и на красной доске снова появилось ее милое имя.
Только двое из всего класса не приветствовали меня и бросали на нас с княжной сердитые взгляды. То были мои две прежние подруги, так не долго господствовавшие надо мной. Им обеим – и Крошке и Мане – было крайне неприятно распадение «триумвирата» и мое примирение с их врагом – моей милой Ниной.
ГЛАВА XIII
Печальная новость. Подписка
– Mesdam\'очки, mesdam\'очки, знаете новость, ужасную новость? Сейчас я была внизу и видела Maman, она говорила что-то нашей немке – строго-строго… A Fraulein плакала… Я сама видела, как она вытирала слезы! Ей-Богу…
Все это протрещала Бельская одним духом, ворвавшись ураганом в класс после обеда… В одну секунду мы обступили нашего «разбойника» и еще раз велели передать все ею виденное.
– Это Пугач что-нибудь наговорил на фрейлейн начальнице, наверное, Пугач, – авторитетно заявила Надя Федорова и сделала злые глаза в сторону Крошки: «Поди, мол, сплетничай».
– Да, да, она! Я слышала, как Maman упрекала фрейлейн за снисходительность к нам, я даже помню ее слова: «Вы распустили класс, они стали кадетами…» У-у! противная, – подхватила Краснушка.
– А вдруг фрейлейн уйдет! Тогда Пугач нас доест совсем! Mesdam\'очки, что нам делать? – слышались голоса девочек, заранее встревоженных событием.
– Нет, мы не пустим нашу дусю, мы на коленях упросим ее всем классом остаться, – кричала Миля Корбина, восторженная, всегда фантазирующая головка.
– Тише! Кис-Кис идет!
Мы разом стихли. В класс вошла фрейлейн. Действительно, глаза ее были красны и распухли, а лицо тщетно старалось улыбнуться.
Она села на кафедру и, взяв книгу, опустила глаза в страницу, желая, очевидно, скрыть от нас следы недавних слез. Мы тихонько подвинулись к кафедре и окружили ее.
Додо, наша первая ученица и самая безукоризненная по поведению из всего класса, робко произнесла:
– Fraulein!
– Was wollen sie, Kinder (что вам угодно, дети)? – дрожащим голосом спросила нас наша любимица.
– Вы плакали?.. – как нельзя более нежно и осторожно осведомилась Додо.
– Откуда вы взяли, дети?
– Да-да, вы плакали… Дуся наша, кто вас обидел? Скажите! – приставали мы…
Кис-Кис смутилась. Добрые голубые глаза ее подернулись слезами… Губы задрожали от бесхитростных слов преданных девочек.
– Спасибо, милочки. Я всегда была уверена в вашем расположении ко мне и очень, очень горжусь моими детками, – мягко заговорила она, – но успокойтесь, меня никто не обижал…
– А зачем же вы давеча плакали в коридоре, когда разговаривали с Maman? Я все видела! – смело вырвалось у Бельской.
– Ах ты, всезнайка! – сквозь слезы улыбнулась фрейлейн. – Ну, если видела, придется сознаться: я как мне ни грустно, а должна буду расстаться с вами, дети…
– Расстаться? – ахнул весь класс в один голос. – Расстаться навсегда! За что? Разве мы обидели вас, дуся? За что вы бросаете нас? – раздавались здесь и там печальные возгласы «седьмушек».
Потерять горячо любимую фрейлейн нам казалось чудовищным. Многие из нас уже плакали, прижавшись к плечу подруг, а более сильные духом осаждали кафедру.
– Но, Fraulein, дуся, – говорила Нина, встав за стулом нашей любимицы, – зачем же вы уйдете? Разве мы огорчили вас?
Глаза «Булочки» уже начали разгораться.
– О, нет! Вы были всегда милые, добрые детки, – ласково потрепав по щечке княжну, произнесла она. – Я вас очень, очень люблю и знаю, что вы не огорчите вашу сердитую Fraulein, но другие находят, что я очень слаба с вами и что вы поэтому много шалите.
– Я знаю, кто это сказал… У-у! Это противный Пугач, это Арно! – пылко воскликнула княжна.
– Wie kannst du so sprechen (как ты позволяешь себе так говорить)?! – строго остановила ее фрейлейн и, сильно нахмурясь, добавила: – Вы должны уважать ваших классных дам.
– Мы вас уважаем и очень любим, Fraulein, дуся! – вырвалось, как один голос, из груди 36 девочек.
– Да-да, знаю… я тронута, спасибо вам, ich danke sehr fur ihre Liebe (благодарю вас за вашу любовь), но вы не меня одну должны любить, у вас есть еще другая дама – mademoiselle Арно…
– Мы ее ненавидим! – звонко крикнула Бельская и юркнула за спины подруг.
– Стыдись, Бельская, так отзываться о mademoiselle Арно, твоей наставнице. Она заботится о вас не меньше меня. Она строгая – это правда, но добрая и справедливая, – усовещивала Кис-Кис.
– А за что она Запольскую с доски прошлый месяц стерла? – не унимались девочки. – А почему Нюшу в прием не пустила? Иванову за что в столовой поставила?..
– Ну, Иванова стоит, – серьезно произнесла Нина, недолюбливавшая Иванову.
– Ну довольно, genug! Что делать, что делать, расстаться нам с вами все-таки придется, – покачала головою добрая фрейлейн.
– Нет-нет, мы вас не пустим, мы знаем, что на вас наябедничали, и Maman, верно, что-нибудь вам неприятное сказала, а вы и уходите! Да-да, наверное!
Бедная немка не рада была, что допустила этот разговор.
Тихая и кроткая, она не любила историй и теперь раскаивалась в том, что посвятила пылких девочек в тайну своего ухода из института.
А девочки волновались, кричали, окружили фрейлейн, целовали ее по очереди и даже по нескольку сразу, так что чуть не задушили, – одним словом, всячески старались выразить искреннюю привязанность своих горячих сердечек.
Растроганная и напуганная этими шумными проявлениями любви, Кис-Кис кое-как уговорила нас успокоиться.
Весь остаток дня мы всеми способами старались развлечь нашу любимицу. Мы не отходили от нее ни на шаг, рано выучили все уроки и безошибочно, за некоторым разве исключением, ответили их дежурной пепиньерке и, наконец, тесно обступив кафедру, старались своими незатейливыми детскими разговорами занять и рассмешить нашу любимую немочку. Краснушка, самая талантливая в подражании, изобразила в лицах, как каждая из нас выходит отвечать уроки, и добилась того, что фрейлейн смеялась вместе с нами.
Придя в дортуар, мы поскорее улеглись в постели, чтобы дать отдых нашей любимице. Газ был спущен раньше обыкновенного, и ничем не нарушимая тишина воцарилась в дортуаре.
Утром держали совет всем классом и после долгих споров решили: 1) изводить всячески Пугача, не боясь наказаний; 2) идти в случае чего к начальнице и просить не отпускать Fraulein; 3) сделать любимой немочке по подписке подарок.
К исполнению последнего решения было приступлено немедленно. Распорядителем-казначеем по покупке подарка выбрали Краснушку, славившуюся у нас знанием счета.
В следующий же прием все посещаемые родными «седьмушки» выпросили у своих родных денег, кто рубль, кто двадцать – тридцать копеек, каждая сколько могла, и отдали эти деньги Краснушке на хранение.
Краснушка тщательно пересмотрела, пересчитала серебро и уложила в большой ящик от печенья, на крышке которого она старательно вывела самыми красивыми буквами: «Касса».
– А как же я дам денег? Присланные мне мамой десять рублей находятся у Fraulein? – искренно взволновалась я.
– Ты, Людочка, не беспокойся, – ласково проговорила княжна (она уже давно заменила данное мне ею же прозвище ласкательным именем). – У меня еще много своих денег у Пугача. Завтра спрошу себе и тебе.
– А если она спросит, зачем?
– Тогда я прямо скажу, что мы собираем на подарок.
– Ай да молодец, Нина! Ужели так и скажешь? – восторгались наши.
– Так и скажу, ведь я ненавижу Пугача! Воображаю, как она озлится, когда узнает, что мы все за нашу немку.
И действительно, в французское дежурство Джаваха смело подошла просить из своих денег, отданных на попечение Арно, три рубля.
– Зачем так много? – удивилась та.
– Мы хотим делать по подписке подарок нашей Fraulein. Дайте мне, пожалуйста, mademoiselle, для меня и на долю Влассовской, она отдаст, как только мы купим подарок, а то ведь ее деньги у Fraulein, и она, наверное, не даст ей, узнав, на что мы берем деньги.
– Пустые выдумки! – процедила озлобленно m-lle Арно, однако отказать не решилась и выдала княжне три рубля. Краснушка торжественно присовокупила их к сумме, лежащей уже в кассе.
После вторичного совещания решили купить на собранные деньги альбом, в котором все должны написать что-нибудь самым лучшим почерком на память. «Только из своей головы, а не выученное», – прибавила Додо Муравьева, враг зубрежки. Альбом было поручено купить матери Федоровой, которая охотно исполнила нашу просьбу. В ближайшее же воскресенье Надя Федорова не без труда притащила в класс тяжелый, в папку увязанный сверток. Краснушка влезла на кафедру и, развязав бумаги, торжественно извлекла альбом из папки. Все мы запрыгали от радости.
Это оказалась прелестная, крытая голубым плюшем и с бронзовыми застежками книга, с золотыми кантами, с разноцветными страницами. В правом углу на бронзовой же доске было четко награвировано: «Незабвенной и дорогой нашей заступнице и наставнице Fraulein Гертруде Генинг от горячо ее любящих девочек». В середине был вензель Кис-Кис. Каждая из нас должна была оставить след на красивых листах альбома, и каждая по очереди брала перо и, подумав немного, нахмурясь и поджав губы или вытянув их забавно трубочкой вперед, писала, тщательно выводя буквы. Краснушка, следившая из-за плеча писавшей, только отрывисто изрекала краткие замечания: «Приложи клякс-папир… тише… не замажь… Не спутай: е, а не е… ах какая!.. Ну вот, кляксу посадила!» – пришла она в неистовство, когда Бельская действительно сделала кляксу.
– Слижи языком, сейчас слижи, – накинулась она на нее.
И Бельская не долго думая слизала.
Лишь только надписи были готовы, Краснушка на весь класс прочла их. Тут большею частью все надписи носили один характер: «Мы вас любим, любите нас и будьте с нами до выпуска», – и при этом прибавление самых нежных и ласковых наименований, на какие только способны замкнутые в четырех стенах наивные, впечатлительные девочки.
Не обошлось, конечно, без стихов.
Петровская, к величайшему удивлению всех, написала в альбом:
Бьется ли сердце, ноет ли грудь,
Скушай конфетку и нас не забудь.
– Ну уж и стихи! – воскликнула Федорова, заливаясь смехом.
– А ты, Нина, тоже напишешь стихи в альбом? – спросила Бельская.
– Нет, – коротко ответила княжна.
Я невольно обратила внимание на надпись Нины.
«Дорогая Fraulein, – гласили каракульки моего друга, – если когда-нибудь вы будете на моем родимом Кавказе, не забудьте, что в доме князя Джавахи вы будете желанной гостьей и что маленькая Нина, доставившая вам столько хлопот, будет рада вам как самому близкому человеку».
– Как ты хорошо написала, Ниночка! – с восторгом воскликнула я и недолго думая, взяв перо, подмахнула под словами княжны:
«Да, да, и в хуторе под Полтавой тоже.
Люда Влассовская».
Когда все уже написали свое «на память», решено было торжественно всем классом нести альбом в комнату Кис-Кис.
– Мы попросим ее остаться, а если она не согласится – пойдем к начальнице и скажем ей, какая чудная, какая милая наша Fraulein, – пылко и возбужденно говорила Федорова.
– Да-да, идем, идем, – подхватили мы и толпою бросились через коридор на лестницу, пользуясь минутным отсутствием Арно.
– Куда? Куда? – спрашивали нас с любопытством старшие.
– «Седьмушки» бунтуют! – кричали нам вдогонку наши соседки – шестые, ужасно важничавшие перед нами своим старшинством.
Никому ничего не отвечая, мы миновали лестницу, церковную паперть и остановились перевести дыхание у комнаты Fraulein.
– Ты, ты говори, – выбрали мы Нину, пользовавшуюся у нас репутацией очень умной и красноречивой.
– Kann man herein (можно войти)? – произнесла княжна, постучав в дверь.
Голос ее дрожал от важности возложенного на нее поручения.
– Herein (войдите)! – раздалось за дверью.
Мы вошли. Fraulein Генинг, донельзя удивленная нашим появлением, встала из-за стола, у которого сидела за письмом. На ней была простая утренняя блуза, а на лбу волосы завиты в папильотки.
– Was wunscht Ihr, Kinder (что вы желаете, дети)?
– Fraulein, дуся, – начала Нина, робея, и выступила вперед, – мы знаем, что вас обидели и вы хотите уйти и оставить нас. Но, Frauleinehen-дуся, мы пришли вам сказать, что «всем классом» пойдем к Maman просить ее не отпускать вас и даем слово «всем классом» не шалить в ваше дежурство. А это, Fraulein, – прибавила она, подавая альбом, – на память о нас… Мы вас так любим!..
Голос княжны оборвался, и мы увидели то, чего никогда еще не видали: Нина плакала.
Тут произошло что-то необычайное. Весь класс всхлипнул и разревелся, как один человек.
– Останьтесь!.. любим!.. просим!.. – лепетали, всхлипывая, девочки.
Fraulein, испуганная, смущенная и растроганная, с альбомом в руках, не стесняясь нас, плакала навзрыд.
– Девочки вы мои… добренькие… дорогие… Liebchen… Herzchen… – шептала она, целуя и прижимая нас к своей любящей груди. – Ну как вас оставить… милые! А вот зачем деньги тратите на подарки?.. Это напрасно… Не возьму подарка, – вдруг рассердилась она.
Мы обступили ее со всех сторон, стали целовать, просить, даже плакать, с жаром объясняя ей, как это дешево стоило, что Нина, самая богатая, и та дала за себя и за Влассовскую только три рубля, а остальные – совсем понемножку…
– Нет, нет, не возьму, – повторяла Кис-Кис.
С трудом, после долгой просьбы, удалось нам уговорить растроганную Кис-Кис принять наш скромный подарок.
Она перецеловала всех нас и, обещав остаться, отослала скорее в класс, «чтобы не волновать mademoiselle Арно», прибавила она мягко.
– И чтобы это было в последний раз, – заметила еще Кис-Кис, – никаких больше подарков я не приму.
Этот день был одним из лучших в нашей институтской жизни. Мы могли наглядно доказать нашу горячую привязанность обожаемой наставнице, и наши детские сердца были полны шумного ликования.
Уже позднее, через три-четыре года, узнали мы, какую жертву принесла нам Fraulein Генинг. Ее действительно не любили другие наставницы за ее слишком мягкое, сердечное отношение к институткам и не раз жаловались начальнице на некоторые ее упущения из правил строгой дисциплины, и она уже решила оставить службу в институте. Брат ее достал ей прекрасное место компаньонки в богатый аристократический дом, где она получала бы вчетверо больше скромного институтского жалованья и где занятий у нее было бы куда меньше… Уход ее был решен ею бесповоротно. Но вот появилось ее «маленькое стадо» (так она в шутку называла нас), плачущее, молящее остаться, с доказательствами такой неподкупной детской привязанности, которую не купишь ни за какие деньги, что сердце доброй учительницы дрогнуло, и она осталась с нами «доводить до выпуска своих добреньких девочек».
ГЛАВА XIV
14 ноября
Тезоименитство Государыни Императрицы – 14 ноября – праздновалось у нас в институте с особенной пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от Императорского двора и везли их в театр, а вечером для всех – старших и младших – был бал.
С утра мы поднялись в самом праздничном настроении. На табуретах подле постелей лежали чистые, в несколько складочек праздничные передники, носившие название «батистовых», такие же пелеринки с широкими, жирно накрахмаленными бантами и сквозные, тоже батистовые рукавчики, или «манжи».
За утренним чаем в этот день никто не дотронулся до казенных булок, предвкушая более интересные блюда. Старшие явились в столовую тоненькие, стянутые в рюмочку, с взбитыми спереди волосами и пышными прическами.
Ирочка Трахтенберг воздвигла на голове какую-то необычайную шишку, пронзенную красивою золотою пикой, только что входившую в моду. Но, к несчастью, Ирочка попалась на глаза Елениной, и великолепная шишка с пикой в минуту заменилась скромной прической в виде свернутого жгута.
– Mesdames, у кого я увижу подобные прически – пошлю перечесываться, – сердилась инспектриса.
Богослужение в этот день было особенно торжественно. Кроме институтского начальства были налицо почетные опекуны и попечители. После длинного молебна и зычного троекратного возглашения диаконом «многолетия» всему царствующему дому, мы, разрумяненные душной атмосферой церкви, потянулись прикладываться к кресту. Проходя мимо Maman и многочисленных попечителей, мы отвешивали им поясные поклоны (реверансов в церкви не полагалось) и выходили на паперть.
– Ну что, привыкаешь? – раздался над моей почтительно склоненной головой знакомый голос начальницы.
– Oui, Maman, – смущенно прошептала я.
Княгиня-начальница стояла передо мной величественная, красивая, точно картина, в своем синем шелковом платье с массою орденов на груди и бриллиантовым шифром. Она трепала меня по щеке и ласково улыбалась.
– C\'est la fille de Wlassovsky, heros de Plevna (дочь Влассовского, героя Плевны), – пояснила она толстому, увешанному орденами, с красной лентой через плечо господину.
– А-а, – протянул тот и тоже потрепал меня по щечке.
Потом я узнала, что это был министр народного просвещения.
За завтраком нам дали вместо кофе по кружке шоколаду с очень вкусными ванильными сухариками. Барышни наскоро позавтракали и, не обращая внимания на начальство, заглянувшее в столовую, побежали приготовляться к выезду в театр.
– Счастливицы, – кричали мы им вслед, – возьмите нас с собою.
Праздничный день тянулся бесконечно… Мы сновали по залу и коридорам, бегали вниз и вверх, раза четыре попадались на глаза злющей Елениной и никак не могли дождаться обеда. Более деловитые играли в куклы или «картинки» – своеобразную институтскую игру, состоящую в том, чтобы подбросить картинку, заменяющую институтку, кверху; если картинка упадет лицевой стороной – это считалось хорошим ответом урока, а обратного стороной – ошибка. За ответы ставились баллы в особую тетрадку и затем подводились итоги. Игра эта была любимою у маленьких институток.
Серьезная Додо извлекла из своего стола толстую книгу с изображением индейцев на обложке и погрузилась в чтение.
К обеду вернулись старшие. С шумом и хохотом пришли они в столовую. Их щеки горели от удовольствия, вынесенного ими из театра. Они не дотронулись даже до обеда, хотя обед с кулебякой и кондитерским пирожным, с тетерькою на второе был самый праздничный.
В пять часов нас повели в дортуар, чтобы мы успели выспаться до предстоящего в этот вечер обычного бала, на котором нам, «седьмушкам», было позволено оставаться до 12 часов.
На лестнице нас обогнала Ирочка Трахтенберг с неизменной Михайловой под руку. Она с улыбкой сунула в руки смущенной Нины полученную в театре коробку конфект с вензелем Государыни на крышке.
– Merci, – могла только пролепетать сконфуженная Нина и ужасно покраснела.
Спать легли весьма немногие из нас, остальные же, большая половина класса, разместились на кроватях небольшими группами.
Кира Дергунова, «второгодница», то есть оставшаяся на второй год в классе и, следовательно, видевшая все эти приготовления в прошлом году, рассказывала окружившим ее институткам с большим увлечением:
– И вот, mesdam\'очки, библиотека будет украшена елками, и там будет гостиная для начальства, а в четвертом классе будет устроен буфет, но чай будут пить только кавалеры. Кроме того, для старших будут конфекты… фрукты…
– А для нас? – не утерпела Маня Иванова, начинавшая глотать слюнки от предстоящего пиршества.
– А нам не дадут… – отрезала Кира. – Нет, то есть дадут, – поспешила она поправиться, – только по яблоку и апельсину да по тюречку конфект…
– А-а, – разочарованно протянула Маня.
– Тебе скучно? – спросила меня Нина, видя, что я лежу с открытыми глазами.
– Да, домой тянет, – созналась я.
– Ну, Люда, потерпим, ведь теперь ноябрь уже в середине, до праздников рукой подать, а второе полугодие так быстро промелькнет, что и не увидишь… Там экзамены, Пасха… и лето…
– Ах, лето! – с восторженным вздохом вырвалось у меня.
– И вот, mesdam\'очки, войдет Maman, оркестр заиграет марш… – тем же тягучим, неприятным голосом повествовала Дергунова.
В 7 часов началось необычайное оживление; «седьмушки» бежали под кран мыть шею, лицо и чистить ногти и зубы. Это проделывалось с особенным старанием, хотя «седьмушкам» не приходилось танцевать – танцевали старшие, а нам разрешалось только смотреть.
В 8 часов к нам вошла фрейлейн, дежурившая в этот день. На ней, поверх василькового форменного платья, была надета кружевная пелеринка, а букольки на лбу были завиты тщательнее прежнего.
– Какая вы красавица, нарядная! – кричали мы, прыгая вокруг нее.
И действительно, ее добродушное, с жилочками на щеках личико, с сиявшей на нем доброй улыбкой, казалось очень милым.
– Ну-ну, Dummheiten (глупости)! – отмахнулась она и повела нас вниз, где выстроились уже шпалерами по коридору остальные классы.
Внизу было усиленное освещение, пахло каким-то сильным, в нос ударяющим курением.
В половине девятого в конце коридора показалась Maman, в целом обществе опекунов и попечителей, при лентах, орденах и звездах.
– Nous avons l\'honneur de vous saluer (имеем честь вас приветствовать)! – дружно приседая классами, восклицали хором институтки.
За начальством прошли кавалеры: ученики лучших учебных заведений столицы, приезжавшие к нам по «наряду». Исключение составляли братья и кузены старших, которые попадали на наши балы по особому приглашению начальницы или какой-нибудь классной дамы.
Под звуки марша мы все вошли в зал и прошлись полонезом, предводительствуемые нашим танцмейстером Троцким, высоким, стройным и грациозным стариком, с тщательно расчесанными бакенбардами. Maman шла впереди, сияя улыбкой, в обществе инспектора – маленького, толстенького человечка в ленте и звезде.
Наконец начальство подошло к небольшому кругу мягкой мебели, подобно оазису уютно расположенному в почти пустой зале, и заняло место среди попечителей и гостей.
Проходя мимо начальства, мы останавливались парами и отвешивали низкий, почтительный реверанс и потом уже занимали предназначенные нам места.
Полонез сменился нежными, замирающими звуками ласкающего вальса. Кавалеры торопливо натягивали перчатки и спешили пригласить «дам» – из числа старших институток. Минута – и десятки пар грациозно закружились в вальсе. Вон белокурая Ирочка несется, тонкая и стройная, согнув немного талию, с длинным, угреватым лицеистом, а вон Михайлова кружится как волчок с каким-то розовым белобрысым пажом.
По окончании условных двух туров (больше двух с одним и тем же кавалером делать не позволялось) институтки приседали, опустив глазки, с тихим, еле уловимым «Merci, monsieur». Отводить на место под руку строго воспрещалось, а еще строже – разговаривать с кавалером, чему плохо, однако, подчинялись старшие.
Я с Ниной и еще несколькими «седьмушками» уселись под портретом императора Павла, основателя нашего института, и смотрели на танцы, как вдруг передо мной как из-под земли вырос длинный и худой как палка лицеист.
– Mademoiselle, – произнес он шепелявя, – puis-je vous engager pour un tour de valse (могу я вас пригласить на тур вальса)?
Я обомлела и крепко стиснула руку Нины, как бы ища защиты.
– Merci, monsieur, – вся краснея от смущения пролепетала я, – je ne danse pas (я не танцую), – и, встав, отвесила ему почтительный поклон.
Но было уже поздно. Длинный лицеист не понял меня и, быстро обняв мою талию, понесся со мною в вихре вальса.
Лицеист кружился ужасно скоро. Мои ноги не касались пола, и я в воздухе выделывала с изумительной точностью все те па, которым учил нас Троцкий на своих танцклассах.
К счастью моему, музыка прекратилась, и длинный лицеист почти бесчувственную усадил меня на место, с изысканной любезностью прошепелявив: «Merci, mademoiselle».
– Счастливица! Счастливица! Танцевала с большим кавалером, – со всех сторон слышала я завистливые восклицания.
Зал стали проветривать, и весь институт разбежался по коридорам и классам, превращенным в гостиные.
– Пойдем пить! Хочешь? – шепнула Нина, и мы побежали к двум красиво задрапированным бочонкам, один с морсом, другой с оршадом, из которых с невозмутимым хладнокровием институтский вахтер Самойлыч черпал стаканом живительную влагу.
Несмотря на упрощенный способ нашего водочерпия, несмотря на большой палец вахтера, перевязанный тряпкой, пропитанной клюквенным морсом, я жадно выпила поданный мне стакан.
– Ай-ай, пойдем скорее, сюда идет опять этот длинный лицеист! – невольно вскрикнула я, увидя опять знакомого уже мне лицеиста, и потащила Нину в сторону.
– Постой, погоди, вон пришел батюшка!
Действительно, в коридоре, окруженный младшими классами, сверкая золотым наперсным крестом на новой лиловой рясе, нам улыбался отец Филимон, пришедший полюбоваться весельем своих «деточек».
Мы с Ниной бросились к нему.
– Что, веселишься, чужестраночка? – ласково улыбнулся и кивнул он своей любимице Нине.
Между тем из зала раздавались звуки контрданса.
– Mesdam\'очки, идите гостинцы получать! – кричала Маня Иванова, запихивая в рот целую треть апельсина, данного ей по дороге инспектором.
Мы получили по тюречку кондитерских конфект, по яблоку и апельсину.
– Что же, пойдем в зал? – спросила меня Нина.
– Ай, нет! Ни за что! – в ужасе произнесла я, невольно вспоминая лицеиста.
А между тем там царило веселье, насколько можно было назвать весельем это благонравное кружение по зале под перекрестным огнем взглядов бдительного начальства.
Мы стояли в дверях и смотрели, как ловкий, оживленный Троцкий составил маленькую кадриль исключительно из младших институток и подходящих их возрасту кадет и дирижировал ими. В большой кадрили тоже царило оживление, но не такое, как у младших. «Седьмушки» путали фигуры, бегали, хохотали, суетились – словом, веселились от души. К ним присоединились и некоторые из учителей, желавшие повеселить девочек.
В 12 часов нас, «седьмушек», повели спать, накормив предварительно бульоном с пирожками.
Издали доносились до нас глухим гулом звуки оркестра и выкрики дирижера.
Я скоро уснула, решив написать маме все подробно об институтском бале.
Мне снилась большая зала, кружащиеся в неистовом вальсе пары и длинный лицеист, шепелявивший мне в ухо: «Puis-je vous engager, mademoiselle?»
ГЛАВА XV
Итог за полгода. Разъезд. Посылка
Прошло два дня, и институтская жизнь снова вошла в прежнюю колею.
Потянулись дни и недели, однообразные донельзя. Наступало сегодня, похожее как две капли воды на вчера.
Занятия шли прежним чередом. Крикливый голос инспектрисы и несмолкаемое «пиление» Пугача наводили ужасную тоску.
Я взялась за книги с жаром, граничившим с болезненностью. Дело в том, что первое полугодие приходило к концу и наступало время считать учениц по полугодовым отметкам. За поведение я уже получала 12, что и поставило меня в число «парфеток». Моя фамилия красовалась на классной доске. По воскресеньям голова моя украшалась белым и синим шнурками. Эти шнурки давались нам в институте как знак отличия за хорошее поведение и успехи. За дурное же поведение шнурки отнимались, иногда на неделю, а другой раз и навсегда.
Наступало Рождество – первый и самый большой отдых институток в продолжение целого года. «Седьмушки» подсчитывали свои баллы, стараясь высчитать собственноручно, кто стоит выше по успехам, кто ниже. Слышались пререкания, основанные на соревновании.
Нина еще больше побледнела от чрезвычайного переутомления. Она во что бы то ни стало хотела стоять во главе класса, чтобы поддержать, как она не без гордости говорила, «славное имя Джаваха».
Ровно за неделю до праздников все баллы были вычислены и выставлены, а воспитанницы занумерованы по успехам.
Нина была первою ученицею. Целый день княжна ходила какая-то особенная, счастливая и сияющая, стараясь скрыть свое волнение от подруг. Она смотрела вдаль и улыбалась счастливо и задумчиво.
– Ах, Люда, – вырвалось у нее, – как бы мне хотелось видеть отца, показать ему мои баллы!
Я вполне понимала мою милую подружку, потому что сама горела желанием поделиться радостью с мамой и домашними. Мои баллы были немногим хуже княжны. Но все же я старалась изо всех сил быть не ниже первого десятка и успела в своем старании: я была пятою ученицей класса.
– Ведь приятное сознание, не правда ли, когда знаешь, что ты в числе первых? – допрашивала, сияя улыбкой, Нина.
Мы написали по письму домой.
С утра 22 декабря сильное оживление царило в младших классах. Младшие разъезжались на рождественские каникулы… Девочки укладывали в дортуаре в маленькие сундучки и шкатулочки свой немногочисленный багаж.
– Прощай, Люда, за мной приехали! – кричала мне Надя Федорова, взбегая по лестнице в «собственном» платье.
Я едва узнала ее. Действительно, длинная институтская «форма» безобразила воспитанниц. Маленькая, белокуренькая Надя показалась мне совсем иною в своем синем матросском костюмчике и длинных черных чулках.
– Крошка и Ренне одеваются в бельевой, – добавила она и, не стесненная более институтскою формою, бегом побежала в класс прощаться.
Переодевались девочки в бельевой. Там было шумно и людно. Матери, тетки, сестры, знакомые, няни и прислуга – все это толкалось в небольшой комнате с бесчисленными шкапами.
– Лишние уйдите! – поминутно кричала кастелянша.
Это была строгая дама, своей длинной сухой фигурой и рыжеватыми буклями напоминавшая чопорную англичанку.
– Mademoiselle Иванова, пожалуйте в бельевую, – торжественно возглашал швейцар, причем вызванная девочка вскрикивала и в карьере бежала переодеваться.
– Mademoiselle Запольская, Смирнова, Муравьева, – снова возглашал желанный вестник, и вновь позванные мчались в бельевую.
Мало-помалу класс пустел. Девочки разъезжались.
Осталась всего небольшая группа.
– Душка, вспомни меня на пороге, – кричала Бельская торопившейся прощаться Додо. – Как выйдешь из швейцарской, скажи «Бельская». Это очень помогает, – добавила она совершенно серьезно.
– А я уж в трубу кричала, да не помогает, папа опоздал, верно, на поезд, – печально покачала головкой Миля Корбина, отец которой зиму и лето жил в Ораниенбауме.
– А ты еще покричи, – посоветовала Бельская.
Кричать в трубу – значило призывать тех, кого хотелось видеть. В приемные дни это явление чаще других наблюдалось в классе. Влезет та или другая девочка на табуретку и кричит в открытую вьюшку свое обращение к родным.
Но на этот раз Миле не пришлось кричать.
– Mademoiselle Корбина, папаша приехали, – провозгласил внезапно появившийся швейцар, особенно благоволивший к Корбиной за те рубли и полтинники, которыми щедро сыпал ее отец.
К вечеру классы совсем опустели. Осталось нас на Рождество в институте всего пять воспитанниц. Кира Дергунова, Варя Чекунина, Валя Лер и мы с Ниной.
Кира Дергунова, ужасная лентяйка и в поведении не уступающая Бельской, была самой отъявленной «мовешкой». На лице ее напечатаны были все ее проказы, но, в сущности, это была предобрая девочка, готовая поделиться последним. Да и шалости ее не носили того злого характера, как шалости Бельской. На Рождество она осталась в наказание, но нисколько не унывала, так как дома ее держали гораздо строже, чем в институте, в чем она сама откровенно сознавалась.
Варя Чекунина, серьезная, не по летам развитая брюнетка, с умными, всегда грустными глазами, была лишена способностей и потому, несмотря на чрезмерные старания, она не выходила из двух последних десятков по успехам. Класс ее любил за молчаливую кротость и милый, чрезвычайно симпатичный голосок. Варя мило пела, за что в классе ее прозвали Соловушкой. Не взяли ее родные потому, что жили где-то в далеком финляндском городишке, да и средства их были очень скромные. Варя это знала и тихо грустила.
Наконец, последняя, Валя Лер, была живая, маленькая девочка, немного выше Крошки, с прелестным личиком саксонской куколки и удивительно метким язычком, которого побаивались в классе.
Домой Валя Лер не поехала, потому что не пожелала. Валя была сирота и терпеть не могла своего опекуна. С Кирой Дергуновой они были подругами.
Вот и все маленькое общество, обреченное проводить время в скучных стенах института.
Мы расползлись по коридорам и опустевшим классам, невольно подчиняясь господствовавшему кругом нас унылому покою.
– Тебе взгрустнулось, милочка, – сказала Нина и, крепко обняв меня, повела в залу.
Мы долго ходили там из угла в угол, оторванные, как нам казалось, от всего мира.
– Люда! Люда! – кричала вбежавшая в зал Кира. – Скорее, скорее в класс, тебе посылка! Тебя всюду ищут!
Мы с Ниной, не разнимая объятий, бросились бегом в класс.
На кафедре стояла громадная корзина, зашитая в деревенский холст, на крышке которой была сделана надпись рукою мамы: «Петербург, N-я улица, N-й институт, 7-й класс, институтке Влассовской». Мы все пятеро не без труда стащили корзину на первую скамейку и стали при помощи перочинных ножей освобождать ее от холста. Едва мы тронули крышку, как из корзины потянулся запах жареной дичи и сдобного теста. В корзине была целая индейка, пулярка, пирог с маком, сдобные коржики, домашние булочки, целый пакет смокв и мешок вкусных домашних тянучек собственного изготовления мамы.
– Ах, как вкусно! – вскрикивали девочки, замирая от удовольствия.
– А вот и письмо! – обрадованно воскликнула Нина, видевшая, что я чего-то ищу, и приучившаяся понимать мои взгляды.
Я молча благодарно взглянула на нее и принялась читать письмо, извлеченное из коробки сушеных киевских варений.
...
«Сердце мое Люда! – писала мама. – Посылаю тебе с оказией (племянник отца Василия едет в ваши края) домашних лакомств и живности, чтобы развлечь тебя, дорогая моя девочка. Не грусти. Я знаю, что тебе тяжело видеть, как разъезжаются твои подруги в разные стороны, но что делать, моя крошка. Надо потерпеть. Подумай только: впереди у нас целое лето, которое мы проведем неразлучно. Это ли не радость, голубка моя?
Все домашние тебе шлют поклон. Ивась сделал нашему малютке гору, и Вася ежедневно целое утро посвящает на катание с нее. Он очень жалеет, что тебя нет с нами. Я в этом году хотела делать, по обыкновению, скромную елочку, но Вася не хочет. «Когда Люда приедет на лето, тогда сделаешь». Видишь, как горячо любит тебя твой братец! Я подарила Гапке твое старое серенькое платье, из которого ты уже выросла. Если б ты знала, как она обрадовалась подарку! Чуть не плачет от радости. Пиши мне, как ты проведешь праздники, моя дорогая крошка, и кто остался в институте из вашего класса. Передай милой княжне мой поцелуй. Я ее полюбила, как родную. Прости, моя крошка, – пришли рабочие, надо отпустить. Пиши своей горячо тебя любящей маме».
А под подписью мамы стояли кривые каракульки: «Вася». Я с трудом их разобрала. Это мама, желая сделать приятное своей дочурке, водила рукою брата.
– Ну что? – спросила Нина.
– На, прочти! – протянула я ей письмо, так как давно уже давала ей читать мою корреспонденцию с мамой.
– Ну и пир же мы зададим теперь! – крикнула я повеселевшим вокруг меня девочкам.
Через пять минут мы уже усердно занялись искусной стряпней заботливой Катри.
ГЛАВА XVI
Праздники. Лезгинка
Наступили праздники, еще более однообразные и тягучие, нежели будни. Мы слонялись по коридорам и дортуарам. Даже старшие уехали на три дня и должны были приехать в четверг вечером. Ирочки не было, и княжна хандрила. Я не понимаю, как могла посредственная, весьма обыкновенная натура шведки нравиться моей смелой, недюжинной и своеобразной княжне. А она, очевидно, любила Иру, что приводило меня в крайнее негодование и раздражение. Ее имя было часто-часто на языке княжны, и к нему прибавлялись всегда такие нежные, такие ласкательные эпитеты.
Теперь Иры не было, и я могла хоть немного отдохнуть в отсутствие моего врага.
Целые дни мы были неразлучны с княжной.
С утра, встав без звонка (звонки упразднялись на время праздников), мы лениво одевались и шли в столовую… Так же лениво, словно нехотя, выпивали кофе, заменявший нам в большие праздники чай, и расползались по своим норам. Мы с Ниной облюбовали окно в верхнем коридоре, где помещался наш и еще два дортуара младших классов. Целые дни просиживали мы на этом окошке, вполголоса разговаривая о том, что наполняло нашу жизнь. Мы строили планы о будущем – очень праздничном и светлом в нашем воображении. Мы решили, что будем неразлучны, что Нина будет проводить зиму на Кавказе, а лето у нас, в хуторе, что я с своей стороны буду гостить у них целый зимний месяц в году.
– Мы устроим прогулки, я познакомлю тебя с нашими горами, аулами, научу ездить верхом, – восторженно говорила милая княжна, – потом непременно взберемся на самую высокую вершину и там дадим торжественный обет вечной дружбы… Да, Люда?
Я видела, как поблескивали ее черные глазки и разгорались щечки жарким румянцем.
– Ах, скорее бы, скорее наступило это время! – тоскливо шептала она. – Знаешь, Люда, мне иногда кажется, что будущее так светло и хорошо, что я не доживу до этого счастья!
– Что ты, Ниночка! – в ужасе восклицала я и, чуть не плача, зажимала ей рот поцелуями.
По вечерам мы усаживались на чью-либо постель и, тесно прижавшись одна к другой, все пять девочек, запугивали себя страшными рассказами. Потом, наслушавшись разных ужасов, мы тряслись всю ночь как в лихорадке, пугаясь крытых белыми пикейными одеялами постелей наших уехавших подруг, и только под утро засыпали здоровым молодым сном.
В пятницу утром (вечером у нас была назначена елка) нас повели гулять по людным петербургским улицам. Делалось это для того, чтобы съехавшимся накануне старшим можно было тайком от нас, маленьких, украсить елку. Для прогулки нам были выданы темно-зеленые пальто воспитанниц католичек и лютеранок, ездивших в них в церковь по праздникам. На головы надели вязаные капоры с красными бантиками на макушке.
Впереди шла чинно Арно, сзади же – швейцар в ливрее.
Шли мы попарно: Валя Лер впереди с Пугачом, как самая маленькая, за ними Кира и Чекунина, и, наконец, шествие заключали мы с Ниной.
– Что это? Приютских девочек ведут? – недоумевая, остановилась перед нами какая-то старушка.
– Parlez francais! – коротко приказала Арно, обиженная тем, что вверенных ей воспитанниц принимают за приютских.
– Ах, милашки! – воскликнула, проходя под руку с господином, какая-то сердобольная барынька. – Смотри, какие худенькие! – жалостливо протянула она, обращаясь к мужу.
– От институтских обедов не растолстеешь, да и заучивают их там, этих институток, – сердито молвил тот.
Мы чуть не фыркнули. От этой встречи нам стало вдруг весело.
Кира, знавшая Петербург очень сносно, поясняла нам, по какой улице мы проходили.
Великолепные магазины, красивые постройки и пестрая, нарядная толпа приковывали мой взор, и я молча шла рядом с Ниной, лишь изредка делясь с нею моими впечатлениями.
На обратном пути мы зашли в кондитерскую за пирожными. Там все удивленно и сочувственно смотрели на нас.
Оживленные и порозовевшие от мороза, мы вошли снова под тяжелые своды нашего институтского здания.
В семь часов вечера нас повели в зал, двери которого целый день были таинственно закрыты.
В это время из залы донеслись звуки рояля, двери бесшумно распахнулись, и мы ахнули… Посреди залы, вся сияя бесчисленными огнями свечей и дорогими, блестящими украшениями, стояла большая, доходящая до потолка елка. Золоченые цветы и звезды на самой вершине ее горели и переливались не хуже свечей. На темном бархатном фоне зелени красиво выделялись повешенные бонбоньерки, мандарины, яблоки и цветы, сработанные старшими. Под елкой лежали груды ваты, изображающей снежный сугроб.
Мне пришло в голову невольное сравнение этой нарядной красавицы елки с тем маленьким деревцом, едва прикрытым дешевыми лакомствами, с той деревенскою рождественскою елочкою, которою мама баловала нас с братом. Милая, на все способная мама сама клеила и раскрашивала незатейливые картонажи, золотила орехи и шила мешочки для орехов и леденцов. И все это с величайшей осторожностью, тайком, чтобы никто не догадывался о сюрпризе. Та елка, скромная, деревенская, которую делала нам мама, была мне в десять раз приятнее и дороже…
Я невольно вздохнула.
Как раз в это время к нам подошла Maman, сияя своей неизменной, довольной улыбкой. Она была окружена учителями и их семействами, пришедшими, по ее приглашению, взглянуть на институтскую елку и дать повеселиться своим детям.
– Вас ожидает сюрприз, – произнесла Maman, обращаясь к нам и другим младшим классам, живо заинтересовавшимся этой вестью.
– Какой? – повернулась я было в сторону Нины и смолкла; княжны подле меня не было.
– Ты не знаешь, где Нина? – тревожно обратилась я к Кире, стоявшей подле меня.
– Она только что говорила с инспектрисой и куда-то побежала, – ответила мне та, не отрывая глаз от елки.
В ожидании моего друга я подошла вместе с другими нашими к маленьким детям наших преподавателей.
Особенно понравился мне пятилетний сын француза Ротье, Жан, прелестный голубоглазый ребенок с длинными локонами и недетской развязностью.
– Ты любишь институток? – спросила его Кира.
Он вскинул глаза на говорившую и пресерьезно ответил, дожевывая яблоко, по-французски:
– Институтки ужасные лентяйки; когда я вырасту и буду учить, как папа, я им всем наставлю единиц.
Мы громко расхохотались.
Трогательно прелестна была парочка близнецов – детей русского учителя. Они, мальчик и девочка по восьмому году, держались за руки и в молчаливом восхищении рассматривали елку.
В эту минуту дверь снова распахнулась и в зал вошла целая толпа ряженых. Впереди была хорошенькая пестрая бабочка, эфирная и воздушная, под руку с цветком мака, в которых я не без труда узнала Иру и Михайлову. За ними неслась Коломбина. Дальше – полевые розы, потом китаянка, цветочница, рыбачка и добрый гений в белой тунике и с крыльями – Леночка Корсак, вся утонувшая в своих белокурых косах. Но кто же это там между ними, этот маленький красавец джигит в национальном наряде из малинового шелка? Его белая папаха низко сдвинута на глаза, а черные усики ловко скрывают нижнюю часть лица.
«Откуда этот красивый мальчик с искусно наведенными усиками? – терялась я в догадках. – И как его пустили ряженым в наш зал?»
Старик Ротье шутливо поймал джигита за руку; тот, выхватив кинжал из-за пояса, погрозил французу.
Теперь по знаку Maman заиграли вальс, и все закружилось в моих глазах.
– Puis-je vous engager, mademoiselle? – шепелявя и подражая лицеисту, проговорил подлетевший ко мне мальчик-джигит.
– Ах!
И я громко рассмеялась, узнав по голосу Нину.
– Вот провела-то! – хохотала я.
– Что, не похожа? – радовалась княжна.
– Совсем, совсем не узнали, – весело подхватили наши.
– Как это тебе позволили одеться мальчиком?
– Мне Maman велела через Еленину, – шепотом докладывала Нина, – она знала, что я костюм привезла с Кавказа и знаю лезгинку, и велела мне танцевать.
– И ты будешь танцевать?
– Конечно! Вот уже заиграли. Слышишь? Надо начинать! – И хорошенький джигит при первых звуках начатой тапером лезгинки ловко выбежал на середину зала и встал в позу. Начался танец, полный огня, пластичности, ловкости и той неподражаемой живости, которая может только быть у южного народа.
Хорошо танцевала Нина, змейкой скользя по паркету, все ускоряя и ускоряя темп пляски. Ее глаза горели одушевлением. Еще до начала пляски она стерла свои нелепые усы и теперь неслась перед нами с горевшими как звезды глазами и выпавшими длинными косами из-под сбившейся набок папахи. Разгоревшаяся в своем оживлении, она казалась красавицей.
Но вот она кончила. Ей неистово аплодировала вся зала. Просили повторения, но Нина устала; тяжело дыша, подошла она на зов Maman, которая с нежной лаской поцеловала общую любимицу и, вытерев заботливо со лба Нины крупные капли пота, отпустила ее веселиться. Я хотела было подбежать к Нине и крепко расцеловать ее за доставленное ею удовольствие. Я так пылала любовью к моей хорошенькой талантливой подруге, которой гордилась, как никогда, но – увы! – Нину уже подхватили старшие и, наперерыв угощая конфектами и поцелуями, увели куда-то.
Потом она появилась снова в зале, обнявшись с Ирочкой Трахтенберг, и я не посмела отнять ее у нарядной бабочки.
В первый раз за мое полугодовое пребывание в институте я почувствовала себя совсем одинокой.
Сердце мое сжималось… грудь сдавило… Но когда Нина прибежала ко мне, все мое горе исчезло…
Между тем праздники подходили к концу. В воскресенье стали съезжаться девочки. Каникулы кончились, и институтская повседневная жизнь снова вступила в свои права.
ГЛАВА XVII
Высочайшие гости
Однажды, дней через десять по съезде институток, когда мы чинно и внимательно слушали немецкого учителя, толковавшего нам о том, сколько видов деепричастий в немецком языке, раздался громко и неожиданно густой и гулкий удар колокола.
«Пожар!» – вихрем пронеслось в наших мыслях. Некоторым сделалось дурно. Надю Федорову, бесчувственную, на руках вынесли из класса. Все повскакали со своих мест, не зная, куда бежать и на что решиться.
Классная дама и учитель переглянулись, и первая торжественно произнесла:
– Bleibt ruhig, das ist die Kaiserin (успокойтесь, это государыня)!
– Государыня приехала! – ахнули мы, и сердца наши замерли в невольном трепете ожидания.
Государыня! Как же это сразу не пришло в голову, когда вот уже целую неделю нас старательно готовили к приему Высочайшей Посетительницы. Каждое утро до классов мы заучивали всевозможные фразы и обращения, могущие встретиться в разговоре с императрицей. Мы знали, что приезду лиц царской фамилии всегда предшествует глухой и громкий удар колокола, висевшего у подъезда, и все-таки в последнюю минуту, ошеломленные и взволнованные, мы страшно растерялись.
М-lle Арно кое-как успокоила нас, усадила на места, и прерванный урок возобновился. Мы видели, как менялась поминутно в лице наша классная дама, старавшаяся во что бы то ни стало сохранить присутствие духа; видели, как дрожала в руках учителя книга грамматики, и их волнение невольно заражало нас.
«Вот-вот Она войдет, давно ожидаемая, желанная Гостья, войдет и сядет на приготовленное ей на скорую руку кресло…» – выстукивало мое неугомонное сердце.
Ждать пришлось недолго. Спустя несколько минут дверь широко распахнулась и в класс вошла небольшого роста тоненькая дама, с большими выразительными карими глазами, ласково глядевшими из-под низко надвинутой на лоб меховой шапочки, с длинным дорогим боа на шее поверх темного, чрезвычайно простого коричневого платья.
С нею была Maman и очень высокий широкоплечий плотный офицер, с открытым, чрезвычайно симпатичным, чисто русским лицом.
– Где же Государыня? – хотела я спросить Нину, вполне уверенная, что вижу свиту Монархини, но в ту же минуту почтительно выстроившиеся между скамей наши девочки, низко приседая, чуть не до самого пола, проговорили громко и отчетливо, отчеканивая каждый слог:
– Здравия желаем, Ваше Императорское Величество!
И тотчас же за первой фразой следовала вторая на французском языке:
– Nous avons l\'honneur de saluer Votre Majeste Imperial!
Сомнений не было. Передо мною были Государь и Государыня.
«Так вот они!» – мысленно произнесла я, сладко замирая от какого-то нового, непонятного мне еще чувства.
В моем впечатлительном и несколько мечтательном воображении мне представлялась совсем иная Царская Чета. Мысль рисовала мне торжественное появление Монархов среди целой толпы нарядных царедворцев в богатых, золотом шитых, чуть ли не парчовых костюмах, залитыми с головы до ног драгоценными камнями…
А между тем передо мною простое коричневое платье и военный сюртук одного из гвардейских полков столицы. Вместо величия и пышности простая, ободряющая и милая улыбка.
– Здравствуйте, дети! – прозвучал густой и приятный бас Государя. – Чем занимались?
Maman поспешила объяснить, что у нас урок немецкого языка, и представила Царской Чете m-lle Арно и учителя. Государь и Государыня милостиво протянули им руки.
– А ну-ка, я проверю, как вы уроки учите, – шутливо кивнул нам головою Государь и, обведя класс глазами, поманил сидевшую на первой скамейке Киру Дергунову.
У меня замерло сердце, так как Кира, славившаяся своею ленью, не выучила урока – я была в этом уверена. Но Кира и глазом не моргнула. Вероятно, ее отважная белокурая головка с вздернутым носиком и бойкими глазенками произвела приятное впечатление на Царскую Чету, потому что Кира получила милостивый кивок и улыбку, придавшие ей еще больше храбрости. Глаза Киры с полным отчаянием устремились на учителя. Они поняли друг друга. Он задал ей несколько вопросов из прошлого урока, на которые Кира отвечала бойко и умело.
– Хорошо! – одобрил еще раз Государь и отпустил девочку на место.
Потом его взгляд еще раз обежал весь класс, и глаза его остановились на миг как раз на мне. Смутный, необъяснимый трепет охватил меня от этого проницательного и в то же время ласково-ободряющего взгляда. Мое сердце стучало так, что мне казалось – я слышала его биение… Что-то широкой волной прилило к горлу, сдавило его, наполняя глаза теплыми и сладкими слезами умиления. Близость Монарха, Его простое, доброе, отеческое отношение, – Его – великого и могучего, держащего судьбу государства и миллионов людей в этих мощных и крупных руках, – все это заставило содрогнуться от нового ощущения впечатлительную душу маленькой девочки. Казалось, и Государь понял, что во мне происходило в эту минуту, потому что глаза его засияли еще большею лаской, а полные губы мягко проговорили:
– Пойди сюда, девочка.
Взволнованная и счастливая, я вышла на середину класса, по примеру Киры, и отвесила низкий-низкий реверанс.
– Какие-нибудь стихи знаешь? – снова услышала я ласкающие, густые, низкие ноты.
– Знаю стихотворение «Erlkonig», – тихо-тихо ответила я.
– Ihres Kaiserliche Majestat прибавляйте всегда, когда Их Величества спрашивают, – шепотом подсказал мне учитель.
Но я только недоумевающе вскинула на него глаза и тотчас же отвела их, вперив пристальный, не мигающий взгляд в богатырски сложенную фигуру обожаемого Россией Монарха.
«Wer reitet so spat durch Nacht und Wind?..» – начала я робким и дрожащим от волнения голосом, но чем дальше читала я стихотворение, выученное мною добросовестно к предыдущему уроку, тем спокойнее и громче звучал мой голос, и кончила я чтение очень и очень порядочно.
– Прекрасно, малютка! – произнес милый бас Государя. – Как твоя фамилия?
Его рука, немного тяжелая и большая, настоящая державная рука, легла на мои стриженые кудри.
– Влассовская Людмила, Ваше Императорское Величество, – догадалась я ответить.
– Влассовская? Дочь казака Влассовского?
– Так точно, Ваше Императорское Величество, – поспешила вмешаться Maman.
– Дочь героя, славно послужившего родине! – тихо и раздумчиво повторил Государь, так тихо, что могли только услышать Государыня и начальница, сидевшая рядом. Но мое чуткое ухо уловило эти слова доброго Монарха.
– Approche, mon enfant (подойди, мое дитя)! – прозвучал приятный и нежный голосок Императрицы, и едва я успела приблизиться к ней, как ее рука в желтой перчатке легла мне на шею, а глубокие, прелестные глаза смотрели совсем близко около моего лица.
Я инстинктивно нагнулась, и губы Государыни коснулись моей пылавшей щеки.
Счастливая, не помня себя от восторга, пошла я на место, не замечая слез, текших по моим щекам, не слыша ног под собою…
Царская Чета встала и, милостиво кивнув нам, пошла к двери. Но тут Государь задержался немного и крикнул нам весело, по-военному:
– Молодцы, ребята, старайтесь!
– Рады стараться, Ваше Императорское Величество! – звонко и весело, не уступая в искусстве солдатам, дружно крикнули мы.
Как только Государь с Государыней и начальницей вышли в коридор, направляясь в старшие классы, нас быстро собрали в пары и повели в зал.
Наскоро, суетясь и мешая друг другу, наши маленькие музыкантши уселись за рояли, чтобы в 16 рук играть тщательно разученный марш-полонез, специально приготовленный к царскому приезду.
Сзади них стояла толстенькая, старшая музыкальная дама, вся взволнованная, с яркими пятнами румянца на щеках.
– Идут! Идут! – неистово закричали девочки, сторожившие появление Царской Четы у коридорных дверей.
Музыкальная дама взмахнула своей палочкой, девочки взяли первые аккорды… Высокие Гости в сопровождении Maman, подоспевших опекунов, институтского начальства и старших воспитанниц, окруживших Государя и Государыню беспорядочной гурьбой, вошли в зал и заняли места в креслах, стоявших посередине между портретами Императора Павла I и Царя-Освободителя.
Приветливо и ласково оглядывали Высочайшие Посетители ряды девочек, притаивших дыхание, боявшихся шевельнуться, чтобы не упустить малейшего движения дорогих гостей.
Мы не сводили глаз с обожаемых Государя и Государыни, и сердца наши сладко замирали от счастья.
Музыкальная пьеса в 16 рук окончилась, вызвав одобрение Государя и похвалу Государыни. Вслед за тем на середину вышла воспитанница выпускного класса Иртеньева и на чистейшем французском языке проговорила длинное приветствие – сочинение нашего Ротье – с замысловатым вычурным слогом и витиеватыми выражениями. Государыня милостиво протянула ей для поцелуя руку, освобожденную от перчатки, – белую маленькую руку, унизанную драгоценными кольцами.
Затем вышла воспитанница 2-го класса, добродушная, всеми любимая толстушка Баркова, и после низкого-низкого реверанса прочла русские стихи собственного сочинения, в которых просто и задушевно выражалось горячее чувство любящих детей к их незабвенным Отцу и Матери.
Государь был, видимо, растроган. Государыня с влажными и сияющими глазами обняла обезумевшую от восторга юную поэтессу.
Потом все наши окружили рояль с севшею за него воспитанницею, и своды зала огласились звуками красивой баркароллы. Молодые, сочные голоса слились в дружном мотиве баркароллы с массою мелодий и переливов, искусными трелями и звонкими хорами. Во время пения Высочайшие Гости покинули свои места и стали обходить колонны институток. Они милостиво расспрашивали ту или другую девочку о ее родителях, успехах или здоровье. Увидя два-три болезненных личика, Государь останавливался перед ними и заботливо осведомлялся о причине их бледности. Затем обращался с просьбою к следовавшей за ними Maman обратить внимание на болезненный вид воспитанниц и дать возможность употреблять самую питательную пищу. Как раз когда он проходил мимо нашего класса, мой взгляд упал на Нину. Бледная, с разгоревшимися глазами трепетно вздрагивающими ноздрями, она вся превратилась в молчаливое ожидание. Государь внезапно остановился перед нею.
– Твое имя, малютка?
– Княжна Нина Джаваха-алы-Джамата, – звонким гортанным голоском ответила Нина.
Государь улыбнулся доброй улыбкой и погладил глянцевитые косы девочки.
– Твоя родина Кавказ? – спросила по-русски Государыня.
– Так точно, Ваше Величество! – произнесла Нина.
– А ты любишь свою родину? – спросил Государь, все еще не спуская руки с чернокудрой головки.
– Что может быть лучше Кавказа! Я очень-очень люблю мой Кавказ! – пылко, забывая все в эту минуту, воскликнула Нина, блестя глазами и улыбкой, делавшей прелестным это гордое личико, смело и восторженно устремленное в лицо Монарха.
– Charmant enfant! – тихо проговорила Государыня и о чем-то заговорила с начальницей.
Видя, что Высочайшие Гости собираются отъехать, институтский хор грянул «Боже, Царя храни», законченный таким оглушительно-звонким «ура!», которое вряд ли забудут суровые институтские стены.
Тут уже, пренебрегая всеми условными правилами, которым безропотно подчинялись в другое время, мы бросились всем институтом к Монаршей Чете и, окружив ее, двинулись вместе с нею к выходу. Напрасно начальство уговаривало нас опомниться и собраться в пары, напрасно грозило всевозможными наказаниями, – мы, послушные в другое время, теперь отказывались повиноваться. Мы бежали с тем же оглушительным «ура!» по коридорам и лестницам и, дойдя до прихожей, вырвали из рук высокого внушительного гайдука соболью ротонду Императрицы и форменное пальто Государя с барашковым воротником и накинули их на царственные плечи наших гостей.
Потом мы надели теплые меховые калоши на миниатюрные ножки Царицы и уже готовились проделать то же и с Государем, но он вовремя предупредил нас, отвлекая наше внимание брошенным в воздух носовым платком. Какая-то счастливица поймала платок, но кто-то тотчас же вырвал его у нее из рук, и затем небольшой шелковый платок Государя был тут же разорван на массу кусков и дружно разделен «на память» между старшими.
– А нам папироски, Ваше Величество! – запищали голоса маленьких, видевших, что Государь стал закуривать.
– Ах вы, малыши, вас и забыли! – засмеялся он и мигом опустошил золотой портсигар, раздав все папиросы маленьким.
– Распустите детей на три дня! – в последний раз прозвучал драгоценный голос Монарха, и Царская Чета вышла на подъезд.
Оглушительное «ура!» было ответом – «ура!» начатое в большой институтской швейцарской и подхваченное тысячной толпой собравшегося на улице народа. Кивая направо и налево, Высочайшие Гости сели в сани, гайдук вскочил на запятки, и чистокровные арабские кони, дрожавшие под синей сеткой и мечущие искры из глаз, быстро понеслись по снежной дороге.
Мы облепили окна швейцарской и соседней с нею институтской канцелярии, любуясь дорогими чертами возлюбленных Государя и Государыни.
– Господи, как хорошо! Как я счастлива, что мне удалось видеть Государя! – вырвалось из груди Нины, и я увидела на ее всегда гордом личике выражение глубокого душевного умиления.
– Да, хорошо! – подтвердила я, и мы обнялись крепко-крепко…
Наше восторженное настроение было прервано Манею Ивановой.
– Как жалко, mesdam\'очки, что Государь с Государыней не прошли в столовую, – чистосердечно сокрушалась она.
– А что?
– А то, что, наверное бы, нас кормить стали лучше. А то котлеты с чечевицей, котлеты с бобами, котлеты и котлеты. С ума можно сойти…
Но никто не обратил внимания на ее слова и не поддержал на этот раз Маню; все считали, что напоминание о котлетах в эту торжественную минуту было совсем некстати. Всех нас охватило новое чувство, вряд ли даже вполне доступное нашему пониманию, но зато вполне понятное каждому истинно русскому человеку, – чувство глубокого восторга от осветившей нашу душу встречи с обожаемым нами, бессознательно еще, может быть, великим Отцом великого народа.
И долго-долго после того мы не забыли этого великого для нас события…
ГЛАВА XVIII
Проказы
«Милый лавочник! Пришлите нам, пожалуйста, толокна на 5 копеек, пеклеванник в 3 копейки, непременно горячий, и на 2 копейки паточных леденцов».
Так гласила записка, старательно нацарапанная Марусей Запольской – нашей вездесущей и на все поспевающей Краснушкой… Кира поправила ошибки, и записка с новеньким блестящим пятиалтынным погрузилась в необъятный карман Киры.
Дело в том, что Краснушке принесла в «прием» ее старшая сестра прехорошенький шелковый кошелек своей работы, в одном углу которого был положен совершенно новенький блестящий пятиалтынный. Не долго думая, девочка извлекла монету и, по примеру старших, написала лавочнику, чтобы получить самые доступные институтским средствам лакомства. Затем Кира, отчаянная в такого рода предприятиях, сунула записку в карман и, взяв маленькую белую кружку, особенно развязно подошла к кафедре и сказала сидевшему на ней Пугачу: «J\'ai soif (я хочу пить)».
Далекая от всякого подозрения, Арно кивком головы отпустила лукавую девочку. Лишь только Кира выскользнула из класса, она бегом пустилась по коридору, спустилась по лестнице и заглянула в швейцарскую. Там кроме швейцара Петра и его помощника Сидора сидел маленький, сморщенный, но бодрый и подвижный младший сторож, старик Гаврилыч.
Юркими маленькими глазками следил он за каждым движением своего начальства, очевидно, заметя приход Киры, и лишь только Петр вышел зачем-то из швейцарской, Гаврилыч опрометью бросился к девочке.
– Гаврилыч, миленький, сбегай в лавочку; вот тебе записка, там уже все написано, что надо, а вот и деньги. Пятачок себе за труды возьми – только скорее, а как принесешь, за дверь положи, в темном углу, – просила, торопясь и поминутно оглядываясь, Кира.
– Слушаю-с, барышня, голубушка, только не попадитесь классным дамам, упаси Боже! – опасливо зашептал Гаврилыч и, взяв записку от Киры, побежал через девичью задним ходом в лавку.
Кира вернулась в класс, стараясь незаметно проскользнуть мимо Пугача, что ей удалось самым блестящим образом.
– Все сделано, – торжественно заявила она Краснушке.
– А кто же пойдет за покупкой, когда Гаврилыч ее принесет? – спросила я.
– Mesdam\'очки, дайте я схожу за кусок пеклеванного и два леденца, – вызвалась Бельская.
– Идет, – согласились Кира и Краснушка в один голос.
– Ну ступай же! – шепотом произнесла Кира, когда ей показалось, что прошло достаточно времени и Гаврилыч успел вернуться из лавки. Бельская молча кивнула головой и, взяв злосчастную кружку, подошла просить Пугача пойти напиться.
Вероятно, частая необычайная жажда двух самых отъявленных шалуний навела на некоторое подозрение Пугача. М-lle Арно, однако же, отпустила Бельскую, но, дав ей выйти из класса, неожиданно встала и пошла по ее следам. Весь класс замер от страха.
– Что-то будет? Что-то будет? – в ужасе тоскливо повторяли девочки.
А было вот что. Ничего не подозревавшая Бельская стрелою неслась по коридору и, спустившись по лестнице, побежала к стеклянной двери, за которою, по ее расчету, должны были находиться лакомства, уже принесенные Гаврилычем.
Она не ошиблась: в темном углу за дверью лежал небольшой тюричек с толокном, леденцами и завернутый в мягкую обертку горячий, свежеиспеченный пеклеванный хлебец. Бельская сложила все это в карман, едва вместивший сокровища, и уже готовилась покинуть угол, как вдруг неприятный, резкий голос заставил ее вскрикнуть от испуга.
Перед нею, разгневанная до последней степени, стояла Арно.
– C\'est ainsi, que vous avez soif (это также потому, что вы хотите пить)? – бешено крикнула она Бельской и прибавила еще строже: – Debarassez votre poche de tous les salites (достаньте из кармана все эти гадости).
«Если б она знала, какие здесь вкусные вещи: горячий пеклеванник, леденцы и толокно. Это она называет salites (гадости)!» – мысленно сокрушалась Бельская.
Но, очевидно, m-lle Арно не разделяла ее мнения и вкусов.
Осторожно, с преувеличенной брезгливостью она извлекла двумя пальцами «tous les salites» из кармана перепуганной девочки и, держа тюричек двумя пальцами, точно боясь испачкаться, взяла другой рукой за руку Бельскую и торжественно повлекла ее в класс.
«У-у, противная!» – мысленно бранилась попавшаяся шалунья, стараясь освободить свою руку из цепких пальцев классной дамы.
– Mesdames, одна из ваших подруг, – начала торжественно Арно, войдя в класс и влезая на кафедру, – преступила правила нашего института и должна быть строго наказана. Таких шалостей нельзя простить! Это… это… возмутительно! – горячилась она. – Я буду настаивать на исключении Бельской, если она чистосердечно не покается и не укажет на девушку, купившую ей весь этот ужас.
Очевидно, m-lle Арно была далека от подозрения на Гаврилыча.
– Я иду, – продолжала она, – к инспектрисе, доложить о случившемся.
И, грозно потрясая тюричком, она торжественно вышла из класса.
– Бедная Белочка! – сочувственно говорили институтки.
Никому и в голову не приходило назвать Гаврилыча и этим спасти подругу. Все отлично знали, что несчастный старик мог бы из-за нашей шалости потерять насиженное казенное, хотя и очень скромное место и тогда пустить по миру семью, живущую где-нибудь на чердаке или в подвале.
Жалко было, бесконечно жалко и до смерти перепуганную Бельскую.
– Не горюй, Белочка, ведь это виноваты мы с Кирой, – говорила Краснушка, тоже чуть не плача. – Мы сейчас же пойдем и выпутаем ее, – решительно прибавила она, энергично тряхнув золотисто-красной головкой.
– Стойте! – вдруг вырвалось у княжны, молчавшей все время и только хмурившей свои тонкие брови. – Если вы пойдете к инспектрисе, вас выключат точно так же, как и Бельскую: а вы обе «мовешки» или считаетесь, по крайней мере, такими. Пойду к начальнице я и признаюсь, как и что было, под условием, чтобы Гаврилычу ничего не было, а вся вина пала бы на меня…
– Но ты пострадаешь, Нина! – протестовали девочки.
– Все-таки не так, как другие на моем месте. Меня не выключат, потому что Maman дала слово отцу беречь меня и я на ее попечении… И притом я ведь считаюсь «парфеткой», а «парфеток» так легко не исключают. Утри свои слезы, Бельская, а тебе, Краснушка, нечего волноваться, и тебе, Кира, тоже, – все будет улажено. Я ведь помню, как за меня пострадала Люда. Теперь моя очередь. Пойдем со мной к Maman, – кивнула она мне, и мы обе вышли из класса среди напутствий и пожеланий подруг.
Крошка, не говорившая со мной и Ниной более трех месяцев, быстро догнала нас у класса со словами:
– Помиримся, Джаваха!
Нина и я охотно поцеловались с ней в знак примирения.
– Видишь, она тоже хорошая! – расчувствовавшись, сказала я.
Мы пробежали лестницу и коридоры в одну минуту и, остановившись у швейцарской, позвали швейцара.
– Что, Maman дома? – спросила княжна.
– Пожалуйте, ваше сиятельство, княгиня у себя, – почтительно ответил швейцар, знавший, что маленькой Джавахе открыт во всякое время доступ в квартиру начальницы.
Нина храбро направилась туда, не выпуская моей руки… Я робко переступила порог той самой комнаты, в которую около полугода тому назад вошла смущенной и конфузливой маленькой провинциалкой.
Княгиня сидела в большом, удобном кресле с каким-то вышиваньем в руках. Но на этот раз она не встала нам навстречу с ласковым приветом «Добро пожаловать», а поманила нас пальцами, проронив недоумевая:
– Что скажете, дети?
У меня язык прилип к гортани, когда я увидела это строгое, хотя приветливо улыбающееся лицо начальницы, ее величественно стройную, крупную фигуру.
– Что скажете, дети? – повторила она, подняв глаза от работы.
Когда начальница заметила Нину, лицо ее вдруг стало ласковее:
– А, маленькая княжна, что нового?
Нина выдвинулась вперед и дрожащим от волнения голосом начала свое признание. Добрая девочка боялась не за себя. Назвать Гаврилыча – значило подвергнуть его всевозможным случайностям, не назвать – было очень трудно.
По мере того как говорила Нина, лицо начальницы принимало все более и более строгое выражение, и, когда Нина кончила свою исповедь, выдуманную ею тут же на скорую руку, лицо княгини стало темнее тучи.
– Я не верю, чтобы это сделала ты – лучшая из воспитанниц, опора и надежда нашего института, – начала она спокойным и резким голосом, из которого точно по удару магического жезла исчезали все лучшие бархатные, ласкающие ноты. – Но все равно, раз ты созналась, ты и будешь наказана. Доводить до сведения твоего отца этого поступка, недостойного княжны Джавахи, я не буду, но ты должна сказать, кто принес вам покупки.
При последних словах начальницы Нина вздрогнула всем телом. Ее мысленному взору, как она мне потом рассказывала, живо представились голодные ребятишки выгнанного со службы Гаврилыча, просящие хлеба, и сам сторож, больной и подавленный горем.
– Maman, – скорее простонала, нежели прошептала княжна, – я вам назову это лицо, если вы обещаете мне не выгонять несчастного.
Тут уже княгиня вышла из себя.
– Как! – крикнула она. – Ты еще смеешь торговаться! Я не вижу раскаяния в твоих словах… Напроказничала, хуже того – исподтишка, как самая последняя, отъявленная шалунья, наделала неприятностей, да еще смеет рассуждать! Изволь назвать сейчас же виновного или виновную, или ты будешь строго наказана.
Лицо Нины бледнело все больше и больше. На матово-белом лбу ее выступили крупные капли пота. Она продолжала хранить упорное молчание. Только глаза ее разгорались все ярче и ярче, эти милые глаза, свидетельствующие о душевной буре, происходившей в чуткой и смелой душе княжны…
Княгиня снова подняла на Нину неумолимо строгие глаза, и взоры их скрестились. Вероятно, справедливая и добрая Maman поняла мучения бедной девочки, потому что лицо ее разом смягчилось, и она произнесла уже менее строго:
– Я знаю, что ты не скажешь, кто тебе помогал, но и не станешь больше посылать в лавку, потому-то теперешнее твое состояние – боязнь погубить других из-за собственной шалости – будет тебе наукой. А чтобы ты помнила хорошенько о твоем поступке, в продолжение целого года ты не будешь записана на красную доску и перейдешь в следующий класс при среднем поведении. Поняла? Ступай!
Нина повернулась уже к двери, когда начальница снова позвала ее.
– И что с тобой сделалось? Ты так круто изменилась, Джаваха! Как ты думаешь, приятно будет твоему отцу такое поведение его дочери? Природная живость – не порок. Даже шалость детская, безвредная шалость еще простительна, но этот поступок – из рук вон плох!
– А ты, – более милостиво повернулась ко мне начальница, – ты отчего не остановила свою подругу?
Я молчала.
– Чтобы впредь не повторялось ничего подобного!.. – строго произнесла княгиня.
«Если б она знала, если б она только знала, как велика, как чудно-хороша эта благородная, светлая душа милой княжны! – сверлила мой мозг волновавшая меня мысль. – Если б она знала, сколько самоотвержения и доброты в детском сердечке Нины!..»
Мы вышли присмиревшие и взволнованные из квартиры начальницы, несколько даже счастливые подобным исходом дела, оставившим в стороне бедного, насмерть напуганного Гаврилыча.
В классе нас встретили шумными восклицаниями, возгласами благодарности и восхищения.
Кира, Краснушка и Бельская буквально душили Нину поцелуями.
– Мы твои верные друзья до гроба! – восторженно говорила за всех троих Бельская.
В наше отсутствие, оказывается, приходила инспектриса и наказала троих вышеупомянутых воспитанниц, сняв с них передники и оставив без шнурка, но о выключении не было и речи, так как догадливый Пугач пронюхал, что Джаваха у Maman, стало быть, она виноватая. К тому же, когда имя Нины произнесено было в классе, девочки неловко смолкли, не решаясь взвести напрасное обвинение на их самоотверженную спасительницу.
– Maman не позволяет мне ставить 12 за поведение, – отрапортовала звонким голосом княжна, – и мое имя до следующего класса не будет на красной доске.
– Вот как! – И Пугач сделала большие глаза. – За что?
– За то, что я посылала за покупками, а Бельская по моему поручению только побежала вниз взять их из-за дверей.
– Очень похвально! И это примерная воспитанница! – прошипела Арно, вся краснея от гнева.
На следующее воскресенье мы должны были получить белые и красные шнурки за поведение.
– Что это княжна Джаваха без шнурка? – изумилась Ирочка, проходя вместе с двумя другими воспитанницами мимо наших столов на кухню, где они, под руководством классной дамы, осматривали провизию.
– От шнурков только волосы секутся, – не без некоторой лихости произнесла княжна.
– А вон зато теперь Влассовская в «парфетки» попала, – шутили старшие, заставляя меня мучительно краснеть.
Белый с двумя пышными кисточками за отличное поведение шнурок точно терновый венец колол мою голову. Я бы охотно сняла его, признавая княжну более достойной носить этот знак отличия, но последняя серьезно запретила мне снимать шнурок, и я волей-неволей должна была подчиниться.
Кира, Бельская и Краснушка нимало не смущались мыслью провести целый день на глазах всех институток без знака отличия: они привыкли к этому…
А время между тем быстро подвигалось вперед. Наступила масленица с прогулками пешком, ежедневными на завтрак четырьмя блинами с горьковатым топленым маслом и жидкой сметаной. Старших возили осматривать Зимний дворец и Эрмитаж. Младшим предоставлено было сновать по зале и коридорам, читать поучительные книжки, где добродетель торжествует, а порок наказывается, или же играть «в картинки» и «перышки».
ГЛАВА XIX
Пост. Говельщицы
Прощальное воскресенье было особенным, из ряду вон выходящим днем институтской жизни. С самого утра девочки встали в каком-то торжественном настроении духа.
– Завтра начало поста и говенья, сегодня надо просить у всех прощения, – говорили они, одеваясь и причесываясь без обычного шума.
В приеме те, к которым приходили родные, целовали как-то продолжительно и нежно сестер, матерей, отцов и братьев. После обеда ходили просить прощения к старшим и соседям-шестым, с которыми вели непримиримую «войну Алой и Белой розы», как, смеясь, уверяли насмешницы пятые, принявшиеся уже за изучение истории. Гостинцы, принесенные в этот день в прием, разделили на два разряда: на скоромные и постные, причем скоромные запихивались за обе щеки, а постные откладывались на завтра.
– Как ты думаешь, тянушки постные? – кричала наивная Надя Федорова через весь класс Бельской.
– Ну, конечно, глупая, скоромные, ведь они из сливок.
– Так это белые, а я про красные спрашиваю…
– Да ведь они тоже на сливках.
– Неправда, из земляники.
– Фу, какая ты, душка, дура! – не утерпела Бельская.
– Медамочки, это она в прощальное-то воскресенье так ругается! – ужаснулась Маня Иванова, подоспевшая к спорившим, и прибавила нежным голоском, умильно поглядывая на тянушки: – Дай попробовать, Надюша, и я мигом узнаю, скоромные они или постные.
На другое утро мы были разбужены мерными ударами колокола из ближайшей церкви, где оканчивалась, по всем вероятиям, ранняя обедня.
В столовой пахло каким-то еле уловимым запахом.
– Это от трески, – нюхая вздернутым носиком, заявила опытная в этом деле Иванова.
Выходя из столовой, мы задержались у меню, повешенного на стенке у входной двери, и успели прочесть: «Винегрет и чай с сушками».
– Вот так еда! – разочарованно потянула Маня. – Кто хочет мою порцию винегрета за пучок сушек?
– Стыдись, ты говеешь! – покачала головой серьезная Додо.
– Я мытарь, а не фарисей, который делает все напоказ, – съязвила Иванова.
– Не ссорьтесь, mesdam\'очки, – остановила их Краснушка, пригладившая особенно старательно свои огненно-красные вихры.
В классе нам роздали книжки божественного содержания: тут было житие св. великомученицы Варвары, преподобного Николая Чудотворца, Андрея Столпника и Алексея человека Божия, Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Мы затихли за чтением.
Когда Нина читала мне ровным и звонким голоском о том, как колесовали нежное тело Варвары, в то время как праведница распевала хвалебные псалмы своему Создателю, у меня невольно вырвалось:
– Боже мой, как страшно, Ниночка!
– Страшно? – недоумевая, проговорила она, отрываясь на минуту от книги. – О, как я бы хотела пострадать за Него!
В десять часов нас повели в церковь – слушать часы и обедню. Уроков не полагалось целую неделю, но никому и в голову не приходило шалить или дурачиться – все мы были проникнуты сознанием совершающегося в нас таинства. После завтрака Леночка Корсак пришла к нам с тяжелой книгой Ветхого и Нового завета и читала нам до самого обеда. Обед наш состоял в этот день из жидких щей со снетками, рыбьих котлет с грибным соусом и оладий с патокой. За обедом сидели мы необычайно тихо, говорили вполголоса.
Всенощная произвела на меня глубокое впечатление: темные, траурные ризы священнослужителей, тихо мерцающие свечи и протяжно-заунывное великопостное пение – все это не могло не запечатлеться в чуткой, болезненно-восприимчивой душе.
Наступила пятница – день исповеди младших. С утра нас охватило волнение, мы бегали друг к другу, прося прощения в невольно или умышленно нанесенных обидах.
– Прости меня, Надя, я назвала тебя в субботу «жадиной» за то, что ты не уступила мне крылышка тетерьки.
– Бог простит, – отвечала умиленная Надя, и девочки крепко целовались.
– Что мне делать, ведь я называла твою Ирочку белобрысой шведкой? – чистосердечно, смущенная, покаялась я Нине.
Та готова была вспыхнуть как спичка, но, вспомнив о сегодняшнем дне, сдержалась и проговорила сдержанно:
– Надо извиниться.
Едва услышав мнение Нины, я помчалась на старшую половину и, увидя гулявшую по коридору Трахтенберг в обществе одной из старших институток, смело подошла к ней со словами:
– Простите, мадмуазель, я бранила вас за глаза…
– За что же? – улыбнулась она. – Я не сделала тебе ничего дурного.
«Да, не сделали, а разве не отнимали у меня Нину и разве не мучили ее своею холодностью?..» – готово было сорваться с моего языка, но я вовремя опомнилась и молча приложилась губами к бледной щеке молодой девушки.
– Вперед не греши, – крикнула мне вслед спутница Иры, но ее насмешка мало тронула меня.
Я была вся под впечатлением совершенного мною хорошего поступка и охотно простила бы даже крупное зло.
Нас повели просить прощения у начальницы, инспектрисы, инспектора и недежурной дамы.
Еленина прочла нам подобающую проповедь, причем все наши маленькие шалости выставила чуть ли не преступлениями, которые мы должны были замаливать перед Господом. Начальница на наше «Простите, Maman» просто и кротко ответила: «Бог вас простит, дети». Инспектор добродушно закивал головою, не давая нам вымолвить слова. Зато Пугач на наше тихое, еле слышное от сознания полной нашей виновности перед нею «простите» возвела глаза к небу со словами:
– Вы очень виноваты предо мною, mesdames, но если сам Господь Иисус Христос простит вам, могу ли не сделать этого я, несчастная грешница!
И опять глаза, полные слез, поднялись в потолок.
– Экая комедиантка! – вырвалось у Бельской, когда мы, смущенные неприятной сценой, вышли из ее комнаты.
– Белка, как можешь ты так говорить, ведь ты говеешь! – сказала, толкнув ее под руку, Краснушка.
– Mesdames, идите исповедоваться, – звонко крикнула нам попавшаяся по дороге институтка. – Наши все уже готовы.
Мы не без волнения переступили порог церкви.
Институтский храм тонул в полумраке. Немногие лампады слабо освещали строгие лики иконостаса, рельефно выделяющиеся из-за золотых его рам. На правом клиросе стояли ширмы, скрывавшие аналой с крестом и Евангелием и самого батюшку.
Нас поставили по алфавиту шеренгами и тотчас же три первые девочки отделились от класса и опустились на колени перед иконостасом.
Между ними была и Бельская. Прежде чем пойти на амвон, она, еще раз оглянувшись на класс, шепнула «простите» каким-то новым, присмиревшим голосом.
– Строго спрашивает батюшка? – в десятый раз спрашивали мы Киру, исповедовавшуюся уже прошлый год.
– Справедливо, как надо, – отвечала она и погрузила взгляд на страницы молитвенника.
– Влассовская, Гардина и Джаваха, – шепотом позвала нас Fraulein, и мы заняли освободившееся место на амвоне.
Я стояла как раз перед образом Спасителя с правой стороны Царских врат. На меня строго смотрели бледные, изможденные страданием, но спокойные, неземные черты Божественного Страдальца. Терновый венок вонзился в эту кроткую голову, и струйки крови бороздили прекрасное, бледное чело. Глаза Спасителя смотрели прямо в душу и, казалось, видели насквозь все происходившее в ней.
Меня охватил наплыв невыразимого, захватывающего, восторженного молитвенного настроения.
– Боже мой, – шептали мои губы, – помоги мне! Помоги, Боже, сделаться доброй, хорошей девочкой, прилежно учиться, помогать маме… не сердиться по пустякам!
И мне казалось, что Спаситель слышит меня, и по этому светлому лику, устремленному на меня, я чувствовала, что моя молитва угодна Богу.
– Господи, – уже в неудержимом восторге шептала я, – как хочется прощать, весь мир прощать! Как жаль, что у меня нет врагов, а то бы я их обняла, прижала к сердцу и простила бы, не задумываясь, от души.
– Люда! Твоя очередь, – шепнул мне знакомый голос.
Я мельком взглянула на говорившую. Нина это или не Нина? Какое новое, просветленное лицо! Какая новая, невиданная мною духовная красота! Глаза не сверкают, как бывало, а льют тихий, чуть мерцающий свет. Они глубоки и недетски серьезны…
– Иди, Люда, – еще раз повторила она и опустилась на колени перед образом Спасителя.
Я робко вступила на клирос. На стуле за ширмою сидел батюшка. Добрая улыбка не освещала в этот раз его приветливого лица, которое в данную минуту было сосредоточенно-серьезно, даже строго.
Я молча приблизилась к аналою и, встав на колени, почувствовала на голове моей большую и мягкую руку моего духовника.
Началась исповедь. Он спрашивал меня по заповедям, и я чистосердечно каялась в моих грехах, сокрушаясь в их, как мне тогда казалось, численности и важности.
«Боже великий и милосердный! Прости меня, прости маленькую грешную девочку», – выстукивало мое сердце, и по лицу текли теплые, чистые детские слезы, мочившие мою пелеринку и руки священника.
– Все? – спросил меня отец Филимон, когда я смолкла на минуту, чтобы припомнить еще какие-нибудь проступки, казавшиеся мне такими важными грехами.
– Кажется, все! – робко произнесла я.
– Прощаются и отпускаются грехи отроковицы Людмилы, – прозвучал надо мною тихий голос священника, и голову мою покрыла епитрахиль, сверх которой я почувствовала сделанный батюшкою крест на моем темени.
Взволнованная и потрясенная, я вышла из-за ширмочек и преклонила колена перед образом Спаса.
И вдруг мой мозг прорезала острая как нож мысль: я забыла один грех! Да, положительно забыла. И быстро встав с колен, я подошла к прежнему месту на амвоне и попросила стоявших там девочек пустить меня еще раз, не в очередь, за ширмы. Они дали свое согласие, и я более твердо и спокойно, нежели в первый раз, вошла туда.
– Батюшка, – дрожащим шепотом сказала я отцу Филимону, поднявшему на меня недоумевающий взгляд, – я забыла один грех.
Отец Филимон с удивлением посмотрел на меня и тихо сказал:
– Говори.
– Я бросала за обедом хлебными шариками в моих подруг… пренебрегала даром Божиим… я грешна, батюшка, – торопливо произнесла я.
Что-то неуловимое скользнуло по лицу священника. Он наклонился ко мне и погладил рукою мою пылающую голову. И опять дал мне отпущение грехов, покрыв меня во второй раз епитрахилью.
Когда мы вышли торжественно и тихо из церкви, нам попались навстречу старшие, спускавшиеся пить чай в столовую.
– «Седьмушки» святые! Mesdames! Святые идут! – сказала одна из них.
Но никто не ответил ни слова на неуместную шутку. Она оскорбила каждую из нас, как грубое прикосновение чего-то нечистого. Мы прошли прямо в дортуар, отказавшись от вечернего чая, чтобы ничего не брать в рот до завтрашнего причастия.
Приобщались мы на другой день в парадных батистовых передниках и новых камлотовых платьях.
Было прелестное солнечное утро. Золотые лучи играли на драгоценных ризах и на ликах святых, смягчая их суровые подвижнические черты…
Та же тишина, как и перед исповедью, то же торжественное настроение…
«А вдруг оттолкнет перед Святой чашей? – думала каждая из нас. – Или рот закроется и не даст возможности проговорить своего имени духовнику?»
В нашей памяти живо было предание, передаваемое одним поколением институток другому, о двух сестрах Неминых, находившихся в постоянной вражде между собою и не пожелавших помириться даже перед причастием, за что одну сверхъестественной силой оттолкнуло от Святой чаши, а другая не могла разжать конвульсивно сжавшегося рта. Так обе злые девочки и не были допущены к причастию.
И каждая из нас, трепеща и замирая, сложив крестообразно на груди руки, подходила к чаше, невольно вспоминая случай с Немиными.
Но ничего подобного в этот раз не произошло…
После причастия нас поздравляло начальство и старшие. Все были как-то особенно близки и дороги нам в этот день. Хотелось радостно плакать и молиться. А природа для большей торжественности слала на землю теплые лучи – предвестников недалекой весны…
ГЛАВА XX
Больная. Сон. Христос Воскресе!
Нина сказала правду, что второе полугодие пронесется быстро, как сон… Недели незаметно мелькали одна за другою… В институтском воздухе, кроме запаха подсолнечного масла и сушеных грибов, прибавилось еще еле уловимое дуновение начала весны. Форточки в дортуарах держались дольше открытыми, а во время уроков чаще и чаще спускались шторы в защиту от посещения солнышка. Снег таял и принимал серо-желтый цвет. Мы целые дни проводили у окон, еще наглухо закрытых двойными рамами.
На черных косах княжны красовался опять белый шнурок за отличное поведение, а имя ее снова было занесено на красную доску. У меня на душе было легко и радостно. Близость весны, а за нею желанного лета заставляла радостно трепетать мою детскую душу. Одно меня беспокоило: здоровье княжны. Она стала еще прозрачнее и вся точно сквозила через нежную, бледную, с еле уловимым желтоватым отливом кожу. Глаза ее стали яркими-яркими и горели нестерпимым блеском. Иногда на щеках Нины вспыхивали два буро-красных пятна румянца, пропадавшие так же быстро, как и появлялись. Она кашляла глухо и часто, хватаясь за грудь. Начальство особенно нежно и ласково относилось к ней. Два или три раза Maman присылала за нею звать кататься в своей карете. Институтки, особенно чуткие к несчастью подруг, старались всеми силами оказать своей любимице всевозможные знаки любви и дружбы.
Частая раздражительность Нины, ее капризы, которые стали проявляться вследствие ее болезни, охотно прощались бедной девочке… Даже Ирочка – надменная, своенравная шведка – и та всеми силами старалась оказать особенное внимание Нине. По воскресеньям на тируаре княжны появлялись вкусные лакомства или фрукты, к которым она едва прикасалась и тотчас раздавала подругам, жадным до всякого рода лакомств.
И вот однажды случилось то, чего никто не ожидал, хотя втайне каждой из нас невольно приходило в голову: княжна окончательно заболела и слегла.
Мне ясно припоминается субботний ясный полдень вербной недели. У нас был последний до Пасхи урок – география. Географию преподавал старик учитель, седой и добродушный на вид, говоривший маленьким «ты» и называвший нас «внучками», что не мешало ему, впрочем, быть крайне взыскательным, а нам бояться его как огня. Урок уже приходил к концу, когда Алексей Иванович (так звали учителя) вызвал Нину.
– А ну-ка, внучка, позабавь! – добродушно произнес он.
Как сейчас помню карту, всю испещренную реками, горами и точками городов, помню особенно бледную княжну, вооруженную черной линейкой, которою она водила по карте, указывая границы:
– Берингов пролив, Берингово море, Охотское море… – звучал слабо и глухо ее милый голосок.
Вдруг страшный припадок удушливого кашля заставил смолкнуть бедняжку. Она схватилась за грудь и поднесла платок к губам. На белом полотне резко выделились две кровавые кляксы.
– Мне худо! – еле слышно прошептала Нина и упала на руки подоспевшей фрейлейн.
Все помутилось у меня в глазах – доски, кафедра, карта и сам Алексей Иванович, – все завертелось, закружилось передо мною. Я видела только одну полубесчувственную княжну на руках фрейлейн. Спустя несколько минут ее унесли в лазарет… Разом светлое настроение куда-то исчезло, и на место его тяжелый мрак воцарился у меня на душе… Я инстинктом чувствовала, что Нина больна, и опаснее, чем мы предполагали.
Весь день я не находила себе места. Меня не развлекали присланные нам старшими, ездившими на вербы, гостинцы: халва, рахат-лукум и впридачу к ним баночки с прыгающими американскими жителями, занявшими на целый вечер моих товарок.
В шесть часов лазаретная девушка Маша принесла мне записку, исписанную знакомыми и милыми крупными каракульками.
...
«Приди ко мне, дорогая Люда, – писала мне моя верная подруга, – я очень скучаю. Попросись у фрейлейн на весь вечер – ведь уроки кончились и ты свободна.
Твоя навеки Нина».
Я поспешила исполнить ее просьбу.
Княжна помещалась в маленькой комнатке, предназначавшейся для труднобольных. Она сидела в большом кресле у окна. Я едва узнала ее в белом лазаретном халате с беспорядочно спутанной косой.
Когда я вошла к ней, она тихо повернула ко мне бледное, измученное личико и проговорила, слабо улыбаясь:
– Ты прости, Люда, что я тебя потревожила… Мне так хотелось тебя видеть, дорогая моя!
Я проглотила подступившие слезы и поцеловала ее.
– Ах, скорее бы тепло, – тоскливо шептала княжна, – мне так не хочется хворать… весна меня вылечит… наверное вылечит… Скорее бы на Кавказ… там тепло… солнце… горы… Знаешь, Люда, мне иногда начинает казаться, что я не увижу больше Кавказа.
– Что ты, что ты, Нина, можно ли так! – пробовала я успокоить мою бедную подругу.
Мы проболтали с нею целый вечер, промелькнувший быстро и незаметно…
В 8 часов я вспомнила, что наши, наверное, уже на молитве, и, поцеловав наскоро Нину, опрометью бросилась из лазарета.
Наступила страстная неделя… Наши начали понемногу разъезжаться. Живущие вне города и в провинции распускались раньше, городские жительницы оставались до четверга в стенах института. Наконец и эти последние с веселым щебетаньем выпорхнули из скучных институтских стен. И на Пасху, как и на Рождество, остались те же самые девочки, кроме Киры, ловко избежавшей на этот раз наказания. Та же задумчивая Варя Чикунина, хорошенькая Лер и на этот раз оставшаяся на праздники Бельская составляли наше маленькое общество. А в нижнем этаже, в лазарете, в маленькой комнатке для труднобольных, встречала одиноко Светлый праздник моя бедная голубка Нина.
Мамина пасхальная посылка опоздала на этот раз, и я получила ее только в великую субботу. Поверх куличей, мазурок, пляцок и баб аршинного роста, на которые так искусна была наша проворная Катря, я с радостью заметила букетик полузавядших в дороге ландышей – первых цветов милой стороны. Я позабыла куличи, пасхи и окорок чудесной домашней свинины, заботливо упакованные мамой в большую корзину, и целовала эти чудные цветочки – вестники южной весны… Еле дождалась я звонка, чтобы бежать к Нине…
– Угадай-ка, что я принесла тебе! – радостно кричала я еще в дверях, пряча за спиной заветный букетик.
Нина, сидевшая за книгой, подняла на меня свои черные, казавшиеся огромными от чрезвычайной худобы глаза.
– Вот тебе, Нина, мой подарок! – И белый букетик упал к ней на колени.
Она быстро схватила его и, прижав к губам, жадно вдыхала тонкий аромат цветов, вся закрасневшись от счастья.
– Ландыши! Ведь это весна! Сама весна, Люда! – скоро-скоро говорила она, задыхаясь.
Я давно уже не видела ее такой возбужденной и хорошенькой… Она позвала Матеньку, заставила ее принести воды и поставила цветы в стакан, не переставая любоваться ими.
Я рассказала ей, что эти цветы прислала мне добрая мама «впридачу» к пасхальной посылке.
– Когда ты будешь писать маме, то поцелуй ее от меня и скажи, что я ее очень-очень люблю! – сказала Нина, выслушав меня.
Мы молча крепко поцеловались.
Какая-то новая, трогательно-беспомощная сидела теперь передо мною Нина, но мне она казалась вдесятеро лучше и милее несколько гордой и предприимчивой девочки, любимицы класса…
До заутрени нас повели в дортуар, где мы тотчас же принялись за устройство пасхального стола. Сдвинув, с позволения классной дамы, несколько ночных столиков, мы накрыли их совершенно чистой простыней и уставили присланными мне мамой яствами. Затем улеглись спать, чтобы бодро встретить наступающий Светлый праздник.
Странный сон мне приснился в эту ночь. Этот сон остался в памяти моей на всю мою жизнь. Я видела поле, все засеянное цветами, издающими чудный, тонкий аромат, напоминающий запах кадильницы. Когда я подходила к какому-нибудь цветку, то с изумлением замечала маленькое крылатое существо, качающееся в самой чашечке. Присмотревшись к каждому из существ, я увидела, что это наши «седьмушки», только чрезвычайно маленькие и как бы похорошевшие. Вот Бельская, Федорова, Гардина, Краснушка, Кира – одним словом, все, все величиною с самых маленьких французских куколок. И сама я такая же маленькая и прозрачная, как и они, а сзади меня такие же легонькие блестящие крылышки.
– Люда! – слышится мне слабый, точно шелест листьев от ласки ветра, голосок. – Люда, подожди меня!
Маленький крылатый эльф догоняет меня, протягивая руки. Это Нина, ее глаза, ее лицо, ее косы.
В ту же минуту остальные эльфы окружают нас, и мы вертимся в большом хороводе… Мы все легки и прозрачны, все без труда поднимаемся на воздух, но никак не можем поспеть за хорошеньким, грациозным эльфом, более прозрачным, нежели мы, с головкой и чертами Нины. Она поднимается выше и выше в воздушной пляске. Скоро мы едва можем достать до нее руками, и, наконец, она поднялась над нами так высоко, вся сияя каким-то точно солнечным сиянием, и вскоре мы увидели ее тонувшей в голубой эмали неба.
– Нина, Нина! – звали маленькие эльфы, не переставая кружиться.
Но было уже поздно… Налетело облако и скрыло от нас нашего крылатого друга…
Я проснулась от мерных ударов колоколов соседних с институтом церквей.
– Скорее, скорее! – кричали, торопя, мои подруги, наскоро освежая лицо водою и надевая все чистое.
Я почему-то умолчала о виденном мною сне и вместе с остальными девочками поспешила в церковь…
Все уже были в сборе, когда мы, младшие, заняли свои места. Светлое облачение, крестный ход по всем этажам института, наряды посторонних посетителей, ленты и звезды увешанных орденами попечителей – все это произвело на меня неизгладимое впечатление. Когда же священник, подошедший к плотно закрытым царским вратам, возгласил впервые: «Христос Воскресе!» – сердце мое екнуло и затрепетало так сильно, точно желая выпрыгнуть из груди…
– Христос Воскресе! – обратился отец Филимон трижды к молящимся и получил в ответ троекратное же: «Воистину Воскресе!»
Тотчас же после заутрени нас увели разговляться, между тем как старшие должны были достоять пасхальную обедню.
В столовой мы почти не притронулись к кисловатой институтской пасхе и невкусному куличу. Наверху, в дортуаре, нас ждало наше собственное угощение. «Христос Воскресе!» – «Воистину Воскресе!» – обменивались мы пасхальным приветствием…
Лер приготовила нам всем четверым по шоколадному яичку, чуть не насмерть разозлив Пугача (у которого хранились ее деньги) безумным транжирством. Варя подарила всем по яичку из глицеринового мыла, а Бельская разделила между нами четырьмя скопленные ею за целую зиму картинки – ее единственное достояние.
– А я-то ничего не приготовила! – смутилась я.
– Твое будет угощение! – поспешили утешить меня подруги и принялись за разговенье.
– Знаете, mesdam\'очки, – предложила Лер, – не позвать ли нам фрейлейн?
– Ну вот, она стеснит только, – решила Бельская.
– Ах нет, душки, позовите, – вмешалась кроткая Варя, – каково ей одной, бедняжке, разговляться в своей комнате.
Мы как по команде вскочили и бросились в комнату фрейлейн.
Она, действительно грустная, одинокая, готовилась встречать Светлый праздник, и наше предложение было как нельзя более кстати.
Она охотно разделила наше скромное пиршество, шутя и болтая как равная нам.
Мне взгрустнулось при воспоминании о Нине, не спавшей, может быть, в эту пасхальную ночь.
– Фрейлейн, – робко обратилась я к немке, – могу я сейчас сбегать в лазарет к Джавахе? Ведь она совсем одна!
– А если она спит?
– Нет, фрейлейн, Нина не будет спать в эту ночь, – убежденно проговорила я. – Она ждет меня, наверное, ждет.
– Ну тогда Бог с тобою, иди, моя девочка, только тихонько, не шуми и, если княжна спит, не буди ее. Слышишь?
Я не ошиблась. Княжна лежала с широко открытыми глазами, и, когда я вошла к ней, она нимало не удивилась, сказав:
– Я знала, что ты придешь.
К моему великому огорчению, она не пожелала попробовать ничего из принесенной мною от нашего разговенья Катриной стряпни и только радостно смотрела на меня своими мерцающими глазами.
Я рассказала Нине о моем сне.
Ее охватило какое-то странное, лихорадочное оживление.
– Ты говоришь: я полетела от вас, да? Знаешь ли, что это значит, Люда?
– Что, милая?
– Да то, что Maman, наверное, отпустит меня до экзаменов и я увижу Кавказ скоро-скоро. Я поднимусь высоко в наши чудные Кавказские горы и оттуда, Люда, пошлю тебе мой мысленный горячий поцелуй!
Как она хорошо говорила! В ее несколько образной, всегда одушевленной речи сквозила недюжинная, не по летам развитая натура. Я слушала Нину, вдохновившуюся мыслями о далекой родине, и в моем воображении рисовались картины невиданной, увлекательной страны…
Мы проболтали часов до пяти. И только возвращение от обедни лазаретного начальства заставило меня уйти от нее и вернуться в дортуар, где я быстро уснула здоровым детским сном.
Праздник Пасхи прошел скучнее Рождества. Многие из нас, ввиду близких экзаменов, взялись за книги. Одна Бельская, «неунывающая россиянка», как ее прозвал в шутку Алексей Иванович, и не думала заниматься.
– Бельская! – окликивала ее, погрузившуюся в какую-нибудь фантастическую правду-сказку, всегда бдительно следившая за всеми нами фрейлейн. – Ты останешься в классе на второй год, если не будешь учиться: у тебя двойка из географии.
– Ах, фрейлейн-дуся, – восторженно восклицала Бельская, – как они дерутся!
– Кто дерется? – в ужасе спрашивала фрейлейн, прислушиваясь к шуму в коридоре.
– Да дикие! – захлебывалась наша Белка, показывая на картинку в своей книге.
– Ах, dummes Kind (глупое дитя), вечные шалости! – И фрейлейн укоризненно качала головою.
Несколько раз водили нас гулять, показывали Зимний дворец и Эрмитаж. Мы ходили, как маленькие дикарки, по роскошным громадным залам дворца, поминутно испуская возгласы удивления и восторга. Особенно неизгладимое впечатление произвела на меня большая, в человеческий рост, фигура Петра I в одной из обширных зал Эрмитажа. Из окон открывался чудный вид на Неву, еще не освободившуюся от ледяной брони, но уже яростно боровшуюся за свою свободу.
В воскресенье вернулись с пасхальных каникул наши подруги. Кое-кто привез нам яйца и домашние яства. Всюду раздавались громкие приветствия, поцелуи, сопровождавшиеся возгласом: «Христос Воскрес!»
А на классной доске наш добродушный толстяк инспектор писал уже страшное для нас расписание экзаменов…
ГЛАВА XXI
Экзамены. Чудо
Сад еще не оделся, но почки лип уже распустились и издавали свой пряный аромат. Весело чирикали птицы в задней аллее. Зеленела нежная, бархатистая травка…
И в нашей внешности тоже произошла перемена: безобразные желтые клеки и капоры сменились довольно сносными осенними темно-зелеными пальто и белыми полотняными косыночками.
Мы готовились к экзамену Закона Божия. Целые дни, теперь свободные от уроков, мы проводили с книгами и программами в саду, сидя в самых укромных уголках его, или лихорадочно быстро шагали по аллеям, твердя в то же время историю многострадального Иова или какой-нибудь канон празднику. Столкнутся две девочки или две группы, и сейчас же зазвучат вопросы: «Который билет учите?» – «А вы?» – «Ты Ветхий прошла?» – «А ты?» – «Начала молитвы!» Более сильные ученицы взяли на свое попечение слабых и, окруженные целыми группами, внятно и толково рассказывали священную историю или поясняли молитвы.
На мою долю выпало заниматься с Ренн. Но после первых же опытов я признала себя бессильной просветить ее глубоко заплесневший ум. Я прочла и пояснила ей некоторые истории и, велев их выучить поскорее, сама углубилась в книгу. Мы сидели на скамейке под кустом уже распустившейся бузины. Вокруг нас весело чирикали пташки. Воздух потянул ветерком, теплым и освежающим. Я оглянулась на Ренн. Губы ее что-то шептали. Глаза без признака мысли были устремлены в пространство.
– Ренн, – окликнула я ее, – Ренн, учись!
Она неторопливо повернула голову и перевела на меня те же бессмысленные глаза.
– А что?
– Как «что»? – возмутилась я и даже вся покраснела. – Ведь ты провалишься на экзамене.
– Провалюсь, – певуче и равнодушно согласилась она.
– Останешься в классе, – продолжала я.
– Останусь, – спокойно ответила она.
Я начинала серьезно раздражаться и крикнула ей с сердцем:
– И тебя исключат!
– Исключат, – как эхо отозвалась Ренн.
– Да что ж тут хорошего?
– Не стоит учиться, – брякнула она и так же равнодушно отвернула от меня голову.
– Что ж ты будешь делать недоучкой-то? – осведомилась я, перестав даже сердиться от неожиданности.
– Дома жить буду, огород разведу в имении, цветы, булки буду печь, варенье варить, – я очень хорошо все это умею, – а потом…
– А потом? – перебила я.
– Замуж выйду! – закончила она простодушно и стала следить за какой-то ползущей в траве золотистой букашкой.
Я засмеялась. Рассуждения четырнадцатилетней девочки, «бабушки класса», как мы ее называли (она была старше нас всех), несказанно рассмешили меня. Однако оставить ее на произвол судьбы я не решилась, и с грехом пополам мы прошли с Ренн историю Нового, Ветхого завета и необходимые молитвы. А время не шло, а бежало…
Наступил день первого и потому особенно страшного для нас экзамена. Хотя батюшка был очень добр и снисходителен, но кроме него присутствовали и другие ассистенты-экзаменаторы, в том числе чужой священник, с академическим знаком и поразительно розовым лицом, пугавший нас своим строгим, несколько насмешливым видом.
– Все билеты успела пройти? – спросила меня Даша Муравьева, взглядывая на меня усталыми от долбежки глазами.
– Все… Меня вот только Ренн беспокоит. Ведь она провалится…
– Конечно, провалится! – убежденно подтвердила Додо.
В 9 часов утра в класс вошли начальство и экзаменаторы-ассистенты. После прочитанной молитвы «Пред ученьем» все разместились за длинным зеленым столом, и отец Филимон, смешав билеты, начал вызывать воспитанниц. Он был в новой темно-синей рясе и улыбался ласково и ободряюще. «Сильные» вызывались в конце, «слабых» же экзаменовали раньше.
– Мария Запольская, Клавдия Ренн, Раиса Бельская, – немного певучими носовыми звуками произнес отец Филимон.
Все вызванные девочки считались самыми плохими ученицами.
– Выучила все? – шепотом спросила я проходившую мимо меня Краснушку. В ответ она только лихо тряхнула красной маковкой.
Экзаменаторы, ввиду крайней тупости Ренн, предлагали ей самые легкие и доступные вопросы, на которые она едва-едва отвечала. Я мучительно волновалась за свою невозможную ученицу.
Maman, видевшая на своему веку не один десяток поколений институток, не утерпела: с едва заметной улыбкой презрения она заметила, что такой лентяйки, как Ренн, ей не встречалось до сих пор. Батюшка, добрый и сердечный, никогда ни на что не сердившийся, неодобрительно покачал головою, когда Ренн объявила экзаменующим, что Ной был сын Моисея и провел три дня и три ночи во чреве кита. Отец Дмитрий, чужой священник с академическим знаком, насмешливо усмехался себе в бороду.
– Довольно, пощадите нас! – вырвалось у Maman раздраженное восклицание, и она отпустила Ренн на место.
Последняя без всякого смущения села на свою лавку. Ничем не нарушимое спокойствие сияло на ее довольном, сытом и тупом лице.
Ренн провалилась, в этом не могло быть сомнения.
Меня охватило какое-то глухое раздражение, почти ненависть против этой маленькой лентяйки.
Между тем вызывали все новых и новых девочек, отвечавших очень порядочно. Закон Божий старались учить на лучший балл – 12. Тут имела значение не одна детская религиозность; уж очень мы любили нашего доброго батюшку.
– Людмила Влассовская, – чуть ли не последнюю вызвал меня наконец отец Филимон.
Я была слишком уверена в себе, чтобы бояться… но невольно дыхание мое сперло в груди, когда я потянула к себе беленький билетик… На билетике стоял Э 12: «Бегство иудеев из Египта». Эту историю я знала отлично, и, ощутив в душе сладостное удовлетворение, я не спеша, ровно и звонко рассказала все, что знала. Лицо Maman ласково улыбалось; отец Филимон приветливо кивал мне головою, даже инспектор и отец Дмитрий, скептически относившийся к экзаменам «седьмушек», не без удовольствия слушали меня…
Я кончила.
Мне предложено было прочесть тропарь празднику Крещения и перевести его со славянского языка, что я исполнила без запинки с тою же уверенностью и положительностью, которые невольно приобретаются с познаниями.
– Отлично, девочка, – прозвучал ласковый голос княгини.
– Хорошо, очень хорошо! – подтвердил инспектор.
«Наш» батюшка только улыбнулся мне, а «чужой» часто и одобрительно закивал головою.
Экзамен кончился.
Мы гурьбою высыпали из класса и в ожидании чтения отметок ходили по коридору. А в классе в это время обсуждались наши ответы и ставились баллы. Мне было поставлено 12 с плюсом.
– Если б принято было со звездою ставить, я бы звезду поставил, – пошутил инспектор.
Злосчастная Ренн получила 6 – неслыханно плохую отметку по Закону Божию!..
Один экзамен сбыли. Оставалось еще целых пять, и в том числе география, которая ужасно смущала меня. География мне не давалась почему-то: бесчисленные наименования незнакомых рек, морей и гор не укладывались в моей голове. К географии, к тому же, меня не подготовили дома, между тем как все остальные предметы я прошла с мамой. Экзамен географии был назначен по расписанию четвертым, и я старалась не волноваться. А пока я усердно занялась следующим по порядку русским языком.
От Ренн, несмотря на все мои человеколюбивые помыслы, я открещивалась обеими руками. «Только отнимет она от меня даром время, а толку не будет», – успокаивала я как могла мою возмутившуюся было совесть. И действительно, Ренн отложила всякое попечение об экзаменах, почти совсем перестала готовиться и погрузилась в рисование каких-то домиков и зверей, в чем, надо ей отдать справедливость, она была большая искусница.
«Русский» экзамен сошел точно так же, как и Закон Божий.
Готовились добросовестно. «Стыдно проваливаться на родимом языке», – говорили девочки и, как говорится, «поддали жару».
Зато следующий за ним французский экзамен был полон ужасов для несчастного monsieur Ротье, которому приходилось краснеть за многих своих учениц. Уж не говоря о Ренн, которая на тарабарском наречии несла всевозможную чушь перед зеленым столом, провалились еще три или четыре девочки, в том числе Бельская и Краснушка, недурно учившаяся по этому предмету. Последняя горько плакала о своей неудаче после экзамена и чуть не отклонила предложенной ей переэкзаменовки. Однако мы не допускали мысли лишиться этой веселой, умной и доброй товарки, успевшей завоевать симпатию класса, и заставили ее просить о переэкзаменовке.
Провалилась и Иванова, но на нее мы не обратили внимания; Иванову не любили за ее подлизывание перед Крошкой и неимоверную жадность.
Бельская, много исправившаяся за последнее время, мало горевала о своем провале.
– Не повезло на французском экзамене, так на другом повезет, – улыбалась она сквозь гримасу досады.
А сад между тем оделся в свой зеленый наряд. Лужайки запестрели цветами. Пестрые бабочки кружились в свежем, весеннем воздухе. Уже балкон начальницы, выходящий на главную площадку, обили суровым холстом с красными разводами, – приготовляясь к лету.
На лазаретную веранду выпускались больные, и в том числе моя Нина, ставшая еще бледнее и прозрачнее за последнее время. Она сидела на балконе, маленькая и хрупкая, все ушедшая в кресло, с пледом на ногах. Мы подолгу стояли у веранды, разговаривая с нею. Ее освободили от экзаменов, и она ожидала того времени, когда улучшение ее здоровья даст возможность телеграфировать отцу – приезжать за нею.
– Ну что? Как экзамены? – было первым ее вопросом, когда я прибегала к ней в лазарет, урвав две-три свободные минутки.
Она интересовалась ходом институтской жизни, и я рассказывала ей все малейшие происшествия, печально убеждаясь, как быстро менялось все к худшему и худшему это милое, болезненно-прелестное личико.
И голосок ее изменился – гортанный, серебристый голосок…
Наступил наконец и день экзамена географии. Передо мною лежал длинный лист, на котором были записаны все 30 вопросов, занесенных, по обыкновению, на экзаменационные билетики, но в данные нам три дня для подготовки я почти ничего не успела сделать. Мама прислала мне длинное, подробное письмо о житье-бытье на нашем хуторе, писала о начале полевых работ, о цветущих вишневых и яблоневых деревьях, о песнях соловки над окном ее спальни – и все это не могло не взволновать меня своей прелестью. Быстрая, теплая волна охватила меня, захлестнула и унесла далеко на родной юг, на милую Украину. Вместо того чтобы повторять географию, я сидела задумавшись, забыв о географии, погруженная в мои мечты о недалеком будущем, когда я опять увижу дорогой родной хуторок, маму, Васю, Гапку… Часы летели, а число выученных билетов не прибавлялось.
Накануне предстоящего экзамена по географии я точно пробудилась от сладкого сна, пробудилась и… ужаснулась. Я знала всего только десять билетов из тридцати, составлявших наш курс!
Меня охватил ужас.
– Провалюсь… провалюсь… – шептали мои губы беззвучно, а ноги и руки холодели от страха.
Что было делать? Выучить всю программу, все тридцать билетов в один день было немыслимо. К тому же волнение страха лишало меня возможности запомнить всю эту бесконечную сеть потоков и заливов, гор и плоскогорий, границ и рек, составляющую «программу» географии. Не долго думая, я решила сделать то, что делали, как я знала, многие в старших классах: повторить, заучить хорошенько уже пройденные десять билетов и положиться на милость Божию. Так я и сделала.
Когда вечером мы спустились к чаю, наши поразились моим бледным, взволнованным лицом и возбужденными, красноватыми глазами.
– Ты плакала, Люда? – спросила Лер.
– Я училась.
– Все, конечно, прошла?
– Все! – солгала я чуть не в первый раз в жизни и мучительно покраснела.
Но никто не заметил румянца, вспыхнувшего на моих щеках, да если бы и заметили, то, конечно, не угадали бы причины. Я была «парфеткой», «хорошей ученицей», и поэтому считалось невозможным, чтобы я не прошла всего курса.
В душе моей было тяжело и непокойно, когда я легла на жесткую институтскую постель; я долго ворочалась, не переставая думать о завтрашнем дне. Тоскливо замирало мое бедное сердце.
Только под утро я забылась, но не сном, а, вернее, дремотой, полной кошмаров и безобразных видений.
Я проснулась с тяжелой головой и назойливой, как оса, мыслью: сегодня экзамен по географии!
В умывальной шла оживленная беседа.
– Варюша Чикунина! – крикнула я нашему Соловушке, пользовавшемуся славою гадалки, так как она часто с поразительной точностью предсказывала билеты перед экзаменами.
– Что тебе, Люда?
– Предскажи мне билет, – попросила я ее.
Она серьезно, пристально взглянула мне в зрачки своими умными, кроткими глазами и отчеканила: «Десятый».
Я побледнела. Десятый билет я знала хуже прочих и потому немедленно схватилась за книгу и прочла его несколько раз…
До экзамена оставалось полчаса. Волновавшиеся донельзя девочки (учитель географии Алексей Иванович не отличался снисходительностью) побежали к сторожу Сидору просить его открыть церковные двери, желая помолиться перед экзаменом. Он охотно исполнил наше желание, и я вместе с подругами вошла под знакомые своды.
Лик Николая Чудотворца – строгий и суровый – глянул на меня из-за золота иконостаса. Я вспомнила, что мама всегда молилась этому святому, и опустилась перед ним на колени.
Но мне точно не хотелось молиться. Все мои чувства и мысли поражены были страхом перед предстоящим экзаменом – отчаянным, безнадежным страхом, доходящим до тупого уныния.
Однако, по мере того как я пристально и внимательно вглядывалась в строгие черты святого, я уже не находила в нем того выражения суровости, которое поразило меня вначале. Казалось, глаза угодника ласково и серьезно спрашивали: «Что надо этой маленькой девочке, преклонившей перед ним колена?»
Я стала молиться или, вернее, просить, всей душой и сердцем просить, умоляя помочь мне, отвести беду. С наивною и робкою мольбою стояла я перед образом, судорожно сжимая руки у самого подбородка, так что хрустели хрупкие маленькие пальцы. Судорога сжимала мне горло. В груди закипали рыдания… Я зажимала губы, чтобы не дать вырваться крику исступления… Мои мысли твердили в пылавшем мозгу: «Помоги, Боже, помоги, помоги мне! Я знаю только первые десять билетов!»
Не помню, долго ли простояла я так, но когда вышла из церкви, там никого из институток уже не было… Я еще раз упала на колени у церковного порога со словами: «Помоги, Боже, молитвою святого Твоего угодника Николая Чудотворца!» И вдруг как-то странно и быстро успокоилась. Волнение улеглось, и на душе стало светло и спокойно. Но ненадолго; когда коридорные девушки стали развешивать по доскам всевозможные географические карты, а на столе поставил глобус, приготовили бумагу и чернильницы, сердце мое екнуло.
Но вот появилась начальница, за ней учитель географии, другой учитель, инспектриса, прочли молитву, и экзамен начался.
Я сидела как к смерти приговоренная и, к ужасу моему, замечала, что экзаменуемые воспитанницы вытягивали билеты из первого десятка. Значит, для меня из этого десятка уже не останется!
«Что будет, то будет!» – думала я, дрожа, как в лихорадке.
Положим, если бы я провалилась, мне дали бы переэкзаменовку, но что должна была перечувствовать моя душа, самолюбивая маленькая душа гордой девочки?
– Какая ты бледная, Люда! Ты боишься? – прошептала Краснушка, подсевшая ко мне на пустое Нинино место. – На тебе вот, возьми, это помогает… с Валаама… сунь за платье и, когда будешь подходить к столу вынимать билет, дотронься…
Она протягивала мне маленький образок… Я взглянула и ахнула: Николай Чудотворец! Поцеловав образок, я его положила на грудь и спросила тихо Краснушку:
– Ты не знаешь, какие билеты остались?
– Кажется, последние и двадцатые есть… я отмечала…
– А из первых?.. – замирая, вырвалось у меня.
– Кажется, один первый остался…
Я пропала. Не могла же я вытянуть среди целой кучки оставшихся билетов счастливый первый, единственный, который я знала отлично…
«Что же это?» – как-то беспомощно мелькнуло в моих мыслях, и слезы обожгли глаза.
– Влассовская! – прозвучал в ту же минуту и отдался ударом молота в моей голове голос инспектора.
Я встала, точно кто толкнул меня сзади, и подошла к зеленому столу, предварительно дотронувшись до спрятанного образка Чудотворца. Сердце стучало, голова горела как в огне.
Я видела как в тумане чужого учителя-географа старших классов, пришедшего к нам в качестве ассистента, видела, как он рисовал карандашом карикатуру маленького человечка в громадной шляпе на положенном перед ним чистом листе с фамилиями воспитанниц, видела добродушно улыбнувшееся мне лицо инспектора, с удовольствием приготовившегося слушать хороший ответ одной из лучших воспитанниц.
– Как ты бледна, Влассовская… Что с тобою? – спросил меня приветливый голос начальницы.
Я как-то криво улыбнулась… Все завертелось перед моими глазами: зеленый стол, экзаменаторы, карикатура маленького человека в большой шляпе, роковая кучка билетов… и я протянула руку…
– Который? – бесстрастно спросил Алексей Иванович, привыкший к экзаменационным «тряскам».
Я повернула билет и чуть не вскрикнула…
– Нумер первый!
Не берусь описать нахлынувшего на меня чувства умиленной благодарности, религиозного восторга и невыразимой бурной радости…
Первый нумер!.. Я была твердо убеждена, что тут произошло чудо – чудо благодаря образку Николая Чудотворца… Вот она, великая сила детской веры!
Нужно ли говорить, как сочно, – да, именно сочно и толково поясняла я, сколько частей света, сколько мысов и их названия, как граничат эти части света! При этом я удивительно точно обводила по карте границы черной лакированной линеечкой.
О, эта карта с громадной дырой на месте Каспийского моря и кляксой у Нью-Йорка, карта колоссальных размеров, вместившая в себя все пять частей света, – как я ее полюбила! Да, всех я любила в этот день… не исключая и строгого Алексея Ивановича, которого боялась не меньше других.
Я кончила.
– Хорошо, внучка! Молодцом доложила, – проговорил он, нимало не стесняясь начальства и тут же поставил около моего имени жирное, крупное 12 и тотчас добавил:
– Крестов не полагается, это не Закон Божий.
Я хотела было вернуться на место, но Maman поманила меня, и я приблизилась к ее креслу.
– Ну вот, теперь ты порозовела, а то была бела как бумага, – трепля меня по заалевшей щечке, ласково проговорила она и потом, поглядев на меня пристально, добавила: – Можешь написать матери, что мы тобой очень довольны!
Еле держась на ногах от охватившего меня счастья, безумного счастья, неожиданного, вымоленного мною, я пошла на место и тут же вполголоса, все еще сияя, рассказала Краснушке, под большим секретом, чудесный случай со мною.
– Да, это чудо! Чудо! – твердила не менее меня восторженная Маруся и, перекрестившись, приложилась к вынутому мною из корсажа маленькому образочку с Валаама.
– Непременно попрошу маму подарить мне такой же образок Николая Чудотворца! – решила я тут же.
В этот вечер за всенощной (это было как раз в субботу) в продолжение целой службы я не спускала со святого угодника сиявших благодарностью глаз и молилась так горячо, беззаветно молилась, как вряд ли умела молиться прежде…
ГЛАВА XXII
Болезнь Нины
К экзамену немецкого языка мы усиленно готовились, не выходя из сада – ароматного и цветущего, когда вдруг молнией блеснуло и поразило нас страшное известие:
– Княжна безнадежна…
Дней пять тому назад она еще разговаривала с нами с лазаретной террасы, а теперь вдруг эта ужасная, потрясающая новость!
Было семь часов вечера, когда прибежавшая с перевязки Надя Федорова, вечно чем-нибудь и от чего-нибудь лечившаяся, объявила мне желание княжны видеть меня.
Я как безумная сорвалась со скамьи и бегом, через весь сад, кинулась в лазарет. У палаты Нины девушка удержала меня.
– Куда вы? Нельзя! Там доктор и начальница!
– Значит, Нина очень больна? – спросила я с замиранием сердца Машу.
– Уж куда как плохи! Даже доктор сказал, что надежды нет. Не сегодня завтра помрут!
Что-то ударило мне в сердце, оттуда передалось в голову и больно-больно заныло где-то внутри.
– Умрет! Не будет больше со мною! Умрет!.. – беззвучно повторяли мои губы.
Отчаяние, тоска охватили меня… Я чувствовала ужас, холодный ужас перед неизбежным! Точно что-то упало внутри меня. А слез не было. Они жгли глаза, не выливаясь наружу…
Дверь из комнаты Нины отворилась, и вышла Maman, очень печальная и важная, в сопровождении доктора. Они меня не заметили. Проходя совсем близко от меня, Maman произнесла тихо, обращаясь к доктору:
– Утром послана телеграмма отцу… Протянет она дня три-четыре, доктор?
– Вряд ли, княгиня, – грустно ответил доктор.
– Бедный, бедный отец! – еще тише проговорила начальница и, как мне показалось, смахнула слезу.
Из всего слышанного я не могла не понять, что часы моей подруги сочтены. И опять ни слезинки. Один тупой, жгучий ужас…
Не знаю, как я очутилась у кровати Нины.
Нина лежала, повернув голову к стене. Вся она казалась маленькой, совсем маленькой, с детским исхудалым личиком, на котором чудесно сверкали два великолепных черных глаза.
Эти глаза своим блеском ввели меня в заблуждение.
«Не может быть у умирающей таких блестящих глаз», – подумала я.
Но потом мне объяснили, что ей дали для облегчения какое-то особое средство, от которого глаза получают блеск.
Я подошла к постели Нины совсем близко и хотела поцеловать ее. Помню, меня поразило выражение ее худенького, изнуренного болезнью личика. Оно точно ждало чего-то и в то же время недоумевало.
– Ниночка, трудно тебе? – тихо спросила я, стараясь вложить в мой вопрос как можно больше нежности и ласки.
Она неторопливо отвела от стены свои блестящие глаза и взглянула на меня…
Умру – не забуду я этого взгляда…
«За что? За что?» – говорили, казалось, ее глаза, и выражение обиженной скорби легло на это кроткое личико.
– Трудно, Люда! – проговорила она каким-то глухим, хриплым голосом. – Трудно! Я боюсь, что не скоро поеду теперь на Кавказ…
И опять эти обиженные, страдающие глазки!
Бедная моя Нина! Бедная подружка!
Она закашлялась… Из коридора бесшумно и быстро вошла Матенька с каким-то лекарством.
– Княжна, родненькая, золотая, выкушайте ложечку, – склоняясь над больною, просящим голосом говорила старушка.
– Ах нет, не надо, не хочу, все равно не помогает, – капризно, глухим голосом возразила Нина.
И вдруг заплакала навзрыд…
Матенька растерялась и, не решаясь беспокоить княжну, выскользнула из комнаты. Я не знала, как остановить слезы моей дорогой подруги. Обняв ее, прижав к груди ее влажное от слез и липкого пота личико, я тихо повторяла:
– Нина, милая, как я люблю тебя… люблю… милая…
Мало-помалу она успокоилась. Еще слезы дрожали на длинных ресницах, но губы, горячие, запекшиеся бледные губы уже старались улыбнуться.
– Ниночка, ненаглядная, не хочешь ли повидать Иру? – спросила я, не зная, чем утешить больную.
Она пристально взглянула на меня и вдруг почти испуганно заговорила:
– Ах, нет, не надо, не зови…
– Отчего, дорогая? Разве ты разлюбила ее?
– Нет, Люда, не разлюбила, а только… она чужая… да, чужая… а теперь я хочу своих… своих близких… тебя и папу… Я просила ему написать… Он приедет… Ты увидишь, какой он добрый, красивый, умный… А Ирочки не надо… Не понимает она ничего… все о себе… о себе.
Княжна, казалось, утомилась долгой речью. В углах рта накипала розоватая влага. Голова с бледным, помертвевшим лицом запрокинулась на подушку, в груди у нее странно-странно зашипело.
«Умирает, – с ужасом промелькнула у меня мысль, – умирает!»
И я застыла в безмолвном отчаянии…
Но она не умирала. Это был один из ее приступов удушья, частых и продолжительных.
Скоро Нина оправилась, взяла меня за руку своей бледной, маленькой, как у ребенка, ручкой, попробовала улыбнуться и прошептала:
– Поцелуй меня, Люда!
Я охотно исполнила ее просьбу: я целовала эти милые изжелта-бледные щеки, чистый маленький лоб с начертанной уже на нем печатью смерти, запекшиеся губы и два огромных чудесных глаза…
Теперь мне неудержимо хотелось плакать, и я делала ужасные усилия, чтобы сдержаться.
Мы молчали, каждая думая про себя… Княжна нервно пощипывала тоненькими пальчиками запекшиеся губы… Я слышала, как тикали часы в соседней комнате да из сада доносились резкие и веселые возгласы гулявших институток. На столике у кровати пышная красная роза издавала тонкий и нежный аромат.
– Это Maman принесла! Добрая, заботится обо мне, – нарушила Нина молчание и вдруг проговорила неожиданно: – Знаешь, Люда, мне кажется, что я не увижу больше ни Кавказа, ни папы!
– Что ты! Что ты! Ведь он едет к тебе! – испуганно возразила я.
– Да, но я его уже не увижу… – не грустно, а точно мечтательно произнесла княжна и вдруг улыбнулась светло и печально.
Так и осталась эта улыбка на ее губах… Мы снова помолчали. Мучительно тяжело было у меня на душе. Я закрыла лицо руками, чтобы не пугать Нину моим убитым видом. Когда я опустила руки, то заметила на губах ее, шептавших что-то чуть внятно, все ту же светлую, странную улыбку. Наклонив ухо, я с трудом услышала ее лепет, поразивший меня:
– Эльфы… светлые маленькие эльфы в голубом пространстве… Как хорошо… Люда… смотри! Вот горы… синие и белые наверху… Как эльфы кружатся быстро… быстро!.. Хорош твой сон, Люда… А вот орел… Он близко машет крыльями… большой кавказский орел… Он хватает эльфа… меня… Люда!.. Ах, страшно… страшно… больно!.. Когти… когти!.. Он впился мне в грудь… больно… больно…
Улыбка сбежала с ее лица, и оно как-то сразу сделалось темным и страшным от перекосившей его муки испуга.
Рыдая, я выбежала звать фельдшерицу.
– Она умирает! – вне себя кричала я, хватаясь за голову и трясясь всем телом.
Прибежала фельдшерица, за ней вскоре начальница, и мне велели уйти.
Это был второй страшный припадок, кончившийся, однако, более благополучно, нежели я думала.
Через полчаса меня позвали снова.
ГЛАВА XXIII
Прости, родная
Странно успокоенная лежала Нина, когда я опять склонилась над нею. Ее дыхание со свистом вылетало из груди, и глаза как бы померкли. Увидя меня, она пыталась улыбнуться и не могла.
– Люда, наклонись ниже… – расслышала я ее чуть внятный шепот.
Я поспешила исполнить ее желание.
– У меня на кресте медальон… ты знаешь… в нем моя карточка и мамина… Возьми этот медальон себе на память… о бедной маленькой Нине!
На страшной своей худобой грудке блестел этот маленький медальон с инициалом княжны из бриллиантиков. Я не раз видела его. С одной стороны была карточка матери Нины – чудной красавицы с чертами грустными и строгими, а с другой – изображение самой княжны в костюме маленького джигита, с большими, смеющимися глазами.
Я не решалась принять подарка, но Нина с упрямым раздражением проговорила через силу:
– Возьми… Люда… возьми… я хочу!.. Мне не надо больше… Я люблю тебя больше всех и хочу… чтобы это было твое… И еще вот возьми эту тетрадку, – и она указала на красную тетрадку, лежавшую у нее под подушкой, – это мой дневник, мои записки. Я все туда записывала, все… все… Но никому, никому не показывала. Там все мои тайны. Ты узнаешь из этой тетрадки, кто я… и как я тебя любила, – тебя одну из всех здесь в институте…
Тут я не выдержала и горько заплакала, прижимая к губам оба подарка Нины.
– Бедная Люда, бедная Люда, как тебе скучно будет одной! – каким-то унылым голосом проговорила она и вдруг, точно виноватая, добавила с неизъяснимым чувством глубокой любви и нежности:
– Прости, родная!
Новая тишина воцарилась в комнате. Опять одно только тиканье часов нарушало воцарившееся безмолвие… Прошла минута, другая – прежнее молчание. Я подождала немного – ни звука… Княжна дремала, положив худенькую ручку на грудь, а другою рукой перебирала складки одеяла и сорочки быстрым судорожным движением.
Я тихо позвала: «Нина!» Ответа не было… Пальцы перебирали все медленнее и медленнее; наконец, рука бессильно упала на постель.
Она забылась сном, беспомощная и прелестная духовной трогательной красотою…
Я долго-долго смотрела на нее, а потом на цыпочках вышла из комнаты.
В эту ночь я спала немного и тревожно, поминутно просыпаясь и вперяя беспокойные взоры в неприятную своей серою мглою майскую теплую ночь.
Под утро я заснула очень крепко и как-то болезненно ахнула, когда услышала звонок, будивший нас.
«Что-то Нина?» – мучительно думалось мне.
Мы сошли в столовую и уже приготовились к молитве, как вдруг неожиданно вошла Maman, бледная, с усталыми и красными глазами.
– Дети, – дрожащим голосом проговорила она громко, – ваша маленькая подруга княжна Нина Джаваха скончалась сегодня ночью!
Какие-то темные круги пошли у меня перед глазами.
Я потеряла сознание…
.
Она лежала худенькая-худенькая и невероятно вытянувшаяся в своем небольшом, но пышном белом гробу. Ей казалось теперь лет пятнадцать-шестнадцать, этой маленькой одиннадцатилетней девочке.
Матенька заботливо расчесала роскошные косы княжны и окутала всю ее двумя мягкими волнами черных кудрей. На восковом личике с плотно сомкнутыми, точно слипшимися стрелами ресниц смерть запечатлела свой холодом пронизанный поцелуй.
Оно было величаво-покойно и как-то важно, это недетское лицо, мертвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно, резко выделялись на изжелта-белом лбу две тонкие, прямые черточки бровей, делавшие строгим, почти суровым бледное мертвое личико.
Оно было величаво-покойно и как-то важно, это недетское лицо, мертвое и прекрасное новой таинственной красотой. Странно, резко выделялись на изжелта-белом лбу две тонкие, прямые черточки бровей, делавшие строгим, почти суровым бледное мертвое личико.
Ее перенесли в полдень в последнюю палату, поставили на катафалк из белого глазета серебром и золотом вышитый белый гроб с зажженными перед ним с трех сторон свечами в тяжелых подсвечниках, принесенных из церкви. Всю комнату убрали коврами и пальмами из квартиры начальницы, превратив угрюмую лазаретную палату в зимний сад.
Мы окружили гроб с милыми останками княжны и, в ожидании панихиды, слушали всхлипывающую Матеньку.
– Уж так она тихо-тихо отошла, голубка наша белая, – говорила добрая сиделка плачущим голосом. – Ни стона, ни жалобы… Только все просила: «Отнеси меня в сад на лужайку, Матенька, я небо хочу видеть». Потом все барышню Влассовскую звала: «Люда, говорит, Люда, приди ко мне…» Все о Кавказе бредила, о горах да о крылышках каких-то… и к утру забылась немного… Ну я, грешным делом, сама тоже вздремнула. Только чувствую, кто-то мне точно в лицо дунул… Гляжу, а княжна-то, голубушка, на постельке сидит, ручки вперед протянула, а лицо такое светлое-светлое у нее. «Прощай, – шепчет мне, и самое-то чуть слышно, – за мной мама пришла… на Кавказ едем…» Побледнела как простыня и упала на подушку… Так и скончалась святая душенька ангельская… – закончила свой рассказ Матенька.
Наши некоторые заплакали, другие зарыдали навзрыд, а у меня не было слез. Точно клещами сдавило мне грудь, мешая говорить и плакать. Прислонившись к гробу, я судорожно схватилась за его край, едва держась на ногах.
– Вы бы прилегли малость, – посоветовала мне Матенька, испуганная моим видом, – не свалиться бы вам. Ишь ведь, бледные стали… не лучше покойницы!
Я едва слышала ласковую старушку и не отходила от княжны, впиваясь в лицо покойной сухими, жадными и скорбными глазами. Ужасное, невыразимое, никогда не испытанное еще горе со страшною силою охватило меня.
«Ее нет, а ты, ты одинока теперь, – твердило мне что-то изнутри, – умерла, уснула навсегда твоя маленькая подруга, и не с кем будет делить тебе здесь горе и радость…» «Прости, родная», – звучал между тем в моих ушах глухой, болезненно-хриплый голос, полный невыразимой тоски и муки…
«Прости, родная!..» Что значили эти вещие слова княжны? Предчувствовала ли она инстинктом труднобольной свой близкий конец и прощалась со своей бедной маленькой подружкой или же трогательно-виновато просила у нее прощения за невольно причиняемое ей горе – вечную разлуку с нею, умирающей?
И вдруг быстрая мысль пронизала мой мозг. Сон об эльфах оказался вещим… Душа Нины высоко поднялась над нами, и прозрачная, чистая, как маленький эльф, утонула она в эфире бессмертия…
Мои глаза были все так же сухи и в то время, когда дрожащие от волнения голоса старших пропели «Вечную память», когда кончилась панихида и отец Филимон, разжав восковые руки покойницы, положил в них образок святой Нины.
Чье-то рыдание, надрывающее душу, сухое и короткое, огласило комнату.
Это плакала Ирочка Трахтенберг, не успевшая проститься с княжной. Maman, с добрыми, покрасневшими глазами, в черном платье и траурной наколке, поднялась на ступени катафалка и, склонившись над своей мертвой любимицей, разгладила ее волосы по обе стороны белого и ровного, как тесемочка, пробора. Крупные, горячие слезы закапали на руки Нины, а губы Maman судорожно искривились, силясь удержать рыдания.
– Да, дети, это была золотая, благородная, честная душа! На редкость хорошая! – обратилась она к нам тихим, но внятным голосом.
«Чистая! Честная! Святая! И лежит здесь без дыхания и мыслей, а мы, ничем не отличающиеся, шаловливые и капризные, будем жить, дышать, радоваться!..» – сверлило мой мозг, и каким-то озлоблением охватило мою детскую душу.
Четыре дня стояла покойница в ожидании приезда отца, которого уже известили по телеграфу о смерти Нины.
На пятый день он приехал во время панихиды, когда мы меньше всего ожидали его появления.
Он вошел быстро, внезапно, еще молодой и чрезвычайно красивый высокий брюнет, в генеральской форме. Он вошел мертвенно-бледный, с судорожно подергивающимися губами под черной полоской тонких, длинных усов и прямо направился к гробу.
Не решаюсь описать того страшного, мрачного отчаяния, которое я увидела на этом мужественном лице. Я помню только не то крик, не то стон, вырвавшийся из груди отца при виде мертвой дочери… Но это было до того потрясающе-мучительно, что мои нервы не выдержали, и я зарыдала в ответ на этот крик, зарыдала теми благотворными, отчаянными рыданиями, которые смягчают несколько тяжесть горя. А он все стоял, схватившись обеими руками за край гроба и впиваясь мрачно горевшими глазами в лицо своего единственного, навеки потерянного ребенка…
На другой день ее хоронили.
Отпевание было в нашей церкви, где столько раз так горячо молилась религиозная девочка.
Весна, так страстно любимая Ниной, хотела, казалось, приласкать в последний день пребывания на земле маленькую покойницу. Луч солнца скользнул по восковому личику и, ударясь о золотой венчик на лбу умершей, разбился на сотню ярких искр…
Она еще глубже опустилась за два дня на своем последнем ложе и еще мертвеннее было заостренное личико; темные пятна, проступившие на нем, легли зловещими тенями.
«Боже мой, – думала я, мучительно вглядываясь в любимый образ, весь окутанный тонкой и прозрачной дымкой фимиама, – неужели я уже никогда не услышу ее милого голоса? Неужели все-все кончено?..»
А в ушах звенело и переливалось на тысячу ладов: «Прости, родная» – последние слова, обращенные ко мне подругой…
Одна за другой подходили институтки к гробу, поднимались по обитым черным сукном траурным ступеням катафалка и с молитвенным благоговением прикладывались к прозрачной ручке усопшей. Голоса старших едва звучали, задавленные рыданиями…
В этой безысходной тоске всей тесно сплотившейся институтской семьи видна была безграничная привязанность к маленькой княжне, безвременно вырванной от нас жестокою смертью… Да, все, все любили эту милую девочку!..
Ее похоронили в Новодевичьем монастыре, – так далеко от родины, куда она так стремилась последние дни!
Все время отпевания отец Нины не выпускал края гроба, не отрывал глаз от потемневшего мертвого личика. Когда гроб вынесли, он шел до монастыря не сзади, а сбоку белого катафалка с княжеской короной.
Прохожие, при виде печальной процессии, маленького гробика, скрытого под массою венков, целой колонны институток, следовавших за гробом, снимали шапки, истово крестились и провожали нас умиленными глазами.
Но больше всего поражал прохожих вид высокого, статного красавца генерала, идущего у самого гроба без шапки, с глазами блуждающими и страшными…
В монастырской церкви, при последнем прощании с дочерью, он не застонал и не зарыдал, как это всегда бывает. Все тот же мрачный, блуждающий взгляд, полный отчаяния… Когда начальница отрезала прядь черных кудрей его дочери и подала ему, он тупо посмотрел сначала на нее, потом на прядь, конвульсивно зажал в руке волосы и закрыл лицо рукою.
Все это я видела как сквозь сон. В ушах моих, заглушая пение и голос институток, звучали только последние слова моей дорогой Ниночки:
«Прости, родная!..»
Ее опустили в могилу, забросали землей, сровняли холмик и поставили на нем крест из белого мрамора с надписью:
Здесь покоится княжна Нина Джаваха-алы-Джамата.
Наверху креста значилось:
Спи с миром, милая девочка.
Князь долго-долго смотрел на холмик, на крест, на надпись, и взор его казался почти безумным.
Такого глухого, отчаянного горя я еще не видала.
В тот же день он уехал из Петербурга.
ГЛАВА XXIV
Выпуск. Сюрприз
Потянулись тяжелые дни одиночества. Я тосковала по Нине, мало ела, мало говорила, но зато с невыразимым рвением принялась за книги. В них я хотела потопить мое горе… Два оставшихся экзамена были довольно легкими, но мне было чрезвычайно трудно сосредоточиться для подготовки. Глубокая тоска – последствие бурного душевного потрясения – мешала мне учиться. Частые слезы туманили взор, устремленный на книгу, и не давали читать.
Я напрягла все свои усилия и выдержала два последних экзамена так же блестяще, как и предыдущие… Помню, как точно во сне отвечала я на задаваемые вопросы, помню похвалы учителей и ласковые слова начальницы, которая, с кончиной ее любимицы, перевела на меня всю свою нежность.
– Совсем ты изменилась, девочка, – говорила Маman. – Привезли тебя румяным украинским яблочком, а увезут хилой и бледной. Знаю, знаю, как тяжело терять близких, и понимаю, как тебе грустно без Нины. Ты ведь ее так любила! Но, милая моя, на все воля Божья: Нину отозвал к себе Господь, а воля Его святая, и мы не должны роптать… Впрочем, – прибавила Maman, – Нина все равно долго бы жить не могла; она была такая хилая, болезненная, и та роковая болезнь, которая свела так рано ее мать в могилу, должна была непременно отразиться и на Нине… И потому, – заключила княгиня, – не горюй о ней…
Видя, что мои глаза застлались слезами при воспоминании о милой подруге, Maman поспешила прибавить:
– А учишься ты прекрасно! Пожалуй, первою ученицей будешь в классе.
Первой ученицей! Я об этом не думала, но слова Maman невольно наполнили мое сердце самыми честолюбивыми замыслами… В первый раз после смерти Нины я ощущала какое-то сладкое душевное удовлетворение. Быстро подсчитала я мои баллы и не без восторга убедилась, что они превосходят отметки Додо – самой опасной соперницы.
Спустя дня три нам роздали бюллетени с баллами.
Ура! Я была первою в классе!
Меня охватила на мгновение почти шумная радость, но – увы! – только на мгновение… Какой-то внутренний голос шептал мне зловеще: «Этого не было бы, если б княжна Джаваха не лежала в могиле, потому что Нина была бы непременно первой». И острая боль потери мигом заглушила невинную радость…
Я написала маме еще до Нининой смерти о моих успехах, потом послала ей телеграмму о кончине княжны, а теперь отправила к ней длинное и нежное письмо, прося подробно написать, кого и когда пришлет она за мною, так как многие институтки уже начали разъезжаться…
А между тем институтская жизнь обогатилась еще одним событием, происходившим ежегодно в конце мая: наступил день выпуска и публичного акта старших.
Накануне лучшие ученицы из выпускных, окончивших институт, ездили во дворец получать высшие награды из державных рук Государыни. Мы, младшие, с волнением смотрели на ряд карет, подъехавших к зданию института, в которых наши выпускные в парадных платьях отправились во дворец, и с нетерпением ждали их возвращения. Они вернулись восхищенные, умиленные лаской Августейших хозяев, и показывали покрытые бриллиантами шифры и золотые и серебряные медали, которые рельефно выделялись на голубом бархате футляров, увенчанных коронками.
В день выпуска была архиерейская служба, мало, однако, подействовавшая на религиозное настроение выпускных. Виновницы торжества поминутно оглядывались на церковные двери, в которые входили их родственники, наполняя церковь нарядной и пестрой толпой…
После обедни нас повели завтракать… Старшие, особенно шумно и нервно настроенные, не касались подаваемых им в «последний раз» казенных блюд. Обычную молитву перед завтраком они пропели дрожащими голосами. После завтрака весь институт, имея во главе начальство, опекунов, почетных попечителей, собрался в зале. Сюда же толпой хлынули родные, приехавшие за своими ненаглядными девочками, отлученными от родного дома на целых семь лет, а иногда и больше.
Публичный акт начался.
Исполнен был народный гимн, после которого девочки поочередно подходили к столу, за которым восседало начальство, низко приседали и получали наградные книги, аттестаты и Евангелие с молитвенником «в память института», как выражалась начальница.
После раздачи наград начальство обходило выставку ручных работ и рукоделий девочек.
Тут выделялся портрет самой Maman, мастерски исполненный масляными красками одною из старших.
Воспитанницы пели, играли в 4, 8 и 16 рук, показывая все свое искусство, приобретенное ими в стенах института.
Наконец зал огласился звуками прощальной кантаты, сочиненной одною из выпускных и положенной на ноты ее подругой. В незамысловатых сердечных словах, сопровождаемых такою же незамысловатою музыкой, прощались они со стенами института, в которых протекало их детство, резвое, беззаботное, веселое, прощались с товарками и подругами, прощались с начальницей, с доброй матерью и наставницей, с учителями, пролившими яркий свет учения в детские их души.
Особенно трогательно было прощание подруг между собою, с поминутно прерывающимися звуками кантаты, готовой оборваться каждое мгновение.
Прощайте, подруги, Бог знает, когда
Мы с вами увидимся снова…
Так пусть же почиет над каждой из нас
Его благотворное Слово… —
выводил, усиленно сдерживая рыдания, дружный девичий хор.
Кантата смолкла…
Начались слезы, возгласы, рыдания… Молодые девушки прощались, как родные сестры, на вечную разлуку. Боже мой! Сколько было здесь искренних поцелуев, сколько слез горячих и светлых, как сама молодость!
Прощания кончились…
К институткам подошли опекуны, начальство… Maman сказала речь, трогательную и прочувствованную, где коснулась наступающих для выпускных новых обязанностей добрых семьянинок и полезных тружениц.
– Я надеюсь, милые дети, – так закончила свою речь княгиня, – что вы, вспоминая про институт, вспомянете раз-другой и вашу Maman, которая была иной раз строга, но душевно вас любила.
Едва она успела кончить, как все эти пылкие юные девушки окружили ее, со слезами целуя ее руки, плечи, лепеча слова любви, признательности…
Потом они побежали в дортуар – переодеваться в праздничные наряды, ожидавшие их наверху.
Я невольно поддалась гнетущему настроению. Вот здесь, в этой самой зале, еще так недавно стояла освещенная елка… а маленькая чернокудрая девочка, одетая джигитом, лихо отплясывала лезгинку… В этой же самой зале она, эта маленькая черноокая грузиночка, поверяла мне свои тайны, мечты и желания… Тут же гуляла она со мною и Ирой, тут, вся сияя яркой южной красотой, рассказывала нам она о своей далекой, чудной родине.
Где она, милая, чернокудрая девочка? Где он, маленький джигит с оживленным личиком? Где ты, моя Нина, мой прозрачный эльф с золотыми крылышками?..
Не торопясь последовала я за нашими на церковную паперть, опираясь на руку Краснушки, особенно льнувшей ко мне со смертью моей бедной подружки.
Маруся Запольская, сердечная, добрая девочка, чутко поняла все происходившее в моей душе и всеми силами старалась меня рассеять.
Через полчаса на паперть выходили выпускные в воздушных белых платьях, в сопровождении родных и помогавших им одеваться воспитанниц других классов. Они заходили на минутку в церковь, а затем по парадной лестнице спускались в швейцарскую.
Петр, весь блестевший своей парадной формой, с эполетами на плечах и алебардой в руках, широко распахивал двери перед вновь выпущенными на свободу молодыми девушками.
И какие они были хорошенькие – все эти Маруси, Раечки, Зои, в их грациозных нарядах, с возбужденными, разгоревшимися, еще почти детскими личиками. Вот идет Ирочка. Она сдержаннее, серьезнее и как бы холоднее других. Ее платье роскошно и богато… Белый шелковый лиф с большим бантом удивительно идет к лицу этой гордой «барышни».
Ирочка – аристократка, и это сразу видно…
Не потому ли так любила ее чуткая и гордая Нина?
Ирочка прошла паперть и готовилась спуститься вниз, но вдруг, обернувшись, заметила меня и быстро приблизилась.
– Влассовская, – произнесла она, мило краснея и отводя меня в сторону, – будущую зиму я приеду из Стокгольма на три сезонных месяца. Вы позволите мне навестить вас в память Нины?.. Я бы так желала поговорить о ней… но теперь ваша рана еще не зажила и было бы безжалостно растравлять ее…
Я изумилась.
От Ирочки ли услышала я все это?
– Вы ее очень любили, mademoiselle Трахтенберг? – невольно вырвалось у меня.
– Да, я ее очень любила, – серьезно и прочувствованно ответила она, и тихая грусть разлилась по этому гордому аристократическому личику.
– Ах, тогда как я рада вам буду! – воскликнула я и детским порывом потянулась поцеловать моего недавнего злейшего врага…
Последние выпускные уехали, и институт сразу точно притих.
Понемногу стали разъезжаться и остальные классы. Я целые дни проводила в саду с книгой на коленях и глазами, устремленными в пространство, мечтала до утомления, до бреда.
Однажды в полдень, после завтрака, я одиноко гуляла по задней аллее, где так часто бывала с моей ненаглядной Ниной. Мои мысли были далеко, в беспредельном, голубом пространстве…
Вдруг в конце аллеи показалась невысокая, стройная фигура дамы в простом темном платье и небольшой шляпе.
«Верно, к начальнице…» – мелькнуло в моей голове, и, не глядя на незнакомку, я сделала реверанс, уступая ей дорогу.
Дама остановилась… Знакомое, близкое, дорогое, родное лицо мелькнуло из-под темной сетки вуали.
– Мама!!! – отчаянно, дико крикнула я на весь сад и упала к ней на грудь.
Мы обе зарыдали неудержимыми, счастливыми рыданиями, целуя и прижимая друг друга к сердцу, плача и смеясь.
– Ах! Как я счастлива, что опять вижу тебя, Людочка, моя дорогая Людочка!.. Покажи-ка, изменилась ли ты… Я уже думала, что никогда тебя не увижу… – всхлипывая, шептала мама и опять целовала и ласкала меня.
Я взглянула на нее: почти год разлуки со мною не прошел ей даром. Ее худенькое, миниатюрное личико было по-прежнему трогательно-моложаво. Только новая морщинка легла между бровями да две горькие складки оттянули углы ее милого рта. Небольшая пышная прядь волос спереди засеребрилась ранней сединою…
– Как ты выросла, Люда, моя рыбка, моя золотая, да и какая же ты бледненькая стала! И кудрей моих нету!.. – говорила мама, оглядывая меня всю широким любящим взглядом, одним из тех, которые не поддаются описанию.
Мы обнялись крепко-крепко и пошли вдоль аллеи.
– Мамочка, а как же Вася? Ты решилась оставить его одного? – спросила я, сладко замирая от прилива нежности.
Она в ответ только счастливо улыбнулась:
– Он здесь.
– Кто? Вася?
– Ну конечно, здесь, приехал со мною за сестренкой. Он идет сюда с твоими подругами… Я нарочно не взяла его с собою, чтобы не нарушить бурной радости нашего первого свиданья… Да вот и он!
Действительно, это был он, мой пятилетний братишка, миниатюрный, как девочка, с отросшими за зиму новыми кудрями, делавшими его похожим на херувима. В один миг я бросилась вперед, схватила его на руки, так, что щегольские желтые сапожки замелькали в воздухе да белая матроска далеко отлетела с головы…
– Милый мой, хороший мой! – повторяла я как безумная, – узнал, узнал Люду?
– Узнал? Конечно, узнал! – важно сказал мальчик. – Ты такая зе, только стлизеная.
Новые поцелуи, смех, шутки окруживших его институток…
Я была как в чаду, пока сбрасывала «казенную» форму и одевалась в мое «собственное платье», из которого я немного выросла. Сейчас же после этого мы отправились с мамой за разными покупками, потом обедали с мамой и Васей в небольшом нумере гостиницы… Опомнилась я только к ночи, когда, уложив Васю на пузатом диванчике, я и мама улеглись на широкую номерную постель.
Мы проболтали с ней до рассвета, прижавшись друг к другу.
На другой день, в 10-м часу утра, мы все трое были уже на кладбище, перед могилкою моего почившего друга. Мы опустились на колени перед зеленым холмиком, покрытым цветами. Мама проговорила со слезами на глазах:
– Мир праху твоему, незабвенная девочка! Спасибо тебе за мою Люду!
И она поклонилась до земли милой могилке.
Я повесила на белый мрамор креста голубой венок незабудок и тихо шепнула: «Прости, родная!» – удивляя брата, не спускавшего с меня наивных детских глазенок.
А птицы пели и заливались в этом мертвом, благоухающем цветами царстве…
Мы с мамой встали с колен, вытирая невольные слезы…
Мне не хотелось покидать дорогую могилу, но надо было торопиться. Вещи оставались неуложенными, а поезд уходил в три часа.
Я еще раз взглянула на белый крестик и, прижав к груди медальон, подаренный мне Ниной, мысленно поклялась вечно помнить и любить моего маленького друга…
Возвратившись в гостиницу, я быстро сложила мои книги и тетради. Среди последних была отдельно завернутая дорогая красная тетрадка, которую передала мне перед самою смертью Нина. Я все не решалась приняться за ее чтение. Мама уже знала из моего письма об этом подарке Нины.
– Приедем домой и вместе примемся за чтение записок твоей подруги, – сказала она.
Только что успели мы уложить все наши вещи, как слуга доложил, что меня желает видеть какой-то генерал. И я и мама – обе мы были ужасно удивлены.
– Просите, – сказала мама.
Спустя минуту в комнату вошел пожилой генерал с очень приветливым лицом.
– Я пришел по поручению моего племянника, генерала князя Джавахи, – начал он. – Князь Джаваха просил меня передать вам, милая девочка, его глубокую и сердечную благодарность за вашу привязанность к его незабвенной Нине. Она часто и много писала отцу про вашу дружбу… Князь во время своего пребывания в Петербурге был так расстроен смертью дочери, что не мог лично поблагодарить вас и поручил это сделать мне… Спасибо вам, милая девочка, сердечное спасибо…
Я не могла удержаться при этом напоминании о моей дорогой, незабвенной подруге и расплакалась.
Генерал нежно обнял меня и поцеловал.
Потом он разговорился с мамой, расспрашивал про наше житье-бытье, спросил о покойном папе.
– Как! – воскликнул генерал, когда мама сообщила ему о военной службе папы. – Значит, отец Люды тот самый Влассовский, который пал геройской смертью в последнюю войну! О, я его знал, хорошо знал!.. Это был душа-человек!.. Я счастлив, что познакомился с его женою и дочерью. Как жаль, что вы уже уезжаете и что я не могу пригласить вас к себе! Но надеюсь, вы осенью привезете вашу дочь обратно в институт?
– Разумеется, – ответила мама.
– Ну, так время еще не ушло! – воскликнул генерал. – Я ведь буду жить теперь в Петербурге. Когда ваша дочь вернется, я ее часто буду навещать в институте. Надеюсь, что и она будет бывать у нас, а в будущие каникулы, быть может, мы все вместе поедем на Кавказ посмотреть на места, где жила Нина… Пусть ваша дочь считает, что у нее теперь двумя родственниками больше: генералом Кашидзе, другом ее отца, и князем Джавахой, отцом ее безвременно умершей подруги…
Все это было сказано очень трогательно, искренно. На глазах старика генерала показались даже слезы. Взволнованный, он распростился с нами и обещал в это же лето побывать у нас на хуторе.
Часов через пять, шумя колесами и прорезывая оглушительным свистом весенний воздух, поезд мчал нас – маму, меня и Васю – в далекую, желанную, родимую Украину…
Александр Грин Алые паруса
Нине Николаевне Грин подносит и посвящает Автор
Пбг, 23 ноября 1922 г.
I. ПРЕДСКАЗАНИЕ
Лонгрен, матрос «Ориона», крепкого трехсоттонного брига, на котором он прослужил десять лет и к которому был привязан сильнее, чем иной сын к родной матери, должен был, наконец, покинуть службу.
Это произошло так. В одно из его редких возвращений домой, он не увидел, как всегда еще издали, на пороге дома свою жену Мери, всплескивающую руками, а затем бегущую навстречу до потери дыхания. Вместо нее, у детской кроватки – нового предмета в маленьком доме Лонгрена – стояла взволнованная соседка.
– Три месяца я ходила за нею, старик, – сказала она, – посмотри на свою дочь.
Мертвея, Лонгрен наклонился и увидел восьмимесячное существо, сосредоточенно взиравшее на его длинную бороду, затем сел, потупился и стал крутить ус. Ус был мокрый, как от дождя.
– Когда умерла Мери? – спросил он.
Женщина рассказала печальную историю, перебивая рассказ умильным гульканием девочке и уверениями, что Мери в раю. Когда Лонгрен узнал подробности, рай показался ему немного светлее дровяного сарая, и он подумал, что огонь простой лампы – будь теперь они все вместе, втроем – был бы для ушедшей в неведомую страну женщины незаменимой отрадой.
Месяца три назад хозяйственные дела молодой матери были совсем плохи. Из денег, оставленных Лонгреном, добрая половина ушла на лечение после трудных родов, на заботы о здоровье новорожденной; наконец, потеря небольшой, но необходимой для жизни суммы заставила Мери попросить в долг денег у Меннерса. Меннерс держал трактир, лавку и считался состоятельным человеком.
Мери пошла к нему в шесть часов вечера. Около семи рассказчица встретила ее на дороге к Лиссу. Заплаканная и расстроенная Мери сказала, что идет в город заложить обручальное кольцо. Она прибавила, что Меннерс соглашался дать денег, но требовал за это любви. Мери ничего не добилась.
– У нас в доме нет даже крошки съестного, – сказала она соседке. – Я схожу в город, и мы с девочкой перебьемся как-нибудь до возвращения мужа.
В этот вечер была холодная, ветреная погода; рассказчица напрасно уговаривала молодую женщину не ходить в Лисе к ночи. «Ты промокнешь, Мери, накрапывает дождь, а ветер, того и гляди, принесет ливень».
Взад и вперед от приморской деревни в город составляло не менее трех часов скорой ходьбы, но Мери не послушалась советов рассказчицы. «Довольно мне колоть вам глаза, – сказала она, – и так уж нет почти ни одной семьи, где я не взяла бы в долг хлеба, чаю или муки. Заложу колечко, и кончено». Она сходила, вернулась, а на другой день слегла в жару и бреду; непогода и вечерняя изморось сразила ее двухсторонним воспалением легких, как сказал городской врач, вызванный добросердной рассказчицей. Через неделю на двуспальной кровати Лонгрена осталось пустое место, а соседка переселилась в его дом нянчить и кормить девочку. Ей, одинокой вдове, это было не трудно. К тому же, – прибавила она, – без такого несмышленыша скучно.
Лонгрен поехал в город, взял расчет, простился с товарищами и стал растить маленькую Ассоль. Пока девочка не научилась твердо ходить, вдова жила у матроса, заменяя сиротке мать, но лишь только Ассоль перестала падать, занося ножку через порог, Лонгрен решительно объявил, что теперь он будет сам все делать для девочки, и, поблагодарив вдову за деятельное сочувствие, зажил одинокой жизнью вдовца, сосредоточив все помыслы, надежды, любовь и воспоминания на маленьком существе.
Десять лет скитальческой жизни оставили в его руках очень немного денег. Он стал работать. Скоро в городских магазинах появились его игрушки – искусно сделанные маленькие модели лодок, катеров, однопалубных и двухпалубных парусников, крейсеров, пароходов – словом, того, что он близко знал, что, в силу характера работы, отчасти заменяло ему грохот портовой жизни и живописный труд плаваний. Этим способом Лонгрен добывал столько, чтобы жить в рамках умеренной экономии. Малообщительный по натуре, он, после смерти жены, стал еще замкнутее и нелюдимее. По праздникам его иногда видели в трактире, но он никогда не присаживался, а торопливо выпивал за стойкой стакан водки и уходил, коротко бросая по сторонам «да», «нет», «здравствуйте», «прощай», «помаленьку» – на все обращения и кивки соседей. Гостей он не выносил, тихо спроваживая их не силой, но такими намеками и вымышленными обстоятельствами, что посетителю не оставалось ничего иного, как выдумать причину, не позволяющую сидеть дольше.
Сам он тоже не посещал никого; таким образом меж ним и земляками легло холодное отчуждение, и будь работа Лонгрена – игрушки – менее независима от дел деревни, ему пришлось бы ощутительнее испытать на себе последствия таких отношений. Товары и съестные припасы он закупал в городе – Меннерс не мог бы похвастаться даже коробкой спичек, купленной у него Лонгреном. Он делал также сам всю домашнюю работу и терпеливо проходил несвойственное мужчине сложное искусство ращения девочки.
Ассоль было уже пять лет, и отец начинал все мягче и мягче улыбаться, посматривая на ее нервное, доброе личико, когда, сидя у него на коленях, она трудилась над тайной застегнутого жилета или забавно напевала матросские песни – дикие ревостишия. В передаче детским голосом и не везде с буквой «р» эти песенки производили впечатление танцующего медведя, украшенного голубой ленточкой. В это время произошло событие, тень которого, павшая на отца, укрыла и дочь.
Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к холодной земле резкий береговой норд.
Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться промыслом в такую погоду. На единственной улице деревушки редко можно было увидеть человека, покинувшего дом; холодный вихрь, несшийся с береговых холмов в пустоту горизонта, делал «открытый воздух» суровой пыткой. Все трубы Каперны дымились с утра до вечера, трепля дым по крутым крышам.
Но эти дни норда выманивали Лонгрена из его маленького теплого дома чаще, чем солнце, забрасывающее в ясную погоду море и Каперну покрывалами воздушного золота. Лонгрен выходил на мостик, настланный по длинным рядам свай, где, на самом конце этого дощатого мола, подолгу курил раздуваемую ветром трубку, смотря, как обнаженное у берегов дно дымилось седой пеной, еле поспевающей за валами, грохочущий бег которых к черному, штормовому горизонту наполнял пространство стадами фантастических гривастых существ, несущихся в разнузданном свирепом отчаянии к далекому утешению. Стоны и шумы, завывающая пальба огромных взлетов воды и, казалось, видимая струя ветра, полосующего окрестность, – так силен был его ровный пробег, – давали измученной душе Лонгрена ту притупленность, оглушенность, которая, низводя горе к смутной печали, равна действием глубокому сну.
В один из таких дней двенадцатилетний сын Меннерса, Хин, заметив, что отцовская лодка бьется под мостками о сваи, ломая борта, пошел и сказал об этом отцу. Шторм начался недавно; Меннерс забыл вывести лодку на песок. Он немедленно отправился к воде, где увидел на конце мола, спиной к нему стоявшего, куря, Лонгрена. На берегу, кроме их двух, никого более не было. Меннерс прошел по мосткам до середины, спустился в бешено-плещущую воду и отвязал шкот; стоя в лодке, он стал пробираться к берегу, хватаясь руками за сваи. Весла он не взял, и в тот момент, когда, пошатнувшись, упустил схватиться за очередную сваю, сильный удар ветра швырнул нос лодки от мостков в сторону океана. Теперь даже всей длиной тела Меннерс не мог бы достичь самой ближайшей сваи. Ветер и волны, раскачивая, несли лодку в гибельный простор. Сознав положение, Меннерс хотел броситься в воду, чтобы плыть к берегу, но решение его запоздало, так как лодка вертелась уже недалеко от конца мола, где значительная глубина воды и ярость валов обещали верную смерть. Меж Лонгреном и Меннерсом, увлекаемым в штормовую даль, было не больше десяти сажен еще спасительного расстояния, так как на мостках под рукой у Лонгрена висел сверток каната с вплетенным в один его конец грузом. Канат этот висел на случай причала в бурную погоду и бросался с мостков.
– Лонгрен! – закричал смертельно перепуганный Меннерс. – Что же ты стал, как пень? Видишь, меня уносит; брось причал!
Лонгрен молчал, спокойно смотря на метавшегося в лодке Меннерса, только его трубка задымила сильнее, и он, помедлив, вынул ее из рта, чтобы лучше видеть происходящее.
– Лонгрен! – взывал Меннерс. – Ты ведь слышишь меня, я погибаю, спаси!
Но Лонгрен не сказал ему ни одного слова; казалось, он не слышал отчаянного вопля. Пока не отнесло лодку так далеко, что еле долетали слова-крики Меннерса, он не переступил даже с ноги на ногу. Меннерс рыдал от ужаса, заклинал матроса бежать к рыбакам, позвать помощь, обещал деньги, угрожал и сыпал проклятиями, но Лонгрен только подошел ближе к самому краю мола, чтобы не сразу потерять из вида метания и скачки лодки. «Лонгрен, – донеслось к нему глухо, как с крыши – сидящему внутри дома, – спаси!» Тогда, набрав воздуха и глубоко вздохнув, чтобы не потерялось в ветре ни одного слова, Лонгрен крикнул: – Она так же просила тебя! Думай об этом, пока еще жив, Меннерс, и не забудь!
Тогда крики умолкли, и Лонгрен пошел домой. Ассоль, проснувшись, увидела, что отец сидит пред угасающей лампой в глубокой задумчивости. Услышав голос девочки, звавшей его, он подошел к ней, крепко поцеловал и прикрыл сбившимся одеялом.
– Спи, милая, – сказал он, – до утра еще далеко.
– Что ты делаешь?
– Черную игрушку я сделал, Ассоль, – спи!
На другой день только и разговоров было у жителей Каперны, что о пропавшем Меннерсе, а на шестой день привезли его самого, умирающего и злобного. Его рассказ быстро облетел окрестные деревушки. До вечера носило Меннерса; разбитый сотрясениями о борта и дно лодки, за время страшной борьбы с свирепостью волн, грозивших, не уставая, выбросить в море обезумевшего лавочника, он был подобран пароходом «Лукреция», шедшим в Кассет. Простуда и потрясение ужаса прикончили дни Меннерса. Он прожил немного менее сорока восьми часов, призывая на Лонгрена все бедствия, возможные на земле и в воображении. Рассказ Меннерса, как матрос следил за его гибелью, отказав в помощи, красноречивый тем более, что умирающий дышал с трудом и стонал, поразил жителей Каперны. Не говоря уже о том, что редкий из них способен был помнить оскорбление и более тяжкое, чем перенесенное Лонгреном, и горевать так сильно, как горевал он до конца жизни о Мери, – им было отвратительно, непонятно, поражало их, что Лонгрен молчал. Молча, до своих последних слов, посланных вдогонку Меннерсу, Лонгрен стоял; стоял неподвижно, строго и тихо, как судья, выказав глубокое презрение к Меннерсу – большее, чем ненависть, было в его молчании, и это все чувствовали. Если бы он кричал, выражая жестами или суетливостью злорадства, или еще чем иным свое торжество при виде отчаяния Меннерса, рыбаки поняли бы его, но он поступил иначе, чем поступали они – поступил внушительно, непонятно и этим поставил себя выше других, словом, сделал то, чего не прощают. Никто более не кланялся ему, не протягивал руки, не бросал узнающего, здоровающегося взгляда. Совершенно навсегда остался он в стороне от деревенских дел; мальчишки, завидев его, кричали вдогонку: «Лонгрен утопил Меннерса!». Он не обращал на это внимания. Так же, казалось, он не замечал и того, что в трактире или на берегу, среди лодок, рыбаки умолкали в его присутствии, отходя в сторону, как от зачумленного. Случай с Меннерсом закрепил ранее неполное отчуждение. Став полным, оно вызвало прочную взаимную ненависть, тень которой пала и на Ассоль.
Девочка росла без подруг. Два-три десятка детей ее возраста, живших в Каперне, пропитанной, как губка водой, грубым семейным началом, основой которого служил непоколебимый авторитет матери и отца, переимчивые, как все дети в мире, вычеркнули раз – навсегда маленькую Ассоль из сферы своего покровительства и внимания. Совершилось это, разумеется, постепенно, путем внушения и окриков взрослых приобрело характер страшного запрета, а затем, усиленное пересудами и кривотолками, разрослось в детских умах страхом к дому матроса.
К тому же замкнутый образ жизни Лонгрена освободил теперь истерический язык сплетни; про матроса говаривали, что он где-то кого-то убил, оттого, мол, его больше не берут служить на суда, а сам он мрачен и нелюдим, потому что «терзается угрызениями преступной совести». Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения; она перестала, наконец, оскорбляться, но все еще иногда спрашивала отца: – «Скажи, почему нас не любят?» – «Э, Ассоль, – говорил Лонгрен, – разве они умеют любить? Надо уметь любить, а этого-то они не могут». – «Как это – уметь?» – «А вот так!» Он брал девочку на руки и крепко целовал грустные глаза, жмурившиеся от нежного удовольствия.
Любимым развлечением Ассоль было по вечерам или в праздник, когда отец, отставив банки с клейстером, инструменты и неоконченную работу, садился, сняв передник, отдохнуть, с трубкой в зубах, – забраться к нему на колени и, вертясь в бережном кольце отцовской руки, трогать различные части игрушек, расспрашивая об их назначении. Так начиналась своеобразная фантастическая лекция о жизни и людях – лекция, в которой, благодаря прежнему образу жизни Лонгрена, случайностям, случаю вообще, – диковинным, поразительным и необыкновенным событиям отводилось главное место. Лонгрен, называя девочке имена снастей, парусов, предметов морского обихода, постепенно увлекался, переходя от объяснений к различным эпизодам, в которых играли роль то брашпиль, то рулевое колесо, то мачта или какой-нибудь тип лодки и т. п., а от отдельных иллюстраций этих переходил к широким картинам морских скитаний, вплетая суеверия в действительность, а действительность – в образы своей фантазии. Тут появлялась и тигровая кошка, вестница кораблекрушения, и говорящая летучая рыба, не послушаться приказаний которой значило сбиться с курса, и Летучий Голландец с неистовым своим экипажем; приметы, привидения, русалки, пираты – словом, все басни, коротающие досуг моряка в штиле или излюбленном кабаке. Рассказывал Лонгрен также о потерпевших крушение, об одичавших и разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем может быть слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. – «Ну, говори еще», – просила Ассоль, когда Лонгрен, задумавшись, умолкал, и засыпала на его груди с головой, полной чудесных снов.
Также служило ей большим, всегда материально существенным удовольствием появление приказчика городской игрушечной лавки, охотно покупавшей работу Лонгрена. Чтобы задобрить отца и выторговать лишнее, приказчик захватывал с собой для девочки пару яблок, сладкий пирожок, горсть орехов. Лонгрен обыкновенно просил настоящую стоимость из нелюбви к торгу, а приказчик сбавлял. – «Эх, вы, – говорил Лонгрен, – да я неделю сидел над этим ботом. – Бот был пятивершковый. – Посмотри, что за прочность, а осадка, а доброта? Бот этот пятнадцать человек выдержит в любую погоду». Кончалось тем, что тихая возня девочки, мурлыкавшей над своим яблоком, лишала Лонгрена стойкости и охоты спорить; он уступал, а приказчик, набив корзину превосходными, прочными игрушками, уходил, посмеиваясь в усы. Всю домовую работу Лонгрен исполнял сам: колол дрова, носил воду, топил печь, стряпал, стирал, гладил белье и, кроме всего этого, успевал работать для денег. Когда Ассоль исполнилось восемь лет, отец выучил ее читать и писать. Он стал изредка брать ее с собой в город, а затем посылать даже одну, если была надобность перехватить денег в магазине или снести товар. Это случалось не часто, хотя Лисе лежал всего в четырех верстах от Каперны, но дорога к нему шла лесом, а в лесу многое может напугать детей, помимо физической опасности, которую, правда, трудно встретить на таком близком расстоянии от города, но все-таки не мешает иметь в виду. Поэтому только в хорошие дни, утром, когда окружающая дорогу чаща полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности Ассоль не грозили фантомы воображения, Лонгрен отпускал ее в город.
Однажды, в середине такого путешествия к городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки; из них две-три оказались новинкой для нее: Лонгрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой; белое суденышко подняло алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лонгреном для оклейки пароходных кают – игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала для паруса, употребив что было – лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение. Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей, с переброшенным через него жердяным мостиком; ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного, размышляла Ассоль, – она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик, по течению ручья, девочка осторожно спустила на воду у самого берега пленившее ее судно; паруса тотчас сверкнули алым отражением в прозрачной воде: свет, пронизывая материю, лег дрожащим розовым излучением на белых камнях дна. – «Ты откуда приехал, капитан? – важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала: – Я приехал» приехал… приехал я из Китая. – А что ты привез? – Что привез, о том не скажу. – Ах, ты так, капитан! Ну, тогда я тебя посажу обратно в корзину». Только что капитан приготовился смиренно ответить, что он пошутил и что готов показать слона, как вдруг тихий отбег береговой струи повернул яхту носом к середине ручья, и, как настоящая, полным ходом покинув берег, она ровно поплыла вниз. Мгновенно изменился масштаб видимого: ручей казался девочке огромной рекой, а яхта – далеким, большим судном, к которому, едва не падая в воду, испуганная и оторопевшая, протягивала она руки. «Капитан испугался», – подумала она и побежала за уплывающей игрушкой, надеясь, что ее где-нибудь прибьет к берегу. Поспешно таща не тяжелую, но мешающую корзинку, Ассоль твердила: – «Ах, господи! Ведь случись же…» – Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала.
Ассоль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенной нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелось по сторонам; возле берега, где она суетилась, было довольно препятствий, занимавших внимание. Мшистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу; одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливаясь все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись, в более широких местах, осоковые и тростниковые заросли, Ассоль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов, но, обежав излучину течения, снова увидела их, степенно и неуклонно бегущих прочь. Раз она оглянулась, и лесная громада с ее пестротой, переходящей от дымных столбов света в листве к темным расселинам дремучего сумрака, глубоко поразила девочку. На мгновение оробев, она вспомнила вновь об игрушке и, несколько раз выпустив глубокое «ф-ф-у-уу», побежала изо всех сил.
В такой безуспешной и тревожной погоне прошло около часу, когда с удивлением, но и с облегчением Ассоль увидела, что деревья впереди свободно раздвинулись, пропустив синий разлив моря, облака и край желтого песчаного обрыва, на который она выбежала, почти падая от усталости. Здесь было устье ручья; разлившись нешироко и мелко, так что виднелась струящаяся голубизна камней, он пропадал в встречной морской волне. С невысокого, изрытого корнями обрыва Ассоль увидела, что у ручья, на плоском большом камне, спиной к ней, сидит человек, держа в руках сбежавшую яхту, и всесторонне рассматривает ее с любопытством слона, поймавшего бабочку. Отчасти успокоенная тем, что игрушка цела, Ассоль сползла по обрыву и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось.
Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком – выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вялопрозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.
– Теперь отдай мне, – несмело сказала девочка. – Ты уже поиграл. Ты как поймал ее?
Эгль поднял голову, уронив яхту, – так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой, жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза казались несколько старше лица; его неправильный мягкий овал был овеян того рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.
– Клянусь Гриммами, Эзопом и Андерсеном, – сказал Эгль, посматривая то на девочку, то на яхту. – Это что-то особенное. Слушай-ка ты, растение! Это твоя штука?
– Да, я за ней бежала по всему ручью; я думала, что умру. Она была тут?
– У самых моих ног. Кораблекрушение причиной того, что я, в качестве берегового пирата, могу вручить тебе этот приз. Яхта, покинутая экипажем, была выброшена на песок трехвершковым валом – между моей левой пяткой и оконечностью палки. – Он стукнул тростью. – Как зовут тебя, крошка?
– Ассоль, – сказала девочка, пряча в корзину поданную Эглем игрушку.
– Хорошо, – продолжал непонятную речь старик, не сводя глаз, в глубине которых поблескивала усмешка дружелюбного расположения духа. – Мне, собственно, не надо было спрашивать твое имя. Хорошо, что оно так странно, так однотонно, музыкально, как свист стрелы или шум морской раковины: что бы я стал делать, называйся ты одним из тех благозвучных, но нестерпимо привычных имен, которые чужды Прекрасной Неизвестности? Тем более я не желаю знать, кто ты, кто твои родители и как ты живешь. К чему нарушать очарование? Я занимался, сидя на этом камне, сравнительным изучением финских и японских сюжетов… как вдруг ручей выплеснул эту яхту, а затем появилась ты… Такая, как есть. Я, милая, поэт в душе – хоть никогда не сочинял сам. Что у тебя в корзинке?
– Лодочки, – сказала Ассоль, встряхивая корзинкой, – потом пароход да еще три таких домика с флагами. Там солдаты живут.
– Отлично. Тебя послали продать. По дороге ты занялась игрой. Ты пустила яхту поплавать, а она сбежала – ведь так?
– Ты разве видел? – с сомнением спросила Ассоль, стараясь вспомнить, не рассказала ли она это сама. – Тебе кто-то сказал? Или ты угадал?
– Я это знал. – А как же?
– Потому что я – самый главный волшебник. Ассоль смутилась: ее напряжение при этих словах Эгля переступило границу испуга. Пустынный морской берег, тишина, томительное приключение с яхтой, непонятная речь старика с сверкающими глазами, величественность его бороды и волос стали казаться девочке смешением сверхъестественного с действительностью. Сострой теперь Эгль гримасу или закричи что-нибудь – девочка помчалась бы прочь, заплакав и изнемогая от страха. Но Эгль, заметив, как широко раскрылись ее глаза, сделал крутой вольт.
– Тебе нечего бояться меня, – серьезно сказал он. – Напротив, мне хочется поговорить с тобой по душе. – Тут только он уяснил себе, что в лице девочки было так пристально отмечено его впечатлением. «Невольное ожидание прекрасного, блаженной судьбы, – решил он. – Ах, почему я не родился писателем? Какой славный сюжет».
– Ну-ка, – продолжал Эгль, стараясь закруглить оригинальное положение (склонность к мифотворчеству – следствие всегдашней работы – было сильнее, чем опасение бросить на неизвестную почву семена крупной мечты), – ну-ка, Ассоль, слушай меня внимательно. Я был в той деревне – откуда ты, должно быть, идешь, словом, в Каперне. Я люблю сказки и песни, и просидел я в деревне той целый день, стараясь услышать что-нибудь никем не слышанное. Но у вас не рассказывают сказок. У вас не поют песен. А если рассказывают и поют, то, знаешь, эти истории о хитрых мужиках и солдатах, с вечным восхвалением жульничества, эти грязные, как немытые ноги, грубые, как урчание в животе, коротенькие четверостишия с ужасным мотивом… Стой, я сбился. Я заговорю снова. Подумав, он продолжал так: – Не знаю, сколько пройдет лет, – только в Каперне расцветет одна сказка, памятная надолго. Ты будешь большой, Ассоль. Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус. Сияющая громада алых парусов белого корабля двинется, рассекая волны, прямо к тебе. Тихо будет плыть этот чудесный корабль, без криков и выстрелов; на берегу много соберется народу, удивляясь и ахая: и ты будешь стоять там Корабль подойдет величественно к самому берегу под звуки прекрасной музыки; нарядная, в коврах, в золоте и цветах, поплывет от него быстрая лодка. – «Зачем вы приехали? Кого вы ищете?» – спросят люди на берегу. Тогда ты увидишь храброго красивого принца; он будет стоять и протягивать к тебе руки. – «Здравствуй, Ассоль! – скажет он. – Далеко-далеко отсюда я увидел тебя во сне и приехал, чтобы увезти тебя навсегда в свое царство. Ты будешь там жить со мной в розовой глубокой долине. У тебя будет все, чего только ты пожелаешь; жить с тобой мы станем так дружно и весело, что никогда твоя душа не узнает слез и печали». Он посадит тебя в лодку, привезет на корабль, и ты уедешь навсегда в блистательную страну, где всходит солнце и где звезды спустятся с неба, чтобы поздравить тебя с приездом.
– Это все мне? – тихо спросила девочка. Ее серьезные глаза, повеселев, просияли доверием. Опасный волшебник, разумеется, не стал бы говорить так; она подошла ближе. – Может быть, он уже пришел… тот корабль?
– Не так скоро, – возразил Эгль, – сначала, как я сказал, ты вырастешь. Потом… Что говорить? – это будет, и кончено. Что бы ты тогда сделала?
– Я? – Она посмотрела в корзину, но, видимо, не нашла там ничего достойного служить веским вознаграждением. – Я бы его любила, – поспешно сказала она, и не совсем твердо прибавила: – если он не дерется.
– Нет, не будет драться, – сказал волшебник, таинственно подмигнув, – не будет, я ручаюсь за это. Иди, девочка, и не забудь того, что сказал тебе я меж двумя глотками ароматической водки и размышлением о песнях каторжников. Иди. Да будет мир пушистой твоей голове!
Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым лицом.
– Ну, вот … – сказала она, силясь овладеть дыханием, и ухватилась обеими руками за передник отца. – Слушай, что я тебе расскажу… На берегу, там, далеко, сидит волшебник… Она начала с волшебника и его интересного предсказания. Горячка мыслей мешала ей плавно передать происшествие. Далее шло описание наружности волшебника и – в обратном порядке – погоня за упущенной яхтой.
Лонгрен выслушал девочку, не перебивая, без улыбки, и, когда она кончила, воображение быстро нарисовало ему неизвестного старика с ароматической водкой в одной руке и игрушкой в другой. Он отвернулся, но, вспомнив, что в великих случаях детской жизни подобает быть человеку серьезным и удивленным, торжественно закивал головой, приговаривая: – Так, так; по всем приметам, некому иначе и быть, как волшебнику. Хотел бы я на него посмотреть… Но ты, когда пойдешь снова, не сворачивай в сторону; заблудиться в лесу нетрудно.
Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени. Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара, волнение и слабость клонили ее в сон. Глаза ее слипались, голова опустилась на твердое отцовское плечо, мгновение – и она унеслась бы в страну сновидений, как вдруг, обеспокоенная внезапным сомнением, Ассоль села прямо, с закрытыми глазами и, упираясь кулачками в жилет Лонгрена, громко сказала: – Ты как думаешь, придет волшебниковый корабль за мной или нет?
– Придет, – спокойно ответил матрос, – раз тебе это сказали, значит все верно.
«Вырастет, забудет, – подумал он, – а пока… не стоит отнимать у тебя такую игрушку. Много ведь придется в будущем увидеть тебе не алых, а грязных и хищных парусов: издали – нарядных и белых, вблизи – рваных и наглых. Проезжий человек пошутил с моей девочкой. Что ж?! Добрая шутка! Ничего – шутка! Смотри, как сморило тебя, – полдня в лесу, в чаще. А насчет алых парусов думай, как я: будут тебе алые паруса».
Ассоль спала. Лонгрен, достав свободной рукой трубку, закурил, и ветер пронес дым сквозь плетень, в куст, росший с внешней стороны огорода. У куста, спиной к забору, прожевывая пирог, сидел молодой нищий. Разговор отца с дочерью привел его в веселое настроение, а запах хорошего табаку настроил добычливо. – Дай, хозяин, покурить бедному человеку, – сказал он сквозь прутья. – Мой табак против твоего не табак, а, можно сказать, отрава.
– Я бы дал, – вполголоса ответил Лонгрен, – но табак у меня в том кармане. Мне, видишь, не хочется будить дочку.
– Вот беда! Проснется, опять уснет, а прохожий человек взял да и покурил.
– Ну, – возразил Лонгрен, – ты не без табаку все-таки, а ребенок устал. Зайди, если хочешь, попозже.
Нищий презрительно сплюнул, вздел на палку мешок и разъяснил: – Принцесса, ясное дело. Вбил ты ей в голову эти заморские корабли! Эх ты, чудак-чудаковский, а еще хозяин!
– Слушай-ка, – шепнул Лонгрен, – я, пожалуй, разбужу ее, но только затем, чтобы намылить твою здоровенную шею. Пошел вон!
Через полчаса нищий сидел в трактире за столом с дюжиной рыбаков. Сзади их, то дергая мужей за рукав, то снимая через их плечо стакан с водкой, – для себя, разумеется, – сидели рослые женщины с гнутыми бровями и руками круглыми, как булыжник. Нищий, вскипая обидой, повествовал: – И не дал мне табаку. – «Тебе, – говорит, – исполнится совершеннолетний год, а тогда, – говорит, – специальный красный корабль … За тобой. Так как твоя участь выйти за принца. И тому, – говорит, – волшебнику – верь». Но я говорю: – «Буди, буди, мол, табаку-то достать». Так ведь он за мной полдороги бежал.
– Кто? Что? О чем толкует? – слышались любопытные голоса женщин. Рыбаки, еле поворачивая головы, растолковывали с усмешкой: – Лонгрен с дочерью одичали, а может, повредились в рассудке; вот человек рассказывает. Колдун был у них, так понимать надо. Они ждут – тетки, вам бы не прозевать! – заморского принца, да еще под красными парусами!
Через три дня, возвращаясь из городской лавки, Ассоль услышала в первый раз: – Эй, висельница! Ассоль! Посмотри-ка сюда! Красные паруса плывут!
Девочка, вздрогнув, невольно взглянула из-под руки на разлив моря. Затем обернулась в сторону восклицаний; там, в двадцати шагах от нее, стояла кучка ребят; они гримасничали, высовывая языки. Вздохнув, девочка побежала домой.
II. ГРЭЙ
Если Цезарь находил, что лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме, то Артур Грэй мог не завидовать Цезарю в отношении его мудрого желания. Он родился капитаном, хотел быть им и стал им.
Огромный дом, в котором родился Грэй, был мрачен внутри и величественен снаружи. К переднему фасаду примыкали цветник и часть парка. Лучшие сорта тюльпанов – серебристо-голубых, фиолетовых и черных с розовой тенью – извивались в газоне линиями прихотливо брошенных ожерелий. Старые деревья парка дремали в рассеянном полусвете над осокой извилистого ручья. Ограда замка, так как это был настоящий замок, состояла из витых чугунных столбов, соединенных железным узором. Каждый столб оканчивался наверху пышной чугунной лилией; эти чаши по торжественным дням наполнялись маслом, пылая в ночном мраке обширным огненным строем.
Отец и мать Грэя были надменные невольники своего положения, богатства и законов того общества, по отношению к которому могли говорить «мы». Часть их души, занятая галереей предков, мало достойна изображения, другая часть – воображаемое продолжение галереи – начиналась маленьким Грэем, обреченным по известному, заранее составленному плану прожить жизнь и умереть так, чтобы его портрет мог быть повешен на стене без ущерба фамильной чести. В этом плане была допущена небольшая ошибка: Артур Грэй родился с живой душой, совершенно не склонной продолжать линию фамильного начертания.
Эта живость, эта совершенная извращенность мальчика начала сказываться на восьмом году его жизни; тип рыцаря причудливых впечатлений, искателя и чудотворца, т. е. человека, взявшего из бесчисленного разнообразия ролей жизни самую опасную и трогательную – роль провидения, намечался в Грэе еще тогда, когда, приставив к стене стул, чтобы достать картину, изображавшую распятие, он вынул гвозди из окровавленных рук Христа, т. е. попросту замазал их голубой краской, похищенной у маляра. В таком виде он находил картину более сносной. Увлеченный своеобразным занятием, он начал уже замазывать и ноги распятого, но был застигнут отцом. Старик снял мальчика со стула за уши и спросил: – Зачем ты испортил картину?
– Я не испортил.
– Это работа знаменитого художника.
– Мне все равно, – сказал Грэй. – Я не могу допустить, чтобы при мне торчали из рук гвозди и текла кровь. Я этого не хочу.
В ответе сына Лионель Грэй, скрыв под усами улыбку, узнал себя и не наложил наказания.
Грэй неутомимо изучал замок, делая поразительные открытия. Так, на чердаке он нашел стальной рыцарский хлам, книги, переплетенные в железо и кожу, истлевшие одежды и полчища голубей. В погребе, где хранилось вино, он получил интересные сведения относительно лафита, мадеры, хереса. Здесь, в мутном свете остроконечных окон, придавленных косыми треугольниками каменных сводов, стояли маленькие и большие бочки; самая большая, в форме плоского круга, занимала всю поперечную стену погреба, столетний темный дуб бочки лоснился как отшлифованный. Среди бочонков стояли в плетеных корзинках пузатые бутыли зеленого и синего стекла. На камнях и на земляном полу росли серые грибы с тонкими ножками: везде – плесень, мох, сырость, кислый, удушливый запах. Огромная паутина золотилась в дальнем углу, когда, под вечер, солнце высматривало ее последним лучом. В одном месте было зарыто две бочки лучшего Аликанте, какое существовало во время Кромвеля, и погребщик, указывая Грэю на пустой угол, не упускал случая повторить историю знаменитой могилы, в которой лежал мертвец, более живой, чем стая фокстерьеров. Начиная рассказ, рассказчик не забывал попробовать, действует ли кран большой бочки, и отходил от него, видимо, с облегченным сердцем, так как невольные слезы чересчур креп кой радости блестели в его повеселевших глазах.
– Ну вот что, – говорил Польдишок Грэю, усаживаясь на пустой ящик и набивая острый нос табаком, – видишь ты это место? Там лежит такое вино, за которое не один пьяница дал бы согласие вырезать себе язык, если бы ему позволили хватить небольшой стаканчик. В каждой бочке сто литров вещества, взрывающего душу и превращающего тело в неподвижное тесто. Его цвет темнее вишни, и оно не потечет из бутылки. Оно густо, как хорошие сливки. Оно заключено в бочки черного дерева, крепкого, как железо. На них двойные обручи красной меди. На обручах латинская надпись: «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю». Эта надпись толковалась так пространно и разноречиво, что твой прадедушка, высокородный Симеон Грэй, построил дачу, назвал ее «Рай», и думал таким образом согласить загадочное изречение с действительностью путем невинного остроумия. Но что ты думаешь? Он умер, как только начали сбивать обручи, от разрыва сердца, – так волновался лакомый старичок. С тех пор бочку эту не трогают. Возникло убеждение, что драгоценное вино принесет несчастье. В самом деле, такой загадки не задавал египетский сфинкс. Правда, он спросил одного мудреца: – «Съем ли я тебя, как съедаю всех? Скажи правду, останешься жив», но и то, по зрелом размышлении…
– Кажется, опять каплет из крана, – перебивал сам себя Польдишок, косвенными шагами устремляясь в угол, где, укрепив кран, возвращался с открытым, светлым лицом. – Да. Хорошо рассудив, а главное, не торопясь, мудрец мог бы сказать сфинксу: «Пойдем, братец, выпьем, и ты забудешь об этих глупостях». «Меня выпьет Грэй, когда будет в раю!» Как понять? Выпьет, когда умрет, что ли? Странно. Следовательно, он святой, следовательно, он не пьет ни вина, ни простой водки. Допустим, что «рай» означает счастье. Но раз так поставлен вопрос, всякое счастье утратит половину своих блестящих перышек, когда счастливец искренно спросит себя: рай ли оно? Вот то-то и штука. Чтобы с легким сердцем напиться из такой бочки и смеяться, мой мальчик, хорошо смеяться, нужно одной ногой стоять на земле, другой – на небе. Есть еще третье предположение: что когда-нибудь Грэй допьется до блаженно-райского состояния и дерзко опустошит бочечку. Но это, мальчик, было бы не исполнение предсказания, а трактирный дебош.
Убедившись еще раз в исправном состоянии крана большой бочки, Польдишок сосредоточенно и мрачно заканчивал: – Эти бочки привез в 1793 году твой предок, Джон Грэй, из Лиссабона, на корабле «Бигль»; за вино было уплачено две тысячи золотых пиастров. Надпись на бочках сделана оружейным мастером Вениамином Эльяном из Пондишери. Бочки погружены в грунт на шесть футов и засыпаны золой из виноградных стеблей. Этого вина никто не пил, не пробовал и не будет пробовать.
– Я выпью его, – сказал однажды Грэй, топнув ногой.
– Вот храбрый молодой человек! – заметил Польдишок. – Ты выпьешь его в раю?
– Конечно. Вот рай!.. Он у меня, видишь? – Грэй тихо засмеялся, раскрыв свою маленькую руку. Нежная, но твердых очертаний ладонь озарилась солнцем, и мальчик сжал пальцы в кулак. – Вот он, здесь!.. То тут, то опять нет…
Говоря это, он то раскрывал, то сжимал руку и наконец, довольный своей шуткой, выбежал, опередив Польдишока, по мрачной лестнице в коридор нижнего этажа.
Посещение кухни было строго воспрещено Грэю, но, раз открыв уже этот удивительный, полыхающий огнем очагов мир пара, копоти, шипения, клокотания кипящих жидкостей, стука ножей и вкусных запахов, мальчик усердно навещал огромное помещение. В суровом молчании, как жрецы, двигались повара; их белые колпаки на фоне почерневших стен придавали работе характер торжественного служения; веселые, толстые судомойки у бочек с водой мыли посуду, звеня фарфором и серебром; мальчики, сгибаясь под тяжестью, вносили корзины, полные рыб, устриц, раков и фруктов. Там на длинном столе лежали радужные фазаны, серые утки, пестрые куры: там свиная туша с коротеньким хвостом и младенчески закрытыми глазами; там – репа, капуста, орехи, синий изюм, загорелые персики.
На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси (так звали служанку), плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепутанному лицу.
Грэй замер. В то время, как другие женщины хлопотали около Бетси, он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.
– Очень ли тебе больно? – спросил он.
– Попробуй, так узнаешь, – ответила Бетси, накрывая руку передником.
Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи (сказать кстати, это был суп с бараниной) и плеснул на сгиб кисти. Впечатление оказалось не слабым, но слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.
– Мне кажется, что тебе очень больно, – сказал он, умалчивая о своем опыте. – Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!
Он усердно тянул ее за юбку, в то время как сторонники домашних средств наперерыв давали служанке спасительные рецепты. Но девушка, сильно мучаясь, пошла с Грэем. Врач смягчил боль, наложив перевязку. Лишь после того, как Бетси ушла, мальчик показал свою руку. Этот незначительный эпизод сделал двадцатилетнюю Бетси и десятилетнего Грэя истинными друзьями. Она набивала его карманы пирожками и яблоками, а он рассказывал ей сказки и другое истории, вычитанные в своих книжках. Однажды он узнал, что Бетси не может выйти замуж за конюха Джима, ибо у них нет денег обзавестись хозяйством. Грэй разбил каминными щипцами свою фарфоровую копилку и вытряхнул оттуда все, что составляло около ста фунтов. Встав рано. когда бесприданница удалилась на кухню, он пробрался в ее комнату и, засунув подарок в сундук девушки, прикрыл его короткой запиской: «Бетси, это твое. Предводитель шайки разбойников Робин Гуд». Переполох, вызванный на кухне этой историей, принял такие размеры, что Грэй должен был сознаться в подлоге. Он не взял денег назад и не хотел более говорить об этом.
Его мать была одною из тех натур, которые жизнь отливает в готовой форме. Она жила в полусне обеспеченности, предусматривающей всякое желание заурядной души, поэтому ей не оставалось ничего делать, как советоваться с портнихами, доктором и дворецким. Но страстная, почти религиозная привязанность к своему странному ребенку была, надо полагать, единственным клапаном тех ее склонностей, захлороформированных воспитанием и судьбой, которые уже не живут, но смутно бродят, оставляя волю бездейственной. Знатная дама напоминала паву, высидевшую яйцо лебедя. Она болезненно чувствовала прекрасную обособленность сына; грусть, любовь и стеснение наполняли ее, когда она прижимала мальчика к груди, где сердце говорило другое, чем язык, привычно отражающий условные формы отношений и помышлений. Так облачный эффект, причудливо построенный солнечными лучами, проникает в симметрическую обстановку казенного здания, лишая ее банальных достоинств; глаз видит и не узнает помещения: таинственные оттенки света среди убожества творят ослепительную гармонию.
Знатная дама, чье лицо и фигура, казалось, могли отвечать лишь ледяным молчанием огненным голосам жизни, чья тонкая красота скорее отталкивала, чем привлекала, так как в ней чувствовалось надменное усилие воли, лишенное женственного притяжения, – эта Лилиан Грэй, оставаясь наедине с мальчиком, делалась простой мамой, говорившей любящим, кротким тоном те самые сердечные пустяки, какие не передашь на бумаге – их сила в чувстве, не в самих них. Она решительно не могла в чем бы то ни было отказать сыну. Она прощала ему все: пребывание в кухне, отвращение к урокам, непослушание и многочисленные причуды.
Если он не хотел, чтобы подстригали деревья, деревья оставались нетронутыми, если он просил простить или наградить кого-либо, заинтересованное лицо знало, что так и будет; он мог ездить на любой лошади, брать в замок любую собаку; рыться в библиотеке, бегать босиком и есть, что ему вздумается.
Его отец некоторое время боролся с этим, но уступил – не принципу, а желанию жены. Он ограничился удалением из замка всех детей служащих, опасаясь, что благодаря низкому обществу прихоти мальчика превратятся в склонности, трудно-искоренимые. В общем, он был всепоглощенно занят бесчисленными фамильными процессами, начало которых терялось в эпохе возникновения бумажных фабрик, а конец – в смерти всех кляузников. Кроме того, государственные дела, дела поместий, диктант мемуаров, выезды парадных охот, чтение газет и сложная переписка держали его в некотором внутреннем отдалении от семьи; сына он видел так редко, что иногда забывал, сколько ему лет.
Таким образом, Грэй жил в своем мире. Он играл один – обыкновенно на задних дворах замка, имевших в старину боевое значение. Эти обширные пустыри, с остатками высоких рвов, с заросшими мхом каменными погребами, были полны бурьяна, крапивы, репейника, терна и скромнопестрых диких цветов. Грэй часами оставался здесь, исследуя норы кротов, сражаясь с бурьяном, подстерегая бабочек и строя из кирпичного лома крепости, которые бомбардировал палками и булыжником.
Ему шел уже двенадцатый год, когда все намеки его души, все разрозненные черты духа и оттенки тайных порывов соединились в одном сильном моменте и тем получив стройное выражение стали неукротимым желанием. До этого он как бы находил лишь отдельные части своего сада – просвет, тень, цветок, дремучий и пышный ствол – во множестве садов иных, и вдруг увидел их ясно, все – в прекрасном, поражающем соответствии.
Это случилось в библиотеке. Ее высокая дверь с мутным стеклом вверху была обыкновенно заперта, но защелка замка слабо держалась в гнезде створок; надавленная рукой, дверь отходила, натуживалась и раскрывалась. Когда дух исследования заставил Грэя проникнуть в библиотеку, его поразил пыльный свет, вся сила и особенность которого заключалась в цветном узоре верхней части оконных стекол. Тишина покинутости стояла здесь, как прудовая вода. Темные ряды книжных шкапов местами примыкали к окнам, заслонив их наполовину, между шкапов были проходы, заваленные грудами книг. Там – раскрытый альбом с выскользнувшими внутренними листами, там – свитки, перевязанные золотым шнуром; стопы книг угрюмого вида; толстые пласты рукописей, насыпь миниатюрных томиков, трещавших, как кора, если их раскрывали; здесь – чертежи и таблицы, ряды новых изданий, карты; разнообразие переплетов, грубых, нежных, черных, пестрых, синих, серых, толстых, тонких, шершавых и гладких. Шкапы были плотно набиты книгами. Они казались стенами, заключившими жизнь в самой толще своей. В отражениях шкапных стекол виднелись другие шкапы, покрытые бесцветно блестящими пятнами. Огромный глобус, заключенный в медный сферический крест экватора и меридиана, стоял на круглом столе.
Обернувшись к выходу, Грэй увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль, вздымающийся на гребень морского вала. Струи пены стекали по его склону. Он был изображен в последнем моменте взлета. Корабль шел прямо на зрителя. Высоко поднявшийся бугшприт заслонял основание мачт. Гребень вала, распластанный корабельным килем, напоминал крылья гигантской птицы. Пена неслась в воздух. Паруса, туманно видимые из-за бакборта и выше бугшприта, полные неистовой силы шторма, валились всей громадой назад, чтобы, перейдя вал, выпрямиться, а затем, склоняясь над бездной, мчать судно к новым лавинам. Разорванные облака низко трепетали над океаном. Тусклый свет обреченно боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной к зрителю. Она выражала все положение, даже характер момента. Поза человека (он расставил ноги, взмахнув руками) ничего собственно не говорила о том, чем он занят, но заставляла предполагать крайнюю напряженность внимания, обращенного к чему-то на палубе, невидимой зрителю. Завернутые полы его кафтана трепались ветром; белая коса и черная шпага вытянуто рвались в воздух; богатство костюма выказывало в нем капитана, танцующее положение тела – взмах вала; без шляпы, он был, видимо, поглощен опасным моментом и кричал – но что? Видел ли он, как валится за борт человек, приказывал ли повернуть на другой галс или, заглушая ветер, звал боцмана? Не мысли, но тени этих мыслей выросли в душе Грэя, пока он смотрел картину. Вдруг показалось ему, что слева подошел, став рядом, неизвестный невидимый; стоило повернуть голову, как причудливое ощущение исчезло бы без следа. Грэй знал это. Но он не погасил воображения, а прислушался. Беззвучный голос выкрикнул несколько отрывистых фраз, непонятных, как малайский язык; раздался шум как бы долгих обвалов; эхо и мрачный ветер наполнили библиотеку. Все это Грэй слышал внутри себя. Он осмотрелся: мгновенно вставшая тишина рассеяла звучную паутину фантазии; связь с бурей исчезла.
Грэй несколько раз приходил смотреть эту картину. Она стала для него тем нужным словом в беседе души с жизнью, без которого трудно понять себя. В маленьком мальчике постепенно укладывалось огромное море. Он сжился с ним, роясь в библиотеке, выискивая и жадно читая те книги, за золотой дверью которых открывалось синее сияние океана. Там, сея за кормой пену, двигались корабли. Часть их теряла паруса, мачты и, захлебываясь волной, опускалась в тьму пучин, где мелькают фосфорические глаза рыб. Другие, схваченные бурунами, бились о рифы; утихающее волнение грозно шатало корпус; обезлюдевший корабль с порванными снастями переживал долгую агонию, пока новый шторм не разносил его в щепки. Третьи благополучно грузились в одном порту и выгружались в другом; экипаж, сидя за трактирным столом, воспевал плавание и любовно пил водку. Были там еще корабли-пираты, с черным флагом и страшной, размахивающей ножами командой; корабли-призраки, сияющие мертвенным светом синего озарения; военные корабли с солдатами, пушками и музыкой; корабли научных экспедиций, высматривающие вулканы, растения и животных; корабли с мрачной тайной и бунтами; корабли открытий и корабли приключений.
В этом мире, естественно, возвышалась над всем фигура капитана. Он был судьбой, душой и разумом корабля. Его характер определял досуга и работу команды. Сама команда подбиралась им лично и во многом отвечала его наклонностям. Он знал привычки и семейные дела каждого человека. Он обладал в глазах подчиненных магическим знанием, благодаря которому уверенно шел, скажем, из Лиссабона в Шанхай, по необозримым пространствам. Он отражал бурю противодействием системы сложных усилий, убивая панику короткими приказаниями; плавал и останавливался, где хотел; распоряжался отплытием и нагрузкой, ремонтом и отдыхом; большую и разумнейшую власть в живом деле, полном непрерывного движения, трудно было представить. Эта власть замкнутостью и полнотой равнялась власти Орфея.
Такое представление о капитане, такой образ и такая истинная действительность его положения заняли, по праву душевных событий, главное место в блистающем сознании Грэя. Никакая профессия, кроме этой, не могла бы так удачно сплавить в одно целое все сокровища жизни, сохранив неприкосновенным тончайший узор каждого отдельного счастья. Опасность, риск, власть природы, свет далекой страны, чудесная неизвестность, мелькающая любовь, цветущая свиданием и разлукой; увлекательное кипение встреч, лиц, событий; безмерное разнообразие жизни, между тем как высоко в небе то Южный Крест, то Медведица, и все материки – в зорких глазах, хотя твоя каюта полна непокидающей родины с ее книгами, картинами, письмами и сухими цветами, обвитыми шелковистым локоном в замшевой ладанке на твердой груди. Осенью, на пятнадцатом году жизни, Артур Грэй тайно покинул дом и проник за золотые ворота моря. Вскорости из порта Дубельт вышла в Марсель шхуна «Ансельм», увозя юнгу с маленькими руками и внешностью переодетой девочки. Этот юнга был Грэй, обладатель изящного саквояжа, тонких, как перчатка, лакированных сапожков и батистового белья с вытканными коронами.
В течение года, пока «Ансельм» посещал Францию, Америку и Испанию, Грэй промотал часть своего имущества на пирожном, отдавая этим дань прошлому, а остальную часть – для настоящего и будущего – проиграл в карты. Он хотел быть «дьявольским» моряком. Он, задыхаясь, пил водку, а на купаньи, с замирающим сердцем, прыгал в воду головой вниз с двухсаженной высоты. По-немногу он потерял все, кроме главного – своей странной летящей души; он потерял слабость, став широк костью и крепок мускулами, бледность заменил темным загаром, изысканную беспечность движений отдал за уверенную меткость работающей руки, а в его думающих глазах отразился блеск, как у человека, смотрящего на огонь. И его речь, утратив неравномерную, надменно застенчивую текучесть, стала краткой и точной, как удар чайки в струю за трепетным серебром рыб.
Капитан «Ансельма» был добрый человек, но суровый моряк, взявший мальчика из некоего злорадства. В отчаянном желании Грэя он видел лишь эксцентрическую прихоть и заранее торжествовал, представляя, как месяца через два Грэй скажет ему, избегая смотреть в глаза: – «Капитан Гоп, я ободрал локти, ползая по снастям; у меня болят бока и спина, пальцы не разгибаются, голова трещит, а ноги трясутся. Все эти мокрые канаты в два пуда на весу рук; все эти леера, ванты, брашпили, тросы, стеньги и саллинги созданы на мучение моему нежному телу. Я хочу к маме». Выслушав мысленно такое заявление, капитан Гоп держал, мысленно же, следующую речь: – «Отправляйтесь куда хотите, мой птенчик. Если к вашим чувствительным крылышкам пристала смола, вы можете отмыть ее дома одеколоном «Роза-Мимоза». Этот выдуманный Гопом одеколон более всего радовал капитана и, закончив воображенную отповедь, он вслух повторял: – Да. Ступайте к «Розе-Мимозе».
Между тем внушительный диалог приходил на ум капитану все реже и реже, так как Грэй шел к цели с стиснутыми зубами и побледневшим лицом. Он выносил беспокойный труд с решительным напряжением воли, чувствуя, что ему становится все легче и легче по мере того, как суровый корабль вламывался в его организм, а неумение заменялось привычкой. Случалось, что петлей якорной цепи его сшибало с ног, ударяя о палубу, что непридержанный у кнека канат вырывался из рук, сдирая с ладоней кожу, что ветер бил его по лицу мокрым углом паруса с вшитым в него железным кольцом, и, короче сказать, вся работа являлась пыткой, требующей пристального внимания, но, как ни тяжело он дышал, с трудом разгибая спину, улыбка презрения не оставляла его лица. Он молча сносил насмешки, издевательства и неизбежную брань, до тех пор пока не стал в новой сфере «своим», но с этого времени неизменно отвечал боксом на всякое оскорбление.
Однажды капитан Гоп, увидев, как он мастерски вяжет на рею парус, сказал себе: «Победа на твоей стороне, плут». Когда Грэй спустился на палубу, Гоп вызвал его в каюту и, раскрыв истрепанную книгу, сказал: – Слушай внимательно! Брось курить! Начинается отделка щенка под капитана.
И он стал читать – вернее, говорить и кричать – по книге древние слова моря. Это был первый урок Грэя. В течение года он познакомился с навигацией, практикой, кораблестроением, морским правом, лоцией и бухгалтерией. Капитан Гоп подавал ему руку и говорил: «Мы».
В Ванкувере Грэя поймало письмо матери, полное слез и страха. Он ответил: «Я знаю. Но если бы ты видела, как я; посмотри моими глазами. Если бы ты слышала, как я: приложи к уху раковину: в ней шум вечной волны; если бы ты любила, как я – вс», в твоем письме я нашел бы, кроме любви и чека, – улыбку…» И он продолжал плавать, пока «Ансельм» не прибыл с грузом в Дубельт, откуда, пользуясь остановкой, двадцатилетний Грэй отправился навестить замок. Все было то же кругом; так же нерушимо в подробностях и в общем впечатлении, как пять лет назад, лишь гуще стала листва молодых вязов; ее узор на фасаде здания сдвинулся и разросся.
Слуги, сбежавшиеся к нему, обрадовались, встрепенулись и замерли в той же почтительности, с какой, как бы не далее как вчера, встречали этого Грэя. Ему сказали, где мать; он прошел в высокое помещение и, тихо прикрыв дверь, неслышно остановился, смотря на поседевшую женщину в черном платье. Она стояла перед распятием: ее страстный шепот был звучен, как полное биение сердца. – «О плавающих, путешествующих, болеющих, страдающих и плененных», – слышал, коротко дыша, Грэй. Затем было сказано: – «и мальчику моему…» Тогда он сказал: – «Я …» Но больше не мог ничего выговорить. Мать обернулась. Она похудела: в надменности ее тонкого лица светилось новое выражение, подобное возвращенной юности. Она стремительно подошла к сыну; короткий грудной смех, сдержанное восклицание и слезы в глазах – вот все. Но в эту минуту она жила сильнее и лучше, чем за всю жизнь. – «Я сразу узнала тебя, о, мой милый, мой маленький!» И Грэй действительно перестал быть большим. Он выслушал о смерти отца, затем рассказал о себе. Она внимала без упреков и возражений, но про себя – во всем, что он утверждал, как истину своей жизни, – видела лишь игрушки, которыми забавляется ее мальчик. Такими игрушками были материки, океаны и корабли.
Грэй пробыл в замке семь дней; на восьмой день, взяв крупную сумму денег, он вернулся в Дубельт и сказал капитану Гопу: «Благодарю. Вы были добрым товарищем. Прощай же, старший товарищ, – здесь он закрепил истинное значение этого слова жутким, как тиски, рукопожатием, – теперь я буду плавать отдельно, на собственном корабле». Гоп вспыхнул, плюнул, вырвал руку и пошел прочь, но Грэй, догнав, обнял его. И они уселись в гостинице, все вместе, двадцать четыре человека с командой, и пили, и кричали, и пели, и выпили и съели все, что было на буфете и в кухне.
Прошло еще мало времени, и в порте Дубельт вечерняя звезда сверкнула над черной линией новой мачты. То был «Секрет», купленный Грэем; трехмачтовый галиот в двести шестьдесят тонн. Так, капитаном и собственником корабля Артур Грэй плавал еще четыре года, пока судьба не привела его в Лисе. Но он уже навсегда запомнил тот короткий грудной смех, полный сердечной музыки, каким встретили его дома, и раза два в год посещал замок, оставляя женщине с серебряными волосами нетвердую уверенность в том, что такой большой мальчик, пожалуй, справится с своими игрушками.
III. РАССВЕТ
Струя пены, отбрасываемая кормой корабля Грэя «Секрет», прошла через океан белой чертой и погасла в блеске вечерних огней Лисса. Корабль встал на рейде недалеко от маяка.
Десять дней «Секрет» выгружал чесучу, кофе и чай, одиннадцатый день команда провела на берегу, в отдыхе и винных парах; на двенадцатый день Грэй глухо затосковал, без всякой причины, не понимая тоски.
Еще утром, едва проснувшись, он уже почувствовал, что этот день начался в черных лучах. Он мрачно оделся, неохотно позавтракал, забыл прочитать газету и долго курил, погруженный в невыразимый мир бесцельного напряжения; среди смутно возникающих слов бродили непризнанные желания, взаимно уничтожая себя равным усилием. Тогда он занялся делом.
В сопровождении боцмана Грэй осмотрел корабль, велел подтянуть ванты, ослабить штуртрос, почистить клюзы, переменить кливер, просмолить палубу, вычистить компас, открыть, проветрить и вымести трюм. Но дело не развлекало Грэя. Полный тревожного внимания к тоскливости дня, он прожил его раздражительно и печально: его как бы позвал кто-то, но он забыл, кто и куда.
Под вечер он уселся в каюте, взял книгу и долго возражал автору, делая на полях заметки парадоксального свойства. Некоторое время его забавляла эта игра, эта беседа с властвующим из гроба мертвым. Затем, взяв трубку, он утонул в синем дыме, живя среди призрачных арабесок, возникающих в его зыбких слоях. Табак страшно могуч; как масло, вылитое в скачущий разрыв волн, смиряет их бешенство, так и табак: смягчая раздражение чувств, он сводит их несколькими тонами ниже; они звучат плавнее и музыкальнее. Поэтому тоска Грэя, утратив наконец после трех трубок наступательное значение, перешла в задумчивую рассеянность. Такое состояние длилось еще около часа; когда исчез душевный туман, Грэй очнулся, захотел движения и вышел на палубу. Была полная ночь; за бортом в сне черной воды дремали звезды и огни мачтовых фонарей. Теплый, как щека, воздух пахнул морем. Грэй, поднял голову, прищурился на золотой уголь звезды; мгновенно через умопомрачительность миль проникла в его зрачки огненная игла далекой планеты. Глухой шум вечернего города достигал слуха из глубины залива; иногда с ветром по чуткой воде влетала береговая фраза, сказанная как бы на палубе; ясно прозвучав, она гасла в скрипе снастей; на баке вспыхнула спичка, осветив пальцы, круглые глаза и усы. Грэй свистнул; огонь трубки двинулся и поплыл к нему; скоро капитан увидел во тьме руки и лицо вахтенного.
– Передай Летике, – сказал Грэй, – что он поедет со мной. Пусть возьмет удочки.
Он спустился в шлюп, где ждал минут десять. Летика, проворный, жуликоватый парень, загремев о борт веслами, подал их Грэю; затем спустился сам, наладил уключины и сунул мешок с провизией в корму шлюпа. Грэй сел к рулю.
– Куда прикажете плыть, капитан? – спросил Летика, кружа лодку правым веслом.
Капитан молчал. Матрос знал, что в это молчание нельзя вставлять слова, и поэтому, замолчав сам, стал сильно грести.
Грэй взял направление к открытому морю, затем стал держаться левого берега. Ему было все равно, куда плыть. Руль глухо журчал; звякали и плескали весла, все остальное было морем и тишиной.
В течение дня человек внимает такому множеству мыслей, впечатлений, речей и слов, что все это составило бы не одну толстую книгу. Лицо дня приобретает определенное выражение, но Грэй сегодня тщетно вглядывался в это лицо. В его смутных чертах светилось одно из тех чувств, каких много, но которым не дано имени. Как их ни называть, они останутся навсегда вне слов и даже понятий, подобные внушению аромата. Во власти такого чувства был теперь Грэй; он мог бы, правда, сказать: – «Я жду, я вижу, я скоро узнаю …», – но даже эти слова равнялись не большему, чем отдельные чертежи в отношении архитектурного замысла. В этих веяниях была еще сила светлого возбуждения.
Там, где они плыли, слева волнистым сгущением тьмы проступал берег. Над красным стеклом окон носились искры дымовых труб; это была Каперна. Грэй слышал перебранку и лай. Огни деревни напоминали печную дверцу, прогоревшую дырочками, сквозь которые виден пылающий уголь. Направо был океан, явственный, как присутствие спящего человека. Миновав Каперну, Грэй повернул к берегу. Здесь тихо прибивало водой; засветив фонарь, он увидел ямы обрыва и его верхние, нависшие выступы; это место ему понравилось.
– Здесь будем ловить рыбу, – сказал Грэй, хлопая гребца по плечу.
Матрос неопределенно хмыкнул.
– Первый раз плаваю с таким капитаном, – пробормотал он. – Капитан дельный, но непохожий. Загвоздистый капитан. Впрочем, люблю его.
Забив весло в ил, он привязал к нему лодку, и оба поднялись вверх, карабкаясь по выскакивающим из-под колен и локтей камням. От обрыва тянулась чаща. Раздался стук топора, ссекающего сухой ствол; повалив дерево, Летика развел костер на обрыве. Двинулись тени и отраженное водой пламя; в отступившем мраке высветились трава и ветви; над костром, перевитый дымом, сверкая, дрожал воздух.
Грэй сел у костра.
– Ну-ка, – сказал он, протягивая бутылку, – выпей, друг Летика, за здоровье всех трезвенников. Кстати, ты взял не хинную, а имбирную.
– Простите, капитан, – ответил матрос, переводя дух. – Разрешите закусить этим… – Он отгрыз сразу половину цыпленка и, вынув изо рта крылышко, продолжал: – Я знаю, что вы любите хинную. Только было темно, а я торопился. Имбирь, понимаете, ожесточает человека. Когда мне нужно подраться, я пью имбирную. Пока капитан ел и пил, матрос искоса посматривал на него, затем, не удержавшись, сказал: – Правда ли, капитан, что говорят, будто бы родом вы из знатного семейства?
– Это не интересно, Летика. Бери удочку и лови, если хочешь.
– А вы?
– Я? Не знаю. Может быть. Но… потом. Летика размотал удочку, приговаривая стихами, на что был мастер, к великому восхищению команды: – Из шнурка и деревяшки я изладил длинный хлыст и, крючок к нему приделав, испустил протяжный свист. – Затем он пощекотал пальцем в коробке червей. – Этот червь в земле скитался и своей был жизни рад, а теперь на крюк попался – и его сомы съедят.
Наконец, он ушел с пением: – Ночь тиха, прекрасна водка, трепещите, осетры, хлопнись в обморок, селедка, – удит Летика с горы!
Грэй лег у костра, смотря на отражавшую огонь воду. Он думал, но без участия воли; в этом состоянии мысль, рассеянно удерживая окружающее, смутно видит его; она мчится, подобно коню в тесной толпе, давя, расталкивая и останавливая; пустота, смятение и задержка попеременно сопутствуют ей. Она бродит в душе вещей; от яркого волнения спешит к тайным намекам; кружится по земле и небу, жизненно беседует с воображенными лицами, гасит и украшает воспоминания. В облачном движении этом все живо и выпукло и все бессвязно, как бред. И часто улыбается отдыхающее сознание, видя, например, как в размышление о судьбе вдруг жалует гостем образ совершенно неподходящий: какой-нибудь прутик, сломанный два года назад. Так думал у костра Грэй, но был «где-то» – не здесь.
Локоть, которым он опирался, поддерживая рукой голову, просырел и затек. Бледно светились звезды, мрак усилился напряжением, предшествующим рассвету. Капитан стал засыпать, но не замечал этого. Ему захотелось выпить, и он потянулся к мешку, развязывая его уже во сне. Затем ему перестало сниться; следующие два часа были для Грэя не долее тех секунд, в течение которых он склонился головой на руки. За это время Летика появлялся у костра дважды, курил и засматривал из любопытства в рот пойманным рыбам – что там? Но там, само собой, ничего не было.
Проснувшись, Грэй на мгновение забыл, как попал в эти места. С изумлением видел он счастливый блеск утра, обрыв берега среди этих ветвей и пылающую синюю даль; над горизонтом, но в то же время и над его ногами висели листья орешника. Внизу обрыва – с впечатлением, что под самой спиной Грэя – шипел тихий прибой. Мелькнув с листа, капля росы растеклась по сонному лицу холодным шлепком. Он встал. Везде торжествовал свет. Остывшие головни костра цеплялись за жизнь тонкой струёй дыма. Его запах придавал удовольствию дышать воздухом лесной зелени дикую прелесть.
Летики не было; он увлекся; он, вспотев, удил с увлечением азартного игрока. Грэй вышел из чащи в кустарник, разбросанный по скату холма. Дымилась и горела трава; влажные цветы выглядели как дети, насильно умытые холодной водой. Зеленый мир дышал бесчисленностью крошечных ртов, мешая проходить Грэю среди своей ликующей тесноты. Капитан выбрался на открытое место, заросшее пестрой травой, и увидел здесь спящую молодую девушку.
Он тихо отвел рукой ветку и остановился с чувством опасной находки. Не далее как в пяти шагах, свернувшись, подобрав одну ножку и вытянув другую, лежала головой на уютно подвернутых руках утомившаяся Ассоль. Ее волосы сдвинулись в беспорядке; у шеи расстегнулась пуговица, открыв белую ямку; раскинувшаяся юбка обнажала колени; ресницы спали на щеке, в тени нежного, выпуклого виска, полузакрытого темной прядью; мизинец правой руки, бывшей под головой, пригибался к затылку. Грэй присел на корточки, заглядывая девушке в лицо снизу и не подозревая, что напоминает собой фавна с картины Арнольда Беклина.
Быть может, при других обстоятельствах эта девушка была бы замечена им только глазами, но тут он иначе увидел ее. Все стронулось, все усмехнулось в нем. Разумеется, он не знал ни ее, ни ее имени, ни, тем более, почему она уснула на берегу, но был этим очень доволен. Он любил картины без объяснений и подписей. Впечатление такой картины несравненно сильнее; ее содержание, не связанное словами, становится безграничным, утверждая все догадки и мысли.
Тень листвы подобралась ближе к стволам, а Грэй все еще сидел в той же малоудобной позе. Все спало на девушке: спал;! темные волосы, спало платье и складки платья; даже трава поблизости ее тела, казалось, задремала в силу сочувствия. Когда впечатление стало полным, Грэй вошел в его теплую подмывающую волну и уплыл с ней. Давно уже Летика кричал: – «Капитан. где вы?» – но капитан не слышал его.
Когда он наконец встал, склонность к необычному застала его врасплох с решимостью и вдохновением раздраженной женщины. Задумчиво уступая ей, он снял с пальца старинное дорогое кольцо, не без основания размышляя, что, может быть, этим подсказывает жизни нечто существенное, подобное орфографии. Он бережно опустил кольцо на малый мизинец, белевший из-под затылка. Мизинец нетерпеливо двинулся и поник. Взглянув еще раз на это отдыхающее лицо, Грэй повернулся и увидел в кустах высоко поднятые брови матроса. Летика, разинув рот, смотрел на занятия Грэя с таким удивлением, с каким, верно, смотрел Иона на пасть своего меблированного кита.
– А, это ты, Летика! – сказал Грэй. – Посмотри-ка на нее. Что, хороша?
– Дивное художественное полотно! – шепотом закричал матрос, любивший книжные выражения. – В соображении обстоятельств есть нечто располагающее. Я поймал четыре мурены и еще какую-то толстую, как пузырь.
– Тише, Летика. Уберемся отсюда.
Они отошли в кусты. Им следовало бы теперь повернуть к лодке, но Грэй медлил, рассматривая даль низкого берега, где над зеленью и песком лился утренний дым труб Каперны. В этом дыме он снова увидел девушку.
Тогда он решительно повернул, спускаясь вдоль склона; матрос, не спрашивая, что случилось, шел сзади; он чувствовал, что вновь наступило обязательное молчание. Уже около первых строений Грэй вдруг сказал: – Не определишь ли ты, Летика, твоим опытным глазом, где здесь трактир? – Должно быть, вон та черная крыша, – сообразил Летика, – а, впрочем, может, и не она.
– Что же в этой крыше приметного?
– Сам не знаю, капитан. Ничего больше, как голос сердца.
Они подошли к дому; то был действительно трактир Меннерса. В раскрытом окне, на столе, виднелась бутылка; возле нее чья-то грязная рука доила полуседой ус.
Хотя час был ранний, в общей зале трактирчика расположилось три человека У окна сидел угольщик, обладатель пьяных усов, уже замеченных нами; между буфетом и внутренней дверью зала, за яичницей и пивом помещались два рыбака. Меннерс, длинный молодой парень, с веснушчатым скучным лицом и тем особенным выражением хитрой бойкости в подслеповатых глазах, какое присуще торгашам вообще, перетирал за стойкой посуду. На грязном полу лежал солнечный переплет окна.
Едва Грэй вступил в полосу дымного света, как Меннерс, почтительно кланяясь, вышел из-за своего прикрытия. Он сразу угадал в Грэе настоящего капитана – разряд гостей, редко им виденных. Грэй спросил рома. Накрыв стол пожелтевшей в суете людской скатертью, Меннерс принес бутылку, лизнув предварительно языком кончик отклеившейся этикетки. Затем он вернулся за стойку, поглядывая внимательно то на Грэя, то на тарелку, с которой отдирал ногтем что-то присохшее.
В то время, как Летика, взяв стакан обеими руками, скромно шептался с ним, посматривая в окно, Грэй подозвал Меннерса. Хин самодовольно уселся на кончик стула, польщенный этим обращением и польщенный именно потому, что оно выразилось простым киванием Грэева пальца.
– Вы, разумеется, знаете здесь всех жителей, – спокойно заговорил Грэй. – Меня интересует имя молодой девушки в косынке, в платье с розовыми цветочками, темнорусой и невысокой, в возрасте от семнадцати до двадцати лет. Я встретил ее неподалеку отсюда. Как ее имя?
Он сказал это с твердой простотой силы, не позволяющей увильнуть от данного тона. Хин Меннерс внутренне завертелся и даже ухмыльнулся слегка, но внешне подчинился характеру обращения. Впрочем, прежде чем ответить, он помолчал – единственно из бесплодного желания догадаться, в чем дело.
– Гм! – сказал он, поднимая глаза в потолок. – Это, должно быть, «Корабельная Ассоль», больше быть некому. Она полоумная.
– В самом деле? – равнодушно сказал Грэй, отпивая крупный глоток. – Как же это случилось?
– Когда так, извольте послушать. – И Хин рассказал Грэю о том, как лет семь назад девочка говорила на берегу моря с собирателем песен. Разумеется, эта история с тех пор, как нищий утвердил ее бытие в том же трактире, приняла очертания грубой и плоской сплетни, но сущность оставалась нетронутой. – С тех пор так ее и зовут, – сказал Меннерс, – зовут ее «Ассоль Корабельная».
Грэй машинально взглянул на Летику, продолжавшего быть тихим и скромным, затем его глаза обратились к пыльной дороге, пролегающей у трактира, и он ощутил как бы удар – одновременный удар в сердце и голову. По дороге, лицом к нему, шла та самая Корабельная Ассоль, к которой Меннерс только что отнесся клинически. Удивительные черты ее лица, напоминающие тайну неизгладимо волнующих, хотя простых слов, предстали перед ним теперь в свете ее взгляда. Матрос и Меннерс сидели к окну спиной, но, чтобы они случайно не повернулись – Грэй имел мужество отвести взгляд на рыжие глаза Хина. Поле того, как он увидел глаза Ассоль, рассеялась вся косность Меннерсова рассказа. Между тем, ничего не подозревая, Хин продолжал: – Еще могу сообщить вам, что ее отец сущий мерзавец. Он утопил моего папашу, как кошку какую-нибудь, прости господи. Он…
Его перебил неожиданный дикий рев сзади. Страшно ворочая глазами, угольщик, стряхнув хмельное оцепенение, вдруг рявкнул пением и так свирепо, что все вздрогнули.
Корзинщик, корзинщик, Дери с нас за корзины!..
– Опять ты нагрузился, вельбот проклятый! – закричал Меннерс. – Уходи вон!
… Но только бойся попадать В наши Палестины!.. – взвыл угольщик и, как будто ничего не было, потопил усы в плеснувшем стакане.
Хин Меннерс возмущенно пожал плечами.
– Дрянь, а не человек, – сказал он с жутким достоинством скопидома. – Каждый раз такая история!
– Более вы ничего не можете рассказать? – спросил Грэй.
– Я-то? Я же вам говорю, что отец мерзавец. Через него я, ваша милость, осиротел и еще дитей должен был самостоятельно поддерживать бренное пропитание..
– Ты врешь, – неожиданно сказал угольщик. – Ты врешь так гнусно и ненатурально, что я протрезвел. – Хин не успел раскрыть рот, как угольщик обратился к Грэю: – Он врет. Его отец тоже врал; врала и мать. Такая порода. Можете быть покойны, что она так же здорова, как мы с вами. Я с ней разговаривал. Она сидела на моей повозке восемьдесят четыре раза, или немного меньше. Когда девушка идет пешком из города, а я продал свой уголь, я уж непременно посажу девушку. Пускай она сидит. Я говорю, что у нее хорошая голова. Это сейчас видно. С тобой, Хин Меннерс, она, понятно, не скажет двух слов. Но я, сударь, в свободном угольном деле презираю суды и толки. Она говорит, как большая, но причудливый ее разговор. Прислушиваешься – как будто все то же самое, что мы с вами сказали бы, а у нее то же, да не совсем так. Вот, к примеру, раз завелось дело о ее ремесле. – «Я тебе что скажу, – говорит она и держится за мое плечо, как муха за колокольню, – моя работа не скучная, только все хочется придумать особенное. Я, – говорит, – так хочу изловчиться, чтобы у меня на доске сама плавала лодка, а гребцы гребли бы по-настоящему; потом они пристают к берегу, отдают причал и честь-честью, точно живые, сядут на берегу закусывать». Я, это, захохотал, мне, стало быть, смешно стало. Я говорю: – «Ну, Ассоль, это ведь такое твое дело, и мысли поэтому у тебя такие, а вокруг посмотри: все в работе, как в драке». – «Нет, – говорит она, – я знаю, что знаю. Когда рыбак ловит рыбу, он думает, что поймает большую рыбу, какой никто не ловил». – «Ну, а я?» – «А ты? – смеется она, – ты, верно, когда наваливаешь углем корзину, то думаешь, что она зацветет». Вот какое слово она сказала! В ту же минуту дернуло меня, сознаюсь, посмотреть на пустую корзину, и так мне вошло в глаза, будто из прутьев поползли почки; лопнули эти почки, брызнуло по корзине листом и пропало. Я малость протрезвел даже! А Хин Меннерс врет и денег не берет; я его знаю!
Считая, что разговор перешел в явное оскорбление, Меннерс пронзил угольщика взглядом и скрылся за стойку, откуда горько осведомился: – Прикажете подать что-нибудь?
– Нет, – сказал Грэй, доставая деньги, – мы встаем и уходим. Летика, ты останешься здесь, вернешься к вечеру и будешь молчать. Узнав все, что сможешь, передай мне. Ты понял?
– Добрейший капитан, – сказал Летика с некоторой фамильярностью, вызванной ромом, – не понять этого может только глухой.
– Прекрасно. Запомни также, что ни в одном из тех случаев, какие могут тебе представиться, нельзя ни говорить обо мне, ни упоминать даже мое имя. Прощай!
Грэй вышел. С этого времени его не покидало уже чувство поразительных открытий, подобно искре в пороховой ступке Бертольда, – одного из тех душевных обвалов, из-под которых вырывается, сверкая, огонь. Дух немедленного действия овладел им. Он опомнился и собрался с мыслями, только когда сел в лодку. Смеясь, он подставил руку ладонью вверх – знойному солнцу, – как сделал это однажды мальчиком в винном погребе; затем отплыл и стал быстро грести по направлению к гавани.
IV. НАКАНУНЕ
Накануне того дня и через семь лет после того, как Эгль, собиратель песен, рассказал девочке на берегу моря сказку о корабле с Алыми Парусами, Ассоль в одно из своих еженедельных посещений игрушечной лавки вернулась домой расстроенная, с печальным лицом. Свои товары она принесла обратно. Она была так огорчена, что сразу не могла говорить и только лишь после того, как по встревоженному лицу Лонгрена увидела, что он ожидает чего-то значительно худшего действительности, начала рассказывать, водя пальцем по стеклу окна, у которого стала, рассеянно наблюдая море.
Хозяин игрушечной лавки начал в этот раз с того, что открыл счетную книгу и показал ей, сколько за ними долга. Она содрогнулась, увидев внушительное трехзначное число. – «Вот сколько вы забрали с декабря, – сказал торговец, – а вот посмотри, на сколько продано». И он уперся пальцем в другую цифру, уже из двух знаков.
– Жалостно и обидно смотреть. Я видела по его лицу, что он груб и сердит. Я с радостью убежала бы, но, честное слово, сил не было от стыда. И он стал говорить: – «Мне, милая, это больше не выгодно. Теперь в моде заграничный товар, все лавки полны им, а эти изделия не берут». Так он сказал. Он говорил еще много чего, но я все перепутала и забыла. Должно быть, он сжалился надо мной, так как посоветовал сходить в «Детский Базар» и «Аладинову Лампу».
Выговорив самое главное, девушка повернула голову, робко посмотрев на старика. Лонгрен сидел понурясь, сцепив пальцы рук между колен, на которые оперся локтями. Чувствуя взгляд, он поднял голову и вздохнул. Поборов тяжелое настроение, девушка подбежала к нему, устроилась сидеть рядом и, продев свою легкую руку под кожаный рукав его куртки, смеясь и заглядывая отцу снизу в лицо, продолжала с деланным оживлением: – Ничего, это все ничего, ты слушай, пожалуйста. Вот я пошла. Ну-с, прихожу в большой страшеннейший магазин; там куча народа. Меня затолкали; однако я выбралась и подошла к черному человеку в очках. Что я ему сказала, я ничего не помню; под конец он усмехнулся, порылся в моей корзине, посмотрел кое-что, потом снова завернул, как было, в платок и отдал обратно.
Лонгрен сердито слушал. Он как бы видел свою оторопевшую дочку в богатой толпе у прилавка, зава ленного ценным товаром. Аккуратный человек в очках снисходительно объяснил ей, что он должен разориться, ежели начнет торговать нехитрыми изделиями Лонгрена. Небрежно и ловко ставил он перед ней на прилавок складные модели зданий и железнодорожных мостов; миниатюрные отчетливые автомобили, электрические наборы, аэропланы и двигатели. Все это пахло краской и школой. По всем его словам выходило, что дети в играх только подражают теперь тому, что делают взрослые.
Ассоль была еще в «Аладиновой Лампе» и в двух других лавках, но ничего не добилась.
Оканчивая рассказ, она собрала ужинать; поев и выпив стакан крепкого кофе, Лонгрен сказал: – Раз нам не везет, надо искать. Я, может быть, снова поступлю служить – на «Фицроя» или «Палермо». Конечно, они правы, – задумчиво продолжал он, думая об игрушках. – Теперь дети не играют, а учатся. Они все учатся, учатся и никогда не начнут жить. Все это так, а жаль, право, жаль. Сумеешь ли ты прожить без меня время одного рейса? Немыслимо оставить тебя одну.
– Я также могла бы служить вместе с тобой; скажем, в буфете.
– Нет! – Лонгрен припечатал это слово ударом ладони по вздрогнувшему столу. – Пока я жив, ты служить не будешь. Впрочем, есть время подумать.
Он хмуро умолк. Ассоль примостилась рядом с ним на углу табурета; он видел сбоку, не поворачивая головы, что она хлопочет утешить его, и чуть было не улыбнулся. Но улыбнуться – значило спугнуть и смутить девушку. Она, приговаривая что-то про себя, разгладила его спутанные седые волосы, поцеловала в усы и, заткнув мохнатые отцовские уши своими маленькими тоненькими пальцами, сказала: – «Ну вот, теперь ты не слышишь, что я тебя люблю». Пока она охорашивала его, Лонгрен сидел, крепко сморщившись, как человек, боящийся дохнуть дымом, но, услышав ее слова, густо захохотал.
– Ты милая, – просто сказал он и, потрепав девушку по щеке, пошел на берег посмотреть лодку.
Ассоль некоторое время стояла в раздумье посреди комнаты, колеблясь между желанием отдаться тихой печали и необходимостью домашних забот; затем, вымыв посуду, пересмотрела в шкалу остатки провизии. Она не взвешивала и не мерила, но видела, что с мукой не дотянуть до конца недели, что в жестянке с сахаром виднеется дно, обертки с чаем и кофе почти пусты, нет масла, и единственное, на чем, с некоторой досадой на исключение, отдыхал глаз, – был мешок картофеля. Затем она вымыла пол и села строчить оборку к переделанной из старья юбке, но тут же вспомнив, что обрезки материи лежат за зеркалом, подошла к нему и взяла сверток; потом взглянула на свое отражение.
За ореховой рамой в светлой пустоте отраженной комнаты стояла тоненькая невысокая девушка, одетая в дешевый белый муслин с розовыми цветочками. На ее плечах лежала серая шелковая косынка. Полудетское, в светлом загаре, лицо было подвижно и выразительно; прекрасные, несколько серьезные для ее возраста глаза посматривали с робкой сосредоточенностью глубоких душ. Ее неправильное личико могло растрогать тонкой чистотой очертаний; каждый изгиб, каждая выпуклость этого лица, конечно, нашли бы место в множестве женских обликов, но их совокупность, стиль – был совершенно оригинален, – оригинально мил; на этом мы остановимся. Остальное неподвластно словам, кроме слова «очарование».
Отраженная девушка улыбнулась так же безотчетно, как и Ассоль. Улыбка вышла грустной; заметив это, она встревожилась, как если бы смотрела на постороннюю. Она прижалась щекой к стеклу, закрыла глаза и тихо погладила зеркало рукой там, где приходилось ее отражение. Рой смутных, ласковых мыслей мелькнул в ней; она выпрямилась, засмеялась и села, начав шить.
Пока она шьет, посмотрим на нее ближе – вовнутрь. В ней две девушки, две Ассоль, перемешанных в замечательной прекрасной неправильности. Одна была дочь матроса, ремесленника, мастерившая игрушки, другая – живое стихотворение, со всеми чудесами его созвучий и образов, с тайной соседства слов, во всей взаимности их теней и света, падающих от одного на другое. Она знала жизнь в пределах, поставленных ее опыту, но сверх общих явлений видела отраженный смысл иного порядка. Так, всматриваясь в предметы, мы замечаем в них нечто не линейно, но впечатлением – определенно человеческое, и – так же, как человеческое – различное. Нечто подобное тому, что (если удалось) сказали мы этим примером, видела она еще сверх видимого. Без этих тихих завоеваний все просто понятное было чуждо ее душе. Она умела и любила читать, но и в книге читала преимущественно между строк, как жила. Бессознательно, путем своеобразного вдохновения она делала на каждом шагу множество эфирнотонких открытий, невыразимых, но важных, как чистота и тепло. Иногда – и это продолжалось ряд дней – она даже перерождалась; физическое противостояние жизни проваливалось, как тишина в ударе смычка, и все, что она видела, чем жила, что было вокруг, становилось кружевом тайн в образе повседневности. Не раз, волнуясь и робея, она уходила ночью на морской берег, где, выждав рассвет, совершенно серьезно высматривала корабль с Алыми Парусами. Эти минуты были для нее счастьем; нам трудно так уйти в сказку, ей было бы не менее трудно выйти из ее власти и обаяния.
В другое время, размышляя обо всем этом, она искренне дивилась себе, не веря, что верила, улыбкой прощая море и грустно переходя к действительности; теперь, сдвигая оборку, девушка припоминала свою жизнь. Там было много скуки и простоты. Одиночество вдвоем, случалось, безмерно тяготило ее, но в ней образовалась уже та складка внутренней робости, та страдальческая морщинка, с которой не внести и не получить оживления. Над ней посмеивались, говоря: – «Она тронутая, не в себе»; она привыкла и к этой боли; девушке случалось даже переносить оскорбления, после чего ее грудь ныла, как от удара. Как женщина, она была непопулярна в Каперне, однако многие подозревали, хотя дико и смутно, что ей дано больше прочих – лишь на другом языке. Капернцы обожали плотных, тяжелых женщин с масляной кожей толстых икр и могучих рук; здесь ухаживали, ляпая по спине ладонью и толкаясь, как на базаре. Тип этого чувства напоминал бесхитростную простоту рева. Ассоль так же подходила к этой решительной среде, как подошло бы людям изысканной нервной жизни общество привидения, обладай оно всем обаянием Ассунты или Аспазии: то, что от любви, – здесь немыслимо. Так, в ровном гудении солдатской трубы прелестная печаль скрипки бессильна вывести суровый полк из действий его прямых линий. К тому, что сказано в этих строках, девушка стояла спиной.
Меж тем, как ее голова мурлыкала песенку жизни, маленькие руки работали прилежно и ловко; откусывая нитку, она смотрела далеко перед собой, но это не мешало ей ровно подвертывать рубец и класть петельный шов с отчетливостью швейной машины. Хотя Лонгрен не возвращался, она не беспокоилась об отце. Последнее время он довольно часто уплывал ночью ловить рыбу или просто проветриться.
Ее не теребил страх; она знала, что ничего худого с ним не случится. В этом отношении Ассоль была все еще той маленькой девочкой, которая молилась по-своему, дружелюбно лепеча утром: – «Здравствуй, бог!», а вечером: – «Прощай, бог!».
По ее мнению, такого короткого знакомства с богом было совершенно достаточно для того, чтобы он отстранил несчастье. Она входила и в его положение: бог был вечно занят делами миллионов людей, поэтому к обыденным теням жизни следовало, по ее мнению, относиться с деликатным терпением гостя, который, застав дом полным народа, ждет захлопотавшегося хозяина, ютясь и питаясь по обстоятельствам.
Кончив шить, Ассоль сложила работу на угловой столик, разделась и улеглась. Огонь был потушен. Она скоро заметила, что нет сонливости; сознание было ясно, как в разгаре дня, даже тьма казалась искусственной, тело, как и сознание, чувствовалось легким, дневным. Сердце отстукивало с быстротой карманных часов; оно билось как бы между подушкой и ухом. Ассоль сердилась, ворочаясь, то сбрасывая одеяло, то завертываясь в него с головой. Наконец, ей удалось вызвать привычное представление, помогающее уснуть: она мысленно бросала камни в светлую воду, смотря на расхождение легчайших кругов. Сон, действительно, как бы лишь ждал этой подачки; он пришел, пошептался с Мери, стоящей у изголовья, и, повинуясь ее улыбке, сказал вокруг: «Шшшш». Ассоль тотчас уснула. Ей снился любимый сон: цветущие деревья, тоска, очарование, песни и таинственные явления, из которых, проснувшись, она припоминала лишь сверканье синей воды, подступающей от ног к сердцу с холодом и восторгом. Увидев все это, она побыла еще несколько времени в невозможной стране, затем проснулась и села.
Сна не было, как если бы она не засыпала совсем. Чувство новизны, радости и желания что-то сделать согревало ее. Она осмотрелась тем взглядом, каким оглядывают новое помещение. Проник рассвет – не всей ясностью озарения, но тем смутным усилием, в котором можно понимать окружающее. Низ окна был черен; верх просветлел. Извне дома, почти на краю рамы, блестела утренняя звезда. Зная, что теперь не уснет, Ассоль оделась, подошла к окну и, сняв крюк, отвела раму, За окном стояла внимательная чуткая тишина; она как бы наступила только сейчас. В синих сумерках мерцали кусты, подальше спали деревья; веяло духотой и землей.
Держась за верх рамы, девушка смотрела и улыбалась. Вдруг нечто, подобное отдаленному зову, всколыхнуло ее изнутри и вовне, и она как бы проснулась еще раз от явной действительности к тому, что явнее и несомненнее. С этой минуты ликующее богатство сознания не оставляло ее. Так, понимая, слушаем мы речи людей, но, если повторить сказанное, поймем еще раз, с иным, новым значением. То же было и с ней.
Взяв старенькую, но на ее голове всегда юную шелковую косынку, она прихватила ее рукою под подбородком, заперла дверь и выпорхнула босиком на дорогу. Хотя было пусто и глухо, но ей казалось, что она звучит как оркестр, что ее могут услышать. Все было мило ей, все радовало ее. Теплая пыль щекотала босые ноги; дышалось ясно и весело. На сумеречном просвете неба темнели крыши и облака; дремали изгороди, шиповник, огороды, сады и нежно видимая дорога. Во всем замечался иной порядок, чем днем, – тот же, но в ускользнувшем ранее соответствии. Все спало с открытыми глазами, тайно рассматривая проходящую девушку.
Она шла, чем далее, тем быстрей, торопясь покинуть селение. За Каперной простирались луга; за лугами по склонам береговых холмов росли орешник, тополя и каштаны. Там, где дорога кончилась, переходя в глухую тропу, у ног Ассоль мягко завертелась пушистая черная собака с белой грудью и говорящим напряжением глаз. Собака, узнав Ассоль, повизгивая и жеманно виляя туловищем, пошла рядом, молча соглашаясь с девушкой в чем-то понятном, как «я» и «ты». Ассоль, посматривая в ее сообщительные глаза, была твердо уверена, что собака могла бы заговорить, не будь у нее тайных причин молчать. Заметив улыбку спутницы, собака весело сморщилась, вильнула хвостом и ровно побежала вперед, но вдруг безучастно села, деловито выскребла лапой ухо, укушенное своим вечным врагом, и побежала обратно.
Ассоль проникла в высокую, брызгающую росой луговую траву; держа руку ладонью вниз над ее метелками, она шла, улыбаясь струящемуся прикосновению.
Засматривая в особенные лица цветов, в путаницу стеблей, она различала там почти человеческие намеки – позы, усилия, движения, черты и взгляды; ее не удивила бы теперь процессия полевых мышей, бал сусликов или грубое веселье ежа, пугающего спящего гнома своим фуканьем. И точно, еж, серея, выкатился перед ней на тропинку. – «Фук-фук», – отрывисто сказал он с сердцем, как извозчик на пешехода. Ассоль говорила с теми, кого понимала и видела. – «Здравствуй, больной, – сказала она лиловому ирису, пробитому до дыр червем. – Необходимо посидеть дома», – это относилось к кусту, застрявшему среди тропы и потому обдерганному платьем прохожих. Большой жук цеплялся за колокольчик, сгибая растение и сваливаясь, но упрямо толкаясь лапками. – «Стряхни толстого пассажира», – посоветовала Ассоль. Жук, точно, не удержался и с треском полетел в сторону. Так, волнуясь, трепеща и блестя, она подошла к склону холма, скрывшись в его зарослях от лугового пространства, но окруженная теперь истинными своими друзьями, которые – она знала это – говорят басом.
То были крупные старые деревья среди жимолости и орешника. Их свисшие ветви касались верхних листьев кустов. В спокойно тяготеющей крупной листве каштанов стояли белые шишки цветов, их аромат мешался с запахом росы и смолы. Тропинка, усеянная выступами скользких корней, то падала, то взбиралась на склон. Ассоль чувствовала себя, как дома; здоровалась с деревьями, как с людьми, то есть пожимая их широкие листья. Она шла, шепча то мысленно, то словами: «Вот ты, вот другой ты; много же вас, братцы мои! Я иду, братцы, спешу, пустите меня. Я вас узнаю всех, всех помню и почитаю». «Братцы» величественно гладили ее чем могли – листьями – и родственно скрипели в ответ. Она выбралась, перепачкав ноги землей, к обрыву над морем и встала на краю обрыва, задыхаясь от поспешной ходьбы. Глубокая непобедимая вера, ликуя, пенилась и шумела в ней. Она разбрасывала ее взглядом за горизонт, откуда легким шумом береговой волны возвращалась она обратно, гордая чистотой полета. Тем временем море, обведенное по горизонту золотой нитью, еще спало; лишь под обрывом, в лужах береговых ям, вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет спящего океана переходил в синий и черный. За золотой нитью небо, вспыхивая, сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие, божественные цвета светились в них. На черной дали легла уже трепетная снежная белизна; пена блестела, и багровый разрыв, вспыхнув средь золотой нити, бросил по океану, к ногам Ассоль, алую рябь.
Она села, подобрав ноги, с руками вокруг колен. Внимательно наклоняясь к морю, смотрела она на горизонт большими глазами, в которых не осталось уже ничего взрослого, – глазами ребенка. Все, чего она ждала так долго и горячо, делалось там – на краю света. Она видела в стране далеких пучин подводный холм; от поверхности его струились вверх вьющиеся растения; среди их круглых листьев, пронизанных у края стеблем, сияли причудливые цветы. Верхние листья блестели на поверхности океана; тот, кто ничего не знал, как знала Ассоль, видел лишь трепет и блеск.
Из заросли поднялся корабль; он всплыл и остановился по самой середине зари. Из этой дали он был виден ясно, как облака. Разбрасывая веселье, он пылал, как вино, роза, кровь, уста, алый бархат и пунцовый огонь. Корабль шёл прямо к Ассоль. Крылья пены трепетали под мощным напором его киля; уже встав, девушка прижала руки к груди, как чудная игра света перешла в зыбь; взошло солнце, и яркая полнота утра сдернула покровы с всего, что еще нежилось, потягиваясь на сонной земле.
Девушка вздохнула и осмотрелась. Музыка смолкла, но Ассоль была еще во власти ее звонкого хора. Это впечатление постепенно ослабевало, затем стало воспоминанием и, наконец, просто усталостью. Она легла на траву, зевнула и, блаженно закрыв глаза, уснула – по-настоящему, крепким, как молодой орех, сном, без заботы и сновидений.
Ее разбудила муха, бродившая по голой ступне. Беспокойно повертев ножкой, Ассоль проснулась; сидя, закалывала она растрепанные волосы, поэтому кольцо Грэя напомнило о себе, но считая его не более, как стебельком, застрявшим меж пальцев, она распрямила их; так как помеха не исчезла, она нетерпеливо поднесла руку к глазам и выпрямилась, мгновенно вскочив с силой брызнувшего фонтана.
На ее пальце блестело лучистое кольцо Грэя, как на чужом, – своим не могла признать она в этот момент, не чувствовала палец свой. – «Чья это шутка? Чья шутка? – стремительно вскричала она. – Разве я сплю? Может быть, нашла и забыла?». Схватив левой рукой правую, на которой было кольцо, с изумлением осматривалась она, пытая взглядом море и зеленые заросли; но никто не шевелился, никто не притаился в кустах, и в синем, далеко озаренном море не было никакого знака, и румянец покрыл Ассоль, а голоса сердца сказали вещее «да». Не было объяснений случившемуся, но без слов и мыслей находила она их в странном чувстве своем, и уже близким ей стало кольцо. Вся дрожа, сдернула она его с пальца; держа в пригоршне, как воду, рассмотрела его она – всею душою, всем сердцем, всем ликованием и ясным суеверием юности, затем, спрятав за лиф, Ассоль уткнула лицо в ладони, из-под которых неудержимо рвалась улыбка, и, опустив голову, медленно пошла обратной дорогой.
Так, – случайно, как говорят люди, умеющие читать и писать, – Грэй и Ассоль нашли друг друга утром летнего дня, полного неизбежности.
V. БОЕВЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Когда Грэй поднялся на палубу «Секрета», он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность – облачное движение чувств – отражалась в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы; увидев Грэя, он заметил странное состояние капитана.
– Вы, быть может, ушиблись? – осторожно спросил он. – Где были? Что видели? Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт; с премией. Да что с вами такое?..
– Благодарю, – сказал Грэй, вздохнув, – как развязанный. – Мне именно недоставало звуков вашего простого, умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль десять отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой. Лоцмана не брать. Пока все… Да, выгодный фрахт мне нужен как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера.
– Что же случилось?
– Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт; что местный док занят.
– Хорошо, – бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грэя. – Будет исполнено.
Хотя распоряжения капитана были вполне толковы, помощник вытаращил глаза и беспокойно помчался с тарелкой к себе в каюту, бормоча: «Пантен, тебя озадачили. Не хочет ли он попробовать контрабанды? Не выступаем ли мы под черным флагом пирата?» Но здесь Пантен запутался в самых диких предположениях. Пока он нервически уничтожал рыбу, Грэй спустился в каюту, взял деньги и, переехав бухту, появился в торговых кварталах Лисса.
Теперь он действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение – мысль, действие – грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подверглись тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии.
Грэй побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие; в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грэй был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грэя легла пурпурная волна; на его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета: красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых и мрачно-рыжих тонов; здесь были оттенки всех сил и значений, различные – в своем мнимом родстве, подобно словам: «очаровательно» – «прекрасно» – «великолепно» – «совершенно»; в складках таились намеки, недоступные языку зрения, но истинный алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана; что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя; он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь, с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен.
Этот совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грэй. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков; не было также ни синевы, ни тени – ничего, что вызывает сомнение. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грэй так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи.
– Довольно образцов, – сказал Грэй, вставая, – этот шелк я беру.
– Весь кусок? – почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грэй молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. – В таком случае, сколько метров?
Грэй кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество.
– Две тысячи метров. – Он с сомнением осмотрел полки. – Да, не более двух тысяч метров.
– Две? – сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. – Тысячи? Метров? Прошу вас сесть, капитан. Не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых материй? Как вам будет угодно. Вот спички, вот прекрасный табак; прошу вас. Две тысячи… две тысячи по. – Он сказал цену, имеющую такое же отношение к настоящей, как клятва к простому «да», но Грэй был доволен, так как не хотел ни в чем торговаться. – Удивительный, наилучший шелк, – продолжал лавочник, – товар вне сравнения, только у меня найдете такой.
Когда он наконец весь изошел восторгом, Грэй договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского короля. Тем временем через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо; его товарищ, флейтист, осыпал пение струи лепетом горлового свиста; простая песенка, которою они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грэя, и тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности; услыша заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванных, сообразно его характеру, этой музыкой, уже чувствуя, почему и как выйдет хорошо то, что придумал. Миновав переулок, Грэй прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить; высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина; тот, вытирая вспотевший лоб, дожидался флейтиста.
– Ба, да это ты, Циммер! – сказал ему Грэй, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». – Как же ты изменил скрипке?
– Досточтимый капитан, – самодовольно возразил Циммер, – я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном. Теперь меня тянет к искусству, и я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух: виолу и скрипку. На виолончели играю днем, а на скрипке по вечерам, то есть как бы плачу, рыдаю о погибшем таланте. Не угостите ли винцом, а? Виолончель – это моя Кармен, а скрипка.
– Ассоль, – сказал Грэй. Циммер не расслышал.
– Да, – кивнул он, – соло на тарелках или медных трубочках – Другое дело. Впрочем, что мне?! Пусть кривляются паяцы искусства – я знаю, что в скрипке и виолончели всегда отдыхают феи.
– А что скрывается в моем «тур-лю-рлю»? – спросил подошедший флейтист, рослый детина с бараньими голубыми глазами и белокурой бородой. – Ну-ка, скажи?
– Смотря по тому, сколько ты выпил с утра. Иногда – птица, иногда – спиртные пары. Капитан, это мой компаньон Дусс; я говорил ему, как вы сорите золотом, когда пьете, и он заочно влюблен в вас.
– Да, – сказал Дусс, – я люблю жест и щедрость. Но я хитер, не верьте моей гнусной лести.
– Вот что, – сказал, смеясь, Грэй. – У меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не из щеголей с парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или – что еще хуже – в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами, – нет. Соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев; соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов. Я с удовольствием посидел бы с вами, и даже не с одной бутылкой, но нужно идти. У меня много дела. Возьмите это и пропейте за букву А. Если вам нравится мое предложение, приезжайте повечеру на «Секрет», он стоит неподалеку от головной дамбы.
– Согласен! – вскричал Циммер, зная, что Грэй платит, как царь. – Дусс, кланяйся, скажи «да» и верти шляпой от радости! Капитан Грэй хочет жениться!
– Да, – просто сказал Грэй. – Все подробности я вам сообщу на «Секрете». Вы же…
– За букву А! – Дусс, толкнув локтем Циммера, подмигнул Грэю. – Но… как много букв в алфавите! Пожалуйте что-нибудь и на фиту…
Грэй дал еще денег. Музыканты ушли. Тогда он зашел в комиссионную контору и дал тайное поручение за крупную сумму – выполнить срочно, в течение шести дней. В то время, как Грэй вернулся на свой корабль, агент конторы уже садился на пароход. К вечеру привезли шелк; пять парусников, нанятых Грэем, поместились с матросами; еще не вернулся Летика и не прибыли музыканты; в ожидании их Грэй отправился потолковать с Пантеном.
Следует заметить, что Грэй в течение нескольких лет плавал с одним составом команды. Вначале капитан удивлял матросов капризами неожиданных рейсов, остановок – иногда месячных – в самых неторговых и безлюдных местах, но постепенно они прониклись «грэизмом» Грэя. Он часто плавал с одним балластом, отказываясь брать выгодный фрахт только потому, что не нравился ему предложенный груз. Никто не мог уговорить его везти мыло, гвозди, части машин и другое, что мрачно молчит в трюмах, вызывая безжизненные представления скучной необходимости. Но он охотно грузил фрукты, фарфор, животных, пряности, чай, табак, кофе, шелк, ценные породы деревьев: черное, сандал, пальму. Все это отвечало аристократизму его воображения, создавая живописную атмосферу; не удивительно, что команда «Секрета», воспитанная, таким образом, в духе своеобразности, посматривала несколько свысока на все иные суда, окутанные дымом плоской наживы. Все-таки этот раз Грэй встретил вопросы в физиономиях; самый тупой матрос отлично знал, что нет надобности производить ремонт в русле лесной реки.
Пантен, конечно, сообщил им приказание Грэя; когда тот вошел, помощник его докуривал шестую сигару, бродя по каюте, ошалев от дыма и натыкаясь на стулья. Наступал вечер; сквозь открытый иллюминатор торчала золотистая балка света, в которой вспыхнул лакированный козырек капитанской фуражки.
– Все готово, – мрачно сказал Пантен. – Если хотите, можно поднимать якорь.
– Вы должны бы, Пантен, знать меня несколько лучше, – мягко заметил Грэй.
– Нет тайны в том, что я делаю. Как только мы бросим якорь на дно Лилианы, я расскажу все, и вы не будете тратить так много спичек на плохие сигары. Ступайте, снимайтесь с якоря.
Пантен, неловко усмехаясь, почесал бровь.
– Это, конечно, так, – сказал он. – Впрочем, я ничего. Когда он вышел, Грэй посидел несколько времени, неподвижно смотря в полуоткрытую дверь, затем перешел к себе. Здесь он то сидел, то ложился; то, прислушиваясь к треску брашпиля, выкатывающего громкую цепь, собирался выйти на бак, но вновь задумывался и возвращался к столу, чертя по клеенке пальцем прямую быструю линию. Удар кулаком в дверь вывел его из маниакального состояния; он повернул ключ, впустив Летику. Матрос, тяжело дыша, остановился с видом гонца, вовремя Предупредившего казнь.
– «Летика, Летика», – сказал я себе, – быстро заговорил он, – когда я с кабельного мола увидел, как танцуют вокруг брашпиля наши ребята, поплевывая в ладони. У меня глаз, как у орла. И я полетел; я так дышал на лодочника, что человек вспотел от волнения. Капитан, вы хотели оставить меня на берегу?
– Летика, – сказал Грэй, присматриваясь к его красным глазам, – я ожидал тебя не позже утра. Лил ли ты на затылок холодную воду?
– Лил. Не столько, сколько было принято внутрь, но лил. Все сделано.
– Говори. – Не стоит говорить, капитан; вот здесь все записано. Берите и читайте. Я очень старался. Я уйду.
– Куда?
– Я вижу по укоризне глаз ваших, что еще мало лил на затылок холодной воды.
Он повернулся и вышел с странными движениями слепого. Грэй развернул бумажку; карандаш, должно быть, дивился, когда выводил по ней эти чертежи, напоминающие расшатанный забор. Вот что писал Летика: «Сообразно инструкции. После пяти часов ходил по улице. Дом с серой крышей, по два окна сбоку; при нем огород. Означенная особа приходила два раза: за водой раз, за щепками для плиты два. По наступлении темноты проник взглядом в окно, но ничего не увидел по причине занавески».
Затем следовало несколько указаний семейного характера, добытых Летикой, видимо, путем застольного разговора, так как меморий заканчивался, несколько неожиданно, словами: «В счет расходов приложил малость своих».
Но существо этого донесения говорило лишь о том, что мы знаем из первой главы. Грэй положил бумажку в стол, свистнул вахтенного и послал за Пантеном, но вместо помощника явился боцман Атвуд, обдергивая засученные рукава.
– Мы ошвартовались у дамбы, – сказал он. – Пантен послал узнать, что вы хотите. Он занят: на него напали там какие-то люди с трубами, барабанами и другими скрипками. Вы звали их на «Секрет»? Пантен просит вас прийти, говорит, у него туман в голове.
– Да, Атвуд, – сказал Грэй, – я, точно, звал музыкантов; подите, скажите им, чтобы шли пока в кубрик. Далее будет видно, как их устроить. Атвуд, скажите им и команде, что я выйду на палубу через четверть часа. Пусть соберутся; вы и Пантен, разумеется, тоже послушаете меня.
Атвуд взвел, как курок, левую бровь, постоял боком у двери и вышел. Эти десять минут Грэй провел, закрыв руками лицо; он ни к чему не приготовлялся и ничего не рассчитывал, но хотел мысленно помолчать. Тем временем его ждали уже все, нетерпеливо и с любопытством, полным догадок. Он вышел и увидел по лицам ожидание невероятных вещей, но так как сам находил совершающееся вполне естественным, то напряжение чужих душ отразилось в нем легкой досадой.
– Ничего особенного, – сказал Грэй, присаживаясь на трап мостика. – Мы простоим в устье реки до тех пор, пока не сменим весь такелаж. Вы видели, что привезен красный шелк; из него под руководством парусного мастера Блента смастерят «Секрету» новые паруса. Затем мы отправимся, но куда – не скажу; во всяком случае, недалеко отсюда. Я еду к жене. Она еще не жена мне, но будет ею. Мне нужны алые паруса, чтобы еще издали, как условлено с нею, она заметила нас. Вот и все. Как видите, здесь нет ничего таинственного. И довольно об этом.
– Да, – сказал Атвуд, видя по улыбающимся лицам матросов, что они приятно озадачены и не решаются говорить. – Так вот в чем дело, капитан… Не нам, конечно, судить об этом. Как желаете, так и будет. Я поздравляю вас.
– Благодарю! – Грэй сильно сжал руку боцмана, но тот, сделав невероятное усилие, ответил таким пожатием, что капитан уступил. После этого подошли все, сменяя друг друга застенчивой теплотой взгляда и бормоча поздравления. Никто не крикнул, не зашумел – нечто не совсем простое чувствовали матросы в отрывистых словах капитана. Пантен облегченно вздохнул и повеселел – его душевная тяжесть растаяла. Один корабельный плотник остался чем-то недоволен: вяло подержав руку Грэя, он мрачно спросил: – Как это вам пришло в голову, капитан?
– Как удар твоего топора, – сказал Грэй. – Циммер! Покажи своих ребятишек.
Скрипач, хлопая по спине музыкантов, вытолкнул семь человек, одетых крайне неряшливо.
– Вот, – сказал Циммер, – это – тромбон; не играет, а палит, как из пушки. Эти два безусых молодца – фанфары; как заиграют, так сейчас же хочется воевать. Затем кларнет, корнет-а-пистон и вторая скрипка. Все они – великие мастера обнимать резвую приму, то есть меня. А вот и главный хозяин нашего веселого ремесла – Фриц, барабанщик. У барабанщиков, знаете, обычно – разочарованный вид, но этот бьет с достоинством, с увлечением. В его игре есть что-то открытое и прямое, как его палки. Так ли все сделано, капитан Грэй?
– Изумительно, – сказал Грэй. – Всем вам отведено место в трюме, который на этот раз, значит, будет погружен разными «скерцо», «адажио» и «фортиссимо». Разойдитесь. Пантен, снимайте швартовы, трогайтесь. Я вас сменю через два часа.
Этих двух часов он не заметил, так как они прошли все в той же внутренней музыке, не оставлявшей его сознания, как пульс не оставляет артерий. Он думал об одном, хотел одного, стремился к одному. Человек действия, он мысленно опережал ход событий, жалея лишь о том, что ими нельзя двигать так же просто и скоро, как шашками. Ничто в спокойной наружности его не говорило о том напряжении чувства, гул которого, подобно гулу огромного колокола, бьющего над головой, мчался во всем его существе оглушительным нервным стоном. Это довело его, наконец, до того, что он стал считать мысленно: «Один», два… тридцать…» и так далее, пока не сказал «тысяча». Такое упражнение подействовало: он был способен наконец взглянуть со стороны на все предприятие. Здесь несколько удивило его то, что он не может представить внутреннюю Ассоль, так как даже не говорил с ней. Он читал где-то, что можно, хотя бы смутно, понять человека, если, вообразив себя этим человеком, скопировать выражение его лица. Уже глаза Грэя начали принимать несвойственное им странное выражение, а губы под усами складываться в слабую, кроткую улыбку, как, опомнившись, он расхохотался и вышел сменить Пантена.
Было темно. Пантен, подняв воротник куртки, ходил у компаса, говоря рулевому: «Лево четверть румба; лево. Стой: еще четверть». «Секрет» шел с половиною парусов при попутном ветре.
– Знаете, – сказал Пантен Грэю, – я доволен.
– Чем?
– Тем же, чем и вы. Я все понял. Вот здесь, на мостике. – Он хитро подмигнул, светя улыбке огнем трубки.
– Ну-ка, – сказал Грэй, внезапно догадавшись, в чем дело, – что вы там поняли? – Лучший способ провезти контрабанду, – шепнул Пантен. – Всякий может иметь такие паруса, какие хочет. У вас гениальная голова, Грэй!
– Бедный Пантен! – сказал капитан, не зная, сердиться или смеяться. – Ваша догадка остроумна, но лишена всякой основы. Идите спать. Даю вам слово, что вы ошибаетесь. Я делаю то, что сказал.
Он отослал его спать, сверился с направлением курса и сел. Теперь мы его оставим, так как ему нужно быть одному.
VI. АССОЛЬ ОСТАЕТСЯ ОДНА
Лонгрен провел ночь в море; он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. В тяжелые часы жизни ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блужданья. Тишина, только тишина и безлюдье – вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые и спутанные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Ассоль. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время; кроме того, он боялся воскресить утихшую боль. Быть может, поступив на корабль, он снова вообразит, что там, в Каперне его ждет не умиравший никогда друг, и возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания. Мери никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Ассоль было что есть, решив поэтому поступить так, как приказывает забота.
Когда Лонгрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца; на этот раз однако в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Ассоль; вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо – то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лонгрену так непонятно, что он быстро спросил: – Ты больна?
Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся наконец ее духовного слуха, Ассоль встрепенулась, как ветка, тронутая рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь, но, как всегда, не требовалось придумывать – что именно; она сказала: – Нет, я здорова… Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело, но это оттого, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал.
– Что бы я ни надумал, – сказал Лонгрен, усаживая девушку на колени, – ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лиссом.
– Да, – издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильна перестать радоваться. – Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей. – Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. – Да, поскорей, милый; я жду.
– Ассоль! – сказал Лонгрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. – Выкладывай, что случилось?
Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезно-внимательной, только в ее глазах блестела еще новая жизнь.
– «Ты странный, – сказала она. – Решительно ничего. Я собирала орехи.»
Лонгрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок; перечислил все необходимые вещи и дал несколько советов.
– Я вернусь домой дней через десять, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто захочет тебя обидеть, скажи: – «Лонгрен скоро вернется». Не думай и не беспокойся обо мне; худого ничего не случится.
После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, вскинув мешок за плечи, вышел на городскую дорогу. Ассоль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом; затем вернулась. Немало домашних работ предстояло ей, но она забыла об этом. С интересом легкого удивления осматривалась она вокруг, как бы уже чужая этому дому, так влитому в сознание с детства, что, казалось, всегда носила его в себе, а теперь выглядевшему подобно родным местам, посещенным спустя ряд лет из круга жизни иной. Но что-то недостойное почудилось ей в этом своем отпоре, что-то неладное. Она села к столу, на котором Лонгрен мастерил игрушки, и попыталась приклеить руль к корме; смотря на эти предметы, невольно увидела она их большими, настоящими; все, что случилось утром, снова поднялось в ней дрожью волнения, и золотое кольцо, величиной с солнце, упало через море к ее ногам.
Не усидев, она вышла из дома и пошла в Лисе. Ей совершенно нечего было там делать; она не знала, зачем идет, но не идти – не могла. По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление; она толково объяснила ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом.
Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был не властен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко взглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Порода наблюдательных людей в течение дня замечала неоднократно неизвестную, странную на взгляд девушку, проходящую среди яркой толпы с видом глубокой задумчивости. На площади она подставила руку струе фонтана, перебирая пальцами среди отраженных брызг; затем, присев, отдохнула и вернулась на лесную дорогу. Обратный путь она сделала со свежей душой, в настроении мирном и ясном, подобно вечерней речке, сменившей, наконец, пестрые зеркала дня ровным в тени блеском. Приближаясь к селению, она увидала того самого угольщика, которому померещилось, что у него зацвела корзина; он стоял возле повозки с двумя неизвестными мрачными людьми, покрытыми сажей и грязью. Ассоль обрадовалась. – Здравствуй. Филипп, – сказала она, – что ты здесь делаешь?
– Ничего, муха. Свалилось колесо; я его поправил, теперь покуриваю да калякаю с нашими ребятами. Ты откуда?
Ассоль не ответила.
– Знаешь, Филипп, – заговорила она, – я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду; наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом.
– Это ты хочешь уехать? Куда же ты собралась? – изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.
– Не знаю. – Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, – зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков и, подумав, прибавила: – Все это мне неизвестно. Я не знаю ни дня, ни часа и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай, – прощай; ты часто меня возил.
Она взяла огромную черную руку и привела ее в состояние относительного трясения. Лицо рабочего разверзло трещину неподвижной улыбки. Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть голову.
– Чудеса, – сказал угольщик, – поди-ка, пойми ее. – Что-то с ней сегодня… такое и прочее.
– Верно, – поддержал второй, – не то она говорит, не то – уговаривает. Не наше дело.
– Не наше дело, – сказал и третий, вздохнув. Затем все трое сели в повозку и, затрещав колесами по каменистой дороге, скрылись в пыли.
VII. АЛЫЙ «СЕКРЕТ»
Был белый утренний час; в огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки; сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот, но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющийся к горам.
Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони; это запел кларнет. Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полной печального, протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе; усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию.
Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся; в нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося к устью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок; слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса; наконец, тепло солнца произвело нужный эффект; воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился по реям в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей, все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов цвета глубокой радости.
Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел; затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю.
Пока «Секрет» шел руслом реки, Грэй стоял у штурвала, не доверяя руля матросу – он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритый и смиренно надутый. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грэя.
– Теперь, – сказал Грэй, – когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями, как обещал в Лиссе. Заметьте – я не считаю вас глупым или упрямым, нет; вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни; они кричат, но, вы не услышите. Я делаю то, что существует, как старинное представление о прекрасном-несбыточном, и что, по существу, так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я на ваших глазах.
Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так: – Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойство характеров; я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня, я же не хочу никого другого, кроме нее, может быть именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное – получать дражайший пятак, легко дать этот пятак, но, когда душа таит зерно пламенного растения – чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, – тогда все поймут, как это приятно, как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса: улыбка, веселье, прощение, и – вовремя сказанное, нужное слово. Владеть этим – значит владеть всем. Что до меня, то наше начало – мое и Ассоль – останется нам навсегда в алом отблеске парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
– Да, капитан. – Пантен крякнул, вытерев усы аккуратно сложенным чистым платочком. – Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро. И дам ему табаку – свой он проиграл в карты.
Прежде чем Грэй, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грэй оглянулся, посмотрев вверх; над ним молча рвались алые паруса; солнце в их швах сияло пурпурным дымом. «Секрет» шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грэя – ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот; спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели; полный тех мыслей, которые опережают слова.
К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера, крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал – «лечь в дрейф!».
– Братцы, – сказал Грэй матросам, – нас не обстреляют, не бойтесь; они просто не верят своим глазам.
Он приказал дрейфовать. Пантен, крича как на пожаре, вывел «Секрет» из ветра; судно остановилось, между тем как от крейсера помчался паровой катер с командой и лейтенантом в белых перчатках; лейтенант, ступив на палубу корабля, изумленно оглянулся и прошел с Грэем в каюту, откуда через час отправился, странно махнув рукой и улыбаясь, словно получил чин, обратно к синему крейсеру. По-видимому, этот раз Грэй имел больше успеха, чем с простодушным Пантеном, так как крейсер, помедлив, ударил по горизонту могучим залпом салюта, стремительный дым которого, пробив воздух огромными сверкающими мячами, развеялся клочьями над тихой водой. Весь день на крейсере царило некое полупраздничное остолбенение; настроение было неслужебное, сбитое – под знаком любви, о которой говорили везде – от салона до машинного трюма, а часовой минного отделения спросил проходящего матроса:
– «Том, как ты женился?» – «Я поймал ее за юбку, когда она хотела выскочить от меня в окно», – сказал Том и гордо закрутил ус.
Некоторое время «Секрет» шел пустым морем, без берегов; к полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грэй уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала; по странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы; здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и, действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: – «Опять жучишка… дурак!..» – и хотела решительно сдуть гостя в траву, но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами.
Она вздрогнула, откинулась, замерла; потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. «Секрет» в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта; негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка; музыка ритмических переливов, переданных не совсем удачно известными всем словами: «Налейте, налейте бокалы – и выпьем, друзья, за любовь»… – В ее простоте, ликуя, развертывалось и рокотало волнение.
Не помня, как оставила дом, Ассоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события; на первом углу она остановилась почти без сил; ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса; тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть.
Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят аффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу; у корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство; теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергающего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети впопыхах мчались к берегу, кто в чем был; жители перекликались со двора в двор, наскакивали друг на друга, вопили и падали; скоро у воды образовалась толпа, и в эту толпу стремительно вбежала Ассоль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, с злобным испугом. Больше говорили мужчины; сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины, но если уж которая начинала трещать – яд забирался в голову. Как только появилась Ассоль, все смолкли, все со страхом отошли от нее, и она осталась одна средь пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю.
От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов; среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Ассоль; смертельно боясь всего – ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи – она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: – Я здесь, я здесь! Это я!
Тогда Циммер взмахнул смычком – и та же мелодия грянула по нервам толпы, но на этот раз полным, торжествующим хором. От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали девушка почти не могла уже различать, что движется: она, корабль или лодка – все двигалось, кружилось и опадало.
Но весло резко плеснуло вблизи нее; она подняла голову. Грэй нагнулся, ее руки ухватились за его пояс. Ассоль зажмурилась; затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: – Совершенно такой.
– И ты тоже, дитя мое! – вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грэй. – Вот, я пришел. Узнала ли ты меня?
Она кивнула, держась за его пояс, с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Ассоль решилась открыть глаза, покачиванье шлюпки, блеск волн, приближающийся, мощно ворочаясь, борт «Секрета», – все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня – как, она поднялась по трапу в сильных руках Грэя. Палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выплесках парусов, была как небесный сад. И скоро Ассоль увидела, что стоит в каюте – в комнате, которой лучше уже не может быть.
Тогда сверху, сотрясая и зарывая сердце в свой торжествующий крик, вновь кинулась огромная музыка. Опять Ассоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грэй взял ее руки и, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно. Бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута, Грэй поднял за подбородок вверх это давным-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки, наконец, ясно раскрылись. В них было все лучшее человека.
– Ты возьмешь к нам моего Лонгрена? – сказала она.
– Да. – И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась.
Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов на разных языках и разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу.
Меж тем на палубе у гротмачты, возле бочонка, изъеденного червем, с сбитым дном, открывшим столетнюю темную благодать, ждал уже весь экипаж. Атвуд стоял; Пантен чинно сидел, сияя, как новорожденный. Грэй поднялся вверх, дал знак оркестру и, сняв фуражку, первый зачерпнул граненым стаканом, в песне золотых труб, святое вино.
– Ну, вот… – сказал он, кончив пить, затем бросил стакан. – Теперь пейте, пейте все; кто не пьет, тот враг мне.
Повторить эти слова ему не пришлось. В то время, как полным ходом, под всеми парусами уходил от ужаснувшейся навсегда Каперны «Секрет», давка вокруг бочонка превзошла все, что в этом роде происходит на великих праздниках.
– Как понравилось оно тебе? – спросил Грэй Летику.
– Капитан! – сказал, подыскивая слова, матрос. – Не знаю, понравился ли ему я, но впечатления мои нужно обдумать. Улей и сад!
– Что?!
– Я хочу сказать, что в мой рот впихнули улей и сад. Будьте счастливы, капитан. И пусть счастлива будет та, которую «лучшим грузом» я назову, лучшим призом «Секрета»!
Когда на другой день стало светать, корабль был далеко от Каперны. Часть экипажа как уснула, так и осталась лежать на палубе, поборотая вином Грэя; держались на ногах лишь рулевой да вахтенный, да сидевший на корме с грифом виолончели у подбородка задумчивый и хмельной Циммер. Он сидел, тихо водил смычком, заставляя струны говорить волшебным, неземным голосом, и думал о счастье…
Жорж Санд Консуэло
Глава 1
– Да, да, сударыни, можете качать головой сколько вам угодно: самая благоразумная, самая лучшая среди вас – это… Но я не назову ее, так как она единственная во всем моем классе скромница и я боюсь, что, назвав ее имя, я заставлю ее тотчас же утратить эту редкую добродетель, которой я желаю и вам.
– In nomine Patris, et Filii, et Spiritu Sancto, – пропела Констанца с вызывающим видом.
– Amen, – пропели хором все остальные девочки.
– Скверный злюка, – сказала Клоринда, мило надув губки и слегка ударяя ручкой веера по костлявым, морщинистым пальцам учителя пения, словно уснувшим на немой клавиатуре органа.
– Это вы не по адресу! – произнес старый профессор с глубоко невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет по шести часов в день подвергался дерзким и шаловливым выходкам нескольких поколений юных особ женского пола. – И все-таки, – добавил он, пряча очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на раздраженный и насмешливый улей, – эта разумная, эта кроткая, эта прилежная, эта внимательная, эта добрая девочка – не вы, синьора Клоринда, не вы, синьора Констанца, и не вы, синьора Джульетта, и, уж конечно, не Розина, и еще того менее Микела… – Значит, это я!
– Нет, я!
– Вовсе нет, я!
– Я!
– Я! – закричало разом с полсотни блондинок и брюнеток, кто приятным, кто резким голосом, словно стая крикливых чаек, устремившихся на злосчастную раковину, выброшенную на берег отхлынувшей волной.
Эта раковина, то есть маэстро (и я настаиваю, что никакая метафора не подошла бы в большей мере к его угловатым движениям, глазам с перламутровым отливом, скулам, испещренным красными прожилками, а в особенности – к тысяче седых, жестких и остроконечных завитков его профессорского парика), – маэстро, повторяю я, вынужденный трижды опускаться на скамейку, с которой он подымался, собираясь уйти, но, спокойный и бесстрастный, как раковина, убаюканная и окаменевшая в бурях, долго не поддавался просьбам сказать, какая именно из его учениц заслуживает похвал, на которые он – всегда такой скупой – только что так расщедрился. Наконец, точно с сожалением уступая просьбам, вызванным его же хитростью, он взял свою профессорскую трость, которою обыкновенно отбивал такт, и с ее помощью разделил это недисциплинированное стадо на две шеренги; затем, продвигаясь с важным видом между двойным рядом легкомысленных головок, остановился в глубине хоров, где помещался орган, против маленькой фигурки, сидевшей, скорчившись, на ступеньке. Опершись локтями на колени, заткнув пальцами уши, чтобы не отвлекаться шумом, она разучивала вполголоса урок, чтобы никому не мешать, скрючившись и согнувшись, как обезьянка; а он, торжественный и ликующий, стоял, выпрямившись и вытянув руки, словно Парис, присуждающий яблоко, но не самой красивой, а самой разумной.
– Консуэло? Испанка? – закричали в один голос юные хористки в величайшем изумлении. Затем раздался общий гомерический хохот, вызвавший краску негодования и гнева на величавом челе профессора.
Маленькая Консуэло, заткнув уши, ничего не слышала из того, что говорилось, глаза ее рассеянно блуждали, ни на чем не останавливаясь; она была так погружена в работу, что в течение нескольких минут не обращала ни малейшего внимания на весь этот шум. Заметив наконец, что она является предметом всеобщего внимания, девочка отняла руки от ушей, опустила их на колени и уронила на пол тетрадь; сначала, словно окаменев от изумления, не сконфуженная, а скорее несколько испуганная, она продолжала сидеть, но потом встала, чтобы посмотреть, нет ли позади нее какого-нибудь диковинного предмета или смешной фигуры, вызвавших такую шумную веселость.
– Консуэло, – сказал профессор, взяв ее за руку без дальнейших объяснений, – иди сюда, моя хорошая, и спой мне «Salve, Regina» Перголезе, которое ты разучиваешь две недели, а Клоринда зубрит целый год. Консуэло, ничего не отвечая, не выказывая ни страха, ни гордости, ни смущения, пошла вслед за профессором, который снова уселся за орган и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэло запела просто, непринужденно, и под высокими церковными сводами зазвучал такой прекрасный голос, какой никогда еще здесь не звучал. Она спела «Salve, Regina», причем память ей ни разу не изменила, она не взяла ни одной ноты, которая не прозвучала бы чисто и полно, не была бы вовремя оборвана или выдержана столько, сколько требовалось. Послушно и точно следуя наставлениям маэстро и выполняя в точности его разумные и ясные советы, она при всей своей детской неопытности и беззаботности достигла того, чего не могли бы дать и законченному певцу школа, навык и вдохновение: она спела безупречно.
– Хорошо, дочь моя, – сказал старый маэстро, всегда сдержанный в своих похвалах. – Ты разучила эту вещь добросовестно и спела ее с пониманием. К следующему разу ты повторишь кантату Скарлатти, уже пройденную нами.
– Si, signer professore. Теперь мне можно уйти?
– Да, дитя мое. Девицы, урок окончен!
Консуэло сложила в корзиночку свои тетради, карандаши и маленький веер из черной бумаги – неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, – которым она почти никогда не пользовалась, хотя всегда имела при себе; потом она скользнула за органные трубы, сбежала с легкостью мышки по таинственной лестнице, ведущей в церковь, на мгновение преклонила колени, проходя мимо главного алтаря, и при выходе столкнулась у кропильницы с красивым молодым синьором, который, улыбаясь, подал ей кропило. Окропив лоб и глядя незнакомцу прямо в лицо со смелостью девочки, еще не считающей и не чувствующей себя женщиной, она одновременно и перекрестилась и поблагодарила его, и это вышло так уморительно, что молодой человек расхохотался. Рассмеялась и сама Консуэло, но вдруг, как будто вспомнив, что ее кто-то ждет, она пустилась бегом, в мгновение ока выскочила за дверь и сбежала по ступенькам на улицу.
Тем временем профессор снова спрятал очки в широкий карман жилета и обратился к притихнувшим ученицам.
– Стыдно вам, красавицы! – сказал он. – Эта девочка, самая младшая из вас, пришедшая в мой класс самой последней, только одна и может правильно пропеть соло, да и в хоре, какую бы какофонию вы ни разводили вокруг нее, я неукоснительно слышу ее голос, чистый и верный, как нота клавесина. И это потому, что у нее есть усердие, терпение и то, чего нет и не будет ни у кого из вас: у нее есть понимание.
– Не мог не выпалить своего любимого словечка, – крикнула Клоринда, лишь только маэстро ушел. – Во время урока он повторил его только тридцать девять раз и, наверно, заболел бы, если б не дошел до сорокового.
– Чему тут удивляться, если эта Консуэло делает успехи? – сказала Джульетта. – Она так бедна, что только и думает, как бы поскорее научиться чему-нибудь и начать зарабатывать на хлеб.
– Мне говорили, что ее мать цыганка, – добавила Микелина, – и что девочка пела на улицах и на дорогах, перед тем как попасть сюда. Нельзя отрицать, что у нее прекрасный голос, но у бедняжки нет и тени ума! Она долбит все наизусть, рабски следуя указаниям профессора, а все остальное довершают ее здоровые легкие.
– Пусть у нее будут самые лучшие легкие и самый замечательный ум в придачу, – сказала красавица Клоринда, – я отказалась бы от всех этих преимуществ, если б мне пришлось поменяться с ней наружностью.
– Вы потеряли бы не так уж много, – возразила Констанца, не особенно стремившаяся признавать красоту Клоринды.
– Она совсем нехороша собой, – добавила еще одна. – Желтая, как пасхальная свечка, а глаза большие, но совсем невыразительные. И вдобавок всегда так плохо одета! Нет, бесспорно: она дурнушка.
– Бедняжка! Какая она несчастная! Ни денег, ни красоты!
Так девушки закончили свой «панегирик» в честь Консуэло и, пожалев ее, утешили себя за то, что восхищались ею, когда она пела.
Глава 2
Это происходило в Венеции около ста лет тому назад, в церкви Мендикаити, где знаменитый маэстро Порпора только что закончил первую репетицию своей музыки к большой вечерне, которою он должен был дирижировать в следующее воскресенье, в день Успения. Молодые хористки, которых он так сурово пробрал, были питомицами одной из тех школ, где девушек обучали на казенный счет, а потом давали пособие «для замужества или для поступления в монастырь», как сказал Жан-Жак Руссо, восхищавшийся их великолепными голосами около того же времени и в этой самой церкви. Ты хорошо помнишь, читатель, все эти подробности и прелестный эпизод, рассказанный им самим по этому поводу в восьмой книге его «Исповеди». Я не стану повторять здесь эти очаровательные страницы, после которых ты, конечно, не пожелал бы снова приняться за мои; я поступил бы точно так же на твоем месте, мой друг читатель. Надеюсь, однако, что в данную минуту у тебя нет под рукою «Исповеди», и продолжаю свое повествование.
Не все эти молодые девушки были одинаково бедны, и, несомненно, несмотря на всю зоркость администрации, в школу проскальзывали иногда и такие, которые не так уж нуждались, но использовали возможность получить за счет республики артистическое образование и недурно пристроиться. Поэтому-то иные из них и позволяли себе пренебрегать священными законами равенства, благодаря которым им удалось прокрасться на те самые скамьи, где сидели их сестры победнее. Не все также следовали суровым предначертаниям республики относительно их будущей судьбы. Нередко случалось, что какая-либо из них, воспользовавшись даровым воспитанием, отказывалась затем от пособия, стремясь к иной, более блестящей карьере. Видя, что подобные вещи неизбежны, администрация допускала иногда к обучению музыке детей бедных артистов, которым бродячая жизнь не позволяла оставаться надолго в Венеции. К числу таких относилась и маленькая Консуэло, родившаяся в Испании и попавшая оттуда в Италию через Санкт-Петербург, Константинополь, Мексику или Архангельск, а может быть, каким-нибудь другим, еще более прямым путем, доступным лишь для цыган.
Однако цыганкой она была только по профессии и по прозвищу, так как происхождения она была не цыганского, не индийского, и, во всяком случае, не еврейского. В ней текла хорошая испанская кровь, и происходила она, несомненно, из мавританского рода, так как отличалась смуглостью и была вся проникнута спокойствием, совершенно чуждым бродячим племенам. Я отнюдь не хочу сказать что-либо дурное по поводу этих племен. Если бы образ Консуэло был выдуман мною, то, весьма возможно, я заимствовал бы его у народа Израиля или из еще более древних времен, но она принадлежала к потомкам Измаила, все ее существо говорило об этом. Мне не довелось ее увидеть, ибо мне не исполнилось еще ста лет, но так утверждали, и я не могу это опровергнуть. У нее не было лихорадочной порывистости, перемежающейся с припадками апатичной томности, характерной для цыганки; не было у нее и вкрадчивого любопытства и назойливого попрошайничанья бедной еврейки. Она была спокойна, как воды лагун, и вместе с тем не менее подвижна» чем легкие гондолы, беспрестанно скользящие по их поверхности. Так как росла Консуэло быстро, а мать ее была чрезвычайно бедна, то она всегда носила платья, слишком короткие для своего возраста, что придавало этой четырнадцатилетней девочке, привыкшей ходить босиком, особую дикую грацию и делало ее походку такой непринужденной, что глядеть на нее было и приятно и жалко. Была ли у нее маленькая ножка – никто не мог сказать, до того плохо она была обута. Зато ее стан, затянутый в корсаж, слишком тесный и лопнувший по швам, был строен и гибок, словно пальма, но без округлости, без соблазнительности. Бедная девочка об этом и не думала, она привыкла к тому, что все белокурые, белые и полненькие дочери Адриатики вечно звали ее «обезьяной», «лимоном», «чернушкой». Ее лицо, совершенно круглое, бледное и незначительное, никого бы не поразило, если б короткие, густые, закинутые за уши волосы и в то же время серьезный вид человека, равнодушного ко всему внешнему миру, не придавали ей некоторой мало приятной оригинальности. Непривлекательные лица постепенно теряют способность нравиться. Человек, обладающий таким лицом, для всех безразличный, начинает относиться безразлично к своей особе и этим еще более отталкивает от себя взоры. Красивый следит за собой, прихорашивается, приглядывается к себе, точно постоянно смотрится в воображаемое зеркало. Некрасивый забывает о себе и становится небрежным. Но есть два вида некрасивости: одна, страдая от общего неодобрения, завидует и злобствует, – это и есть настоящая, истинная некрасивость; другая, наивная, беззаботная, мирится со своим положением и равнодушна к производимому ею впечатлению, – подобная некрасивость, не радуя взора, может привлекать сердца; такою именно и была некрасивость Консуэло. Люди великодушные, принимавшие в ней участие, на первых порах сожалели, что она некрасива, потом, как бы одумавшись, бесцеремонно гладили ее по голове, чего не сделали бы по отношению к красивой, и говорили: «Зато ты, кажется, славная девочка». Консуэло была довольна и этим, хотя отлично понимала, что такая фраза значит: «Больше у тебя ничего нет».
Между тем красивый молодой синьор, протянувший Консуэло кропило со святой водой, продолжал стоять у кропильницы, пока все ученицы одна за другой не прошли мимо него. Он разглядывал всех с большим вниманием, и когда самая красивая из них, Клоринда, приблизилась к нему, он решил подать ей святой воды и омочил пальцы, чтобы иметь удовольствие прикоснуться к ее пальчикам. Молодая девушка, покраснев от чувства удовлетворенного тщеславия, ушла, бросив ему стыдливо-смелый взгляд, отнюдь не выражавший ни гордости, ни целомудрия.
Как только ученицы скрылись за оградой монастыря, учтивый патриций вернулся на середину церкви и, приблизившись к профессору, медленно спускавшемуся с хоров, воскликнул:
– Клянусь Бахусом, дорогой маэстро, вы мне скажете, которая из ваших учениц только что пела «Salve, Regina»!
– А зачем вам это знать, граф Дзустиньяни? – спросил профессор, выходя вместе с ним из церкви.
– Для того, чтобы вас поздравить, – ответил молодой патриций. – Я давно уже слежу не только за вашими вечерними церковными службами, но и за вашими занятиями с ученицами, – вы ведь знаете, какой я любитель церковной музыки. И уверяю вас, я впервые слышу Перголезе в таком совершенном исполнении, а что касается голоса, то это самый прекрасный, какой мне довелось слышать в моей жизни.
– Клянусь богом, это так, – проговорил профессор с самодовольной важностью, наслаждаясь в то же время большой понюшкой табаку.
– Скажите же мне имя неземного существа, которое привело меня в такой восторг, – настаивал граф. – Вы строги к себе, никогда не бываете довольны, но надо же признаться, что свою школу вы сделали одной из лучших в Италии: ваши хоры превосходны, и ваши солистки очень хороши. Однако музыка, которую вы даете исполнять своим ученицам, такая возвышенная, такая строгая, что редко кто из них может передать все ее красоты…
– Они не могут передать эти красоты так, чтоб их почувствовали другие, раз сами их не чувствуют, – с грустью промолвил профессор. – В свежих, звучных, сильных голосах, слава богу, недостатка у нас нет, а вот что касается до музыкальных натур – увы, они так редки, так несовершенны…
– Ну, во всяком случае, одна у вас есть, и притом изумительно одаренная, – возразил граф. – Великолепный голос! Сколько чувства, какое умение! Да назовите же мне ее наконец!
– А ведь, правда, она доставила вам удовольствие? – спросил профессор, избегая ответа.
– Она растрогала меня, довела до слез… И при помощи таких простых средств, так натурально, что вначале я даже не мог понять, в чем дело. Но потом, о мой дорогой учитель, я вспомнил все то, что вы так часто повторяли, преподавая мне ваше божественное искусство, и впервые постиг, насколько вы были правы.
– А что же такое я вам говорил? – торжествующе спросил маэстро.
– Вы говорили мне, что великое, истинное и прекрасное в искусстве это простота, – ответил граф.
– Я упоминал вам также о блеске, изысканности и изощренности и говорил, что нередко приходится аплодировать этим качествам и восхищаться ими.
– Конечно; однако вы прибавляли, что эти второстепенные качества отделяет от истинной гениальности целая пропасть. Так вот, дорогой учитель, ваша певица – одна по ту сторону пропасти, а все остальные – по эту.
– Это правда и хорошо сказано, – потирая от удовольствия руки, заметил профессор.
– Ну, а ее имя? – настаивал граф.
– Чье имя? – лукаво переспросил профессор.
– Ах, боже мой! Да имя сирены, или, вернее, архангела, которого я только что слушал.
– А для чего вам это имя, граф? – строго возразил Порпора.
– Скажите, господин профессор, почему вы хотите сделать из него тайну?
– Я вам объясню, если вы предварительно откроете мне, почему вы так настойчиво добиваетесь узнать это имя.
– Разве не естественно непреодолимое желание узнать, увидеть и назвать то, чем восхищаешься?
– Так позвольте же мне уличить вас, любезный граф, – это не единственное ваше основание: вы большой любитель и знаток музыки, это я знаю, но к тому же вы еще и владелец театра Сан-Самуэле. Не столько ради выгоды, сколько ради славы вы привлекаете к себе лучшие таланты и лучшие голоса Италии. Вы прекрасно знаете, что мы хорошо учим, что у нас серьезно поставлено дело и что из нашей школы выходят большие артистки. Вы уже похитили у нас Кориллу, а так как не сегодня завтра у вас ее в свою очередь может переманить какой-нибудь другой театр, то вы и бродите вокруг нашей школы, чтобы высмотреть, не подготовили ли мы для вас новой Кориллы… Вот где истина, господин граф. Сознайтесь, что я сказал правду.
– Ну, а если бы и так, дорогой маэстро, – возразил граф улыбаясь, какое зло усматриваете вы в этом?
– А такое зло, господин граф, что вы развращаете, вы губите эти бедные создания.
– Однако что вы хотите этим сказать, свирепый профессор? С каких пор вы стали хранителем этих хрупких добродетелей?
– Я хочу сказать то, что есть в действительности, господин граф. Я не забочусь ни об их добродетели, ни о том, насколько прочна эта добродетель: я просто забочусь об их таланте, который вы извращаете и унижаете на подмостках своих театров, давая им исполнять пошлую музыку дурного вкуса. Разве это не ужас, не позор видеть, как та самая Корилла, которая уже начинала было по-настоящему понимать серьезное искусство, опустилась от духовного пения к светскому, от молитвы – к шутке, от алтаря – на подмостки, от великого – к смешному, от Аллегри и Палестрины – к Альбинони и цирюльнику Аполлини?
– Итак, в своей строгости вы отказываетесь открыть мне имя этой девушки, несмотря на то, что я не могу иметь никаких видов на нее, не зная еще, есть ли у нее качества, необходимые для сцены?
– Решительно отказываюсь.
– И вы думаете, что я его не открою?
– Увы! Задавшись этой целью, вы его откроете, но знайте, что я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы помешать вам похитить у нас эту певицу.
– Прекрасно, маэстро, только вы уже наполовину побеждены: ваше таинственное божество я видел, угадал, узнал…
– Вот как! Вы убеждены в этом? – недоверчиво и сдержанно промолвил профессор.
– Мои глаза и сердце открыли мне ее, в доказательство чего я сейчас набросаю ее портрет: она высокого роста – это, кажется, самая высокая из всех ваших учениц, – бела, как снег на вершине Фриуля, румяна, как небосклон на заре прекрасного дня. У нее золотистые волосы и лазоревые глаза и приятная полнота. На одном пальчике колечко с рубином, – прикоснувшись к моей руке, он обжег меня, точно искра волшебного огня.
– Браво! – насмешливо воскликнул Порпора. – В таком случае мне нечего от вас таить: имя этой красавицы – Клоринда. Идите к ней сейчас же с вашими соблазнительными предложениями, дайте ей золота, бриллиантов, тряпок! Она, конечно, охотно согласится поступить в вашу труппу и, вероятно, сможет заменить Кориллу, так как нынче публика ваших театров предпочитает красивые плечи красивым звукам и дерзкие взгляды возвышенному уму.
– Неужели я так ошибся, мой дорогой учитель, и Клоринда всего лишь заурядная красотка? – с некоторым смущением проговорил граф.
– А что, если моя сирена, мое божество, мой архангел, как вы ее называете, совсем нехороша собой? – лукаво спросил маэстро.
– Если она урод, умоляю вас, не показывайте ее мне: моя мечта была бы слишком жестоко разбита. Если она только некрасива, я мог бы еще обожать ее, но не стал бы приглашать в свой театр: на сцене талант без красоты часто является для женщины несчастьем, борьбой, пыткой. Однако что это вы там увидели, маэстро, и почему вы вдруг остановились?
– Мы как раз у пристани, где обычно стоят гондолы, но сейчас я не вижу ни одной. А вы, граф, куда смотрите?
– Поглядите вон на того юнца, что сидит подле довольно невзрачной девчушки, – не мой ли это питомец Андзолето, самый смышленый и самый красивый из наших юных плебеев? Обратите на него внимание, маэстро. Это так же интересно для вас, как и для меня. У этого мальчика лучший тенор в Венеции, страстная любовь к музыке и исключительные способности. Я давно уже хочу поговорить с вами и просить вас заняться с ним. Вот его я действительно прочу для своего театра и надеюсь, что через несколько лет буду вознагражден за свои заботы о нем. Эй, Дзото, поди сюда, мой мальчик, я представлю тебя знаменитому маэстро Порпоре.
Андзолето вытащил свои босые ноги из воды, где они беззаботно болтались в то время, как он просверливал толстой иглой хорошенькие раковины, которые в Венеции так поэтично называют fiori di mare. Вся его одежда состояла из очень поношенных штанов и довольно тонкой, но совершенно изодранной рубашки, сквозь которую проглядывали его белые, точеные, словно у юного Вакха, плечи. Он действительно отличался греческой красотой молодого фавна, а в лице его было столь часто встречающееся в языческой скульптуре сочетание мечтательной грусти и беззаботной иронии. Его курчавые и вместе с тем тонкие белокурые волосы, позолоченные солнцем, бесчисленными короткими крутыми локонами вились вокруг его алебастровой шеи. Все черты его лица были идеально правильны, но в пронзительных черных, как чернила, глазах проглядывало что-то слишком дерзкое, и это не понравилось профессору. Услышав голос Дзустиньяни, мальчик вскочил, бросил все ракушки на колени девочки, сидевшей с ним рядом, и в то время как она, не вставая с места, продолжала нанизывать их вперемежку с золотистым бисером, подошел к графу и, по местному обычаю, поцеловал ему руку.
– В самом деле красивый мальчик! – проговорил профессор, ласково потрепав его по щеке. – Но мне кажется, что он занимается уж слишком ребяческим для своих лет делом, ведь ему, наверно, лет восемнадцать?
– Скоро будет девятнадцать, sior profesor, – ответил Андзолето по-венециански. – А вожусь я с раковинами только потому, что хочу помочь маленькой Консуэло, которая делает из них ожерелья.
– Я и не подозревал, Консуэло, что ты любишь украшения, – проговорил Порпора, подходя с графом и Андзолето к своей ученице.
– О, это не для меня, господин профессор, – ответила Консуэло, приподнимаясь только наполовину, чтобы не уронить в воду раковины из передника, – это ожерелья для продажи, чтобы купить потом рису и кукурузы.
– Она бедна и таким путем добывает на пропитание своей матери, – пояснил Порпора. – Послушай, Консуэло, – сказал он девочке, – когда у вас с матерью нужда, обращайся ко мне, но я запрещаю тебе просить милостыню, поняла?
– О, вам незачем запрещать ей это, sior profesor, – с живостью возразил Андзолето. – Она сама никогда бы не стала просить милостыню, да и я не допустил бы этого.
– Но ведь у тебя самого ровно ничего нет! – сказал граф.
– Ничего, кроме ваших милостей, ваше сиятельство, но я делюсь с этой девочкой.
– Она твоя родственница?
– Нет, она чужестранка, это Консуэло.
– Консуэло? Какое странное имя, – заметил граф.
– Прекрасное имя, синьор, – возразил Андзолето, – оно означает «утешение»…
– В добрый час! Как видно, она твоя подруга?
– Она моя невеста, синьор.
– Уже? Каково! Эти дети уже мечтают о свадьбе.
– Мы обвенчаемся в тот день, когда вы, ваше сиятельство, подпишете мой ангажемент в театр Сан-Самуэле.
– В таком случае, дети мои, вам придется еще долго ждать.
– О, мы подождем, – проговорила Консуэло с веселым спокойствием невинности.
Граф и маэстро еще несколько минут забавлялись наивными ответами юной четы, затем профессор велел Андзолето прийти к нему на следующий день, обещав послушать его, и они ушли, предоставив юношу его серьезным занятиям.
– Как вы находите эту девочку? – спросил профессор графа.
– Я уже видел ее сегодня и нахожу, что она достаточно некрасива, чтобы оправдать пословицу: «В глазах восемнадцатилетнего мальчика каждая женщина – красавица».
– Прекрасно, – ответил профессор, – теперь я могу вам открыть, что ваша божественная певица, ваша сирена, ваша таинственная красавица – Консуэло.
– Как? Она? Эта замарашка? Этот черный худенький кузнечик? Быть не может, маэстро!
– Она самая, сиятельный граф. Разве вы не находите, что она была бы соблазнительной примадонной?
Граф остановился, обернулся, еще раз издали поглядел на Консуэло и, сложив руки, с комическим отчаянием воскликнул:
– Праведное небо! Как можешь ты допускать подобные ошибки, наделяя огнем гениальности такие безобразные головы!
– Значит, вы отказываетесь от ваших преступных намерений? – спросил профессор.
– Разумеется.
– Вы обещаете мне это? – добавил Порпора.
– О, клянусь вам! – ответил граф.
Глава 3
Рожденный под небом Италии, взращенный волею случая, как морская птица, бедный сирота, заброшенный, но все же счастливый в настоящем и верящий в будущее, Андзолето, этот несомненный плод любви, этот девятнадцатилетний красавец юноша, привольно проводивший целые дни около маленькой Консуэло на каменных плитах Венеции, не был новичком в любви. Познав радости легких побед, не раз выпадавших ему на долю, он бы уже истаскался и, быть может, развратился, если бы жил в нашем печальном климате и если бы природа не одарила его таким крепким организмом. Однако, рано развившись физически, предназначенный для долгой и сильной зрелости, он еще сохранил чистое сердце, а чувственность его сдерживалась волей. Случайно он повстречался с маленькой испанкой, набожно распевавшей молитвы перед изваянием мадонны; и, чтобы поупражнять свой голос, он пел с нею при свете звезд целыми вечерами. Встречались они и на песчаном взморье Лидо, собирая ракушки: он – для еды, она – чтобы делать из них четки и украшения; встречались и в церквах, где она молилась богу всем сердцем, а он во все глаза смотрел на красивых дам. И при всех этих встречах Консуэло казалась ему такой доброй, кроткой, услужливой и веселой, что он, сам не зная как и почему, сделался ее другом и неразлучным спутником. Андзолето знал в любви пока одно лишь наслаждение. К Консуэло он чувствовал дружбу, но, будучи сыном народа и страны, где страсти довлеют над привязанностями, он не сумел дать этой дружбе другого названия, как любовь. Когда он заговорил об этом с Консуэло, та лишь заметила: «Если ты в меня влюблен, значит, ты хочешь на мне жениться?» На что он ответил: «Конечно, раз ты согласна, мы поженимся».
С тех пор это было делом решенным. Быть может, для Андзолето любовь эта и была забавой, но Консуэло верила в нее самым серьезным образом.
Несомненно одно: юное сердце Андзолето уже знало те противоречивые чувства, те запутанные, сложные переживания, которые тревожат и портят существование людей пресыщенных.
Предоставленный своим бурным инстинктам, жадный до удовольствий, любя лишь то, что давало ему счастье, и ненавидя и избегая всего, что мешает веселью, будучи артистом до мозга костей, жаждая жить и ощущая жизнь со страшной остротой, он пришел к выводу, что любовницы заставляют его испытывать все муки и опасности страсти, не умея внушить ему по-настоящему эту страсть. Однако, влекомый вожделением, он время от времени сходился с женщинами, но скоро бросал их от пресыщения или с досады. А потом, растратив недостойным образом, низменно избыток сил, этот странный юноша снова ощущал потребность в обществе своей кроткой подруги, в чистых, светлых излияниях. Он мог уже сказать, как Жан-Жак Руссо: «Поистине, нас привязывает к женщинам не столько разврат, сколько удовольствие жить подле них». Итак, не отдавая себе отчета в том очаровании, которое влекло его к Консуэло, еще не умея воспринимать прекрасное, не зная даже, хороша она собой или дурна, Андзолето забавлялся с ней детскими играми, как мальчик, но в то же время свято уважал ее четырнадцать лет как мужчина и вел с ней среди толпы, на мраморных ступенях дворцов и на каналах Венеции, жизнь, такую же счастливую, такую же чистую, такую же уединенную и почти такую же поэтичную, какой была жизнь Павла и Виргинии в апельсиновых рощах пустынного острова. Пользуясь неограниченной и опасной свободой, не имея семьи и бдительной нежной матери, которая заботилась бы об их нравственности, не имея преданного слуги, который бы отводил их по вечерам домой, не имея даже собаки, могущей предупредить их об опасности, предоставленные всецело самим себе, они, однако, избежали падения. В любой час и в любую погоду носились они по лагунам вдвоем, в открытой лодке, без весел и руля; без проводника, без часов, забывая о приливе, бродили они по лиману; до поздней ночи пели на перекрестках улиц, у обвитых виноградом часовен, а постелью им служили до утра белые плиты мостовой, еще сохранившие тепло солнечных лучей. Остановившись перед театром Пульчинеллы, забыв, что еще не завтракали и вряд ли будут ужинать, они со страстным вниманием следили за фантастической драмой прекрасной Коризанды, царицы марионеток. Неудержимо веселились они во время карнавала, не имея, конечно, возможности по-настоящему нарядиться: он – вывернув наизнанку свою старую куртку, она – прицепив себе на голову бант из старых лент. Они роскошно пировали на перилах моста или на лестнице какого-нибудь дворца, уплетая «морские фрукты», стебли укропа и лимонные корки. Словом, не зная ни опасных ласк, ни влюбленности, они вели такую же веселую и привольную жизнь, какую могли бы вести два неиспорченных подростка одного возраста и одного пола. Шли дни и годы. У Андзолето появлялись новые любовницы, Консуэло же и не подозревала, что можно любить иной любовью, а не так, как любили ее. Став взрослой девушкой, она даже не подумала, что следует быть более сдержанной с женихом. Он же, видя, как она растет и меняется на его глазах, не испытывал никакого нетерпения, не хотел никакой перемены в их дружбе, такой безоблачной и спокойной, без всяких тайн и угрызений совести.
Прошло уже четыре года с того времени, как профессор Порпора и граф Дзустиньяни представили друг другу своих маленьких музыкантов. Граф и думать забыл о юной исполнительнице духовной музыки. Профессор тоже забыл о существовании красавца Андзолето, так как, проэкзаменовав его тогда, не нашел в нем ни одного из качеств, требуемых им от ученика: прежде всего серьезного и терпеливого склада ума, затем скромности, доведенной до полного самоуничтожения ученика перед учителем, и, наконец, отсутствия какого бы то ни было предварительного обучения. «Не хочу даже и слышать, – говорил он, – об ученике, чей мозг не будет в моем полном распоряжении, как чистая скрижаль, как девственный воск, на котором я могу сделать первый оттиск. У меня нет времени на то, чтобы в течение целого года отучать ученика, прежде чем начать его учить. Если вы желаете, чтобы я писал на аспидной доске, дайте мне ее чистой, да и это еще не все: она должна быть хорошего качества. Если она слишком толста, я не смогу писать на ней; если она слишком тонка, я ее тотчас разобью». Одним словом, Порпора хотя и признал необычайные способности у юного Андзолето, но после первого же урока объявил графу с некоторой досадой и ироническим смирением, что метода его не годится для столь подвинутого ученика и что достаточно взять первого попавшегося учителя, чтобы затормозить и замедлить естественные успехи и неодолимый рост этой великолепной индивидуальности.
Граф направил своего питомца к профессору Меллифьоре, и тот, переходя от рулад к каденциям, от трели к группетто, довел блестящие данные своего ученика до полного развития. Когда Андзолето исполнилось двадцать три года, он выступил в салоне графа, и все слушавшие его нашли, что он может с несомненным успехом дебютировать в театре Сан-Самуэле на первых ролях.
Однажды вечером все аристократы-любители и самые знаменитые артисты Венеции были приглашены присутствовать на последнем решающем испытании. Впервые в жизни Андзолето сбросил свое плебейское одеяние, облекся в черный фрак, шелковый жилет, высоко зачесал и напудрил свои роскошные волосы, надел башмаки с пряжками и, приосанившись, на цыпочках проскользнул к клавесину. Здесь, при свете сотни свечей, под взглядами двухсот или трехсот пар глаз, он, выждав вступление, набрал воздуху в легкие и с присущими ему смелостью и честолюбием ринулся со своим грудным до на то опасное поприще, где не жюри и не знатоки, а публика держит в одной руке пальмовую ветвь, а в другой – свисток.
Нечего говорить, что Андзолето волновался в душе, но его волнение почти не было заметно; его зоркие глаза, украдкой вопрошавшие женские взоры, прочли в них безмолвное одобрение, в котором редко отказывают молодому красавцу; и едва лишь донесся до него одобрительный шепот любителей, удивленных мощностью его тембра и легкостью вокализации, как радость и надежда заполнили все его существо. Андзолето, до сих пор учившийся и выступавший в заурядной среде, в первый раз в жизни почувствовал, что он человек незаурядный, и, увлеченный жаждой и сознанием успеха, запел с поразительной силой, своеобразием и огнем. Конечно, его вкус не всегда был тонок, а исполнение на протяжении всей арии не всегда безупречно, но он сумел исправить это смелостью приемов, блеском ума и порывом вдохновения. Он не давал эффектов, о которых мечтал композитор, но находил новые, о которых никто не думал – ни автор, их намечавший, ни профессор, их толковавший, и никто из виртуозов, ранее исполнявших эту вещь. Его смелый порыв захватил и увлек всех. За один новый оттенок ему прощали десять промахов, за одно проявление индивидуального чувства – десять погрешностей в методе. Так в искусстве малейший проблеск гениальности, малейшее стремление к новым завоеваниям покоряет людей скорее, чем все заученные, общеизвестные приемы.
Быть может, никто даже не отдавал себе отчета в том, чем именно вызывался такой энтузиазм, но все были охвачены им. Корилла выступила в начале вечера с большою арией, прекрасно спела, и ей аплодировали. Однако успех молодого дебютанта так затмил ее собственный, что она пришла в ярость. Осыпанный похвалами и ласками, Андзолето вернулся к клавесину, около которого она сидела, и, наклонившись к ней, проговорил почтительно и вместе с тем смело:
– Неужели у вас, царица пения, царица красоты, не найдется ни одного одобрительного взгляда для несчастного, который трепещет перед вами и обожает вас?
Примадонна, удивленная такой дерзостью, посмотрела в упор на красивое лицо, которое до сих пор едва удостаивала взглядом, – какая тщеславная женщина на вершине славы и успеха обратит внимание на безродного, бедного мальчугана? Теперь наконец, она его заметила и поразилась его красотой. Его огненный взор проник ей в душу. Побежденная, очарованная в свою очередь, она бросила на него долгий и многозначительный взгляд, и этот взгляд явился как бы печатью на патенте его новой славы. В этот памятный вечер Андзолето покорил всех своих слушателей и обезоружил самого грозного своего врага, ибо прекрасная певица царила не только на сцене, но и в администрации театра и даже в самом кабинете графа Дзустиньяни.
Глава 4
Среди единодушных и даже несколько преувеличенных аплодисментов, вызванных голосом и манерою дебютанта, только один из слушателей, сидевший на кончике стула, сжав колени и неподвижно вытянув на них руки, точно египетское божество, оставался молчаливым, как сфинкс, и загадочным, как иероглиф; то был ученый профессор и знаменитый композитор Порпора. В то время как его учтивый коллега, профессор Меллифьоре, приписывая себе всю честь успеха Андзолето, рассыпался перед дамами и низко кланялся мужчинам, благодаря даже за взгляд, профессор духовной музыки сидел опустив глаза в землю, насупив брови, стиснув губы, словно погруженный в глубокое раздумье. Когда все общество, приглашенное в этот вечер на бал к догарессе, понемногу разъехалось и у клавесина остались только особенно рьяные любители музыки, несколько дам и самых известных артистов, Дзустиньяни подошел к строгому маэстро.
– Дорогой профессор, – сказал он, – вы слишком сурово смотрите на все новое, и ваше молчание меня не пугает. Вы упорно хотите остаться глухим к чарующей нас светской музыке и к ее новым приемам, но ваше сердце невольно раскрылось и ваши уши восприняли соблазнительный яд.
– Послушайте, sior profesor, – сказала по-венециански прелестная Корилла, принимая со своим старым учителем ребячливый тон, как в былые годы в scuola – я хочу вас просить об одной милости…
– Прочь, несчастная! – с улыбкой воскликнул маэстро, полусердито отстраняя льнувшую к нему неверную ученицу. – Что общего теперь между нами? Ты больше для меня не существуешь. Дари другим свои обворожительные улыбки и коварное щебетанье.
– Он уже смягчается, – проговорила Корилла, одной рукою взяв за руку дебютанта, а другой не переставая теребить пышный белый галстук профессора… – Поди сюда, Дзото, стань на колени перед самым великим учителем пения всей Италии. Унизься, смирись перед ним, мой мальчик, обезоружь его суровость. Одно слово этого человека, если ты его добьешься, имеет больше значения, чем все трубы, вещающие о славе.
– Вы были очень строги ко мне, господин профессор, – проговорил Андзолето, отвешивая ему поклон с несколько насмешливой скромностью. – Однако все эти четыре года я только и жил мыслью добиться того, чтобы вы изменили свой суровый приговор; и если это не удалось мне сегодня, то я не знаю, где взять смелость появиться еще раз перед публикой под бременем вашей анафемы.
– Дитя мое, предоставь женщинам медоточивые, лукавые речи, – сказал профессор, стремительно поднимаясь с места и говоря с такою убедительностью, что его обычно согнутая и мрачная фигура как-то сразу стала и выше и благороднее, – не унижайся никогда до лести даже перед высшими, а тем более перед человеком, мнением которого ты, в сущности, пренебрегаешь. Какой-нибудь час назад ты сидел там, в углу, бедный, неизвестный, боязливый; вся твоя будущность держалась на волоске, все зависело от звучности твоего голоса, от мгновенного промаха, от каприза твоих слушателей. И вот случай и порыв в одно мгновение сделали тебя богатым, знаменитым, заносчивым. Артистическая карьера открылась перед тобой. Беги же вперед, пока хватит сил! Но выслушай меня хорошенько, так как в первый, а быть может, и в последний раз ты услышишь правду. Ты на плохой дороге, поешь плохо и любишь плохую музыку. Ты ничего не знаешь, ты ничего не изучил основательно. У тебя есть только техника и легкость. Проявляя страсть, ты остаешься холодным. Ты воркуешь и чирикаешь подобно хорошеньким, кокетливым девицам, которым прощают плохое пение ради их жеманства. Ты не умеешь фразировать, у тебя плохое произношение, вульгарный выговор, фальшивый, пошлый стиль. Однако не отчаивайся: хотя у тебя есть все эти недостатки, но есть и то, с помощью чего ты можешь их преодолеть. Ты обладаешь качествами, которые не зависят ни от обучения, ни от работы, в тебе есть то, чего не в силах у тебя отнять ни дурные советы, ни дурные примеры: у тебя есть божественный огонь, гениальность… Но, увы, огню этому не суждено озарить ничего великого, гениальность твоя будет бесплодна… Я прочитал это в твоих глазах, почувствовал в твоей груди; у тебя нет преклонения перед искусством, у тебя нет веры в великих учителей, нет уважения к великим творениям; ты любишь славу, только славу, и любишь ее исключительно для себя самого. Ты бы мог… ты смог бы… но нет… слишком поздно. Твоя судьба будет судьбой метеора, подобно…
Тут профессор, быстро надвинув на голову шляпу, повернулся и вышел, ни с кем не простившись, занятый, очевидно, дальнейшим развитием своего загадочного приговора.
Хотя все присутствовавшие и пытались поднять на смех выходку профессора, тем не менее на несколько мгновений у всех осталось тягостное впечатление чего-то печального, тревожного… Андзолето, по-видимому, первый перестал думать об этом, хотя слова профессора и вызвали в нем радость, гордость, гнев и смятение чувств, которым суждено было наложить отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Казалось, он был всецело поглощен одной только Кориллой и так успел убедить ее в этом, что она не на шутку влюбилась в него с первой же встречи. Граф Дзустиньяни не очень ревновал ее: быть может, у него были основания не особенно ее стеснять. Больше всего он интересовался блеском и славой своего театра, – не потому, что был жаден к богатству, а потому, что был, как говорится, истым фанатиком изящных искусств. По-моему, это слово определяет весьма распространенное среди итальянцев чувство, отличающееся большой страстностью, но не всегда умением разграничить хорошее и дурное… Культ искусства – выражение слишком современное, неизвестное сто лет тому назад, – означает совсем не то, что вкус к изящным искусствам. Граф был человек с артистическим вкусом в том смысле, как это тогда понимали: любитель, и только. Удовлетворение этого вкуса и было главным делом его жизни. Он интересовался мнением публики и стремился заинтересовать ее собою, любил иметь дело с артистами, быть законодателем мод, заставить говорить о своем театре, о своей роскоши, о своей любезности и щедрости. Одним словом, у него была страсть, преобладающая у провинциальной знати, – показное тщеславие. Быть владельцем и директором театра – это был наилучший способ угодить всему городу и доставить ему развлечение. Еще большее удовлетворение получил бы граф, если бы смог угощать за своим столом всю республику. Когда иностранцам случалось расспрашивать профессора Порпору о графе Дзустиньяни, он обыкновенно отвечал: «Это человек, чрезвычайно любящий угощать: в своем театре он подает музыку совершенно так же, как фазанов за своим столом».
Около часа ночи гости начали расходиться.
– Андзоло, где ты живешь? – спросила дебютантка Корилла, оставшись с ним вдвоем на балконе.
При этом неожиданном вопросе Андзолето покраснел и тут же побледнел. Как признаться этой блестящей, пышной красавице, что у него нет своего угла? Хотя в этом ему, пожалуй, легче было бы сознаться, чем назвать ту жалкую лачугу, где он ночевал тогда, когда не спал под открытым небом по собственной охоте или по необходимости.
– Что ты находишь удивительного в моем вопросе? – смеясь над его смущением, спросила Корилла.
С необыкновенной находчивостью Андзолето поспешил ответить:
– Я спрашиваю себя, какой королевский дворец, дворец какой волшебницы достоин принять гордого смертного, который принес бы туда воспоминания о нежном взгляде Кориллы?
– Что ты, льстец, хочешь этим сказать? – возразила она, устремляя на него взгляд, самый жгучий из всего ее дьявольского арсенала.
– Что это счастье мне еще не дано, но что если б я был этим счастливцем, то, упоенный гордостью, жаждал бы жить между небом и морями, подобно звездам.
– Или подобно cuccali! – громко смеясь, воскликнула певица.
Известно, что морские чайки крайне неприхотливы, и венецианская поговорка приравнивает к ним легкомысленного, взбалмошного человека, как французская – к жуку: «Легкомыслен, как жук».
– Насмехайтесь надо мной, презирайте меня, – ответил Андзолето, только не отнимайте у меня вашего расположения.
– Ну, раз ты хочешь говорить со мной одними метафорами, – возразила она, – то я увожу тебя в своей гондоле; и если ты очутишься далеко от своего дома, пеняй на себя.
– Так вот почему вы интересовались, где я живу, синьора! В таком случае мой ответ будет короток и ясен: я живу на ступеньках вашего дворца. – Ну, так ступай и жди меня на ступеньках того дворца, в котором мы находимся сейчас, – проговорила Корилла, понизив голос, – а то как бы Дзустиньяни не остался недоволен снисходительностью, с какой я выслушиваю твой вздор.
В порыве удовлетворенного тщеславия Андзолето тут же бросился к пристани дворца, а оттуда прыгнул на нос гондолы Кориллы, отсчитывая секунды по быстрому биению своего опьяненного сердца. Но еще до того, как Корилла появилась на лестнице дворца, много мыслей пронеслось в лихорадочно работавшем мозгу честолюбивого дебютанта. «Корилла всемогуща, – говорил он себе, – но что, если, понравившись ей, я тем самым навлеку на себя гнев графа? Что, если вследствие моей слишком быстрой победы он бросит свою легкомысленную любовницу и она потеряет свое могущество?»
И вот, когда раздираемый сомнениями Андзолето, измеряя взглядом лестницу, по которой он мог бы еще уйти, помышлял уже о бегстве, портик вдруг озарился факелами и красавица Корилла в горностаевой пелерине показалась на верхних ступеньках, окруженная кавалерами, состязавшимися между собою из-за чести проводить ее, по венецианскому обычаю, до гондолы, поддерживая под круглый локоть.
– А вы что тут делаете? – обратился к растерявшемуся Андзолето гондольер примадонны. – Входите скорее в гондолу, если это вам дозволено, а не то бегите по берегу: с синьорой идет сам граф.
Андзолето, не сознавая хорошенько, что он делает, забился внутрь гондолы. Он совсем потерял голову. Опомнившись, он представил себе, до чего будет удивлен и рассержен граф, когда, войдя с возлюбленной в гондолу, увидит там своего дерзкого питомца. Его страх был тем мучительнее, что длился более пяти минут. Синьора, остановившись на середине лестницы, разговаривала, смеялась, спорила со своей свитой относительно какой-то рулады, причем даже громко исполняла ее на разные лады. Ее чистый и звонкий голос реял среди дворцов и куполов канала, подобно тому как крик петуха, пробудившегося перед зарей, разносится в сельской тиши. Андзолето, не в силах переносить дольше такое напряжение, решил прыгнуть в воду со стороны, противоположной лестнице. Он уже опустил было стекло в бархатной черной раме, уже занес ногу за борт, когда второй гондольер, сидевший на корме, нагнулся к нему и прошептал:
– Раз поют, значит, вам надо сидеть смирно и ждать безбоязненно.
«Я еще не знаю этих обычаев», – подумал про себя Андзолето и стал ждать, не совсем, впрочем, отделавшись от своего мучительного страха. Корилла доставила себе удовольствие заставить графа проводить ее до самой гондолы. Стоя уже на носу, она не переставала посылать ему пожелания felicissima notte до тех пор, пока гондола не отчалила от своего берега. Затем она уселась возле своего нового возлюбленного так спокойно и просто, словно не рисковала ни его жизнью, ни своей судьбой в этой дерзкой игре.
– Какова Корилла? – говорил в это время Дзустиньяни графу Барбериго.
– Даю голову на отсечение: она не одна в гондоле.
– А почему вам могла прийти в голову такая мысль? – спросил Барбериго.
– Потому что она всячески настаивала, чтобы я проводил ее до ее дворца.
– И вы не ревнуете?
– Я давно уже излечился от этой слабости и дорого бы дал, если бы наша примадонна серьезно увлеклась кем-нибудь, кто заставил бы ее предпочесть пребывание в Венеции мечтам о путешествии, которым она мне угрожает. Утешиться в ее измене мне нетрудно, а вот заменить ее, найти другой такой голос, талант – это потруднее: кто, кроме нее, в состоянии так привлекать публику в Сан-Самуэле и доводить ее до неистовства?
– Понимаю. Но кто же, однако, счастливый обладатель этой взбалмошной принцессы, на сегодняшний вечер?
Тут граф с приятелем стали перебирать всех, на ком Корилла в течение вечера могла остановить свой выбор. Андзолето был единственный, о ком они не подумали.
Глава 5
Между тем жестокая борьба происходила в душе этого счастливого любовника в то время, как ночь и волны в своем тихом мраке несли его в гондоле, растерянного и трепещущего, рядом со знаменитейшей красавицей Венеции. С одной стороны, Андзолето чувствовал нарастание страсти, еще более разжигаемой удовлетворенной гордостью; с другой стороны его пыл охлаждался страхом быстро попасть в немилость, быть осмеянным, выпровоженным, предательски выданным графу. Осторожный и хитрый как истый венецианец, он, стремясь целых шесть лет попасть на сцену, был хорошо осведомлен о сумасбродстве и властолюбии женщины, стоявшей во главе всех театральных интриг. У него было полное основание предполагать, что его царствованию подле нее скоро придет конец; и если он сейчас не уклонился от этой опасной чести, то только потому, что не предполагал ее такой близкой и был покорен и похищен внезапно. Он думал, что его будут лишь терпеть за его учтивость, а его уже полюбили – за молодость, красоту, за нарождающуюся славу! «Теперь, чтобы избежать тяжелого и горького пробуждения после моего торжества, мне ничего больше не остается, как заставить ее бояться меня, – решил Андзолето с той быстротой соображения и умозаключения, которыми обладают иные удивительно устроенные головы. – Но как я, ничтожный юнец, умудрюсь внушить страх этой воплощенной царице ада? – думал он. Однако он скоро нашелся: разыграл недоверие, ревность, обиду, и с таким увлечением, с такой страстью, что примадонна была поражена. Всю их пылкую и легкомысленную беседу можно свести к следующему: Андзолето. Я знаю, что вы меня не любите и любить никогда не будете.
Вот почему я так грустен и сдержан подле вас.
Корилла. А если б я вдруг тебя полюбила?
Андзолето. Я был бы в полном отчаянии, потому что рисковал бы свалиться с неба прямо в пропасть и, завоевав вас ценою всего моего будущего счастья, потерять вас через какой-нибудь час.
Корилла. Что же заставляет тебя предполагать такое непостоянство с моей стороны?
Андзолето. Во-первых, мое собственное ничтожество, а во-вторых, все то дурное, что про вас говорят.
Корилла. Кто же так злословит обо мне?
Андзолето. Все мужчины, так как все они обожают вас.
Корилла. Значит, если б я имела глупость влюбиться в тебя и признаться тебе в этом, ты, пожалуй, оттолкнул бы меня?
Андзолето. Не знаю, найду ли я в себе силы бежать от вас, но если б нашел, то, конечно, никогда не стал бы больше с вами встречаться.
– В таком случае, – заявила Корилла, – мне хочется просто из любопытства сделать этот опыт… Андзолето, мне кажется, что я тебя люблю.
– А я этому не верю. И если не бегу от вас, то только потому, что очень хорошо понимаю, что надо мной смеются. Но вы не смутите меня подобной игрой и даже не обидите.
– Ты, кажется, хочешь одолеть хитростью?
– А почему бы нет? Но я не так страшен, раз даю вам средство победить меня.
– Какое же?
– Попробуйте повторить серьезно то, что вы сказали в шутку. Я испугаюсь насмерть и обращусь в бегство.
– Какой ты странный! Я вижу, что с тобой надо держать ухо востро. Ты из тех, кому мало аромата розы, а нужно ее сорвать да еще спрятать под стекло. Я не ожидала, что в твои годы ты так смел и своеволен!
– И вы меня за это презираете?
– Напротив, ты мне так больше нравишься. Покойной ночи, Андзолето, мы еще увидимся.
Она протянула ему свою красивую руку, которую он страстно поцеловал.
«Ловко же я отделался», – думал он, мчась по галереям вдоль канала.
Не надеясь в такой поздний час достучаться в лачугу, где он обычно ночевал, Андзолето решил растянуться у первого попавшегося порога и насладиться тем ангельским покоем, который знают лишь дети и бедняки. Но в первый раз в жизни он не смог найти ни одной плиты, достаточно чистой, чтоб решиться на нее лечь. Хотя мостовая Венеции и чище и белее всякой другой на свете, все-таки она слишком пыльна для элегантного черного костюма из самого тонкого сукна. А тут еще одно соображение: те самые лодочники, которые обыкновенно утром осторожно шагали по ступенькам лестниц, стараясь не задеть лохмотьев юного плебея, теперь, попадись только он им под ноги, могли подшутить над ним сонным и нарочно испачкать роскошную ливрею «паразита». Действительно, что бы подумали эти лодочники о человеке, спящем под открытым небом в шелковых чулках, в тонком белье, в кружевном жабо и кружевных манжетах? В эту минуту Андзолето пожалел о своем милом плаще из коричневой и красной шерсти, правда выцветшем, потертом, но еще плотном и отлично защищающем от нездоровых туманов, поднимающихся по утрам над каналами Венеции. Был конец февраля, и хотя в здешних краях в такое время солнце уже светит и греет по-весеннему, ночи бывают еще очень холодны. Андзолето пришло в голову забраться в одну из гондол, стоявших у берега; на беду, все они оказались запертыми. Наконец ему удалось открыть дверь одной из них, но, пролезая внутрь, он наткнулся на ноги спящего лодочника и свалился на него.
– Какого дьявола! – послышался грубый, охрипший голос из глубины. Кто вы и что вам надо?
– Это ты, Дзането? – отвечал Андзолето, узнав голос гондольера, обыкновенно относившегося к нему довольно дружелюбно. – Позволь мне лечь подле тебя и выспаться под твоим навесом.
– А ты кто?
– Андзолето. Разве ты не узнаешь меня?
– Нет, черт возьми, не узнаю! На тебе такая одежда, какой у Андзолето быть не может, если только он ее не украл. Проваливай, проваливай! Будь это сам дож, я бы не открыл дверцы своей гондолы человеку, у которого нарядная одежда и нет угла, где спать.
«Пока что, – подумал Андзолето, – покровительство и милости графа Дзустиньяни принесли мне больше неприятностей, чем пользы. Надо, чтобы мои денежные средства соответствовали моим успехам; пора мне иметь в кармане несколько цехинов, чтобы выполнять ту роль, которую меня заставляют разыгрывать».
Сильно не в духе, он пошел бродить по пустынным улицам, боясь останавливаться, чтобы не простудиться, – от усталости и гнева он был весь в испарине.
«Только бы мне не охрипнуть из-за всего этого, – думал он, – завтра господин граф пожелает, чтобы его юного феноменального певца прослушал какой-нибудь глупый и строгий критик, и если я после бессонной ночи, проведенной без отдыха и крова, буду хоть немного хрипеть, тот заявит немедленно, что у меня нет голоса. А граф, которому хорошо известно, что это не так, возразит: «Ах, если б вы слышали его вчера! – «Так он не всегда одинаков? – спросит другой. – Не слабого ли он здоровья? – «А может быть, он переутомился вчера? – добавит третий. «В самом деле, он слишком молод для того, чтобы петь несколько дней подряд. Вам, знаете ли, прежде чем выпускать его на сцену, следовало бы подождать, чтобы он окреп и возмужал». На это граф, пожалуй, еще скажет: «Черт возьми! Если он может охрипнуть от двух арий, то он мне совсем не нужен». И вот тогда, чтобы убедиться, что я силен и здоров, меня изо дня в день заставят упражняться до изнеможения и, желая удостовериться, что у меня здоровые легкие, надорвут мне голос. К черту покровительство знатных вельмож! Ах, когда только я смогу избавиться от него и, сопутствуемый славой, расположением публики, конкуренцией театров, стану петь в их салонах уже только из любезности и держать себя с ними на равной ноге».
Так, рассуждая сам с собой, Андзолето дошел до одной из маленьких площадей, которые в Венеции называют corti, хотя это вовсе не дворы, а скопище домов, выходящих на общую площадку, – то, что теперь в Париже называется cite. Однако что касается правильности расположения, изящества и благоустройства, то этим «дворам» далеко до наших современных площадей. Это скорее маленькие темные площадки, иногда представляющие собой тупики, а иногда служащие проходом из одного квартала в другой; они малолюдны, населяют их обычно бедняки низкого происхождения, все больше простой народ – рабочие и прачки, развешивающие белье на веревках, протянутых через дорогу, – неудобство, которое прохожий терпеливо переносит, зная, что его самого только терпят, а права на проход он собственно не имеет. Горе бедному артисту, вынужденному, отворив окна своей комнатушки, вдыхать воздух этих закоулков, – в самом центре Венеции, в двух шагах от больших каналов и роскошных зданий перед вами раскрывается вдруг жизнь неимущего класса с ее шумными деревенскими и не всегда чистоплотными привычками. Горе артисту, если для размышлений ему нужна тишина: от самой зари до ночи шум, производимый курами, собаками, детьми, играющими и орущими в этом тесном закоулке, бесконечная болтовня женщин на порогах домов, песни рабочих в мастерских – все это не даст ему ни минуты покоя. Хорошо еще, если не явится импровизатор и не начнет горланить свои сонеты и дифирамбы до тех пор, пока не соберет по одному сольдо с каждого окна. А то придет еще Бригелла, расставит среди площади свой балаганчик и терпеливо примется за повторение своих разговоров с адвокатом, с немцем, с дьяволом, пока не истощит впустую все свое красноречие перед ободранными ребятишками – счастливыми зрителями, не имеющими ни гроша в кармане, но никогда не стесняющимися поглазеть и послушать.
Зато ночью, когда все смолкает и кроткая луна струит свой беловатый свет на каменные плиты, все эти дома разных эпох, прилепившиеся друг к другу без всякой симметрии и без претензии, с таинственными тенями в углублениях, являют собой бесконечно живописную картину. Все хорошеет под лунными лучами: малейший архитектурный эффект усиливается и приобретает монументальность, каждый балкон, увитый виноградом, переносит вас в романтическую Испанию, населяет воображение приключениями рыцарей «плаща и шпаги». Прозрачное небо, в котором тонут бледные купола далеких зданий, льет на все какой-то неопределенный, полный гармонии свет, навевая бесконечные грезы…
Как раз в ту минуту, когда все часы, словно перекликаясь, пробили два часа пополуночи, Андзолето очутился на Корте-Минелли, у церкви Сан-Фантино. Тайный инстинкт привел его к жилищу той, чье имя и образ ни разу не промелькнули в его памяти в этот день с самого захода солнца. Не успел он ступить на площадку, как нежный голос тихо-тихо назвал его уменьшительным именем; подняв глаза, он увидел еле очерченный силуэт на одной из самых жалких террас этого проулка. Еще минута, дверь лачуги отворилась, и Консуэло в ситцевой юбке, закутанная в старую черную шелковую мантилью, когда-то служившую ее матери, протянула ему руку, приложив палец другой руки к губам в знак молчания. Ощупью, на цыпочках, взобрались они по ветхой деревянной лестнице, ведущей на крышу, и, усевшись на террасе, начали беседовать шепотом, прерывая его поцелуями; этот шелест, словно таинственный ветерок или болтовня духов, порхающих попарно, реет каждую ночь над причудливыми, словно красные чалмы, трубами венецианских домов. – Как? Ты ждала меня до сих пор, моя бедняжечка? – прошептал Андзолето.
– Но ведь ты обещал, что придешь рассказать мне о своем сегодняшнем выступлении! Ну, говори, говори же скорее, хорошо ли ты спел, понравился ли, аплодировали ли тебе, получил ли ангажемент?
– А ты, моя добрая Консуэло, скажи, ты не сердилась на меня за долгое отсутствие? Не очень устала, поджидая меня? Не прозябла на этой террасе? Ужинала ли ты? Не очень беспокоилась? Не бранила меня? – расспрашивал свою подругу Андзолето, почувствовав угрызения совести при виде такого доверия и кротости бедной девушки.
– Нисколько, – ответила она, целомудренно обнимая его за шею. – Если я и сердилась, то не на тебя. Если устала, если озябла, то я уже обо всем этом забыла, раз ты со мной. Ужинала ли я? Право, не знаю! Беспокоилась ли? Чего ради! Бранила ли тебя? Никогда в жизни!
– Ты просто ангел, – сказал Андзолето, целуя ее. – О мое утешение!
Как жестоки и коварны другие сердца!
– Что же случилось? Чем так огорчили «сына моей души»? – воскликнула Консуэло, вплетая в милое венецианское наречие смелые и страстные метафоры своего родного языка.
Андзолето рассказал обо всем, что произошло, даже о своем ухаживании за Кориллой, и особенно подробно остановился на ее кокетливом поддразнивании. Но он рассказал все это по-своему, передавая только то, что не могло огорчить Консуэло: ведь он не хотел изменять и не изменил ей, и все это было почти полной правдой. Однако есть одна сотая доля правды, которую никакое судебное следствие никогда не смогло выявить, в которой ни один клиент никогда не сознался своему адвокату и до которой ни один приговор не добирался иначе, как чисто случайно, потому что именно в этом неосвещенном крошечном количестве фактов или намерений кроется повод, причина, цель – словом, ключ всех тех громких процессов, где защита редко бывает на высоте, а приговор редко бывает справедлив, как ни пылко льются речи ораторов, как ни хладнокровны судьи.
Что касается Андзолето, то нечего и говорить, о каких своих грешках он умолчал, какие пламенные ощущения, пережитые перед публикой, он осветил совсем иначе, о каком подавленном трепете в гондоле он забыл упомянуть. Вероятнее всего, он совсем ничего не сказал о гондоле, а свои льстивые любезности по адресу примадонны изобразил в виде остроумных насмешек, благодаря которым он спасся от опасных сетей коварной женщины, умудрившись притом не разгневать ее. Но, спросите вы, милая читательница, зачем, не желая и не имея возможности рассказать обо всем так, как оно было в действительности, то есть о сильнейших искушениях, перед которыми он устоял только благодаря благоразумию и умелому поведению, – зачем, повторяю, было этому юному хитрецу пробуждать ревность в Консуэло? Вы задаете этот вопрос, сударыня? Да разве вы сами не рассказываете возлюбленному или, скажем, избранному вами супругу о всех своих поклонниках, его соперниках, которыми вы жертвовали не только до замужества, но и теперь на всех балах, вчера еще, даже сегодня утром? Послушайте, сударыня, если вы красивы, в чем я не сомневаюсь, я могу поручиться головой, что вы поступаете так же, как Андзолето, и делаете это не ради выгоды, не для того, чтобы терзать ревнивую душу, не для того, чтобы еще больше возгордился тот, кого вы любите, но просто потому, что приятно иметь подле себя существо, которому можно рассказать все это, как будто исполняя спой долг, и, исповедуясь, похвастаться перед своим духовником. Только все дело в том, сударыня, что вы при этом рассказываете «почти» все, замалчивая пустяк, – о нем вы никогда не упомянете, – тот ваш взгляд, ту улыбку, которые и вызвали дерзкое объяснение самонадеянного нахала. Вот этот взгляд, эта улыбка, этот пустяк как раз и был в данном случае гондолой, о которой Андзолето, с наслаждением переживая вновь все упоение вечера, забыл рассказать Консуэло. Маленькая испанка, к счастью для нее, еще не знала ревности: это горькое, мрачное чувство свойственно душам, уже много страдавшим, а Консуэло была до сих пор так же счастлива своей любовью, как и добра. Единственно, что произвело на девушку сильнейшее впечатление, это лестный, но суровый приговор, произнесенный уважаемым ею учителем, профессором Порпорой, над ее обожаемым Андзолето. Она заставила юношу еще раз повторить подлинные слова учителя и, после того как он снова в точности передал их, долго молчала, глубоко задумавшись.
– Консуэлина, – проговорил Андзолето, не обращая большого внимания на ее задумчивость, – становится что-то очень свежо, ты не боишься простудиться? Ведь подумай, дорогая, все наше будущее зависит от твоего голоса, больше даже, чем от моего.
– Я никогда не простуживаюсь, – ответила она, – а вот тебе холодно в твоем великолепном костюме. На, закутайся в мою мантилью.
– Много ли мне поможет этот кусок рваной тафты? Я предпочел бы с полчасика погреться в твоей комнате.
– Хорошо, – ответила Консуэло, – но нам тогда придется помолчать, а то соседи нас услышат и, пожалуй, осудят. Люди они неплохие и не очень донимают меня, хотя и видят, что мы с тобой любим друг друга, но только потому, что ты не приходишь ко мне по ночам. Право, лучше было бы, если бы ты пошел спать к себе.
– Это немыслимо: до рассвета мне не откроют и мне придется дрожать еще целых три часа. Слышишь, как у меня от холода стучат зубы?
– В таком случае идем, – проговорила Консуэло, вставая, – я запру тебя в своей комнате, а сама буду спать на террасе: если кто следит за нами, пусть видит, что я веду себя скромно.
И она действительно провела его к себе в комнату, довольно большую, но убогую; цветы, когда-то написанные на стенах, проглядывали теперь там и сям сквозь второй слой окраски, еще более грубой и почти такой же облезлой. Большая деревянная кровать с матрацем из морской травы, ситцевое стеганое одеяло, безупречно чистое, но все в разноцветных заплатах, соломенный стул, небольшой столик, очень старинная гитара да филигранное распятие составляли все богатство, оставленное Консуэло матерью. Маленький спинет и куча полуистлевших нот, которыми великодушно ссужал ее профессор Порпора, дополняли всю обстановку юной артистки, дочери бедной цыганки, ученицы великого артиста и возлюбленной юного красавца – любителя приключений.
Так как в комнате имелся всего один стул, а стол был завален нотами, то Андзолето не оставалось ничего больше, как сесть на кровать, что он сейчас же и сделал без церемоний. Едва он присел на самый край кровати, как, измученный усталостью, повалился на большую подушку из шерсти.
– Моя дорогая, моя хорошая женушка, – пробормотал он, – я сейчас отдал бы все годы, которые мне остается жить, за один час крепкого сна и все сокровища мира за то, чтобы укрыть ноги концом этого одеяла. Никогда в жизни мне не было так холодно, как в этом проклятом фраке; после бессонной ночи меня знобит, точно в лихорадке.
Минуту Консуэло колебалась. Восемнадцатилетняя сирота, совершенно одинокая на свете, она, в сущности, отвечала за свои поступки только перед богом. Веря в обещания Андзолето, как в слова Евангелия, она не боялась, что надоест ему или что он бросит ее, если она уступит всем его желаниям. Но под влиянием чувства стыдливости, которое Андзолето никогда не пытался в ней побороть, она нашла его просьбу несколько грубой. Тем не менее она подошла к нему и взяла его за руку, – рука была холодна, а когда Андзолето прижал ее руку к своему лбу, девушка почувствовала, что лоб горячий.
– Ты болен! – воскликнула она с тревогой, откинув все прочие соображения. – Если так, конечно, поспи часок на моей постели.
Андзолето не заставил ее дважды повторять это предложение.
– Добра, как сам бог, – прошептал он, вытягиваясь на матраце из морской травы.
Консуэло накрыла его одеялом и, притащив из угла кое-какое свое тряпье, еще прикрыла ему ноги. Укладывая его с материнской заботливостью, она тихонько шепнула ему:
– Андзолето, кровать, на которой ты сейчас заснешь, – та, где я спала с моей матерью последние годы ее жизни. На ней она умерла, и я, одев ее в саван, бодрствовала подле нее и молилась, пока похоронная лодка не увезла ее от меня навсегда. Так вот, я хочу сейчас рассказать тебе, что она заставила меня обещать ей перед смертью. «Консуэло, – сказала она, – поклянись мне перед распятием, что Андзолето ляжет в эту кровать на мое место не раньше, чем вы с ним обвенчаетесь в церкви».
– И ты поклялась?
– И я поклялась. Но, позволив тебе спать здесь сейчас, я уступила тебе в ней не место матери, а мое собственное.
– А ты, бедняжка, так и не заснешь? – воскликнул Андзолето, делая над собой усилие и приподнимаясь. – Какой я, однако, негодяй! Сейчас же пойду спать на улицу!
– Нет! Нет! – сказала Консуэло, ласково заставляя его лечь обратно на подушку. – Ты болен, а я здорова. Мать моя умерла истинной католичкой, она теперь на небе и постоянно глядит на нас оттуда. Она знает, что ты сдержал данное ей обещание, – не покинул меня. Она знает также, что наша любовь не менее чиста теперь, чем была при ней. Она видит, что и в эту минуту я не помышляю ни о чем дурном, не делаю ничего дурного. Упокой, господи, ее душу!
Тут Консуэло осенила себя большим крестом. Андзолето уже заснул. Уходя, Консуэло прошептала:
– Там, на террасе, я помолюсь, чтобы ты не захворал.
– Добра, как бог, – в полусне повторил Андзолето, даже не заметив, что невеста оставила его одного.
Консуэло действительно пошла молиться на террасу. Через некоторое время она вернулась взглянуть, не хуже ли ему, и, увидя, что он безмятежно спит, долго, сосредоточенно глядела на его красивое бледное лицо, озаренное луной.
Потом, не желая поддаваться сну и вспомнив, что волнения сегодняшнего вечера помешали ей заниматься, она снова зажгла лампу, уселась за свой столик и начала наносить на нотную бумагу задачу по композиции, заданную на завтрашний день ее учителем Порпорой.
Глава 6
Граф Дзустиньяни, несмотря на все свое философское безразличие и свои новые увлечения – Корилла довольно неловко притворялась, будто ревнует его, – далеко не был так равнодушен к вызывающим капризам своей шальной любовницы, как старался это показать. Добрый, слабохарактерный и легкомысленный, он был распутным больше на словах и в силу своего общественного положения. Поэтому он не мог не страдать в глубине души от той неблагодарности, которою эта женщина ответила на его великодушие. И хотя в те времена в Венеции, как и в Париже, ревновать считалось верхом неприличия, его итальянская гордость восставала против смешной и жалкой роли, которую Корилла заставляла его играть.
И вот в тот самый вечер, когда Андзолето так блестяще выступал в его дворце, граф, весело пошутив со своим другом Барбериго над проказами своей любовницы, дождался, пока разъедутся все гости и потушат огни, накинул плащ, взял шпагу и, для собственного успокоения, направился во дворец, где жила Корилла.
Удостоверившись, что она одна, Дзустиньяни, не довольствуясь этим, вступил потихоньку в разговор с гондольером, устанавливавшим гондолу примадонны под портиком, специально для этого приспособленным. Несколько золотых развязали гондольеру язык, и граф скоро убедился, что не ошибся, предположив, что у Кориллы в гондоле был спутник, выяснить же, кто именно, ему так и не удалось: гондольеру этот человек был неизвестен; хотя он и видел сотни раз Андзолето бродящим около театра и дворца Дзустиньяни, однако ночью, в черном фраке, напудренного, он его не узнал. Эта непроницаемая тайна еще более увеличила досаду графа. Он даже не мог утешиться насмешками над своим соперником – единственной местью хорошего тона, столь же жестокой в эту эпоху показных ухаживаний, как убийство в эпоху серьезных страстей. Всю ночь он не сомкнул глаз и еще ранее того часа, когда Порпора начинал свои занятия в консерватории для бедных девушек, направился к школе Мендиканти и прошел в зал, где должны были собраться молодые ученицы.
Отношение графа к ученому профессору за последние годы значительно изменилось. Дзустиньяни уже не был его музыкальным противником, – напротив, он был теперь его союзником и даже в некотором роде начальником: граф сделал значительное пожертвование учреждению, которым заведовал ученый маэстро, и в знак благодарности ему было поручено руководство школой. С тех пор эти два друга жили в добром согласии, насколько это было возможно при нетерпимости профессора к модной светской музыке, – нетерпимости, которой он вынужден был несколько изменить, видя, что граф тратит силы и средства на преподавание и распространение серьезной музыки. Вдобавок граф поставил на сцене своего театра Сан-Самуэле оперу, которую Порпора только что написал.
– Дорогой маэстро, – сказал граф, отводя его в сторону, – необходимо, чтобы вы не только согласились на похищение одной из ваших учениц, но чтобы вы сами указали ту, которая лучше всех могла бы заменить в театре Кориллу. Артистка утомлена, она теряет голос, ее капризы разоряют нас, не сегодня-завтра она надоест и публике. В самом деле, нужно подумать о том, чтобы найти ей succeditrice. (Прости, дорогой читатель, так говорят по-итальянски, и граф не изобрел неологизма.) – У меня нет того, что вам нужно, – сухо ответил Порпора.
– Как, маэстро! – воскликнул граф. – Вы опять впадаете в вашу черную меланхолию? Возможно ли, чтобы после всех доказательств моей преданности вам и всех жертв с моей стороны вы, когда я обращаюсь к вам за помощью и советом, отказали мне в самом маленьком одолжении?
– Я уже не имею на это права, граф, но то, что я вам сказал, – истинная правда. Поверьте человеку, который искренне к вам расположен и желал бы оказать вам услугу: в моей вокальной школе нет никого, кто бы мог заменить Кориллу. Я нисколько не переоцениваю ее, но хотя в моих глазах талант этой женщины и не является серьезным талантом, все-таки я не могу не признать за ней знания дела, привычки к сцене, искусства воздействовать на чувства публики, что приобретается долголетней практикой и не скоро дастся дебютантке.
– Все это так, – сказал граф, – но ведь мы сами создали Кориллу: мы руководили ее первыми шагами, мы заставили публику ее оценить; остальное сделала ее красота. А у вас в школе есть очаровательные ученицы, не хуже ее. Уж этого вы не станете отрицать! Согласитесь, что Клоринда – красивейшее создание в мире.
– Но она неестественна, жеманна, вообще невыносима». Впрочем, может быть, публика и найдет очаровательным это смешное кривляние… А поет она фальшиво, в ней нет ни души, ни понимания… Правда, у публики тоже нет ушей… Но у Клоринды к тому же нет ни памяти, ни находчивости; ее не спасет от провала даже то легкое шарлатанство, которое удается многим.
При этих словах профессор невольно посмотрел на Андзолето, который, пользуясь своим положением любимца графа, проскользнул в класс (якобы для того, чтобы переговорить с ним) и, стоя поблизости, слушал во все уши.
– Все равно, – сказал граф, не обращая внимания на злобный выпад профессора, – я стою на своем. Давно я не слышал Клоринды. Давайте позовем ее сюда; пусть она придет с пятью-шестью самыми красивыми ученицами. Слушай, Андзолето, – прибавил он, смеясь, – ты так расфранчен, что тебя можно принять за молодого профессора. Ступай в сад, выбери там самых хорошеньких учениц и скажи им, что профессор и я ждем их здесь.
Андзолето повиновался. Но, шалости ради или с иной целью, он привел самых некрасивых. Вот когда Жан-Жак Руссо мог бы воскликнуть: «Софи была кривая, а Каттина хромая».
К этому недоразумению отнеслись добродушно и, посмеявшись под сурдинку, отправили девиц обратно, поручив им прислать учениц по указанию самого профессора. Вскоре появилась группа прелестных девушек с красавицей Клориндой во главе.
– Что за великолепные волосы! – шепнул граф на ухо Порпоре, когда мимо него прошла Клоринда со своими чудесными белокурыми косами.
– На этой голове гораздо больше, чем внутри, – ответил, даже не понижая голоса, суровый критик.
Целый час продолжалась проба голосов, и граф, не в силах выдержать дольше, удалился совершенно подавленный, не забыв наделить певших самыми любезными похвалами, а профессору шепнуть: «Нечего и думать о таких попугаях».
– Если б ваше сиятельство позволили мне сказать вам два слова насчет того дела, которое так вас беспокоит… – шепнул Андзолето на ухо графу, спускаясь с ним по лестнице.
– Говори! Уж не знаешь ли ты то чудо, которое мы ищем? – спросил граф.
– Да, ваше сиятельство.
– В глубине какого моря выловишь ты эту жемчужину?
– В глубине класса, куда хитрый профессор Порпора прячет ее в те дни, когда вы, ваше сиятельство, делаете смотр своему женскому батальону.
– Как? Ты говоришь, что в школе есть бриллиант, блеска которого мои глаза никогда еще не видели? Если маэстро Порпора сыграл со мной такую шутку…
– Бриллиант, о котором я говорю, не принадлежит к числу учениц школы. Это бедная девушка, которая поет в хоре, когда бывает нужно; профессор дает ей частные уроки из милости, но еще более из любви к искусству.
– Значит, у этой девушки совершенно исключительные способности: ведь удовлетворить профессора нелегко и он не особенно щедр ни на свое время, ни на свой труд. Может быть, я слышал ее когда-нибудь, но не знал, что это поет именно она?
– Ваше сиятельство слышали ее давно, когда она была еще ребенком. Теперь это взрослая, сильная девушка, прилежная и ученая, как сам профессор; спой она на сцене три такта рядом с Кориллой, ту бы сразу освистали.
– И она никогда не поет публично? Неужели профессор не заставляет ее выступать на своих больших вечернях?
– Раньше профессор охотно слушал ее пение в церкви, но с тех пор как завистливые и мстительные ученицы пригрозили выгнать ее, если только она появится среди них…
– Так, значит, это девушка дурного поведения?
– О боже милостивый! Она чиста, как двери рая, ваше сиятельство. Но она бедна и низкого происхождения… как и я, ваше сиятельство, которого, однако, вы милостиво приближаете к себе. А эти злючки грозили профессору пожаловаться вам на то, что он, вопреки правилам школы, приводит в класс частную ученицу.
– Где же послушать это чудо?
– Прикажите, ваше сиятельство, профессору, чтобы он заставил ее спеть в вашем присутствии, и тогда вы сами будете иметь возможность судить о ее голосе и огромном даровании.
– Твоя уверенность невольно заставляет меня поверить тебе. Так ты говоришь, что я когда-то слышал ее… Я пытаюсь припомнить, но…
– В церкви Мендиканти в день генеральной репетиции «Salve, Regina» Перголезе…
– Вспомнил! – воскликнул граф. – Голос, выразительность, понимание необыкновенные!
– И ведь она была тогда совсем ребенком, ваше сиятельство, ей было всего четырнадцать лет.
– Да, но… помнится, она некрасива.
– Некрасива, ваше сиятельство? – переспросил изумленный Андзолето.
– Как ее звали?.. Кажется, это была испанка… еще такое странное имя…
– Консуэло, ваше сиятельство.
– Да, да, это она! Ты хотел тогда жениться на ней, и мы с профессором еще посмеялись над вашей любовью. Консуэло! Так, так… любимица профессора, умница, но очень некрасива.
– Некрасива? – повторил ошеломленный Андзолето.
– Ну да, мой мальчик. А ты все еще в нее влюблен?
– Она моя подруга, ваше сиятельство.
– «Подругой» мы называем и сестру и любовницу. Кто же она тебе?
– Сестра, ваше сиятельство.
– Тогда ты не огорчишься, если я скажу то, что думаю. В твоем предложении нет ни капли здравого смысла. Чтобы заменить Кориллу, надо быть ангелом красоты, твоя же Консуэло, я прекрасно припоминаю теперь, не только некрасива, а просто уродлива.
В эту минуту к графу подошел один из приятелей и отвел его в сторону, а Андзолето все стоял, потрясенный, и, вздыхая, повторял: «Она уродлива!»
Глава 7
Вам, быть может, покажется удивительным, любезный читатель, а между тем это правда, что у Андзолето не было сложившегося мнения насчет того, красива или некрасива Консуэло. Она была существом, столь обособленным от всех и незаметным в Венеции, что никому и в голову не приходило приподнять окутывавший ее покров забвения и мрака, чтобы взглянуть, под какой оболочкой – привлекательной или неприметной – проявляются ее ум и доброта. Порпора, для которого ничего не существовало, кроме искусства, видел в ней только артистку. Соседи ее по Корте-Минелли не ставили ей в укор невинную любовь к Андзолето: в Венеции не очень строги на этот счет. Но порой они все-таки предупреждали ее, что она будет несчастна с этим бездомным юношей, и советовали ей выйти замуж за честного, смирного рабочего. А так как она обычно отвечала, что ей, девушке без семьи и опоры, Андзолето как раз и подходит, и к тому же за все шесть лет не было дня, когда бы их не видели вместе, причем молодые люди из этого не делали тайны и никогда не ссорились, то в конце концов все привыкли к их свободному и неразрывному союзу. Никто из соседей никогда не ухаживал за «подругой» Андзолето. Оттого ли, что она считалась его невестой, или вследствие ее нищеты? Или ее наружность никого не прельщала? Наиболее правдоподобно последнее предположение.
А между тем всем известно, что девочки-подростки от двенадцати до четырнадцати лет бывают обыкновенно худы, неловки, что в чертах их лица, в фигуре, в движениях нет гармонии. К пятнадцати годам они как бы «переделываются», по выражению пожилых француженок из простонародья, и вот та, которая казалась прежде уродом, вдруг становится если не красивой, то по крайней мере миловидной. Есть даже примета, что для будущности девочки невыгодно, если она слишком рано бывает хорошенькой…
Возмужав, Консуэло похорошела, как это происходит со всеми девушками, и про нее перестали говорить, что она некрасива; да она и в самом деле не была уже некрасивой. Но так как она не была ни дофиной, ни инфантой и ее не окружали придворные, кричащие о том, как со дня на день расцветает красота царственного ребенка, так как некому было печься с нежною заботой о ее будущности, то никто и не потрудился сказать Андзолето: «Тебе не придется краснеть перед людьми за твою невесту».
Андзолето слыхал, что ее звали дурнушкой в те времена, когда это для него не имело никакого значения, а с тех пор как о наружности Консуэло больше не говорили ни хорошо, ни дурно, он и вовсе перестал об этом думать. Его тщеславие было направлено теперь в другую сторону – он мечтал о театре, о славе; ему было не до того, чтобы хвастаться своими любовными победами. К тому же жгучее любопытство, этот спутник ранней чувственности, было у него в значительной мере утолено. Я говорил уже, что в восемнадцать лет для него не было тайн в любви, в двадцать два года он уже был почти разочарован, и в двадцать два года, как и в восемнадцать, его привязанность к Консуэло, несмотря на несколько поцелуев, сорванных без трепета и возвращенных без смущения, была так же безмятежна, как и прежде.
Такое спокойствие и такая добродетель у молодого человека, вообще ими не отличавшегося, объяснялись тем, что беспредельная свобода, которой, как упоминалось в начале этого рассказа, наслаждалась юная пара, постепенно ограничивалась и мало-помалу, с течением времени, почти исчезла. Консуэло было около шестнадцати лет, и она все еще продолжала вести бродячую жизнь, убегая после занятий в консерватории на Пьяццетту разучивать свой урок и лакомиться рисом в обществе Андзолето, когда мать ее, вконец изнуренная, перестала петь по вечерам в кафе, где она до сих пор выступала, играя на гитаре и собирая деньги в деревянную тарелочку. Бедная женщина приютилась на одном из самых нищенских чердаков Корте-Минелли и там медленно угасала на жалком одре. Тогда добрая Консуэло, чтобы не оставлять мать одну, совершенно изменила свой образ жизни. За исключением тех часов, когда профессор удостаивал давать ей уроки, она либо вышивала, либо писала работы по контрапункту, не покидая изголовья своей властной, но сраженной нуждою матери, которая сурово обращалась с нею в детстве, а теперь являла собою ужасное зрелище агонии без мужества и без смирения. Любовь к матери и спокойная самоотверженность Консуэло ни на мгновение не изменили ей. Радости детства, свободу, бродячую жизнь, даже любовь – все она принесла в жертву без горечи и без колебаний. Андзолето часто жаловался на это, но, видя, что его упреки бесплодны, решил махнуть рукой и начал развлекаться. Однако это оказалось невозможным. Андзолето не был так усидчив в работе, как Консуэло; он наспех и плохо занимался на уроках, которые давал ему так же наспех и плохо его профессор ради платы, обещанной графом Дзустиньяни. К счастью для Андзолето, щедро одарившая его природа помогала ему, насколько возможно, наверстывать потерянное время и заглаживать результаты плохого обучения; но в итоге у него оказывалось много часов безделья, и тогда ему страшно не хватало общества преданной и жизнерадостной Консуэло. Он попытался предаться страстям, свойственным его возрасту и положению: посещал кабачки, проигрывал с разными повесами подачки, получаемые порой от графа Дзустиньяни. Такая жизнь продолжалась недели две-три, после чего он ощутил, что его общее самочувствие, его здоровье и голос заметно ухудшаются… Он понял, что безделье и распущенность – не одно и то же, а к распущенности у него склонности не было. Спасшись от порочных страстей, конечно, только из любви к самому себе, он уединился и попробовал засесть за ученье, но это уединение показалось ему тягостным и тоскливым. Он почувствовал, что Консуэло так же необходима для его таланта, как и для счастья. Прилежная и настойчивая, Консуэло, для которой музыка была такой же родной стихией, как воздух для птицы или вода для рыбы, любила преодолевать трудности и, словно ребенок, не отдавала себе при этом отчета в значительности своих достижений; стремясь побороть препятствия и проникнуть в тайники искусства в силу того самого инстинкта, который заставляет росток пробиваться сквозь землю к свету, она принадлежала к тем редким счастливым натурам, для которых труд – наслаждение, истинный отдых, необходимое, нормальное состояние, а бездействие – тяжко, болезненно, просто гибельно, если оно вообще возможно. Но оно им незнакомо: даже когда кажется, будто они предаются праздности, они и тогда работают; у них нет мечтаний, а есть размышления. Когда видишь их за делом, думаешь, что они в это время создают что-то, тогда как в действительности они только выявляют то, что уже создано ими ранее. Пожалуй, ты скажешь мне, дорогой читатель, что не знавал таких исключительных натур. На это я могу ответить тебе, что на своем веку встретил только одно такое существо, а ведь я старше тебя. Ах, отчего я не могу сказать тебе, что мне удалось проследить на примере собственного бедного разума божественную тайну этой умственной работы! Но, увы, друг читатель, ни ты, ни я не будем изучать ее на нас самих.
Консуэло работала не покладая рук и всегда с удовольствием. Целыми часами свободно и привольно распевая или читая ноты, она преодолевала трудности, которые устрашили бы Андзолето, будь он предоставлен самому себе; непредумышленно, не думая ни о каком соревновании, она между взрывами детского смеха, среди полетов поэтической и творческой фантазии, присущей людям из народа в Испании и Италии, заставляла его следовать за нею, вторить ей, понимать ее, отвечать ей. Андзолето, даже не отдавая себе в этом отчета, сам того не понимая и не замечая, в течение ряда лет проникался гениальностью Консуэло, впитывая ее как бы у самого истока. Но вследствие своей лени он представлял собою в музыке странное сочетание знания и невежества, вдохновения и легкомыслия, силы и неловкости, смелости и бессилия – всего того, что при последнем его выступлении погрузило Порпору в целый лабиринт мыслей и предположений. Старый музыкант не подозревал, что все эти сокровища знания Андзолето похитил у Консуэло. Объясняется это тем, что, пробрав однажды девочку за дружбу с таким шалопаем, он никогда больше не встречал их вместе. Консуэло, стремясь сохранить расположение своего учителя, старалась не попадаться ему на глаза в обществе Андзолето, а когда они бывали вместе, она, еще издали заметив профессора, пряталась с прыткостью котенка за ближайшую колонну или забивалась в какую-нибудь гондолу.
Эти предосторожности принимались и позже, когда Консуэло сделалась сиделкою у постели матери. Андзолето, не в силах больше выносить разлуку с Консуэло, чувствуя, что без нее он не может ни жить, ни надеяться, ни вдохновляться, ни даже дышать, решил делить с ней ее затворническую, сидячую жизнь и из вечера в вечер выслушивать колкости и испытывать на себе вспышки раздражения ее умирающей матери. Несчастная женщина за несколько месяцев до смерти стала меньше страдать и под влиянием своей набожной дочери сама смягчилась. Мало-помалу она привыкла к услугам Андзолето, и сам он, хотя совсем не был создан для такой роли, привык относиться к слабости и к страданию кротко, с веселой готовностью помочь. У Андзолето был ровный характер и приятные манеры. Его постоянство по отношению к Консуэло и к ней самой наконец покорило сердце матери, и перед смертью она заставила их поклясться, что они никогда не расстанутся. Андзолето дал слово и в эту торжественную минуту даже пережил никогда дотоле не испытанное чувство глубокого умиления. Он с тем более легким сердцем дал это обещание, что умирающая сказала: «Чем бы она ни была для тебя – другом, сестрой, любовницей или женой, не бросай ее, ведь она только тебя и признает, только тебя и слушает». Затем, стремясь дать дочери разумный и полезный совет и, не задумываясь над тем, насколько он осуществим, она, как мы уже видели, взяла особую клятву с Консуэло, что та не будет принадлежать своему возлюбленному до венца. Девушка поклялась, не предвидя препятствий, которые могли возникнуть из-за неверия и независимого характера Андзолето.
Осиротев, Консуэло продолжала зарабатывать шитьем, но в то же время занималась и музыкой, видя в ней их общую с Андзолето будущность. В течение двух последних лет, когда Консуэло жила одна на своем чердаке, юная пара встречалась ежедневно, но Андзолето не чувствовал к ней никакой страсти. Впрочем, он не чувствовал страсти и к другим женщинам, предпочитая всему прелесть дружеской близости с Консуэло и удовольствие жить подле нее.
Не отдавая себе вполне отчета в огромных способностях своей подруги, он все-таки настолько успел развить в себе музыкальный вкус и понимание, чтобы сознавать, что у нее больше умения и возможностей, чем у всех певиц театра Сан-Самуэле, не исключая самой Кориллы. И вот к его привязанности присоединилась надежда, почти уверенность в том, что, объединив свои интересы, они могут добиться блестящей будущности. Консуэло не имела обыкновения думать о будущем; предвидеть было не в ее привычках. Она была готова заниматься музыкой исключительно по призванию, и общность интересов, возникавшая у нее с Андзолето благодаря тому, что они оба занимались этим искусством, представлялась ей только как источник еще большей взаимной привязанности и счастья. Поэтому, даже не предупредив ее, Андзолето вдруг решил ускорить осуществление их мечтаний. В ту минуту Дзустиньяни был озабочен, кем заменить Кориллу, и, с редкой проницательностью угадав мысли своего покровителя, юноша сделал неожиданно то предложение, о котором уже шла речь.
Уродливость Консуэло, это неожиданное, странное препятствие, непреодолимое, если только граф не ошибался, внесло страх и смятение в душу Андзолето. В таком состоянии побрел он на Корте-Минелли. Останавливаясь на каждом шагу, он силился представить себе образ подруги и все спрашивал себя: «Так она некрасива? Безобразна? Уродлива?»
Глава 8
– Что ты так смотришь на меня? – спросила Консуэло, видя, что Андзолето, войдя в комнату, молча разглядывает ее с каким-то странным видом. – Можно подумать, что ты меня никогда не видел.
– Это правда, Консуэло, – ответил он, – я никогда тебя не видел.
– Что ты говоришь? В своем ли ты уме?
– О господи! – воскликнул Андзолето. – У меня в мозгу словно какое-то черное пятно, из-за которого я не вижу тебя.
– Боже милосердный! Да ты болен, мой друг!
– Нет, дорогая моя, успокойся, и постараемся все выяснить. Скажи мне, Консуэло, ты находишь меня красивым?
– Ну конечно, раз я тебя люблю.
– А если б ты меня не любила, каким бы я тебе казался?
– Откуда мне знать?
– Но, когда ты смотришь на других мужчин, различаешь же ты, красивы они или некрасивы?
– Различаю, но для меня ты красивее всех красавцев. – Потому ли, что я действительно красив, или потому, что ты меня любишь?
– И потому и поэтому. Впрочем, все находят тебя красивым, и ты сам это хорошо знаешь. Но какое тебе до этого дело?
– Мне хочется знать, любила ли бы ты меня, будь я безобразен?
– Пожалуй, я и не заметила бы этого.
– Значит, ты полагаешь, что можно любить и некрасивого?
– Почему же нет? Ведь любишь же ты меня.
– Значит, ты некрасива, Консуэло? Говори, отвечай же! Ты в самом деле некрасива?
– Мне всегда это говорили. А сам ты разве этого не видишь?
– Нет, нет, право не вижу.
– Ну, тогда я считаю себя достаточно красивой и очень довольна этим. – Вот сейчас, Консуэло, ты смотришь на меня такими добрыми, искренними, любящими глазами, что кажешься мне прекраснее Кориллы. Но мне хочется знать, действительно ли это так или это только мое заблуждение. Понимаешь, я хорошо знаю твое лицо, знаю, что оно честное и нравится мне. Когда я раздражен, оно действует на меня успокоительно, когда я грустен, утешает меня, когда я удручен, поднимает мой дух. Но я не знаю твоей наружности. Я не знаю, Консуэло, действительно ли ты некрасива.
– Я еще раз спрашиваю: какое тебе до этого дело?
– Мне необходимо это знать. Как ты думаешь, может ли красивый мужчина любить некрасивую женщину?
– Но ведь любил же ты мою бедную мать, а она сделалась под конец совершенным страшилищем. А я-то как ее любила!
– И ты считала ее уродливой?
– Нет. А ты?
– Я и не думал об ее наружности. Но это совсем не то, Консуэло… Я говорю о другой любви – о страсти; а я тебя люблю такою любовью, не правда ли? Я не могу обходиться без тебя, не могу с тобою расстаться. Ведь это настоящая любовь, правда?
– А чем иным могло бы это быть?
– Дружбой.
– Да. Возможно, что это и есть дружба.
Тут удивленная Консуэло замолчала и внимательно посмотрела на Андзолето. А тот, погрузившись в задумчивость, впервые ломал себе голову – над тем, что он испытывал к Консуэло – любовь или дружбу, и о чем говорили это спокойствие чувств и это целомудрие, которое он так легко сохранял вблизи нее. Было ли это результатом уважения или безразличия? В первый раз посмотрел он на девушку глазами молодого мужчины, не без некоторого волнения разбирая и оценивая ее лоб, глаза, фигуру – все то, что до сих пор жило в его представлении в виде какого-то затуманенного идеального целого. В первый раз взволнованная Консуэло была смущена взглядом своего друга: она покраснела, сердце ее забилось, и, не будучи в силах смотреть в глаза Андзолето, она отвернулась. Андзолето все еще продолжал хранить молчание. Не решаясь его прервать, Консуэло вдруг ощутила невыразимую тоску, крупные слезы одна за другой покатились по ее щекам, и, закрыв лицо руками, она воскликнула:
– О, я вижу, ты пришел мне сказать, что не хочешь больше, чтобы я была твоей подругой.
– Нет, нет, никогда я этого не говорил и не говорю! – воскликнул Андзолето, испуганный ее слезами, которые видел впервые, и поспешно по-братски обнял ее.
Но в этот миг Консуэло отвернулась, и поэтому вместо свежей, прохладной щеки поцелуй его встретил горячее плечо, едва прикрытое косынкой из грубого черного кружева.
Когда первая вспышка страсти запылает в молодом существе, сохранившем всю свою детскую чистоту, но уже достигшем полного расцвета, она вызывает потрясающее, почти мучительное ощущение.
– Не знаю, что со мной, – проговорила Консуэло, вырываясь с дотоле не испытанным страхом из объятий своего друга, – но мне нехорошо, мне кажется, будто я умираю…
– Не надо умирать, дорогая, – говорил Андзолето, нежно поддерживая ее, – теперь я убежден, что ты красавица, настоящая красавица. Действительно, Консуэло была очень хороша в эту минуту. И Андзолето, почувствовав это всем своим существом, не мог удержаться, чтобы не высказать ей своего восхищения, хотя и не был уверен в том, что ее красота отвечает требованиям искусства.
– Да скажи наконец, зачем тебе понадобилось сегодня, чтобы я была красива? – спросила Консуэло, сразу побледнев и обессилев. – А разве тебе самой не хочется быть красивой, милая Консуэло?
– Да, для тебя.
– А для других?
– Какое мне до них дело?
– А если бы от этого зависело наше будущее? Тут Андзолето, видя, в какое смятение он привел свою подругу, откровенно рассказал ей о том, что произошло между ним и графом. Когда он передал ей не особенно лестные для нее слова Дзустиньяни, добродушная Консуэло, которая поняла теперь, в чем дело, и успела успокоиться, расхохоталась до слез.
– Как, – воскликнул Андзолето, пораженный таким полным отсутствием тщеславия, – ты ничуть не взволнована, не смущена? О, я вижу, Консуэло, что вы маленькая кокетка и прекрасно знаете, что вы не безобразны.
– Послушай, – ответила она, улыбаясь. – Раз ты придаешь такое значение подобному вздору, я должна тебя немного успокоить. Я никогда не была кокеткой: я некрасива и это было бы смешно. Однако несомненно, что я теперь вовсе не безобразна.
– В самом деле? Ты это слышала? Кто говорил тебе это, Консуэло?
– Во-первых, моя мать, которую никогда не смущала моя некрасивость. Она не раз повторяла, что это пройдет и что сама она в детстве была еще хуже. А между тем я от многих знавших ее слыхала, что в двадцать лет она была самой красивой девушкой в Бургосе. Помнишь, когда она пела в кафе, не раз приходилось слышать: «Как, должно быть, эта женщина была красива в молодости». Видишь ли, друг мой, для бедняков красота – это дело одного мгновения: сегодня ты еще не красива, а завтра уже перестала быть красивой. Быть может, и я еще буду хороша, только бы мне не переутомляться, высыпаться хорошенько да не очень голодать.
– Консуэло, мы с тобой не расстанемся. Я скоро разбогатею, ты ни в чем не будешь нуждаться и сможешь хорошеть, сколько тебе угодно.
– В добрый час! Да поможет нам господь в остальном!
– Да, но все это не решает дела сейчас: важно знать, найдет ли тебя граф достаточно красивой для сцены.
– Проклятый граф! Только бы он не был слишком требователен.
– Прежде всего, ты вовсе не дурнушка.
– Да, я не некрасива. Еще недавно я слышала, как стекольщик, который живет напротив нас, сказал своей жене: «А знаешь, Консуэло совсем недурна: у нее прекрасная фигура, а когда она смеется, так просто сердце радуется; когда же запоет – делается и вовсе красивой».
– А что ответила на это его жена?
– Она ответила: «А тебе что до этого, дурак? Лучше занимайся своим делом: женатому человеку нечего заглядываться на девушек».
– И скажи, видно было, что она сердится?
– Еще как!
– Да, это хороший признак. Она считала, что муж ее не ошибся. Ну, а еще что?
– А потом графиня Мочениго, – я шью на нее, и она всегда интересовалась мною, – так вот на прошлой неделе вхожу я к ней, а она и говорит доктору Анчилло: «Посмотрите, доктор, как эта девочка выросла, побелела, какая у нее прелестная фигура».
– А доктор что ответил?
– Он ответил: «Да, действительно, я не узнал бы ее, клянусь вам! Она из тех флегматичных натур, которые белеют, когда начинают полнеть; увидите, из нее выйдет красавица».
– Не слыхала ли ты еще чего?
– Еще настоятельница монастыря Санта-Кьяра, – она заказывает мне вышивки для своих алтарей, – тоже сказала одной из монахинь: «Разве я была не права, говоря, что Консуэло похожа на нашу святую Цецилию? Каждый раз, молясь перед образом, я невольно думаю об этой девочке, думаю и прошу бога спасти ее от греха и от светского пения».
– А что ответила сестра?
– Она ответила: «Ваша правда, мать настоятельница, сущая правда». Сейчас же после этого я побежала в их церковь поглядеть на святую Цецилию. Это работа великого художника, и она такая красавица!
– И она похожа на тебя?
– Немножко.
– Почему же ты мне никогда об этом не говорила?
– Да я как-то не думала об этом.
– Милая моя Консуэло, так, значит, ты красива?
– Этого я не думаю, но я уже не так дурна собой, как говорили раньше. Во всяком случае, о своем безобразии я больше не слышу. Правда, может быть, причина в том, что люди не хотят меня огорчать теперь, когда я стала взрослой.
– Ну, Консуэло, посмотри-ка на меня хорошенько! Начать с того, что у тебя самые красивые в мире глаза.
– Зато рот слишком велик, – вставила, смеясь, Консуэло, разглядывая себя в осколок разбитого зеркала.
– Рот не мал, но какие чудесные зубы, – продолжал Андзолето, – просто жемчужины! Так и сверкают, когда ты смеешься.
– В таком случае, когда мы с тобой будем у графа, ты должен непременно рассмешить меня.
– А волосы какие чудесные, Консуэло!
– Вот это правда. На, посмотри…
Она вытащила шпильки, и целый поток черных волос, в которых солнце отразилось, как в зеркале, спустился до земли.
– У тебя широкая грудь, тонкая талия, а плечи… До чего они хороши! Зачем ты прячешь их от меня, Консуэло? Ведь я хочу видеть только то, что тебе неизбежно придется показывать публике.
– Нога у меня довольно маленькая, – желая переменить разговор, сказала Консуэло, выставляя свою крошечную, чудесную ножку – ножку настоящей андалузки, какую почти невозможно встретить в Венеции.
– Ручка – тоже прелесть, – прибавил Андзолето, впервые целуя ей руку, которую до сих пор только по-товарищески пожимал. – Ну, покажи мне свои руки повыше!
– Ты ведь их сто раз видел, – возразила она, снимая митенки.
– Да нет же! Я никогда еще их не видел, – сказал Андзолето.
Это невинное и вместе с тем опасное расследование начинало странным образом волновать юношу. Он как-то сразу умолк и все глядел на девушку, а та под влиянием его взглядов с каждой минутой преображалась, делаясь все красивее и красивее.
Быть может, он был не совсем слеп и раньше, быть может, впервые Консуэло, сама того не сознавая, сбросила с себя выражение равнодушия, допустимое лишь при безупречной правильности линий. В эту минуту, еще взволнованная ударом, поразившим ее в самое сердце, уже ставшая вновь простодушной и доверчивой, но еще испытывая легкое смущение, проистекавшее не от проснувшегося кокетства, а от чувства стыдливости, пережитого и понятого ею, она прозрачной белизной лица и чистыми, ясными глазами действительно напоминала святую Цецилию из монастыря Санта-Кьяра. Андзолето не в силах был оторвать от нее глаз. Солнце зашло. В большой комнате с одним маленьким окном быстро темнело, и в этом полусвете Консуэло стала еще красивее, – казалось, будто вокруг нее реет дыхание неуловимых наслаждений. В голове молодого Андзолето пронеслась мысль отдаться страсти, пробудившейся в нем с неведомой до сих пор силой, но тотчас же холодный рассудок взял верх над этим порывом. Ему хотелось своим пылким восторгом взволновать Консуэло и проверить, может ли ее красота пробудить в нем такую же страсть, какую пробуждали всеми признанные красавицы, которыми он уже обладал. Но он не посмел поддаться этому искушению, недостойному той, что вызвала в нем такие мысли. Волнение его все росло, а боязнь потерять новое для него наслаждение заставляла желать, чтобы этот миг длился как можно дольше.
Вдруг Консуэло, которой стало невмоготу выносить дольше охватившее ее смущение, сделала над собою усилие и, чтобы снова вернуться к их прежней беззаботной веселости, принялась расхаживать по комнате, напевая с преувеличенной экспрессией отрывки из лирической драмы и сопровождая пение, словно на сцене, трагическими жестами.
– Да ведь это великолепно! – восторженно воскликнул Андзолето, видя, что она способна прибегать к сценическим эффектам, чего он в ней никогда не подозревал.
– Совсем не великолепно! – сказала Консуэло, садясь. – Надеюсь, ты это говоришь в шутку?
– Уверяю тебя, это было бы великолепно на сцене. Поверь, здесь нет ничего лишнего. Корилла лопнула бы от зависти: это так же эффектно, как то, за что ей аплодируют с таким неистовством.
– Мой милый Андзолето, я вовсе не хочу, чтобы она лопнула от зависти к такому фиглярству. И если бы публика вздумала аплодировать мне только потому, что я умею передразнивать Кориллу, то перед такой публикой я больше не захотела бы и появляться.
– Ты, значит, надеешься ее превзойти?
– Да, надеюсь или откажусь от всего.
– Как же ты это сделаешь?
– Пока еще не знаю…
– Попробуй.
– Нет, все это одни мечты; и пока не будет решено, дурна я собой или хороша, нам нечего строить воздушные замки. Может быть, мы оба с тобой не в своем уме и, как выразился господин граф, Консуэло действительно уродлива.
Это последнее предположение дало Андзолето силы уйти.
Глава 9
В эту полосу своей жизни, почти неизвестную его биографам, Никколо Порпора, один из лучших композиторов Италии и величайший профессор пения XVIII века, ученик Скарлатти, учитель певцов Гассе, Фаринелли, Кафарелли, Салимбени, Уберто (известного под именем «Порпорино») и певиц Минготти, Габриэлли, Мольтени, – словом, родоначальник самой знаменитой школы пения своего времени, Никколо Порпора прозябал в Венеции, в состоянии, близком к нищете и отчаянию. А между тем некогда он стоял во главе консерватории Оспедалетто в этом самом городе, и то был самый блестящий период его жизни. Именно в ту пору им были написаны и поставлены его лучшие оперы, лучшие кантаты и все его главные произведения духовной музыки. Вызванный в 1728 году в Вену, он, правда не без некоторых усилий, добился там покровительства императора Карла VI. Он пользовался также благоволением саксонского двора, а затем был приглашен в Лондон, где в течение девяти или десяти лет имел честь соперничать с самим великим Генделем, звезда которого как раз в эту пору несколько потускнела. Но в конце концов гений Генделя восторжествовал, и Порпора, уязвленный в своей гордости, очутившись в тяжелом материальном положении, возвратился в Венецию, где не без труда занял место директора уже другой консерватории, а не Оспедалетто. Он написал здесь еще несколько опер и поставил их на сцене, но это было нелегко; последняя же опера, хотя и написанная в Венеции, шла только в лондонском театре, где не имела никакого успеха. Гению его был нанесен жестокий удар; слава и успех могли бы еще возродить его, но неблагодарность Гассе, Фаринелли и Кафарелли, все более и более забывавших своего учителя, окончательно разбила его сердце, ожесточила его, отравила ему старость. Известно, что он скончался в Неаполе на восьмидесятом году жизни в нищете и горе.
В то время, когда граф Дзустиньяни, предвидя уход Кориллы и почти желая его, подыскивал ей заместительницу, Порпора переживал как раз один из припадков озлобления, и его раздражение имело некоторое основание. Если в Венеции любили и исполняли музыку Йомелли, Лотти, Кариссими, Гаспарини и других превосходных мастеров, то это не мешало публике одновременно увлекаться без разбора легкой музыкой Кокки, Буини, Сальваторе Аполлини и других более или менее бездарных композиторов, льстивших посредственности своим легким и вульгарным стилем. Оперы Гассе не могли нравиться его учителю, справедливо разгневанному на него. Маститый и несчастный Порпора, закрывший сердце и уши для современной музыки, пытался задушить ее славою и авторитетом стариков. С чрезмерной суровостью он порицал грациозные произведения Галуппи и даже оригинальные фантазии Кьодзетто – популярного в Венеции композитора. С ним можно было разговаривать лишь о падре Мартини, о Дуранте, о Монтеверди, о Палестрине; не знаю, благоволил ли он даже к Марчелло и Лео. Вот почему первые попытки графа Дзустиньяни пригласить на сцену его неизвестную ученицу, бедную Консуэло, которой он желал, однако, и славы и счастья, были встречены Порпорой холодно и с грустью. Он был слишком опытным преподавателем, чтобы не знать цены своей ученице, не знать, чего она заслуживает. Одна мысль, что этот истинный талант, выращенный на шедеврах старых композиторов, будет профанирован, приводила старика в ужас.
Опустив голову, подавленным голосом он ответил графу:
– Ну что ж, берите эту незапятнанную душу, этот чистый разум, бросьте его собакам, отдайте на съедение зверям, раз уж такова в наши дни судьба гения.
Эта серьезная, глубокая и вместе с тем комическая печаль старого музыканта возвысила Консуэло в глазах графа: если этот суровый учитель так ценит ее, значит есть за что.
– Это действительно ваше мнение, дорогой маэстро? В самом деле Консуэло такое необыкновенное, божественное существо?
– Вы ее услышите, – проговорил Порпора с видом человека, покорившегося неизбежному, и повторил: – Такова ее судьба.
Граф все же сумел рассеять уныние маэстро, обнадежив его обещанием серьезно пересмотреть оперный репертуар своего театра. Он обещал исключить из репертуара, как только ему удастся избавиться от Кориллы, плохие оперы, ставившиеся, по его словам, лишь по ее капризу и ради ее успеха. Он намекнул весьма ловко, что будет очень сдержан в отношении постановок опер Гассе, и даже заявил, что в случае, если Порпора пожелает сочинить оперу для Консуэло, то день, когда ученица покроет своего учителя двойною славой, передав его мысли в соответствующем стиле, будет торжеством для оперной сцены Сан-Самуэле и счастливейшим днем в жизни самого графа. Порпора, убежденный его доводами, начал смягчаться и втайне уже желал, чтобы дебют его ученицы, которого он сначала побаивался, думая, что она могла бы придать новый блеск творениям его соперника, состоялся. Однако, поскольку граф выразил опасение насчет наружности Консуэло, он наотрез отказался дать ему возможность прослушать ее в узком кругу и без подготовки. На все настояния и вопросы графа он отвечал:
– Я не стану утверждать, что она красавица. Девушка, столь бедно одетая, естественно, робеет перед таким вельможей и ценителем искусства, как вы; дитя народа, она не встречала в жизни никакого внимания и, понятно, нуждается в том, чтобы немного заняться своим туалетом и подготовиться. К тому же Консуэло принадлежит к числу людей, чьи лица удивительно преображаются под влиянием вдохновения. Надо одновременно и видеть и слышать ее. Предоставьте это мне; если вам она не подойдет, я возьму ее к себе и найду способ сделать из нее хорошую монахиню, которая прославит школу, где будет преподавать.
Такова была действительно та будущность, о которой до сих пор мечтал Порпора для Консуэло.
Повидав затем свою ученицу, он объявил, что ей предстоит петь в присутствии графа Дзустиньяни. Когда девушка наивно выразила опасение, что граф найдет ее некрасивой, учитель, убедив ее в том, что граф, сидя в церкви на богослужении, не увидит ее за решеткой органа, все же посоветовал одеться поприличней, ибо после службы он представит ее графу. Как ни был беден сам благородный старик, он дал ей для этой цели небольшую сумму, и Консуэло, взволнованная и растерянная, впервые занялась своей особой и наскоро подготовила свой туалет. Она решила также испытать и свой голос и, запев, нашла его таким сильным, свежим и гибким, что несколько раз повторила очарованному и тоже взволнованному Андзолето:
– Ах! Зачем нужно певице еще что-то, кроме умения петь?
Глава 10
Накануне торжественного дня Андзолето нашел дверь в комнату своей подруги запертою на задвижку, и, только прождав на лестнице около четверти часа, он смог наконец войти и взглянуть на Консуэло в праздничном одеянии, которое ей хотелось ему показать. Она надела хорошенькое ситцевое платье в крупных цветах, кружевную косынку и напудрила волосы. Это так изменило ее облик, что Андзолето простоял в недоумении несколько минут, не понимая, выиграла ли она, или потеряла от такого превращения. Нерешительность, которую Консуэло прочла в его глазах, сразила ее, словно удар кинжала.
– Ну вот! – воскликнула она. – Я вижу, что не нравлюсь тебе в этом наряде. Кто сможет найти меня хотя бы сносной, если даже тот, кто меня любит, не испытывает, глядя на меня, ни малейшего удовольствия.
– Погоди немножко, – возразил Андзолето, – прежде всего я поражен твоей прелестной фигурой в этом длинном лифе; к тому же кружевная косынка придает тебе такой благородный вид. И юбка падает такими изящными складками… Однако мне жаль твоих черных волос… Но что поделаешь! Они хороши для плебейки, а завтра ты должна быть синьорой.
– А зачем мне нужно быть синьорой? Я ненавижу эту пудру, она обесцвечивает и старит самых красивых, а под всеми этими оборками я кажусь себе чужой. Словом, я сама себе не нравлюсь и вижу, что и ты такого же мнения. Знаешь, сегодня я была на репетиции, и при мне Клоринда тоже примеряла новое платье. Какая она нарядная, смелая, красивая! (Вот счастливица, на нее не нужно смотреть два раза, чтобы убедиться в ее красоте.) Мне очень страшно появиться перед графом рядом с ней.
– Будь спокойна, граф не только видел ее, но и слышал.
– И она пела плохо?
– Так, как поет всегда.
– Ах, друг мой, соперничество портит душу. Еще недавно, если бы Клоринда – при всем своем тщеславии она ведь совсем не плохая девушка – потерпела фиаско перед знатоком музыки, я от всей души пожалела бы ее и разделила с ней ее горе. А сегодня я ловлю себя на том, что могла бы порадоваться ее провалу. Борьба, зависть, стремление погубить друг друга… И все из-за кого? Из-за человека, которого не только не любишь, но даже не знаешь! Как это грустно, любимый мой! И мне кажется, что я одинаково боюсь и успеха и провала. Мне кажется, что пришел конец нашему с тобой счастью и что завтра, каков бы ни был исход испытания, я вернусь в эту убогую комнату совсем иной, чем жила в ней до сих пор.
Две крупные слезы скатились по щекам Консуэло.
– Плакать теперь? Как можно! – воскликнул Андзолето. – У тебя потускнеют глаза, распухнут веки! А твои глаза, Консуэло… Смотри не порти их – они самое красивое, что у тебя есть.
– Или менее некрасивое, чем все остальное, – произнесла она, утирая слезы. – Оказывается, когда отдаешь себя сцене, то не имеешь права даже плакать.
Андзолето пытался ее утешить, но она была печальна в течение всего дня. А вечером, оставшись одна, она стряхнула пудру со своих прекрасных, черных как смоль волос, пригладила их, примерила еще не старое черное шелковое платьице, которое обычно надевала по воскресеньям, и, увидав себя в зеркале такой, какой привыкла себя видеть, успокоилась. Затем, пламенно помолившись, стала думать о своей матери, растрогалась и заснула в слезах. Когда Андзолето на следующее утро зашел за ней, чтобы вместе идти в церковь, он застал ее у спинета, одетую и причесанную, как обычно по воскресеньям, – она репетировала арию, которую должна была исполнять.
– Как! Еще не причесана, не одета! Ведь скоро идти, о чем ты думаешь, Консуэло?
– Друг мой, я одета, причесана и спокойна. И я хочу остаться в таком виде, – сказала она решительным тоном. – Все эти красивые платья совсем мне не к лицу. Мои черные волосы тебе больше нравятся, чем напудренные. Этот лиф не мешает мне дышать. Пожалуйста, не противоречь: это дело решенное. Я просила бога вдохновить меня, а матушку наставить, как мне себя вести. И вот господь внушил мне быть скромной и простой. А матушка сказала мне во сне то, что говорила всегда: «Постарайся хорошо спеть, а все остальное в руках божьих». Я видела, как она взяла мое красивое платье, мои кружева, ленты и спрятала их в шкаф, а мое черное платьице и белую кисейную косынку положила на стул у моей кровати. Проснувшись, я спрятала свои наряды в шкаф, как сделала это она во сне, надела свое черное платьице, косынку, и вот я готова. И чувствую себя куда храбрее с тех пор, как стала опять сама собой. Послушай лучше мой голос, – все зависит от него.
И она исполнила руладу…
– О господи! Мы погибли! – воскликнул Андзолето. – Голос твой звучит глухо, и глаза совсем красные. Ты, наверно, вчера вечером плакала! Хороша, нечего сказать! Повторяю тебе: мы погибли! Ты просто с ума сошла! Облечься в траур в праздничный день! Это и несчастье приносит и делает тебя гораздо хуже, чем ты есть. Скорей, скорей переодевайся, а я пока сбегаю за румянами. Ты бледна, как мертвец.
Тут загорелся между ними жаркий спор. Андзолето был даже несколько груб. Бедная девушка опять огорчилась и расплакалась. Это еще более вывело из себя Андзолето, и спор был в полном разгаре, когда на часах пробило без четверти два: оставалось ровно столько времени, чтобы, запыхавшись, добежать до церкви. Андзолето разразился проклятиями. Консуэло, бледнее утренней звезды, глядящей в воду лагун, в последний раз посмотрелась в свое разбитое зеркальце и порывисто бросилась в объятия Андзолето.
– Друг мой! – воскликнула она. – Не брани; не проклинай меня! Лучше поцелуй меня покрепче, чтобы разрумянить мои побелевшие щеки. Пусть твой поцелуй будет жертвенным огнем на устах Исайи; и пусть господь не покарает нас за то, что мы усомнились в его помощи.
Поспешно накинув на голову косынку, она схватила ноты и, увлекая за собой растерявшегося возлюбленного, побежала с ним к церкви Мендиканти. Церковь была уже битком набита поклонниками прекрасной музыки Порпоры. Андзолето ни жив ни мертв направился к графу, который заранее условился встретиться с ним здесь, а Консуэло поднялась на хоры. Хористки уже стояли в боевой готовности, а профессор ждал у пюпитра. Консуэло и не подозревала, что с того места, где сидел граф, прекрасно виден хор и что он, не спуская глаз, следит за каждым ее движением.
Но лица ее он еще не мог разглядеть: придя, она тотчас опустилась на колени и, закрыв лицо руками, начала горячо молиться. «Господи, – шептала она, – ты знаешь, что я прошу возвысить меня, не стремясь при этом унизить моих соперниц. Ты знаешь также, что, посвящая себя миру и светскому искусству, я не хочу забыть тебя, не хочу вести порочной жизни. Тебе известно, что в душе моей нет тщеславия, и я молю поддержать меня, облагородить звук моего голоса и придать ему проникновенность, когда я буду петь хвалу тебе, лишь ради того, чтобы соединиться с тем, кого мне позволила любить моя мать, чтобы никогда не расставаться с ним, дать ему радость и счастье».
Когда раздались первые аккорды оркестра, призывавшие Консуэло занять свое место, она медленно поднялась с колен, косынка ее сползла на плечи, – тут граф и Андзолето, полные нетерпения и беспокойства, наконец смогли увидеть ее. Но что за чудесное превращение свершилось с этой юной девушкой, еще за минуту перед тем такой бледной, подавленной, усталой, испуганной! Вокруг ее высокого лба, казалось, реяло небесное сияние; нежная истома была разлита по благородному, спокойному и ясному лицу. В ее безмятежном взгляде не видно было жажды успеха. Во всем ее существе чувствовалось что-то серьезное, глубокое, таинственное, что трогало и внушало уважение.
– Мужайся, дочь моя, – шепнул ей профессор, – ты будешь исполнять творение великого композитора в его присутствии; он здесь и будет слушать тебя.
– Кто, Марчелло? – спросила удивленная Консуэло, видя, что профессор кладет на пюпитр псалмы Марчелло.
– Да, Марчелло. А ты пой, как всегда, не лучше и не хуже, и все будет прекрасно.
В самом деле, Марчелло, который в это время доживал последний год своей жизни, приехал проститься с родной Венецией, которую он трижды прославил – и как композитор, и как писатель, и как государственный деятель. Он выказал много внимания Порпоре, который и попросил именитого гостя прослушать его учениц. Профессор, желая сделать сюрприз маститому композитору, поставил первым номером его великолепный псалом «I cieli immensi narrano», который Консуэло исполняла в совершенстве. Ни одно произведение не могло более гармонировать с религиозным экстазом, которым была полна в эту минуту благородная душа девушки. Как только Консуэло пробежала глазами первую строчку этого широкого, захватывающего песнопения, она перенеслась в другой мир. Позабыв о графе, о злобствующих соперницах, о самом Андзолето, она помнила только о боге и о Марчелло. В композиторе она видела посредника между собою и этими сияющими небесами, славу которых она готовилась воспеть. Мог ли сюжет быть прекраснее, могла ли быть возвышеннее идея!
I cieli immensi narrano
Del grande Iddio la gloria
II firmamento lucido»
All\'universo annunzia,
Quanto sieno mirabili
Delia sua destra le opere
Творца-вседержителя славу; [19]
Восхитительный румянец залил ее щеки, священный огонь зажегся в больших черных глазах, и под сводами церкви раздался ее неподражаемый голос, чистый, могучий, величественный, – голос, который мог исходить только от существа, обладающего исключительным умом и большим сердцем. После нескольких тактов сладостные слезы хлынули из глаз Марчелло. Граф, не будучи в силах совладать с волнением, воскликнул:
– Клянусь богом, эта женщина прекрасна! Это святая Цецилия, святая Тереза, святая Консуэло! Это олицетворение поэзии, музыки, веры!
У Андзолето подкашивались ноги, он еле стоял, судорожно сжимая руками решетку возвышения, пока наконец, задыхаясь, близкий к обмороку, не опустился на стул, опьяненный радостью и гордостью.
Лишь уважение к святому месту удерживало многочисленных любителей и толпу, наполнявшую церковь, от бурных аплодисментов, уместных в театре. У графа не хватило терпения дождаться конца службы, и он поднялся на хоры, чтобы выразить свой восторг Порпоре и Консуэло. Еще во время богослужения, пока духовенство читало молитвы, Консуэло попросили подняться на возвышение, где сидели граф и Марчелло. Композитор пожелал поблагодарить ее и выразить ей свои чувства. Он был еще так взволнован, что едва мог говорить.
– Дочь моя, – начал он прерывающимся голосом, – прими благодарность и благословение умирающего. Ты в один миг заставила меня забыть целые годы смертельных мук. Когда я слушал тебя, мне казалось, что со мной случилось чудо и непрестанно терзающая меня жестокая боль исчезла навсегда. Если ангелы на небесах поют, как ты, я жажду покинуть землю, чтобы вкусить вечное наслаждение, которое я познал благодаря тебе. Благословляю тебя, дитя мое! Будь счастлива в этом мире, как ты этого заслуживаешь. Я слышал Фаустину, Романину, Куццони, всех самых великих певиц мира; они не стоят твоего мизинца. Тебе суждено дать людям то, чего они еще никогда не слыхали, тебе суждено заставить их почувствовать то, чего до сих пор не чувствовал еще ни один человек!
Подавленная, словно уничтоженная этой высокой похвалой, Консуэло низко склонилась, как если бы намеревалась встать на колени, и, не будучи в состоянии вымолвить ни слова, только поднесла к губам мертвенно-бледную руку великого старца, но, поднимаясь, она кинула на Андзолето взгляд, который, казалось, говорил ему: «Неблагодарный, и ты не разгадал меня!»
Глава 11
В течение остальной части богослужения Консуэло проявила столько энергии и такие природные данные, что все требования, какие мог бы еще предъявить граф Дзустиньяни, оказались удовлетворенными. Она вела за собой, поддерживала и воодушевляла весь хор и по мере исполнения своих партий обнаружила огромный диапазон голоса и все разнообразие его достоинств, а также неистощимую силу своих легких, или, вернее, совершенство своего искусства: ведь умеющий петь не знает усталости, а петь для Консуэло было так же легко, как для других дышать. Ее чистый, звучный голос выделялся из сотни голосов ее подруг, и ей не надо было для этого кричать, подобно бездарным и безголосым певицам. Вдобавок она чувствовала и понимала до тончайших оттенков мысль композитора. Словом, она одна была и артистом и мастером среди всего этого стада заурядных певиц с вялым темпераментом, хотя и со свежими голосами. Естественно, не кичась этим, она царила, и, пока длилось пение, всем поющим казалось, что иначе и быть не может. Но когда хор умолк, те самые хористки, которые во время исполнения взглядом умоляли Консуэло о помощи, теперь в глубине души были сердиты на нее за это и все похвалы по адресу школы Порпоры приписывали себе. Все эти похвалы Порпора выслушал молча, улыбаясь, но при этом он смотрел на Консуэло, и Андзолето прекрасно понимал, что говорит его взгляд.
По окончании богослужения граф в одной из приемных монастыря предложил хористкам отличное угощение. Решетка разделяла два больших стола, поставленных в форме полумесяца друг против друга: просвет, рассчитанный на размер огромного пирога, был оставлен посреди решетки для того, чтобы передавать блюда, которые граф сам любезно предлагал старшим монахиням и воспитанницам. Одетые послушницами, последние приходили по двенадцати разом и по очереди усаживались на свободные места в глубине залы. Настоятельница сидела около самой решетки, направо от графа, сидевшего в наружной части залы, а слева от него было свободное место. Дальше сидели Марчелло, Порпора, приходский священник, старшие священники, участвовавшие в церковной службе, несколько аристократов – любителей музыки, светские попечители школы, и, наконец, красавец Андзолето в своем парадном черном костюме, при шпаге. Обыкновенно в подобной обстановке молодые певицы бывали очень оживлены: их приводили в приятное и возбужденное состояние вкусные яства, общество мужчин, жажда нравиться или хотя бы быть замеченными, и они весело болтали наперебой. Но на этот раз пиршество проходило невесело и как-то натянуто. Замысел графа перестал быть тайной (разве есть секрет, который каким-либо образом не просочится сквозь щели монастырских стен?), и вот каждая из молодых девушек в глубине души мечтала, что именно ее Порпора предложит графу взамен Кориллы. Сам профессор хитро поддерживал в некоторых из них эту мечту: в одних – чтобы заставить их лучше петь в присутствии Марчелло, в других – чтобы неминуемым разочарованием отомстить им за все то, что он претерпел от них на своих уроках. Так или иначе, приходящая ученица школы Клоринда разрядилась в этот день в пух и прах, собираясь восседать рядом с графом. Каково же было ее бешенство, когда она увидела, что эта нищенка Консуэло в своем черном платьишке, эта дурнушка, отныне признанная лучшей певицей школы, единственной ее красой, садится с невозмутимым видом за стол между графом и Марчелло! Злоба исказила ее лицо, она стала такой уродливой, какою никогда не была Консуэло и какою стала бы сама Венера под влиянием столь низких и злобных чувств. Андзолето, торжествуя победу, видел, что происходит в душе Клоринды; он подсел к ней и рассыпался в пошлых комплиментах, которые та имела глупость принять за чистую монету. Это вскоре ее утешило: она вообразила, что, завладев вниманием жениха Консуэло, может отомстить ей, и пустила в ход все свои чары. Но она была слишком ограниченна, а Андзолето слишком хитер, и эта неравная борьба неминуемо должна была поставить ее в смешное положение.
Тем временем граф, беседуя с Консуэло, все более и более поражался тем, сколько такта, здравого смысла и обаяния обнаруживает она в разговоре, вдобавок к могучему таланту, проявленному в церкви. При полном отсутствии кокетства в ней было столько искренности, веселости, доброты, доверчивости, что при первом же знакомстве она внушала неотразимую симпатию. После ужина граф пригласил Консуэло прокатиться вместе с ним и его друзьями в гондоле, подышать вечерним воздухом. Марчелло не мог из-за болезни участвовать в этой прогулке, но Порпора, граф Барбериго и несколько других аристократов с удовольствием приняли предложение графа. Андзолето был также допущен. Консуэло со смущением подумала о том, что ей придется быть одной в таком большом мужском обществе, и тихонько попросила графа пригласить также и Клоринду. Дзустиньяни, не понявший причины ухаживания Андзолето за бедной красавицей, был даже рад, что тот во время прогулки будет больше занят ею, чем своей невестой. Доблестный граф, благодаря своему легкомыслию, красивой наружности, богатству, собственному театру, а также легким нравам своего народа и своего века, был наделен довольно большим самомнением. Возбужденный выпитым греческим вином и музыкой, стремясь отомстить поскорее кованой Корилле, граф не нашел ничего лучшего, как сразу начать ухаживать за Консуэло. Усевшись рядом с ней и устроив так, что другая юная пара очутилась на противоположном конце гондолы, он достаточно выразительно впился взглядом в свою новую жертву. Но простодушная Консуэло ничего не поняла. Ей, такой чистой и честной, даже в голову не могло прийти, чтобы покровитель ее друга был способен на подобную низость. К тому же при своей обычной скромности, которую не смог поколебать даже блестящий нынешний успех, Консуэло не допускала мысли о желании графа поухаживать за нею. Она упорно продолжала относиться почтительно к знатному вельможе, покровителю ее и Андзолете, и простодушно, по-детски, наслаждалась приятной прогулкой.
Ее спокойствие и доверчивость настолько поразили графа, что он не знал, отнести ли их к веселой непринужденности женщины, не помышляющей о сопротивлении, или к наивной глупости совершенно невинного существа. В Италии девушка в восемнадцать лет весьма просвещена, – я хочу сказать, была просвещена, особливо сто лет тому назад, да еще имея такого друга, как Андзолето. Казалось бы, все благоприятствовало надеждам графа. А между тем всякий раз, когда он брал Консуэло за руку или собирался обнять ее, его удерживало необъяснимое смущение, он ощущал неуверенность, чуть ли не почтительность, в которой не мог дать себе отчета.
Барбериго также находил, что Консуэло чрезвычайно привлекательна своей простотой, и охотно возымел бы на нее такие же виды, как и граф, но считал неделикатным идти наперекор намерениям своего друга. «По заслугам и честь, – думал он, видя, как блуждают в сладостном упоении взоры графа. – Еще придет и мой черед». Пока же, не имея обыкновения любоваться звездами во время прогулок с женщинами, молодой Барбериго задал себе вопрос, на каком основании этот ничтожный мальчишка Андзолето захватил себе белокурую Клоринду, и, подойдя к ней, дал понять юному тенору, что было бы более уместно, если б вместо ухаживания он взялся за весла. Андзолето, несмотря на свою необыкновенную проницательность, был все-таки недостаточно хорошо воспитан, чтобы понимать с полуслова. К тому же он вообще держал себя с аристократами с заносчивостью, переходящей в наглость. Он ненавидел их всем сердцем, а его уступчивость по отношению к ним была лишь хитростью, за которой скрывалось глубочайшее презрение. Барбериго, поняв, что тенору хочется его позлить, задумал жестоко отомстить ему.
– Поглядите, каким успехом пользуется ваша подруга Консуэло, – громко обратился он к Клоринде. – До чего она дойдет сегодня? Ей недостаточно фурора, который она произвела своим пением во всем городе, ей надо еще свести с ума своими огненными взорами нашего бедного графа. Если пока он еще и не потерял окончательно головы, то, уж наверно, потеряет, и тогда горе синьоре Корилле.
– О, этого можно не бояться! – лукаво возразила Клоринда. – Консуэло влюблена вот в этого самого Андзолето, она его невеста. Они пылают друг к другу страстью бог знает сколько лет.
– Много лет любви могут быть забыты в одно мгновение, – возразил Барбериго, – особенно когда глаза Дзустиньяни мечут свои смертоносные стрелы. Разве вы этого не находите, прекрасная Клоринда?
Андзолето не в силах был долго выносить такое издевательство. Тысячи змей уж начинали шевелиться в его сердце. До сих пор подобное подозрение не приходило ему в голову: ни о чем не думая, он наслаждался победой своей подруги, и если в течение двух часов он и забавлялся подтруниванием над несчастной жертвой сегодняшнего упоительного дня, то делал это лишь для того, чтобы как-то справиться со своим восторженным состоянием, а отчасти из тщеславия. Перебросившись с Барбериго несколькими шутками, Андзолето сделал вид, что заинтересовался спором о музыке, разгоревшимся в это время на середине лодки между Порпорой и другими гостями графа, и, постепенно отдаляясь от того места, которое ему уже не хотелось больше оспаривать, он проскользнул, пользуясь темнотою, на нос гондолы. Здесь Андзолето сразу заметил, что его появление пришлось не по вкусу графу: тот ответил холодно и даже сухо на несколько пустых вопросов юноши и посоветовал ему пойти послушать глубокомысленные рассуждения великого Порпоры о контрапункте.
– Великий Порпора не мой учитель, – заметил Андзолето шутливым тоном, пытаясь скрыть закипевшее в нем бешенство, – он учитель Консуэло, и если вашему сиятельству угодно, чтобы моя бедная Консуэло не брала никаких других уроков, как только у своего старого профессора… – ласково и вкрадчиво продолжал юноша, нагибаясь к графу.
– Милейший Дзото, – перебил его граф тоже ласково, но с превеликим лукавством, – мне надо что-то вам сказать на ухо. – И, нагнувшись к нему, проговорил: – Ваша невеста, получив, очевидно, от вас уроки добродетели, неуязвима, но, вздумай я преподать ей уроки другого рода, полагаю, что я имел бы право заняться этим в течение одного вечера…
Андзолето похолодел с головы до ног. – Ваше всемилостивейшее сиятельство, быть может, не откажет выразиться яснее, – задыхаясь, проговорил он.
– Это можно сделать в двух словах, любезный друг: «гондола за гондолу», – отрезал граф.
Андзолето так и замер от ужаса, поняв, что графу известна его прогулка наедине с Кориллой. Шальная и дерзкая женщина похвасталась этим во время своей последней жестокой ссоры с Дзустиньяни. Тщетно виновный пытался принять удивленный вид.
– Ступайте же и послушайте, что говорит Порпора об основах неаполитанской школы! – невозмутимо проговорил граф. – Потом расскажете мне, это очень меня интересует…
– Я это вижу, ваше сиятельство, – ответил взбешенный Андзолето, который в эту минуту способен был погубить все свое будущее.
– Так что ж ты медлишь? – наивно спросила удивленная его нерешительностью Консуэло. – В таком случае пойду я, господин граф. Вы увидите, что я всегда готова служить вам.
И прежде чем граф успел ее остановить, она легко перепрыгнула через скамейку, отделявшую ее от старого учителя, и присела подле него на корточки.
Граф, видя, что его ухаживание за Консуэло мало подвинулось, нашел нужным притвориться.
– Андзолето, – улыбаясь, сказал он, дергая довольно сильно своего питомца за ухо, – вот вся моя месть, дальше этого она не пойдет. Сознайтесь, она далеко не соответствует вашему проступку. Можно ли сравнить удовольствие, полученное мною от невинного разговора с вашей возлюбленной на глазах у десяти присутствующих, с тем, чем вы насладились наедине с моей любовницей в ее наглухо закрытой гондоле?
– Ваше сиятельство, – в сильном волнении вскричал Андзолето, – уверяю вас честью…
– Где она, ваша честь? Не в левом ли ухе? – спросил граф, делая вид, что собирается проделать над этим злополучным ухом то, что уже проделал над правым.
– Неужели вы, ваше сиятельство, предполагаете так мало благоразумия в своем питомце, что считаете его способным сделать такую глупость? – развязно спросил Андзолето, к которому успела вернуться его обычная находчивость.
– Сделал он ее или не сделал, в данную минуту мне это глубоко безразлично, – сухо ответил граф, поднялся и, подойдя к Консуэло, сел подле нее.
Глава 12
Споры о музыке продолжались и во дворце Дзустиньяни, куда вся компания вернулась к полуночи и где гостям был предложен шоколад и шербеты. От техники искусства перешли к стилю, к идеям, к старинным и современным музыкальным формам, наконец коснулись экспрессии и тут, естественно, заговорили об артистах и о различной манере чувствовать и выражать музыку. Порпора с восторгом вспоминал своего учителя Скарлатти, впервые придавшего духовной музыке патетический характер. Но дальше этого профессор не шел: он был против того, чтобы духовная музыка вторгалась в область музыки светской и разрешала себе ее украшения, пассажи и рулады.
– Значит ли это, что вы отвергаете трудные пассажи и фиоритуры, которые, однако, создали успех и известность вашему знаменитому ученику Фаринелли? – спросил его Андзолето.
– Я отвергаю их в церкви, – ответил маэстро, – а в театре приветствую их. Но и здесь я хочу, чтобы они были на месте и, главное – чтобы ими не злоупотребляли; я требую соблюдения строгого вкуса, оригинальности, изящества, требую, чтобы модуляции соответствовали не только данному сюжету, но и изображаемому лицу, выражаемым им чувствам и самому положению этого лица. Пусть нимфы и пастушки щебечут, как пташки, и своими голосами подражают журчанью фонтанов и ручейков, но Медея или Дидона может только рыдать или рычать, как раненая львица. Кокетка, например, может перегружать капризными и изысканными фиоритурами свои легкомысленные каватины. Корилла превосходна в этом жанре, но попробуй она выразить глубокие чувства и бурные страсти, ей это совсем не удастся. И напрасно будет она волноваться, напрягать свой голос и легкие: неуместный пассаж, нелепая рулада в один миг превратят в смешную пародию то великое, к чему она стремилась. Вы все слышали Фаустину Бордони, ныне синьору Гассе. Так вот, она в некоторых ролях, соответствующих ее блестящим данным, не имела себе равных. Но явилась Куццони, передававшая с присущей ей чистой, глубокой проникновенностью скорбь, мольбу, нежность, – и слезы, которые она вызывала у вас, мгновенно изгоняли из вашего сердца воспоминание о всех чудесах, которые расточала вашему слуху Фаустина. И это потому, что существует талант, так сказать, материальный, и существует гений души. Есть то, что забавляет, и то, что трогает… Есть то, что удивляет, и то, что восхищает… Я прекрасно знаю, что вокальные фокусы теперь в моде; но если я и показывал их своим ученикам как полезные аксессуары, то почти готов в этом раскаяться, слыша, как большинство моих учеников ими злоупотребляет, жертвуя необходимым ради излишнего и длительным умилением публики ради мимолетных криков удивления и диких восторгов. Никто не оспаривал этого мнения, безусловно правильного по отношению ко всем видам искусства вообще; возвышенные артистические натуры всегда будут держаться его. Между тем граф, сгорая желанием узнать, как исполняет Консуэло светскую музыку, стал для виду противоречить слишком суровым взглядам Порпоры. Но видя, что скромная ученица не только не опровергает этой ереси, а наоборот, не сводит глаз со своего учителя, как бы побуждая его выйти победителем из этого спора, граф решил обратиться прямо к ней самой с вопросом, сможет ли она, по ее мнению, петь на сцене с тем же умением и чистотой, как пела в церкви.
– Сомневаюсь, – ответила она откровенно, с искренним смирением, – чтобы я могла так же вдохновляться на сцене; боюсь, что там я много потеряю.
– Этот скромный и умный ответ успокаивает меня, – сказал граф, – я уверен в том, что публика, страстная, увлекающаяся, правда, немного капризная, вдохновит вас и вы снизойдете изучить те вокальные, полные блеска трудности, которых публика с каждым днем жаждет все больше и больше. – Изучить! – с ударением проговорил Порпора, саркастически улыбаясь. – Изучить! – воскликнул Андзолето с гордым презрением.
– Да, да, конечно изучить, – согласилась с обычной своей кротостью Консуэло. – Хоть я немного и упражнялась в этом жанре, но не думаю, чтобы уже была в состоянии соперничать со знаменитыми певицами, выступавшими на нашей сцене…
– Ты лжешь! – с горячностью вскричал Андзолето. – Ваше сиятельство, она лжет. Заставьте ее спеть самые трудные колоратурные арии вашего репертуара, и вы увидите, на что она способна!
– Если б только я не боялся, что она устала… – нерешительно проговорил граф, а глаза его уже зажглись нетерпением и ожиданием.
Консуэло по-детски вопросительно взглянула на Порпору, как бы ожидая его приказаний.
– Ну что ж, – сказал профессор, – она не так легко устает, и раз здесь собрался столь тесный и приятный кружок, давайте проэкзаменуем ее по всем статьям. Не угодно ли вам, глубокоуважаемый граф, выбрать арию и самому проаккомпанировать ей на клавесине?
– Ее пение и близость так взволнуют меня, что я, пожалуй, буду ошибаться и фальшивить, – ответил Дзустиньяни. – Почему, маэстро, вы сами не хотите аккомпанировать ей?
– Мне хотелось бы видеть ее поющей. Сказать по правде, слушая ее, я ни разу не подумал взглянуть на нее во время пения. А мне надо знать, как она себя держит, что проделывает со своим ртом и глазами. Иди же, дочь моя, этот экзамен необходим и для твоего учителя.
– В таком случае я буду ей аккомпанировать, – заявил Андзолето, усаживаясь за клавесин.
– Вы меня будете слишком смущать, маэстро, – обратилась Консуэло к Порпоре.
– Смущение – признак глупости, – ответил учитель, – тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится. Если ты трусишь, значит, ты тщеславна. Если будешь не на высоте, значит, способности твои дутые, и я первый заявлю: «Консуэло никуда не годится!»
И, нисколько не заботясь о том, как губительно может подействовать столь нежное подбадривание, профессор надел очки, уселся против своей ученицы и стал отбивать такт, чтобы дать правильный темп ритурнели. Выбор пал на трудную, причудливую, блестящую арию из комической оперы Галуппи «Diavolessa»: граф хотел сразу перейти на жанр, диаметрально противоположный тому, в котором Консуэло произвела такой фурор в это утро. Благодаря своему огромному дарованию девушка, почти не упражняясь, самостоятельно добилась умения проделывать своим гибким и могучим голосом все известные в то время вокальные фокусы. Правда, Порпора советовал ей делать эти упражнения и изредка заставлял повторять их, желая убедиться, что она не совсем их забросила, но, в общем, уделял этому жанру так мало внимания, что даже не подозревал, насколько сильна в нем его удивительная ученица. Чтобы отомстить учителю за проявленную им жестокость, Консуэло придумала шутки ради уснастить причудливую арию из «Diavolessa» фиоритурами и пассажами, считавшимися до тех пор невыполнимыми. Она импровизировала их так просто, как будто они были вписаны в ноты и старательно разучены. В ее импровизациях было столько искусных модуляций, силы, чего-то поистине дьявольского, среди самого буйного веселья в них прорывались такие мрачные созвучия, что восхищенных слушателей охватил ужас, а Порпора, вскочив с места, вскричал:
– Да ты сама воплощенный дьявол!
Консуэло закончила арию сильным крещендо, вызвавшим неистовый восторг, и со смехом опустилась на стул.
– Ах ты скверная девчонка! – воскликнул Порпора. – Тебя мало повесить! Ну и подшутила же ты надо мной! Утаила от меня половину своих знаний, половину возможностей! Давно мне нечему было тебя учить, а ты лицемерно продолжала брать у меня уроки, – быть может, для того, чтобы похитить у меня все тайны композиции и преподавания, превзойти меня во всем, а потом выставить меня старым педантом.
– Маэстро, я только повторила то, что вы проделали с императором Карлом. Помните, вы мне рассказывали об этом эпизоде? Император не выносил трелей и запретил вам вводить их в вашу ораторию, и вот вы, воздержавшись от них до конца, в последней фуге приготовили императору хорошенький дивертисмент: вы начали фугу четырьмя восходящими трелями, а потом повторяли их до бесконечности в ускоренном темпе всеми голосами. Вы сами только что осуждали злоупотребление вокальными фокусами, а потом велели мне исполнять их. Вот почему я и преподнесла их вам в таком количестве – хотела доказать, что я тоже способна злоупотреблять таким пороком, и теперь прошу простить меня.
– Я уже сказал тебе, что ты сущий дьявол, – ответил Порпора. – А теперь спой-ка нам что-нибудь человеческое. И пой, как сама знаешь, – я вижу, что больше не в состоянии быть твоим учителем.
– Вы всегда будете моим уважаемым и любимым учителем! – воскликнула девушка, порывисто бросаясь ему на шею и с силой сжимая в своих объятиях. – Целых десять лет вы кормили и учили меня. О, дорогой учитель! Говорят, вам знакома людская неблагодарность, пусть же бог отнимет у меня любовь, пусть отнимет голос, если в сердце моем найдется хоть одна ядовитая капля гордости и неблагодарности.
Порпора побледнел, пробормотал несколько слов и отечески поцеловал свою ученицу в лоб, уронив на него слезу. Консуэло не решилась стереть ее и долго чувствовала, как на ее лбу высыхала эта холодная, мучительная слеза заброшенной старости, непризнанного гения. Слеза эта произвела на нее глубокое впечатление, наполнила душу каким-то мистическим ужасом, убив в ней на весь остаток вечера оживление и веселость. После целого часа восторженных похвал, возгласов изумления и бесплодных усилий рассеять ее грусть все стали просить ее показать себя в драматической роли. Она исполнила большую арию из оперы «Покинутая Дидона» Йомелли. Никогда до сих пор не чувствовала она такой потребности излить свою тоску. Она была великолепна, проста, величественна и еще красивее, чем в церкви: лихорадочный румянец залил ей щеки, глаза метали искры. Исчезла святая, на ее месте была женщина, пожираемая любовью. Граф, его друг Барбериго, Андзолето, все присутствующие, кажется, даже старик Порпора совсем обезумели. Клоринда задыхалась от отчаяния. Граф объявил Консуэло, что завтра же будет составлен и подписан ее ангажемент, и она попросила его обещать ей еще одну милость, причем обещать это так, как некогда делали рыцари – не спрашивая, в чем эта милость будет заключаться. Граф дал ей слово, и все разошлись, испытывая то восхитительное волнение, какое вызывает в нас все великое и гениальное.
Глава 13
В то время как Консуэло одерживала одну победу за другой, Андзолето жил только ею, совершенно забыв о себе; но когда граф, прощаясь с гостями, объявил об ангажементе его невесты, не сказав ни слова о его собственном, он вспомнил, как холоден был с ним Дзустиньяни все последние часы, и страх потерять навсегда его расположение отравил всю радость юноши. У него мелькнула мысль оставить Консуэло на лестнице в обществе Порпоры, а самому вернуться к своему покровителю и броситься к его ногам, но так как он в эту минуту ненавидел графа, то, к чести его будь сказано, все-таки удержался от такого унижения. Когда же, попрощавшись с Порпорой, он собрался было пойти с Консуэло вдоль канала, его остановил гондольер графа и сказал, что по приказанию его сиятельства гондола ожидает синьору Консуэло, чтобы отвезти ее домой. Холодный пот выступил на лбу Андзолето.
– Синьора привыкла ходить на собственных ногах, – грубо отрезал он. Она очень благодарна графу за его любезность.
– А по какому праву вы отказываетесь за нее? – спросил граф, который шел за ними следом.
Оглянувшись, Андзолето увидел Дзустиньяни; граф был не в том виде, в каком обыкновенно хозяева провожают своих гостей, а в плаще, при шпаге, со шляпой в руке, как человек, приготовившийся к ночным похождениям. Андзолето пришел в такую ярость, что готов был вонзить в грудь Дзустиньяни тот остро отточенный нож, который всякий венецианец из народа всегда прячет в каком-нибудь потайном кармане своей одежды.
– Надеюсь, синьора, – обратился граф к Консуэло решительным тоном, – вы не захотите обидеть меня, отказавшись от моей гондолы, а также не пожелаете огорчить меня, не позволив мне усадить вас в нее.
Доверчивая Консуэло, совершенно не подозревая того, что происходило вокруг нее, согласилась на предложение, поблагодарила и, опершись своим красивым округлым локтем на руку графа, без церемоний прыгнула в гондолу. Тут между графом и Андзолето произошел безмолвный, но выразительный диалог. Граф, стоя одной ногой на берегу, а другой в лодке, смерил взглядом Андзолето, а тот, застыв на последней ступеньке лестницы, тоже впился взором в Дзустиньяни. Разъяренный, он держал руку на груди под курткой, сжимая рукоятку ножа. Еще один шаг к гондоле – и граф встретил бы смерть. Чисто венецианской чертой в этой мгновенной молчаливой сцене было то, что оба соперника не спеша наблюдали друг за другом и ни тот, ни другой не стремился ускорить неминуемую катастрофу. Граф, в сущности, лишь намеревался своей кажущейся нерешительностью помучить соперника, и помучил его всласть, хотя видел и отлично понял жест Андзолето, приготовившегося заколоть его. У Андзолето тоже хватило выдержки ждать, не выдавая себя, пока граф соблаговолит кончить свою дикую шутку или простится с жизнью. Длилось это минуты две, показавшиеся ему вечностью. Граф, выдержав их со стоическим презрением, почтительно поклонился Консуэло и, повернувшись к своему питомцу, сказал:
– Я позволяю вам также войти в мою гондолу, впредь будете знать, как должен вести себя воспитанный человек.
Он посторонился, чтобы пропустить Андзолето, и, приказав гондольерам грести к Корте-Минелли, остался на берегу, неподвижный, как статуя. Казалось, он спокойно ждал нового покушения на свою жизнь со стороны униженного соперника.
– Откуда графу известно, где ты живешь? – было первое, что спросил Андзолето у своей подруги, как только дворец Дзустиньяни скрылся из вида.
– Я сама сказала ему, – ответила Консуэло.
– А зачем ты сказала?
– Затем, что он у меня спросил.
– Неужели ты не догадываешься, для чего ему понадобилось это знать?
– По-видимому, для того, чтобы приказать отвезти меня домой.
– Ты думаешь, только для этого? А не для того ли, чтобы самому явиться к тебе?
– Явиться ко мне? Какой вздор! В такую жалкую лачугу? Это было бы с его стороны чрезмерной любезностью, которой я совсем не хочу.
– Хорошо, что ты этого не хочешь, Консуэло, так как результатом этой чрезмерной чести мог бы быть чрезмерный для тебя позор.
– Позор? Почему? Право, я совершенно тебя не понимаю, мой милый Андзолето. И меня очень удивляет, почему, вместо того чтобы радоваться со мной нашему сегодняшнему неожиданному и невероятному успеху, ты говоришь мне какие-то странные вещи.
– Действительно неожиданному! – с горечью заметил Андзолето.
– А мне казалось, что и в церкви и вечером во дворце, когда мне аплодировали, ты был упоен счастьем еще больше моего. Ты кидал на меня такие пламенные взгляды, что я с особенной силой ощущала свое счастье, видя его как бы отраженным на твоем лице. Но вот уже несколько минут, как ты мрачен и сам не свой, – таким ты бываешь иногда, когда у нас нет хлеба или когда будущее рисуется нам с тобой неверным и печальным.
– А тебе хотелось бы, чтобы я радовался нашему будущему? Быть может, оно действительно не так уж неверно, но мне-то радоваться нечему.
– Чего же еще тебе нужно? Неделю тому назад ты дебютировал у графа и произвел фурор…
– Твой успех у графа затмил его, моя дорогая, ты и сама это отлично знаешь.
– Надеюсь, что нет, но если бы даже и так, мы не можем завидовать друг другу.
Консуэло сказала это с такой нежностью, с такой подкупающей искренностью, что Андзолето сразу успокоился.
– Да, ты права! – воскликнул он, прижимая невесту к груди. – Мы не можем завидовать друг другу, так же как не можем обмануть друг друга.
Произнося последние слова, он с угрызением совести вспомнил о начатой интрижке с Кориллой, и вдруг у него мелькнула мысль, что граф, желая окончательно проучить его, непременно расскажет обо всем Консуэло, как только ему покажется, что она хоть немного поощряет его надежды. При этой мысли он снова помрачнел, Консуэло тоже задумалась.
– Почему ты сказал, – проговорила она после некоторого молчания, – что мы не можем никогда обмануть друг друга? Конечно, это величайшая правда, но по какому поводу это тебе пришло в голову?
– Знаешь, прекратим этот разговор в гондоле, – прошептал Андзолето. – Боюсь, что гондольеры, подслушав нас, передадут все графу. Эти занавески из бархата и шелка очень тонки, а уши у дворцовых гондольеров раза в четыре шире и глубже, чем у наемных.
– Позволь мне подняться к тебе в комнату, – попросил он Консуэло, когда они пристали к берегу у Корте-Минелли.
– ТЫ знаешь, что это против наших привычек и против нашего уговора, отвечала она.
– О, не отказывай мне, – вскричал Андзолето, – не приводи меня в отчаяние и бешенство!
Испуганная его словами и тоном, Консуэло не решилась отказать ему. Она зажгла лампу, опустила занавески и, увидав своего жениха мрачным и задумчивым, обняла его.
– Скажи, что с тобой? – грустно спросила она. – У тебя такой несчастный, встревоженный вид сегодня вечером.
– А ты сама не знаешь, Консуэло? Не догадываешься?
– Нет, даю тебе слово!
– Так поклянись мне, что ты ничего не подозреваешь, поклянись мне душой твоей матери, поклянись распятием, перед которым ты молишься утром и вечером…
– О! Клянусь тебе распятием и душой моей матери!
– А нашей любовью поклянешься?
– Да, и нашей любовью, и нашим вечным спасением…
– Я верю тебе, Консуэло: ведь если бы ты солгала, это была бы первая ложь в твоей жизни.
– Ну, а теперь ты объяснишь мне, в чем дело?
– Я ничего тебе не объясню, но, быть может, очень скоро ты поймешь меня… О! Когда наступит эта минута, тебе и так все будет слишком ясно… Горе, горе будет нам обоим в тот день, когда ты узнаешь о моих теперешних муках!
– О боже! Какое же ужасное несчастье грозит нам? Боюсь, что в эту убогую комнату, где у нас с тобой не было до сих пор секретов друг от друга, мы вернулись преследуемые каким-то злым роком. Недаром, уходя отсюда сегодня утром, я чувствовала, что возвращусь в отчаянии. Почему не могу я насладиться днем, который казался мне таким прекрасным! Я ли не молила бога так искренне, так горячо! Я ли не отбросила всякие мысли о гордости! Я ли не старалась петь, как только могла лучше! Не я ли огорчалась унижением Клоринды! Не я ли заручилась обещанием графа пригласить ее вместе с нами на вторые роли, причем он сам не подозревает, что дал мне это обещание и уже не может взять назад свое слово. Повторяю: что же сделала я дурного, чтобы переносить те муки, какие ты мне предсказываешь и какие я уже испытываю, раз их испытываешь ты?
– Ты в самом деле хочешь устроить ангажемент для Клоринды, Консуэло? – Я добьюсь этого, если только граф – человек слова. Бедняжка всегда мечтала о театре, и это единственная возможная для нее будущность…
– И ты надеешься, что граф откажет Розальбе, которая кое-что знает, ради ничего не знающей Клоринды?
– Розальба не расстанется с Кориллой, ведь они сестры. Она уйдет с ней. Клориндой же мы с тобой займемся и научим ее использовать наилучшим образом свой милый голосок. А публика всегда будет снисходительна к такой красавице. Наконец, если мне удастся устроить ее хотя бы на третьи роли, уже и то хорошо – это будет первым шагом в ее карьере, началом ее самостоятельного существования.
– Ты просто святая, Консуэло! И ты не понимаешь, что эта облагодетельствованная тобой дура, в сущности годная даже не на третьи, а едва-едва на четвертые роли, никогда не простит тебе того, что сама ты на первых ролях?
– Что мне до ее неблагодарности! Увы! Я слишком хорошо знаю, что такое неблагодарность и неблагодарные!
– Ты? – И Андзолето расхохотался, целуя ее с прежней братской нежностью.
– Конечно, – ответила она, радуясь, что ей удалось отвлечь своего друга от грустных дум. – В моей душе постоянно жил и всегда будет жить благородный образ Порпоры. В моем присутствии он часто высказывал глубокие, полные горечи мысли. Должно быть, он считал, что я не в состоянии понять их, но они запали мне в душу и останутся в ней навсегда. Этот человек много страдал, горе гложет его, и вот из его печальной жизни, из вырвавшихся у него слов, полных негодования, я сделала вывод, что артисты гораздо опаснее и злее, чем ты, дорогой мой, предполагаешь. Я знаю также, что публика легкомысленна, забывчива, жестока, несправедлива. Знаю, что блестящая карьера – тяжкий крест, а слава – терновый венец! Да, все это для меня не тайна. Я так много думала, так много размышляла об этих вещах, что, мне кажется, ничто уже не сможет удивить меня, и когда-нибудь, сама столкнувшись со всем этим, я найду в себе силы не унывать. Вот почему, как ты мог заметить, я не была опьянена своим сегодняшним успехом, вот почему также я не падаю духом от твоих мрачных мыслей. Я еще не понимаю их хорошенько, но уверена, что с тобой, если ты будешь любить меня, я не стану человеконенавистницей, подобно моему бедному учителю, этому благородному старику и несчастному ребенку.
Слушая свою подругу, Андзолето снова приободрился и повеселел. Консуэло имела на него огромное влияние. С каждым днем он обнаруживал в ней все больше твердости и прямоты – качества, которых так не хватало ему самому. Поговорив с ней с четверть часа, он совершенно забыл о муках ревности, и когда она снова начала расспрашивать о причине его подавленного состояния, ему стало стыдно, что он мог заподозрить такое чистое, целомудренное существо. Он тут же придумал объяснение:
– Я одного боюсь: чтобы граф не нашел меня неподходящим для тебя партнером, – он так высоко ценит тебя. Сегодня он не заставил меня петь, а я, по правде сказать, ожидал, что он предложит нам с тобой исполнить дуэт. Но, по-видимому, он совсем забыл о моем существовании; даже не заметил того, что, аккомпанируя тебе, я совсем недурно с этим справился. Наконец, говоря о твоем ангажементе, он не заикнулся о моем. Как не обратила ты внимания на такую странность?
– Мне и в голову не пришло, что граф, приглашая меня, может не пригласить тебя. Да разве он не знает, что я соглашусь только при этом условии? Разве он не знает, что мы жених и невеста, что мы любим друг друга? Разве ты не говорил ему об этом совершенно определенно?
– Говорил, но, быть может, Консуэло, он считает это хвастовством с моей стороны?
– В таком случае я сама похвастаюсь моей любовью к тебе, Андзолето!
Уж я так ее распишу, что он мне поверит! Но только ты ошибаешься, друг мой! Если граф не счел нужным заговорить с тобой об ангажементе, то только потому, что это дело решенное с того самого дня, когда ты выступал у него с таким успехом.
– Решенное, во не подписанное! А твой ангажемент будет подписан завтра. Он сам сказал тебе об этом.
– Неужели ты думаешь, что я подпишу первая? Уж конечно, нет! Хорошо, что ты меня предостерег. Мое имя будет написано не иначе, как под твоим. – Ты клянешься?
– Как тебе не стыдно! Заставлять меня клясться в том, в чем ты уверен! Право, ты меня сегодня не любишь или хочешь помучить; у тебя такой вид, словно ты не веришь, что я тебя люблю.
Тут на глазах у девушки навернулись слезы, и она опустилась на стул, слегка надувшись, что придало ей еще больше очарования.
«В самом деле, какой я дурак, – подумал Андзолето, – совсем с ума спятил. Как я мог допустить мысль, что граф соблазнит такое чистое, беззаветно любящее меня существо! Он достаточно опытен и, конечно, понял с первого взгляда, что Консуэло не для него. И разве он проявил бы такое великодушие сегодня вечером, позволив мне войти в гондолу вместо себя, если бы не был уверен, что окажется перед ней в жалкой и смешной роли фата? Нет! Конечно, нет! Моя судьба обеспечена, мое положение непоколебимо. Пусть Консуэло ему нравится, пусть он ухаживает за ней, пусть даже влюбится в нее, – все это будет только способствовать моей карьере: она сумеет добиться от него всего, ничему не подвергая себя. Во всем этом она скоро разберется лучше меня. Она сильна и осторожна. Домогательства милейшего графа лишь послужат мне на пользу, дадут мне славу».
И, отрешившись от всех своих сомнений, он бросился к ногам подруги и отдался порыву страсти, охватившей его впервые и не проявлявшейся до этой минуты лишь из-за ревности.
– Красавица моя! – воскликнул он. – Святая! Дьяволица! Королева! Прости, что я думал о себе, вместо того чтобы, оказавшись с тобой наедине в этой комнате, поклоняться тебе, распростершись у твоих ног. Сегодня утром я вышел отсюда, ссорясь с тобой, к должен был вернуться не иначе, как на коленях, да, да, ползком, на коленях… Как можешь ты меня любить, как можешь еще улыбаться такой скотине, как я? Сломай свой веер о мою физиономию, Консуэло! Наступи мне на голову своей хорошенькой ножкой! Ты неизмеримо выше меня, и с сегодняшнего дня я навеки твой раб!
– Я не заслуживаю всех этих громких слов, – прошептала она, отдаваясь его ласкам. – А растерянность твою я понимаю и прощаю. Я вижу, что только страх разлуки со мной, страх, что нашей единой, общей жизни будет положен конец, внушил тебе эту печаль и сомнения. У тебя не хватило веры в бога, – и это гораздо хуже, чем если бы ты обвинил меня в какой-нибудь низости. Но я буду молиться за тебя, я скажу: «Господи, прости ему, как я ему прощаю!»
Консуэло была очень хороша в эту минуту, – она говорила о своей любви так просто и так естественно, примешивая к ней, по своему обыкновению, испанскую набожность, полную человеческой нежности и наивной стыдливости. Усталость и волнения пережитого дня разлили в ней такую соблазнительную негу, что Андзолето, и без того уже возбужденный ее необычайным успехом, увидел девушку в совершенно новом свете и вместо обычной спокойной и братской любви почувствовал к ней прилив жгучей страсти. Он был из тех, кто восхищается только тем, что нравится другим, чему завидуют и что оспаривают другие. Радость сознания, что он обладает предметом стольких вожделений, разгоревшихся и бушевавших вокруг Консуэло, пробудила в нем безумные желания, и впервые она была в опасности, находясь в его объятиях.
– Будь моей возлюбленной! Будь моей женой! – задыхаясь, восклицал он.
– Будь моей, моей навсегда!
– Когда хочешь, хоть завтра, – с ангельской улыбкой ответила Консуэло.
– Завтра? Почему завтра?
– Ты прав, теперь уже за полночь, – значит, мы можем обвенчаться еще сегодня. Как только рассветет, мы отправимся к священнику. Родителей у нас нет, ни у меня, ни у тебя, а венчальный обряд не потребует долгих приготовлений. У меня есть ситцевое ненадеванное платье. Знаешь, друг мой, когда я его шила, я говорила себе: «У меня нет денег на подвенечное платье, и если моему милому не сегодня-завтра захочется со мной обвенчаться, мне придется быть в надеванном платье, а это, говорят, приносит несчастье». Недаром матушка, которую я видела во сне, взяла его и спрятала в шкаф: она, бедная, знала, что делает. Итак, все готово: с восходом солнца мы с тобой поклянемся друг другу в верности. А тебе, негодный, нужно было сперва убедиться в том, что я не урод?
– Ах, Консуэло, какой ты еще ребенок! Настоящий ребенок! – с тоской воскликнул Андзолето. – Разве можно так вдруг обвенчаться, тайно от всех! Граф и Порпора, покровительство которых нам так еще необходимо, очень рассердились бы на нас, решись мы на такой шаг, не посоветовавшись с ними и даже не известив их. Твой старый учитель не особенно-то долюбливает меня, а граф, я это знаю из верных источников, не любит замужних певиц. Следовательно, нам нужно время, чтобы добиться их согласия на наш брак. А если мы даже и решимся обвенчаться тайно, то нам понадобится по крайней мере несколько дней, чтобы втихомолку устроить все это. Не можем же мы побежать в церковь Сан-Самуэле, где все нас знают и где достаточно будет присутствия одной старушонки, чтобы весть об этом в какой-нибудь час разнеслась по всему приходу.
– Я как-то не подумала об этом, – сказала Консуэло. – Так о чем же ты мне только что говорил? Зачем ты, недобрый, сказал мне: «Будь моей женой», если знал, что пока это невозможно? Ведь не я первая заговорила об этом, Андзолето. Правда, я часто думала, что мы уже в том возрасте, когда можно жениться, но, хотя мне никогда не приходили в голову те препятствия, о которых ты говоришь, я предоставляла решение этого вопроса тебе, твоему благоразумию, и еще – знаешь чему? – твоей доброй воле. Я ведь прекрасно видела, что ты со свадьбой не торопишься, но не сердилась на тебя за это. Ты часто мне повторял, что, прежде чем жениться, надо обеспечить будущность своей семье, надо иметь средства. Моя мать была того же мнения, и я нахожу это благоразумным. Итак, приняв все это во внимание, надо еще подождать со свадьбой. Надо, чтобы оба наши ангажемента были подписаны, не так ли? Надо также заручиться еще успехом у публики. Значит, о свадьбе мы поговорим снова после наших дебютов. Но отчего ты так побледнел, Андзолето? Боже мой, отчего ты так сжимаешь кулаки? Разве мы не счастливы? Разве мы непременно должны быть связаны клятвой, чтобы любить и надеяться друг на друга?
– О Консуэло! Как ты спокойна! Как ты чиста и как холодна! – с каким-то бешенством вскричал Андзолето.
– Я? Я холодна? – в свою очередь вскричала, недоумевая, юная испанка, вся красная от негодования.
– Я люблю тебя как женщину, а ты слушаешь и отвечаешь мне, точно малое дитя. Ты знаешь только дружбу, ты не имеешь даже понятия о любви. Я страдаю, пылаю, я умираю у твоих ног, а ты мне говоришь о каком-то священнике, о каком-то платье, о театре…
Консуэло, стремительно вскочившая было с места, теперь опять села, смущенная, дрожа всем телом. Она долго молчала, а когда Андзолето снова захотел обнять ее, тихонько оттолкнула его.
– Послушай, – сказала она, – нам необходимо объясниться, узнать друг друга. Ты, видно, и в самом деле считаешь меня ребенком. Было бы жеманством с моей стороны уверять тебя, будто я не понимаю того, что прекрасно теперь поняла. Недаром я со всякого рода людьми исколесила три четверти Европы, недаром насмотрелась на распущенные, дикие нравы бродячих артистов, недаром – увы! – догадывалась о плохо скрываемых тайнах моей матери, чтобы не знать того, что, впрочем, всякая девушка из народа моих лет прекрасно знает. Но я не могла допустить, Андзолето, чтобы ты хотел принудить меня нарушить клятву, данную мною богу в присутствии моей умирающей матери. Я не особенно дорожу тем, что аристократки, – до меня подчас долетают их разговоры, – называют репутацией. Я слишком незаметное в мире существо, чтобы обращать внимание на то, что думают о моей чести, – для меня честь состоит в том, чтобы выполнять свои обещания, и, по-моему, к тому же самому обязывает тебя и твоя честь. Быть может, я не настолько хорошая католичка, как мне хотелось бы, – меня ведь так мало учили религии. Конечно, у меня не может быть таких прекрасных правил поведения, таких высоких понятий о нравственности, как у учениц школы, растущих в монастыре и слушающих богословские поучения с утра до ночи. Но у меня есть свои взгляды, и я придерживаюсь их, как умею. Я не думаю, чтобы наша любовь, становясь с годами все более пылкой, должна была стать от этого менее чистой. Я не скуплюсь на поцелуи, которые дарю тебе, но я знаю, что мы не ослушались моей матери, и не хочу ослушаться ее только для того, чтобы удовлетворить нетерпеливые порывы, которые легко можно обуздать.
– Легко! – воскликнул Андзолето, горячо прижимая ее к груди. – Легко!
Я так и знал, что ты холодна!
– Пусть я буду холодна! – вырываясь из его объятий, воскликнула Консуэло. – Но господь, читающий в моем сердце, знает, как я тебя люблю.
– Так иди же к нему! – крикнул Андзолето с досадой. – Со мной тебе небезопасно. И я убегаю, чтобы не стать нечестивцем.
Он бросился к двери, рассчитывая на то, что Консуэло, которая никогда не отпускала его без примирения, если между ними возникала даже самая пустячная ссора, удержит его и на этот раз. Она действительно стремительно кинулась было за ним, но потом остановилась; видя, что он вышел, она подбежала к двери, схватилась уже за ручку, чтобы отворить ее и позвать его обратно, но вдруг, сделав над собой невероятное усилие, заперла дверь и, обессиленная жестокой внутренней борьбой, без чувств свалилась на пол. Так, недвижимо, и пролежала она до утра.
Глава 14
– Признаюсь тебе, я влюблен в нее безумно, – говорил в эту самую ночь граф Дзустиньяни своему другу Барбериго, сидя с ним на балконе своего дворца.
Было тихо, темно, только что пробило два часа.
– Этим ты даешь понять, что я не должен в нее влюбляться, – отозвался юный и блестящий Барбериго. – Я подчиняюсь, так как за тобой право первенства. Но если Корилле удастся снова захватить тебя в свои сети, ты уж, пожалуйста, предупреди меня, тогда и я попытаю счастья…
– И не мечтай об этом, если ты меня любишь! Корилла всегда была для меня только забавой. Однако я вижу по твоему лицу, что ты смеешься надо мной.
– Нет, но нахожу, что забава эта носит весьма серьезный характер, раз она заставляет тебя бросать столько денег и творить столько безумств. – Предположим, что я вообще отношусь к своим забавам с таким жаром, что готов на все, лишь бы их продлить. Но на этот раз мне кажется, что это больше, чем увлечение, – это настоящая страсть. Я никогда в жизни не встречал существа более своеобразно красивого, чем Консуэло. Ее можно сравнить со светильником, который по временам начинает угасать, но в ту минуту, когда он, кажется, совсем уже готов потухнуть, вдруг вспыхивает таким ярким пламенем, что сами светила, выражаясь языком поэтов, бледнеют перед ним.
– Ах! – проговорил, вздыхая, Барбериго. – Это черное платье, беленькая косыночка, этот полунищенский, полумонашеский наряд, это бледное спокойное лицо, такое незаметное на первый взгляд, эта естественная манера держаться, без всякого кокетства, – как эта девушка меняется, как одухотворяется, когда, вдохновленная своим гением, начинает петь! Какой ты счастливец, Дзустиньяни, что в твоих руках судьба этой нарождающейся славы!
– Как мало верю я в то счастье, которому ты завидуешь! Наоборот, я боюсь, что в ней нет ни одной из тех хорошо знакомых мне женских страстей, на которых так легко играть. Поверишь ли, друг, эта девочка так и осталась для меня загадкой, несмотря на то, что я целый день следил за ней и изучал ее. Мне кажется, судя по ее спокойствию и моей неловкости, что я совсем потерял голову.
– Да, по-видимому, ты влюблен в нее более, чем следует, раз ты положительно ослеп. Меня же надежда еще не ослепила, и сейчас я в трех словах объясню тебе то, что тебе непонятно. Консуэло – цветок невинности; она любит своего мальчугана Андзолето и будет любить его еще в течение нескольких дней; если ты грубо коснешься этой привязанности детства, ты только усилишь ее, но если ты сделаешь вид, будто не обращаешь на нее внимания, Консуэло, сравнивая вас обоих, понятно, скоро охладеет к своему избраннику.
– Но он красив, как Аполлон, этот негодный мальчишка! У него великолепный голос; он будет иметь успех. Уже и Корилла сходит по нем с ума. С таким соперником нельзя не считаться, когда перед тобой девушка, у которой есть глаза!..
– Да, но он беден, а ты богат, он неизвестен, а ты всемогущ, – возразил Барбериго. – Главное – узнать, кто он ей: любовник или друг. В первом случае разочарование наступит скорее для Консуэло; во втором же между ними будет борьба, колебания, и все это продлит твои мучения.
– Значит, по-твоему, мне нужно было бы желать того, чего я страшусь, одна мысль о чем приводит меня в бешенство. А что ты на этот счет думаешь?
– По-моему, они не любовники.
– Но это невероятно: мальчишка развращен, смел, пылок, наконец нравы подобных людей…
– Консуэло – чудо во всех отношениях. А ты, дорогой Дзустиньяни, несмотря на все свои победы у прекрасного пола, все еще, я вижу, недостаточно опытен, если не понял из разговоров с этой девушкой, из ее взглядов, даже из ее движений, что она чиста, как горный хрусталь.
– Ты приводишь меня в восторг!
– Берегись! Это безумие, предрассудок! Если ты любишь Консуэло, надо завтра же выдать ее замуж. Через неделю ее повелитель даст ей почувствовать всю тяжесть надетых на нее цепей, все муки ревности, всю скуку постоянно иметь за своей спиной неприятного, несправедливого и неверного стража. А красавец Андзолето, несомненно, таким и будет. Я вчера достаточно наблюдал его в обществе Консуэло и Клоринды, чтобы безошибочно предсказать все его промахи и беды. Последуй моему совету, друг, и ты будешь мне благодарен. Знаешь, брачные узы легко расторжимы между людьми этого класса, ведь любовь этих женщин – пламенный каприз, а препятствия только раздувают огонь.
– Ты приводишь меня в отчаяние, а между тем я сознаю, что ты прав. На беду для планов графа Дзустиньяни, разговор этот имел слушателя, на которого они вовсе не рассчитывали и который не пропустил из него ни единого слова. Покинув Консуэло, Андзолето, вновь охваченный ревностью, отправился бродить вокруг дворца своего покровителя. Он жаждал убедиться, что граф не замышляет похищения, которые были в большой моде в то время и почти всегда проходили безнаказанно для аристократов. Андзолето не слышал продолжения разговора двух друзей: луна поднялась над дворцом, тень юноши начинала все яснее и яснее обрисовываться на мостовой, и молодые вельможи, заметив, что кто-то стоит под балконом, ушли в комнаты, закрыв за собой дверь.
Андзолето скрылся и отправился обдумывать то, что ему удалось услышать. Этого было вполне достаточно, чтобы он понял, как себя вести, как использовать добродетельные советы, которые дал Барбериго своему другу. Только под утро он заснул на каких-нибудь два часа, затем вскочил и побежал на Корте-Минелли. Дверь у Консуэло была еще заперта, но сквозь щель ему удалось разглядеть свою подругу, спящую одетой на кровати, – она была неподвижна и бледна, как труп: предрассветный холод привел ее в чувство, и она бросилась на постель, не имея сил раздеться. Встревоженный Андзолето молча стоял у двери, мучимый угрызениями совести. Наконец, видя, что девушка продолжает пребывать в каком-то летаргическом состоянии, столь непохожем на ее обычный чуткий сон, он, страшно перепуганный, вынул нож и, просунув его в щель двери, отодвинул засов. При этом не обошлось без некоторого шума, но Консуэло была до того измучена, утомлена, что не проснулась. Андзолето вошел, запер за собой дверь, опустился на колени у ложа девушки и стал ждать ее пробуждения. Когда Консуэло, открыв глаза, увидела своего друга, она вскрикнула было от радости, но вслед за тем отдернула руки, которыми только что обняла его за шею, и с ужасом отшатнулась от него.
– Ты, я вижу, боишься меня теперь и, вместо того чтобы обнять, хочешь бежать от меня, – с отчаянием в голосе проговорил Андзолето. – Как жестоко я наказан! Прости меня, Консуэло! Я больше часа сторожил здесь твой сон. Разве после этого ты можешь не доверять мне? Прости, сестра, в первый и последний раз был у тебя повод рассердиться на меня, оттолкнуть меня, своего брата. Никогда больше я не оскорблю нашей святой любви преступными порывами. И если я не сдержу своей клятвы, брось меня, прогони! Вот здесь, у твоей девической постели, где умерла твоя бедная мать, я клянусь относиться к тебе с таким же уважением, с каким относился до сих пор, клянусь даже не целовать тебя, если ты этого не захочешь, пока мы не будем обвенчаны. Скажи, довольна ли ты мной, моя дорогая, моя святая Консуэло?
Консуэло молча прижала белокурую голову венецианца к своей груди и залилась слезами. Слезы облегчили ее, и, опустив голову на свою маленькую жесткую подушку, она тихо проговорила:
– Признаюсь, я чуть жива; всю ночь я не сомкнула глаз – мы так дурно с тобой расстались.
– Спи, Консуэло! Усни, мой ангел! – ответил ласково Андзолето. – Помнишь ту ночь, когда ты уложила меня на свою постель, а сама тем временем молилась и работала у этого столика? Теперь мой черед сторожить и охранять твой сон. Поспи еще, детка моя, а пока ты будешь дремать часик-другой, я просмотрю твои ноты, про себя почитаю их. Никто не хватится нас раньше вечера, если вообще кто-нибудь еще думает о нас сегодня. Спи же, этим ты покажешь, что простила и веришь мне.
Консуэло ответила ему блаженной улыбкой. Он поцеловал ее в лоб, уселся за столик, а она заснула благодетельным сном, полным самых сладких грез.
Андзолето так долго прожил спокойно и невинно вблизи этой девушки, что ему не стоило большого труда после одного дня возбуждения вернуться к своей обычной роли брата. Эта братская любовь была, так сказать, нормальным состоянием его души. К тому же то, что он слышал прошлой ночью под балконом Дзустиньяни, могло только укрепить его решение.
«Спасибо вам, любезные господа, – думал Андзолето, – вы преподали мне урок вашей собственной морали, и «негодный мальчишка», поверьте, сумеет воспользоваться им не хуже любого развратника-повесы вашего сословия. Если обладание охлаждает, если права мужа ведут к пресыщенности и отвращению, мы сумеем сохранить в неприкосновенности то пламя, которое, по вашим словам, так легко потушить. Мы сумеем воздержаться и от ревности, и от измены, и даже от наслаждений любви. Ваши пророчества, именитый и глубокоуважаемый Барбериго, идут впрок, полезно поучиться в вашей школе!»
Среди этих размышлений Андзолето, тоже совершенно измученный бессонной ночью, задремал, облокотясь на стол. Но сон его был некрепок, – как только солнце стало близиться к закату, он вскочил на ноги и подошел посмотреть, не проснулась ли Консуэло. Лучи заходящего солнца, проникая через окно, заливали чудесным пурпурным светом и старую кровать и спящую на ней красивую девушку. Из своей белой кисейной косынки Консуэло сделала нечто вроде занавески, привязав ее к филигранному распятию, прибитому у изголовья. Это легкое покрывало грациозно падало на ее гибкое, замечательно пропорциональное тело. В этой розовой полумгле она лежала точно цветок, склонивший под вечер свою головку. Ее великолепные черные волосы разметались по матово-белым плечам, руки были скрещены на груди, как у святой, – девушка казалась такой непорочной и была так божественно хороша, что Андзолето злобно подумал:
«О граф Дзустиньяни, как жаль, что ты не видишь ее в это мгновение и подле нее меня, ревнивого, неусыпного стража сокровища, которого тебе никогда не иметь!»
В эту самую минуту снаружи послышался легкий шум; тонкий слух Андзолето уловил плеск воды о домишко, в котором жила Консуэло. К Корте-Минелли редко приставали гондолы, к тому же в этот день Андзолето был особенно догадлив. Он вспрыгнул на стул и добрался до слухового окошечка, проделанного почти у потолка и выходившего на маленький канал. Тут он ясно увидел графа Дзустиньяни: выйдя из гондолы, тот подошел к полуголым ребятишкам, игравшим на берегу, и стал их о чем-то расспрашивать. В первую минуту Андзолето не знал, на что решиться: разбудить ли свою подругу, или запереть дверь. Но за те десять минут, которые граф употребил на расспросы и розыски комнатушки Консуэло, юноша успел вооружиться дьявольским хладнокровием. Он приоткрыл дверь, для того чтобы в комнату можно было беспрепятственно и без шума войти, а сам вернулся к столику и сделал вид, что пишет ноты. Сердце его колотилось в груди, но лицо было совершенно спокойно, ничуть не выдавая внутреннего волнения. Действительно, граф вошел на цыпочках, желая застигнуть Консуэло врасплох. Нищенская обстановка обрадовала его: ему казалось, что это должно наилучшим образом благоприятствовать его плану соблазна. Он привез с собою уже подписанный им контракт и надеялся, что с таким документом будет принят не слишком сурово. Но при первом же взгляде на это странное святилище, где прелестная девушка спала ангельским сном на глазах своего почтительного или удовлетворенного возлюбленного, бедный Дзустиньяни совсем смутился, запутался в своем плаще, победоносно перекинутом через плечо, и стал топтаться на месте между столом и кроватью, не зная, к кому обратиться. Андзолето был отомщен за вчерашнюю унизительную сцену у гондолы.
– Ваше сиятельство, покровитель мой! – воскликнул он, вставая и делая вид, что страшно удивлен неожиданным появлением графа. – Я сейчас же разбужу мою… невесту.
– Нет! – ответил граф, который уже успел прийти в себя от смущения и повернулся к Андзолето спиной, чтобы вдоволь наглядеться на Консуэло. – Я счастлив, что вижу ее такою, и запрещаю тебе будить ее.
«Да, да! Любуйся ею! – думал Андзолето. – Мне только это и нужно».
Консуэло не просыпалась, и граф, понизив голос, с самым милым, веселым лицом стал выражать свой восторг. – Ты был прав, Дзото, – начал он непринужденно, – Консуэло – лучшая певица во всей Италии, и я ошибался, сомневаясь, что она к тому же и красивейшая женщина в мире.
– Но ведь вы, ваше сиятельство, считали ее уродливой, – заметил лукаво Андзолето.
– И ты, конечно, передал ей все мои грубые выражения? Но ничего, я надеюсь искупить их таким крупным штрафом, что тебе не удастся более вредить мне, напоминая ей о моей вине.
– Вредить вам, ваше сиятельство? Как бы я мог это сделать, если бы даже это и пришло мне в голову?
Тут Консуэло слегка пошевелилась.
– Дадим ей спокойно проснуться, чтобы не напугать ее, а ты освободи мне стол. Мне надо разложить на нем и перечитать контракт Консуэло. Знаешь, пока она спит, ты можешь сам пробежать этот контракт, – проговорил граф, когда Андзолето, исполнив его приказание, очистил стол.
– Контракт до пробного дебюта? Да это просто великолепно, о мой благородный покровитель. И дебют немедленно, до окончания срока ангажемента Кориллы?
– Это меня не смущает. Неустойка в тысячу цехинов. Мы заплатим ей, только и всего!
– Но если Корилла пустит в ход интриги?
– Мы за эти интриги упрячем ее в тюрьму.
– Бог мой! Для вашего сиятельства нет преград!
– Да, Дзото, – ответил сухо граф, – таковы уж мы есть: то, чего хотим, мы хотим наперекор всему и всем.
– Как! Условия ангажемента те же, что и у Кориллы? Для дебютантки без имени, без известности те же условия, что для знаменитой певицы, кумира публики?
– Новую певицу будут обожать еще больше. Если же условия прежней певицы ее не удовлетворят, то стоит ей сказать одно слово, и она получит вдвое больше. Все зависит от нее, – прибавил граф, повысив немного голос, так как заметил, что Консуэло просыпается. – Ее судьба в ее руках. Консуэло, услышав сквозь сон эти слова, протерла глаза и, убедившись, что все это происходит наяву, соскользнула с кровати; не задумываясь над необычностью такого посещения, она привела в порядок волосы, накинула мантилью и с наивной доверчивостью вмешалась в разговор:
– Вы слишком добры, ваше сиятельство, но я не настолько самонадеянна, чтобы воспользоваться вашей добротой. До дебюта я не подпишу ангажемента. Это было бы недобросовестно с моей стороны. Я могу не понравиться публике, провалиться, быть освистанной. В этот день я могу оказаться не в голосе, растеряться, наконец просто быть некрасивой… Связанный словом, вы не возьмете его обратно из гордости, я же слишком горда, чтобы злоупотребить им…
– Некрасивой в такой-то день, Консуэло! – воскликнул граф, пожирая ее глазами. – Вы – некрасивой? Взгляните на себя, как вы есть, сейчас! – продолжал он, взяв ее за руку и подводя к столу, на котором стояло зеркальце. – Если вы восхитительны в таком костюме, что же будет, когда вы появитесь осыпанная драгоценными камнями, сияющая, торжествующая?! Андзолето, видя дерзость графа, чуть не скрежетал от ярости зубами.
Но насмешливое равнодушие, с которым Консуэло отнеслась к пошлым ухаживаниям вельможи, тотчас успокоило его.
– Ваше сиятельство, – сказала она, отталкивая от себя осколок зеркала, который граф поднес к ее лицу, – смотрите, не разбейте остаток моего зеркала: у меня никогда не было другого, и я им дорожу, так как оно никогда не обманывало меня. Кто бы я ни была – урод или красавица, – но я отказываюсь от ваших щедрот. К тому же я должна сказать вам откровенно, что ни дебютировать, ни заключать контракт я не стану, если мой жених, который стоит сейчас перед вами, не получит также ангажемента. У нас с ним должен быть один театр и одна публика. И разлучиться мы не можем, так как собираемся обвенчаться.
Это неожиданное признание немного ошеломило графа, но он тотчас оправился от своего смущения.
– Вы правы, Консуэло, и я вовсе не хочу вас разлучать. Дзото будет дебютировать вместе с вами. Только мы не должны закрывать глаза на то, что, хоть у него и крупный талант, но все-таки ему далеко до вас.
– Я думаю иначе, – горячо возразила Консуэло, покраснев при этом, словно обида была нанесена ей самой.
– Знаю, знаю, что он в большей мере ваш ученик, чем ученик того профессора, которого я ему дал, – улыбаясь, заметил Дзустиньяни. – Не отнекивайтесь, моя красавица! Помнится, Порпора, узнав о вашей дружбе с ним, воскликнул: «Теперь мне понятны некоторые его достоинства, а то я никак не мог их совместить со столькими недостатками».
– Я очень благодарен господину профессору! – принужденно улыбаясь, сказал Андзолето.
– Ничего, он изменит свое мнение, – весело проговорила Консуэло. Публика заставит моего дорогого, славного учителя разубедиться.
– Ваш дорогой, славный учитель – лучший судья, лучший знаток пения во всем мире, – возразил граф. – Пусть же Андзолето продолжает пользоваться вашими указаниями. Это только послужит ему на пользу. Но, повторяю, мы не можем заключить с ним договора, пока не узнаем, как к нему отнесется публика. Пусть он дебютирует, а там, при нашей благосклонности, мы сумеем по справедливости удовлетворить его требования.
– Тогда мы будем дебютировать вместе. Мы – ваши покорные слуги, господин граф. Но никакого контракта, никаких подписей до дебюта! На этом я стою твердо…
– Вы, Консуэло, быть может, не вполне довольны теми условиями, которые я вам предлагаю? Так продиктуйте свои. Вот вам перо – сами вычеркивайте, сами добавляйте; моя подпись внизу.
Консуэло взялась за перо. Андзолето побледнел, а граф, заметив это, от удовольствия закусил кончик своего кружевного жабо, которое все время теребил. Решительно перечеркнув контракт, Консуэло написала там, где еще оставалось место над подписью графа: «Андзолето и Консуэло обязуются вместе принять условия, которые будет угодно графу Дзустиньяни им предложить после их дебюта, каковой должен состояться в будущем месяце в театре Сан-Самуэле». Она быстро подписала свое имя, а затем передала перо возлюбленному.
– Подписывай не читая, – сказала она, – этим ты хоть в какой-то мере докажешь твоему благодетелю свою признательность и доверие.
Андзолето все-таки, прежде чем подписать, быстро пробежал глазами написанное. Граф тоже прочел, глядя через его плечо.
– Консуэло! – воскликнул Дзустиньяни. – Право, вы странная девушка! Удивительное существо! Ну, а теперь идемте оба ко мне обедать, – добавил он, разорвав контракт и предлагая руку Консуэло.
Девушка приняла приглашение, но попросила графа вместе с Андзолето подождать ее в гондоле, пока она приведет себя в порядок.
«Как видно, у меня будет на что сделать себе подвенечное платье», подумала Консуэло, оставшись одна.
Она надела ситцевое платье, пригладила волосы и, выпрыгнув на лестницу, понеслась вниз, распевая во весь голос какую-то звонкую музыкальную фразу. Граф, желая проявить особенную учтивость, остался с Андзолето ждать ее на лестнице. Не подозревая, что Дзустиньяни может быть так близко, она чуть не упала в его объятия, но, быстро высвободившись, поймала его руку и, по местному обычаю, поднесла к губам с почтительностью подчиненной, не стремящейся перешагнуть через различие в общественном положении. Потом, обернувшись, бросилась на шею жениху и, радостная и шаловливая, прыгнула в гондолу, не дожидаясь своего церемонного покровителя, немного раздосадованного всем происшедшим.
Глава 15
Граф, видя, что Консуэло равнодушна к деньгам, решил возбудить ее тщеславие и предложил ей бриллианты и туалеты, но и от них она отказалась. Сначала Дзустиньяни вообразил, что она угадала его тайные намерения, но вскоре ему стало ясно, что в ней говорит исключительно гордость простолюдинки: она не хотела наград, еще не заслуженных на сцене его театра. Однако он заставил ее принять платье из белого атласа, под тем предлогом, что неприлично выступать в его салоне в ситцевом платье, и потребовал, чтобы она из уважения к нему рассталась со своей неприхотливой одеждой. Она подчинилась и отдала свою прекрасную фигуру в руки модных портних, которые, конечно, не преминули попользоваться на этом и не поскупились на материю. Превратившись через два дня в нарядную даму, вынужденная принять еще жемчужное ожерелье, которое граф поднес ей как плату за тот вечер, когда она так восхитила своим пением его и его друзей, Консуэло все-таки была красива, хотя это и не шло к характеру ее красоты, а нужно было лишь для того, чтобы пленять пошлые взоры. Однако ей так и не удалось этого достигнуть. С первого взгляда Консуэло никого не поражала и не ослепляла: она была бледна, да и в глазах ее – девушки скромной и всецело погруженной в свои занятия – не было того блеска, который постоянно горит во взгляде женщин, жаждущих одного – блистать. В лице ее, серьезном и задумчивом, сказывалась вся ее натура. Наблюдая ее за столом, когда она болтала о пустяках, вежливо скучая среди пошлости светской жизни, никто даже и не подумал бы, что она красива. Но как только лицо это озарялось веселой, детской улыбкой, указывавшей на душевную чистоту, все тотчас находили ее милой. Когда же она воодушевлялась, бывала чем-нибудь живо заинтересована, растрогана, увлечена, когда проявлялись ее богатые внутренние силы, она мгновенно преображалась: огонь гениальности и любви загорался в ней, и тогда она приводила в восторг, увлекала, покоряла, даже не отдавая себе отчета в тайне своей мощи.
Графа удивляло и странно мучило его чувство к Консуэло; у этого светского человека была артистическая душа, и Консуэло впервые заставила задрожать и запеть ее струны. Но и теперь аристократ не понимал, сколь ничтожны и бессильны были его способы завоевать эту женщину, так мало похожую на тех, кого ему удалось развратить.
Он вооружился терпением и решил прибегнуть к помощи чувства соперничества: он пригласил Консуэло в театр, в свою ложу, надеясь, что успех Кориллы пробудит в ней честолюбие. Но результат получился совсем не тот, какого он ожидал. Консуэло вышла из театра равнодушная, молчаливая, усталая от грома рукоплескании, но совсем не захваченная ими. В Корилле она не нашла настоящего таланта, благородной страсти, мощи. Она считала себя достаточно сведущей, чтобы судить об этом искусственном, сделанном таланте, загубленном в самом начале беспорядочной жизнью и эгоизмом. Равнодушно поаплодировала она примадонне, проронила несколько сдержанных слов одобрения, но не захотела разыгрывать пустой комедии – восторгаться соперницей, не возбудившей в ней ни страха, ни восторга. На минуту графу показалось, что Консуэло в душе завидует если не таланту, то успеху Кориллы.
– Успех этот ничто в сравнении с тем, который ожидает вас, – сказал он ей, – он дает лишь слабое представление о победах, ожидающих вас, если вы покажете себя публике такою, какой показали себя нам. Надеюсь, вы не испуганы тем, что здесь видели?
– Нисколько, граф, – улыбаясь, ответила Консуэло. – Эта публика не страшит меня, я даже и не думаю о ней. Я думаю о том, что можно было бы еще сделать с той ролью, которую так блестяще исполняет Корилла. Мне кажется, что в этой роли есть не использованные ею эффекты.
– Как? Вы не думаете о публике?
– Нет, я думаю о партитуре, о намерениях композитора, о характере роли, об оркестре, достоинства которого надо использовать, а недостатки скрыть, постаравшись превзойти себя в некоторых местах. Я слушаю хор, который не всегда на высоте: он, по-моему, требует более строгого управления; обдумываю, в каких местах надо будет пустить в ход все свои возможности, предусмотрительно приберегая для этого силы в местах менее трудных. Как видите, граф, есть много такого, о чем стоит подумать, помимо публики, которая ничего в этом не понимает и не может понимать.
Эти здравые взгляды и строгая оценка до того поразили графа, что он не решился расспрашивать далее и со страхом спросил себя, какими средствами может такой поклонник, как он, подчинить себе этот могучий ум.
К дебюту обоих молодых людей готовились по всем правилам, практикующимся в подобных случаях. Между графом и Порпорой, между Консуэло и ее возлюбленным шли бесконечные пререкания и споры. Старый учитель и его даровитая ученица восставали против пышных объявлений, против того бесчисленного множества мелких и пошлых приемов, которым в наше время дали развиться до наглости и обмана. В то время в Венеции газеты не играли большой роли в этих делах. Тогда не умели еще так искусно подбирать состав публики, не прибегали к помощи рекламы, к выдуманным биографиям. Не была известна еще и могучая машина, называющаяся клакерами. Тогда были в ходу серьезные происки и страстные интриги, но все решала сама публика: одними она наивно увлекалась, к другим так же стихийно была враждебна. И не всегда при этом главную роль играло искусство: тогда – как и теперь – в храме Мельпомены боролись страсти и страстишки. Но тогда не умели скрывать так искусно причины разногласий и относить их за счет неподкупной любви к искусству. А за всем этим в конечном счете скрывались все те же мелкие человеческие чувства – только цивилизация еще не прикрывала их затейливой внешней оболочкой.
В такого рода делах Дзустиньяни вел себя скорее как меценат-вельможа, чем как директор театра. Тщеславие было для него более сильным двигателем, чем жадность у обычных любителей наживы. В своих салонах он подготовлял публику, подогревая успех своих представлений. В его методах не было поэтому ничего подлого или низкого – он вносил в них чисто ребяческое самолюбие, стремление восторжествовать в своих любовных похождениях, умение ловко использовать советы приятелей. И вот теперь он начал понемногу, довольно-таки искусно, разрушать здание, некогда воздвигнутое его же собственными руками, – здание славы Кориллы. Все видели, что он хочет создать славу новой звезде, и ему приписывалось уже полное обладание тем предполагаемым чудом, которое он собирался показать: бедная Консуэло еще и не подозревала ничего насчет чувств графа к ней, а вся Венеция уже говорила, будто ему опротивела Корилла и он собирается заместить ее, устроив дебют своей новой любовнице. Многие добавляли: «Какое издевательство над публикой и какой вред для театра! Его фаворитка – какая-то уличная певичка, ничего не знающая, обладающая лишь красивым голосом и сносной наружностью».
Начались интриги сторонников Кориллы. Разыгрывая роль соперницы, принесенной в жертву, она подбивала многочисленных своих поклонников и их друзей расправиться с Zingarella (цыганочкой) за ее наглые происки. Начались интриги и в защиту Консуэло. Тут хлопотали женщины, у которых Корилла отбила или совратила мужей и возлюбленных; были здесь и мужья, предпочитавшие, чтобы известная кучка венецианских донжуанов увивалась лучше вокруг новой дебютантки, чем вокруг их собственных жен; наконец, в числе интригующих были обманутые и отвергнутые любовники Кориллы, жаждавшие, чтобы успех ее соперницы отомстил за них.
Истинные dilettanti di musica также разбились на два лагеря. В одном были сторонники таких столпов музыки, как Порпора, Марчелло, Йомелли и другие, предсказывающие, что с появлением на сцене превосходной исполнительницы музыки туда вернутся и серьезные оперы и добрые старые традиции. В другом были второстепенные композиторы, более легковесные произведения которых всегда предпочитала Корилла: ее уход грозил их интересам. Вообще весь театр Сан-Самуэле пришел в волнение: музыканты оркестра, боявшиеся, что их засадят за давно забытые партитуры и придется взяться серьезно за работу, весь персонал, предвидевший реформы, всегда связанные с переменами в труппе, даже машинисты сцены, костюмерши, парикмахеры – все всполошились, все были за или против дебюта. По правде говоря, в республике этим дебютом интересовались гораздо больше, чем действиями нового правительства, возглавляемого дожем Пьетро Гримальди, который недавно мирно заступил место своего предшественника, дожа Луиджи Пизани.
Консуэло была в подавленном состоянии духа, ее огорчали и промедление и все эти треволнения, связанные с ее начинающейся карьерой. Она желала дебютировать сейчас же, без всяких приготовлений, как только разучит новую оперу. Она совершенно не разбиралась в этой массе интриг, считала их скорее опасными, чем полезными, и была убеждена, что может отлично обойтись без них. Но граф знал глубже тайны театрального дела и, желая, чтобы его воображаемая близость с Консуэло вызывала зависть, а не насмешки, делал все возможное, чтобы завербовать ей как можно больше сторонников. Ежедневно он вызывал ее к себе и представлял всей городской и провинциальной аристократии. Скромность и душевная подавленность Консуэло плохо способствовали его планам; но стоило ей запеть, и она одерживала блестящую, решительную, бесспорную победу.
Андзолето отнюдь не разделял отвращения своей подруги к разным побочным средствам. Его успех далеко не был так обеспечен. Прежде всего граф относился к нему не с таким интересом; затем тот тенор, которого ему предстояло заменить, был первоклассный певец, и заставить забыть его было не так-то легко. Правда, Андзолето тоже каждый вечер выступал у графа, и Консуэло удивительно искусно умела выдвигать его в дуэтах; увлеченный и поддерживаемый ее могучим талантом, далеко превосходившим его собственный, Андзолето часто достигал большого совершенства. Ему много аплодировали, поощряли его, но прекрасный голос юноши, возбуждавший восторг, как только он начинал петь, терял при сравнении с голосом Консуэло, и не только слушатели находили в нем недостатки, но и он сам с ужасом сознавал их. Тут бы ему с новым жаром приналечь на работу, однако Консуэло никак не могла убедить его заниматься с ней по утрам на Корте-Минелли, где она продолжала жить, несмотря на все уговоры графа, предлагавшего устроить ее более прилично. Андзолето был до того поглощен разными визитами, хлопотами, интригами, у него было столько мелких забот и тревог, что он не мог найти ни времени, ни желания для работы.
Среди всех этих треволнений Андзолето пришел к выводу, что наиболее опасным врагом для него является Корилла, и, зная, что граф с ней больше не видится и нисколько ею не интересуется, решил побывать у нее, чтобы склонить ее на свою сторону. Он слышал, что певица весело и с философской иронией относится к измене графа и его мести, что она получила блестящее предложение в Итальянскую оперу в Париже и ждет только провала своей соперницы, в котором, по-видимому, уверена, а пока хохочет и издевается над мечтаниями графа и его приближенных. Андзолето решил обезоружить этого страшного врага, действуя лукаво и с осторожностью; и вот однажды, расфрантившись и надушившись, он отправился к ней после полудня, в тот час, когда в венецианских дворцах царит тишина, все отдыхают и посещения весьма редки.
Глава 16
Он застал Кориллу одну в ее прелестном будуаре, дремлющей на кушетке в на редкость изящном капоте. Но при дневном свете Андзолето не мог не заметить, как изменилось ее лицо: не так уж легко, очевидно, относилась она к истории с Консуэло, как это утверждали ее верные поклонники. Тем не менее она встретила его очень весело.
– А, это ты, плутишка? – воскликнула она, шутливо похлопывая его по щеке и делая знак служанке уйти и закрыть дверь. – Ты опять явился со своими сладкими речами? Не думаешь ли убедить меня, что ты не самый коварный из всех поклонников и не самый пронырливый из всех искателей славы? Вы, мой прекрасный друг, самонадеяннейший из людей, если предполагаете, что ваше внезапное исчезновение после столь нежных признаний хоть каплю огорчило меня. Вы величайший глупец, что заставили себя ждать: через сутки я и думать о вас забыла.
– Сутки! Да это страшно много! – ответил Андзолето, целуя выше локтя сильную, полную руку Кориллы. – Ах, если б я мог поверить этому, как бы я возгордился! Но я прекрасно знаю, что, будь я настолько легковерен и прими за чистую монету то, что вы мне говорили…
– То, что я говорила, советую тебе забыть. Если б ты тогда явился, я не приняла бы тебя. Но как посмел ты прийти сегодня?
– Разве это дурно – не желать пресмыкаться перед людьми, когда они в милости, и прийти к ним с любовью и преданностью, когда они…
– Доканчивай! «Когда они в опале»? Это очень великодушно и трогательно с твоей стороны, мой прославленный друг! – И Корилла, откинувшись на черную атласную подушку, залилась резким, несколько деланным смехом. Хотя при ярком полуденном освещении разжалованная примадонна и казалась не первой свежести, хотя все пережитое за последнее время и оставило след на ее полном, цветущем лице, но Андзолето, которому никогда еще не случалось быть наедине с такой нарядной и блестящей женщиной, почувствовал, что у него что-то зашевелилось в душе, в том уголке, куда Консуэло не пожелала снизойти и откуда он сознательно изгнал ее светлый образ. Мужчины, развратившиеся слишком рано, могут еще испытывать чувство дружбы к честной, безыскусственной женщине, но разжечь в них страсть способна только кокетка. Андзолето на издевательства Кориллы отвечал признаниями в любви. Идя к ней, он собирался разыграть роль влюбленного, а тут вдруг на самом деле почувствовал любовь. Я говорю любовь за неимением более подходящего слова, хотя употреблять это чудесное слово для обозначения того чувства, которое внушают такие холодные, вызывающие женщины, как Корилла, значит профанировать, его. Видя, что молодой тенор не на шутку увлечен, она смягчилась и стала над ним подтрунивать уже более дружелюбно.
– По правде говоря, ты мне нравился в течение целого вечера, – сказала она, – но, в сущности, я тебя не уважаю. Я знаю, что ты тщеславен, а следовательно, фальшив и способен на любую измену. Я не могла бы положиться на тебя. Тогда, ночью, ты разыграл ревнивца и деспота в моей гондоле. После пресных ухаживаний аристократов я могла бы рассеять с тобой скуку, но ты ведь обманывал меня, подлый мальчишка: ты был влюблен в другую и сейчас в нее влюблен и женишься… На ком? О, я прекрасно знаю: на моей сопернице, на дебютантке, на новой любовнице Дзустиньяни. Позор нам обоим, нам троим, нет – даже всем четверым! – в раздражении воскликнула она, вырывая у Андзолето свою руку.
– Жестокая! – вскричал он, силясь снова поймать эту полную руку. – Вы должны были бы сами понять, что произошло со мной, когда я впервые увидел вас, а не думать о том, что меня интересовало до этой решительной минуты… О том же, что произошло потом, вы можете догадаться сами. Да и стоит ли нам об этом думать?
– Я не намерена довольствоваться намеками и недомолвками. Скажи прямо: ты все еще любишь цыганку? Ты женишься на ней?
– Если я ее люблю, почему же я не женился на ней до сих пор?
– Да потому, может быть, что раньше граф был против. Теперь же все знают, что он сам хочет этого. Говорят даже, что у него есть основание желать, чтобы это произошло поскорее, а у девочки и подавно…
Андзолето покраснел, услыхав, как оскорбляют ту, которую в глубине души он почитал больше всех на свете.
– А, ты оскорблен моими предположениями! – воскликнула Корилла. – Прекрасно! Это все, что я хотела знать: ты любишь ее. Когда же свадьба? – Никакой свадьбы не будет.
– Значит, вы делитесь с графом? Недаром ты в такой милости у него.
– Ради бога, синьора, не будем говорить ни о графе, ни о ком бы то ни было, кроме нас с вами.
– Хорошо! Итак, в этот час мой бывший любовник и твоя будущая супруга…
Андзолето был возмущен. Он встал с намерением уйти. Но, уйдя, он разжег бы еще сильнее ненависть женщины, к которой пришел для того, чтобы умиротворить ее. Он стоял в нерешительности, униженный и несчастный в своей жалкой роли.
Корилла жаждала увлечь его – не потому, что любила, а потому, что видела в этом способ отомстить Консуэло, хотя и совсем не была уверена в том, что соперница заслуживает такое оскорбление.
– Вот видишь, – сказала она, пронизывая Андзолето взглядом, словно пригвоздившим его к порогу будуара, – имела основание не верить тебе: сейчас ты обманываешь одну из нас. Кого же – ее или меня?
– Ни ту, ни другую! – крикнул он, стремясь оправдаться в собственных глазах. – Я не любовник ее и никогда им не был. Я даже не влюблен в нее, так как не ревную ее к графу.
– Не лги! Ты ревнуешь так сильно, что не хочешь даже сознаться в этом, а сюда явился, чтобы излечиться или забыться. Благодарю покорно!
– Повторяю, я вовсе не ревную, и, чтобы доказать, что во мне говорит не злоба, я скажу вам, что граф, так же как и я, вовсе не ее любовник, – она чиста, как ребенок; и единственно, кто виноват перед вами, – это граф Дзустиньяни.
– Значит, я могу освистать Консуэло и это нисколько не огорчит тебя?
Хорошо! Ты будешь сидеть в моей ложе и освищешь ее, а по выходе из театра станешь моим единственным любовником! Ну, соглашайся скорее, а то передумаю.
– Значит, синьора, вы хотите помешать моему дебюту? Вы прекрасно знаете, что я должен выступить вместе с Консуэло. Если ее освищут, то и я, поющий с нею, тоже должен буду стать жертвой вашего гнева? Что же сделал я, несчастный, чем заслужил вашу немилость? А у меня была мечта – прекрасная, пагубная: я целый вечер воображал, что вы хоть немного сочувствуете мне и что ваше покровительство поможет мне выдвинуться. Но вы, оказывается, презираете и ненавидите меня. А я-то любил вас так, что принужден был бежать… Что ж, если я внушаю вам такое отвращение, губите меня, ломайте всю мою карьеру. Но если сейчас, с глазу на глаз, вы скажете, что я вам не противен, я готов претерпеть при публике ваш гнев. – Ах ты змея! – воскликнула Корилла. – Где, скажи, всосал ты этот яд лести, которым полны и речи твои и взоры? Дорого бы я дала, чтобы узнать и понять тебя, но меня удерживает страх: кто ты – очаровательнейший любовник или опаснейший враг?
– Я – ваш враг? Да как бы я осмелился быть им, даже если б и не был пленен вами? И разве у вас есть враги, божественная Корилла? Могут ли они быть у вас в Венеции, где вас все знают, где вы всегда царили безраздельно? Ссора с вами заставила жестоко страдать графа. Он хочет удалить вас, чтобы перестать мучиться. Случайно на его пути попадается девочка, не лишенная способностей; она мечтает о дебюте. Да разве это такое уж преступление со стороны бедняжки, которая трепещет при одном звуке вашего громкого имени и произносит его не иначе как с почтением? Вы приписываете ей наглые притязания, на которые она совсем не способна. Причины вашего предубеждения мне ясны: с одной стороны – стремление графа, чтобы она понравилась его друзьям, и преувеличение ее достоинств этими услужливыми друзьями; с другой стороны – ваши поклонники. Вместо того чтобы внести покой в вашу душу, убедив вас, что ваша слава непоколебима, а ваша соперница трепещет, они, наоборот, своей злобной клеветой раздражают и огорчают вас. Все это так поражает меня, что я просто не знаю, как мне убедить вас.
– Прекрасно знаешь, болтун проклятый! – сказала Корилла, глядя на него нежно и страстно, но не без примеси недоверия. – Я слушаю твои медовые речи, но рассудок велит мне опасаться тебя. Я уверена, что эта Консуэло божественно хороша, хотя меня и стараются убедить в обратном, и что способности – правда, совсем иного склада, чем у меня, – у нее есть безусловно, раз сам строгий Порпора говорит об этом во всеуслышание.
– Вы ведь знаете Порпору. И вам должны быть хорошо известны его странности, скажу больше – его мания. Враг всякой оригинальности у других, враг всего нового в искусстве пения, профессор способен за правильно пропетую ученицей гамму объявить ее выше всех «звезд», обожаемых публикой; для этого надо только, чтобы ученица эта внимательно слушала его изречения и педантично выполняла его уроки. С каких пор придаете вы значение причудам этого сумасшедшего старика?
– Так у нее нет таланта?
– У нее красивый голос, и она поет неплохо в церкви, о театре же она, по всей вероятности, не имеет ни малейшего представления; что же касается силы ее голоса, то, надо полагать, она так растеряется на сцене, что страх убьет и те небольшие данные, которыми ее наградило небо.
– Она растеряется? Что ты! Мне говорили, что она смела до наглости!
– Бедная девочка! Видно, у нее много врагов! Вы ее услышите, божественная Корилла, вы почувствуете к ней благородное сострадание и тогда – вместо того чтобы устроить ей провал, как только что шутя грозили, – сами поддержите ее.
– Или ты лжешь, или друзья мои лгут про нее!
– Ваши друзья были сами введены в заблуждение. Усердствуя безрассудно, они испугались, что у вас может появиться соперница. Испугаться за вас! И испугаться кого? Ребенка! Мало же эти люди знают вас, если они сомневаются в ваших силах! Имей я счастье быть вашим другом, я, поверьте, лучше оценил бы вас и не оскорбил бы так, боясь соперницы, даже если б то была сама Фаустина или сама Мольтени!
– Не подумай, что я испугалась ее. Я не завистлива и не зла, а так как чужие успехи никогда не вредили мне, я никогда ими не огорчалась. Но если хотят унизить меня, заставить страдать…
– Не желаете ли вы, чтобы я привел к вам Консуэло? Посмей она только, она бы уже давно сама пришла к вам за советом и помощью. Но это такой застенчивый ребенок! К тому же и ей оклеветали вас: наговорили, что вы и жестоки, и мстительны, и хотите ее провалить.
– Ах, так ей сказали это? В таком случае мне понятно твое присутствие здесь.
– Нет, синьора, вы, очевидно, не понимаете настоящей его причины; я ни минуты не верил этой клевете на вас и никогда не поверю. Нет, синьора, нет, вы не понимаете меня!
При этих словах черные глаза Андзолето засверкали, и он опустился на колени у ног Кориллы с неподражаемым выражением любви и неги.
Корилла была не лишена и проницательности и хитрости, но, как это случается с самовлюбленными женщинами, тщеславие часто ослепляло ее, и она нередко попадала в ловушку. К тому же она была женщина страстная, а красивее Андзолето она не встречала мужчины; и она не смогла устоять перед его медоточивыми речами, а вкусив с ним радость удовлетворенной мести, постепенно привязалась к нему, узнав также и радость обладания. Через неделю после их первого свидания она была от него без ума и своими бурными вспышками ревности и гнева могла в любую минуту выдать тайну их связи. Андзолето, тоже по-своему влюбленный в нее, – сердце его все-таки не могло изменить Консуэло, – был сильно напуган этой чересчур быстрой и чересчур полной победой. Однако он надеялся сохранить свое влияние на Кориллу, пока это было ему необходимо, и помешать ей испортить его дебют и повредить успеху Консуэло. Он держал себя с нею необычайно ловко, лгал с чисто дьявольским искусством и сумел привязать ее к себе, убедить, покорить. Ему удалось уверить ее, что он больше всего ценит в женщине великодушие, кротость и правдивость. Искусно набросал он роль, которую она, если только не хочет заслужить с его стороны презрение и ненависть, должна играть по отношению к Консуэло при публике. Будучи нежен с нею, он в то же время умел быть строгим и, маскируя угрозы лестью, делал вид, будто считает ее ангелом доброты. Бедная Корилла переиграла в своем будуаре всевозможные роли, кроме этой, надо сказать, не удававшейся ей и на сцене. Тем не менее она покорилась, боясь утратить наслаждения, которыми еще не пресытилась и на которые Андзолето, чтобы сделать их более желанными, был не слишком щедр. Юноше удалось убедить Кориллу, будто граф, несмотря на раздражение, все еще влюблен в нее и только рисуется, говоря, что разлюбил ее, а сам втайне ревнует.
– Узнай он только о том счастье, которое я переживаю с тобой, – говорил он ей, – конец всему: и дебюту и, пожалуй, самой моей карьере. С того дня, как ты имела неосторожность открыть ему мою любовь к тебе, он сильно ко мне охладел, и я думаю, что он будет вечно преследовать меня своей ненавистью, если узнает, что я утешил тебя.
При создавшихся обстоятельствах это было мало правдоподобно: граф был бы, наверно, в восторге, что Андзолето изменяет своей невесте, но тщеславной Корилле хотелось верить обману. Она поверила и тому, что ей нечего бояться любви Андзолето к дебютантке. Когда он всячески отрицал это и клялся всеми святыми, что был для бедной девушки только братом, его уверения звучали крайне убедительно, – тем более что по сути дела это было правда, – и ему удалось усыпить ревность Кориллы. Великий день близился, а ее интриги против Консуэло прекратились; она даже начала действовать в противоположном направлении, уверенная, что застенчивая и неопытная дебютантка провалится сама по себе, а Андзолето будет ей бесконечно благодарен за то, что она в этом провале не принимала участия. Помимо этого, Андзолето сумел ловко рассорить свою возлюбленную с ее вернейшими приверженцами, разыграв ревнивца и настояв на том, чтобы она их выпроводила, – притом довольно резко.
Разрушая таким образом втихомолку планы женщины, которую он каждую ночь прижимал к своему сердцу, хитрый венецианец в то же время играл совсем другую роль перед графом и Консуэло. Он хвастался им, что своими ловкими приемами, посещениями и наглой ложью сумел обезоружить грозного врага, способного помешать их успеху. Легкомысленный граф, охотник до всяких интриг, забавлялся болтовней своего питомца. Самолюбию его особенно льстили уверения Андзолето, будто Корилла опечалена разрывом с ним, и он с легкомысленной жестокостью, обычной в театральном мире и мире любовных похождений, подбивал юношу на разные подленькие проделки. Все это удивляло и огорчало Консуэло.
– Гораздо было бы лучше, – говорила она своему жениху, – если б ты работал над своим голосом и изучал роль. Ты воображаешь, что много сделал, обезоружив врага. Поверь мне, отделанная нота, прочувствованная интонация гораздо важнее для беспристрастной публики, чем молчание завистников. Вот с этой-то публикой и надо считаться, а я с грустью вижу, что о ней ты нисколько не думаешь.
– Не волнуйся, дорогая Консуэло, – отвечал Андзолето. – Ты заблуждаешься, считая, что публика может быть одновременно и беспристрастной и просвещенной. Люди понимающие очень редко бывают добросовестны, а добросовестные так мало смыслят, что малейшее проявление смелости ослепляет и увлекает их.
Глава 17
Ревность Андзолето к графу несколько поутихла: его отвлекали и жажда успеха и пылкость Кориллы. К счастью, Консуэло не нуждалась в высоконравственном и бдительном защитнике. Охраняемая собственной невинностью, девушка ускользала от дерзкого натиска Дзустиньяни и держала его на расстоянии уже потому, что очень мало о нем думала. Недели через две распутный венецианец убедился, что в ней еще не пробудились суетные страсти, ведущие к разврату, и он всячески старался пробудить их. Но так как он и в этом отношении еще не добился ни малейшего успеха, то не решался слишком усердствовать, боясь все испортить. Если б Андзолето раздражал его своим надзором, то, быть может, он с досады и поспешил бы довести дело до конца, но Андзолето предоставлял ему полную свободу действий, Консуэло ничего не подозревала, и графу оставалось лишь стараться быть любезным, ожидая, пока он сделается необходимым. Он изощрялся в нежной предупредительности, утонченном ухаживании, стараясь понравиться, а Консуэло принимала это поклонение, упорно объясняя его свободой нравов, царящей в аристократической среде, страстным увлечением своего покровителя искусством и его прирожденной добротой. Она чувствовала к нему истинную дружбу, священную благодарность; он же испытывал и счастье и тревогу близ этой чистой и преданной души, уже побаиваясь того чувства, которое могло вызвать в ней его решительное признание.
В то время как он со страхом, но и не без удовольствия, переживал это новое для него чувство (несколько утешаясь тем заблуждением, в котором пребывала вся Венеция насчет его победы), Корилла тоже ощущала в себе какое-то перерождение. Она любила если не благородной, то пылкой любовью; властная и раздражительная, она склонилась под иго юного Адониса, подобно сладострастной Венере, влюбившейся в красавца охотника и впервые смирившейся и оробевшей перед избранным ею смертным. Она покорилась настолько, что пыталась даже казаться добродетельной, – качество, которым она вовсе не обладала, – и ощущала при этом некое сладостное и нежное умиление: ибо ни для кого не секрет, что обожествление другого существа возвышает и облагораживает души, наименее склонные к величию и самоотверженности.
Испытанное ею потрясение отразилось и на ее даровании: в театре заметили, что она играет патетические роли естественнее и, с большим чувством. Но так как ее характер и самая сущность ее натуры были, так сказать, надломлены и для того, чтобы вызвать такое превращение, потребовался внутренний кризис, бурный и мучительный, она ослабела физически в этой борьбе, и окружающие замечали с изумлением – одни со злорадством, другие с испугом, – что она с каждым днем теряет свои голосовые данные. Ее голос постепенно угасал. Короткое дыхание и неуверенность интонации вредили блестящей фантазии ее импровизаций. Недовольство собою и страх окончательно подорвали ее силы, и на представлении, предшествовавшем дебюту Консуэло, она пела так фальшиво, испортила столько блестящих мест, что ее друзья, зааплодировавшие было ей, принуждены были умолкнуть, услышав ропот недовольства вокруг. Наконец великий день настал. Зал был так переполнен, что нечем было дышать. Корилла, вся в черном, бледная, взволнованная, еле живая, сидела в своей маленькой темной ложе, выходившей на сцену; она трепетала вдвойне, боясь провала своего возлюбленного и ужасаясь при мысли о торжестве соперницы. Вся аристократия и все красавицы Венеции, в цветах и в драгоценных камнях, заполняли сияющий огнями трехъярусный полукруг. Франты толпились за кулисами и, по обычаю того времени, в партере. Догаресса, в сопровождении всех важнейших сановников республики, появилась в своей ложе на авансцене. Оркестром должен был дирижировать сам Порпора, а граф Дзустиньяни ожидал Консуэло у двери ее уборной, пока она одевалась. В это время за кулисами Андзолето, облекшись в костюм античного воина, правда с причудливым отпечатком современности, едва не лишаясь сознания от страха, старался подбодрить себя кипрским вином.
Опера, которую ставили, была написана не классиком, не новатором, не строгим композитором старого времени и не смелым современником. Это было неизвестное творение какого-то иностранца. Порпора, во избежание интриг, которые, несомненно, возникли бы среди композиторов-соперников, исполняй он свое собственное произведение или творение другого известного композитора, предложил, – думая прежде всего об успехе своей ученицы, – а потом и разучил партитуру «Гипермнестры». Это было первое лирическое творение одного молодого немца, у которого не только в Италии, но и нигде в мире не было ни врагов, ни приверженцев и которого попросту звали господин Христофор Глюк.
Когда на сцене появился Андзолето, восторженный шепот пронесся по залу. Тенор, которого он заменил, прекрасный певец, сделал ошибку: он пережил себя, уйдя со сцены, когда у него уже не было ни голоса, ни красоты. Вот почему неблагодарная публика мало сожалела о нем; и прекрасный пол, слушающий больше глазами, чем ушами, был очарован, увидав на сцене вместо угреватого толстяка двадцатичетырехлетнего юношу, свежего, как роза, белокурого, как Феб, сложенного, как статуя Фидия, настоящего сына лагун: bianco, crespo e grassotto.
Он был слишком взволнован, чтобы хорошо спеть свою первую арию, но для того, чтобы увлечь женщин и театральных завсегдатаев, достаточно было и его отличного голоса, красивых поз и нескольких удачных новых пассажей. У дебютанта были великолепные данные, перед ним открывалась блестящая будущность. Трижды грохотал гром аплодисментов, дважды вызывали молодого тенора из-за кулис, по итальянскому и особенно венецианскому обычаю.
Успех вернул Андзолето смелость, и когда он снова появился вместе с Гипермнестрой, страха в нем как не бывало. Но в этой сцене всеобщим вниманием завладела Консуэло: все видели и слышали только ее.
– Вот она! – раздавалось со всех сторон.
– Кто? Испанка?
– Да, дебютантка. L\'amande del Zustiniani.
Консуэло вышла с серьезным, холодным видом и обвела глазами публику; поклоном, в котором не было ни излишнего смирения, ни кокетства, она ответила на залп рукоплесканий своих покровителей и начала речитатив таким уверенным голосом, с такой грандиозной полнотой звука, с таким торжествующим спокойствием, что после первой же фразы театр задрожал от восторженных криков. – Ах, коварный! Он насмеялся надо мной! – вскричала Корилла, метнув ужасный взгляд на Андзолето, который, не удержавшись, взглянул на нее с плохо скрытой усмешкой, и бросилась в глубину своей ложи, заливаясь слезами.
Консуэло пропела еще несколько фраз. В эту минуту послышался надтреснутый голос старика Лотти:
– Amici miei, questo е un portento! Когда она исполняла выходную арию, ее десять раз прерывали, кричали «бис», семь раз вызывали на сцену, в театре стоял рев исступления. Словом, неистовство венецианских музыкантов-любителей проявилось со всем его пленительным и в то же время смешным жаром.
– Чего они так кричат? – спрашивала Консуэло, вернувшись за кулисы, откуда ее не переставали вызывать. – Можно подумать, что они собираются побить меня камнями!
С этой минуты Андзолето безусловно отошел на второй план. Его принимали хорошо, но только потому, что все были довольны. Снисходительная холодность к его слабым местам и почти равнодушие к удачным говорили о том, что если женщинам – этому экспансивному и шумному большинству – и нравилась его наружность, то мужчины были о нем невысокого мнения и все свои восторги приберегали для примадонны. Из всех тех, кто явился в театр с враждебными намерениями, никто не решился выразить хоть малейшее неодобрение, и, сказать правду, не нашлось и троих, которые устояли бы против стихийного увлечения и непобедимой потребности рукоплескать новоявленному чуду.
Опера имела большой успех, хотя в сущности самой музыкой никто не интересовался. Это была чисто итальянская музыка, грациозная, умеренно патетическая, но, как говорят, в ней еще нельзя было предугадать автора «Альцесты» и «Орфея». В ней было мало мест, которые бы поражали слушателей своей красотой. В первом же антракте немецкий композитор был вызван вместе с тенором, примадонной и даже Клориндой. Клоринда – благодаря протекции Консуэло – прогнусавила глухим голосом и без всякого выражения свою второстепенную роль, обезоружив всех красотою плеч: Розальба, которую она заменяла, была чрезвычайно худа!
В последнем антракте Андзолето, все время украдкой следивший за Кориллой, заметил, что та все более и более выходит из себя, и счел благоразумным зайти к ней в ложу, дабы предупредить могущую произойти вспышку. Увидав юношу, Корилла, как тигрица, набросилась на него и отхлестала по щекам, исцарапав при этом до крови, так что потом ни белила, ни румяна не могли скрыть следов. Оскорбленный тенор укротил ее пыл, ударив кулаком в грудь с такою силой, что она, едва не лишившись чувств, упала на руки своей сестры Розальбы.
– Подлец! Изменник! Разбойник! – задыхаясь, бормотала она. – И ты и твоя Консуэло, вы оба погибнете от моей руки!
– Несчастная, посмей только сделать сегодня хоть шаг, хоть жест, посмей только выкинуть какую-нибудь штуку, – и я заколю тебя на глазах у всей Венеции! – прошипел сквозь стиснутые зубы бледный Андзолето, сверкнув перед ее глазами своим неизменным спутником – ножом, которым он владел с искусством настоящего сына лагун.
– Он сделает то, что говорит, – с ужасом прошептала Розальба. – Молю тебя, скорей идем отсюда: здесь нам грозит смерть!
– Да, да, совершенно верно, и помните это, – ответил Андзолето, с шумом захлопывая за собой дверь ложи и запирая ее на ключ.
Хотя эта трагикомическая сцена и проведена была чисто по-венециански – вполголоса, таинственно и молниеносно – все же, когда дебютант быстро прошел из-за кулис в свою уборную, закрывая щеку носовым платком, все догадались, что произошла маленькая стычка. А парикмахер, призванный привести в порядок растрепанные кудри греческого принца и замаскировать полученную им царапину, сейчас же раззвонил среди хористов и статистов о том, что щека героя пострадала от коготков одной влюбленной кошечки. Парикмахер этот знал толк в такого рода ранах и не раз бывал поверенным в подобных закулисных происшествиях. История эта в мгновение ока обежала всю сцену, каким-то образом перескочила через рампу и пошла гулять из оркестра на балкон, с балкона в ложи и оттуда, уже с разными прикрасами, проникла в глубину партера. Связь Андзолето с Кориллой была еще неизвестна, но некоторые видели, как он увивался вокруг Клоринды, – и вот разнесся слух, что она-де в припадке ревности к примадонне выколола глаз и выбила три зуба красивейшему из теноров. Это повергло в отчаяние некоторых представительниц прекрасного пола, но для большинства явилось очаровательным скандальчиком. Зрители спрашивали друг друга, не будет ли приостановлено представление и не появится ли прежний тенор Стефанини доигрывать роль с тетрадкой в руках. Но вот занавес поднялся. И когда появилась Консуэло, такая же спокойная и величественная, как и вначале, все было забыто. Хотя роль ее сама по себе не была особенно трагической, Консуэло мощью своей игры, выразительностью своего пения сделала ее такою: она заставила проливать слезы; и когда появился тенор, его царапина вызвала только улыбку. Но все-таки из-за этого смехотворного эпизода успех Андзолето был менее блестящ, чем он мог бы быть, и все лавры в этот вечер достались Консуэло. Ее вызывали без конца, ей неистово, бешено рукоплескали.
После спектакля все отправились ужинать во дворец Дзустиньяни, и Андзолето совсем забыл о запертой в ложе Корилле, которой пришлось взломать дверь, чтобы выйти оттуда. В суматохе, обыкновенно царящей в театре после блестящего представления, никто этого не заметил. Но на следующий день сломанная дверь в Сопоставлении с полученной тенором царапиной навела многих на мысль о любовной интриге, которую Андзолето так тщательно скрывал до сих пор.
Едва лишь занял он место за большим столом, вокруг которого граф усадил своих гостей, устроив роскошный банкет в честь Консуэло, и известные венецианские поэты начали приветствовать певицу только что сочиненными в честь ее мадригалами и сонетами, как лакей тихонько сунул под его тарелку записочку от Кориллы. Он прочитал украдкой:
«Если ты сейчас же не придешь ко мне, я явлюсь за тобой сама и закачу тебе скандал, где бы ты ни был – хоть на краю света, хоть в объятиях трижды проклятой Консуэло!»
Под предлогом внезапного приступа кашля Андзолето вышел из-за стола, чтобы написать ей ответ. Оторвав кусочек линованной бумаги из нотной тетрадки, лежавшей в передней, он нацарапал карандашом:
«Если хочешь, приходи: мой нож всегда наготове, так же как моя ненависть и презрение к тебе».
Деспот знал, что для женщины, обладающей таким» характером, страх был единственной уздой, угроза – единственной уловкой. Однако он невольно помрачнел и был рассеян во время банкета, а как только встали из-за стола, скрылся и помчался к Корилле.
Он застал несчастную женщину в состоянии, достойном жалости. За истерикой последовали потоки слез; она сидела у окна, растрепанная, с распухшими от слез глазами. Платье, которое она в отчаянии разорвала на себе, висело клочьями на ее вздрагивавшей от рыданий груди. Она отослала сестру и служанку. Проблеск невольной радости озарил ее измученное лицо, когда она увидела того, кого уже не думала больше увидеть. Но Андзолето знал ее слишком хорошо, чтобы начать утешать. Будучи уверен, что при первом же проявлении сострадания или раскаяния в ней проснутся гнев и жажда мести, он решил держаться уже взятой на себя роли – быть неумолимым, и, хотя в глубине души был тронут отчаянием Кориллы, стал осыпать ее самыми жестокими упреками, а затем объявил, что пришел проститься с ней. Он довел ее до того, что она бросилась перед ним на колени и в полном отчаянии доползла до самых дверей, моля о прощении. Только совсем доконав и уничтожив ее, он сделал вид, будто смягчился. Глядя на эту гордую красавицу, которая валялась в пыли у его ног, словно кающаяся Магдалина, упоенный гордостью и каким-то волнующим пылом, он уступил ее исступленной страсти, и Корилла испытала с ним восторги еще неведомых ей наслаждений. Но и наслаждаясь с этой укрощенной львицей, Андзолето ни на миг не забывал, что она дикий зверь, и до конца выдержал роль прощающего, но оскорбленного повелителя.
Уже начинало светать, когда эта женщина, опьяненная и униженная, спрятав бледное лицо в длинных черных волосах, облокотясь мраморной рукой на влажный от утренней росы балкон, стала тихим, ласкающим голосом жаловаться на пытки, причиняемые ей любовью.
– Ну да, я ревнива, – говорила она, – и, если хочешь, хуже – завистлива. Не могу перенести, что моя десятилетняя слава в одно мгновение превзойдена новой восходящей звездой, не могу перенести, что жестокая, забывчивая толпа приносит меня в жертву без жалости и сожалений. Когда ты узнаешь восторг успеха и унижение падения, поверь, ты не будешь так строг и требователен к себе, как сейчас ко мне. Ты говоришь, что ничто не потеряно, что моя слава не померкла, что успех, богатство, заманчивые надежды – все это ждет меня в новых странах, что я покорю там новых любовников, пленю новый народ. Пусть даже это так, но неужели, по-твоему, найдется такая вещь на свете, которая могла бы утешить меня в том, что я покинута всеми своими друзьями, сброшена со своего трона, куда еще при мне возведен другой кумир? И этот позор – первый в жизни, единственный за всю мою карьеру – обрушился на меня у тебя на глазах! Скажу более: этот позор – дело твоих рук, рук моего любовника, первого человека, которого я полюбила безумно, даже подло. Ты говоришь еще, что я фальшива и зла, что я разыграла перед тобой лицемерное величие и лживое великодушие, но ведь ты сам этого хотел, Андзолето. Я была оскорблена, – ты потребовал, чтобы я делала вид, будто я спокойна, и я держала себя спокойно. Я была недоверчива, – ты потребовал, чтобы я верила в твою искренность, и я поверила. У меня в душе кипели злоба и отчаяние, – ты мне говорил: смейся, и я смеялась. Я была взбешена, – ты мне велел молчать, и я молчала. Что же мне оставалось делать, как не играть роль, мне несвойственную, и приписывать себе мужество, которого во мне нет? А когда это напускное мужество, естественно, покидает меня, когда эта пытка делается невыносимой и я близка к сумасшествию, ты, который сам должен был бы терзаться моими терзаниями, ты топчешь меня ногами и собираешься оставить меня, умирающую, в том болоте, куда сам же меня завел. Ах, Андзолето! У вас каменное сердце, и для вас я стою не больше, чем морской песок, который приносит и уносит набегающая волна. Брани, бей меня, оскорбляй, раз такова потребность твоей сильной натуры, но все же в глубине души пожалей меня! Подумай, как должна быть беспредельна моя любовь к тебе, если, будучи такой скверной, какой ты меня считаешь, я ради этой любви не только переношу все муки, а готова еще и еще страдать… Но послушай, друг мой, – продолжала она еще нежнее, обнимая его, – все, что ты заставил меня выстрадать, – ничто по сравнению с тем, что я чувствую, когда подумаю о твоей будущности и о твоем счастье. Ты погиб, Андзолето, дорогой мой Андзолето! Погиб безвозвратно! Ты не знаешь, не подозреваешь этого! А я – я это вижу и говорю себе: «Пусть я была бы принесена в жертву его тщеславию, пусть мое падение послужило бы его торжеству, но нет – все это только на его погибель, и я – орудие соперницы, наступившей ногой на голову нам обоим».
– Что хочешь ты этим сказать, безумная? – вскричал Андзолето. – Я не понимаю тебя.
– А между тем ты должен был бы меня понять, по крайней мере понять все, что произошло сегодня вечером. Разве ты не заметил, как публика, несмотря на весь восторг, вызванный твоей первой арией, охладела к тебе после того, как спела она? И – увы! – она всегда так будет петь: лучше меня, лучше всех и, сказать правду, в тысячу раз лучше тебя самого, мой дорогой Андзолето… Значит, ты не видишь, что эта женщина раздавит тебя и, пожалуй, уже раздавила при первом же своем появлении? Не видишь, что ее уродство затмило твою красоту? Да, она некрасива, я признаю это, но я знаю также, что такие женщины, понравившись, способны зажечь в мужчинах более безумную страсть, дать им познать более сильные переживания, чем совершеннейшие красавицы мира… Ты разве не видишь, что ей поклоняются, ее обожают и что всюду, где ты будешь появляться вместе с ней, ты останешься в тени, будешь незаметен? Разве ты не знаешь, что талант артиста нуждается для своего развития в похвалах и успехе точно так же, как новорожденный нуждается в воздухе, чтобы расти и жить? Неужели ты не знаешь, что всякое соперничество сокращает сценическую жизнь артиста, а опасный соперник рядом с нами – это смерть для нашей души, это пустота вокруг нас? Ты видишь это на моем печальном примере: одного страха перед неизвестной мне соперницей, страха, который ты хотел во мне вытравить, было достаточно, чтобы я целый месяц была словно парализована. По мере приближения дня ее торжества я чувствовала, как все более угасает мой голос, как с каждым днем падают мои силы. А ведь я почти не допускала возможности ее торжества! Что же будет теперь, когда я собственными глазами видела это торжество – несомненное, поразительное, неоспоримое? Знаешь, я уже не могу появиться на сцене в Венеции, а пожалуй, даже и нигде в Италии: я пала духом. Чувствую, что я буду дрожать, что буду не в состоянии издать ни одного звука… И куда уйти от воспоминаний о пережитом? И есть ли место, откуда мне не придется бежать от моей торжествующей соперницы? Да, я погибла, но и ты тоже погиб, Андзолето! Ты умер, не успев насладиться жизнью. И будь я так зла, как ты уверяешь, я бы ликовала, толкала бы тебя к твоей гибели, была б отомщена, а я с отчаянием говорю тебе: если ты еще хоть раз появишься здесь с нею, для тебя в Венеции нет будущности! Если ты будешь сопутствовать ей в поездках, всюду позор и унижение пойдут за тобой по пятам. Если ты будешь жить на ее средства, делить с нею роскошь, прятаться за ее имя, ты будешь влачить самое жалкое и тусклое существование. Хочешь знать, как к тебе будет относиться публика? Люди будут спрашивать: «Скажите, кто этот красивый молодой человек, которого всегда можно видеть с ней?» И им ответят: «Да никто, даже меньше, чем никто, – это или муж, или любовник божественной певицы».
Андзолето стал мрачен, как грозовые тучи, собиравшиеся в это время на востоке небосклона.
– Ты сошла с ума, моя милая Корилла! – ответил он. – Консуэло вовсе не так страшна для тебя, как это рисует тебе сейчас твое больное воображение. Что до меня, то я тебе уже говорил: я не любовник ее и, конечно, никогда не буду ее мужем. Так же как никогда не буду жить в тени ее широких крыльев, точно жалкий птенец. Предоставь ей парить! В небесах довольно воздуха и пространства для всех, кого могучая сила поднимает высоко над землей. Взгляни на эту птичку, не так ли она привольно летает над каналом, как чайка над морем? Ну, довольно этих бредней! Дневной свет гонит меня из твоих объятий. До завтра! И если хочешь, чтобы я вернулся к тебе, будь по-прежнему кротка и терпелива. Ты пленила меня именно кротостью и терпением. Поверь, это гораздо больше идет твоей красоте, чем крики и бешенство ревности!
Все-таки Андзолето вернулся к себе в мрачном расположении духа. И только в постели, почти засыпая, он задал себе вопрос: кто мог проводить Консуэло домой из графского дворца? Это всегда было его обязанностью, и он ее никогда никому не уступал.
– В конце концов, – сказал он себе, кулаком взбивая подушку, чтобы устроиться поудобнее, – если графу суждено добиться своего, так, пожалуй, для меня же лучше, чтобы это случилось поскорее.
Глава 18
Когда Андзолето проснулся, он почувствовал, что проснулась также и его ревность к графу Дзустиньяни. Тысячи противоречивых чувств бушевали в его душе, и прежде всего новое чувство – зависть к таланту и успеху Консуэло, которую накануне пробудила в нем Корилла. Зависть эта возрастала в нем по мере того, как он снова и снова переживал торжество своей невесты и собственный, как казалось его оскорбленному самолюбию, провал. Затем его стала мучить мысль, что не только в глазах общества, но и на самом деле он может быть оттеснен от этой женщины, ставшей сразу и знаменитой и блестящей, женщины, чьей единственной великой любовью он был еще вчера. Зависть и ревность боролись в нем, и он не знал, какому из этих чувств отдаться, чтобы заглушить другое. Ему представлялись два исхода: либо увезти Консуэло из Венеции и тем самым от графа и отправиться вместе с ней искать счастья, либо, уступив ее сопернику, самому бежать как можно дальше и там добиваться для себя успеха, который Консуэло уже не будет оспаривать. Все более и более мучаясь этой нерешительностью, Андзолето, вместо того чтобы найти успокоение у своего настоящего друга – Консуэло, ринулся опять в омут, отправившись к Корилле. Та еще больше взбудоражила его, доказывая даже энергичнее, чем накануне, всю невыгодность его положения.
– Никто не может быть пророком в своем отечестве, – говорила она, – и тебе совсем не полезно жить в городе, где ты родился, где тебя видели оборвышем, бегавшим по площадям, где всякий может сказать (ведь аристократы страх как любят хвастаться благодеяниями, подчас даже воображаемыми, которые они оказывают артистам): «Я ему покровительствовал»; «я первый заметил в нем талант»; «это я порекомендовал его такому-то»; «это я предпочел его тому-то». Слишком долго жил ты здесь на улице, мой бедный Андзолето, и потому, раньше чем узнать о твоем таланте, все уже заметили твое красивое лицо. Не так-то легко привести в восторг людей, у которых ты за гроши греб на гондолах, распевая отрывки из Тассо, или бегал по поручениям, чтобы заработать себе на ужин. Консуэло, некрасивая, ведшая уединенную жизнь, представляется здесь чужеземным дивом. К тому же она испанка, и у нее не венецианский выговор. Ее прекрасное, хотя несколько странное произношение понравилось бы всем, даже будь оно отвратительно, потому что оно ново для слуха. Три четверти твоего небольшого успеха в первом акте тебе дала красота, а в последнем акте к ней уже пригляделись.
– Прибавьте к этому, что шрам под глазом, которым вы меня наградили и которого мне не следовало бы никогда вам прощать, немало уменьшил это мое последнее, ничтожное преимущество.
– Это преимущество, быть может, и ничтожно в глазах мужчин, но оно очень велико в глазах женщин. Благодаря женщинам ты будешь царить в салонах; без помощи мужчины ты провалишься на сцене. А как можешь ты захватить, увлечь мужчин, когда твоим соперником является женщина, и какая женщина! Покоряющая не только серьезных любителей пения, но опьяняющая своей грацией, своей женственностью даже и тех мужчин, которые ничего не понимают в музыке. О, сколько нужно было таланта и знания Стефанини, Саверио и всем, кто появлялся со мною на сцене, чтобы бороться со мной!
– В таком случае, дорогая Корилла, мне было бы так же рискованно появляться с тобой, как и с Консуэло. И если бы я надумал отправиться вслед за тобой во Францию, твои слова явились бы для меня хорошим предостережением.
Эта фраза, вырвавшаяся у Андзолето, была лучом света для Кориллы. Она поняла, что добилась большего, чем ожидала, так как мысль покинуть Венецию уже, очевидно, созревала в уме ее возлюбленного. Как только у нее блеснула надежда увезти его с собой, она пошла на все, чтобы соблазнить его этим планом. Она умалила, насколько могла, свои достоинства, с безграничной скромностью уверяя, что она гораздо ниже своей соперницы, что она вообще не настолько крупная артистка, не настолько красивая женщина, чтобы воспламенять публику. А так как это было, в сущности, более верно, чем она думала, то ей и нетрудно было убедить в этом Андзолето: он ведь никогда не заблуждался на ее счет и всегда считал Консуэло неизмеримо выше ее. Итак, в это свидание их совместная работа и побег были почти решены. Андзолето действительно серьезно подумывал об этом, хотя на всякий случай и оставлял себе лазейку для отступления.
Корилла, видя, что у Андзолето еще остаются какие-то сомнения, стала настаивать на продолжении дебютов, предсказывая, что в этих новых выступлениях он добьется большего успеха. В душе она была убеждена в обратном и рассчитывала, что неудачи окончательно отвратят его и от Венеции и от Консуэло…
Выйдя от любовницы, Андзолето направился к своей подруге; его неудержимо влекло к ней. Впервые он начал и кончил день без ее чистого поцелуя в лоб. Но после того, что произошло у него с Кориллой, ему было стыдно видеть свою невесту, и он старался уверить себя, будто идет к ней лишь затем, чтобы убедиться в ее измене, увериться в том, что она разлюбила его. «Вне всякого сомнения, – говорил он себе, – граф воспользовался удобным случаем, а тут еще досада самой Консуэло, вызванная моим исчезновением! Просто невероятно, чтобы такой развратник, как он, проведя с бедняжкой ночь наедине, не соблазнил ее». Однако при одной мысли об этом на лбу у него выступал холодный пот, душа разрывалась на части, и он ускорял шаг, не сомневаясь в том, что Консуэло, должно быть, в отчаянии, мучиться угрызениями совести, рыдает… Но тут некий внутренний голос, заглушая все остальное, подсказывал ему, что такое чистое, благородное существо не может столь внезапно и позорно пасть, и, замедляя шаг, он думал о себе самом, о гнусности своего поведения, о своем эгоизме, тщеславии, лживости, о всем дурном, чем полны были его жизнь и совесть.
Он застал Консуэло сидящей за столом. Она была в черном платьице, такая же, как всегда; и во взгляде и во всем существе ее чувствовались спокойствие, святость. С обычной радостью она кинулась ему навстречу и стала расспрашивать с беспокойством, но без малейшего упрека или недоверия, как он провел время без нее.
– Мне нездоровилось, – ответил Андзолето, подавленный сознанием своего унижения. – Помнишь, я ударился головой о декорацию, я еще показывал тебе след? Тогда я сказал тебе, что это пустяки, но потом у меня так разболелась голова, что мне пришлось уйти из дворца Дзустиньяни – я боялся упасть там в обморок – и все утро пролежал в постели.
– Ах, боже мой! – воскликнула Консуэло, целуя рубец, оставленный ее соперницей. – Скажи, тебе было больно? Больно и теперь?
– Нет, сейчас мне гораздо лучше. Не стоит думать об этом. Лучше скажи мне, как же ты одна вернулась ночью домой?
– Одна? О нет, граф проводил меня до дому в своей гондоле.
– Так я и знал! – воскликнул Андзолето каким-то странным голосом.
– И, конечно… будучи наедине с тобой, чего только он не наговорил тебе… каких только любезностей не напел!
– А что бы он мог сказать мне такого, чего не говорил уже сто раз при всех? Граф, правда, балует меня и, пожалуй, мог бы развить во мне тщеславие, если бы я не остерегалась этого порока… К тому же мы не были с ним наедине: мой добрый учитель тоже захотел проводить меня. О, это чудесный друг!
– Какой учитель, какой чудесный друг? – переспросил рассеянно Андзолето, уже успокоившись и думая о другом.
– Как какой? Да Порпора, конечно! О чем это ты вдруг задумался?
– Я думаю о твоем вчерашнем триумфе. Конечно, и ты думаешь о нем?
– Клянусь тебе, меньше, чем о твоем!
– О моем! Не издевайся надо мной, милая Консуэло! Мой успех был так жалок, что больше походил на провал.
Консуэло даже побледнела от изумления. При всей своей удивительной выдержке она была недостаточно хладнокровна, чтобы оценить разницу между аплодисментами, выпавшими на долю ей и тому, кого она любила. При подобного рода овациях самый опытный артист может впасть в заблуждение и принять поддержку со стороны клакеров за шумный успех. Консуэло, чуть ли не испугавшись этого страшного шума, не могла в нем разобраться и не заметила предпочтения, оказанного ей по сравнению с Андзолето. В простоте душевной она пожурила его за чрезмерную требовательности к судьбе, но, видя, что ей не удается ни убедить его, ни разогнать его тоску, стала кротко упрекать его за то, что он слишком любит славу и слишком большое значение придает благосклонности толпы.
– Я всегда говорила, – сказала она, – что плоды искусства куда дороже тебе, чем само искусство. А вот мне кажется, раз сделал все, что мог, и сознаешь, что это сделано хорошо, то немножко больше, немножко меньше похвал ничего не прибавляют к чувству внутреннего удовлетворения. Помнишь, что мне сказал Порпора, когда я в первый раз пела во дворце Дзустиньяни: «Тот, кто истинно любит искусство, ничего не боится».
– Ты и твой Порпора можете питаться прекрасными изречениями, – прервал ее Андзолето с досадой. – Нет ничего легче, как философствовать по поводу горестей жизни, зная только ее радости. Порпора, хотя беден и имеет врагов, все-таки знаменит. Он достаточно за свою жизнь сорвал лавров, чтобы теперь его кудри спокойно седели под их сенью. А ты, чувствуя свою непобедимость, не знаешь, что такое страх. Сразу, одним прыжком взобравшись на верхнюю ступеньку лестницы, ты упрекаешь человека, который не так крепко, как ты, стоит на ногах, в том, что у него кружится голова. Это не великодушно, Консуэло, и крайне несправедливо. А потом твой довод неприменим ко мне: ты говоришь, что надо презирать одобрение публики, довольствуясь собственным; но если во мне нет этого внутреннего сознания, что я пел хорошо? Разве ты не видишь, что я страшно недоволен собой? Разве ты сама не заметила, что я был отвратителен? Разве ты не слыхала, как скверно я пел?
– Нет, потому что это не так. Ты был ни лучше, ни хуже, чем всегда. Волнение почти не отразилось на твоем голосе; впрочем, оно ведь скоро и рассеялось. И то, что ты хорошо знал, вышло у тебя хорошо.
– А то, чего я не знал? – спросил Андзолето, устремив на нее свои большие черные глаза, под которыми от усталости и огорчения появились черные круги.
Консуэло вздохнула и, помолчав немного, проговорила, целуя его:
– А то, чего ты не знаешь, надо выучить. Если б только ты захотел серьезно позаниматься на репетициях… Ведь, помнишь, я тебе говорила… Но к чему упреки, – надо поскорее исправить, что можно. Давай заниматься хоть по два часа в день, и ты увидишь, как быстро мы с тобой преодолеем все трудности.
– Разве этого можно достичь в один день?
– Конечно, нет, но не долее, чем в несколько месяцев. – А ведь я пою завтра и снова выступаю перед публикой, которая больше судит обо мне по моим недостаткам, чем по достоинствам.
– Но эта же публика заметит и твои успехи.
– Кто знает! А что, если она меня возненавидит?
– Она уже доказала тебе обратное.
– Да! Так ты находишь, что она была ко мне снисходительна?
– Да, дорогой, нахожу: там, где ты бывал слаб, публика все-таки относилась к тебе доброжелательно, а когда ты бывал на высоте – она воздавала тебе должное.
– Но пока что со мной заключат самый жалкий ангажемент.
– Граф – сама щедрость, он не скупится на деньги. К тому же разве он не предлагает мне столько, что мы оба сможем жить более чем роскошно?
– Прекрасно! Значит, я, по-твоему, буду жить твоими триумфами?
– А разве я мало жила на твои средства?
– Тут дело даже не в деньгах. Пусть он мне платит немного – это мне безразлично, но он может пригласить меня на вторые или на третьи роли.
– У него нет никого под рукой на первые; он давно уже рассчитывает на тебя и имеет в виду только тебя. К тому же он очень к тебе расположен. Ты думал, что он будет против нашего брака? Наоборот, он, по-видимому, даже желает этого и часто меня спрашивает, когда наконец я приглашу его на свадьбу.
– Вот как! Превосходно! Чрезвычайно благодарен вам, господин граф!
– Что ты хочешь этим сказать?
– Ничего. Только очень жаль, Консуэло, что ты не удержала меня от дебюта до тех пор, пока мои недостатки, которые так хорошо тебе известны, не были бы исправлены с помощью серьезной работы. Ведь, повторяю, ты отлично знала об этих недостатках.
– А разве я не была откровенна с тобой? Сколько раз я тебя предупреждала! Но ты всегда возражал мне, что публика ровно ничего не смыслит. И, услыхав о твоем блестящем успехе, когда ты в первый раз пел в салоне графа, я подумала, что…
– Что светские люди понимают в этом не более простых смертных?
– Я подумала, что на твои достоинства обратят больше внимания, чем на твои слабые стороны. Да, кажется, так оно и было, и у светских ценителей и у обыкновенной публики.
«В сущности, она права, – подумал Андзолето. – И если бы я только мог отложить свои дебюты… Но я рискую быть замененным другим тенором, а тот, уж конечно, не уступит мне своего места».
– Ну-ка, скажи, какие у меня недостатки, – попросил он Консуэло, пройдясь несколько раз по комнате.
– Те, о которых я не раз тебе говорила: слишком много смелости и слишком мало подготовки; подъем скорее лихорадочный, чем прочувствованный; в драматических местах больше надуманности, чем чувства. Ты недостаточно ясно представляешь себе роль в целом. Разучив ее отрывками, ты видишь в ней только ряд более или менее блестящих мест. Ты не уловил в роли ни постепенного развития ее, ни заключения. Думая только о том, как блеснуть своим прекрасным голосом и некоторым умением, ты показал всего себя сразу, при первом же выходе. При малейшей возможности ты гнался за эффектами, но все твои эффекты были одинаковы. Уже в конце первого акта публика знала тебя наизусть, но, не подозревая, что это все, ждала от тебя еще чего-то необыкновенного, а этого в тебе как раз и не оказалось. Приподнятость исчезла, и голос ослабел. Ты почувствовал это сам и изо всех сил стал форсировать и то и другое. Этот маневр публика поняла, и вот почему, к великому твоему удивлению, она оставалась холодна в тех местах, когда тебе казалось, что ты наиболее патетичен… В эту минуту она видела в тебе не артиста, увлеченного страстью, а только актера, жаждущего успеха.
– А как же, скажи, делают другие? – топнув ногой, воскликнул Андзолето. – Разве я не слышал всех, кому последние десять лет аплодировала Венеция? Разве старик Стефанини не кричал, когда бывал не в голосе? И это не мешало публике неистово ему аплодировать.
– Это правда. Но я не думаю, чтобы здесь со стороны публики было непонимание. Вероятно, помня старые его заслуги, она не хотела дать ему почувствовать его закат.
– Ну, а Корилла, этот свергнутый тобою кумир, разве она не форсировала своего голоса, разве не делала усилий, которые было мучительно не только слушать, но даже видеть? Разве она была в самом деле захвачена страстью, когда ее превозносили до небес?
– Вот именно потому, что я находила все ее приемы фальшивыми, эффекты – отвратительными, а пение и игру – лишенными вкуса и величия, я и была, так же как ты, убеждена в том, что публика понимает не слишком много, и вышла на сцену так спокойно.
– Ах, Консуэло, дорогая, как ты растравляешь мою рану, – тяжко вздыхая, проговорил Андзолето.
– Чем, мой любимый?
– И ты еще спрашиваешь! Мы ошибались с тобой, Консуэло. Публика все понимает. Там, где не хватает знания, ей подсказывает сердце. Публика – это дитя, ей нужны забава и эмоции. Она довольствуется тем, что ей дают, но только покажи ей лучшее – она сейчас же начинает сравнивать и понимать. Корилла фальшивила, у нее не хватало дыхания, но еще неделю назад она могла пленять. Явилась ты, и Корилла погибла; она уничтожена, похоронена. Выступи она теперь – ее освищут. Появись я с ней, успех мой был бы так же головокружителен, как тогда, когда я в первый раз пел у графа после нее. Но рядом с тобой я померк. Так должно было быть, и так будет всегда. Публике нравилась мишура, она фальшивые камни принимала за драгоценные и была ими ослеплена. Но вот ей показали бриллиант, и она уже сама не понимает, как могли так грубо обманывать ее. Больше терпеть фальшивых бриллиантов она не желает и отбрасывает их. В этом-то, Консуэло, и состоит мое несчастье: я – венецианское стеклышко – выступил вместе с жемчужиной со дна морского…
Консуэло не поняла, сколько было правды и горечи в словах ее жениха. Она приписала их его любви и на всю эту, как ей казалось, милую лесть, смеясь, ответила ласками. Она уверила Андзолето, что он перещеголяет ее, если только захочет постараться, и возродила в нем мужество, доказывая, что петь, как она, совсем не так уж трудно. Она говорила это искренне, так как не знала, что такое трудности, и не подозревала, что труд для тех, кто его не любит и у кого нет усидчивости, является главным и непреодолимым препятствием.
Глава 19
Поощряемый чистосердечием Консуэло и коварными советами Кориллы, настаивавшей на его вторичном выступлении, Андзолето с жаром принялся за работу и на втором представлении «Гипермнестры» гораздо лучше спел первый акт. Публика оценила это. Но так как пропорционально возрос и успех Консуэло, он, видя это подтверждение ее превосходства, остался недоволен собой и снова пал духом. С этой минуты все стало представляться ему в мрачном свете. Андзолето казалось, что его совсем не слушают, что сидящие вблизи зрители шепотом судачат на его счет, что даже его доброжелатели, подбадривая его за кулисами, делают это только из жалости. Во всех их похвалах он искал какой-то иной, скрытый, неприятный для себя смысл. Корилла, к которой он в антракте зашел в ложу, чтобы узнать ее мнение, с притворным беспокойством спросила, не болен ли он.
– Откуда ты это взяла? – раздраженно спросил он.
– Потому что голос твой нынче звучит как-то глухо и вид у тебя подавленный. Андзолето, дорогой, приободрись, напряги свои силы – они парализованы страхом или унынием.
– Разве я плохо спел свою выходную арию?
– Гораздо хуже, чем на первом представлении! У меня так сжималось сердце, что я боялась упасть в обморок.
– Однако мне аплодировали!
– Увы!.. Впрочем, я напрасно разочаровываю тебя. Продолжай, только старайся, чтобы голос звучал чище…
«Консуэло, – думал он, – конечно, хотела дать мне хороший совет. Сама она в своих поступках руководствуется инстинктом, и это ее вывозит. Но откуда у нее может быть опыт, как может она научить меня победить эту строптивую публику? Следуя ее советам, я скрываю блестящие стороны своего таланта; если же я улучшу манеру пения, никто все равно этого не заметит. Буду дерзок по-прежнему. Разве я не видел во время моего дебюта в доме графа, что могу поразить даже тех, кого не могу убедить? Ведь признал же во мне старик Порпора гениальность – правда, находя на ней пятна! Так пусть же публика преклонится пред моей гениальностью и терпит мои пятна!»
Во втором акте он лез из кожи вон, выкидывал невероятные штуки. Его слушали с удивлением. Некоторые стали аплодировать, но их заставили умолкнуть. Большая часть публики недоумевала, не понимая, был ли тенор божественен или отвратителен.
Еще немного дерзости – и, может быть, Андзолето вышел бы победителем, но эта неудача так смутила его, что он совсем потерял голову и позорно провалил конец партии.
В третьем акте он приободрился и решил действовать по-своему, не следуя советам Консуэло: он пустил в ход самые своеобразные приемы, самые смелые музыкальные фокусы. И вдруг – о, позор! – среди гробового молчания, которым были встречены эти отчаянные попытки, послышались свистки. Добрая, великодушная публика своими аплодисментами заставила свистки умолкнуть, но трудно было не понять, что означала эта благосклонность к человеку и это порицание артисту. Вернувшись в уборную, Андзолето в бешенстве сорвал с себя костюм и разодрал его в клочья. Как только кончился спектакль, он убежал к Корилле и заперся с ней. Страшная ярость бушевала в нем, и он решил бежать со своей любовницей хоть на край света. Три дня он не виделся с Консуэло. Не то чтобы он возненавидел ее или охладел к ней: в глубине своей истерзанной души он так же нежно ее любил и смертельно страдал, не видя ее, но она внушала ему какой-то ужас. Он чувствовал над собой власть этого существа, которое своей гениальностью уничтожало его перед публикой, но вместе с тем внушало ему безграничное доверие и могло делать с ним все, что угодно. Полный смятения, он не в состоянии был скрыть от Кориллы, насколько он привязан к своей благородной невесте и как велико было ее влияние на него до сих пор. У Кориллы это вызвало чувство глубокой горечи, но она нашла в себе силы не выдать его. Выказывая Андзолето притворное сострадание, она все от него выведала и, узнав о его ревности к графу, решилась на отчаянный шаг: тихонько довести до сведения Дзустиньяни о своей связи с Андзолето. Она рассчитывала, что граф не упустит случая сообщить об этом предмету своей страсти и, таким образом, для Андзолето будет отрезан всякий путь возвращения к невесте.
Просидев целый день одна в своей убогой комнате, Консуэло сначала удивилась, а потом начала беспокоиться. Когда же и весь следующий день прошел таким же образом, в тщетном ожидании и смертельном беспокойстве, она, лишь только стало темнеть, накинула на голову плотную шаль (знаменитая певица не была теперь гарантирована от сплетен) и побежала в дом, где жил Андзолето. Уже несколько недель, как граф предоставил ему в одном из своих многочисленных домов более приличное помещение. Она его не застала и узнала, что он редко ночует дома.
Однако это не навело Консуэло на мысль об измене. Хорошо зная страсть своего жениха к поэтическому бродяжничеству, она решила, что он, не сумев привыкнуть к новому роскошному помещению, вероятно, ночует в одном из своих прежних пристанищ. Она уже решилась было отправиться на дальнейшие поиски, как у двери на улицу столкнулась лицом к лицу с Порпора.
– Консуэло, – тихо проговорил старик, – напрасно ты закрываешь от меня лицо, я слышал твой голос и, конечно, не мог не узнать его. Бедняжка, что ты тут делаешь так поздно и кого ты ищешь в этом доме?
– Я ищу своего жениха, – ответила Консуэло, беря под руку старого учителя, – и мне нечего краснеть, признаваясь в этом моему лучшему другу. Знаю, что вы не сочувствуете моей любви к нему, но я не в силах вам лгать. Я страшно беспокоюсь: я не видела Андзолето после спектакля уже целых два дня. Боюсь, не заболел ли он.
– Заболел? Он? – переспросил профессор, пожимая плечами. – Пойдем со мною, бедное дитя, нам надо поговорить. Раз ты наконец решила быть со мной откровенной, я также буду откровенен с тобой. Обопрись на мою руку, и поговорим дорогой. Выслушай меня, Консуэло, и хорошенько вникни в то, что я тебе скажу. Ты не можешь, ты не должна быть женою этого юноши. Запрещаю тебе это именем бога живого, который вложил в мое сердце отеческое чувство к тебе.
– О мой учитель, лучше попросите, чтобы я пожертвовала жизнью, чем этой любовью! – печально ответила она.
– Я не прошу, а требую этого! – решительно сказал Порпора. – Твой возлюбленный – проклят. Если ты сейчас же не откажешься от него, он будет для тебя источником мук и позора.
– Дорогой учитель, – проговорила она с грустной, кроткой улыбкой, вы ведь не раз уже говорили мне это, и я тщетно пыталась последовать вашему совету. Вы ненавидите бедного мальчика. Но вы его не знаете, и я убеждена, что когда-нибудь вы откажетесь от своего предубеждения против него.
– Консуэло, – начал профессор еще более решительным тоном, – я знаю, что до сих пор мои доводы были слабы, а возражения, быть может, и неубедительны. Я говорил с тобой как артист с артисткой и в женихе твоем видел тоже только артиста. Сейчас же я говорю с тобой как мужчина с женщиной и говорю о мужчине. Ты – женщина, любишь недостойного мужчину, и я говорю это с полным убеждением.
– Боже мой! Андзолето недостоин моей любви! Он! Мой единственный друг, мой покровитель, мой брат! Ах, вы не знаете, сколько он мне помогал, как бережно относился ко мне с самого детства! Позвольте вам все, все рассказать. – И она рассказала ему историю своей жизни и своей любви, что, в сущности, было одно и то же.
Порпора был тронут, но оставался непоколебим.
– Во всем этом, – проговорил он, – я вижу только твою невинность, твою верность, твою добродетель. Что же касается Андзолето, то я понимаю, что ему необходимо было твое общество, твои уроки; ведь, что ты там ни говори, а тем немногим, что он знает и чего стоит, он обязан именно тебе. Это так же верно, как и то, что твой целомудренный, непорочный возлюбленный близок со всеми падшими женщинами Венеции, что он утоляет зажигаемую тобой страсть в вертепах разврата и, удовлетворив ее там, является к тебе лишь для того, чтобы извлечь пользу из твоих знаний.
– Будьте осторожны в ваших словах, – задыхаясь, проговорила Консуэло.
– Я привыкла вам верить как богу, дорогой учитель, но я не хочу слушать, не хочу верить тому, что вы говорите о моем Андзолето. Пустите меня! – прибавила она, пытаясь высвободить свою руку из-под руки профессора. – Вы просто убиваете меня!
– Нет! Я хочу убить твою пагубную любовь, а тебя вернуть к жизни, открыв тебе правду! – ответил старик, прижимая руку девушки к своему возмущенному великодушному сердцу. – Я знаю, что я жесток, Консуэло, но я не умею быть иным. Вот почему я оттягивал этот удар, насколько было возможно. Я все надеялся, что глаза твои откроются и ты сама увидишь, что делается вокруг тебя. Но жизнь не научила тебя ничему, и ты, как слепая, готова броситься в пропасть. Я не допущу этого – я удержу тебя на краю пропасти. В последние десять лет ты была единственным существом, которое я любил и ценил. Ты не должна погибнуть! Нет, нет, не должна!
– Но, друг мой, мне не грозит никакая опасности! Неужели вы не верите мне, когда я клянусь вам всем святым, что не нарушила обещания, данного мною матери перед ее смертью? Андзолето тоже сдержал эту клятву. И если я еще не жена его, то, значит, и не любовница.
– Но стоит ему сказать слово, и ты будешь и тем и другим!
– Да ведь сама моя мать взяла с нас такое обещание!
– А между тем сейчас, ночью, ты шла к человеку, который не хочет и не может быть твоим мужем…
– Кто вам это сказал?
– Разве Корилла ему позволит?..
– Корилла? Что же общего между ним и Кориллой?
– Мы в двух шагах от дома этой девки… Ты ищешь своего жениха… так пойдем за ним туда. Что? Хватит у тебя на это мужества?
– Нет, нет! Тысячу раз нет! – воскликнула Консуэло, еле держась на ногах и прислоняясь к стене. – Не отнимайте у меня жизни, дорогой учитель, ведь я еще совсем не жила! Не убивайте меня! Поймите, вы меня убиваете!
– Ты должна испить эту чашу, – продолжал неумолимый старик. – Мне здесь принадлежит роль судьбы. Своей кротостью и снисходительностью я порождал только неблагодарных, а следовательно, и жалких людей. Теперь я вижу: тем, кого я люблю, я должен говорить чистую правду. Это единственная польза, которую может еще принести мое сердце, иссохшее от горя и окаменевшее от страданий. Жаль мне, мое бедное дитя, что в столь злополучный для тебя час нет подле тебя более мягкого, более нежного друга. Но такой, каким меня сделала жизнь, я должен влиять на других, и если я не могу отогреть их солнечным теплом, я должен показывать им правду при блеске молнии. Итак, Консуэло, между нами нет места слабости! Идем в этот дворец! Я хочу, чтобы ты застала Андзолето в объятиях развратной Кориллы. Если ты не в состоянии идти – я потащу тебя; если упадешь – понесу. Когда в сердце старого Порпоры пылает огонь божественного гнева, силы у него найдутся!
– Пощадите, пощадите! – вскричала бледная как полотно Консуэло. – Оставьте мне хоть сомнение… Позвольте еще день… один только день… верить в него. Я не готова к этой пытке…
– Нет! Ни одного дня, ни одного часа! – отрезал старик непреклонно. – Упустив этот час, я, быть может, уже не смогу воочию показать тебе истину, а тем днем, который ты вымаливаешь у меня, воспользуется этот негодяй, чтобы опять ослепить тебя ложью. Нет, ты пойдешь со мной! Я хочу этого, я приказываю!
– Хорошо! Я пойду! – проговорила Консуэло, чувствуя новый прилив любви и сил. – Но пойду только для того, чтобы доказать вашу несправедливость и верность моего жениха. Вы постыдно заблуждаетесь и хотите, чтоб и я заблуждалась вместе с вами! Идемте же, палач, идемте, я не боюсь вас!
Боясь, чтобы девушка не раздумала, Порпора схватил ее за руку своей жилистой, крепкой, как железные клещи, рукой и потащил в дом, где жил сам. Здесь, проведя ее по бесконечным коридорам и заставив подняться по бесконечным лестницам, он привел ее на верхнюю террасу. Отсюда, поверх крыши более низкого и совершенно необитаемого дома, был виден дворец Кориллы. Он был темен сверху донизу, светилось лишь одно окно, выходившее на мрачный, безмолвный фасад необитаемого дома. Казалось, что в это окно ниоткуда нельзя заглянуть: выступающий далеко вперед балкон мешал видеть снизу; на одном с ним уровне не было ничего, выше же – лишь крыша дома, где жил Порпора, но и с нее невозможно было заглянуть во дворец певицы. Однако Корилла не знала, что на углу этой крыши возвышался выступ, образовывавший род ниши под открытым небом. И сюда профессор по какому-то свойственному артистам капризу убегал каждый вечер от себе подобных, чтобы, спрятавшись за широкой печной трубой, любоваться звездами и обдумывать свои музыкальные творения – духовные или же предназначенные для сцены. Таким образом, случай открыл профессору тайну связи Андзолето и Кориллы; для Консуэло тоже достаточно было взглянуть по направлению, указанному Порпорой, чтобы увидеть своего возлюбленного в объятиях соперницы. Она тотчас же отвернулась. Порпора, боясь, как бы под влиянием отчаяния ей не сделалось дурно, подхватил ее под руку и – откуда только взялись силы! – почти снес ее в нижний этаж, к себе в кабинет, где поспешил закрыть дверь и окно, чтобы сохранить в тайне взрыв отчаяния, которого он ожидал.
Глава 20
Но никакого взрыва не произошло. Консуэло сидела безмолвная и убитая.
Порпора заговорил было с ней, но она сделала знак, чтобы он ни о чем ее не спрашивал. Вдруг она поднялась, подошла к клавесину, на котором стоял графин с холодной водой, и залпом, стакан за стаканом, опорожнила его. Затем, пройдясь несколько раз по комнате, не проронив ни слова, снова села напротив учителя.
Суровый старик не понял всей глубины ее страдания.
– Ну что? – сказал он. – Обманул я тебя? Что ты думаешь теперь делать?
Мучительная дрожь пробежала по ее словно окаменевшему телу, и, проведя рукой по лбу, она проговорила:
– Думаю ничего не делать, пока не пойму того, что случилось.
– А что тебе надо еще понять?
– Все, так как я ровно ничего не понимаю. Я сижу здесь у вас, силюсь найти причину своего несчастья – и не нахожу. Что дурного сделала я Андзолето, чтобы он мог разлюбить меня? Какой совершила проступок, чтобы он мог меня презирать? Вы-то, конечно, не можете ответить мне на это, раз я сама, роясь в глубине своей совести, не в состоянии отыскать ключ к этой тайне. О, это нечто непостижимое! Мать моя верила в силу любовных зелий… Уж не чародейка ли эта Корилла?
– Бедная девочка! – сказал профессор. – Правда, здесь дело не обошлось без чар, но имя им – Тщеславие. Действует тут и яд, и зовется он Завистью. Корилла могла влить в него этот яд, но не она создала его душу, способную так впитывать его. Яд уже был в порочной крови Андзолето. Лишняя капля его превратила плута в предателя, неблагодарного, каким он всегда был – в изменника.
– Какое же тщеславие? Какая зависть?
– Тщеславие его в том, чтобы всех превзойти, превзойти и тебя, а бешеная зависть – к тебе, затмившей его.
– Да может ли это быть? Может ли мужчина завидовать преимуществам женщины? Неужели мужчина, любящий женщину, способен относиться со злобой к ее успеху? Значит, есть много такого, чего я не знаю и что не в состоянии понять.
– Ты никогда и не поймешь этого, но на каждом шагу будешь встречаться с этим в жизни. Ты узнаешь, что мужчина может завидовать таланту женщины, если он тщеславный артист; узнаешь, что возлюбленный может со злобой относиться к успехам любимой женщины, если сфера их деятельности – театр. Ведь актер, Консуэло, не мужчина, он – женщина. Он живет болезненным тщеславием, думает только об удовлетворении своего тщеславия, работает, чтобы опьяняться тщеславием… Красота женщины вредит ему, ее талант затемняет, умаляет его собственный. Женщина – его соперник, или, вернее, он – соперник женщины; в нем вся мелочность, все капризы, вся требовательность, все смешные стороны кокетки. Таков характер большинства мужчин, подвизающихся на сцене. Бывают, конечно, великие исключения, но они так редки, так ценны, что пред ними надо преклоняться, им следует оказывать больше уважения, чем самым известным ученым. Андзолето не является исключением. Из всех тщеславных он наитщеславнейший: вот в чем секрет его поведения.
– Но какая непонятная месть! Какой жалкий, мелочный способ отмщения! – проговорила Консуэло. – Как может Корилла утешить его в том, что публика в нем разочаровалась? Если б только он откровенно признался мне в своих мучениях… Ведь стоило ему сказать одно слово, и я, быть может, поняла бы его, во всяком случае отнеслась бы к нему с сочувствием: стушевалась бы, лишь бы уступить ему место.
– Завистливым душам свойственно ненавидеть людей за то, что те якобы отнимают у них счастье. А в любви не то же ли самое? Разве наслаждения, доставляемые любимому существу другими, не кажутся отвратительными? Твоему возлюбленному внушает омерзение публика; венчающая тебя лаврами, тогда как тебе внушает ненависть соперница, опьяняющая его наслаждением. Разве не так?
– Вы высказали глубокую мысль, дорогой учитель, и я должна в нее вникнуть.
– Это истина! Андзолето ненавидит тебя за твой успех на сцене, а ты ненавидишь его за те наслаждения, которые ему дарит в своем будуаре Корилла.
– Нет, я не в состоянии ненавидеть его, и вы помогли мне понять, что было бы низко и постыдно ненавидеть мою соперницу. Значит, весь вопрос в том наслаждении, которым она его опьяняет и о котором я не могу думать без ужаса, – отчего, сама не знаю. Но ведь если это преступление невольное, Андзолето тогда тоже не так уж виновен, относясь с ненавистью к моему успеху.
– Ты готова все истолковать так, чтобы найти оправдание его поведению и чувствам… Нет, Андзолето не так невинен и не так достоин уважения в своем страдании, как ты. Он обманывает тебя, унижает тебя, тогда как ты стремишься его оправдать. Впрочем, я вовсе не хотел пробуждать в тебе ни ненависти к нему, ни злобы, а только спокойствие и безразличие. Поступки этого человека вытекают из его характера. Ты его никогда не переделаешь. Примирись с этим и думай о себе.
– О себе? То есть о себе одной? О себе, без надежды, без любви?
– Думай о музыке, о божественном искусстве! Неужели, Консуэло, ты посмеешь сказать, что любишь искусство только ради Андзолето?
– Я любила искусство и ради самого искусства. Но я никогда не разделяла в мыслях эти две неразделимые вещи: свою жизнь и жизнь Андзолето. И когда эта неотъемлемая половина моей жизни будет от меня отнята, я не представляю себе, как я смогу любить еще что-либо.
– Андзолето был для тебя не чем иным, как идеей, которой ты жила; ты заменишь ее другой, более возвышенной, более чистой, более живительной. Твоя душа, твоя гениальность, все твое существо не будет более во власти непрочного, обманчивого образа, ты постигнешь высокий идеал, свободный от земной оболочки, мысленно вознесешься на небо и соединишься священными брачными узами с самим богом!
– Вы хотите сказать, что я сделаюсь монахиней, как вы мне когда-то советовали?
– Нет, это значило бы ограничить твое артистическое дарование одним жанром музыки, а ты должна охватить все. Чему бы ты себя ни посвятила, где бы ты ни была, на сцене или в монастыре, везде ты сможешь быть святой, небесной девой, невестой священного идеала!
– То, что вы говорите, так возвышенно, так полно таинственных образов. Позвольте мне удалиться, дорогой учитель. Я должна сосредоточиться и понять себя.
– Совершенно верно, Консуэло, ты должна понять себя. До сих пор ты не знала себя, отдавая всю свою душу, всю свою будущность существу, во всех отношениях не стоящему тебя. Ты не понимала своего назначения, не видела, что тебе нет равных и что, следовательно, у тебя не может быть спутника в личной жизни. Тебе нужно одиночество, тебе нужна полная свобода. Я не желаю тебе ни мужа, ни любовника, ни семьи, ни страсти, ни каких бы то ни было уз. Вот как я всегда представлял себе твое существование, вот как я понимал твой жизненный путь. В тот день, когда ты отдашься смертному, ты утратишь свою божественность. Ах, если бы Минготти и Мольтени, мои знаменитые ученицы, мои великие создания, послушались меня, они не имели бы соперниц на земле! Но женщина слаба и любопытна: тщеславие ослепляет ее, суетные желания волнуют, причуды увлекают… Спрашивается, что дало им удовлетворение своих порывов? Бури, усталость, гибель или извращение их гениальности! Разве ты не хочешь превзойти их, Консуэло? Разве у тебя нет честолюбия, парящего выше всех суетных благ земных? Неужели ты не захочешь заглушить в себе голос сердца, чтобы стяжать прекраснейший венец, каким когда-либо был увенчан гений?
Долго еще говорил Порпора с энергией и красноречием, которых мне не передать. Консуэло слушала его, опустив голову и устремив глаза в землю. Когда, высказав все, он умолк, она проговорила:
– Учитель, вы великий человек, но я слишком ничтожна, чтобы понять вас. Мне кажется, что вы оскорбляете человеческую природу, осуждая самые благородные страсти ее. Мне кажется, что вы хотите подавить инстинкты, вложенные в нас самим богом, и как бы обожествляете чудовищный противоестественный эгоизм. Быть может, я поняла бы вас лучше, будь я более доброй христианкой; постараюсь ею сделаться – вот все, что я могу вам обещать.
Она поднялась, чтобы уйти, спокойная на вид, но с истерзанной душой. Великий и такой суровый артист пошел проводить ее до дому. Дорогой он продолжал развивать свои мысли, но убедить ее не мог. Все же после разговора с ним ей стало немножко легче, ибо он открыл ей широкое поле для глубоких и серьезных размышлений. На фоне их преступление Андзолето тускнело, как частность, послужившая мучительным, но торжественным началом бесконечных дум. Много часов провела она в молитве, слезах и размышлениях. И наконец заснула, убежденная в своей невиновности, надеясь на волю божию и его милосердие.
На следующий день Порпора зашел к ней сказать, что назначена репетиция «Гипермнестры» для Стефанини, который будет петь вместо Андзолето. Сам же Андзолето болен – лежит в постели и жалуется на потерю голоса. Первым побуждением Консуэло было бежать к нему, чтобы за ним ухаживать. – Избавь себя от этого труда, – остановил ее профессор, – Андзолето прекрасно себя чувствует; это мнение театрального врача. Вот увидишь, вечером он отправится к Корилле. Но граф Дзустиньяни, отлично понимая, что все это значит, и ничего не имея против того, чтобы молодой тенор прекратил свои дебюты, запретил доктору выводить его на чистую воду и попросил добряка Стефанини ненадолго вернуться на сцену.
– Боже мой! Что же задумал Андзолето? Неужели он так пал духом, что собирается бросить сцену?
– Да, сцену театра Сан-Самуэле. Через месяц он едет с Кориллой во Францию. Тебя это удивляет? Он бежит от тени, которую на него бросает твой успех; вручает свою судьбу в руки женщины, менее опасной, которой, конечно, он изменит, как только перестанет ней нуждаться.
Консуэло побледнела и прижала руки к сердцу, готовому разорваться. Быть может, в ней жила еще надежда вернуть его, быть может, она собиралась, кротко пожурив его, сказать ему, что лучше сама уйдет со сцены. Весть эта была для нее ударом кинжала; мысль, что она больше не увидит того, кого так любила, не могла уложиться в ее голове.
– Это какой-то страшный сон! – вскричала она. – Мне надо пойти к нему, пусть он объяснит мне, что значит весь этот бред. Он не может уехать с этой женщиной, – это было бы для него гибелью. Я не могу допустить этого! Я удержу его! Я объясню ему, в чем его истинные интересы, если правда, что никакие другие доводы на него уже не действуют… Пойдемте со мной, дорогой учитель! Нельзя же бросить его так…
– Я сам брошу тебя, и брошу навсегда, – закричал в негодовании Порпора, – если ты допустишь подобное малодушие! Умолять этого негодяя! Отвоевывать его у какой-то Кориллы! О святая Цецилия, берегись своего цыганского происхождения и старайся побороть в себе безрассудные бродяжьи инстинкты! Идем, тебя ждут на репетиции. А сегодня вечером ты насладишься пением с таким мастером своего дела, как Стефанини. Ты увидишь артиста просвещенного, скромного и великодушного.
Порпора потащил ее в театр, и здесь впервые Консуэло поняла весь ужас жизни артиста – эту зависимость от публики, вечную необходимость заглушать в себе собственные чувства, подавлять собственные волнения для того, чтобы постоянно изображать чужие чувства и вызывать эмоции в других. Эта репетиция, затем туалет и самое представление были для нее настоящей пыткой. Андзолето не появлялся. Через день ей пришлось выступить в комической опере Галуппи «Арчифанфано, король сумасшедших». Вещь эту ставили ради Стефанини, который превосходно исполнял в ней комическую роль. Консуэло вынуждена была смешить тех, у кого раньше вызывала слезы. Затаив в груди смертельную тоску, она все-таки умудрилась быть блестящей, обворожительной и даже забавной. Два-три раза рыдания начинали душить ее, но они превращались в нервный смех. Он был бы страшен, этот смех, если бы люди поняли его. Вернувшись в свою уборную, она упала в истерике. Публика громко требовала ее, желая устроить ей овацию. Так как она все не выходила, поднялся страшный гам, зрители порывались ломать скамейки, перелезать через рампу… Стефанини пришел за ней и, полуодетую, растрепанную, бледную как смерть, потащил на сцену, где ее буквально засыпали цветами. Кто-то бросил к ее ногам лавровый венок, и она вынуждена была нагнуться, чтобы его поднять.
– Дикие звери, – шептала она, возвращаясь за кулисы.
– Красавица моя, – сказал ей старый певец, поддерживая ее под руку, – ты совсем больна. Но эти пустяки, – прибавил он, передавая ей целый сноп цветов, подобранных для нее, – чудодейственное средство от всех недугов. Подожди, свыкнешься, и придет время, когда ты будешь чувствовать нездоровье и усталость только в те дни, когда тебя забудут увенчать лаврами. «До чего они пусты и ничтожны! – подумала бедная Консуэло.
Вернувшись в свою уборную, она упала без чувств на ложе из цветов, подобранных на сцене и как попало брошенных на диван. Камеристка побежала за доктором. Граф Дзустиньяни на несколько минут остался наедине с прекрасной певицей, бледной и растерзанной, как жасмин, в котором она утопала. Взволнованный и опьяненный страстью, Дзустиньяни совсем потерял голову и в безумном порыве бросился целовать ее, думая своими ласками привести ее в чувство. Но первый же его поцелуй в губы пробудил отвращение в непорочной Консуэло. Придя в себя, она оттолкнула его, словно ужалившую ее змею.
– Прочь! – крикнула она, точно в бреду. – Прочь любовь, ласки, сладкие речи!.. Мне не надо ни любви, ни мужа, ни семьи, ни любовника. Учитель мой прав: свобода, одиночество, высокий идеал, слава!..
И тут она разразилась такими душераздирающими рыданиями, что перепуганный граф бросился на колени и стал ее успокаивать. Но он не мог найти слов утешения для этой истерзанной души, а его бушующая страсть, дошедшая в эту минуту до предела, помимо его воли рвалась наружу. Ему слишком хорошо было известно отчаяние обманутой любви. Он стал говорить ей о своих чувствах с воодушевлением человека, не потерявшего еще надежды на взаимность. Консуэло как будто слушала его: растерянно улыбаясь, она машинально высвободила из его руки свою, и в этой улыбке графу почудился проблеск надежды. Есть мужчины тактичные, совсем не глупые в обществе, но бестактные в любовных делах. Явился доктор и прописал входившие тогда в моду успокоительные капли. Затем Консуэло закутали в мантилью и отнесли в гондолу. Граф тоже вошел туда вместе с ней, поддерживая ее и продолжая нашептывать ей слова любви, казавшиеся ему такими красноречивыми и убедительными, что он не переставал надеяться на успех. Так прошло с четверть часа; видя, что Консуэло никак не откликается на все его излияния, граф стал молить ее ответить ему хоть слово, подарить ему хоть взгляд.
– На что же мне отвечать? – проговорила Консуэло, как бы очнувшись от сна. – Я ничего не слышала.
Дзустиньяни сначала растерялся, но вскоре у него мелькнула мысль, что все-таки не надо упускать удобного случая: ему казалось, что сейчас, когда Консуэло в таком подавленном состоянии духа, от нее можно добиться большего, чем когда она будет владеть собой и своими мыслями. Снова заговорил он о своей любви, и снова ответом на его слова было то же молчание, та же рассеянность; только когда он пытался обнять и поцеловать ее, она неизменно отталкивала его, но это делалось инстинктивно, – для гнева у нее не было сил. Когда гондола причалила, Дзустиньяни попытался еще на минуту удержать Консуэло, все надеясь добиться от нее хоть одного обнадеживающего слова.
– Простите, господин граф, – наконец проговорила она кротко, но равнодушно. – У меня ужасная слабость; я плохо вас слушала, но поняла все. Да, я прекрасно вас поняла. Дайте мне ночь на размышление, дайте мне прийти в себя! А завтра, да… завтра я вам отвечу откровенно.
– Завтра! Консуэло, дорогая! Ах, это целая вечность! Но я готов покориться, если вы позволите мне надеяться, что по крайней мере ваша дружба…
– О да! да! Вы можете надеяться, – странным тоном ответила Консуэло, выходя на берег. – Но не идите за мной, – прибавила она, повелительным жестом указывая ему на гондолу, – иначе вам не на что будет надеяться. Стыд и негодование вернули ей силы, но то был нервный, лихорадочный подъем, вылившийся, когда она стала подниматься по лестнице, в ужаснейший, язвительный смех.
– Вы очень веселы, Консуэло! – послышался в темноте голос, при звуке которого она едва не лишилась сознания. – Поздравляю вас с таким веселым расположением духа!
– О да! – воскликнула она, с силой схватив Андзолето за руку и быстро поднимаясь с ним к себе в комнату. – Благодарю тебя, Андзолето, ты прав, поздравляя меня: я действительно весела, да, да, бесконечно весела! Андзолето, ожидая ее, уже успел зажечь лампу; и когда голубоватый свет упал на их измученные лица, они испугались друг друга.
– Мы очень счастливы, не правда ли, Андзолето? – резко сказала она, горько усмехнувшись, и слезы так и потекли у нее из глаз. – Скажи, что ты думаешь о нашем счастье?
– Я думаю, Консуэло, – ответил он с горестной усмешкой, хотя глаза его при этом оставались сухи, – что нам было не особенно легко на него согласиться, но что в конце концов мы с ним свыкнемся.
– Мне кажется, ты прекрасно свыкся с будуаром Кориллы.
– А ты, я нахожу, совершенно освоилась с гондолой господина графа.
– Господина графа? Тебе, значит, было известно, Андзолето, что господин граф хочет сделать меня своей любовницей?
– И чтобы не мешать тебе, моя милая, я скромно удалился.
– Ах, ты знал это? И выбрал этот момент, чтоб меня бросить?
– Разве я нехорошо поступил? Разве ты недовольна своей судьбой? Граф – великолепный любовник! Куда же было соперничать с ним несчастному, провалившемуся дебютанту!
– Порпора был прав: вы низкий человек! Уйдите отсюда! Вы не стоите, чтобы я перед вами оправдывалась, и, мне кажется, я была бы осквернена вашим сожалением. Слышите? Уходите! Но, уходя, знайте, что вы можете дебютировать в Венеции и даже вернуться с Кориллой в Сан-Самуэле: никогда дочь моей матери не появится больше в этом гнусном балагане, величаемом театром!..
– Значит, дочь вашей матери, цыганки, будет изображать знатную даму на вилле Дзустиньяни, на берегу Бренты? Что ж, это блестящее существование, и я очень рад за вас!
– О, моя дорогая матушка! – воскликнула Консуэло, бросаясь на колени около своей кровати и пряча лицо в одеяло, в свое время служившее смертным покрывалом цыганке.
Андзолето был испуган и потрясен отчаянием Консуэло, ужасными рыданиями, разрывавшими ей грудь. Угрызения совести внезапно проснулись в нем с бурной неудержимостью, и он бросился к своей подруге, чтобы обнять ее и поднять с пола; но тут она сама вскочила на ноги и, отбросив его от себя с несвойственной ей силой, вытолкала за дверь, крича ему вслед:
– Прочь отсюда! Прочь из моего сердца! Прочь из моей памяти! Прощай!
Прощай навсегда!
Андзолето пришел к ней с жестокими и эгоистическими намерениями. Это было лучшее, что он мог придумать. Не чувствуя в себе сил расстаться с Консуэло, он нашел способ все примирить: рассказать ей об опасности, угрожающей со стороны влюбленного Дзустиньяни, и тем самым вынудить ее покинуть театр. Его план, конечно, воздавал должное чистоте и гордости Консуэло. Жених ее прекрасно знал, что она не способна ни на какие компромиссы, не способна пользоваться покровительством, из-за которого могла бы краснеть. В его преступной и порочной душе все-таки жила непоколебимая уверенность в невинности Консуэло; он знал, что найдет ее такой же целомудренной, верной и преданной, какою оставил несколько дней тому назад. Но как совместить это преклонение перед нею, желание оставаться ее женихом и другом с твердым намерением продолжать свою связь с Кориллой? Дело в том, что он хотел вместе с любовницей вернуться на сцену. И, конечно, в такой момент, когда его успех всецело был в руках Кориллы, не могло быть и речи о том, чтобы расстаться с нею. Этот дерзкий и подлый план окончательно созрел в его голове, а к Консуэло он относился так, как итальянские женщины относятся к мадоннам: в часы раскаяния они молят их о прощении, а когда грешат, завешивают их лик занавеской.
Когда он увидел ее в комической роли на сцене, такою блестящей и на вид такой веселой, в душу его закрался страх, что он потерял слишком много времени на обдумывание своего плана. Увидев, что она вошла в гондолу графа, а потом услышав ее смех и не почувствовав в нем всего отчаяния измученной души, он решил, что опоздал, – и в нем закипела страшная досада. Но когда она, возмущенная его оскорблениями, с презрением выгнала его, он снова почувствовал к ней уважение и даже страх. Долго бродил он по лестнице и по берегу, все ожидая, что она его позовет. Он отважился даже постучаться к ней и, стоя за дверью, молить о прощении; но гробовое молчание царило в комнате, куда ему уже никогда не суждено было войти вместе с Консуэло. Смущенный и удрученный, ушел он к себе, намереваясь на следующий день вернуться снова и добиться большего успеха.
«Во всяком случае, – говорил он себе, – план мой будет осуществлен: она знает о любви графа, дело наполовину сделано».
Сильно утомившись, Андзолето долго спал на следующее утро, а после полудня отправился к Корилле.
– Потрясающая новость! – воскликнула она, раскрывая ему объятия. Консуэло уехала!
– Уехала? С кем? Куда?
– В Вену, куда ее отправил Порпора и куда сам он собирается ехать за ней следом. Всех нас провела эта хитрая девчонка: она была приглашена на императорскую сцену, где Порпора ставит свою новую оперу.
– Уехала! Уехала, не сказав мне ни слова! – закричал Андзолето, бросаясь к двери.
– О! Теперь тебе уже не найти ее в Венеции! – злобно смеясь и торжествующе глядя на него, проговорила Корилла. – С рассветом она села на корабль и отправилась в Пеллестрину. Сейчас она уже далеко. Дзустиньяни, которого она провела (он воображал, что пользуется у нее успехом), просто в бешенстве, захворал даже. Только что по его поручению был у меня Порпора, он просил меня петь сегодня вечером. Стефанини, которого театр страшно утомил и который жаждет отдохнуть, наконец, в своей вилле, мечтает, чтобы ты возобновил свои дебюты. Итак, знай: завтра тебе предстоит снова выступить в «Гипермнестре». Сейчас я иду на репетицию, меня ждут. Если ты мне не веришь, пойди прогуляйся по городу – сам убедишься в истине моих слов. – О фурия! Ты победила! – вскричал Андзолето. – Но ты убиваешь меня!
И он упал без чувств на персидский ковер куртизанки.
Глава 21
В самом неловком положении после бегства Консуэло очутился граф Дзустиньяни. Дав повод думать и говорить всей Венеции, будто дебютировавшая дива – его любовница, как мог он без ущерба для своего самолюбия объяснить ее молниеносное, таинственное исчезновение теперь – едва он признался ей в любви? Правда, некоторым приходило в голову, что граф, ревнуя свое сокровище, запрятал певицу в одной из своих загородных вилл. Но когда Порпора со свойственной ему суровой правдивостью рассказал, что его ученица в Германии и ждет там его приезда, оставалось только ломать себе голову над причинами такого странного поступка. Граф, чтобы обмануть окружающих, делал вид, будто нисколько не удивлен и не задет, но огорчение, помимо его воли, прорывалось наружу, и всем стало ясно, что успех у Консуэло, с которым его поздравляли, никогда не существовал. Вскоре большая часть истины выплыла наружу: узнали и об измене Андзолето, и о соперничестве Кориллы, и об отчаянии бедной испанки, которую все принялись горячо и искренне жалеть.
Первым побуждением Андзолето было бежать к Порпоре, но старик сурово оттолкнул его.
– Перестань меня допытывать, тщеславный юноша, бессердечный и неверный, – ответил ему с негодованием профессор, – ты никогда не стоил любви этой благороднейшей девушки и никогда не узнаешь от меня, что с ней сталось. Я приложу все усилия, чтобы скрыть от тебя ее след; если же когда-нибудь вы случайно встретитесь – надеюсь, что образ твой настолько изгладится из ее сердца и памяти, насколько я этого хочу и добиваюсь.
От Порпоры Андзолето отправился на Корте-Минелли. Комната Консуэло была уже сдана новому жильцу и вся заставлена принадлежностями его производства. Это был рабочий, изготовлявший мелкие изделия из стекла. Он давно жил в этом доме и теперь весело перетаскивал сюда свою мастерскую. – А, это ты, сынок! – обратился он к юному тенору. – Верно, зашел навестить меня в новом помещении? Славно тут у меня будет, и жена рада-радешенька, что теперь сможет разместить внизу детвору. Ты что смотришь? Уж не забыла ли чего Консуэлина? Ищи, милый, смотри хорошенько! Я за это в обиде не буду.
– А куда же дели ее мебель? – спросил Андзолето. У него защемило сердце, когда он увидел, что в этом месте, связанном с самыми лучшими, самыми чистыми радостями его прошлой жизни, не осталось от Консуэло никакого следа.
– Мебель внизу, во дворе. Она подарила ее старухе Агате. И хорошо сделала: старуха бедна и хоть немножко выручит за это. Да, Консуэло всегда была добрая. Она не только никому не осталась должна, но, уезжая, еще всех понемногу одарила. Только одно распятие и взяла с собой. Но все-таки как-то странно она уехала: среди ночи, никого не предупредив. Едва рассвело, явился господин Порпора, распорядился всем, словно по духовному завещанию. Все соседи жалели о ней и только утешались тем, что теперь она, должно быть, будет жить в каком-нибудь дворце на Большом канале, – ведь она стала богатой, важной синьорой. Я всегда говорил, что она со своим голосом далеко пойдет. А уж сколько она работала! Когда же свадьба, Андзолето? Надеюсь, ты меня не обойдешь – возьмешь у меня побольше безделушек, чтоб одарить девушек нашего квартала?
– Конечно, конечно, – пробормотал, растерявшись, Андзолето.
Со смертельной тоской в душе выскочил он во двор, где в это время местные кумушки продавали с аукциона кровать и стол Консуэло, – кровать, на которой столько раз он видел ее спящей, стол, за которым она всегда работала…
– Боже мой! От нее уже ничего не осталось, – невольно вырвалось у него, и он убежал, ломая руки.
В эту минуту он готов был заколоть Кориллу.
Через три дня они с Кориллой появились на сцене, и оба были жестоко освистаны. Пришлось даже, не окончив представления, опустить занавес. Андзолето был вне себя от бешенства, Корилла – невозмутима.
– Вот до чего довело меня твое покровительство! – сказал он ей угрожающе, когда они остались одни.
– Не много же надо, чтобы огорчить тебя, бедный мальчик, – с удивительным спокойствием ответила ему примадонна, – видно, что ты совсем не знаешь публику и никогда не подвергался ее капризам. Я до того была уверена в провале, что даже не потрудилась повторить роль; тебя же не предупредила о грозящих последствиях, так как не знала, хватит ли у тебя храбрости выйти на сцену, заранее ожидая, что тебя освищут. А теперь тебе надо знать, что нас ожидает впереди: в следующий раз к нам отнесутся еще хуже; быть может, три, четыре, шесть, восемь представлений пройдут таким образом.
Но среди этих бурь выкуется партия в нашу пользу. Будь мы самыми захудалыми актеришками на свете, дух противоречия и независимости все равно создал бы нам рьяных сторонников. Есть много людей, воображающих, что они станут важнее, оскорбляя других; но немало и таких, которые считают, что покровительствуя другим, они этим возвышают себя. После десятка представлений, когда театральный зал будет являть собою поле битвы свистков и аплодисментов, строптивые выбьются из сил, упрямцы надуются, и мы с тобой вступим в новую эру. Та часть публики, которая нас поддерживала, сама не зная хорошенько почему, будет слушать нас довольно холодно. Это явится как бы нашим новым дебютом. И вот тут-то нам с тобой нужно увлечь, покорить слушателей! В этот момент я предсказываю тебе большой успех, дорогой Андзолето: чары, тяготевшие над тобой, успеют рассеяться, ты попадешь в атмосферу одобрения и нежных похвал, и это вдохнет в тебя прежние силы. Вспомни впечатление, которое ты произвел, когда в первый раз пел у Дзустиньяни. Ты не успел тогда закрепить свою победу: более блестящая звезда затмила тебя; но эта звезда скрылась за горизонтом, и теперь готовься подняться со мной в эмпирей!
Все случилось так, как предсказала Корилла. Действительно, в течение нескольких дней обоим любовникам пришлось дорого расплачиваться за потерю, понесенную публикой в лице Консуэло. Но их дерзкое упорство перед бурей истощило гнев публики, слишком яростный, чтобы быть долговечным. Дзустиньяни поддерживал Кориллу. С Андзолето дело обстояло несколько иначе. После многократных безуспешных попыток пригласить в Венецию нового тенора, – театральный сезон в это время почти кончался и ангажементы со всеми театрами Европы были уже заключены, – графу пришлось оставить юношу в качестве борца в этом состязании между его театром и публикой. Репутация театра была слишком блестяща, чтобы можно было потерять ее из-за того или другого артиста; такие пустяки не могли сокрушить освященных временем привычек.
Все ложи были абонированы на сезон. В них дамы, так же как всегда, принимали гостей и так же, по обыкновению, болтали. Истинные любители музыки некоторое время дулись, но их было слишком мало, чтобы это могло быть заметно. Да наконец и любителям надоело злобствовать. И в один прекрасный вечер Корилла, исполнившая с огнем свою арию, была единодушно вызвана слушателями. Она появилась, таща за собой Андзолето, которого вовсе не вызывали. Он, казалось, скромно и боязливо уступал милому насилию. Тут и на его долю выпали аплодисменты. А на следующий день вызвали его самого. Одним словом, не прошло и месяца, как Консуэло, блеснувшая подобно молнии на летнем небе, была забыта. Корилла производила фурор по-прежнему, но заслуживала его, пожалуй, больше прежнего: соперничество придало ей огня, а любовь – чувства. Андзолето же хотя и не избавился от своих недостатков, зато научился проявлять свои бесспорные достоинства. К недостаткам привыкли, достоинствами восхищались. Его очаровательная наружность пленяла женщин, он стал самым желанным гостем в салонах, а ревность Кориллы придавала ухаживаниям за ним еще большую остроту. Клоринда также проявляла на сцене свои способности, то есть тяжеловесную красоту и непомерно глупую, распущенную чувственность, представляющую интерес для известного сорта зрителей. Дзустиньяни, чтобы забыться, – огорчение его было довольно серьезно, – сделал Клоринду своей любовницей, осыпал ее бриллиантами, выпускал на первые роли, надеясь заменить ею Кориллу, которая на следующий сезон была приглашена в Париж.
Корилла относилась без всякой злобы к этой сопернице, не представлявшей для нее ни в настоящем, ни в будущем никакой опасности. Ей даже доставляло удовольствие выдвигать эту холодную, наглую, ни перед чем не останавливавшуюся бездарность. Эти два существа, живя в полном согласии, держали в своих руках всю администрацию. Они не допускали в репертуар серьезных вещей; мстили Порпоре, не принимая его опер и ставя блестящим образом оперы самых недостойных его соперников. С необыкновенным единодушием вредили они тем, кто им не нравился, и всячески покровительствовали тем, кто перед ними пресмыкался. Благодаря им в этот сезон в Венеции восхищались совершенно ничтожными произведениями, забыв настоящие, великие творения искусства, царившие здесь раньше.
Андзолето среди своих успехов и благополучия, – граф заключил с ним контракт на довольно выгодных условиях, – чувствовал глубокое отвращение ко всему и изнемогал под гнетом своего плачевного счастья. Он возбуждал жалость, когда нехотя тащился на репетицию, ведя под руку торжествующую Кориллу, – по-прежнему божественно красивый, но бледный, утомленный, со скучающим и самодовольным видом человека, принимающего поклонение, но разбитого, раздавленного под тяжестью так легко сорванных им лавров и мирт. Даже на сцене, играя со своей пылкой любовницей, он своими красивыми позами и дерзкой томностью всячески выказывал равнодушие к ней.
Когда она пожирала его глазами, он всем своим видом словно говорил публике: «Не думайте, что я отвечаю на ее любовь. Напротив, тот, кто меня избавит от нее, окажет мне большую услугу».
Дело в том, что Андзолето, избалованный и развращенный Кориллой, обращал теперь против нее самой эгоизм и неблагодарность, с какими она приучила его относиться ко всем остальным людям. В душе его, несмотря на все пороки, жило одно чистое, настоящее чувство – неискоренимая любовь к Консуэло. Благодаря врожденному легкомыслию он мог отвлекаться, забываться, но излечиться от этой любви не мог, и среди самого низменного распутства любовь эта являлась для него укором и пыткой. Он изменял Корилле направо и налево: сегодня – с Клориндой, чтобы тайком отомстить графу, завтра с какой-нибудь известной светской красавицей, а там с самой неопрятной из статисток. Ему ничего не стоило из таинственного будуара светской дамы перенестись на безумную оргию и от яростных сцен Кориллы – на веселый, разгульный пир. Казалось, он хочет заглушить этим всякое воспоминание о прошлом. Но среди его безумств и разврата всюду по пятам следовал за ним призрак, и когда по ночам ему случалось со своими шумными собутыльниками проплывать в гондоле мимо темных лачуг Корте-Минелли, он никогда не мог удержаться от рыданий.
Корилла, долго сносившая оскорбительное обращение Андзолето и, как вообще все низкие души, склонная любить именно за презрение к себе и обиды, под конец стала тяготиться этой пагубной страстью. Она все льстила себя надеждой, что поработит, приручит это непокорное существо, и с ожесточением трудилась над этим, принося все в жертву; но, убедившись, что ей никогда этого не добиться, возненавидела его и стала стремиться отомстить ему собственными похождениями. Однажды ночью, когда Андзолето с Клориндой блуждали в гондоле по Венеции, он заметил другую быстро несущуюся гондолу; потушенный фонарь указывал на то, что на ней происходит тайное любовное свидание. Он не обратил на это внимания, но Клоринда, которая, боясь быть узнанной, всегда была настороже, шепнула ему:
– Вели грести медленно; это гондола графа, я узнала гондольера.
– В таком случае ее надо догнать: мне хочется узнать, какой изменой граф платит сегодня за твою.
– Нет! Нет! Повернем назад! – настаивала Клоринда. – У него такое зоркое зрение и такой тонкий слух! Не будем ему мешать.
– Эй, налегай на весла! – крикнул Андзолето своему гондольеру. – Я хочу догнать вон ту гондолу, впереди.
Несмотря на ужас и мольбы Клоринды, приказ этот был мгновенно выполнен. Обе гондолы почти коснулись друг друга. И в эту минуту до ушей Андзолето донесся плохо сдерживаемый смех.
– Прекрасно! – сказал он. – Справедливость торжествует! Это Корилла наслаждается вечерней прохладой с господином графом!
С этими словами Андзолето вскочил на нос своей гондолы и, выхватив из рук гондольера весло, стал усиленно грести. В мгновение ока он догнал графскую гондолу и задел ее. Тут, потому ли, что среди взрывов смеха Кориллы он услышал свое имя, или на него нашло безумие, только он громко произнес:
– Дорогая Клоринда, ты, бесспорно, самая красивая, самая обожаемая женщина в мире.
– Я только что это самое говорил Корилле, – произнес граф, показываясь из-под навеса своей гондолы и чрезвычайно непринужденно приближаясь к соседней. – А теперь, когда наши прогулки окончены, мы, как честные люди, владеющие равноценными сокровищами, можем произвести обмен.
– Господин граф воздает должное моей честности, – в том же тоне ответил Андзолето. – Если его сиятельству будет угодно, я предложу ему руку, чтобы он мог, перейдя сюда, взять свое добро там, где он его нашел. Неизвестно, с каким намерением – быть может, желая выказать свое презрение и поиздеваться над Андзолето и их общими любовницами, – граф протянул было руку, чтобы опереться на руку юноши, но молодой тенор, взбешенный, дрожа от ненависти, с размаху прыгнул в гондолу графа и с диким возгласом: «Женщина за женщину, гондола за гондолу, господин граф! – мгновенно опрокинул ее.
Бросив затем свои жертвы на произвол судьбы и предоставив ошеломленной Клоринде распутывать последствия этого приключения, Андзолето добрался вплавь до противоположного берега и со всех ног пустился бежать по темным извилистым уличкам к себе домой. Здесь, моментально переодевшись и забрав с собой все имевшиеся у него деньги, он выбежал из дому и бросился в первый попавшийся, готовый к отплытию баркас. Несясь на нем к Триесту, глядя, как в предрассветной мгле постепенно исчезают купола и колокольни Венеции, Андзолето даже прищелкнул пальцами, до того он был упоен одержанной победой.
Глава 22
Среди западных отрогов Карпатских гор, отделяющих Чехию от Баварии и носящих в этих местах название Bohemer-Wald (Богемский Лес), еще возвышался лет сто тому назад старый, очень обширный замок, называвшийся, не знаю в силу какого предания, замком Исполинов. Хотя он издали и походил на старинную крепость, но теперь представлял собою лишь барскую усадьбу, отделанную внутри в стиле Людовика XIV, уже тогда устаревшем, но все же пышном и благородном. Феодальная архитектура тоже подверглась весьма удачным переделкам в тех частях здания, где обитали графы Рудольштадты, владельцы этого богатого поместья.
Эта семья, богемская по происхождению, онемечила свою фамилию, отрекшись от Реформации в самую трагическую минуту Тридцатилетней войны. Их доблестный и благородный предок, непоколебимый протестант, был зверски убит бандами солдат-фанатиков на горе, недалеко от замка. Его вдова, родом саксонка, спасла жизнь и состояние своих малых детей, перейдя в католичество и поручив воспитание наследников Рудольштадта иезуитам. Через два поколения, когда над безгласной и угнетенной Богемией окончательно утвердилось австрийское иго, а слава и бедствия Реформации, казалось, были забыты, графы Рудольштадты продолжали жить в своем поместье, как благочестивые христиане и верные католики, богато, но просто, как добрые аристократы и преданные слуги Марии-Терезии. В былое время они выказали немало доблести и отваги на службе у императора Карла VI. И потому всех удивляло, что последний представитель этого знатного и доблестного рода, молодой Альберт, единственный сын графа Христиана Рудольштадта, не принял участия в только что закончившейся войне за престолонаследие и достиг тридцатилетнего возраста, не познав и не ища иной чести и славы, кроме той, какою обладал по рождению и состоянию. Такое странное поведение возбудило подозрение императрицы: а не является ли он единомышленником ее врагов? Но когда граф Христиан удостоился чести принять императрицу в своем замке, он сумел дать ей по поводу поведения сына объяснения, по-видимому, вполне ее удовлетворившие. Содержание беседы Марии-Терезии с графом Рудольштадтом осталось скрытым для всех. Какая-то странная тайна окутывала очаг этой набожной и щедрой на благотворительность семьи, которую почти никто из соседей не посещал уже лет десять; никакие дела, никакие развлечения, никакие политические волнения не могли вынудить Рудольштадтов выехать из своего поместья. Они платили щедро и безропотно все военные налоги, не проявляя никакого волнения по поводу опасностей и бедствий, угрожавших стране в целом, и, казалось, жили какой-то своей жизнью, отличной от жизни прочих аристократов, что вызывало недоверие к ним, хотя их деятельность проявлялась лишь в добрых и благородных поступках. Не зная, чем объяснить эту безрадостную, обособленную жизнь графов Рудольштадтов, их обвиняли то в мизантропии, то в скупости. Но так как поведение их опровергало на каждом шагу и то и другое, то оставалось лишь упрекать их в равнодушии и нерадивости. Говорили, будто граф Христиан не пожелал подвергать опасности жизнь своего единственного сына и последнего представителя рода в этих гибельных войнах, а императрица согласилась принять взамен его военной службы денежную сумму, достаточную, чтобы снарядить целый гусарский полк. Аристократические дамы, имевшие дочерей-невест, говорили, что граф поступил очень хорошо; когда же они узнали, что граф Христиан собирается, по-видимому, женить сына на дочери своего брата, барона Фридриха, и что юная баронесса Амелия уже вышла из монастыря в Праге, где воспитывалась, и будет жить отныне в замке Исполинов, около своего двоюродного брата, – эти дамы в один голос заявили, что замок Рудольштадт – это волчья берлога, а обитатели его необщительны и дики, один хуже другого. Лишь несколько неподкупных слуг и преданных друзей знали семейную тайну и свято хранили ее.
Однажды вечером эта почтенная семья сидела за столом, обильно уставленным дичью и теми сытными блюдами, которыми в то время еще питались наши предки в славянских землях, хотя изысканность двора Людовика XV уже изменила привычки большей части европейской аристократии. Громадный камин, где пылали целые дубы, распространял тепло в огромном мрачном зале. Граф Христиан только что прочитал громким голосом молитву, которую остальные члены семьи выслушали стоя. Многочисленные слуги – все пожилые, степенные, с длинными усами, в национальных костюмах, в широких шароварах мамлюков, – неторопливо служили своим высокочтимым господам. Капеллан замка занял место по правую руку графа, а его племянница, юная баронесса Амелия, по левую – со стороны сердца, как любил говорить граф с видом отеческим и суровым. Барон Фридрих, его младший брат, которого он всегда называл своим «молодым» братом (ему было всего шестьдесят лет), сел напротив. Канонисса Венцеслава Рудольштадт, его старшая сестра, почтенная семидесятилетняя особа, необычайно худая и с огромным горбом, уселась на одном конце стола, а граф Альберт, сын графа Христиана и жених Амелии, бледный, рассеянный и угрюмый, поместился на другом, напротив своей достойной тетки.
Из всех этих молчаливых людей Альберт, конечно, меньше всех хотел и мог внести оживление в трапезу. Капеллан был так предан своим хозяевам и так почитал главу семьи, что говорил лишь тогда, когда видел по глазам графа, что тот желает этого. Граф же был человек такого спокойного, сосредоточенного склада, что почти никогда не искал у других отвлечения от собственных мыслей.
Барон Фридрих был человек менее глубокого ума, но более живой и деятельный. Такой же кроткий и доброжелательный, как и старший брат, он не обладал его способностями, и в нем было меньше внутреннего энтузиазма. Его религиозность была лишь делом привычки и приличия. Единственной его страстью была охота; он проводил на ней целые дни и возвращался вечером отнюдь не усталый – организм у него был поистине железный, – но весь красный, запыхавшийся, голодный. Он ел за десятерых, а пил за тридцать человек. За десертом он обыкновенно оживлялся, и тут начинались его бесконечные рассказы о том, как его собака Сапфир затравила зайца, как другая собака, Пантера, выследила волка, как взвился в воздух его сокол Аттила. Его выслушивали с терпеливым добродушием, после чего барон, сидя у камина в большом кресле, обитом черной кожей, незаметно засыпал и спал так до тех пор, пока дочь не будила его, говоря, что пора ложиться в постель.
Самой разговорчивой из всей семьи была канонисса. Ее можно было назвать даже болтливой: ведь по крайней мере два раза в неделю она по четверти часа обсуждала с капелланом генеалогию богемских, саксонских и венгерских фамилий. Она знала как свои пять пальцев все родословные, начиная от короля и кончая самым захудалым дворянином.
Что же касается графа Альберта, то в его наружности было что-то пугающее и торжественное. Казалось, в каждом жесте его чувствовалось некое предзнаменование, в каждом слове слышался приговор. Почему-то (понять это, очевидно, мог только посвященный в семейную тайну) стоило Альберту открыть рот, – что, надо сказать, случалось далеко не каждый день, – как и родные и слуги с глубоким страхом и нежной, мучительной тревогой поворачивались в его сторону, – все, за исключением юной Амелии, относившейся большей частью с раздражением и насмешкой к словам своего двоюродного брата. Одна она осмеливалась, в зависимости от расположения духа, то пренебрежительно, то шутливо отвечать ему.
Эта молодая белокурая девушка, румяная, живая и прекрасно сложенная, была удивительно хороша собой. Когда камеристка, стремясь разогнать ее тоску, называла юную баронессу жемчужиной, та отвечала ей:
– Увы! Как жемчужина скрыта в своей раковине, так и я погребена в недрах моей скучнейшей семьи – в этом ужасном замке Исполинов. Из приведенных слов читателю ясно, какая резвая пташка была заключена в этой беспощадной клетке.
В этот вечер торжественное молчание, царившее обыкновенно в графской семье, особенно за первым блюдом (оба старых аристократа, канонисса и капеллан обладали солидным аппетитом, не изменявшим им ни в какое время года), было нарушено Альбертом.
– Какая ужасная погода! – проговорил он, тяжело вздыхая.
Все с удивлением переглянулись. Сидя более часа за столом в зале с закрытыми дубовыми ставнями, они и не подозревали, что за это время погода переменилась к худшему. Полнейшая тишина царила снаружи и внутри, и ничто не предвещало надвигающейся грозы.
Тем не менее никто не решился противоречить Альберту, лишь одна Амелия пожала плечами. После минутного тревожного перерыва снова застучали вилки, и слуги начали медленно переменять блюда.
– Неужели вы не слышите, отец мой, как бушует ветер среди елей Богемского Леса? Неужели оглушительный рев потока не доносится до вас? – еще громче спросил Альберт, пристально глядя на отца.
Граф Христиан ничего не ответил, а барон, имевший обыкновение всегда со всеми соглашаться, сказал, не сводя глаз с куска дичи, который он в эту минуту резал с такой энергией, будто это был гранит:
– Действительно, ветер на заходе солнца предвещает дождь. Весьма вероятно, что завтра будет дурная погода.
Альберт как-то странно улыбнулся, и снова все погрузилось в мрачное молчание; но не прошло и пяти минут, как страшный порыв ветра, от которого задребезжали стекла огромных окон, завыл, завизжал, ударил, как кнутом, по воде рва и унесся ввысь, к горным вершинам, с таким пронзительным и жалобным стоном, что все побледнели, кроме Альберта, улыбнувшегося такою же загадочной улыбкой, как и в первый раз.
– В эту минуту, – проговорил он, – гроза гонит к нам одну душу. Хорошо, если б вы, господин капеллан, помолились за тех, кто путешествует в наших суровых горах в такую ужасную бурю.
– Я молюсь ежечасно и от всей души, – ответил дрожащий капеллан, – за тех, кто странствует по тяжким путям жизни, среди бурь людских страстей. – Не отвечайте ему, господин капеллан, – сказала Амелия, не обращая внимания на взгляды и знаки, предупреждавшие ее со всех сторон, чтобы она не продолжала этого разговора. – Вы хорошо знаете, что моему кузену доставляет удовольствие мучить других, говоря загадками. Что касается меня, то я вовсе не склонна разгадывать их.
Граф Альберт, казалось, обращал не больше внимания на пренебрежительный тон своей двоюродной сестры, чем она на его странные рассуждения. Он облокотился на свою тарелку, которая почти всегда стояла перед ним пустой и чистой, и уставился на камчатную скатерть, словно считая на ней цветочки и звездочки, – в действительности же погруженный в какую-то восторженную думу.
Глава 23
Неистовая буря разразилась во время ужина. Ужин всегда продолжался два часа – ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые набожно соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от ига семейных привычек, столь же священных для него, как и постановления римской церкви. Грозы были слишком часты в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и рокоту грома раскатами эха, слишком хорошо знакомыми обитателям замка, чтобы это явление природы могло их сильно потрясти. Однако необычайное возбуждение графа Альберта невольно передалось его семье, и барон был бы, несомненно, раздосадован на то, что удовольствие от вкусной трапезы испорчено, если бы мог хоть на мгновение изменить своей доброжелательной кротости. Он только глубоко вздохнул, когда потрясающий удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту.
– Кончено дело! – сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей.
– Да, дядюшка, вы правы! – громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. – Кончено дело!» Гусит сражен – его сожгла молния. Больше он не зазеленеет весной.
– Что ты хочешь этим сказать, сын мой? – печальным голосом спросил старик Христиан. – Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?
– Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить более двадцати августинских монахов. – Он начинает принимать века за недели! – прошептала канонисса, осеняя себя широким крестным знамением. – Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое, – повысив голос, обратилась она к племяннику, – то, что действительно произошло или должно случиться (ведь не раз бывало, что ваши фантазии сбывались), то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей: с ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадлежащих истории.
– А я, – с живостью добавила Амелия, довольная, что может наконец дать волю своему язычку, – была бы очень благодарна грозе, если б она избавила нас от этого ужасного дерева-виселицы, ветви которого напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. Ни разу не проходила я мимо него вечером без содрогания: шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрип, что каждый раз, предав себя в руки божьи, я убегала оттуда без оглядки.
– Амелия, – снова заговорил молодой граф, первый раз за много дней отнесшись со вниманием к словам двоюродной сестры, – вы хорошо сделали, что не проводили под Гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть.
– Замолчите! – вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. – Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы – нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот.
– Дай бог, дорогая Амелия, чтобы ваш кузен говорил это только ради забавы, – кротко заметил старый граф.
– Нет, отец мой, я говорю вам вполне серьезно: дуб на скале Ужасов свалился, раскололся на четыре части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не Гуситом, а Кающимся; а скалу Ужаса вам давно следовало назвать скалой Искупления.
– Довольно, довольно, сын мой, – проговорил старик в страшной тревоге, – отгони от себя эти грустные картины и предоставь богу судить людские деяния.
– Мрачные картины канули в вечность, отец мой: они перестали существовать вместе с дубом – орудием пытки, которое грозовой вихрь и небесный огонь повергли в прах. Вместо скелетов, раскачивавшихся на нем, я вижу цветы и плоды, которые колышет зефир на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, разводившего каждую ночь костер под Гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую, светлую душу. Гроза рассеивается, о мои дорогие родные, опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни.
– О сын мой, любимый мой! Если бы это было так! – с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. – Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели господь ниспошлет мне такую милость – вернет моему дорогому Альберту покой, надежду и свет веры?
Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и, казалось, моментально погрузился в безмятежный сон. – Это еще что? – сказала, обращаясь к отцу, Амелия. – Засыпать за столом! Очень любезно, нечего сказать!
– Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение, – сказал капеллан, с любопытством глядя на молодого человека.
– Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить, – приказал граф Христиан.
– Боже милостивый, – сложив набожно руки, горячо молилась канонисса, – осуществи его предсказания, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!
– Аминь! – благоговейно закончил капеллан. – Вознесем же сердца наши к милосердному богу, – продолжал он, – и, воздав ему благодарность за принятую нами пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот.
Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштадтов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупные слезы скатились по его поблекшим щекам.
Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его:
– Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея! Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и поместить в мое большое кресло: для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина, среди близких, дружеских лиц.
– Это правда, – ответил граф. – Его действительно можно перенести в гостиную и положить на большой диван.
– После ужина очень вредно спать лежа, – возразил барон. – Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да, да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле.
Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его; и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника, причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же с сияющим, гордым видом уселся в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать не только своим креслом для племянника, но и самим послеобеденным сном, чтобы вместе со всеми бодрствовать при нем, но через четверть часа до того освоился со своим новым креслом, что храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали.
Вдруг загудел большой колокол замка, в который звонили только в случае необычных посещений, и вскоре старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Полная любопытства и нетерпения, Амелия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее: «Достопочтенный и дорогой граф!
Ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать Вам услугу. Этим Вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказание Вашего сиятельства, я, однако ж, не надеялся так скоро, как того бы мне хотелось, найти для этого подходящую особу. Неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания Вашего сиятельства, и я спешу направить к Вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, но лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы Ваша высокочтимая любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам.
Девица, которая будет иметь честь передать Вам это письмо, – моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амелия, предупредительной и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого Вы ищете в наставнице: свободно говоря на нескольких иностранных языках, она вряд ли знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, пением и манерой держать себя. Не менее будете Вы удовлетворены ее кротостью и благородством характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чувства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к Вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а, как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме Вашего сиятельства, – компаньонку и подругу.
Синьор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, этот приказ прибудет не раньше как через два месяца. Синьора Корнер, его достойная супруга, а моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил глубокочтимых друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце, в сердце, полном вечной привязанности к Вам и глубокой благодарности. Итак, глубокочтимый граф, я препоручаю и вверяю Вам мою приемную дочь, прося у Вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отплатить за Ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже как через три месяца я приеду за ней и представлю Вам на ее место наставницу, которая сможет заключить с Вашей глубокочтимой семьей договор на более продолжительный срок.
В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя, с почтением и гордостью, самым покорным слугой и преданнейшим другом Вашего сиятельства.
Никколо Порпора, капельмейстер, композитор и учитель пения Венеция, мес… дня… 17… года».
Амелия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом несколько раз повторил:
– Почтенный Порпора – чудесный друг, достойный, уважаемый человек!.. – Конечно, конечно, – сказала канонисса Венцеслава, испытывая, с одной стороны, страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны – желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. – Надо как можно лучше встретить и принять ее… Лишь бы не соскучилась она здесь…
– Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница? – воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждении тетки. – Наверное, она скоро и сама явится?.. Я с нетерпением жду ее!
Граф Христиан позвонил.
– Ганс, кто передал вам это письмо? – спросил он старого слугу.
– Одна дама, ваше сиятельство!
– Она уже здесь! – воскликнула Амелия. – Где же она? Где?
– Она в почтовой карете, у подъемного моста.
– И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того чтобы сейчас же ввести в гостиную?
– Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с места. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо его сиятельству.
– Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду! Можно подумать, что мы живем в крепости и всякий к ней приближающийся – враг! Бегите же скорей, Ганс, бегите!..
Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки; казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которой он ожидал приказаний своего старого господина.
– Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания, – произнес наконец граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. – Теперь, Ганс, велите открыть ворота и спустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами – она у нас желанная гостья!
Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья не допускались иначе, как с проволочками и предосторожностями. Канонисса пошла распорядиться, чтобы приготовили ужин для приезжей. Амелия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью, и пылкой юной баронессе пришлось величественным, медленным шагом пройти до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка – Консуэло.
Глава 24
Три месяца прошло с тех пор, как баронесса Амелия забрала себе в голову, что ей необходимо – не столько для учения, сколько для развлечения – иметь компаньонку, и в своем одиночестве она не раз силилась представить себе, какова будет ее будущая подруга. Зная угрюмый нрав Порпоры, она боялась как бы он не прислал ей суровую и педантичную гувернантку. Вот почему она тайком написала профессору, предупреждая его, что плохо примет наставницу старше двадцати пяти лет, – словно было недостаточно выразить такое желание своим родным, для которых она была кумиром и повелительницей.
Письмо Порпоры привело ее в восторг, и она сейчас же создала в уме совершенно новый образ: музыкантша, приемная дочь профессора, молодая девушка, а главное – венецианка, была, по мнению Амелии, как бы нарочно для нее создана, создана по ее образу и подобию.
Поэтому она несколько разочаровалась, когда вместо резвой, румяной девочки, о какой она мечтала, увидела бледную, грустную, чрезвычайно смущенную девушку. Ибо, не говоря уже о глубоком горе, терзавшем бедную Консуэло, об усталости от долгого, безостановочного пути, она была еще подавлена страшными переживаниями последних часов: эта ужасная гроза в дремучем лесу, эти поверженные ели, этот мрак, прорезаемый бледными молниями, а в особенности вид этого мрачного замка, вой охотничьих псов барона, горящие факелы в руках безмолвно стоящих слуг – во всем этом было что-то поистине зловещее. Какой контраст с лучезарным небом и гармонической тишиной венецианских ночей, доверчивой свободой ее прошлой жизни среди любви и жизнерадостной поэзии! Когда карета медленно проехала по подъемному мосту и по нему глухо застучали копыта лошадей, когда со страшным скрежетом за ней опустилась подъемная решетка, Консуэло показалось, что она входит в дантовский ад, и, охваченная ужасом, она поручила свою душу богу.
Вполне понятно, что у нее был растерянный вид, когда она появилась перед своими будущими хозяевами. Увидав же графа Христиана с его вытянутым бледным лицом, поблекшим от лет и горя, его длинную, сухую одеревенелую фигуру, облаченную в старомодный сюртук, она подумала, что перед ней призрак средневекового владельца замка, и невольно отшатнулась, едва сдержав крик ужаса.
Старый граф, объясняя себе состояние Консуэло и ее бледность усталостью после столь длинного путешествия в тряской карете, предложил ей руку, чтобы помочь взойти на крыльцо. В то же время он попытался сказать ей несколько приветливых, любезных слов. Но помимо того, что природа наделила почтенного старика внешностью холодной и сдержанной, за много лет уединенной жизни он настолько отвык от общества, что его робость теперь удвоилась. Под его, на первый взгляд, важной и суровой внешностью таились детская конфузливость и способность теряться. Из любезности он счел нужным говорить с Консуэло по-итальянски (он знал язык недурно, но отвык от него), и это еще увеличивало его смущение. Он едва мог пробормотать несколько слов, которые девушка, хорошенько не расслышав, приняла за непонятный таинственный язык привидений.
Амелия, собиравшаяся при встрече броситься к ней на шею, чтобы сразу ее приручить, не нашлась, что сказать. С ней случилось то, что бывает с самыми смелыми людьми, – ее заразила застенчивость и сдержанность других.
Консуэло ввели в большую комнату, где только что отужинали. Граф, желая оказать гостье внимание, а вместе с тем опасаясь показать ей своего сына в летаргическом сне, остановился здесь в нерешительности. Дрожащая Консуэло, чувствуя, что у нее подкашиваются ноги, опустилась на первый попавшийся стул.
– Дядюшка, – сказала Амелия, поняв замешательство старого графа, – мне кажется, нам лучше принять синьору здесь. Тут теплее, чем в большой гостиной, а она, наверно, страшно прозябла от нашего холодного горного ветра да еще в такую грозу. Я с грустью вижу, что наша гостья падает от усталости, и уверена, что она нуждается в хорошем ужине и в отдыхе гораздо больше, чем во всех наших церемониях. Не правда ли, дорогая синьора? – добавила она, решаясь наконец пожать своей пухленькой ручкой обессилевшую руку Консуэло.
Звук этого свежего, молодого голоса, говорившего по-итальянски с резким немецким акцентом, сразу успокоил Консуэло. Она подняла свои испуганные глаза на хорошенькое личико юной баронессы, и взгляд, которым обменялись обе девушки, мгновенно рассеял между ними холод. Консуэло поняла, что это ее будущая ученица и что эта прелестная головка отнюдь не голова привидения. В свою очередь она пожала ей руку и призналась, что ее совсем оглушил стук кареты и очень напугала гроза. Охотно подчинялась она всем заботам Амелии: пересела поближе к пылающему камину, позволила снять с себя мантилью и согласилась отужинать, хотя ей совсем не хотелось есть. Мало-помалу, ободренная все возрастающей любезностью юной хозяйки, она окончательно пришла в себя. К ней вернулась способность видеть, слышать и отвечать.
Пока слуги подавали ужин, разговор зашел, естественно, о Порпоре. Консуэло с радостью отметила, что граф говорит о нем, как о своем друге, не только равном, но как будто даже выше его стоящем. Потом заговорили о путешествии Консуэло, о дороге, по которой она ехала, и о грозе, которая, должно быть, напугала ее.
– Мы в Венеции привыкли к еще более внезапным и более опасным грозам, – отвечала Консуэло. – Плывя по городу в гондолах во время грозы, мы даже у порога дома ежеминутно рискуем жизнью. Вода, заменяющая нашим улицам мостовую, в это время быстро прибывает и бушует, словно море в непогоду. Она с такой силой несет наши гондолы вдоль стен, что они могут легко разбиться вдребезги, прежде чем нам удастся пристать. Но, несмотря на то, что я не раз была свидетельницей подобных несчастных случаев и вовсе не труслива, сегодня, когда с горы было сброшено молнией огромное дерево, которое упало поперек дороги, я испугалась, как никогда в жизни. Лошади взвились на дыбы, а кучер в ужасе закричал: «Проклятое дерево свалилось! Гусит упал!» Не можете ли вы мне объяснить, синьора баронесса, что это значит?
Ни граф, ни Амелия не ответили на этот вопрос. Они только вздрогнули и переглянулись.
– Итак, мой сын не ошибся! – произнес старый граф. – Странно! Очень, очень странно!
Снова встревожившись за сына, он пошел к нему в гостиную, а Амелия, сложив руки, прошептала:
– Тут какое-то колдовство! Видно, сам дьявол с нами!
Эти странные, загадочные слова снова навлекли на Консуэло суеверный ужас, охвативший ее при входе в замок Рудольштадтов. Внезапная бледность Амелии, торжественное молчание старых слуг в красных шароварах, с удивительно похожими друг на друга квадратными багровыми лицами, с тусклыми, безжизненными глазами рабов, любящих свое вечное рабство; эта сумрачная комната, отделанная черным дубом, которую не в состоянии была осветить люстра со множеством горящих свечей; унылые крики пугача, возобновившего после грозы свою охоту вокруг замка; большие фамильные портреты на стенах; громадные вырезанные из дерева головы оленей и диких кабанов, украшавшие стены, – все до мелочей будило в девушке жуткую, только на время улегшуюся тревогу. То, что сообщила ей затем юная баронесса, тоже не могло способствовать ее успокоению.
– Милая синьора, – сказала та, собираясь угостить ее ужином, – будьте готовы увидеть здесь необъяснимые, неслыханные вещи, чаще скучные, но иногда и страшные. Настоящие сцены из романов: если их рассказать, так никто не поверит. Но вы дадите слово, что обо всем этом сохраните вечное молчание!..
Баронесса еще продолжала говорить, когда дверь медленно распахнулась и канонисса Венцеслава, горбатая, с длинным лицом, в строгом одеянии, при ленте своего ордена, с которой она никогда не расставалась, вошла в зал с таким величественно-приветливым видом, какого она не принимала с того достопамятного дня, когда императрица Мария-Терезия, возвращаясь со своей свитой из путешествия по Венгрии, оказала замку Исполинов великую честь: остановилась на час отдохнуть и выпить стакан глинтвейна. Канонисса подошла к Консуэло, которая, от изумления и испуга забыв даже встать, смотрела на нее блуждающим взором, сделала ей два реверанса и, произнеся по-немецки очевидно заранее приготовленную и заученную речь, поцеловала ее в лоб. Бедная девушка, похолодев, как мрамор, подумала, что это поцелуй самой смерти, и, чуть не падая в обморок, еле внятно пробормотала слова благодарности.
Заметив, что она смутила гостью более, чем предполагала, канонисса удалилась в гостиную, а Амелия разразилась громким смехом.
– Держу пари, – воскликнула она, – вы подумали, что перед вами тень королевы Либуше! Успокойтесь! Это канонисса – моя тетка, скучнейшее и вместе с тем добрейшее существо в мире.
Не успела Консуэло прийти в себя от испуга, как услышала где-то позади себя скрип огромных венгерских сапог. Пол буквально задрожал под тяжелыми, размеренными шагами, и грузный человек с такой квадратной и багровой физиономией, что рядом с нею лица слуг казались бледными и тщедушными, молча прошел через зал и вышел через большую дверь, которую они почтительно распахнули перед ним. Консуэло снова содрогнулась, а Амелия снова расхохоталась.
– Это, – сказала она, – барон Рудольштадт, самый заядлый охотник, самый большой соня и наилучший из отцов. Он только что пробудился от своего послеобеденного сна в гостиной. Ровно в девять часов он встает с кресла и, совсем сонный, ничего не видя и не слыша, проходит через этот зал, поднимается в полусне по лестнице и, не сознавая ничего, ложится в постель. Завтра с рассветом он проснется бодрый, оживленный, деятельный, как юноша, и начнет энергично готовить к охоте собак, лошадей и соколов. Едва закончила она свои пояснения, как в дверях показался капеллан.
Он тоже был толст, но мал ростом и бледен, как все люди лимфатического склада. Созерцательная жизнь не подходит для тяжеловесных славянских натур, и полнота священнослужителя была болезненна. Он ограничился тем, что почтительно поклонился баронессе и ее гостье, сказал что-то тихо слуге и скрылся в ту же дверь, куда вышел барон. Тотчас же старик Ганс и один из тех автоматов, которых Консуэло не в состоянии была отличить друг от друга, до того они были во всем одинаковы, могучи и степенны, направились в гостиную. Не будучи в силах притворяться, будто она ест, Консуэло обернулась, провожая их глазами. Но прежде чем слуги дошли до двери, на пороге появилось новое существо, поразительнее всех прежних: то был молодой человек высокого роста, с необыкновенно красивым, но страшно бледным лицом, одетый с головы до ног во все черное. Роскошная бархатная накидка, отороченная куньим мехом, была скреплена на его плечах золотыми застежками. Длинные, черные как смоль волосы в беспорядке свисали на его бледные щеки, обрамленные вьющейся от природы шелковистой бородкой. Он сделал слугам, которые двинулись было ему навстречу, повелительный жест, и те, отступив, остановились неподвижно, словно прикованные его взглядом. Затем, обернувшись к графу Христиану, шедшему за ним, он проговорил певучим голосом, в котором чувствовалось необычайное благородство:
– Уверяю вас, отец мой, никогда еще я не был так спокоен. Нечто великое свершилось в моей судьбе, и небесная благодать снизошла на наш дом. – Да услышит тебя господь, дитя мое! – ответил старик, простирая руки как бы для благословения.
Молодой человек низко склонил голову под рукой отца, потом, выпрямившись, с кротким, ясным лицом дошел до середины комнаты, слегка улыбнулся Амелии, едва коснувшись пальцами протянутой ею руки, и несколько секунд пристально смотрел на Консуэло. Проникнувшись невольным уважением к нему, Консуэло поклонилась, опустив глаза. Он же, не отвечая на поклон, продолжал смотреть на нее.
– Эта молодая особа, – сказала ему по-немецки канонисса, – та самая, которая…
Но он прервал ее, сделав жест, как бы говоривший: «Молчите, не мешайте ходу моих мыслей»; потом вдруг отвернулся и, не проявив ни удивления, ни любопытства, медленно вышел через большую дверь.
– Вы должны извинить, милая моя… – обратилась к Консуэло канонисса.
– Простите, что я перебью вас, тетушка, – сказала Амелия, – вы говорите по-немецки, а ведь синьора не знает этого языка.
– Милая синьора, – ответила по-итальянски Консуэло, – в детстве я говорила на нескольких языках, так как много путешествовала, и немецкий язык я еще помню настолько, чтобы все прекрасно понимать. Правда, я не решаюсь заговорить на нем, но если вы дадите мне несколько уроков, я уверена, что скоро с ним справлюсь.
– Значит, совсем как я, – снова заговорила по-немецки канонисса, – я все понимаю, что говорит синьора, а говорить сама на ее языке не могу. Но раз она меня понимает, я хочу просить ее извинить невежливость моего племянника, не ответившего на ее поклон, ибо этот молодой человек сегодня сильно занемог и после случившегося с ним обморока еще так слаб, что, верно, не заметил ее… Не так ли, братец? – прибавила добрая Венцеслава, смущенная своей ложью и ища оправдания в глазах графа Христиана.
– Милая сестра, – ответил старик, – вы очень великодушны, желая оправдать моего сына. Но пусть синьора не удивляется ничему. Завтра мы ей все объясним с той откровенностью, с какой мы вполне можем говорить с приемной дочерью Порпоры и, надеюсь, в ближайшем будущем – другом нашей семьи.
То был час, когда все расходились по своим комнатам; а в замке царил такой образцовый порядок, что, вздумай молодые девушки засидеться у стола, слуги, казавшиеся настоящими машинами, были бы способны, пожалуй, не обращая внимания на их присутствие, вынести их стулья и погасить свечи. Консуэло к тому же жаждала уйти к себе, и Амелия проводила гостью в нарядную, комфортабельную комнату, которую она велела приготовить рядом со своей собственной.
– Мне очень хотелось бы поболтать с вами часок-другой, – сказала Амелия, когда канонисса, исполнив долг любезной хозяйки, вышла из комнаты. – Мне не терпится познакомить вас со всем, что тут у нас происходит, до того, как вам придется столкнуться с нашими странностями. Но вы, наверно, так устали, что больше всего хотите отдохнуть.
– Это ничего не значит, синьора, – ответила Консуэло. – Правда, я вся разбита, но состояние у меня такое возбужденное, что, боюсь, я всю ночь не сомкну глаз. Поэтому вы можете говорить со мной сколько угодно, но только по-немецки. Это будет мне полезно, а то я вижу, что граф и особенно канонисса не очень сильны в итальянском языке.
– Давайте условимся так, – сказала Амелия, – вы сейчас ляжете в постель, а я в это время пойду накину капот и отпущу горничную. Потом я вернусь, сяду подле вас, и мы будем говорить по-немецки до тех пор, пока вам не захочется спать. Согласны?
– От всего сердца, – ответила новая гувернантка.
Глава 25
– Так знайте же, дорогая… – начала Амелия, закончив свои приготовления к задуманному разговору. – Однако я до сих пор не знаю вашего имени, – улыбаясь, прибавила она. – Пора бы нам отбросить все титулы церемонии: я хочу, чтобы вы меня звали просто Амелией, а я вас буду называть…
– У меня иностранное имя, трудно произносимое, – ответила Консуэло. Мой добрый учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне называться его именем: покровители и учителя обычно поступают так по отношению к своим любимым ученикам; и вот отныне я разделяю честь носить его имя с великим певцом Убером: его зовут Порпорино, а меня – Порпорина. Но это слишком длинно, и вы, если хотите, зовите меня просто Нина.
– Прекрасно! Пусть будет Нина, – согласилась Амелия. – А теперь слушайте: мне надо рассказать вам довольно длинную историю, ибо, если я не углублюсь в далекое прошлое, вы никогда не сможете понять всего, что творится в нашем доме.
– Я вся – и слух и внимание, – сказала Консуэло, ставшая Порпориной. – Вы, милая Нина, верно, имеете некоторое понятие об истории Чехии?
– Увы, нет! – ответила Консуэло. – Мой учитель, должно быть, писал вам, что я не получила никакого образования. Единственное, что я немного знаю, это историю музыки; что же касается истории Богемии, то она так же мало известна мне, как и история всех других стран мира.
– В таком случае, – сказала Амелия, – я вкратце сообщу то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ. Триста с лишком лет тому назад угнетенный и забитый народ, среди которого вы теперь очутились, был великим народом, смелым, непобедимым, героическим. Им, правда, и тогда правили иностранцы, а насильно навязанная религия была ему непонятна. Бесчисленные монахи подавляли его; развратный, жестокий король издевался над его достоинством, топтал его чувства. Но скрытая злоба и глубокая ненависть кипели, нарастая, в этом народе, пока наконец не разразилась гроза: иностранные правители были изгнаны, религия реформирована, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венцеслав сброшен с престола и заключен в тюрьму. Сигналом к восстанию была казнь Яна Гуса и Иеронима Пражского – двух мужественных богемских ученых, стремившихся исследовать и осветить тайну католицизма. Они были вызваны на церковный собор, им обещана была полная безопасность и свобода слова, а потом их осудили и сожгли на костре. Это предательство и гнусность так возмутили народное чувство чести, что в Чехии и в большей части Германии сейчас же вспыхнула война, длившаяся долгие годы. Эти кровавые войны известны под названием гуситских. Бесчисленные и безобразные преступления были совершены с обеих сторон. Нравы были жестоки и безжалостны в то время по всей земле, а политические раздоры и религиозный фанатизм делали их еще более свирепыми. Чехия являлась для Европы олицетворением ужаса. Не буду волновать вас описанием тех страшных сцен, которые здесь происходили: вы и без того подавлены видом этой дикой страны. С одной стороны – бесконечные убийства, пожары, эпидемии, костры, на которых живьем сжигали людей, разрушенные и оскверненные храмы, повешенные и брошенные в кипящую смолу священники и монахи. С другой стороны – обращенные в развалины города, опустошенные края, измена, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, целые пропасти, до краев наполненные их трупами, земля, усыпанная их костями и костями их врагов. Свирепых гуситов долго еще не удавалось одолеть, с чувством ужаса мы и теперь произносим их имена. А между тем их патриотизм, их непоколебимая твердость, их сказочные подвиги невольно будят в глубине души чувство гордости и восхищения, и молодым умам, подобным моему, порой бывает трудно скрыть эти чувства.
– А зачем их скрывать? – наивно спросила Консуэло.
– Да потому, что после долгой, упорной борьбы Чехия снова подпала под иго рабства, потому, Нина дорогая, что Чехии больше не существует… Наши властители прекрасно понимали, что свобода религии в нашей стране – это и ее политическая свобода. Вот почему они задушили и ту и другую.
– До чего я невежественна! – воскликнула Консуэло. – Никогда ни о чем подобном не слышала и даже не подозревала, что люди бывали так злы.
– Сто лет спустя после Яна Гуса, – продолжала Амелия, – новый ученый, новый фанатик – бедный монах по имени Мартин Лютер – снова пробудил в народе дух национальной гордости, внушил Чехии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужеземному игу и возбудил народ против пап. Самые могущественные короли оставались католиками не столько из любви к этой религии, сколько из жажды неограниченной власти. Австрия соединилась с нами, чтобы раздавить нас, и вот новая война, названная Тридцатилетней, сокрушила, уничтожила нашу нацию. С самого начала этой войны Чехия стала добычей более сильного противника; Австрия обращалась с нами, как с побежденными: она отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже самое наше имя. Отцы наши мужественно сопротивлялись, но иго императора все более и более давило нас. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разоренное, обессиленное поборами, битвами и пытками, было принуждено либо бежать с родины, либо переменить свою национальность, отказавшись от своего происхождения, сменив свои фамилии на немецкие (запомните, это), отрекшись от своей веры. Книги наши были сожжены, школы разрушены, – словом, нас обратили в австрийцев. Мы теперь всего лишь провинция империи. В славянской земле слышен немецкий говор, – этим все сказано.
– Вы и теперь страдаете от этого рабства и стыдитесь его? Я это понимаю и уже ненавижу Австрию всем сердцем!
– Тише! Тише! – воскликнула юная баронесса. – Говорить это громко небезопасно под мрачным небом Чехии. В этом замке только у одного человека хватает храбрости и безумия произнести то, что вы сейчас сказали, моя дорогая Нина! И человек этот – мой кузен Альберт.
– Так вот причина грусти, которая написана на его лице! – сказала Консуэло. – При первом же взгляде я прониклась невольным уважением к нему.
– О моя прекрасная львица святого Марка! – воскликнула Амелия, пораженная благородным воодушевлением, которое вдруг озарило бледное лицо подруги. – Вы все принимаете слишком всерьез. Боюсь, что через несколько дней мой кузен возбудит в вас скорее сострадание, чем уважение.
– Одно может не мешать другому, – возразила Консуэло. – Но что вы хотите сказать этим, дорогая баронесса? Объясните.
– Так слушайте же меня хорошенько, – продолжала Амелия. – Наша семья строго католическая, верная церкви и империи. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки по саксонской линии всегда были правоверными. Если когда-нибудь, на ваше несчастье, моя тетя канонисса вздумает познакомить вас со всеми заслугами наших предков, немецких графов и баронов, перед святой церковью, она убедит вас в том, что на нашем гербе нет ни малейшего пятнышка ереси. Даже в тот период, когда Саксония была протестантской, Рудольштадты предпочли скорее лишиться своих протестантских избирателей, чем покинуть лоно римской церкви. Но тетушка никогда не решится превозносить эти заслуги предков в присутствии графа Альберта, иначе вы услышали бы от него самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеческим ушам.
– Вы все возбуждаете мое любопытство, не удовлетворяя его. Пока что я поняла только одно: я не должна обнаруживать перед вашими благородными родными, что разделяю ваши и графа Альберта симпатии к старой Чехии. Вы можете, милая баронесса, положиться на мою осторожность. К тому же я родилась в католической стране, и уважение к моей религии, так же как и к вашей семье, заставит меня молчать всегда, когда это будет нужно.
– Да, это будет разумно, потому что, предупреждаю вас еще раз, мои родные страшно щепетильны в этом вопросе. Что же касается меня, дорогая Нина, то я очень покладиста: я не католичка и не протестантка. Воспитание я получила у монахинь, и, по правде сказать, их проповеди и молитвы мне порядком надоели. Та же скука преследует меня и здесь: тетка моя Венцеслава совмещает в себе одной педантизм и суеверие целого монастыря. Но я слишком дитя своего века, чтобы из духа противоречия ввергнуться в омут лютеранских пререканий, – надо признаться, не менее нудных. Гуситы – это такая древняя история, что я увлекаюсь ими не более, чем подвигами греков и римлян. Мой идеал – это французский дух; и, мне кажется, ничто не может быть выше ума, философии, цивилизации, процветающих в милой, веселой Франции. От времени до времени мне удается тайком насладиться чтением ее произведений, и тогда издали, точно во сне, сквозь щели своей тюрьмы, я вижу и счастье, и свободу, и удовольствия.
– Вы все больше повергаете меня в недоумение, – сказала Консуэло искренне. – Только что, рассказывая о подвигах древних богемцев, вы, казалось, сами были воодушевлены их героизмом. Я приняла вас за патриотку-богемку и даже немного за еретичку.
– Я более чем еретичка, более чем чешка, – со смехом ответила Амелия, – я немножко неверующая и отчаянный бунтарь. Я ненавижу всякое иго, будь оно духовное или светское, и потихоньку, про себя, протестую против Австрии, самой чопорной и лицемерной ханжи.
– А граф Альберт такой же неверующий, как и вы? И так же проникнут французским духом? В таком случае вы должны отлично понимать друг друга. – Напротив, мы совсем не понимаем друг друга, и теперь, после всех необходимых предисловий, надо рассказать вам о Нем. У моего дяди, графа Христиана, не было детей от первого брака. Вторично он женился сорока лет; и от второй жены у него было пять сыновей, которые, как и их мать, умерли от какой-то наследственной болезни – от каких-то длительных страданий, кончавшихся мозговой горячкой. Эта вторая жена была чистокровная богемка, говорят – красавица и умница. Я не знала ее. В большой гостиной вы увидите ее портрет – в пурпуровом плаще и в корсаже, усыпанном драгоценными камнями. Альберт поразительно похож на нее. Он шестой и последний из ее детей; из всех них только он достиг тридцатилетнего возраста, хоть и не без труда: здоровый на вид, он перенес тяжкие испытания, и до сих пор странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его жизнь. Между нами говоря, я не думаю, чтобы он намного пережил этот роковой возраст, за который не перешагнула и его мать. Хотя Альберт родился от пожилого отца, организм у него крепкий, но душа, как он сам признает, больная, и болезнь эта все усиливается. С самого раннего детства в голове его бродили какие-то странные, суеверные мысли. Четырех лет он уверял, будто часто видит у своей кровати мать, хотя она умерла и сам он видел, как ее хоронили; по ночам он просыпался, чтобы говорить с нею. Тетку Венцеславу это так пугало, что она укладывала в своей комнате у постельки ребенка нескольких служанок. А капеллан не знаю уж сколько потратил святой воды, чтобы изгнать привидение, сколько отслужил месс, стремясь его утихомирить! Но ничто не помогало. Мальчик, правда, долго не говорил о своих видениях, но однажды признался кормилице, что он и теперь видит свою милую маму, но не хочет об этом никому рассказывать, так как боится, что господин капеллан снова начнет произносить в его комнате разные злые слова, чтобы помешать ей приходить.
Это был невеселый, молчаливый ребенок. Его всячески развлекали, задаривали игрушками, стараясь доставить ему удовольствие, но все это нагоняло на него только еще большую тоску. Наконец решили не препятствовать более его склонности к учению. И действительно, получив возможность удовлетворить свою страсть, он несколько оживился. Но его тихая, вялая меланхолия сменилась каким-то странным возбуждением, перемежавшимся припадками тоски. Догадаться о причинах этой тоски и предотвратить ее было немыслимо. Так, например, при виде нищих он заливался слезами, отдавал им все свои детские сбережения, упрекая себя и огорчаясь, что не может дать больше. Если на его глазах били ребенка или грубо обращались с крестьянином, он приходил в такое негодование, что это кончалось или обмороком, или конвульсиями, длившимися несколько часов. Все это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах. Но даже самые прекрасные свойства, доведенные до крайности, превращаются в странности, чуть ли не недостатки. Разум маленького Альберта не развивался параллельно с чувствами и воображением. Изучение истории увлекало, но не просвещало его. Слушая о людских преступлениях и несправедливостях, он всегда как-то наивно волновался, напоминая того первобытного короля, который, слушая рассказ о страданиях Христа, воскликнул, размахивая копьем: «Будь я там со своими воинами, этого бы не случилось: я изрубил бы этих злых евреев на тысячи кусков!»
Альберт никак не хотел принять людей такими, какими они были и каковы они сейчас. Он винил бога в том, что не все люди сотворены столь же добрыми и сострадательными, как он сам. И вот благодаря своей любвеобильности он стал, сам того не замечая, безбожником и мизантропом. Не в силах понять то, на что сам он не был способен, Альберт в восемнадцать лет, словно малое дитя, оказался не в состоянии жить с людьми и играть в обществе роль, налагаемую его положением. Если в его присутствии кто-либо высказывал одну из тех эгоистических мыслей, которые кишат в нашем мире и без которых он, пожалуй, и не мог бы существовать, Альберт, не считаясь ни с положением этого лица, ни с тем, как к нему относится его семья, сразу отдалялся от этого человека, и ничто не могло заставить его быть с ним хотя бы просто учтивым. Он окружал себя людьми из простонародья, обойденными не только судьбой, но часто и природой. Ребенком он сходился только с детьми бедняков, особенно с увечными и дурачками, с которыми всякому другому ребенку было бы скучно и противно играть. Этого пристрастия он не потерял до сих пор, и вы очень скоро сами в этом убедитесь.
Так как при всех этих странностях он был все-таки бесспорно умен, обладал прекрасной памятью, имел способности к искусствам, то отец и тетя, воспитывавшие его с такой любовью, могли не краснеть за него в обществе. Его наивные выходки объясняли деревенским образом жизни, а когда он заходил в них слишком далеко, старались под каким-нибудь предлогом удалить его от тех, кто мог бы на это обидеться. Но, несмотря на все его достоинства и дарования, граф и канонисса с ужасом наблюдали, как эта независимая и ко многому безразличная натура все более и более порывает со светскими обычаями и условностями.
– Но до сих пор, – прервала свою собеседницу Консуэло, – я не вижу ничего, что говорило бы об упомянутом вами безумии.
– Это потому, что вы сами, по-видимому, прекрасная и чистая душа, ответила Амелия. – Но, быть может, я утомила вас своей болтовней и вы попробуете уснуть?
– Ничуть, дорогая баронесса, умоляю вас – продолжайте, – отвечала Консуэло.
И Амелия продолжала свой рассказ.
Глава 26
– Вы говорите, милая Нина, что не видите никаких странностей в поступках и в поведении моего бедного кузена? Сейчас я представлю вам более несомненные доказательства. Мой дядя и моя тетка, безусловно, самые лучшие христиане и самые добрые старики на свете. Эти достойные люди всегда с необыкновенной щедростью раздавали милостыню, делая это без малейшего чванства и тщеславия. Так вот, мой кузен находил, что их жизнь противоречит духу Евангелия. Он, видите ли, хотел бы, чтобы они, по примеру первых христиан, продав все и раздав деньги неимущим, стали сами нищими. Если он из любви и уважения к ним не говорил этого прямо, то и не скрывал своих взглядов, не переставая печалиться о судьбе несчастных, которые вечно надрываются за работой, вечно страдают, в то время как богачи живут в праздности и роскоши. Все свои деньги он сейчас же раздавал нищим, считая, что это капля в море, и тут же начинал просить еще более крупные суммы, отказывать в которых ему не решались, так что деньги текли из его рук, как вода; он столько роздал, что в округе вы уже не встретите ни одного бедняка; но я должна сказать, что нам от этого не легче: требования малых сих возрастают по мере того, как они удовлетворяются; и наши добрые крестьяне, прежде такие кроткие и смиренные, теперь, благодаря щедротам и сладким речам молодого барина, очень высоко подняли голову. Не будь над ними императорской власти, которая, с одной стороны, давит нас, а с другой – все-таки оберегает, я думаю, что наши имения и наши замки уже двадцать раз были бы разграблены и разгромлены шайками крестьян из соседних округов. Они голодают вследствие войны, но благодаря неисчерпаемому состраданию Альберта (его доброта известна на тридцать миль окрест) сели нам на шею, особенно со времени всех этих перипетий с наследством императора Карла.
Когда граф Христиан, желая образумить сына, бывало, говорил ему, что ведь отдать все в один день – значит лишить себя возможности давать завтра, тот отвечал: «Отец мой любимый, разве нет у нас крова, который переживет всех нас, тогда как над головами тысяч несчастных лишь холодное и суровое небо? Разве у каждого из нас не больше одежды, чем нужно, чтобы одеть целую семью в лохмотьях? А разве ежедневно не вижу я за нашим столом такого количества разных яств и чудесных венгерских вин, какого хватило бы, чтобы накормить и поддержать всех этих несчастных нищих, изнуренных нуждой и усталостью? Смеем ли мы отказывать в чем-либо, когда у нас во всем излишек? Имеем ли мы право пользоваться даже необходимым, если у других и того нет? Разве заветы Христа теперь изменились?» Что могли ответить на эти прекрасные слова и граф, и канонисса, и капеллан, сами же воспитавшие этого молодого человека в таких строгих и возвышенных принципах религии? И они приходили в большое смущение, видя, что питомец их все понимает буквально, не желая идти ни на какие требуемые временем компромиссы (на которых, мне думается, и зиждется всякое общественное устройство).
Еще хуже бывало, когда вопрос касался политики: Альберт находил чудовищными человеческие законы, дающие право государям посылать на убой миллионы людей, разорять целые огромные страны ради удовлетворения своего тщеславия и жажды славы. Эта политическая нетерпимость становилась опасной, и родные не решались везти его ни в Вену, ни в Прагу, ни вообще в большие города, опасаясь, как бы его фанатические речи не повредили им. Не менее беспокоили их и религиозные убеждения Альберта. При такой экзальтированной набожности его вполне могли принять за еретика, достойного костра или виселицы. Он ненавидел пап, этих апостолов Христа, ополчившихся в союзе с королями на спокойствие и благо народа. Он порицал роскошь епископов, светский дух священников и честолюбие всех духовных лиц. Он по целым часам излагал бедному капеллану то, что в далеком прошлом уже говорили в своих проповедях Ян Гус и Мартин Лютер. Альберт проводил целые часы, распростершись на полу часовни, погруженный в глубочайшие религиозные размышления, охваченный священным экстазом. Он соблюдал посты и предавался воздержанию гораздо строже, чем того требовала церковь. Говорили даже, что он носит власяницу, и понадобилась вся власть отца и вся нежность тетушки, чтобы заставить его отказаться от этих истязаний, конечно, немало способствовавших его экзальтации.
Когда его добрые и разумные родные увидели, что он способен в несколько лет растратить все свое состояние, да к тому же еще, как противник католической церкви и правительства, рискует попасть в тюрьму, они с грустью в душе решили отправить его путешествовать. Они надеялись, что, сталкиваясь с различными людьми, знакомясь в разных странах с их основными государственными законами, почти одинаковыми во всем цивилизованном мире, он привыкнет жить среди людей, и жить так, как живут они. И вот его поручили гувернеру, хитрому иезуиту, светскому и очень умному человеку, понявшему с полуслова свою роль и взявшемуся исполнить то, чего не решались ему высказать прямо. Откровенно говоря, требовалось обольстить и притупить эту непримиримую душу, сделать ее годной для общественного ярма, вливая в нее по капле необходимые для этого сладкие яды – тщеславие, честолюбие, безразлично-спокойное отношение к религии, политике и морали. Не хмурьтесь так, милая Порпорина! Мой почтенный дядя – простой и добрый человек. С юных лет он смотрел на все так, как ему это было внушено, и умел в течение всей своей жизни без ханжества и излишних рассуждении примирять терпимость и религию, долг христианина и обязанности владетельного вельможи. В нашем обществе и в наш век, когда на миллион таких людей, как все мы, встречается один такой, как Альберт, мудр тот, кто идет вместе с веком и вместе с обществом; а кто стремится вернуться за две тысячи лет назад, тот безумец: никого не убедив, он только приводит в негодование людей своего круга.
Альберт путешествовал восемь лет. Он посетил Италию, Францию, Англию, Пруссию, Польшу, Россию и даже Турцию. Вернулся он через Венгрию, Южную Германию и Баварию. За все время этого долгого путешествия он вел себя вполне благоразумно: не тратил больше, чем позволяло приличное содержание, которое назначили ему родные, писал им ласковые, нежные письма и, не вдаваясь ни в какие рассуждения, просто описывал все виденное; аббату же, своему гувернеру, он не давал ни малейшего повода для жалоб или неудовольствия.
Вернувшись домой в начале прошлого года, он, едва поцеловавшись со всеми, тотчас, говорят, удалился в комнату своей покойной матери и, запершись, просидел там несколько часов; затем, выйдя оттуда, страшно бледный, отправился один в горы.
В это время аббат вел откровенную беседу с канониссой Венцеславой и капелланом, потребовавшими, чтобы он без утайки рассказал им все о физическом и моральном состоянии молодого графа. «Граф Альберт, – сказал он им, – уж не знаю, право, отчего – оттого ли, что путешествие сразу изменило его, оттого ли, что по вашим рассказам о его детстве я составил себе о нем неверное представление, – граф Альберт, говорю я, с первого дня нашей совместной жизни был таким же, каким вы его видите сейчас: кротким, спокойным, выносливым, терпеливым и необыкновенно учтивым. За все время он ни разу не изменил себе, и я был бы самым несправедливым человеком на свете, если бы пожаловался хоть на что-либо. Того, чего я так боялся, – безумных трат, резких выходок, высокопарных наставлений, экзальтированного аскетизма, – мне не пришлось наблюдать. Он ни разу не выразил желания самостоятельно распорядиться теми суммами, которые вы мне доверили. Вообще он никогда не проявлял ни малейшего неудовольствия. Правда, я всегда предупреждал его желания и, видя, что к нашей карете подходит нищий, спешил подать милостыню прежде, чем он успевал протянуть руку. Могу сказать, что такой способ действия оказался очень удачным: почти не видя нищеты и недугов, молодой граф, казалось, совершенно перестал думать о том, что его прежде так удручало. Никогда я не слышал, чтобы он бранил кого-нибудь, порицал какой-нибудь обычай или отзывался неодобрительно о каком-нибудь установлении. Его экзальтированная набожность, так пугавшая вас, уступила место спокойному исполнению обрядов, приличествующему светскому человеку. Он бывал при самых блестящих дворах Европы, проводил время в лучшем обществе, ничем не увлекаясь, но ничем и не возмущаясь. Всюду обращали внимание на его красоту, благородные манеры, учтивость без всякой напыщенности, на его такт и находчивость в беседе. Молодой граф остался таким же чистым, как самая благовоспитанная девица, не выказывая при этом никакой чопорности дурного тона. Он бывал в театрах, осматривал музеи, памятники, говорил сдержанно и толково об искусстве. Словом, у меня сложилось представление о нем как о вполне благоразумном, уравновешенном человеке, и мне совершенно непонятно то беспокойство, которое он внушал вам. Если в нем и есть нечто необычное, так это именно чувство меры, осторожность, хладнокровие, отсутствие увлечений и страстей, чего я никогда еще не встречал в молодом человеке, столь щедро одаренном красотой, знатностью и богатством».
Впрочем, в этом отчете не было ничего нового, – он являлся лишь подтверждением частых писем аббата родным; но они все время боялись, не преувеличивает ли он, и успокоились, лишь когда он подтвердил полное моральное перерождение моего двоюродного брата, видимо не опасаясь, что тот на глазах родителей немедленно опровергнет его своим поведением. Аббата осыпали подарками, благодарностями и стали ждать с нетерпением возвращения Альберта с прогулки. Она тянулась долго, и когда наконец молодой граф появился к ужину, все были поражены его бледностью и серьезностью. Если в первую минуту при встрече лицо его сияло нежной и глубокой радостью, то теперь от нее не осталось и следа. Все были удивлены и с беспокойством тихонько обратились к аббату за разъяснениями. Тот взглянул на Альберта и, подойдя к отозвавшим его в угол родственникам, ответил с изумлением: «Право, я не нахожу ничего особенного в лице графа: у него все то же благородное, спокойное выражение, какое я привык видеть на протяжении тех восьми лет, что я имею честь состоять при нем». Граф Христиан вполне удовлетворился таким ответом.
«Когда мы расстались с Альбертом, – сказал он сестре, – на щеках его еще играл румянец юности, а внутренняя лихорадка часто – увы! – придавала блеск его глазам и живость голосу. Теперь мы видим его загоревшим от южного солнца, немного похудевшим, вероятно от усталости, и более серьезным, как это и приличествует сложившемуся мужчине. Вам не кажется, сестрица, что сейчас он гораздо лучше?»
«В его серьезности чувствуется грусть, – ответила моя добрая тетушка. – Я никогда в жизни не видела двадцативосьмилетнего Молодого человека, который был бы таким вялым и таким молчаливым. Он едва отвечает нам». «Граф всегда скуп на слова», – возразил аббат.
«Раньше это было не так, – сказала канонисса. – Если бывали недели, когда мы его видели молчаливым и задумчивым, то бывали и дни, когда он воодушевлялся и говорил целыми часами».
«Я никогда не замечал, – возразил аббат, – чтобы он изменял той сдержанности, которую вы теперь в нем наблюдаете».
«Неужели он больше нравился вам, когда говорил слишком много и своими разговорами приводил нас в ужас? – спросил граф Христиан свою озабоченную сестру. – Ох, эти женщины!»
«Да, но тогда он все-таки жил, – сказала она, – а теперь он производит впечатление выходца с того света, равнодушного ко всему земному». «Таков характер молодого графа, – сказал аббат, – он человек замкнутый, ни с кем не любит делиться впечатлениями и, говоря откровенно, не поддается влиянию никаких внешних впечатлений. Это свойство людей холодных, благоразумных, рассудительных; так уж он создан, и я глубоко убежден, что, стремясь расшевелить его, можно только внести тревогу в его душу, чуждую всякой живости и опасной предприимчивости».
«О! Я готова поклясться, что его истинный характер вовсе не таков! воскликнула канонисса.
«Госпожа канонисса, вероятно, откажется от своего предубеждения против столь редкого преимущества», – сказал аббат.
«В самом деле, сестрица, – сказал граф Христиан, – я нахожу, что господин аббат рассуждает весьма мудро. Не он ли своими усилиями и влиянием достиг того, к чему мы так стремились? Не он ли предотвратил несчастья, которых мы так боялись? Альберт был расточителен, экзальтирован, безумно смел! Вернулся он к нам таким, каким должен быть, чтобы заслужить уважение, доверие и почтение себе подобных».
«Но вернулся истертым, как старинная книга, – проговорила тетушка, – а может быть, ожесточенным и презирающим все то, что не соответствует его тайным желаниям. Мне даже кажется, что он не рад нам, а мыто ждали его с таким нетерпением!»
«Граф и сам с нетерпением стремился домой, – заметил аббат, – я прекрасно это видел, хотя открыто он этого не выказывал. Он ведь так мало общителен. По природе своей он очень замкнутый человек».
«Наоборот, по натуре своей он очень экспансивен, – горячо возразила канонисса. – Он бывал подчас вспыльчив, а по временам чрезвычайно нежен. Часто он сердил меня, но стоило ему броситься мне на шею, и я тотчас все ему прощала».
«По отношению ко мне ему никогда ничего не приходилось заглаживать», – сказал аббат.
«Поверьте, сестрица, так гораздо лучше», – настаивал мой дядя.
«Увы! – воскликнула канонисса. – Неужели всегда у него будет это выражение лица, которое приводит меня в ужас и надрывает мне сердце?»
«Это – гордое, благородное выражение, приличествующее человеку его круга», – сказал аббат.
«Нет! Это просто каменное лицо! – воскликнула канонисса. – Глядя на него, мне кажется, что я вижу его мать, но не доброй и нежной, какой я ее знала, а ледяной и неподвижной, как она нарисована на портрете в дубовой раме». – «Повторяю вашему сиятельству, – настаивал аббат, – что это обычное выражение лица графа Альберта за эти восемь лет».
«Увы! Значит, вот уже восемь ужасных лет, как он никому не улыбнулся! – воскликнула, заливаясь слезами, моя добрейшая тетушка. – За эти два часа, что я не свожу с него глаз, его сжатые бескровные губы ни разу не оживились улыбкой. Ах, мне хочется броситься к нему, прижать его к сердцу, упрекнуть в равнодушии, даже выбранить, как бывало. Быть может, и теперь, как прежде, он, рыдая, кинулся бы мне на шею!»
«Сохрани вас бог от такой неосторожности, дорогая сестра, – проговорил граф Христиан, заставляя ее отвернуться от Альберта, с которого та не сводила глаз, полных слез. – Не поддавайтесь материнской слабости, – продолжал он, – мы уже с вами видели, каким бичом была эта чрезмерная чувствительность для жизни и рассудка нашего бедного мальчика. Развлекая его, устраняя от него всякое сильное волнение, господин аббат, следуя указаниям врачей и нашим, умиротворил эту тревожную душу. Смотрите, не испортите всего причудами своей ребячливой нежности».
Канонисса согласилась с доводами брата и постаралась примириться с ледяной холодностью Альберта, но она не могла к этому привыкнуть и то и дело шептала на ухо брату: «Что там ни говорите, Христиан, но я боюсь, что, обращаясь с ним как с больным ребенком, а не как с мужчиной, аббат погубил его».
Вечером, отходя ко сну, все начали прощаться; Альберт почтительно склонился под отцовским благословением; когда же канонисса прижала его к своей груди и он заметил, что она вся дрожит, а голос ее прерывается от волнения, он тоже задрожал и, словно почувствовав нестерпимую боль, вдруг вырвался из ее объятий.
«Видите, сестрица, – шепотом сказал граф, – он отвык от душевных волнений, вы ему вредите».
Говоря это, граф, сам далеко не успокоенный, с волнением следил глазами за сыном, желая проверить, как тот относится к аббату: не предпочитает ли он теперь его всем своим? Но Альберт с холодной вежливостью поклонился своему гувернеру.
«Сын мой, – проговорил граф, – мне кажется, что я поступил сообразно твоим желаниям и симпатиям, попросив господина аббата не покидать тебя, как он имел намерение сделать, а остаться с нами возможно дольше. Мне не хотелось бы, чтобы наше счастье – снова быть вместе – омрачилось для тебя каким-либо огорчением, и я хочу надеяться, что твой уважаемый друг поможет нам сделать для тебя безоблачной эту радость свидания».
Альберт ответил на это лишь глубоким поклоном, и какая-то странная улыбка мелькнула на его губах.
«Увы, – проговорила бедная канонисса, когда племянник вышел, – вот как он теперь улыбается!»
Глава 27
– Во время отсутствия Альберта граф и канонисса строили много всяких планов о будущности своего дорогого мальчика, особенно о его женитьбе. С его красотой, именем и еще очень значительным состоянием Альберт мог рассчитывать на самую лучшую партию. Однако на тот случай, если бы остатки апатии и нелюдимости помешали его светским успехам, обожавшие его родные держали для него в запасе молодую девушку с таким же знатным именем, как и у него самого, – его двоюродную сестру, носящую ту же фамилию; хоть и единственная дочь, она была менее богата, чем он, но довольно хороша собой – такими бывают в шестнадцать лет девочки, красивые свежестью молодости. Эта молодая особа – баронесса Амелия фон Рудольштадт, ваша покорная слуга и ваша новая подруга.
«Она, – говорили между собой старики, сидя у камина, – не видела еще ни одного мужчины. Воспитанница монастыря, она с радостью пойдет замуж, лишь бы вырваться оттуда. Претендовать на лучшую партию она не может. А что касается странностей, которые могут сохраниться в характере ее двоюродного брата, то воспоминания детства, родство, несколько месяцев близости с нами, конечно, все сгладят и заставят ее, хотя бы из родственного чувства, молчаливо выносить то, чего, быть может, не стала бы терпеть чужая». В согласии моего отца они не сомневались: по правде сказать, собственной воли у него никогда не было, всю жизнь он поступал так, как хотели его старший брат и сестра Венцеслава.
После двух недель внимательного наблюдения дядя и тетка поняли, что последнему отпрыску их рода, вследствие меланхоличности и полнейшей замкнутости характера, не суждено покрыть их имя новой славой. Молодой граф не проявлял ни малейшего желания блистать на каком-либо поприще: его не тянуло ни к военной карьере, ни к гражданской, ни к дипломатии. На все предложения он отвечал с покорным видом, что готов подчиниться воле родительской, но что ему самому не нужно ни роскоши» ни славы. В сущности, апатичный характер Альберта был повторением, но в более сильной степени, характера его отца, у которого терпение граничит с безразличием, а скромность является чем-то вроде самоотречения. Что выставляет моего дядю в несколько ином свете и чего нет у его сына, так это его горячее, притом лишенное всякой напыщенности и тщеславия, отношение к общественному долгу. Альберт, казалось, признавал теперь семейные обязанности, но к общественным обязанностям, как мы их понимаем, относился, по-видимому, не менее равнодушно, чем в детские годы. Наши отцы, его и мой, сражались при Монтекукули против Тюренна. В войну они вносили фанатизм, подогретый сознанием имперского величия. В то время считалось долгом слепо повиноваться и слепо верить своим властелинам. Наше более просвещенное время срывает ореол с монархов, и современная молодежь осмеливается не верить ни императорской короне, ни папской тиаре. Когда дядя пытался пробудить в сыне древний рыцарский пыл, он прекрасно видел, что все его речи ровно ничего не говорят этому скептически настроенному человеку, ко всему относящемуся с презрением.
«Если уж это так, не будем ему перечить, – решили дядя с теткой, – не будем вредить этому и без того печальному выздоровлению, в результате которого вместо возбужденного человека нам вернули человека угасшего. Пусть живет себе спокойно, как ему хочется. Пусть будет усидчивым ученым-философом, как некоторые из его предков, или же страстным охотником, подобно нашему брату Фридриху, или справедливым, творящим добро помещиком, каким старается быть его отец. Пусть он ведет отныне спокойную, безобидную жизнь старика; он будет первым из Рудольштадтов, не знавшим молодости. Но так как нельзя допустить, чтобы с ним угас и наш род, надо поскорее женить его, дабы наследники нашего имени восполнили этот пробел на блестящих страницах нашей истории. Кто знает, быть может, по воле провидения рыцарская кровь его предков, как бы отдыхая в нем, забурлит с новой силой и отвагой в жилах его потомков?»
И тут же было решено поговорить с Альбертом о женитьбе.
Сначала затронули этот вопрос слегка, но, видя, что он и к женитьбе относится с таким же равнодушием, как ко всему прочему, стали говорить с ним более серьезно и настойчиво. Он возражал, ссылаясь на свою застенчивость, на неумение вести себя в женском обществе.
«Надо правду сказать, – говорила тетушка, – что, будь я молодой женщиной, такой угрюмый претендент, как наш Альберт, внушил бы мне больше страха, чем желания выйти за него замуж, и я бы даже горб свой не променяла на его речи».
«Значит, нам нужно прибегнуть к последнему средству, – решил дядя, – женить его на Амелии. Он знал ее ребенком, смотрит на нее как на сестру, поэтому будет с нею менее застенчив. А так как она характера веселого и решительного, то своей жизнерадостностью может вывести нашего Альберта из этой меланхолии, которой он все больше и больше поддается».
Альберт не отклонил этого проекта, но и не высказался за него, – он только согласился увидеться со мной и ближе познакомиться. Решено было ни о чем меня не предупреждать, дабы избавить от обиды отказа, всегда возможного с его стороны. Написали об этом моему отцу и, получив его согласие, начали сейчас же хлопотать перед папой о разрешении на наш брак, необходимом ввиду близкого родства. Тем временем отец взял меня из монастыря, и в одно прекрасное утро мы подъехали к замку Исполинов. Наслаждаясь деревенским воздухом, я с нетерпением ждала минуты, когда увижу своего жениха. Добрый мой отец, полный надежд, воображал, будто я ничего не знаю о брачном проекте, а сам в дороге, не замечая этого, все мне выболтал.
Первое, что меня поразило в Альберте, это его красота и благородная осанка. Признаюсь вам, дорогая Нина, что мое сердечко сильно забилось, когда он поцеловал мне руку, и в течение нескольких дней каждый его взгляд, каждое слово приводили меня в восторг. Его серьезность нисколько не отталкивала меня, а он, казалось, не чувствовал в моем присутствии ни малейшего стеснения. Как в дни детства, он говорил мне «ты», и когда, из опасения нарушить светские приличия, старался поправиться, родные разрешали ему это и даже просили сохранить свою прежнюю фамильярность в обращении со мной. Моя веселость порой вызывала у него непринужденную улыбку, и наша добрая тетушка, вне себя от восторга, приписывала мне всю честь этого исцеления, которое уже считала окончательным. Словом, он относился ко мне кротко и ласково, как к ребенку, и пока что я довольствовалась этим, уверенная, что в недалеком будущем он обратит более серьезное внимание на мою задорную рожицу и на мои красивые туалеты, на которые я не скупилась, чтобы ему понравиться.
Однако вскоре, к моему огорчению, мне пришлось убедиться, что он очень мало интересуется моей наружностью, а туалетов просто не замечает. Как-то раз тетушка обратила его внимание на прелестное лазоревоголубое платье, чудесно обрисовывавшее мою фигуру. А он стал уверять, что платье ярко-красное. Тут аббат, его гувернер, большой любитель комплиментов, желая преподать ему урок учтивости, вмешался, говоря, что он отлично понимает, почему граф Альберт не разглядел цвета моего платья. Казалось бы, моему кузену представлялся удобный случай сказать мне какую-нибудь любезность по поводу роз на моих щеках и золота моих волос. Но он лишь сухо возразил аббату, что отличать цвета умеет не хуже его и что платье мое красно, как кровь.
Не знаю почему, но эта странность его поведения и грубость вызвали во мне дрожь. Я взглянула на Альберта, и мне вдруг стало страшно от выражения его глаз. С этого дня я стала больше бояться его, чем любить. Скоро я совсем его разлюбила, а теперь и не боюсь и не люблю. Я просто жалею его – и только. Вы сами мало-помалу увидите, почему это так, и поймете меня.
На следующий день мы собирались отправиться за покупками в Тусту, ближайший город. Я очень радовалась этой прогулке. Альберт должен был верхом сопровождать меня. Я была готова и ждала, что он подсадит меня в седло. Экипажи были поданы и стояли у подъезда, а Альберт все не появлялся. Его слуга доложил, что в назначенный час постучал к нему в дверь. Камердинера снова послали справиться, готов ли молодой граф. Надо сказать, что у Альберта была мания всегда одеваться самому, без помощи слуги; только выйдя из своей комнаты, он разрешал камердинеру войти в нее. Напрасно стучали к нему, – он не отвечал. Встревоженный этим молчанием, старый граф сам отправился к комнате сына, но ему не удалось ни открыть дверь, запертую изнутри, ни добиться от Альберта хотя бы одного слова. Все начали уже беспокоиться, но аббат объявил спокойным голосом, что у графа Альберта бывают иногда припадки непробудного сна, вроде какого-то оцепенения, и если его внезапно разбудить, то он приходит в очень возбужденное состояние, после чего в течение нескольких дней плохо себя чувствует.
«Но ведь это болезнь! – с тревогой воскликнула канонисса.
«Не думаю, – отвечал аббат, – я никогда не слышал, чтобы он на что-либо жаловался. Доктора, которых я приглашал во время подобного сна, не находили у графа никакой болезни, а это состояние объясняли переутомлением, физическим или умственным. Они настаивали, что нельзя нарушать этой потребности в полном покое и забвении».
«И часто это с ним бывает? – спросил дядя.
«Я наблюдал это явление лишь пять-шесть раз за все восемь лет, – ответил аббат, – и так как я никогда не тревожил его, то это проходило без всяких неприятных последствий».
«И долго это продолжается? – спросила я в свою очередь, очень раздосадованная.
«Более или менее долго, – сказал аббат, – в зависимости от того, как долго длилась бессонница, предшествовавшая этой потере сил или вызвавшая ее. Но знать это невозможно, так как граф сам не помнит причины или не хочет о ней говорить. Он очень много работает и скрывает это с редкой скромностью».
«Значит, он очень начитан? – спросила я.
«Чрезвычайно», – ответил аббат.
«И никогда этого не выказывает?»
«Он делает из этого тайну и даже сам этого не подозревает».
«На что ему эта ученость в таком случае?»
«Гений – как красота, – ответил льстивый иезуит, глядя на меня маслеными глазками, – это милости неба, не внушающие ни гордости, ни волнения тем, кто ими наделен».
Я поняла его наставление и, как вы можете себе представить, еще больше разозлилась. Решили отложить прогулку до пробуждения моего кузена. Но когда по прошествии двух часов он так и не появился, я скинула свою великолепную амазонку и села вышивать за пяльцы. Не скрою, при этом я много изорвала шелка и пропустила крестиков. Я была возмущена дерзостью Альберта. Как он смел, сидя над своими книгами, забыть о предстоящей прогулке со мной и теперь спать непробудным сном, в то время как я его жду?! Время шло, и поневоле пришлось отказаться от поездки в город. Мой отец, вполне удовлетворившись объяснениями аббата, взял свое ружье и преспокойно отправился стрелять зайцев. Тетушка, менее спокойная, раз двадцать поднималась к комнате племянника, чтобы послушать у его дверей. Но там царила мертвая тишина, не слышно было даже его дыхания. Бедная старушка была в отчаянии, видя, до чего я недовольна. А дядя Христиан, чтобы забыться, взял книжку духовного содержания, уселся в уголке гостиной и стал читать с таким смирением, что я готова была выпрыгнуть в окно с досады. Наконец, уже под вечер, тетушка, вся сияющая, пришла сказать, что Альберт встал и одевается. Аббат посоветовал нам при появлении молодого графа не проявлять ни удивления, ни беспокойства, не предлагать ему никаких вопросов и только стараться отвлечь его, если он будет огорчен случившимся.
«Но если мой кузен не болен, значит, он маньяк? – воскликнула я, вспылив. Я сейчас же пожалела о сказанном, увидев, как изменилось от моих жестоких слов лицо бедного дяди.
Но когда Альберт как ни в чем не бывало вошел, не найдя нужным даже извиниться и, видимо, нимало не подозревая о нашем недовольстве, я возмутилась и очень сухо с ним поздоровалась. Он даже не заметил этого. Казалось, он был весь погружен в свои думы.
Вечером моему отцу пришло в голову, что Альберта может развеселить музыка. Я еще ни разу не пела при нем; моя арфа прибыла только накануне. Не перед вами, ученая Порпорина, мне хвастаться своими познаниями в музыке, но вы сами убедитесь, что у меня недурной голосок и есть врожденная музыкальность. Я заставила долго просить себя: мне больше хотелось плакать, чем петь. Альберт не проронил ни слова, не выказал ни малейшего желания послушать меня. Наконец я все-таки согласилась, но пела очень плохо, и Альберт, словно я терзала ему слух, был настолько груб, что после нескольких тактов вышел из комнаты. Мне пришлось призвать на помощь все мое самолюбие, всю мою гордость, чтобы не расплакаться и допеть арию, не порвав со злости струн арфы. Тетушка вышла вслед за племянником, отец мой сейчас же заснул, а дядя ждал у дверей возвращения сестры, чтобы узнать от нее, что с сыном. Один аббат рассыпался передо мной в комплиментах, но они злили меня больше, чем безразличие остальных. «По-видимому, мой кузен не любит музыки», – сказала я.
«Напротив, он очень ее любит, – отвечал аббат, – но это зависит…»
«От того, как поют», – прервала я его.
«… от его душевного состояния, – продолжал он, не смутившись. Иногда музыка ему приятна, иногда вредна. По-видимому, вы так его растрогали, что он не в силах был владеть собой и ушел, испугавшись, как бы не обнаружить свои чувства. Это бегство должно вам льстить больше всяких похвал».
В лести иезуита было что-то хитрое и насмешливое, возбуждавшее во мне ненависть к этому человеку. Но скоро я избавилась от него, как вы это сейчас увидите.
Глава 28
– На следующий день моей тетушке, становящейся разговорчивой, лишь когда она чем-нибудь очень взволнована, пришла в голову злосчастная мысль затеять беседу с аббатом и капелланом. А так как, помимо родственных привязанностей, поглощающих ее почти всецело, единственное в мире, что ее интересует, – это величие нашего рода, то она не преминула распространиться насчет своей родословной, доказывая обоим священникам, что наш род, особенно по женской линии, самый знаменитый, самый чистый – словом, наилучший из всех немецких родов. Аббат слушал терпеливо, капеллан – с благоговением, как вдруг Альберт, казалось совершенно не слушавший тетушку, прервал ее с легким раздражением:
«Мне кажется, милая тетушка, что вы заблуждаетесь относительно превосходства нашего рода. Правда, и дворянство и титулы получены нашими предками довольно давно, но род, потерявший свое имя и, так сказать, отрекшийся от него, сменивший его на имя женщины, чужой по национальности и по вере, – такой род утрачивает право гордиться своими старинными доблестями и верностью своей стране».
Это замечание задело канониссу за живое, и, заметив, что аббат насторожился, она сочла нужным возразить племяннику.
«Я не согласна с вами, дорогой мой, – сказала она. – Не раз бывало, что какой-нибудь именитый род возвышался еще более, присоединив к своему имени имя материнской линии, дабы не лишить своих наследников чести происходить от женщины доблестного рода».
«Но здесь этот пример неприменим, – возразил Альберт с несвойственной ему настойчивостью. – Я понимаю, что можно соединить два славных имени. Я нахожу вполне справедливым, чтобы женщина передала детям свое имя, присоединив его к имени мужа. Но полное уничтожение имени мужа кажется мне оскорблением со стороны той, которая этого требует, и низостью со стороны того, кто этому подчиняется».
«Альберт, вы вспоминаете события из слишком далекого прошлого, – проговорила с глубоким вздохом канонисса, – и приводите пример, еще менее удачный, чем мой. Господин аббат, слушая вас, мог подумать, что какой-то мужчина, наш предок, был способен на низость. Раз вы так прекрасно осведомлены о вещах, которые, как я думала, вам почти неизвестны, вы не должны были делать подобное замечание по поводу политических событий… столь далеких от нас, благодарение богу…»
«Если сказанное мною вам неприятно, тетушка, я сейчас приведу факт, который смоет всякое позорное обвинение с памяти нашего предка Витольда, последнего графа Рудольштадта. Это, мне кажется, очень интересует мою кузину, – заметил он, видя, как я вытаращила на него глаза, пораженная тем, что он, вопреки своей обычной молчаливости и философскому образу мыслей, вдруг пустился в такой спор. – Да будет вам известно, Амелия, что нашему прадеду Братиславу едва исполнилось четыре года, когда его мать, Ульрика Рудольштадт, сочла нужным заклеймить его позором, – отняв у него его настоящее имя, имя его отцов – Подебрад, и дав ему взамен то саксонское имя, которое мы теперь носим вместе с вами: вы – не краснея, а я – не гордясь им».
«По-моему, совершенно бесполезно вспоминать о вещах, столь далеких от нашей эпохи», – проговорил граф Христиан, которому, видимо, было не по себе.
«Мне кажется, что тетушка заглянула в еще более далекое прошлое, рассказывая нам про великие заслуги Рудольштадтов, и я не понимаю, что дурного в том, если кто-нибудь из нас, случайно вспомнив, что он чех, а не саксонец по происхождению, что его зовут Подебрад, а не Рудольштадт, станет рассказывать о событиях, которые произошли всего каких-нибудь сто двадцать лет тому назад».
«Я знал, – вмешался аббат, слушавший Альберта с большим интересом, что ваш именитый род в прошлом был в родстве с королевским родом Георгия Подебрада, но не подозревал, что вы прямые его потомки, имеющие право носить его имя».
«Это потому, – ответил Альберт, – что тетушка, так хорошо разбирающаяся в генеалогии, сочла нужным отсечь в своей памяти то древнее и почтенное древо, от которого происходим мы. Но генеалогическое древо, на котором кровавыми буквами занесена наша славная и мрачная история, еще высится на соседней горе».
Так как, говоря это, Альберт оживлялся все больше и больше, а лицо дяди делалось все мрачнее, аббат, хотя в нем и было задето любопытство, попробовал было переменить разговор. Но мое любопытство было слишком сильно.
«Что вы хотите сказать этим, Альберт? – воскликнула я, подходя к нему.
«Я хочу сказать то, что каждый из рода Подебрадов должен был бы знать, – ответил он. – Я хочу сказать, что на старом дубе скалы Ужаса, на который вы ежедневно смотрите из своего окна, Амелия, и под сень которого я советую вам никогда не садиться, не сотворив молитвы, триста лет тому назад висели плоды потяжелее тех высохших желудей, которые теперь почти не растут на нем».
«Это ужасная история, – пробормотал перепуганный капеллан, – не понимаю, кто мог об этом рассказать графу Альберту».
«Местное предание, а быть может, нечто еще более достоверное, – ответил Альберт. – Как ни сжигай семейные архивы и исторические документы, господин капеллан, как ни воспитывай детей в неведении минувшего, как ни заставляй молчать простодушных людей с помощью софизмов, а слабых – с помощью угроз, – ни страх пред деспотизмом, ни боязнь ада не могут заглушить тысячи голосов прошлого, они несутся отовсюду. Нет! Нет! Они слишком громки, эти ужасные голоса, чтобы слова священника могли заставить их умолкнуть. Когда мы спим, они говорят нашим душам устами призраков, поднимающихся из могил, дабы предупредить нас; мы слышим эти голоса среди шума природы; они, как некогда голоса богов в священных рощах, исходят даже из древесных стволов, чтобы рассказать нам о преступлениях, о несчастьях и подвигах наших отцов…»
«Зачем, мой бедный мальчик, ты мучаешь себя такими горестными мыслями и роковыми воспоминаниями? – проговорила канонисса.
«Это ваша генеалогия, тетушка, это путешествие, которое вы только что совершили в прошлые века, – это они пробудили во мне воспоминание о пятнадцати монахах, собственноручно повешенных на ветвях дуба одним из моих предков… Да, моим предком, самым великим, самым страшным, самым упорным, – тем, кого звали «Грозный слепец», непобедимый Ян Жижка, поборник чаши!»
Громкое, ненавистное имя главы таборитов – сектантов, которые во время Гуситских войн превосходили своей энергией, храбростью и жестокостью всех остальных реформатов, поразило, как удар грома, обоих священников. Капеллан даже осенил себя крестным знамением, а тетушка, сидевшая рядом с Альбертом, невольно отодвинулась от него.
«Боже милостивый! – воскликнула она. – Да о чем и о ком говорит этот мальчик? Не слушайте его, господин аббат! Нет, никогда, никогда наша семья не имела ничего общего с тем окаянным, гнусное имя которого он только что произнес».
«Говорите за себя, тетушка, – решительно возразил Альберт. – Вы – Рудольштадт в душе, хотя в действительности происходите от Подебрадов. Но в моих жилах течет на несколько капель больше чешской крови и на несколько капель меньше крови иностранной. В родословном древе моей матери не было ни саксонцев, ни баварцев, ни пруссаков; она была чистой славянской расы. Вы, тетушка, по-видимому, не интересуетесь благородным происхождением, на которое не можете претендовать, а я, дорожа своим личным славным происхождением, могу сообщить вам, если вы не знаете, и напомнить вам, если вы забыли, что у Яна Жижки была дочь, которая вышла замуж за графа Прахалица, и что мать моя, будучи сама Прахалиц, – потомок по прямой женской линии Яна Жижки так точно, как вы, тетушка, – потомок Рудольштадтов».
«Это бред, это заблуждение, Альберт…»
«Нет, дорогая тетушка, это вам может подтвердить господин капеллан, человек правдивый, богобоязненный; у него в руках были дворянские грамоты, удостоверяющие это».
«У меня? – вскричал капеллан, бледный как мертвец.
«Вы можете в этом сознаться, не краснея перед господином аббатом, – с горькой иронией ответил Альберт. – Вы только исполнили свой долг католического священника и австрийского подданного, когда сожгли эти документы на следующий день после смерти моей матери».
«Моя совесть повелела мне тогда сжечь их, но свидетелем этого был один господь, – проговорил капеллан, еще больше бледнея. – Граф Альберт, скажите, кто мог вам это открыть?»
«Я уже сказал вам, господин капеллан: голос, говорящий громче, чем голос священника».
«Что это за голос, Альберт? – спросила я, сильно заинтересованная.
«Голос, говорящий во время сна», – ответил Альберт.
«Но это ничего не объясняет, сын мой», – сказал граф Христиан задумчиво и грустно.
«Голос крови, отец мой! – ответил Альберт тоном, заставившим всех нас вздрогнуть.
«О боже мой! – воскликнул дядя, молитвенно сложив руки. – Опять те же сны, опять та же игра больного воображения, которые когда-то так терзали его бедную мать. – И, наклонившись к тетушке, он тихо прибавил: – Должно быть, во время своей болезни она обо всем этом говорила при ребенке, и, очевидно, это запечатлелось в его детском мозгу».
«Это невозможно, братец, – ответила канонисса, – Альберту не было и трех лет, когда он потерял мать».
«Вероятнее всего, – вполголоса заговорил капеллан, – что в доме могло сохраниться что-нибудь из тех проклятых еретических писаний, полных лжи и безбожия, которые она хранила в силу семейных традиций. Тем не менее перед смертью у нее хватило нравственных сил пожертвовать ими».
«Нет, от них ничего не сохранилось, – проговорил Альберт, не пропустивший ни одного слова, сказанного капелланом, несмотря на то, что тот говорил очень тихо, а молодой граф, возбужденно прохаживавшийся по большой гостиной, в это время был на другом ее конце. – Вы сами прекрасно знаете, господин капеллан, что вы уничтожили все и что на следующий день после ее кончины вы все обыскали и перерыли в ее комнате».
«Откуда ты все это взял, Альберт? – строго спросил граф Христиан. Какой вероломный или безрассудный слуга вздумал смутить твой юный ум, рассказав, несомненно в преувеличенном виде, об этих семейных событиях?» «Ни один из слуг мне этого не говорил, отец, клянусь моей верой и совестью».
«Значит, это дело рук врага рода человеческого», – пробормотал с ужасом капеллан.
«Пожалуй, более правдоподобно и более по-христиански, – вставил аббат, – допустить, что граф Альберт одарен исключительной памятью и что события, которые обыкновенно проходят для детей бесследно, запечатлелись в его мозгу. Убедившись в редком уме графа, я могу легко предположить, что он развился чрезвычайно рано, а память его поистине необыкновенна». «Память моя вам кажется такой необыкновенной лишь потому, что вы сами совершенно лишены ее, – возразил сухо Альберт. – Например, вы не помните, что вы делали в тысяча шестьсот девятнадцатом году, после того как мужественный, верный протестант Витольд Подебрад (ваш дед, дорогая тетушка), последний предок, носивший наше имя, обагрил своей кровью скалу Ужаса. Бьюсь об заклад, господин аббат, что вы забыли о вашем поведении при этих обстоятельствах».
«Признаюсь, совершенно забыл», – ответил аббат с насмешливой улыбкой, что было не очень благовоспитанно в ту минуту, когда нам всем стало ясно, что Альберт бредит.
«В таком случае, я вам напомню, – сказал Альберт, ничуть не смущаясь. – Вы начали с того, что поспешили дать совет императорским солдатам, только что прикончившим Витольда Подебрада, бежать или спрятаться, так как вы знали, что пильзенские рабочие, имевшие мужество признавать себя протестантами и обожавшие Витольда, уже шли отомстить за смерть своего повелителя, готовясь растерзать в клочья его убийц. Затем вы отправились к моей прабабке Ульрике, дрожащей и запуганной вдове Витольда, и предложили ей прощение императора Фердинанда Второго, сохранение ее поместий, титулов, свободы, жизни ее детей – при условии, если она последует вашим советам и оплатит ваши услуги золотом. Она согласилась на это: материнская любовь толкнула ее на такой малодушный поступок. Она не почтила мученической кончины благородного супруга. Она родилась католичкой и отреклась от своей веры только из любви к мужу. Она не нашла в себе сил пойти на нищету, изгнание, гонения ради того, чтобы сохранить детям веру, которую их отец только что запечатлел своей кровью, и сохранить им то имя, которое он прославил больше всех своих предков – гуситов, каликстинов, таборитов, сирот, союзных братьев и лютеран». (Все это, милая Порпорина, названия еретических сект, существовавших во времена Яна Гуса и Мартина Лютера; к ним, по-видимому, принадлежала и та ветвь рода Подебрадов, от которой происходим мы.) «Словом, – продолжал Альберт, – саксонка испугалась и уступила. Вы завладели замком, вы заставили императорских солдат покинуть его, вы спасли наши поместья. На огромном костре вы сожгли все наши грамоты, весь наш архив. Вот почему моей тетушке, на ее счастье, не удалось восстановить родословное древо Подебрадов, и она нашла себе пищу более удобоваримую – родословную Рудольштадтов. За ваши труды вы получили большую награду, – вы разбогатели, очень разбогатели. Три месяца спустя Ульрике было разрешено отправиться в Вену и припасть к стопам императора, который тут же милостиво разрешил ей переменить подданство ее детей, воспитывать их под вашим руководством в католической вере, а в будущем отдать на военную службу и позволить сражаться под теми знаменами, против которых так мужественно боролись их отец и деды. Словом, я и мои сыновья, мы были зачислены в ряды войск австрийского тирана…»
«Ты и твои сыновья!.. – с отчаянием воскликнула тетушка, видя, что он совсем заговаривается.
«Да, мои сыновья: Сигизмунд и Рудольф», – ответил пресерьезно Альберт.
«Это имена моего отца и дяди, – пояснил граф Христиан. – Альберт, в уме ли ты? Очнись, сын мой! Больше столетия отделяет нас от этих горестных событий, совершившихся по воле божьей…»
Альберт стоял на своем. Он внушил себе и хотел убедить и нас в том, что он – Братислав, сын Витольда, и первый из Подебрадов, носивший материнское имя – Рудольштадт. Он рассказал нам о своем детстве и о пытках графа Витольда, о которых он сохранил самое ясное воспоминание. Виновником мученической смерти Витольда он считал иезуита Дитмара (которым, по его мнению, был не кто иной, как аббат-гувернер). Он говорил также о глубокой ненависти, которую испытывал в детстве к этому Дитмару, к Австрии, к императорской династии и к католикам. Затем его воспоминания стали как-то путаться; он стал плести массу непонятных вещей о вечной и непрерывной жизни, о возвращении людей с того света на землю, основываясь при этом на веровании гуситов: будто Ян Гус через сто лет после своей смерти вернется в Богемию, чтобы закончить начатое дело. По словам Альберта, предсказание это исполнилось, так как, уверял он, Лютер – это воскресший Ян Гус. Одним словом, в его речах была какая-то странная смесь ереси, суеверия, мрачной метафизики и поэтического бреда. И все это говорилось так убедительно, с такими точными, интересными подробностями событий, которых он якобы был свидетелем и которые касались не только Братислава, но и Яна Жижки и многих других умерших (он уверял, что все это – его собственные прошлые воплощения), что мы молчали, пораженные, не решаясь ни остановить его, ни противоречить ему. Дядя и тетушка, ужасно страдавшие от этого, по их мнению, нечестивого безумия, тем не менее хотели до конца разобраться в нем; ведь безумие Альберта впервые обнаружилось так открыто, и надо же было знать источник беды, чтобы потом иметь возможность с ней бороться. Аббат пытался было обратить все в шутку, уверяя, что граф Альберт, забавник и насмешник, тешит себя, мистифицируя нас своей эрудицией.
«Он так много читал, – говорил он, – что был бы в состоянии таким вот образом, глава за главой, рассказать нам историю всех веков, притом с такими подробностями, с такой точностью, что люди, склонные верить в чудесное, могли бы подумать, будто он действительно сам присутствовал при всех описанных им сценах».
Канонисса, которая при всей своей пламенной набожности была склонна к суеверию и уже начинала верить племяннику на слово, отнеслась очень неприязненно к разглагольствованиям аббата и посоветовала ему приберечь свои шуточные пояснения до более веселого случая; затем она стала всячески пытаться вернуть племянника к действительности.
«Берегитесь, тетушка, – нетерпеливо ответил Альберт на ее увещания, – берегитесь, чтобы я вам не сказал, кто вы такая. До сих пор я гнал от себя эту мысль, но что-то говорит мне, что подле меня стоит сейчас саксонка Ульрика».
«Так вы думаете, бедное дитя мое, – ответила канонисса, – что эта благоразумная, самоотверженная прабабка, сумевшая сохранить своим детям жизнь, а потомкам независимость, состояние, почести – все, чем они теперь пользуются, – вы думаете, что она возродилась снова во мне? Знайте же, Альберт, я так люблю вас, что в состоянии была бы сделать даже больше, чем она. Я пожертвовала бы своей жизнью, если бы этой ценой могла исцелить ваш помутившийся рассудок».
Альберт некоторое время молча смотрел на тетку, и в его взгляде сквозь суровость проглядывала нежность.
«Нет, нет, – сказал он наконец, подходя к ней и опускаясь у ее ног на колени, – вы ангел, и некогда вы причастились из деревянной чаши гуситов. А все-таки саксонка здесь: ее голос сегодня доносился до меня несколько раз».
«Предположите, что это я, Альберт, – проговорила я, пытаясь его развеселить, – только не очень сердитесь на меня за то, что я не предала вас палачам в тысяча шестьсот девятнадцатом году».
«Вы – моя мать! – воскликнул он, глядя на меня страшными глазами. Не говорите мне этого, так как я не могу вам простить. Господь возродил меня от более сильной женщины, он закалил кровью Жижки мое естество, сбившееся с правильного пути. Амелия, не смотрите на меня, а главное, не говорите со мной! Это ваш голос, Ульрика, причинил мне сегодня все эти страдания!»
С этими словами Альберт стремительно вышел, оставив нас в самом угнетенном состоянии, ибо мы с горечью убедились в расстройстве его ума. Было два часа пополудни. Перед этим мы спокойно отобедали. За обедом ничего, кроме воды, Альберт не пил, так что его безумные речи никак нельзя было объяснить опьянением. Тетушка с капелланом сейчас же побежали за ним вслед: считая его тяжелобольным, они хотели чем-нибудь помочь ему. Но – непостижимая вещь! – Альберт исчез, как по волшебству. Его нигде не могли найти: ни в его комнате, ни в комнате матери, где он часто запирался, ни в одном из закоулков замка. Его всюду искали – в саду, у речного заповедника, в окрестных лесах, в горах. Ни один человек не видел его ни вблизи, ни издали. Даже следов его не могли найти. Никто в замке в эту ночь не ложился спать. Слуги с факелами до самого рассвета искали его.
Все семейство молилось. Следующий день прошел в той же тревоге, а следующая ночь – в том же унынии. Не умею вам выразить, в каком ужасе я была – ведь до сих пор я ни разу не испытала подобных волнений и не переживала столь важных семейных событий. Я была убеждена, что Альберт лишил себя жизни или бежал навсегда. Со мной сделался нервный припадок, меня трясла лихорадка. Несмотря на ужас, внушаемый мне этим странным, роковым человеком, во мне все еще жил остаток любви к нему. У моего отца хватило сил отправиться на охоту: он воображал, что где-то в глубине лесов нападет на след Альберта. Бедная моя тетушка, терзаемая горем, не падала духом, была деятельна, мужественна, ухаживала за мной и старалась всех успокоить. Дядя молился день и ночь. Видя его горячую веру и стоическую покорность воле божьей, я пожалела, что не набожна.
Аббат делал вид, будто немного грустит, но уверял, что совершенно спокоен. «Надо правду сказать, – говорил он, – граф Альберт во время наших путешествий ни разу так надолго не исчезал, но иногда у него бывала потребность в уединении и духовном созерцании». По мнению аббата, лучшее средство против странностей молодого графа заключалось в том, чтобы никогда ему не перечить и делать вид, будто ничего не замечаешь. На самом же деле этот интриган и величайший эгоист был заинтересован исключительно в получении большого жалованья и потому старался как можно дольше протянуть срок своего пребывания в гувернерах, вводя семью в заблуждение и приписывая себе несуществующие заслуги. Занятый своими делами и развлечениями, он предоставлял Альберта самому себе и, видимо, совершенно не препятствовал развитию его странностей. Очень возможно, что он не раз видел его больным и возбужденным. Несомненно одно, что аббат умел скрывать эти странности от всех, кто бы мог сообщить нам о них. Все письма, полученные дядей от друзей, были полны поздравлений по поводу достоинств его красавца сына и похвал в его адрес. Очевидно, Альберт нигде и ни на кого не производил впечатления больного или не вполне нормального человека. Как бы то ни было, его внутренняя жизнь за все эти восемь лет странствований являлась для нас непроницаемой тайной.
По прошествии трех суток, видя, что Альберт все не появляется, и опасаясь, как бы это происшествие не повредило его собственным делам, аббат собрался ехать в Прагу, якобы на поиски молодого графа, который, по его мнению, мог разыскивать в этом городе какую-нибудь книгу.
«Альберт подобен ученым, – говорил он, – которые так погружены в свои изыскания, что для удовлетворения своей невинной страсти готовы забыть весь мир».
Засим аббат уехал и более не вернулся.
После целой недели мучительной тревоги, когда мы стали уже совсем отчаиваться, тетушка, проходя мимо комнаты Альберта, вдруг увидела в открытую дверь, что он преспокойно сидит в кресле и гладит собаку, сопровождавшую его в таинственном путешествии. На его платье не видно было ни грязи, ни дыр, только золотое шитье потемнело, словно он был в сыром месте или проводил ночи под открытым небом. Обувь его также была в порядке, – видимо, он ходил не много. Только борода и волосы свидетельствовали о том, что он давно ими не занимался. С этого дня, надо сказать, он перестал бриться и пудрить волосы, как другие мужчины, – вот почему он вам, Нина, и показался привидением.
Тетушка с криком бросилась к нему.
«Что с вами, милая тетушка? – спросил он, целуя ей руку. – Можно подумать, что вы меня целый век не видели».
«Бедный мой мальчик, – воскликнула она, – ведь ты пропадал целую неделю, ни словом нас не предупредив! Вот уже семь смертельных дней, семь смертельных ночей, как мы тебя ищем, плачем о тебе, за тебя молимся». «Семь дней? – повторил Альберт, с удивлением глядя на нее. – То есть вы хотите сказать, милая тетушка, – семь часов? Ведь я только сегодня утром ушел на прогулку и, как видите, вернулся, не опоздав к ужину. Неужели я мог до такой степени встревожить вас столь коротким отсутствием?» «Да, конечно, – проговорила канонисса, боясь ухудшить болезненное состояние племянника, раскрыв ему правду. – Это я обмолвилась: я хотела сказать семь часов. А беспокоилась я потому, что ты не привык к таким длинным прогулкам; к тому же я видела сегодня ночью дурной сон, и это вывело меня из равновесия».
«Милая тетушка, чудесный мой друг! – нежно проговорил Альберт, целуя ее руки. – Вы меня любите, как малого ребенка. Но отец, надеюсь, не беспокоился?»
«Ничуть не беспокоился, ждет тебя ужинать. Воображаю, как ты, должно быть, голоден».
«Не очень: я ведь хорошо пообедал».
«Где и когда, Альберт?»
«Да здесь, сегодня, с вами, милая тетушка. Но я вижу, что вы все еще не пришли в себя. Как я огорчен, что так напугал вас. Но мог ли я это предвидеть?»
«Ну, ведь ты меня знаешь. Лучше расскажи, где ты кушал и где спал с того времени, как ушел из дома».
«С сегодняшнего утра? Да как же я мог хотеть спать, как мог проголодаться?»
«А скажи, тебе не нездоровится?»
«Ничуть».
«Ты не устал? Ты, должно быть, много ходил, взбирался на горы? Это очень утомительно. Где же ты был?»
Альберт прикрыл глаза рукой, как бы силясь вспомнить, но не смог. «Признаться, ничего не помню, – наконец проговорил он. – Уж очень я был занят своими мыслями. Я шел, ничего не замечая, как, помните, бывало в детстве. Ведь я никогда не мог ответить ни на один из ваших вопросов». «Ну, а во время своих путешествий ты обращал внимание на то, что видел?»
«Иногда, но не всегда. Я многое наблюдал, но многое и забыл, слава богу».
«А почему «слава богу»?»
«Да потому, что на земле приходится видеть ужасные вещи», – ответил он, вставая с мрачным видом, которого до сих пор тетушка не замечала в Нем. Тут она поняла, что не следует больше заставлять его говорить, и поспешила к дяде сообщить, что сын его нашелся. Никто в доме еще не знал этого, никто не видел, как он вернулся. Он так же незаметно появился, как исчез.
Бедный дядя, столь мужественно переносивший все предшествующие мучения, не выдержал такой радости, – с ним сделался обморок. Так что, когда Альберт вошел, отец выглядел хуже сына. Альберт, который после своих долгих путешествий обычно ничего не замечал из происходившего вокруг, в этот вечер казался совсем другим. Он был очень нежен с отцом, встревожился его плохим видом, допытывался, что тому причиной. Когда же ему рискнули намекнуть на то, что довело его отца до такого состояния, он ничего не понял, и из его искренних ответов было видно, что он решительно ничего не помнит о своем исчезновении, длившемся неделю.
– То, что вы мне рассказываете, положительно похоже на сон, милая баронесса, – проговорила Консуэло. – Это способно не усыпить меня, как вы ожидали, а свести с ума. Мыслимо ли, чтобы человек прожил целую неделю, ничего не сознавая?
– И представьте, это ничто по сравнению с тем, что вы еще услышите от меня. Я прекрасно понимаю, что вам трудно поверить мне, пока вы собственными глазами не убедитесь, что я не только ничего не преувеличиваю, но, напротив, о некоторых вещах умалчиваю, чтобы сократить свой рассказ. Знайте, я говорю вам лишь о том, что видела собственными глазами, и все-таки иногда спрашиваю себя: что же такое Альберт – колдун или человек, издевающийся над нами? Однако поздно; боюсь, что я злоупотребляю вашей любезностью.
– Нет, это я злоупотребляю вашей, – ответила Консуэло. – Вы, должно быть, очень устали. Хотите, отложим до завтра продолжение этой невероятной истории?
– Хорошо. Итак, до завтра, – сказала юная баронесса, обнимая ее.
Глава 29
Консуэло, выслушав эту действительно невероятную историю, долго не могла заснуть. Темная дождливая ночь, словно оглашавшаяся стенаниями, еще усиливала незнакомый ей дотоле суеверный страх. «Значит, существует непостижимый рок, тяготеющий над некоторыми людьми? – говорила она себе. – Чем провинилась перед богом эта молодая девушка, только что так откровенно рассказывавшая о своем оскорбленном наивном самолюбии, о своих обманутых радужных надеждах? А что дурного сделала я сама, чтобы моя единственная любовь была так чудовищно разбита и поругана? Какой грех совершил этот нелюдимый Альберт Рудольштадт, чтобы потерять рассудок и способность управлять собственной жизнью? И какое же отвращение должно было возыметь провидение к Андзолето, чтобы предоставить его, как оно это сделало, его дурным склонностям и соблазнам разврата!»
Побежденная усталостью, она наконец, заснула и погрузилась в бессвязные и бесконечные сны. Два-три раза она просыпалась и снова засыпала, не будучи в силах дать себе отчет в том, где она, и считая, что она все еще в дороге. Порпора, Андзолето, граф Дзустиньяни и Корилла – все по очереди проходили перед ее глазами, говоря ей странные, мучительные вещи, упрекая в каком-то преступлении, за которое она несла наказание, хотя и не помнила, чтобы она его совершала. Но все эти видения стушевывались перед образом Альберта. Он беспрестанно появлялся перед ней со своей черной бородой, с устремленным в одну точку взором, в своем траурном одеянии, напоминавшем золотой отделкой и рассеянными по нему блестками покров покойника.
Проснувшись, она увидела у своей постели Амелию, уже нарядно одетую, свежую, улыбающуюся.
– Знаете, милая Порпорина, – обратилась к ней юная баронесса, целуя ее в лоб, – в вас есть что-то странное. Видно, мне суждено жить с необыкновенными существами, потому что и вы тоже принадлежите к их числу, это несомненно. Вот уже четверть часа, как я смотрю на вас спящую, чтобы рассмотреть при дневном свете, красивее ли вы, чем я. Признаюсь, меня это отчасти тревожит, и хоть я и поставила крест на своей любви к Альберту, но мне все-таки было бы немного обидно, начни он заглядываться на вас. Как бы то ни было, он ведь здесь единственный мужчина, а я до сих пор была единственной женщиной. Теперь нас две, и если вы меня затмите, я этого вам не прощу.
– Вы любите насмехаться, – ответила Консуэло. – Это невеликодушно с вашей стороны. Оставьте эти злые шутки и лучше скажите мне, что же во мне необыкновенного? Быть может, мое прежнее уродство вернулось? Я думаю, что это именно так.
– Скажу вам всю правду, Нина. Сейчас, при первом взгляде на вас, когда вы лежали такая бледная, полузакрыв огромные, скорее остановившиеся, чем сонные глаза, свесив с кровати худую руку, сознаюсь – я пережила минуту торжества. Но чем больше я смотрела на вас, тем больше поражала меня ваша неподвижность, ваш поистине царственный вид. Знаете, рука ваша – это рука королевы, а в вашем спокойствии есть что-то подавляющее, что-то покоряющее, – я и сама не знаю что. И вдруг вы начали казаться мне до ужаса красивой, а между тем взгляд у вас очень кроткий. Скажите мне, Нина, что вы за человек? В одно и то же время вы и привлекаете и пугаете меня. Мне очень совестно всех тех глупостей, которые сегодня ночью я успела вам наговорить; вы мне еще ничего не сказали о себе, а сами уже знаете все мои недостатки.
– Если у меня вид королевы, что, право, никогда не приходило мне в голову, – ответила Консуэло, грустно улыбаясь, – то разве только королевы жалкой, развенчанной. Красота моя всегда казалась мне весьма спорной. Если же вы хотите знать мое мнение о вас, милая баронесса Амелия, то вы подкупили меня своей откровенностью и добротой.
– Что я откровенна – это так, но откровенны ли вы, Нина? Правда, в вас чувствуется величие, благородная честность, но общительны ли вы? Думаю, что нет.
– Согласитесь, не мне же делать первые шаги. Это вы, моя теперешняя покровительница и хозяйка моей судьбы, должны вызвать меня на откровенность.
– Вы правы. Но ваше благоразумие пугает меня. Скажите, вы не будете слишком меня журить за мое легкомыслие?
– Я не имею на это никакого права. Я ваша учительница музыки, и только. К тому же бедная девушка, вышедшая из народа, как я, всегда должна знать свое место.
– Вы из народа, гордая Порпорина?! О, это неправда! Этого не может быть! Скорее вы кажетесь мне таинственным ребенком какого-нибудь княжеского рода. Чем занималась ваша мать?
– Она пела, так же как и я.
– А ваш отец? Консуэло смутилась. Она не приготовила заранее ответов на все нескромно-фамильярные вопросы юной баронессы. Дело в том, что она никогда ничего не слыхала о своем отце, и ей даже не приходило в голову поинтересоваться, был ли он вообще у нее.
– Так я и знала, – воскликнула, заливаясь смехом, Амелия, – ваш отец был или испанский гранд, или венецианский дож.
Тон этого разговора показался Консуэло легкомысленным и обидным.
– По-вашему, – заметила Консуэло с оттенком неудовольствия, – честный мастеровой или бедный артист не имеет права передать своему ребенку прирожденное благородство? Вам кажется, что дети народа должны быть непременно грубы и уродливы?
– То, что вы сказали, это колкость по адресу моей тети Венцеславы, возразила баронесса, смеясь еще громче. – Ну, простите меня, дорогая Нина, если я немножко вас рассердила, и позвольте мне придумать о вас самый красивый роман. Однако, милочка, одевайтесь живее: сейчас зазвонит колокол, и тетушка скорее уморит всех нас голодом, чем прикажет подать завтрак без вас. Я помогу вам открыть ваши сундуки, давайте ключи. Я уверена, что вы привезли из Венеции прехорошенькие туалеты и теперь просветите меня по части мод: ведь я так давно прозябаю в этой дикой стране.
Консуэло, торопясь причесаться и даже не слыша, что ей говорит баронесса, отдала девушке ключи, а Амелия, схватив их, поспешно принялась открывать первый сундук, воображая, что он полон платьев; но, к великому ее удивлению, в нем не оказалось ничего, кроме кипы старых-престарых нот – печатных, полустертых от долгого употребления, и рукописных, на первый взгляд совершенно неудобочитаемых.
– Что это такое? – воскликнула она, вытирая поспешно свои хорошенькие пальчики. – У вас, милая Нина, престранный гардероб.
– Это сокровища, – ответила Консуэло, – обращайтесь с ними почтительно, дорогая баронесса. Тут есть автографы величайших композиторов, и я согласилась бы скорее потерять голос, чем не вернуть эти драгоценности Порпоре, доверившему их мне.
Амелия открыла второй сундук: он был полон нотной бумаги и сочинений о музыке, композиции, гармонии и контрапункте.
– А! Понимаю. Это ваш ларчик с драгоценностями, – проговорила она смеясь.
– Другого у меня нет, – отвечала Консуэло, – и я хочу надеяться, что и вы будете часто пользоваться им.
– В добрый час! Вижу, что вы строгая учительница. Но вы не обидитесь, милая Нина, если я спрошу, где же ваши платья?
– А вон в той маленькой картонке, – ответила Консуэло, направляясь к ней; открыв ее, она показала баронессе простенькое черное шелковое платье, аккуратно сложенное.
– И это все? – спросила Амелия.
– Да, все, кроме моего дорожного костюма. Через несколько дней я сделаю себе на смену еще такое же черное платье.
– Так вы в трауре, моя дорогая?
– Быть может, синьора, – серьезно ответила Консуэло.
– В таком случае простите меня. Я должна была сама догадаться по вашему виду, что у вас горе, и я еще больше люблю вас за это. Это сблизит нас, потому что у меня ведь тоже есть причина быть грустной и я могла бы уже носить траур по предназначенному мне супругу. Ах, милая Нина, не ужасайтесь моей веселости, часто я стараюсь заглушить ею глубокое горе. Они поцеловались и спустились в гостиную, где их уже ждали.
Консуэло сразу заметила, что в своем простом черном платье и белой косынке, скромно заколотой под самым подбородком булавкой из черного янтаря, она произвела на канониссу благоприятное впечатление. Старик Христиан, казалось, теперь меньше ее стеснялся, а любезен был так же, как и накануне. Барон Фридрих, учтивости ради не поехавший в этот день на охоту, заранее приготовил для гостьи, желая поблагодарить ее за заботы, которые она принимала на себя в отношении его дочери, уйму любезных фраз, но так и не смог выжать из себя ни единого слова. Зато, сев с ней рядом, он до того наивно и надоедливо усердствовал, угощая ее, что сам встал из-за стола голодный. Капеллан поинтересовался, в каком порядке патриарх совершает процессии в Венеции, затем стал расспрашивать о пышности богослужения в тамошних церквах, об их убранстве. Из ответов Консуэло он заключил, что она часто посещала церкви, а когда он узнал еще, что она изучала духовную музыку, то возымел к ней большое уважение.
На графа Альберта Консуэло едва решалась взглянуть, – именно потому, что только он один возбуждал в ней живое любопытство. Она не знала еще, как он относится к ее появлению. Проходя через гостиную, она только увидела его в зеркале и успела заметить, что он одет очень изысканно, хотя по-прежнему в черном. У него был, несомненно, аристократический вид знатного вельможи, но борода, длинные, небрежно свисавшие волосы и загорелое, с желтоватым отливом, лицо придавали ему сходство с красивым, мечтательным рыбаком с берегов Адриатического моря.
Однако звучность его голоса, приятно ласкавшая музыкальное ухо Консуэло, мало-помалу придала ей храбрости, и она взглянула на него. Ее удивило, что у него облик и манеры совершенно нормального человека. Он говорил мало, но рассудительно, а когда она встала из-за стола, подал ей руку, правда, не глядя (этой чести он не оказывал ей со вчерашнего дня), но очень непринужденно и учтиво. Вся дрожа, вложила она свою руку в руку этого фантастического героя рассказов и сновидений прошлой ночи: она ожидала, что эта рука должна быть ледяной, как у мертвеца, но рука оказалась теплой и мягкой, как у человека здорового и заботящегося о себе. Впрочем, Консуэло едва ли была в состоянии дать себе в этом отчет. Она была до того взволнована, что у нее чуть не закружилась голова, а взгляд Амелии, следившей за каждым ее движением, мог бы окончательно смутить ее, если бы она не вооружилась всей силой воли, чтобы сохранить свое достоинство перед этой насмешливой молодой девушкой. Когда граф Альберт, доведя ее до кресла, низко поклонился ей, она ответила на его поклон, но при этом они не обменялись ни единым словом, ни единым взглядом.
– Знаете, коварная Порпорина, – начала Амелия, садясь рядом с подругой, чтобы удобнее было шептать ей на ухо, – вы делаете чудеса с моим кузеном!
– Пока что я этого не замечаю, – ответила Консуэло.
– Это потому, что вы не соблаговолили обратить внимание на то, как он ведет себя по отношению ко мне. За целый год он ни разу не предложил мне руки, чтобы проводить к столу, тогда как в отношении вас он проделал это как нельзя более любезно! Правда, сегодня, он, по-видимому, переживает минуты просветления. Можно подумать, что вы принесли ему и рассудок и здоровье. Но не придавайте этому значения, Нина. С вами повторится то же, что было со мной: три дня он будет предупредителен, радушен, а потом забудет даже о вашем существовании.
– Я вижу, что мне придется привыкать здесь к шуткам, – сказала Консуэло.
– Не правда ли, дорогая тетушка, – обратилась Амелия вполголоса к канониссе, которая подошла и уселась между ней и Консуэло, – не правда ли, мой кузен чрезвычайно любезен с милой Порпориной?
– Не насмехайтесь над ним, Амелия, – кротко ответила Венцеслава. Синьора и без того скоро узнает причину наших горестей.
– Я ничуть не насмехаюсь, тетушка. Альберт сегодня прекрасно выглядит, и я радуюсь, видя его таким, каким, мне кажется, он ни разу не был с тех пор, как я здесь. Если б он еще побрился да напудрил волосы, как все, можно было бы подумать, что он никогда не был болен.
– В самом деле, его спокойный и здоровый вид приятно поражает меня, сказала канонисса, – но я уже боюсь верить, что такое счастье может длиться.
– Каким добрым и благородным он выглядит! – заметила Консуэло, желая завоевать сердце канониссы похвалой ее любимцу.
– Вы находите? – спросила Амелия, пронизывая подругу лукавым и шаловливым взглядом.
– Да, нахожу, – ответила Консуэло решительно, – я еще вчера вечером сказала вам, синьора, что никогда ни одно лицо не внушало мне такого уважения, как лицо вашего кузена.
– О милая девушка! – воскликнула канонисса, вдруг отбрасывая свою чопорность и горячо сжимая руки Консуэло. – Добрые сердца быстро узнают друг друга. Я так боялась, что наш бедный Альберт может напугать вас. Мне очень тяжко бывает читать на лицах людей отвращение, которое вызывают подобные страдания. Но вы, я вижу, хорошая и сразу поняли, что в этом больном, поблекшем теле возвышенная душа, достойная лучшей доли. Консуэло, тронутая до слез словами добрейшей канониссы, порывисто поцеловала ей руку. Она чувствовала уже больше симпатии и доверия к этой горбатой старухе, чем к блестящей и легкомысленной Амелии.
Разговор их прервал барон Фридрих, который, расхрабрившись, подошел к синьоре Порпорине с большой просьбой. Еще более неловкий в дамском обществе, чем старший брат (это, очевидно, было у них в роду, а потому не удивительно, что эта черта дошла до дикости у графа Альберта), барон скороговоркой пробормотал какую-то речь, пересыпая ее множеством извинений, которые Амелия постаралась перенести и объяснить Консуэло.
– Мой отец спрашивает, – сказала Амелия, – чувствуете ли вы себя в силах после такого утомительного путешествия приняться за музыку и не злоупотребим ли мы вашей добротой, если попросим прослушать мое пение и высказать свое мнение о постановке моего голоса.
– С удовольствием, – ответила Консуэло, быстро подходя к клавесину и открывая его.
– Вот увидите, – шепнула ей Амелия, устанавливая ноты на пюпитр, Альберт сейчас же сбежит, как ни прекрасны ваши глаза и мои. Действительно, не успела Амелия взять несколько нот, как Альберт встал и вышел из комнаты на цыпочках, очевидно надеясь быть незамеченным.
– Уже и то хорошо, – шепнула Амелия, продолжая наигрывать на клавесине и перескакивая через несколько тактов, – что он со злости не хлопнул дверью, как обыкновенно делает, когда я начинаю петь. Сегодня он чрезвычайно любезен, можно сказать – даже мил.
Капеллан тут же подошел к клавесину, надеясь скрыть этим исчезновение Альберта, и сделал вид, будто поглощен пением. Остальные члены семьи, усевшись полукругом в отдалении, почтительно ожидали приговора, который Консуэло должна была вынести своей ученице.
Амелия храбро выбрала арию из «Ахилла на Скиросе» Перголезе и пропела ее от начала до конца свежим, резким голосом, очень уверенно, но с таким потешным немецким акцентом, что Консуэло, никогда ничего подобного не слыхавшая, делала неимоверные усилия, чтобы не рассмеяться. Ей достаточно было прослушать несколько тактов, дабы убедиться, что юная баронесса не имеет ни малейшего понятия о настоящей музыке. Голос у нее был гибкий, быть может, она даже брала уроки у хорошего учителя, но сама была слишком легкомысленна, чтобы усвоить что-нибудь основательно. По той же причине, переоценивая свои силы, она бралась с чисто немецким хладнокровием за исполнение самых смелых и трудных пассажей. Нисколько не смущаясь, она искажала их и, рассчитывая загладить свои промахи, форсировала интонацию, заглушала аккомпанементом, восстанавливала нарушенный ритм, добавляя новые такты взамен пропущенных, изменяя всем этим характер музыки до такой степени, что Консуэло, не имей она нот перед глазами, пожалуй, совсем не узнала бы исполняемой вещи.
Между тем граф Христиан, который прекрасно понимал музыку, но воображал, судя по себе, что племянница страшно смущена, время от времени повторял, чтобы ободрить ее:
– Хорошо, Амелия, хорошо! Отличная музыка, право же, отличная!
Канонисса, мало понимавшая в пении, озабоченно смотрела на Консуэло, стараясь предугадать ее мнение по выражению глаз, а барон, не признававший никакой иной музыки, кроме звука охотничьего рога, считал, что дочь его поет слишком хорошо, чтобы он мог оценить всю прелесть ее пения, и доверчиво ждал одобрения судьи. Один капеллан был в восторге от этих рулад: никогда до приезда Амелии ему не приходилось их слышать, и он, блаженно улыбаясь, покачивал в такт своей большущей головой.
Консуэло отлично поняла, что сказать чистую правду значило бы нанести удар всему семейству. Она решила с глазу на глаз объяснить своей ученице, что именно ей следует забыть, прежде чем начать с нею заниматься, а пока ограничилась лишь тем, что похвалила ее голос, расспросила о занятиях и одобрила выбор пройденных ею вещей, умолчав при этом, что проходились они совсем не так, как следовало.
Все разошлись очень довольные этим испытанием, жестоким лишь для Консуэло. Она ощутила потребность запереться в своей комнате и, перечитывая ноты музыкального произведения, только что искаженного в ее присутствии, мысленно пропела его, чтобы изгладить в своем мозгу неприятное впечатление.
Глава 30
Когда под вечер все снова собрались вместе, Консуэло почувствовала себя более непринужденно с этими людьми, с которыми уже успела несколько освоиться, и начала отвечать менее сдержанно и кратко на вопросы, которые те, со своей стороны, уже смелее задавали ей, интересуясь ее страной, ее искусством и ее путешествиями. Она тщательно избегала говорить о себе – это было решено ею заранее – и, рассказывая об условиях, среди которых ей приходилось жить, умалчивала о той роли, которую сама в них играла. Тщетно старалась любопытная Амелия заставить ее больше рассказать о себе, – Консуэло не попалась на эту удочку и ничем не выдала своего инкогнито, которое решила сохранить во что бы то ни стало. Трудно было сказать, почему эта таинственность так привлекала ее. Для этого было много причин: начать с того, что она клятвенно обещала Порпоре всячески скрываться и стушевываться, чтобы Андзолето, начав ее разыскивать, не мог напасть на ее след, – совершенно излишняя предосторожность, так как Андзолето после нескольких слабых попыток найти ее быстро оставил эту мысль, всецело поглощенный своими дебютами и своим успехом в Венеции.
С другой стороны, стремясь завоевать расположение и уважение семьи, временно приютившей ее, печальную и одинокую, Консуэло прекрасно понимала, что здесь к ней лучше отнесутся как к обыкновенной музыкантше, ученице Порпоры и преподавательнице пения, чем к примадонне, к актрисе, знаменитой певице. Ей было ясно, что, узнай эти простые набожные люди об ее прошлом, ее положение среди них было бы гораздо труднее, и весьма возможно, что, несмотря на рекомендацию Порпоры, прибытие певицы Консуэло, дебютировавшей с таким блеском в театре Сан-Самуэле, могло бы изрядно напугать их. Но даже не будь этих двух важных причин, Консуэло все равно ощущала бы потребность молчать, не давая никому догадаться о блеске и горестях своей судьбы. В ее жизни так все перепуталось – и сила, и слабость, и слава, и любовь. Она не могла приподнять ни малейшего уголка завесы, не обнаружив хоть одну из ран своей души; а раны эти были еще слишком свежи, слишком глубоки, чтобы чья-нибудь человеческая рука могла облегчить их. Напротив, она чувствовала некоторое облегчение именно благодаря этой стене, воздвигнутой ею между ее мучительными воспоминаниями и спокойствием новой деятельной жизни. Эта перемена страны, среды, имени сразу перенесла ее в незнакомую обстановку, где она жаждала, выдавая себя за другую, стать каким-то новым существом.
Это полное отречение от всяких радостей тщеславия, которые утешили бы другую женщину, было спасением для отважной души Консуэло. Отказавшись от людского сострадания и людской славы, она надеялась на помощь свыше. «Надо вернуть хоть частицу былого счастья, – говорила она себе, – счастья, которым я долго наслаждалась и которое заключалось целиком в моей любви к людям и в их любви ко мне. В тот день, когда я погналась за их поклонением, я лишилась их любви, слишком уж дорого заплатив за почести, которыми они заменили свое прежнее расположение. Стану же снова незаметной и скромной, чтобы не иметь на земле ни завистников, ни неблагодарных, ни врагов. Малейшее проявление симпатии сладостно, а к выражению величайшего восхищения примешивается горечь. Бывают сердца тщеславные и сильные, довольствующиеся похвалами и тешащиеся торжеством, – мое не из таких: мне слишком дорого обошлось это испытание. Увы! Слава похитила у меня сердце моего возлюбленного, пусть же смирение возвратит мне хоть несколько друзей!..»
Не то имел в виду Порпора, отсылая Консуэло из Венеции и избавляя ее этим от опасностей и мук любви; прежде чем выпустить ее на арену честолюбия, прежде чем вернуть ее к бурям артистической жизни, он хотел только дать ей некоторую передышку. Он не достаточно хорошо знал свою ученицу. Он считал ее более женщиной, то есть более изменчивой, чем она была на самом деле. Думая о ней сейчас, он не представлял ее себе такой спокойной, ласковой, думающей о других, какой она уже принудила себя быть. Она рисовалась ему вся в слезах, терзаемая сожалениями. Но он ждал, что скоро произойдет реакция и что он найдет ее излечившейся от любви и жаждущей снова проявить свои силы, свой гений.
То чистое, святое чувство, с которым Консуэло отнеслась к своей роли в семье Рудольштадтов, с первого же дня невольно отразилось на ее словах, поступках, выражении ее лица. Кто видел ее сияющей любовью и счастьем под горячими лучами солнца Венеции, вряд ли смог бы понять, как может она быть так спокойна и ласкова среди чужих людей, в глубине дремучих лесов, когда любовь ее поругана в прошлом и не имеет будущего. Однако доброта черпает силы там, где гордость находит лишь отчаяние. В этот вечер Консуэло была прекрасна какой-то новой красотой. Это было не оцепенение сильной натуры, еще не познавшей себя и ожидающей своего пробуждения, не расцвет силы, рвущейся вперед с удивлением и восторгом.
Словом, теперь то была уже не скрытая, еще не понятая красота этой scolare Zingarella или блестящая, захватывающая красота прославленной певицы, – то была нежная, пленительная прелесть чистой, углубившейся в себя женщины, которая знает самое себя и руководится святостью своих побуждений.
Ее хозяева, простые и сердечные старики, движимые врожденным благородством, вдыхали, если можно так выразиться, таинственное благоухание, изливавшееся на их духовную атмосферу из ангельской души Консуэло. Глядя на нее, они испытывали какое-то отрадное чувство, в котором, быть может, и не отдавали себе отчета, но сладость которого наполняла их словно новой жизнью. Даже сам Альберт, казалось, впервые дал полную свободу проявлению своих способностей. Он был предупредителен и ласков со всеми, а с Консуэло – в пределах учтивости, и, разговаривая с нею, доказал, что вовсе не утратил, как думали до сих пор окружающие, возвышенный ум и ясность суждения, дарованные ему от природы. Барон не заснул, канонисса ни разу не вздохнула, а граф Христиан, который обычно опускался вечером в свое кресло, согбенный тяжестью лет и горя, все время стоял, прислонившись спиной к камину, олицетворяя собою как бы центр своей семьи, и принимал участие в непринужденной, почти веселой беседе, длившейся без перерыва до девяти часов вечера.
– Видно, господь услышал наши горячие молитвы, – обратился капеллан к графу Христиану и к канониссе, оставшимся в гостиной после ухода барона и молодежи. – Графу Альберту сегодня исполнилось тридцать лет, и этот знаменательный день, которого так боялись и он и мы, прошел необыкновенно счастливо и благополучно.
– Да, возблагодарим господа! – проговорил старый граф. – Не знаю, быть может, это только благодетельная иллюзия, ниспосланная нам для временного утешения, но мне в течение всего дня, а особенно вечером, казалось, что мой сын излечился навсегда.
– Простите меня, – заметила канонисса, – но мне кажется, что вы, братец, и вы, господин капеллан, оба заблуждались, считая, будто Альберта мучит враг рода человеческого. Я же всегда думала, что он во власти двух противоположных сил, оспаривающих одна у другой его душу: ведь часто после речей, как будто внушенных ему злым ангелом, его устами спустя минуту говорило само небо. Вспомните все, что он сказал вчера вечером во время грозы и особенно его последние слова перед уходом: «Благодать господня снизошла на этот дом». Альберт почувствовал, что над ним свершается чудо милосердия божьего, и я верю в его исцеление.
Капеллан был слишком боязлив, чтобы сразу согласиться с таким смелым предположением. Обычно он выходил из затруднения, прибегая к таким изречениям, как: «Возложим наши упования на вечную премудрость», «Господь читает то, что сокрыто», «Дух погружается в бога», и к разным другим – более утешительным, чем новым.
Граф Христиан колебался между желанием согласиться с аскетическими воззрениями сестры, нередко направленными в сторону чудесного, и уважением к робкой и осторожной ортодоксальности капеллана. Чтобы переменить тему, он заговорил о Порпорине, с большой похвалой отозвавшись о ее прекрасной манере держать себя. Канонисса, успевшая уже полюбить девушку, горячо присоединилась к похвалам брата, а капеллан благословил их сердечное влечение к ней. Ни одному из них и в голову не пришло объяснить присутствием Консуэло чудо, свершившееся в их семье. Они получили благо, не зная его источника; это было именно то, о чем Консуэло стала бы молить бога, если бы ее об этом спросили.
Наблюдения Амелии были более точны. Для нее было очевидно, что ее двоюродный брат настолько владеет собой, когда это нужно, что может скрывать беспорядочность своих мыслей перед людьми, не внушающими ему доверия или, наоборот, пользующимися его особенным уважением. Перед некоторыми друзьями и родственниками, к которым он чувствовал симпатию или антипатию, он никогда не проявлял ни малейшей странности своего характера. И вот, когда Консуэло выразила свое удивление по поводу ее вчерашних рассказов, Амелия, мучимая тайной досадой, попыталась разжечь в девушке тот ужас перед Альбертом, который она вызвала в ней накануне.
– Ах, друг мой, – сказала она, – не доверяйте этому обманчивому спокойствию; это не что иное, как обычный светлый промежуток между двумя припадками. Нынче вы его видели таким, каким видела его и я, когда приехала сюда в начале прошлого года. Увы! Если бы чужая воля предназначила вас в жены подобному духовидцу, если бы, чтобы победить ваше молчаливое сопротивление, был составлен молчаливый заговор и вас держали бы до бесконечности пленницей в этом ужасном замке, в этой атмосфере постоянных неожиданностей, страхов, волнений, слез, заклинаний, сумасбродств, если б вы должны были ждать выздоровления, в которое все верят, но которое никогда не наступит, – вы, как и я, разочаровались бы в прекрасных манерах Альберта и в сладких речах его семьи.
– Мне кажется просто невероятным, – сказала Консуэло, – чтобы вас могли принудить выйти замуж за человека, которого вы не любите. Ведь вы, по-видимому, кумир ваших родных.
– Меня ни к чему не могут принудить, – они прекрасно знают, что из этого ничего не вышло бы. Но они забывают, что Альберт не единственный подходящий для меня супруг, и одному богу известно, когда в них умрет наконец безумная надежда на то, что я снова могу полюбить его, как любила в первые дни своего приезда. К тому же мой отец, будучи страстным охотником, чувствует себя прекрасно в этом проклятом замке, где такая чудесная охота, и всегда под каким-нибудь предлогом откладывает наш отъезд, раз двадцать уже решенный, но не осуществленный. Ах, Нина милая, если б вы нашли способ в одну ночь извести всю дичь в округе, вы этим оказали бы мне величайшую услугу.
– К сожалению, я только могу развлечь вас музыкой и разговорами в те вечера, когда вам не захочется спать. Постараюсь быть для вас и успокоительным и снотворным средством.
– Да, вы напомнили мне, что я еще не докончила вам своего рассказа.
Начну сейчас же, чтобы вы могли сегодня заснуть пораньше…
Только через несколько дней после своего таинственного исчезновения (он продолжал пребывать в уверенности, что его недельное отсутствие длилось всего семь часов) Альберт заметил, что аббата нет в замке, и спросил, куда его отправили.
«Он был уже не нужен вам, – ответили ему, – и вернулся к своим делам.
Разве до сих пор вы не замечали его отсутствия?»
«Я заметил, – ответил Альберт, – что чего-то недостает моим страданиям, но не мог отдать себе отчета – чего именно».
«Так вы очень страдаете, Альберт? – спросила канонисса.
«Да, очень», – ответил он таким тоном, словно его спросили, хорошо ли он спал.
«Стало быть, аббат был тебе очень неприятен? – в свою очередь спросил его граф Христиан.
«Очень», – тем же тоном ответил Альберт.
«А почему же, сын мой, ты не сказал мне об этом раньше? Как мог ты так долго выносить антипатичного тебе человека, не поделившись этим со мной? Неужели ты сомневался, дорогой мой мальчик, в том, что, узнав о твоих страданиях, я бы немедленно избавил тебя от них?»
«Это так мало прибавляло к моему горю, – ответил Альберт с ужасающим спокойствием. – Я не сомневаюсь в вашем добром отношении ко мне, отец, но то, что вы удалили бы аббата, мало облегчило бы мою участь, ибо вы, наверно, заменили бы его другим надзирателем».
«Скажи лучше – товарищем по путешествию; при моей любви к тебе, сын мой, мне больно слышать слово «надзиратель».
«Ваша любовь, дорогой отец, и заставляла вас заботиться обо мне таким образом. Вы даже не подозревали, как мучили меня, удаляя от себя и из этого дома, где, по воле провидения, я должен был бы жить до момента, пока не свершатся надо мной его предначертания. Вы думали, что способствуете моему выздоровлению и покою, и, хотя я лучше понимал, что полезнее для нас с вами, я должен был вам повиноваться. Сознавая свой сыновний долг, я его выполнил».
«Я знаю, Альберт, твое доброе сердце и твою привязанность к нам, но разве ты не можешь выразить свою мысль яснее?»
«Это очень легко, – ответил Альберт, – и настало время сделать это». Альберт проговорил это таким спокойным тоном, что нам показалось, будто мы дожили до той счастливой минуты, когда душа его наконец перестанет быть для нас мучительной загадкой. Мы все окружили его, побуждая ласками и взглядами впервые в жизни открыть свою душу. По-видимому, он решил довериться нам, и вот что он поведал:
«Вы всегда смотрели на меня, да и сейчас еще смотрите, как на больного и безумного. Не чувствуй я ко всем вам такой бесконечной любви и нежности, я, пожалуй, раскрыл бы пропасть, разделяющую нас, и доказал вам, что, в то время как вы погрязли в мире заблуждений и предрассудков, мне небо открыло сферу истины и света. Но, не отказавшись от всего того, что составляет ваш покой, верования и благополучие, вы не были бы в силах понять меня. Когда невольно в порыве восторга у меня вырывается несколько неосторожных слов, я тотчас замечаю, что, желая выдернуть с корнем ваши заблуждения и показать вашим ослабевшим глазам ослепительный светоч, которым я обладаю, я причиняю вам страшные мучения. Все мелочи вашей жизни, все ваши привычки, все фибры вашей души, все силы вашего разума – все это до такой степени связано, перепутано ложью, до такой степени подчинено законам тьмы, что, стремясь дать вам новую веру, я, кажется, даю вам смерть. Между тем и наяву и во сне, и в тиши и в бурю я слышу голос, повелевающий мне просветить вас и обратить на путь истины. Но я человек слишком любящий и слабый, чтобы совершить это. Когда я вижу ваши глаза, полные слез, ваши удрученные лица, когда слышу ваши вздохи, когда чувствую, что приношу вам печаль и ужас, я убегаю, прячусь, чтобы не поддаться голосу своей совести и велению моей судьбы. Вот в чем мое горе, моя мука, мой крест и моя пытка. Ну что, понимаете ли вы меня теперь?»
Дядя, тетка и капеллан понимали отчасти, что Альберт создал для себя религию и нравственные правила, совершенно отличные от их собственных, но, будучи правоверными католиками, они, боясь впасть в малейшую ересь, не решались вызвать его на большую откровенность. У меня же тогда было еще очень смутное представление о некоторых особенностях его детства и ранней юности, и потому я решительно ничего не могла понять. К тому же, Нина, в то время я так же мало, как и вы теперь, была осведомлена о том, что такое гуситство, что такое лютеранство. Потом я много и часто слышала об этом, и, правду сказать, бесконечные пререкания на эту тему между Альбертом и капелланом не раз наводили на меня невыносимую тоску. Итак, я с нетерпением ждала от Альберта более подробных разъяснении, но их так и не последовало.
«Я вижу, – сказал наконец Альберт, пораженный воцарившимся вокруг него молчанием, – что вы не хотите меня понять из боязни понять слишком хорошо. Пусть будет по-вашему. Ослепление ваше с давних пор подготовляло кару, тяготеющую надо мной. Вечно несчастный, вечно одинокий, вечно чужой среди тех, кого я люблю, я нахожу поддержку и убежище лишь в обещанном мне утешении».
«Что же это за утешение, сын мой? – спросил смертельно огорченный граф Христиан. – Не можем ли мы сами дать тебе его, и неужели мы никогда не сможем понять друг друга?»
«Никогда, отец мой. Будем же любить друг друга, раз нам только это и дано. И пусть небо будет свидетелем, что наше бесконечное, непоправимое разногласие никогда не уменьшало моей любви к вам».
«А разве этого недостаточно? – сказала канонисса, беря Альберта за руку, в то время как брат ее пожимал ему другую руку. – Скажи, – продолжала она, – не можешь ли ты забыть свои странные мысли, свои удивительные верования и жить любовью среди нас?»
«Я и живу ею, – отвечал Альберт. – Любовь – это благо, которое дает радость или горечь, в зависимости от того, одну ли веру исповедуют люди, связанные ею. Сердца наши, дорогая тетушка Венцеслава, бьются в унисон, а разум враждует, – и это большое несчастье для всех нас! Я знаю, что вражда эта продлится еще века; вот почему в этом столетии я жду обещанного мне блага, которое даст мне силы надеяться».
«Что же это за благо, Альберт? Не можешь ли ты сказать мне?»
«Не могу, потому что оно неведомо и для меня самого. Но оно придет. Не проходит недели без того, чтобы моя мать не возвещала мне этого во сне; и все голоса леса, когда я вопрошаю их, всегда подтверждают мне то же самое. Часто вижу я бледный, излучающий свет лик ангела, пролетающего над скалой Ужаса; здесь, в этом зловещем месте, под тенью этого дуба, в то время, когда мои современники звали меня Жижкой, я был охвачен гневом божьим и впервые стал орудием господнего возмездия. Здесь же, у подножия этой самой скалы, я видел, когда звался Братиславом, как под ударом сабли скатилась изувеченная, окровавленная голова моего отца Витольда. И это грозное искупление научило меня печали и состраданию, этот день роковой расплаты, когда лютеранская кровь смыла кровь католическую, превратил фанатика и душегубца, каким я был сто лет назад, в человека слабого, с нежным сердцем».
«Боже милостивый! – в ужасе воскликнула тетушка, осеняя себя крестным знамением. – Безумие снова вернулось к нему!»
«Не прерывайте его, сестрица, – остановил канониссу граф Христиан, сделав над собой страшное усилие. – Дайте ему высказать все. Говори же, сын мой. Что сказал тебе ангел у скалы Ужаса?»
«Он сказал мне, что мое утешение уже близко, – ответил Альберт с лицом, сияющим от восторга, – и снизойдет оно в мое сердце, когда мне исполнится тридцать лет».
Бедный дядя поникнул головой. Указывая на возраст, в котором умерла его мать, Альберт как бы намекал на собственную смерть. По-видимому, покойная графиня часто во время своей болезни предсказывала, что ни она и ни один из ее сыновей не доживут до тридцатилетнего возраста. Кажется, тетушка Ванда была тоже немного ясновидящей, чтобы не сказать больше; но определенно я ничего об этом не знаю: никто не решается будить в дяде такие тяжкие воспоминания.
Капеллан, стремясь рассеять мрачные мысли, навеянные предсказанием, пытался вынудить Альберта высказаться относительно аббата. Ведь с него-то и начался разговор.
Альберт, в свою очередь, сделал над собой усилие, чтобы ответить капеллану.
«Я говорю вам о божественном и вечном, – сказал он после некоторого колебания, – а вы напоминаете мне о мимолетном, пустом и суетном, уже почти забытом мной».
«Говори же, сын мой, говори, – вмешался граф Христиан. – Дай нам узнать тебя сегодня!»
«Вы до сих пор не знали меня, отец, и не узнаете в том, что вы называете этой жизнью. Но если вас интересует, почему я путешествовал, почему терпел этого неверного, невнимательного стража, которого приставили ко мне с тем, чтобы он ходил за мной по пятам, как голодный, ленивый пес, привязанный к руке слепого, то я в нескольких словах могу объяснить вам это. Довольно я помучил вас, нужно было убрать с ваших глаз сына, глухого к вашим наставлениям и вашим увещеваниям. Я прекрасно знал, что не излечусь от того, что вы звали моим безумием, но необходимо было успокоить вас, дать вам надежду, и я согласился на изгнание. Вы взяли с меня слово, что я не расстанусь без вашего согласия со спутником, данным мне вами, и я предоставил ему возить меня по свету. Я хотел сдержать свое слово и хотел также дать ему возможность поддерживать в вас надежду и спокойствие, сообщая о моей кротости и терпении. Я был кроток и терпелив. Я закрыл для него свое сердце и уши, а он был настолько умен, что даже и не делал усилий открыть их. Он гулял со мною, одевал и кормил меня, как малого ребенка. Я отказался от той жизни, какую считал для себя правильной, я приучил себя спокойно смотреть на царящие на земле горе, несправедливость и безумие. Я увидел людей я их учреждения. Негодование сменилось в моем сердце жалостью, когда я понял, что угнетатели страдают больше угнетенных. В детстве я любил только жертвы; теперь я стал относиться с состраданием и к палачам – жалким грешникам, искупающим в этой жизни преступления, совершенные ими в прежних воплощениях, и обреченным за это богом быть злыми, – пытка, в тысячу раз более жестокая, нежели та, которую испытывают их невинные жертвы. Вот почему теперь я раздаю милостыню только для того, чтобы облегчить бремя богатства для себя, себя одного, вот почему я больше не тревожу вас своими проповедями, – я понял, что время быть счастливым еще не настало, так как, говоря языком людей, время быть добрым еще далеко».
«Ну, а теперь, когда ты избавился от этого, как ты называешь его, надзирателя, когда ты можешь жить спокойно, не видя несчастий, которые ты постепенно устраняешь вокруг себя, не встречая препятствий своим великодушным порывам, – скажи, разве теперь ты не мог бы, сделав над собой усилие, изгнать из сердца тревогу?»
«Не спрашивайте меня больше, дорогие мои родные, – проговорил Альберт. – Сегодня я больше ничего не скажу!»
И он сдержал слово даже на больший срок: он не раскрывал рта целую неделю.
Глава 31
– История Альберта будет закончена в нескольких словах, милая Порпорина, так как мне почти нечего прибавить к уже рассказанному. В течение полутора лет, проведенных мною здесь, фантазии Альберта, о которых вы теперь имеете представление, то и дело повторялись. Только его воспоминания о том, чем он был и что видел в прошлые века, приобрели какую-то страшную реальность с тех пор, как в нем проявилась особенная, поразительная способность, о которой вы, быть может, слыхали, но в которую я не верила, пока не получила тому доказательств. Говорят, что в других странах эта способность зовется ясновидением и что будто обладающие ею пользуются большим уважением среди людей суеверных. Что касается меня, то я совершенно не знаю, что и думать об этом, не берусь объяснить и вам, но нахожу в этом лишний повод не выходить замуж за человека, который видит за сотни миль каждый мой шаг и в состоянии читать все мои мысли. Для этого надо быть по меньшей мере святой, а разве это возможно, когда живешь с человеком, обрекшим себя дьяволу?
– Вы обладаете способностью все вышучивать, – заметила Консуэло. – Я просто поражаюсь, как вы можете говорить так весело о вещах, от которых у меня волосы на голове становятся дыбом. В чем же заключается это ясновидение?
– Альберт видит и слышит то, чего другой не может ни видеть, ни слышать. Когда должен неожиданно явиться человек, к которому он расположен, он, предупредив об этом, отправляется заранее ему навстречу. Так же точно – стоит ему почувствовать приближение того, кого он не любит, как он уходит к себе и запирается.
Однажды, гуляя с моим отцом в горах, он вдруг остановился и пошел в обход, прокладывая себе путь среди скал и терновника, для того только, чтобы не пройти по какому-то месту, где, однако, не было ничего примечательного. Через несколько минут они вернулись к этому месту, и Альберт опять поступил точно так же. Отец мой, заметив это, сделал вид, будто что-то потерял, и под этим предлогом хотел подвести его к подножию той ели, которая, по-видимому, внушала ему такое отвращение. Однако Альберт не только не подошел к ней, но постарался даже не наступить на тень, отбрасываемую ею поперек дороги, а когда мой отец проходил через эту тень, Альберт, видимо, томился и был страшно встревожен. Когда же отец остановился у самого ствола, Альберт вскрикнул и стал настойчиво звать его оттуда. Он долго отказывался объяснить эту причуду, но, уступая наконец просьбам всей семьи, поведал, что под этим деревом было когда-то совершено страшное преступление и зарыты человеческие кости. Капеллан, предполагая, что Альберт мог откуда-нибудь узнать о том, что в былое время на этом месте было совершено убийство, решил, что его долг разузнать об этом, дабы предать погребению забытые человеческие останки. «Подумайте хорошенько о том, что вы собираетесь делать, – сказал капеллану Альберт с тем печальным и в то же время насмешливым видом, который ему свойствен. – Мужчина, женщина и ребенок, которых вы найдете там, были гуситами; и этот пьяница Венцеслав, скрываясь в наших лесах и боясь, чтобы они не увидели и не выдали его, велел своим солдатам убить их».
С моим кузеном об этом событии больше не заговаривали. Но дядя решил проверить, было ли это у сына наитием или фантазией, и велел ночью раскопать место, указанное моим отцом. Там действительно нашли три скелета – мужчины, женщины и ребенка. Скелет мужчины был покрыт громадным деревянным щитом, какой носили гуситы; щит этот легко было распознать по выгравированной на нем чаше с такой латинской надписью: «О смерть, как горестно вспоминать о тебе злым людям, но с каким спокойствием думает о тебе тот, кто поступает справедливо, памятуя о своей кончине».
Останки их перенесли подальше, в глубь леса; и когда через несколько дней Альберт проходил мимо этой ели, отец мой заметил, что он делает это без отвращения, хотя по виду здесь ничего не переменилось и земля была по-прежнему покрыта камнями и песком. Он даже не помнил о волнении, которое испытал здесь, а когда с ним заговорили об этом, с трудом припомнил, как было дело.
«По-видимому, вы ошиблись, – сказал он моему отцу. – Должно быть, я был предупрежден в другом месте. Я уверен, что здесь ничего нет, так как не чувствую ни холода, ни дрожи, ни душевной боли».
Моя тетушка склонна приписывать эту способность Альберта особой милости провидения, но кузен мой всегда так мрачен, так измучен и так несчастлив, что трудно постигнуть, за что провидение могло бы наградить его таким пагубным даром. Если бы я верила в существование дьявола, то полагала бы более правильным предположение капеллана, считающего все галлюцинации Альберта делом рук врага рода человеческого. Дядя Христиан, который более рассудителен и более тверд в религии, чем все мы, разъясняет весьма правдоподобно многое из того, что происходит с его сыном. Он думает, что, несмотря на все старания иезуитов во время Тридцатилетней войны и в последующий период сжечь все еретические писания в Чехии и в частности те, что находились в замке Исполинов, несмотря на тщательные поиски, которые произвел наш капеллан во всех углах дома после смерти тетушки Ванды, в каком-нибудь тайнике замка могли сохраниться исторические документы времен гуситов, и Альберт нашел их. Дядя Христиан полагает, что чтение этих вредных рукописей произвело сильнейшее впечатление на больное воображение его сына и некоторые подробности событий прошлого, совершенно теперь забытые, но сохранившиеся в точности в этих рукописях, он наивно приписывает собственным воспоминаниям о своем прежнем существовании на земле. Этим легко объясняются все сказки, которые он нам рассказывает, и его непостижимые исчезновения на целые дни и даже недели. Надо вам сказать, что эти исчезновения повторялись не раз, и притом трудно предполагать, чтобы он скрывался где-нибудь вне замка. Каждый раз, когда он исчезал, найти его было совершенно невозможно, хотя мы совершенно уверены в том, что ни один крестьянин не давал ему ни пристанища, ни пищи. Мы уже знаем, что у него бывают припадки летаргического сна, когда он лежит целыми днями, запершись в своей комнате. Если во время этих припадков взломать дверь и начать суетиться вокруг него, с ним начинаются судороги. С тех пор, как это выяснилось, его, конечно, оставляют в полном покое. По-видимому, в это время в голове его происходят престранные вещи, но никакой шум, никакое видимое волнение не выдают их, и мы узнаем о них лишь впоследствии, из его же рассказов. Очнувшись, он чувствует себя вначале гораздо лучше, но потом у него снова появляется возбужденное состояние, которое все усиливается, пока не наступает новый припадок. Он как будто предчувствует продолжительность этих припадков, потому что перед особенно длительными обыкновенно уходит куда-то и прячется, – должно быть, в какой-нибудь горной пещере или в каком-нибудь подвале замка, известных ему одному. Открыть его убежище до сих пор не удалось. Это особенно трудно сделать потому, что, как только за ним начинают следить, наблюдать, расспрашивать, он сейчас же серьезно заболевает. Поэтому решили предоставить ему полную свободу: ведь эти исчезновения, так пугавшие нас вначале, теперь кажутся нам благотворными кризисами в его болезни. Когда Альберт исчезает, тетушка, правда, сильно горюет, а дядя молится, но никто ничего не предпринимает. А я, скажу вам откровенно, просто очерствела. Печаль с течением времени выродилась у меня в скуку и отвращение. Для меня лучше умереть, чем выйти замуж за этого маньяка. Я признаю за ним большие достоинства, но хотя, быть может, вы и скажете, что мне не следовало бы придавать значения его странностям, раз они являются следствием болезни, все-таки они раздражают меня, ибо это бич как моей жизни, так и жизни всей нашей семьи.
– Мне кажется, что это не совсем справедливо, милая баронесса, – сказала Консуэло. – Теперь я прекрасно понимаю ваше нежелание выйти замуж за графа Альберта, но почему вы перестали относиться к нему с участием, этого я постигнуть не могу.
– Видите ли, мне трудно отделаться от убеждения, что в его помешательстве есть что-то преднамеренное. Несомненно, у него очень сильный характер, и я знаю тысячи случаев, когда он умел владеть собой. Он может во собственному желанию даже отдалить наступление припадка: я сама видела, как он отлично справлялся с ним, когда окружающие не были склонны смотреть на это серьезно. И наоборот, когда он видит, что мы готовы поверить ему, боимся за него, он будто нарочно злоупотребляет той слабостью, которую мы к нему питаем, и точно хочет удивить нас своими выходками. Вот отчего я сердита на него и часто прошу его покровителя Вельзевула раз навсегда избавить нас от него.
– Как жестоко вы шутите над несчастным человеком, – сказала Консуэло. – Его душевная болезнь кажется мне скорее удивительной и поэтичной, а не отталкивающей.
– Воля ваша, милая Порпорина! – воскликнула Амелия. – Восхищайтесь сколько хотите его колдовством, раз вы в него верите. Я же уподобляюсь нашему капеллану, который поручает свою душу богу и не пытается понять непонятное; я прибегаю к помощи разума, но не силюсь постичь то, что найдет когда-нибудь естественное объяснение, но пока еще нам непонятно. Одно несомненно в злосчастной судьбе моего кузена: его разум окончательно перестал работать, а воображение так распустило свои крылья в его мозгу, что череп того и гляди треснет. Что же скрывать! Надо прямо употребить то слово, которое мой бедный дядя Христиан, стоя на коленях перед императрицей Марией-Тереэией (она ведь не способна удовольствоваться полуответами и полуутверждениями), принужден был произнести, обливаясь слезами: «Альберт фон Рудольштадт – сумасшедший, или, если хотите, чтобы звучало приличнее, душевнобольной».
Консуэло ответила лишь глубоким вздохом. Амелия в эту минуту произвела на же впечатление скверного, бессердечного существа. Но она силилась все же оправдать ее в своих глазах, представляя себе, что должна была выстрадать эта девушка за полтора года такой печальной жизни, полной бесконечных тревог и волнений. Потом, возвращаясь к собственному горю, она подумала: «Как жаль, что я не могу объяснить поступков Андзолето сумасшествием. Потеряй он рассудок среди упоений и разочарований своего дебюта, я, конечно, не перестала бы любить его; и если бы его неверность и неблагодарность объяснялись безумием, я по-прежнему бы его обожала и сейчас же полетела бы ему на помощь».
Прошло несколько дней, однако Альберт ничем не подтвердил уверений своей двоюродной сестры относительно его умственного расстройства. Но вот в один прекрасный день, когда капеллан, совершенно того не желая, чем-то раздосадовал его, он вдруг стал говорить что-то бессвязное и, словно заметив это сам, выскочил из гостиной и заперся в своей комнате. Все думали, что он долго пробудет у себя, но через час, бледный и истомленный, он вернулся в гостиную, стал пересаживаться с одного стула на другой, несколько раз останавливался возле Консуэло, по-видимому, обращая на нее не больше внимания, чем в предыдущие дни, и наконец, забившись в глубокую амбразуру окна, опустил голову на руки и остался недвижим.
Амелия в это время как раз собиралась приступить к своему уроку музыки, и она спешила начать его, шепотом объясняя Консуэло, что хочет таким способом выпроводить эту зловещую фигуру, от которой веет могильным холодом и которая убивает в ней всякую веселость.
– Мне кажется, – ответила Консуэло, – нам лучше подняться в вашу комнату. Для аккомпанемента достаточно будет вашего спинета. Если граф Альберт действительно не любит музыки, зачем же нам увеличивать его страдания и тем самым страдания его родных?
Последний довод убедил Амелию, и они обе поднялись в комнату баронессы, оставив дверь открытой, поскольку там немного пахло угаром. Амелия собралась было, как всегда, выбрать эффектные арии, однако Консуэло, начавшая уже проявлять строгость, заставила ее взяться за простые, но серьезные мелодии духовных сочинений Палестрины. Молодой баронессе это пришлось не по вкусу: зевнув, она раздраженно заявила, что это варварская и снотворная музыка.
– Это потому, что вы ее не понимаете, – возразила Консуэло. – Дайте я спою несколько отрывков, чтобы показать вам, как чудесно написана эта музыка для голоса, не говоря уже о том, что она божественна по своему замыслу.
С этими словами она села к спинету и запела. Впервые ее голос пробудил эхо в старом замке; прекрасный резонанс его высоких холодных стен увлек Консуэло. Ее голос, давно молчавший, – молчавший с того самого вечера, когда она пела в Сан-Самуэле, а затем упала без чувств от изнеможения и горя, – не только не пострадал от мук и волнений, но стал еще прекраснее, еще удивительнее, еще задушевнее. Амелия была восхищена и вместе с тем потрясена: она поняла наконец, что не имеет ни малейшего представления о музыке и что вообще вряд ли когда-либо чему-нибудь научится. Вдруг перед молодыми девушками появилось бледное, задумчивое лицо Альберта. Все время, пока продолжалось пение, он, удивленный и растроганный, неподвижно стоял посреди комнаты. Только окончив петь, Консуэло заметила его и немного испугалась. Но Альберт, став перед ней на оба колена и устремив на нее свои большие черные глаза, полные слез, воскликнул по-испански, без малейшего немецкого акцента:
– О Консуэло! Консуэло! Наконец-то я нашел тебя!
– Консуэло! – воскликнула девушка, недоумевая и тоже по-испански. Отчего вы так называете меня, граф?
– Я зову тебя Утешением, – продолжал Альберт все по-испански, – потому что мне в моей печальной жизни было обещано утешение, а ты и есть то утешение, которое господь наконец посылает мне, одинокому и несчастному. – Я никогда не думала, – заговорила Амелия, сдерживая гнев, – чтобы музыка могла оказать такое магическое действие на моего дорогого кузена. Голос Нины создан, чтобы творить чудеса, это правда, но я не могу не заметить вам обоим, что было бы учтивее по отношению ко мне, да и вообще приличнее, говорить на языке, мне понятном.
Альберт, казалось, не слышал ни единого слова из всего, сказанного его невестой. Он продолжал стоять на коленях, глядя на Консуэло с невыразимым удивлением и восторгом, все повторяя растроганным голосом:
– Консуэло! Консуэло!
– Как он вас называет? – с запальчивостью спросила молодая баронесса свою подругу.
– Он просит меня спеть испанский романс, которого я не знаю, – в страшном смущении ответила Консуэло. – Но, мне кажется, нам нужно покончить с пением, – продолжала она, – видимо, музыка слишком волнует сегодня графа.
И она встала, собираясь уйти.
– Консуэло! – повторил Альберт по-испански. – Если ты покинешь меня, моей жизни конец, и я не захочу более возвращаться на землю!
С этими словами он упал без чувств у ее ног; перепуганные девушки позвали слуг, чтобы унести его и оказать ему помощь.
Глава 32
Графа Альберта уложили осторожно на кровать, и в то время как двое слуг, переносивших его, бросились искать один – капеллана, являвшегося как бы домашним врачом, а другой – графа Христиана, приказавшего раз навсегда предупреждать его о малейшем недомогании сына, обе молодые девушки – Амелия и Консуэло – принялись разыскивать канониссу. Но прежде чем кто-либо из этих лиц успел прийти к больному, – а они сделали это не теряя ни минуты, – Альберт уже исчез. Дверь его спальни была открыта, постель едва смята, – его отдых, по-видимому, продолжался не более минуты, все в комнате находилось в обычном порядке. Его искали всюду и, как всегда бывало в подобных случаях, нигде не нашли. Тогда вся семья впала в мрачную покорность, о которой Амелия рассказывала Консуэло, и все стали ждать в молчаливом страхе (вошло уже в привычку его не выказывать), трепеща и надеясь, возвращения этого необыкновенного молодого человека. Консуэло хотела бы скрыть от родных Альберта странную сцену, происшедшую в комнате Амелии, но та успела уже все рассказать, описав в самых ярких красках внезапное и сильное впечатление, которое произвело на ее кузена пение Порпорины.
– Теперь уже нет сомнения, что музыка вредна ему, – заметил капеллан.
– В таком случае, – ответила Консуэло, – я постараюсь всеми силами, чтобы он никогда больше не слышал моего пения, а во время наших уроков с баронессой мы будем так запираться, что ни единый звук не долетит до ушей графа Альберта.
– Это очень стеснит вас, дорогая синьора, – возразила канонисса, но, к сожалению, не от меня зависит сделать ваше пребывание у нас более приятным.
– Я хочу делить с вами ваши печали и ваши радости, – ответила Консуэло, – и не желаю иного удовлетворения, как заслужить ваше доверие и дружбу.
– Вы благородная девушка, – сказала канонисса, протягивая ей свою руку, длинную, сухую и блестящую, как желтая слоновая кость. – Но послушайте, – добавила она, – я вовсе не думаю, чтобы музыка была действительно так вредна моему дорогому Альберту. Из того, что мне рассказала Амелия о сцене, происшедшей сегодня утром в ее комнате, я, наоборот, вижу, что его радость была слишком сильна. Быть может, его страдание было вызвано именно тем, что вы слишком скоро прервали ваши чудесные мелодии. Что он вам говорил по-испански? Я слышала, что он прекрасно владеет этим языком, так же как и многими другими, усвоенными им с поразительной легкостью во время путешествий. Когда его спрашивают, как мог он запомнить столько различных языков, он отвечает, что знал их еще до своего рождения и теперь лишь вспоминает их, так как на одном языке он говорил тысячу двести лет тому назад, а на другом – участвуя в крестовых походах. Подумайте, какой ужас! Раз мы ничего не должны скрывать от вас, дорогая синьора, вы еще услышите от племянника немало странных рассказов о его, как он выражается, прежних существованиях. Но переведите мне, вы ведь уже хорошо говорите по-немецки, что именно сказал он вам на вашем родном языке, которого никто из нас здесь не знает.
В эту минуту Консуэло почувствовала какое-то безотчетное смущение.
Тем не менее она решила сказать почти всю правду и тут же объяснила, что граф Альберт умолял ее продолжать петь и не уходить, говоря, что она приносит ему большое утешение.
– Утешение! – воскликнула проницательная Амелия. – Он употребил именно это слово? Вы ведь знаете, тетушка, как много оно значит в устах моего кузена.
– В самом деле, он часто повторяет это слово, и оно имеет для него какой-то пророческий смысл, – отозвалась Венцеслава, – но я нахожу, что в этом разговоре он мог употребить его в самом обыкновенном смысле.
– А какое слово он повторял вам несколько раз, милая Порпорина? настойчиво допрашивала Амелия. – Это было какое-то особенное слово, но волнение помешало мне его запомнить.
– Я хорошенько сама его не поняла, – ответила Консуэло, делая над собою страшное усилие, чтобы солгать.
– Милая Нина, – сказала ей на ухо Амелия, – вы умны и осторожны, но ведь и я неглупа и прекрасно поняла, что вы и есть то мистическое утешение, которое было обещано видением Альберту как раз на тридцатом году жизни. Не пытайтесь скрыть, что вы это поняли лучше меня: это небесное предопределение, и я не ревную к нему.
– Послушайте, дорогая Порпорина, – сказала канонисса, подумав несколько минут. – Когда Альберт вот так исчезал – внезапно, словно по волшебству, – нам всегда казалось, что он скрывается где-то поблизости, быть может даже в самом замке, в каком-нибудь месте, известном лишь ему одному. Не знаю, почему, но мне пришло в голову, что если б вы сейчас запели и он услышал ваш голос, он вернулся бы к нам.
– Если б это было так! – проговорила Консуэло, готовая подчиниться.
– А если Альберт вблизи нас и музыка только ухудшит его состояние? заметила ревнивая Амелия.
– Ну что ж? – сказал граф. – Надо сделать эту попытку. Я слышал, что несравненный Фаринелли мог своим пением рассеивать черную меланхолию испанского короля, подобно тому как юному Давиду удавалось игрой на арфе укрощать ярость Саула. Попробуйте, великодушная Порпорина: душа, столь чистая, как ваша, должна распространять вокруг себя благотворное влияние.
Консуэло, растроганная, села за клавесин и запела испанский церковный гимн в честь богоматери-утешительницы, которому выучила ее в детстве мать. Он начинался словами «Consuelo de mi alma» («Утешение моей души»). Она спела его таким чистым голосом, с такой неподдельной простотой и верой, что хозяева старого замка почти забыли о предмете своей тревоги, отдавшись всецело чувству надежды и веры. Глубокая тишина царила и в самом замке и вокруг него; окна и двери были распахнуты настежь, чтобы голос Консуэло мог разноситься как можно дальше; луна своим зеленоватым светом заливала амбразуры огромных окон. Все было спокойно. Душевные муки сменились чистым религиозным чувством, как вдруг тяжелый вздох, словно вырвавшийся из глубины человеческой груди, откликнулся на последние звуки голоса Консуэло. Вздох этот был так явственен и продолжителен, что все присутствующие не могли не услышать его; даже барон Фридрих приоткрыл глаза, думая, что его кто-то зовет. Все побледнели и переглянулись, точно говоря друг другу: «Это не я. Может быть, это вы?» Амелия не могла удержаться, чтобы не вскрикнуть, а Консуэло, которой показалось, что вздох этот раздался совсем подле нее, хотя она сидела за клавесином довольно далеко от всех остальных, так испугалась, что не могла вымолвить ни слова.
– Боже милосердный! – проговорила в ужасе канонисса. – Слышали вы этот вздох, точно исходящий из глубины земли?
– Скажите лучше, тетушка, – воскликнула Амелия, – что он пронесся над нашими головами, как дуновение ночи.
– Должно быть, сова, привлеченная свечой, пролетела через комнату в то время, как мы были поглощены музыкой, а потому мы услышали легкий шум ее крыльев только тогда, когда она уже вылетела из окна, – высказал свое предположение капеллан, у которого, однако, зубы стучали от страха.
– А может быть, это собака Альберта? – сказал граф Христиан.
– Здесь нет Цинабра, – возразила Амелия, – ведь где Альберт, там и Цинабр. И все-таки кто-то странно вздохнул. Если б я решилась подойти к окну, я увидела бы, не подслушивал ли кто-нибудь пение из сада, но, признаюсь, если б от этого зависела даже моя жизнь, у меня все равно не хватило бы на это храбрости.
– Для девушки без предрассудков, для маленького французского философа вы недостаточно храбры, дорогая баронесса, – тихо сказала Консуэло, силясь улыбнуться, – попробую, не окажусь ли я смелее.
– Нет, не ходите туда, моя милая, – громко ответила ей Амелия, – и не храбритесь: вы бледны как смерть и вам еще может сделаться дурно.
– Как при вашем горе вы можете быть способны на такие детские выходки, дорогая Амелия? – проговорил граф Христиан, направляясь медленным твердым шагом к окну.
Посмотрев в окно и никого не увидев, он спокойно закрыл его, говоря:
– Как видно, действительные горести недостаточно жгучи для пылкого воображения женщин. Их изобретательный ум всегда стремится добавить какие-нибудь вымышленные страдания. В этом вздохе нет, без сомнения, ничего таинственного. Кто-то из нас, растроганный прекрасным голосом и огромным талантом синьорины, безотчетно для себя самого издал нечто вроде восторженного возгласа, вырвавшегося из глубины души. Быть может, это произошло даже со мной, хотя я сам этого и не заметил. Ах, Порпорина, если вам не удастся излечить Альберта, то по крайней мере вы сумеете излить небесный бальзам на раны, не менее глубокие, чем его.
Слова святого старика, всегда разумного и спокойного, несмотря на удручавшие его семейные невзгоды, были тоже небесным бальзамом для Консуэло. Ей захотелось опуститься перед ним на колени и попросить благословить ее так, как благословил ее Порпора, расставаясь с ней, и как благословил ее Марчелло в тот прекрасный день ее жизни, с которого начался для нее целый ряд печальных и одиноких дней.
Глава 33
Прошло несколько дней, а о графе Альберте не было никаких известий. Консуэло, которой такое положение внушало мучительную тревогу, удивлялась, видя, что семейство Рудольштадтов переносит гнет этой страшной неизвестности, не проявляя ни отчаяния, ни нетерпения. Привычка к самым тяжелым переживаниям порождает какую-то видимость апатии, а иногда и подлинное очерствение, уязвляющее и даже раздражающее души, у которых чувствительность еще не притупилась от продолжительных несчастий. Консуэло жила среди этих унылых впечатлений и необъяснимых происшествий словно в кошмаре, и ей казалось удивительным, что порядок в доме почти не нарушался: как всегда, была деятельна канонисса, по-прежнему барон увлекался охотой, так же неизменно капеллан исполнял свои религиозные обязанности, так же весела и насмешлива была Амелия. Эта веселость и живость молодой баронессы особенно возмущали Консуэло. Ей было совершенно непонятно, как та могла хохотать и дурачиться, в то время как сама она едва в силах была читать или шить.
Канонисса между тем вышивала покров на алтарь замковой часовни. Это было чудо терпения, вкуса и аккуратности. Сделав обход дома, она усаживалась за свои пяльцы, хотя бы для нескольких стежков, пока ей не приходилось снова идти в амбары, в кладовые или в погреба. И надо было видеть, какое значение придавала она всем этим мелочам, как это тщедушное существо своей ровной, полной достоинства, размеренной, но всегда быстрой походкой обходило все закоулки своего маленького царства, тысячу раз за день исколесив во всех направлениях тесную и унылую площадь своих домашних владений. Консуэло не понимала также уважения и восхищения, с которым все в замке и в округе относились к тому, что канонисса с такой любовью и рачительностью взвалила на себя обязанности неутомимой экономки. Глядя, как она с мелочной бережливостью упорядочивает самые ничтожные дела, можно было подумать, будто она алчна и недоверчива. А между тем в серьезных случаях жизни она проявляла широкую и великодушную натуру. Но этих благородных качеств и особенно этой чисто материнской нежности, за которые ее так ценила и почитала Консуэло, было бы недостаточно для окружающих, чтобы сделать ее героиней семейного очага. Для того чтобы всеми были признаны ее действительно незаурядный ум и сильный характер, нужно было также – особенно нужно было – это священнодействие при ведении обширного хозяйства замка со всеми его мелочами (которые как раз и могли его опошлить). Не проходило дня без того, чтобы граф Христиан, барон или капеллан не провожали ее восторженным восклицанием: «Сколько мудрости, сколько мужества, сколько силы духа в нашей канониссе!»
Даже Амелия, не умевшая отличать в жизни высокое от пустого, заполнявшего ее собственное существование, не осмеливалась подтрунивать над хозяйственным пылом тетки, который представлялся Консуэло единственным пятном на лучезарном душевном облике чистой и любвеобильной горбуньи Венцеславы. Для девушки, родившейся на большой дороге и брошенной в мир без иного руководителя и покровителя, кроме собственной гениальности, столько забот, такая затрата энергии, такое нравственное удовлетворение, получаемое от сохранения каких-то вещей, от заготовки каких-то припасов, казались чудовищной растратой душевных и умственных сил. Ей, ничего не имевшей и не жаждавшей никаких земных благ, тяжело было видеть, как эта прекрасная душа добровольно надрывается в бесконечных заботах о хлебе, вине, дровах, пеньке, скоте и мебели. Если бы ей предложили самой все эти блага (предмет вожделения для большинства людей), она предпочла бы взамен хоть один миг былого счастья, свои лохмотья, свое чудное небо, свою чистую любовь, свою свободу на венецианских лагунах. Эти горькие и вместе с тем драгоценные воспоминания рисовались ей все в более и более ярких красках, по мере того как она удалялась от этого радостного горизонта, погружаясь в ледяную сферу, называемую реальной жизнью.
У нее сжималось сердце, когда с наступлением сумерек канонисса, с большой связкой ключей, делала в сопровождении верного Ганса обход всех строений, всех дворов: запирались все выходы, осматривались все закоулки, где могли бы спрятаться злоумышленники, как будто никто не мог заснуть спокойно за этими грозными стенами, пока во рвы, окружающие замок, не ринутся с ревом воды соседнего горного потока, пленника расположенных неподалеку шлюзов, пока не будут заперты все решетчатые ворота и не будут подняты все подъемные мосты. Как часто приходилось Консуэло во время дальних странствий с матерью ночевать у большой дороги, подостлав под себя только полу изодранного материнского плаща! Сколько раз приветствовала она зарю на белых каменных плитах Венеции, омытых волнами, ни на секунду не опасаясь за свое целомудрие, единственное богатство, которым она дорожила. «Увы, – говорила она себе, – как жалки эти люди: им надо охранять столько добра! День и ночь пекутся они о своей безопасности и, постоянно стремясь к ней, не имеют времени ни добиться ее, ни пользоваться ею». Итак, и она, подобно Амелии, уже томилась в этой мрачной тюрьме, в этом угрюмом замке Великанов, куда, казалось, само солнце боялось заглянуть. Но в то время как юная баронесса мечтала о балах, нарядах и поклонниках, Консуэло мечтала о борозде в поле, о кусте в лесу или о лодке вместо дворца, о широчайших горизонтах и бесконечном звездном небе.
Вследствие сурового климата и затворничества в замке Консуэло поневоле изменила своей венецианской привычке – поздно ложиться и поздно вставать. После многих часов бессонницы, возбуждения, жутких снов она в конце концов подчинилась этим диким монастырским законам; единственное, чем она себя вознаграждала, – это одинокими утренними прогулками в ближних горах. Ворота открывали и спускали мосты на рассвете, и в то время как Амелия, которая до полуночи читала тайком романы, спала до самого завтрака, Порпорина шла в лес дышать на свободе свежим воздухом и бродить по росистой траве.
Однажды утром, спускаясь на цыпочках к выходу, чтобы никого не разбудить, она потерялась среди бесчисленных лестниц и бесконечных коридоров замка, в которых еще не умела хорошо разобраться. Заблудившись в лабиринте галерей и переходов, она прошла через какую-то незнакомую ей комнату, похожую на переднюю, надеясь, что тут есть выход в сад. Но вместо этого она очутилась на пороге маленькой часовенки, сооруженной в прекрасном старинном стиле и едва освещенной розеткой – крошечным окошечком в сводчатом потолке. Бледный свет падал оттуда только на середину молельни, оставляя все кругом в таинственном полумраке. Солнце еще не вставало, рассвет был серый и туманный. Сперва Консуэло подумала, что попала в ту часовню замка, где уже однажды, в воскресенье, слушала обедню. Она знала, что та часовня выходила в сад. Но прежде чем уйти, ей захотелось помолиться, и она опустилась на колени на первой же каменной плите. Однако, как это часто бывает с артистическими натурами, она скоро отвлеклась. Несмотря на старание отдаться возвышенным мыслям, молитва поглотила ее не настолько, чтобы помешать ей бросить любопытный взгляд по сторонам, и вскоре она поняла, что находится вовсе не в той часовне, где думала, а в новом месте, где прежде не бывала. И свод был не тот, не те были украшения. Это неизвестная часовня была очень мала, и ее можно было рассмотреть, несмотря на полумрак; больше всего внимание Консуэло привлекла белевшая перед алтарем статуя, стоявшая на коленях в той застывшей и суровой позе, какую в былые времена придавали надгробным изваяниям. Девушка решила, что попала в усыпальницу каких-нибудь славных предков графской семьи, и, сделавшись за свое пребывание в Богемии несколько боязливой и суеверной, поспешила окончить молитву и встала, собираясь уйти.
Но в ту минуту, когда она в последний раз робко посмотрела на коленопреклоненную фигуру, стоявшую шагах в десяти от нее, она ясно увидела, как статуя разжала каменные руки и, тяжко вздыхая, осенила себя крестом. Консуэло едва не упала без чувств, но оторвать блуждающий взор от страшной каменной фигуры она не могла. Теперь она была еще более убеждена в том, что это статуя, потому что, не услышав, по-видимому, вырвавшегося из ее груди крика ужаса, фигура снова сложила ладонями вместе свои большие белые руки, словно отрешившись от внешнего мира.
Глава 34
Если бы изобретательная и плодовитая Анна Рэдклиф была на месте простодушного и неискусного повествователя этой весьма правдивой истории, она не упустила бы столь удобного случая поводить вас, милая читательница, по коридорам, винтовым лестницам, люкам и мрачным подземельям на протяжении по меньшей мере полудюжины прекрасных и увлекательных томов, с тем чтобы только в седьмом разоблачить все тайны своего искусного сооружения. Но читательница-вольнодумка, которую приходится нам развлекать, в наше время, пожалуй, не отнеслась бы так добродушно к невинной литературной уловке романиста. И так как обмануть ее было бы очень трудно, уж лучше как можно скорее раскрыть разгадку всех наших загадок. Откроем даже сразу целых две: Консуэло, через две секунды придя в себя, узнала в ожившей статуе, стоявшей перед нею, старого графа Христиана, читавшего про себя утренние молитвы в своей молельне, а в тяжком вздохе, который невольно вырвался у него, как это часто случается со стариками, она признала тот самый «дьявольский» вздох, который послышался ей в тот вечер, когда она пела гимн богоматери-утешительнице.
Немного устыдившись своего испуга, Консуэло, исполненная почтения, продолжала стоять, точно прикованная к месту, опасаясь потревожить пламенную молитву. Это было трогательное и торжественное зрелище – старик, распростертый на каменных плитах, от всего сердца возносящий на рассвете свои молитвы богу, погруженный в экстаз, отрешившийся от реального мира. На благородном лице графа Христиана не отражалось никаких мучительных переживаний. Свежий ветерок, врывавшийся в дверь, которую Консуэло оставила полуоткрытой, развевал серебристые волосы, обрамлявшие полукругом его затылок; широкий лоб старика, сливавшийся с большой лысиной, блестел, словно старый пожелтевший мрамор. В старомодном белом шерстяном халате, слегка напоминавшем монашескую рясу и спадавшем с его исхудавших плеч недвижными тяжелыми складками, он действительно походил на надгробную статую. И когда он снова застыл в своей молитвенной позе, Консуэло принуждена была дважды посмотреть на него, чтобы опять не поддаться первоначальному заблуждению.
Став в сторонку, откуда было лучше видно, она принялась внимательно наблюдать за ним, и вот среди восхищения и умиления ей как-то невольно пришла в голову мысль: сможет ли эта молитва старика способствовать исцелению его несчастного сына, и вообще были ли в этой душе, столь пассивно подчинявшейся догматам религии и суровым приговорам судьбы, тот пыл, тот разум, то рвение, которые Альберт должен был бы найти в душе своего отца? У сына тоже была мистически настроенная душа, он также вел набожную и созерцательную жизнь, но из всего того, что ей рассказала Амелия, и из того, что ей довелось видеть самой за несколько дней, уже проведенных в замке, у Консуэло сложилось такое впечатление, будто у Альберта никогда не было ни советчика, ни руководителя, ни друга – никого, кто бы мог направить его воображение, умерить пылкость его чувствований и смягчить фанатическую суровость его добродетели. Она поняла, насколько он должен чувствовать себя одиноким и даже чужим среди своей семьи, которая упорно противоречила ему или молчаливо жалела, как еретика или как сумасшедшего. Она и сама начинала чувствовать нечто вроде раздражения при виде этой бесконечной, невозмутимой молитвы, которая была обращена к небу, дабы поручить ему то, что давно должны были сделать они сами: искать беглеца, найти его, убедить и вернуть домой. Ведь каково должно было быть отчаяние и невыразимое смятение этого доброго, сердечного молодого человека, если он мог бросить своих близких, не отдавая себе отчета в том, что с ним делается, не думая о страшном беспокойстве и волнениях, которые он доставляет самым дорогим для него существам. Принятое всеми решение никогда ему не прекословить и в минуты ужаса притворяться спокойным казалось прямому и здравому уму Консуэло какой-то преступной небрежностью или грубой ошибкой. Она чувствовала в этом гордость и эгоизм людей, нетерпимых к чужим верованиям, считающих, что путь, ведущий на небо, единственно тот, который сурово начертан рукою священника.
«Господи! – от всего сердца молилась Консуэло. – Неужели возвышенная душа Альберта, такая пламенная, такая милосердная, не загрязненная человеческими страстями, неужели в твоих глазах она менее драгоценна, чем души терпеливых, но праздных людей, мирящихся с мирским злом и не возмущающихся тем, что справедливость и истина не признаны на земле? Возможно ли, чтобы дьявол владел этим юношей, который в детстве отдавал все свои игрушки, все свои вещи детям бедняков, а достигнув зрелости, хотел раздать все свои богатства, дабы облегчить человеческое горе? А они, эти знатные господа, кроткие и благодушные, оплакивающие бесплодными слезами людские несчастия и облегчающие их ничтожными подаяниями, не ошибаются ли они, воображая, будто скорее заслужат рай своими молитвами и подчинением императору и папе, чем великими делами и огромными жертвами? Нет, Альберт не безумец! Какой-то внутренний голос говорит мне, что это прекраснейший образец праведника и святого из всех созданных природой. И если тягостные сны и странные призраки затмили ясность его рассудка, если наконец, он душевнобольной, как они думают, то его довели до этого тупое неприятие его взглядов, отсутствие понимания и сердечное одиночество. Я видела каморку, где был заперт Тассо, признанный сумасшедшим, и я подумала тогда, что, быть может, он был доведен до отчаяния несправедливостью. Я не раз слышала в гостиных Венеции, как называли безумцами тех христианских мучеников, над трогательной историей которых я в детстве проливала слезы, – их чудеса считали там шарлатанством, а их откровения – болезненным бредом. Но по какому праву эти люди, этот набожный старик, эта робкая канонисса, верящие в чудеса святых и в гениальность поэтов, – по какому праву они произносят над своим чадом такой позорный и отталкивающий приговор, применимый только к убогим и преступным? Сумасшедший! Но ведь сумасшествие – это нечто ужасное, отталкивающее, это наказание Божия за тяжкие преступления, – а тут человек вдруг сходит с ума в силу своей добродетели. Я думала, что человек, изнемогающий под тяжестью незаслуженного несчастья, имеет право на уважение и сочувствие людей. А если бы я сошла с ума, если бы в тот ужасный день, когда я увидела Андзолето в объятиях другой, я стала богохульствовать, неужели я потеряла бы тогда всякое право на советы, на поддержку, на духовную заботу обо мне моих братьев-христиан? Значит, меня выгнали бы и предоставили бы бродяжничать по большим дорогам, считая, что для нее, мол, нет лекарств, подадим ей милостыню и не станем с ней разговаривать: она слишком много страдала и потому теперь не в состоянии ничего понимать. А ведь вот так же относятся к несчастному графу Альберту. Его кормят, одевают, за ним ухаживают, – словом, ему бросают подачку в виде мелочных забот. Но с ним не разговаривают: молчат, когда он спрашивает, опускают головы или отворачиваются, когда он начинает в чем-нибудь убеждать. Когда же он, чувствуя весь ужас одиночества, стремится к еще большему уединению, ему предоставляют возможность бежать куда-то, сами же тем временем молятся о его благополучном возвращении, словно между ним и любящими его – целый океан. А между тем все предполагают, что он где-то рядом. Меня заставляют петь, чтобы разбудить его на тот случай, если он лежит в летаргическом сне за какой-нибудь толстой стеной или в дупле какого-нибудь старого дерева поблизости. Как могли они не проникнуть в тайны этого древнего здания, как могли, разыскивая, не дорыться до самых недр земли? О, будь я на месте отца или тетки Альберта, я не оставила бы камня на камне, пока не разыскала бы его! Ни одно дерево в лесу не уцелело бы, пока не отдало бы его мне».
Погруженная в свои мысли, Консуэло тихонько вышла из молельни графа Христиана и, сама не зная как, набрела на дверь, выходившую наружу. Она направилась в лес; отыскивая самые дикие, самые непроходимые тропинки, бродила она, влекомая романтическим, полным героизма стремлением и надеждой разыскать Альберта. В этом смелом желании не было никаких низменных побуждений, ни тени безрассудной прихоти. Правда, Альберт заполнил ее воображение, ее мечты, но она разыскивала в этих пустынных местах не молодого красавца, увлеченного ею, для того чтобы встретиться с ним наедине, а несчастного благородного человека, которого хотя и не мечтала спасти совсем, но все же надеялась несколько успокоить своею нежной заботой. Точно так же она стала бы разыскивать старого больного отшельника, чтобы ухаживать за ним, или заблудившегося ребенка, чтобы вернуть его матери. Она сама была еще ребенком, но в ней уже пробудилось материнское чувство, у нее была наивная вера, пламенное милосердие, восторженная храбрость. Она мечтала об этом благочестивом подвиге и приступила к нему так же, как Жанна д\'Арк мечтала об освобождении своей родины и предприняла его. Ей не приходило даже в голову, что могут осмеять или осудить ее решение. Она не могла понять, как Амелия, близкая Альберту по крови и вначале надеявшаяся снискать его любовь, не додумалась до такого плана и не осуществила его.
Она шла быстро, никакие препятствия не останавливали ее. Тишина, царившая в этих дремучих лесах, теперь не навевала на нее грусти и не пугала. Видя на песке следы волков, она нисколько не боялась встречи с их голодной стаей. Ей казалось, что ее направляет божий перст, делающий ее неуязвимой. Она, знавшая наизусть Тассо (недаром распевала она его чуть не каждую ночь на лагунах), воображала, что идет под защитой талисмана, как некогда шел средь опасностей заколдованного леса великодушный Убальдо в поисках Ринальда. Легкая, стройная, она пробиралась среди скал и колючих кустарников; на челе ее сияла тайная гордость, а на щеках выступил легкий румянец. Никогда в героических ролях не была она так прекрасна, а между тем в эту минуту она в такой же мере не думала о сцене, как, играя на ней, не думала о самой себе.
Поглощенная своими мечтами и мыслями, она изредка останавливалась.
«А что, если я вдруг встречу его, – спрашивала она себя, – что смогу я сказать ему, чтобы убедить его и успокоить? Я ведь ничего не знаю о таинственных и глубоких мыслях, волнующих его. Я вижу их только сквозь поэтическую завесу, едва приподнятую перед моими глазами, ослепленными новыми видениями. Ведь мало рвения и любви к ближнему – надо обладать знанием и красноречием, чтобы найти слова, достойные быть выслушанными человеком, стоящим настолько выше меня, безумцем, более мудрым, чем все рассудительные люди, среди которых я живу. Но господь вдохновит меня, когда настанет эта минута, а теперь, сколько бы я ни придумывала, я все больше терялась бы в дебрях своего невежества. Ах! Если бы я прочла столько религиозных и исторических книг, как граф Христиан и канонисса Венцеслава! Знай я наизусть все церковные правила и молитвы, быть может, я и смогла бы применить их удачно при случае, но ведь я едва поняла, а потому едва заучила несколько мест из катехизиса. Да и молиться-то я умею, только когда пою в церкви. Как ни действует на Альберта музыка, но не смогу же я убедить такого ученого богослова какой-нибудь музыкальной фразой. Ничего! Мне кажется, что в моем сердце, преисполненном решимости, больше силы, чем во всех ученых догматах его родных, очень добрых и кротких, но вместе с тем таких же нерешительных и холодных, как туманы и снега их страны».
Глава 35
После бесконечных поворотов и переходов по извилистым и путаным тропинкам леса, разбросанного по гористой и неровной местности, Консуэло очутилась на пригорке, среди скал и развалин, которые даже трудно было отличить друг от друга, столь разрушительно действовала здесь когда-то рука человека, соперничая с разрушительной рукой времени. Лишь гора обломков высилась теперь там, где в былое время целая деревня была сожжена по приказу «Грозного слепца», знаменитого главы каликстинов – Яна Жижки, потомком которого считал себя Альберт и от которого, быть может, он происходил на самом деле. В одну темную, зловещую ночь этот грозный и неутомимый полководец отдал приказ своему войску взять приступом крепость Великанов, находившуюся тогда в руках саксонцев, приверженцев императора; он услышал ропот солдат, а один из них, стоявший неподалеку, проговорил: «Этот проклятый слепой воображает, что все, как и он, могут обойтись без света!» Услышав это, Жижка обратился к одному из четырех своих ближайших приверженцев (они неразлучно были с ним, правя его лошадью или повозкой и сообщая ему самые точные сведения о топографии местности и передвижении неприятеля) и сказал, обнаруживая при этом необыкновенную память и прозорливость, заменявшую ему зрение:
– Нет ли здесь поблизости деревни?
– Да, отец, – ответил ему проводник таборитов, – направо от тебя – на возвышенности, что против крепости.
Жижка подозвал недовольного солдата, на ропот которого он обратил внимание.
– Дитя, – сказал он ему, – ты жалуешься на темноту? Так отправляйся поскорее вон в ту деревню, что направо от меня на горе, и подожги ее, – при свете пламени мы сможем выступить и сражаться.
Страшный приказ был выполнен. Пылающая деревня освещала передвижение и штурм таборитов. Крепость замка Великанов пала через два часа, и Жижка завладел ею. Когда рассвело, Жижке доложили, что среди обгорелых развалин деревни, на самой вершине холма, с которого солдаты наблюдали накануне за действиями осажденных, уцелел, сохранив свою листву, молодой, но уже крепкий дуб, единственный во всей округе. Очевидно, он не пострадал от пламени благодаря воде колодца, питавшей его корни.
– Я хорошо знаю этот колодец, – ответил Жижка, – десять человек из наших были брошены туда проклятыми жителями этой деревни, и после того камень, закрывающий колодец, ни разу не был сдвинут с места. Пусть остается он там и послужит им надгробным памятником. Мы ведь не из тех, кто верит, будто блуждающие души умерших будут отогнаны от врат рая покровителем Рима – Петром-ключарем, которого они превратили в святого, – отогнаны только потому, что тела их гниют в земле, не освященной жрецами Ваала. Пусть кости наших братьев почивают с миром в этом колодце, – души их живы, они уже возродились в новых телах, и эти мученики, хотя мы и не знаем их, сражаются среди нас. Что касается жителей деревни – они получили возмездие по заслугам. А дуб хорошо сделал, посмеявшись над пожаром: ему предстоит более славная будущность, чем укрывать под своей тенью неверующих. Нам нужна виселица, вот мы ее и нашли. Приведите ко мне двадцать монахов-августинцев, которых мы захватили вчера в их монастыре и которые так неохотно следуют за нами. Давайте-ка развесим их повыше на ветвях этого славного дуба! Такое украшение окончательно вернет ему здоровье.
Сказано – сделано. С этого времени дуб зовется «Гуситом», камень на колодце – скалой Ужаса», а разрушенная деревня и покинутый холм – Шрекенштейном».
Консуэло слышала уже со всеми подробностями эту мрачную историю от баронессы Амелии. Но так как она видела это место лишь издали и ночью, подъезжая к замку, то не узнала бы его, если бы не заглянула в овраг, пересекающий дорогу, и не увидела на дне его огромные обломки дуба, расщепленного молнией. Никто из деревенских жителей или из слуг замка не решился до сих пор ни порубить, ни вывезти их оттуда. Прошли столетия, и все-таки этот памятник ужаса, современник Яна Жижки, не переставал внушать людям сильнейший суеверный страх.
Видения и предсказания Альберта делали это трагическое место еще более волнующим. И вот Консуэло, разбитая от усталости, попав неожиданно одна на скалу Ужаса и даже присев на ней, вдруг почувствовала, что мужество покидает ее, а сердце как-то странно замирает. Ведь не только Альберт, но и все местные обитатели гор уверяли, что страшные призраки действительно появляются здесь, обращая в бегство отважных охотников, решавшихся пробираться сюда за дичью. Вот почему этот холм, хоть и расположенный совсем недалеко от замка, служил надежным убежищем для волков и других хищников, спасавшихся сюда от барона и его своры. Невозмутимый Фридрих не очень-то верил в возможность встречи с дьяволом и даже ничего не имел против того, чтобы помериться с ним силами, но, суеверный по-своему в области наиболее ему близкой, он был убежден, что это место может погубить его собак, навести на них неведомые, неизлечимые болезни. Он потерял нескольких из них только потому, что позволил им напиться из чистых ручейков, образованных подземными ключами, вырывавшимися из холма и, быть может, сообщавшимися с водой заделанного колодца – могилы древних гуситов. И стоило его лягавой Панкену или его гончей Сапфиру начать носиться вокруг скалы Ужаса, как барон, свистя изо всех сил, отзывал их оттуда.
Консуэло, устыдившись приступа малодушия, сказала себе, что она его поборет, и решила посидеть еще немного на роковом камне, а затем медленно отойти от него, как подобает при подобном испытании человеку уравновешенному. Но отведя глаза от обуглившегося дуба, обломки которого валялись на дне глубокого оврага в двух сотнях шагов от нее, и оглянувшись вокруг, она вдруг увидела, что находится не одна на скале Ужаса, что какая-то загадочная фигура бесшумно уселась с ней рядом.
Это было существо с большой круглой головой, сидящей на уродливом, худом и изогнутом, как у кузнечика, теле. На нем был какой-то странный балахон, неряшливый и даже грязный, не характерный ни для одной страны и ни для одной эпохи. Однако в этой фигуре – если не считать ее своеобразия и неожиданности появления – не было ничего страшного или враждебного. Кроткая, ласковая улыбка мелькала на толстых губах этого странного существа, и какое-то детское выражение смягчало выражение безумия, о котором свидетельствовали мутный, бессмысленный взгляд и торопливые движения. Консуэло, очутившись наедине с сумасшедшим в таком месте, куда, конечно, никто не пришел бы к ней на помощь, не на шутку перепугалась, несмотря на бесконечные поклоны и добродушный смех безумца. Она решила, чтобы не дразнить его, ответить на его поклоны и кивки, но тут же поспешно встала и, бледная, дрожа от страха, пошла прочь.
Сумасшедший не стал ее преследовать и ничего не сделал, чтобы вернуть ее. Он только влез на скалу Ужаса и, следя глазами за удалявшейся Консуэло, продолжал помахивать ей шапкой, прыгая, делая всевозможные движения руками и ногами и все время бормоча какое-то непонятное для девушки чешское слово. Отойдя от него на некоторое расстояние и несколько расхрабрившись, Консуэло оглянулась, чтобы хорошенько разглядеть его и расслышать. Она уже упрекала себя в том, что испугалась одного из тех несчастных, которых всегда так жалела и за презрение и равнодушие к которым так негодовала на других людей еще минуту назад. «Это добродушный безумец, – решила она, – быть может, даже он сошел с ума от любви. Только на этой проклятой скале, где никто не смеет приютиться и где демоны и привидения более человечны, чем его ближние, ибо они не прогоняют его и не отравляют его веселого настроения, – только здесь он нашел убежище от бесчувствия и презрения людского Бедняга с седой бородой и сгорбленной спиной, ты смеешься и дурачишься, как малое дитя. Верно, господь охраняет и благословляет тебя в твоем несчастии, раз он посылает тебе веселые мысли, а не сделал тебя озлобленным человеконенавистником, каким ты имел бы право стать».
Сумасшедший, увидев, что она замедлила шаг, и словно поняв ее доброжелательный взгляд, заговорил с ней чрезвычайно быстро по-чешски. Голос у него был удивительно нежный, гармоничный, совершенно не соответствовавший его безобразной внешности. Консуэло, не поняв его, подумала, что надо дать ему милостыню, и, вынув из кармана монету, положила ее на камень, предварительно подняв руку, чтобы он видел, куда она ее кладет. Но сумасшедший стал хохотать еще пуще и, потирая руки, сказал ей на плохом немецком языке:
– Напрасно, напрасно… Зденко ничего не нужно. Зденко счастлив, очень счастлив! У Зденко есть утешение, утешение, утешение…
Затем, точно вспомнив слово, которое давно искал, он в радостном порыве закричал совершенно внятно, хотя и с очень скверным произношением: – Consuelo, Consuelo, Consuelo de mi alma! Пораженная Консуэло остановилась и обратилась к нему тоже по-испански.
– Отчего ты так называешь меня? – крикнула она. – Кто сказал тебе это имя? Понимаешь ли ты язык, на котором я говорю с тобой?
Напрасно ждала Консуэло ответа на все эти вопросы, – сумасшедший только прыгал, потирая руки, как человек, чрезвычайно довольный собой. Пока до нее долетали звуки его голоса, она слышала, как он повторял ее имя на разные лады, со смехом и криками радости, точно ученая птица, которая, смеясь, произносит заученное слово, чередуя его со своим природным щебетаньем.
Всю дорогу обратно Консуэло терялась в догадках.
«Кто мог выдать тайну моего инкогнито? – спрашивала она себя. – Первый попавшийся дикарь, встреченный мною в этой пустыне, зовет меня моим настоящим именем! Быть может, этот сумасшедший видел меня где-нибудь прежде? Такого рода люди ведут бродячий образ жизни; он мог быть в Венеции и видеть меня там».
Но тщетно силилась она воскресить в памяти лица всех нищих и бродяг, которых привыкла постоянно видеть на набережных и на площади св. Марка, – лица сумасшедшего со скалы Ужаса не было среди них.
Однако, когда она уже проходила по подъемному мосту, ей пришла в голову более обоснованная и более интересная догадка. Она решила проверить свои подозрения и втайне поздравила себя с тем, что предпринятая ею прогулка осталась не совсем безрезультатной.
Глава 36
Когда Консуэло, исполненная оживления и надежды, снова очутилась в обществе удрученной и молчаливой семьи, она стала упрекать себя за то, что так строго осуждала втайне бесчувственность этих глубоко опечаленных людей. Граф Христиан и канонисса почти ничего не ели за завтраком, капеллан тоже не решался проявить свой аппетит; Амелия, по-видимому, была очень не в духе. Когда встали из-за стола, старый граф подошел к окну, посмотрел на усыпанную песком дорожку, идущую от речного заповедника, по которой мог вернуться Альберт, и, постояв с минуту, печально покачал головой, как бы говоря: «Еще один день, который дурно начался и так же дурно кончится».
Консуэло попыталась развлечь их, исполнив на клавесине кое-что из последних церковных произведений Порпоры, которые все они всегда слушали с особенным восхищением и интересом. Она страдала оттого, что, видя их такими угнетенными, не может поделиться с ними своими надеждами. Но когда граф взялся за книгу, а канонисса, сев за вышивание, подозвала ее к своим пяльцам, чтобы посоветоваться, какими крестиками – белыми или голубыми – заполнить середину узора, все мысли Консуэло сосредоточились невольно на Альберте, который, может быть, изнывал в эту минуту от усталости и голода где-нибудь в лесу и, не будучи в силах найти дорогу, лежал, застигнутый летаргическим сном, на каком-нибудь холодном камне, подвергаясь опасности стать добычей волков и змей, в то самое время, как под искусными и неутомимыми пальцами кроткой Венцеславы распускались на покрывале многочисленные роскошные цветы, орошаемые иногда бесплодной, пролитой украдкой слезой.
Как только ей удалось заговорить с надувшейся Амелией, Консуэло спросила, кто этот странно одетый сумасшедший, который блуждает по окрестностям и при встрече с людьми смеется, как ребенок.
– А, это Зденко, – ответила Амелия. – Разве вы еще не видели его во время ваших прогулок? Он постоянно бродит всюду, потому что он бездомный.
– Сегодня утром я видела его впервые, – сказала Консуэло, – и решила, что он постоянный обитатель Шрекенштейна.
– Так вот куда вы уже успели слетать спозаранку? Я начинаю думать, милая Нина, что вы сами не в своем уме: забраться одной ни свет ни заря в эти пустынные места, где можно встретиться с кем-нибудь и похуже безобидного дурачка Зденко!
– Например, с голодным волком? – улыбаясь, проговорила Консуэло. Мне кажется, карабин барона, вашего отца, сделал безопасной всю округу. – Дело не в одних диких зверях, – сказала Амелия, – наши места не так безопасны, как вы думаете, от самых злых на свете тварей – разбойников и бродяг. Только что закончившиеся войны разорили много народу и наплодили много нищих, привыкших просить милостыню с пистолетом в руке. Кроме того, здесь еще бродят целые тучи египетских цыган, которых во Франции делают нам честь именовать «богемцами», словно они уроженцы наших гор, куда они хлынули, высадившись в Европе. Эти люди, отовсюду гонимые и всеми отвергнутые, трусливы и раболепны перед вооруженным человеком, но могут повести себя очень дерзко с такой красивой девушкой, как вы; и я боюсь, как бы ваша склонность к рискованным прогулкам не подвергла вас большей опасности, чем подобает такой благоразумной особе, какую изображает из себя милая Порпорина.
– Дорогая баронесса, – возразила Консуэло, – хотя вы и считаете волчьи зубы ничтожной опасностью по сравнению с другими, мне грозящими, но, представьте, волков я боюсь все-таки гораздо больше, чем цыган. Цыгане – мои старые знакомые; да и вообще можно ли бояться людей слабых, бедных, преследуемых? Мне кажется, я всегда сумею поговорить с ними так, чтобы заслужить их доверие и симпатию; как они ни безобразны, ни оборваны, ни презираемы, я все-таки не могу не интересоваться ими особенно живо.
– Браво, моя милая! – воскликнула, все более и более раздражаясь, Амелия. – Вы, оказывается, как и Альберт, питаете нежные чувства к нищим, разбойникам, сумасшедшим, и я вовсе не удивлюсь, если в одно прекрасное утро увижу вас гуляющей с милейшим Зденко, опираясь, как делает это Альберт, на его довольно грязную и мало надежную руку.
Эти слова были для Консуэло проблеском света, которого она искала с самого начала разговора с Амелией, и они примирили ее с язвительным тоном собеседницы.
– Так, значит, граф Альберт дружит со Зденко? – спросила она с довольным видом, которого даже не пыталась скрыть.
– Это его самый близкий, самый дорогой друг, – с презрительной улыбкой ответила Амелия, – его спутник во время прогулок, поверенный его тайн, посредник, как говорят, его сношений с дьяволом. Зденко и Альберт одни только и осмеливаются в любое время отправляться на скалу Ужаса и там обсуждать самые нелепые религиозные вопросы. Только Альберт и Зденко не стыдятся сидеть на траве с цыганами, когда те делают привал под тенью наших елей, и делить с ними отвратительную пищу, которую эти люди готовят в своих деревянных мисках. Это у них называется «причащаться»; ну и, конечно, тут происходит всякого рода «причащение». Нечего сказать, хорошим супругом, хорошим возлюбленным будет мой кузен Альберт, когда той самой рукою, которою он только что пожимал зачумленную руку цыгана, возьмет руку невесты и поднесет ее ко рту, недавно пившему вино из одной чаши со Зденко!
– Может, все это и очень забавно, – проговорила Консуэло, – но я в этом ровно ничего не понимаю!
– Это потому, что вы не интересуетесь историей, – возразила Амелия, – и плохо слушали то, что я вам рассказывала о гуситах и о протестантах. Сколько дней я надрывала голос, чтобы научно объяснить вам таинственное поведение и нелепые религиозные обряды моего кузена! Разве не говорила я вам, что великий раскол между гуситами и католической церковью произошел из-за двух видов причастия? Базельский собор постановил, что давать мирянам кровь Христа под видом вина – осквернение святыни (удивительное умозаключение!), так как вкушающий, мол, его тело уже одновременно пьет и его кровь! Понимаете?
– Мне кажется, что отцы собора сами себя хорошенько не понимали, – сказала Консуэло. – Чтобы быть логичными, они должны были бы сказать, что причащение вином излишне, но почему это «осквернение святыни», раз, вкушая хлеб, пьют и кровь?
– Дело в том, что гуситы жаждали крови, а отцы собора прекрасно сознавали это. Они также жаждали крови этого народа, но высасывать ее хотели в виде золота. Римская церковь всегда чувствовала голод и жажду и всегда насыщалась жизненным соком народов, трудом и потом бедняков. Бедняки восстали и вернули себе свою кровь и пот в виде монастырских сокровищ и епископских митр. Вот вся суть распри, к которой, как я вам уже говорила, присоединилась жажда национальной независимости и ненависть к чужеземцам. Разногласие по поводу причастия послужило как бы знаменем для борьбы. Рим и его священнослужители в церквах употребляли золотые чаши с драгоценными каменьями; гуситы же, подражая бедности апостолов, пользовались деревянными чашами, протестуя против роскоши католической церкви. Вот почему Альберт, вбивший себе в голову стать гуситом, хотя теперь, в сущности, все это потеряло всякий смысл и всякое значение, и вообразивший, что знает истинное учение Яна Гуса лучше, чем знал его сам Ян Гус, и стал придумывать всякие виды причастия, сам причащаясь на больших дорогах со всякими язычниками, нищими и юродивыми. Ведь причащаться во всякое время и со всеми было манией гуситов. – Все это чрезвычайно странно, – ответила Консуэло, – и, по-моему, поведение графа Альберта можно объяснить только экзальтированным патриотизмом, доходящим, признаюсь, до исступления. Идея, быть может, и глубока, но формы, в которые он ее облекает, кажутся мне слишком ребяческими для такого серьезного и образованного человека. Разве истинное причастие не состоит скорее в том, чтобы творить милостыню? Что значат пустые, отжившие обряды, наверное, даже непонятные для тех, кого он заставляет принимать в них участие?
– Что касается милостыни, Альберт раздает ее щедрою рукой, и, дай ему только волю, от его богатства очень скоро ничего не останется. И мне, по правде сказать, очень хотелось бы, чтоб оно растаяло в руках его нищих. – Почему же?
– Да потому, что мой отец отказался бы тогда от мысли обогатить меня, выдав замуж за этого бесноватого. Надо вам сказать, милая Порпорина, – прибавила Амелия не без злого умысла, – что моя семья не отказалась еще от этого милого плана. На днях, когда в мозгу моего кузена наступило некоторое просветление, похожее на мимолетный луч солнца среди черных туч, отец возобновил наступление на меня с большей настойчивостью, чем я могла от него ожидать. У нас произошла довольно крупная ссора, после которой, очевидно, решено попытаться взять меня скучным заточением, подобно тому как крепость берут измором. Итак, если я ослабею, если изнемогу и не выдержу натиска, мне придется выйти замуж за Альберта, и выйти против его воли, против своей воли и вопреки желанию третьей особы, которая делает вид, будто все это ей безразлично.
– Вот-вот, – ответила Консуэло, смеясь, – я ожидала этой колкости, и, конечно, вы удостоили меня своей утренней беседой лишь для того, чтобы высказать ее. Я принимаю ее с удовольствием, так как вижу в этой маленькой комедии, подсказанной ревностью, остаток вашей привязанности к графу Альберту, и притом более пылкой, чем вы хотите признать.
– Нина! – решительно вскричала молодая баронесса. – Если вы так думаете, вы совсем непроницательны, а если вам доставляет удовольствие это видеть, значит, вы мало меня любите. Правда, я своевольна, быть может горда, но откровенна. Я уже говорила вам, что предпочтение, оказываемое вам Альбертом, восстанавливает меня, но вовсе не против вас, а против него. Оно уязвляет мое самолюбие, но вместе с тем подает мне надежду на исполнение моего желания. Мне бы хотелось, чтобы из-за вас он сделал какую-нибудь безумную выходку, которая развязала бы мне руки и дала возможность, не щадя его более, выказать ему то отвращение, с которым я долго боролась, но которое в конце концов почувствовала к нему уже без всякой примеси жалости или любви.
– Дай бог, – кротко ответила Консуэло, – чтобы в вас говорила страсть, а не правда! Это была бы очень суровая правда, и притом в устах очень жестокого человека.
Язвительность и запальчивость, проявленные Амелией в этом разговоре, не произвели большого впечатления на великодушное сердце Консуэло. Уже несколько минут спустя все ее мысли снова сосредоточились на том, как вернуть Альберта его семье, и мечта эта внесла наивную радость в ее однообразную жизнь. Это было ей просто необходимо, чтобы уйти от грозившей ей тоски – недуга, совершенно незнакомого и несвойственного ее деятельной, трудолюбивой натуре, – недуга, который мог стать для нее гибельным. Ведь по окончании продолжительного неинтересного урока со своей непослушной и невнимательной ученицей ей ничего больше не оставалось, как упражнять свой голос и изучать старых мастеров. Но и это никогда не изменявшее ей утешение то и дело отравлялось: праздная, беспокойная Амелия постоянно врывалась к ней, мешая ее занятиям своими пустыми вопросами и не идущими к делу замечаниями. Остальные члены семьи были угрюмы. Прошло уже пять мучительных дней, а молодой граф все не появлялся, и с каждым днем подавленность и уныние, вызванные его отсутствием, возрастали.
После обеда, гуляя с Амелией по саду, Консуэло вдруг увидела по ту сторону рва, отделявшего их от полей, Зденко. Казалось, он говорил сам с собой и, судя по интонации, рассказывал себе какую-то историю. Консуэло остановила спутницу и попросила ее перевести то, что говорило это странное существо.
– Как могу я переводить бессмысленные бредни, в которых нет ни малейшей последовательности? – пожимая плечами, ответила Амелия. – Ну хорошо, вот что он бормотал, раз уж вам так хочется это знать: «Была однажды большая гора, совсем белая, совсем белая, рядом с ней большая гора, совсем черная, совсем черная, и рядом еще большая гора, совсем красная, совсем красная…» Ну что, вас это очень интересует?
– Может быть, если б я могла знать продолжение. Ах! Что бы я дала, чтобы понимать по-чешски! Я хочу научиться этому языку.
– Это не такой легкий язык, как итальянский и испанский, но вы до того старательны, что, если возьметесь, наверное его одолеете. Если это вам доставит удовольствие, я обучу вас ему.
– Вы будете просто ангелом! Но только при условии, что в роли учительницы вы проявите больше терпения, чем в роли ученицы. А что говорит Зденко теперь?
– Сейчас говорят его горы: «Отчего, гора красная, совсем красная, задавила ты гору черную, совсем черную? А ты, гора белая, совсем белая, зачем позволила раздавить гору черную, совсем черную?»
Тут Зденко запел пронзительным, разбитым голосом, но так верно и с таким чувством, что Консуэло была растрогана до глубины души.
Песнь его была такова:
«Горы черные и горы белые, много вам надо воды с красной горы, чтобы вымыть ваши платья; Ваши платья, черные от преступлений и белые от праздности, ваши платья, загрязненные ложью, ваши платья, сверкающие гордыней.
Но вот они вымыты, хорошенько вымыты, оба ваши платья, не хотевшие переменить свой цвет. Вот они изношены, совсем изношены, ваши платья, не хотевшие влачиться по дороге!
Вот все горы красные, совсем красные. Нужны все воды неба, все воды неба, чтобы их вымыть».
– Что это? Импровизация или старинная народная песня? – спросила Консуэло у своей подруги.
– А кто может это знать? – ответила Амелия. – Ведь Зденко – неистощимый импровизатор или весьма искусный народный певец. Наши крестьяне очень любят его пение, а его почитают за святого, воображая, что его безумие – не прирожденное несчастье, а дар небесный. Они его кормят, носятся с ним; пожелай он только, он получил бы самое лучшее жилище и был бы одет лучше всех. Все наперебой стремятся залучить его в свой дом: ведь считается, что он приносит счастье и предвещает удачу. Небо покрыто тучами, но стоит показаться Зденко, и все с облегченным вздохом повторяют: «Ничего! Града не будет!» Выдастся плохой урожай, – просят Зденко спеть; и так как в своих песнях он всегда сулит годы плодородия и изобилия, то все утешаются, ожидая лучшего будущего. Но жить Зденко ни у кого не хочет. Его натура бродяги влечет его в чащу лесов. Так и неизвестно, где проводит он ночи, где укрывается от холода и гроз. Ни разу за десять лет никто не видел, чтобы он вошел под чей-либо кров, кроме замка Великанов; он утверждает, что во всех домах округи – его предки и что ему запрещено показываться им на глаза. Альберта же он провожает вплоть до его комнаты; он предан и покорен ему, как его пес Цинабр. Альберт – единственный человек, которому подчиняется эта дикая, независимая натура; он может одним словом прекратить неистощимую веселость, вечные песни, неумолчную болтовню Зденко. Говорят, когда-то у Зденко был прекрасный голос, но он надорвал его своей болтовней, пением и смехом. Годами он не старше Альберта, а ведь по виду ему лет пятьдесят. Они были товарищами детства; тогда Зденко был только наполовину сумасшедшим. Он из старинного рода; один из его предков даже играл видную роль в войне гуситов. Так как в юности у Зденко была хорошая память и вообще неплохие способности, родители, ввиду его слабого здоровья, решили сделать из него монаха. Долго видели его в одежде послушника какого-то нищенствующего ордена. Но подчинить его монастырским правилам так и не смогли: когда, бывало, его вместе с одним из монахов посылали в объезд для сбора пожертвований, а с ним осла, нагруженного дарами правоверных, он вдруг бросал и суму, и осла, и монаха и надолго пропадал в лесах. Когда Альберт отправился путешествовать, Зденко впал в полное отчаяние, скинул рясу, убежал из монастыря и сделался настоящим бродягой. Меланхолия его мало-помалу рассеялась, но проблески рассудка, порой мерцавшие среди его странностей, окончательно исчезли. Речь его сделалась бессвязной, он стал проявлять непонятные причуды – словом, окончательно сошел с ума. Но так как он всегда трезв, пристоен и безобиден, то его можно считать скорее идиотом, чем сумасшедшим. Наши крестьяне зовут его не иначе как «юродивый».
– Все, что вы рассказали об этом несчастном человеке, внушает мне симпатию к нему, – проговорила Консуэло. – Мне хотелось бы с ним побеседовать. Говорит ли он хоть немного по-немецки?
– Он понимает этот язык и даже немного говорит на нем, но, как все богемские крестьяне, ненавидит его. К тому же, вы сами видите, он так погружен в свои мечтания, что вряд ли ответит, если вы его о чем-нибудь спросите.
– Попробуйте тогда заговорить с ним на его родном языке и привлечь его внимание, – сказала Консуэло.
Амелия окликнула Зденко несколько раз, спросила его по-чешски, как его здоровье и не нужно ли ему чего, но ей так и не удалось ни заставить его поднять опущенную к земле голову, ни оторвать от игры в камешки. У него их было три: белый, черный и красный. Он поочередно бросал камни, стараясь одним сбить два других, и очень радовался, когда они падали.
– Вы видите, это бесполезно, – сказала Амелия. – Если он не голоден и не ищет Альберта, он никогда с нами не разговаривает. В том и в другом случае он появляется у ворот замка. Если он только голоден, то ожидает у ворот; ему приносят то, чего он хочет, и, поблагодарив, он уходит. Если же он желает видеть Альберта, то входит в замок, направляется к его комнате и стучится в дверь, которая для него всегда открыта. Он проводит там целые часы: тихо, молча, словно боязливый ребенок, если Альберт работает; весело и оживленно болтая, когда тот расположен его слушать. По-видимому, Зденко никогда не бывает в тягость моему любезному кузену, и в этом отношении он счастливее всех нас, членов его семьи.
– А когда граф Альберт исчезает, как, например, сейчас, Зденко, который так горячо его любит, Зденко, впавший в отчаяние, когда граф отправился путешествовать, Зденко, неразлучный его товарищ, – неужели он при этом не проявляет беспокойства?
– Никакого. Он уверяет в таких случаях, что Альберт отправился в гости к господу богу и скоро оттуда вернется. Это же самое говорил он, примирившись наконец с путешествием Альберта по Европе.
– А вы не подозреваете, дорогая Амелия, что у Зденко, может быть, больше оснований, чем у всех вас, для этого спокойствия? Вам никогда не приходило в голову, что Зденко посвящен в тайну Альберта и что во время его припадков или летаргического сна он его охраняет?
– Да, у нас была эта мысль, и мы долго наблюдали за его действиями, но, так же как и его покровитель Альберт, он терпеть не может, когда за ним следят. Хитрее преследуемой собаками лисицы, он каждый раз умудрялся всех обмануть, всех сбить с толку, замести все следы. По-видимому, он, подобно Альберту, обладает способностью, когда захочет, делаться невидимым. Бывали случаи, когда на глазах у всех он исчезал, словно проваливался сквозь землю или словно его окутывало непроницаемое облако. Так по крайней мере утверждают наши слуги и сама тетушка Венцеслава, которая, несмотря на всю свою набожность, не очень-то далеко ушла от них в вопросе о власти сатаны.
– Но вы, дорогая баронесса, не можете же вы верить в такой вздор?
– Я придерживаюсь взгляда дяди Христиана. Он полагает, что если Альберту в его таинственных невзгодах помогает и содействует только этот сумасшедший, то очень опасно устранять его, и мы, выслеживая и затрудняя действия Зденко, рискуем оставить Альберта на целые часы и дни без ухода и даже без пищи, которую он может через него получать. Но, ради бога, милая Нина, переменим разговор! Довольно заниматься этим идиотом! Он, поверьте, далеко не так меня интересует, как вас. Мне ужасно надоели все его рассказы и песни, а от его надтреснутого голоса у меня просто уши вянут.
– Я очень удивлена, – сказала Консуэло, подчиняясь уводившей ее подруге, – что вы не находите в его голосе необычайной прелести. А на меня, как он ни слаб, голос его производит больше впечатления, чем голоса самых великих певцов. – Это потому, что вы пресыщены прекрасным и вас прельщает новизна.
– Язык, на котором он поет, необыкновенно мягок, – настаивала Консуэло, – и вы заблуждаетесь, считая его мелодии монотонными; напротив, в них есть много оригинального и приятного.
– Только не для меня! Мелодии эти ужасно мне надоели. Вначале я заинтересовалась содержанием его песен, принимая их, как и местные жители, за старинные народные песни, любопытные в историческом отношении, но так как он каждый раз передает их по-разному, то это, очевидно, не что иное, как импровизация; и вскоре я пришла к заключению, что слушать их не стоит, хотя наши горцы и воображают, что в них скрыт какой-то символический смысл.
Как только Консуэло удалось избавиться от Амелии, она побежала в сад и застала Зденко на том же месте, у рва, поглощенного все той же игрой. Убежденная, что этот несчастный тайно сносится с Альбертом, она успела украдкой сбегать в буфетную и утащить оттуда пирожок из крупичатой муки и меда – собственноручное произведение канониссы: она запомнила, что Альберт, который вообще ел очень мало, оказывал – вероятно, машинально – предпочтение этому кушанию, изготовляемому теткой для племянника с особым старанием. Завернув пирожок в белый платок и желая перебросить его Зденко через ров, она решилась окликнуть его. Но так как, по-видимому, он не хотел ее слушать, она, вспомнив, с каким пылом он выкрикивал ее имя, произнесла его сначала по-немецки. Зденко, казалось, услыхал ее, но, будучи в эту минуту меланхолически настроен, покачал, не глядя на нее, головой и со вздохом повторил: «Утешение, утешение», как бы говоря:
«Утешения я больше не жду».
– Консуэло, – произнесла тогда молодая девушка, желая посмотреть, не пробудит ли в сумасшедшем ее испанское имя ту радость, какую он выказывал этим утром, повторяя его.
Зденко тотчас прекратил свою игру в камешки и, радостный и сияющий, принялся скакать и прыгать, подбрасывая в воздух шапку, протягивая ей через ров руки и при этом оживленно лопоча что-то по-чешски.
– Альберт! – крикнула снова Консуэло, бросая ему пирожок.
Зденко, смеясь, поднял его, не развернув платка, и опять начал говорить без конца, но Консуэло, к своему отчаянию, ничего не поняла. Особенно прислушивалась она, стараясь запомнить одну фразу, которую он ей все повторял, раскланиваясь. Благодаря своему музыкальному уху ей удалось точно уловить произношение этих слов. Как только Зденко бросился бежать со всех ног, она сейчас же записала итальянскими буквами эту фразу в свою памятную книжечку, собираясь спросить разъяснения у Амелии. Но, пока Зденко не скрылся из виду, ей захотелось послать Альберту что-нибудь такое, что более тонко сказало бы ему о ее сочувствии, и она стала снова звать сумасшедшего; послушный ее зову, тот вернулся, и она, отколов от пояса свежий и душистый букет, за час перед тем сорванный в оранжерее, бросила его Зденко. Он, подняв букет, снова стал раскланиваться, выкрикивать что-то, скакать и наконец исчез в густых кустах, через которые, казалось, не смог бы пробраться и заяц. Консуэло несколько секунд следила по верхушкам ветвей, качавшихся в направлении к юго-востоку, за его быстрым бегом, но налетевший ветер, качнувший разом все ветки зарослей, помешал ее наблюдениям, и она вернулась домой, еще более утвердившись в своем решении достигнуть намеченной цели.
Глава 37
Когда Консуэло попросила Амелию перевести фразу, записанную в памятной книжке и запечатлевшуюся в ее мозгу, та сказала, что ровно ничего в ней не понимает, хотя дословно эта фраза и значит: Обиженный да поклонится тебе!»
– Быть может, – прибавила она, – он подразумевает Альберта или самого себя, считая, что их обидели, принимая за сумасшедших: ведь они-то считают себя единственными разумными людьми на свете. Но стоит ли доискиваться смысла в речах безумного? Знаете, этот Зденко занимает ваше воображение гораздо больше, чем он того заслуживает.
– Во всех странах существует народное поверье, – ответила Консуэло, что сумасшедшие бывают одарены высшей прозорливостью, недоступной холодному, положительному уму. Я вправе иметь предрассудки моего сословия и не могу поверить, чтобы он говорил эти непонятные для нас слова случайно.
– Попробуем спросить капеллана, – сказала Амелия. – Он большой знаток всяких местных народных изречений, старинных и нынешних. Быть может, он объяснит нам и это.
И, тут же подбежав к священнику, она попросила его объяснить фразу Зденко.
Эти непонятные слова точно громом поразили капеллана.
– Боже милостивый! – воскликнул он, бледнея. – Где ваше сиятельство могли услышать такое богохульство?
– Если это и богохульство, то я не понимаю его, – смеясь, ответила Амелия, – вот почему я жду вашего перевода.
– Дословно, на правильном немецком языке, это именно то, что вы изволили сейчас сказать, баронесса: «Обиженный да поклонится тебе!» Но если вам угодно знать, что значит эта фраза в устах того идолопоклонника, который ее произнес, она значит… я едва решаюсь даже выговорить: «Да будет дьявол с тобой!»
– Или попросту: «Иди к дьяволу! – заливаясь пуще прежнего смехом, подхватила Амелия. – Нечего сказать, – продолжала она, – очень любезно! Вот на что можно нарваться, милая Нина, ведя разговоры с сумасшедшими! Вы не ожидали, что Зденко со своей приветливой улыбкой и веселыми гримасами способен поднести вам столь мало учтивое пожелание?
– Зденко! – воскликнул капеллан. – Так это, значит, изречение этого жалкого идиота? Ну, слава богу, а я, признаться, дрожал, боясь, не другой ли кто… И совершенно напрасно… Это могло выйти только из головы Зденко, начиненной гнусностями старинной ереси. Откуда только черпает он все эти забытые теперь, никому не известные вещи? Лишь нечистая сила может внушать ему подобное.
– Да это просто очень скверное ругательство, которое в ходу у простого народа всех национальностей, – возразила Амелия, – и католики в данном случае не составляют исключения.
– Вы заблуждаетесь, баронесса, – сказал капеллан, – в устах сумасшедшего это вовсе не проклятие. Напротив: это дань почтения, благословение – вот что преступно! Эта мерзость идет от лоллардов, отвратительной секты, породившей, в свою очередь, секту вальденцев, от которой произошли гуситы…
– А от них произошло еще множество других сект, – добавила Амелия, напуская на себя серьезность, чтобы поиздеваться над добрым священником. – Но объясните же нам, господин капеллан, – продолжала она, – каким образом, посылая ближнего к дьяволу, можно оказать ему любезность?
– Видите ли, по учению лоллардов сатана не был врагом рода человеческого, а напротив, был его покровителем и заступником. Они изображали его жертвой несправедливости и зависти. По их верованиям, архангел Михаил и другие небесные властители, низвергнувшие сатану в бездну, были истинными демонами, а Вельзевул, Люцифер, Астарот, Астарта и прочие исчадия ада – это сама невинность и свет. Лолларды верили, что могущество Михаила и его славного воинства скоро кончится и что сатана со своими проклятыми приспешниками будет восстановлен в своих правах и водворен обратно на небо. Словом, у них был настоящий нечестивый культ сатаны, и при встрече они приветствовали друг друга вот этой фразой: «Обиженный да поклонится тебе!», то есть: «Тот, которого отвергли и несправедливо осудили, пусть покровительствует и помогает тебе».
– Итак, – захлебываясь от смеха, проговорила Амелия, – теперь моя дорогая Нина находится под чудесным покровительством, и я не удивлюсь, если нам скоро придется прибегнуть к заклинаниям, чтобы уничтожить в ней действие чар Зденко.
Шутка эта немного смутила Консуэло. Она была не так уж уверена, что дьявол – плод воображения, а ад – поэтическая басня. Возможно, негодование и страх капеллана произвели бы на нее большее впечатление, если бы тот, выведенный из себя громким хохотом Амелии, не был в эту минуту так смешон.
Консуэло была до того взволнована и взбудоражена суеверием одних и безверием других, что в этот вечер с трудом могла прочитать полагающиеся молитвы. В верования ее детских лет вкрались сомнения. До сих пор она относилась к религии без критики, теперь же ее встревоженный ум уже не довольствовался одними религиозными догматами, а стремился постичь их смысл.
«Насколько мне приходилось видеть в Венеции, – думала Консуэло, – там есть два вида набожности: одна – у монахов, монахинь и народа, заходящая, быть может, даже слишком далеко и приводящая к тому, что наряду с верой в таинства в них уживаются разные суеверия, ничего общего с этими таинствами не имеющие: верят они в какого-то Орко (беса лагун), в ведьм Маламокко – искательниц золота, в гороскопы, в обеты святым по поводу дел не только не благочестивых, но иногда даже нечестных; другая – набожность высшего духовенства и аристократии, представляющая собой сплошное лицемерие, потому что люди эти посещают церковь, как театр, – чтобы послушать музыку, себя показать и на других посмотреть; они над всем смеются и не задумываются ни над какими религиозными вопросами, так как уверены, что в религии нет ничего серьезного, что она ни к чему не обязывает и что все сводится к внешней форме и обычаю. Андзолето совершенно не был религиозен. Это было одним из моих огорчений, и я вижу теперь, что права была, боясь его неверия. А мой учитель Порпора… во что он верит? Не знаю… Он никогда не открывал мне этого, но в самые горестные и самые торжественные минуты моей жизни он говорил мне о боге и о божественных вещах. Слова его производили на меня сильное впечатление, но оставляли лишь страх и неуверенность. Казалось, он веровал в бога ревнивого и самовластного, дарующего гениальность и вдохновение только тем людям, которые, в силу своей гордости, отстраняют от себя горести и радости себе подобных. Сердце мое не признает такой суровой религии, и я не могу любить бога, запрещающего мне любить. Какой же бог есть истинный бог? Кто научит меня этому? Моя бедная мать была набожна, но сколько ребяческого идолопоклонства было в ее вере! Во что же верить и что думать? Скажу ли я вместе с беззаботной Амелией, что разум есть единственный бог? Но ей неизвестен даже и этот бог, чему же может она научить меня? Ведь трудно найти человека, менее разумного, чем она. Можно ли жить без религии? Тогда зачем же жить? Ради чего стану я работать? Для чего мне, одинокой во всей вселенной, иметь сострадание, доброту, совесть, великодушие, мужество, если во вселенной нет высшего существа, разумного, полного любви, которое взвешивает мои поступки, одобряет меня, помогает мне, охраняет и благословляет меня? Откуда же черпать в жизни силы и упоение тем людям, у которых нет надежды, нет любви, стоящей выше всех человеческих заблуждений и человеческого непостоянства?»
«О высшая сила! – воскликнула она из глубины сердца, забыв обычные формулы молитвы. – Научи меня, что я должна делать. О высшая любовь! Научи меня, что я должна любить! О высшее знание! Научи меня, чему я должна верить!»
Предавшись молитве и размышлению, Консуэло не заметила, как пролетело время, и было уже далеко за полночь, когда, собираясь лечь в постель, она выглянула в окно на залитую лунным светом окрестность. Горизонт, открывавшийся из ее окон, был неширок из-за надвинувшихся гор, но местность была очень живописна. На дне узкой извилистой долины несся горный поток. Обрамлявшие долину холмы разной высоты, поросшие у подножья луговой травой и замыкавшие горизонт, в нескольких местах как бы расступались, образуя ущелья, сквозь которые виднелись другие ущелья и другие горы, более крутые, сплошь покрытые темными елями. Позади этих печальных, суровых гор светила луна на ущербе, но вся окрестность с вечнозелеными хвойными лесами, и воды потока, бегущего в крутых берегах, и скалы, поросшие мхом и плющом, – все было погружено во мрак.
Сравнивая эту местность со всеми теми, по которым она проходила во времена своего детства, Консуэло вдруг подумала (эта мысль не приходила ей в голову прежде), что природа, которая была сейчас перед ее глазами, не представляет для нее ничего нового – потому ли, что она когда-то бывала в этой части Богемии, или потому, что эти места были чрезвычайно похожи на что-то виденное ею раньше.
«Мы с матерью столько странствовали, что нет ничего удивительного, если я уже и бывала здесь, – думала она. – У меня сохранилось ясное воспоминание о Дрездене и о Вене. Вполне возможно, что, направляясь из одной столицы в другую, мы проходили и через Богемию. Что, если нас приютили тогда в одном из сараев именно этого замка, где теперь меня принимают, как важную синьору; что, если в ту пору нам за наше пение подавали кусок хлеба в тех самых хижинах, у дверей которых Зденко протягивает теперь руку, распевая свои старинные песни? В сущности, этот Зденко, хоть он и потерял человеческий облик, – бродячий артист, мой собрат и ровня». В эту минуту взгляд ее упал на Шрекенштейн, вершина которого поднималась над более близкими горами, и ей показалось, будто это зловещее место окружено красноватым светом, слегка окрашивавшим и прозрачную лазурь неба. Она стала пристально смотреть туда и увидела, что этот неясный отблеск, то потухая, то разгораясь, стал наконец таким отчетливым и ярким, что его уже никак нельзя было принять за обман чувств. Быть может, там нашли себе временное убежище бродячие цыгане или разбойники? Одно было несомненно: в эту минуту на Шрекенштейне были живые люди. Консуэло после своей наивной горячей молитвы богу истины совсем не склонна была верить в присутствие фантастических зловредных существ, которыми народная молва населяла скалу Ужаса. Не мог ли Зденко развести там костер, чтобы согреться от ночного холода? А если это действительно был Зденко, то не пылают ли в эту минуту сухие сучья леса для того, чтобы отогреть Альберта? Люди не раз видали этот свет на Шрекенштейне. О нем всегда говорили с ужасом, приписывая его появление чему-то сверхъестественному. Тысячу раз твердили, что этот свет исходит из заколдованного ствола дуба Жижки. Но Гусит уже не существует – он валяется на дне оврага, а красный свет по-прежнему мерцает на вершине горы. «Как может этот таинственный маяк, – спрашивала себя Консуэло, – не направить поиски к вероятному убежищу Альберта?»
«Ох, эта апатия набожных душ! – подумала Консуэло. – Что это – благодеяние провидения или немощность слабых натур?» Она тут же спросила себя: хватило ли бы у нее мужества пойти одной в этот час на Шрекенштейн? И решила, что, побуждаемая милосердием, конечно, сделала бы это. Впрочем, решаясь на такой подвиг, она ничем не рисковала: крепкие запоры замка делали ее намерение неосуществимым.
Проснувшись утром, полная рвения, она побежала на Шрекенштейн. Там все было тихо и пустынно. Трава вокруг скалы Ужаса не была примята, не было также никаких следов костра, никаких признаков ночных гостей. Обойдя гору во всех направлениях, она нигде ничего не нашла. Она стала звать Зденко, затем попробовала засвистеть, думая вызвать этим лай Цинабра, несколько раз прокричала на всех языках, какие только знала, имя Консуэло, пропела несколько фраз из своего испанского гимна и даже исполнила богемскую песню Зденко, которую прекрасно запомнила. Ответа не было. Треск сухого мха под ее ногами да глухое журчание таинственных вод под скалами – таковы были единственные звуки, которые она услышала.
Устав от этих бесплодных розысков, она присела на скале, чтобы передохнуть немного, и уже собралась было уходить, как вдруг увидела у своих ног увядший и скомканный лепесток розы. Она подняла его, расправила и убедилась в том, что лепесток этот мог быть только из букета, брошенного ею Зденко, – в горах ведь розы не росли, да и время года было не то: розы пока цвели только в оранжереях замка. Это незначительное указание утешило Консуэло: ее прогулка в конце концов была не так бесплодна, как ей показалось сначала, и она еще более прониклась мыслью, что Альберта следует искать именно на Шрекенштейне.
Но, спрашивается, в какой недоступной пещере этой горы мог он скрываться? Очевидно, он находился в ней не всегда или же был в эту минуту погружен в летаргический сон. Возможно, было и другое: что Консуэло ошиблась, приписывая своему голосу такую власть над ним, что восторг, проявленный им тогда, был не чем иным, как безумием, и от этого восторга теперь в его памяти не осталось никакого следа. Быть может, сейчас он видит ее, слышит и смеется над нею, относясь с презрением к ее напрасным, усилиям и попыткам.
При этой мысли Консуэло почувствовала, как горячий румянец залил ей щеки. Она быстро пошла прочь от Шрекенштейна, чуть ли не давая себе слово никогда больше сюда не возвращаться. Все же она оставила на скале маленькую корзиночку с фруктами, захваченную из дому.
Но на следующий день она нашла корзиночку на том же месте нетронутой.
Даже к листьям, прикрывавшим фрукты, никто не прикоснулся, хотя бы из любопытства. Значит, либо ее дар был отвергнут, либо ни Альберт, ни Зденко не были здесь; а между тем красный отблеск елового костра опять всю ночь светил на вершине горы.
До самого рассвета Консуэло не ложилась, наблюдая это таинственное явление. Она несколько раз замечала, как свет то слабел, то усиливался, будто заботливая рука поддерживала его. Цыган в окрестности никто не видел. Чужие люди в лесу тоже не показывались. Крестьяне же, которых Консуэло расспрашивала об удивительном свете, появлявшемся на скале, все в один голос отвечали ей на ломаном немецком языке, что не годится, мол, вникать в такие вещи и не следует вмешиваться в дела того света.
Между тем прошло уже целых девять дней со времени исчезновения Альберта. Никогда еще его отсутствие не было таким длительным, и это обстоятельство в соединении со зловещими предсказаниями, относящимися к его тридцатилетию, не могло, конечно, внушать особенно радостных надежд его семье. Теперь уже все начали волноваться: граф Христиан не переставал жалобно вздыхать, барон отправлялся на охоту, но и не думал убивать дичь, капеллан произносил какие-то особенные молитвы, даже Амелия не смела ни болтать, ни смеяться, а канонисса, бледная, ослабевшая, рассеянно занималась хозяйственными делами, позабыв о вышивании, она с утра до вечера перебирала четки и беспрестанно зажигала крошечные свечки перед образом богоматери. За это время она, казалось, еще больше сгорбилась.
Консуэло отважилась было предложить произвести тщательные розыски на Шрекенштейне. Она призналась в поисках, которые предприняла сама, а канониссе даже конфиденциально поведала о случае с лепестком розы и о своих ночных наблюдениях над светящейся вершиной горы. Но те меры, которые задумала принять канонисса, заставили Консуэло пожалеть о своей откровенности. План Венцеславы был таков: выследить Зденко, припугнуть его, вооружить пятьдесят человек факелами и ружьями и попросить капеллана произнести на проклятой скале самые страшные заклинания, а барон в сопровождении Ганса и самых храбрых своих приспешников должен был в это самое время, среди ночи, произвести форменную осаду Шрекенштейна. Такой способ действий был бы вернейшим средством довести Альберта до полного безумия, а может быть, и до буйного помешательства. Консуэло удалось увещаниями и просьбами уговорить Венцеславу отказаться от этого плана и ничего не предпринимать, не посоветовавшись предварительно с ней. Она же предложила канониссе отправиться ночью вдвоем с ней (в сопровождении капеллана и Ганса, которые будут следовать за ними на некотором расстоянии) на вершину Шрекенштейна, чтобы посмотреть на этот таинственный свет вблизи. Но подобный подвиг оказался не по силам канониссе – она была убеждена, что на скале Ужаса справляется бесовский шабаш, – и Консуэло добилась только того, что ей откроют в полночь ворота замка и барон с несколькими слугами-добровольцами тихонько, безоружный, отправится следом за нею. Эту попытку разыскать Альберта решили скрыть от графа Христиана: преклонный возраст и ослабевшее здоровье не позволяли ему предпринять такую экскурсию в холодную ночную пору, а узнав о ней, он непременно захотел бы принять участие.
Все было сделано, как хотела Консуэло: барон, капеллан и Ганс следовали за нею на расстоянии ста шагов. Она шла одна и с храбростью, достойной Брадаманты, взошла на Шрекенштейн. Но по мере того как она приближалась, свет, пробивавшийся, как ей казалось, из расселин верхней горы, постепенно угасал, и когда девушка добралась до горы, вся она, сверху донизу, была погружена в глубокий мрак. Тишина и ужас одиночества царили кругом. Консуэло позвала Зденко, Цинабра и, содрогаясь, даже самого Альберта. Все молчало, лишь эхо повторяло ее неуверенно звучавший голос. Удрученная, возвратилась она к своим спутникам. Они стали превозносить до небес ее храбрость и даже отважились в свою очередь осмотреть только что покинутые ею места, но безуспешно. Молча вернулись они в замок. Канонисса, ожидавшая на пороге, выслушала их рассказ, и последняя надежда покинула ее.
Глава 38
После того как добрая Венцеслава, глубоко опечаленная результатом розысков, горячо поблагодарила Консуэло и поцеловала ее в лоб, девушка тихонько направилась в свою комнату, боясь разбудить Амелию, от которой скрыли эту ночную разведку. Консуэло жила во втором этаже, а комната канониссы находилась в первом. Поднимаясь по лестнице, Консуэло уронила свечку, которая погасла, прежде чем она успела ее поднять, и девушка решила, что доберется к себе без нее, тем более что уже начинало светать. Но потому ли, что она была необычайно озабочена, или потому, что напряжение, чрезмерное для женщины, подорвало ее мужество, – она так растерялась, что, поднявшись до своего этажа, не остановилась, а продолжала подниматься и вошла в коридор третьего этажа, где, почти над ее комнатой, помещалась комната Альберта. Однако у входа она остановилась и вся похолодела от ужаса, увидев перед собой тощую черную тень, которая беззвучно, будто не касаясь ногами пола, проскользнула в ту комнату, куда направлялась она сама, принимая ее за свою. Как ни была перепугана Консуэло, у нее все-таки хватило присутствия духа взглянуть на удаляющуюся фигуру, и она тотчас же в предрассветной мгле признала облик и странное одеяние Зденко. Но зачем в такое время пробирался он к ней в комнату и с каким поручением шел? Она не решилась в эту минуту заговорить с ним с глазу на глаз и направилась вниз, за канониссой. Очутившись во втором этаже, она узнала свой коридор и дверь своей комнаты и здесь только сообразила, что Зденко шел в комнату Альберта.
Теперь, когда она успокоилась и могла здраво рассуждать, тысяча предположений зашевелилась в ее мозгу. Каким образом мог этот идиот проникнуть ночью в замок, когда все кругом на запоре и канонисса каждый вечер сама со слугами осматривает весь дом? Появление Зденко подтверждало ее прежнюю уверенность в том, что в замке есть какой-то тайный выход и даже, может быть, существует никому неизвестный подземный ход, соединяющий замок с Шрекенштейном. Добежав до комнаты канониссы, Консуэло постучала в дверь. Старушка уже заперлась в своей келье; открыв девушке и увидев ее побледневшую, без свечи, она перепугалась и вскрикнула.
– Успокойтесь, дорогая синьора, – проговорила Консуэло. – Снова приключилось нечто странное, хотя и вовсе не страшное: я только что видела, как Зденко вошел в комнату графа Альберта.
– Зденко? Вы бредите, дитя мое! Откуда он мог войти? Я заперла все двери так же тщательно, как всегда, и сама сторожила все время, пока вы были на Шрекенштейне. Мост был поднят, а когда вы прошли в замок, его снова подняли при мне.
– Как бы там ни было, синьора, а Зденко в комнате графа Альберта. Вы сами можете в этом убедиться, если желаете.
– Сейчас же иду и выгоню его, как он того заслуживает, – ответила канонисса. – Должно быть, этот негодяй пробрался сюда днем. Но что ему нужно? Верно, он ищет Альберта или ожидает его? Вот вам доказательство, дорогая, что он не больше нашего знает, где находится Альберт.
– Но все-таки пойдемте и расспросим его, – настаивала Консуэло.
– Минутку, одну минутку, – сказала канонисса: собираясь лечь в постель, она сняла две юбки и теперь считала, что слишком легко одета, оставшись только в трех. – Не могу же я, моя милая, в таком виде предстать перед мужчиной. Сходите пока за капелланом или за моим братом бароном – все равно, кого первого встретите. Не можем же мы одни находиться с сумасшедшим!.. Ах, боже мой! Что я! Ведь я и не подумала, что такой молоденькой девушке неприлично стучаться к мужчинам… Сейчас! Сейчас! Я буду готова в одну секунду.
Говоря это, старушка начала одеваться; но чем больше она спешила, тем менее спорилось у нее дело: выбитая из обычной колеи, чего давно с нею не случалось, она совсем потеряла голову. Консуэло, беспокоясь, что из-за такой задержки Зденко успеет ускользнуть из комнаты Альберта и так спрятаться где-нибудь в замке, что его потом и не найти, вооружилась всей своей энергией.
– Дорогая синьора, – сказала она, зажигая свечу, – вы потрудитесь позвать этих господ, а я позабочусь, чтобы Зденко от нас не ускользнул. Быстро поднявшись наверх, она смелой рукой открыла дверь в комнату Альберта, – но там было пусто. Она прошла в соседнюю комнату, подняла там все занавески, не побоялась даже заглянуть под кровать и прочую мебель. Зденко исчез, не оставив никаких следов своего пребывания.
– Никого! – воскликнула Консуэло, когда канонисса кое-как взобралась наверх в сопровождении Ганса и капеллана: барон уже лег спать, и не было никакой возможности его добудиться.
– Я боюсь, – сказал капеллан, несколько недовольный тем, что его снова побеспокоили, – боюсь, что синьора Порпорина является жертвой самообмана…
– Нет, господин капеллан, – с живостью возразила Консуэло, – у меня самообмана меньше, чем у любого из здешних обитателей.
– Зато ни у кого нет такой выдержки и самопожертвования, как у вас, это несомненно, – сказал старик. – Но, синьора, вы с вашими пылкими надеждами видите указания там, где, к несчастью, их вовсе нет.
– Отец мой, – сказала канонисса, обращаясь к капеллану, – Порпорина смела, как лев, и умна, как ученый. Если она видела Зденко, значит он был здесь. Надо искать его по всему дому, и так как, славу богу, все на запоре, то ему от нас не убежать.
Разбудили слуг и стали искать всюду. Не оставалось ни единого шкафа, который бы не открыли, ни единого стула, который бы не сдвинули с места. Перерыты были запасы соломы на огромных чердаках. Наивный Ганс дошел до того, что заглянул даже в огромные охотничьи сапоги барона, – но и там ничего не оказалось! Начали уже думать, что все это приснилось Консуэло, но сама она была более чем когда-либо убеждена в том, что существует потайной выход из замка, и решила употребить всю свою настойчивость, всю свою волю, чтобы найти его. Поспав лишь несколько часов, она снова принялась за поиски. Часть здания, в которой помещалась ее комната и где были также и апартаменты Альберта, примыкала или, лучше сказать, была прислонена к холму. Альберт сам выбрал и устроил себе жилище в этой части замка, откуда он мог наслаждаться живописным видом на юг, а на восточной стороне разбил на искусственной земляной террасе прекрасный цветник, куда выходила дверь из его рабочего кабинета. Он очень любил цветы и на вершине когда-то бесплодного холма, покрытого теперь плодородной землей, разводил редкие растения. Терраса была окружена стеною высотой по грудь из больших тесаных камней, на фундаменте из отвесных скал; и с этого цветущего бельведера, как бы висевшего над пропастью, открывался вид на крутой склон обрыва и на часть обширного горизонта, замыкаемого зубчатыми горами Богемского Леса. Консуэло, попавшая сюда впервые, пришла в восторг от живописного вида и красоты самой террасы; потом она попросила капеллана объяснить ей, каково было назначение этой террасы прежде, до того как замок из крепости превратился в резиденцию графов Рудольштадтов. – В старину, – начал он рассказывать, – это был бастион, род укрепленной террасы, откуда гарнизон мог наблюдать за передвижением неприятельских войск в долине и по склонам окрестных гор. Ведь в горах нет ни одного прохода, который не был бы виден отсюда. В былое время эту площадку окружала высокая стена с проделанными в ней со всех сторон бойницами, предохранявшая защитников крепости от стрел или пуль неприятеля.
– А это что? – спросила Консуэло, подходя к колодцу, устроенному посреди цветника, на дно которого вела крутая винтовая лесенка.
– Это колодец, который в старину всегда в изобилии снабжал осажденных чудесной горной водой и был неоценимым благом для крепости.
– Значит, это вода, годная для питья? – сказала Консуэло, глядя на зеленоватую пенистую воду колодца. – А мне она кажется мутной.
– Теперь она уже не годна для питья, или, лучше сказать, не всегда бывает годна. Граф Альберт пользуется ею для поливки цветов. Надо сказать, что вот уже два года, как с этим водоемом происходят удивительные вещи. Питающий его источник, который пробивается неподалеку отсюда из горных недр, стал почему-то нерегулярно подавать воду. В течение целых недель уровень воды стоит так низко, что Альберт заставляет Зденко для поливки своих любимых цветов носить воду из другого колодца, что на большом дворе. И вдруг совершенно неожиданно, в одну ночь, а иногда и в один час, этот водоем наполняется тепловатой мутной – вот такой, как сейчас, водой. Случается, что вода эта так же скоро исчезает, как и появляется, а бывает, что она держится долго, причем мало-помалу очищается и делается холодной и прозрачной, словно горный хрусталь. Очевидно, сегодня ночью произошло как раз такое явление, ибо еще вчера я сам видел, что колодец был полон прозрачной воды, а сейчас она мутна, точно водоем опорожнили и снова наполнили.
– Значит, в этих явлениях не наблюдается регулярности? – спросила Консуэло.
– Никакой. И я охотно занялся бы их исследованием, если бы граф Альберт, который, по своей дикости, запрещает входить и в свои комнаты и в цветник, не лишил меня этого развлечения. Я думал и продолжаю думать, что дно водоема заросло мхом и водорослями и что они-то и забивают отверстия, через которые поступают подземные воды, пока, вследствие сильного напора, вода наконец не пробьется.
– Но чем же объяснить внезапное исчезновение воды, которое вы иногда наблюдали?
– Тем, что граф потребляет слишком много воды для поливки своих цветов. – Но, мне кажется, понадобилось бы немало рабочих рук, чтобы опорожнить этот водоем. Разве он неглубок?
– Неглубок? До его дна невозможно добраться!
– В таком случае ваше объяснение меня не удовлетворяет, – сказала Консуэло, пораженная тупостью капеллана.
– Ищите лучшего, – ответил тот, обиженный и немного сконфуженный собственной недогадливостью.
«Конечно, я найду лучшее», – подумала Консуэло, живо заинтересованная причудами водоема.
– О, если вы спросите графа Альберта, что все это значит, – снова заговорил капеллан, желая маленьким вольнодумством восстановить свой престиж в глазах проницательной иностранки, – он вам, наверное, скажет, что это слезы его матери, то иссякающие, то снова вытекающие из недр гор. А знаменитый Зденко, чьим бредням вы так верите, будет вам клясться, что там живет сирена, услаждающая своим пением тех, у кого есть уши, чтобы ее слушать. Они вдвоем с графом окрестили этот водоем «источником слез». Это, возможно, весьма поэтично, но может удовлетворить лишь тех, кто любит языческие побасенки.
«Конечно, я не удовлетворюсь этим, – подумала Консуэло. – И я узнаю, отчего эти слезы иссякают».
– Что касается меня, – продолжал капеллан, – то я убежден, что на дне колодца, в другом углу, имеется сток…
– Безусловно! Не будь этого, – перебила Консуэло, – колодец, раз он питается источником, всегда был бы полон до краев. – Конечно, конечно, – согласился капеллан, не желая обнаруживать, что такое соображение не приходило ему прежде в голову. – Это само собой разумеется! Но, очевидно, в движении подземных вод произошли какие-то значительные изменения, – поэтому-то уровень воды и колеблется, чего не было раньше.
– А что, этот водоем – дело человеческих рук или же это естественные подземные каналы? – допытывалась настойчивая Консуэло. – Вот что интересно было бы знать!
– Это-то и мудрено выяснить, – ответил капеллан, – раз граф Альберт не позволяет даже подойти к своему драгоценному водоему и строго-настрого запретил его чистить.
– Так я и думала, – проговорила Консуэло, уходя. – И, мне кажется, необходимо твердо блюсти его желание: бог знает, какое несчастье могло бы с ним случиться, если бы потревожили его сирену!
«Теперь я совершенно уверен, – решил капеллан, расставшись с Консуэло, – что рассудок этой молодой особы не в лучшем состоянии, чем у господина графа. Неужели сумасшествие заразительно? Или, быть может, маэстро Порпора и прислал нам ее сюда, дабы деревенский воздух несколько освежил ей мозги? Видя, с каким упорством она добивается разъяснения тайны этого водоема, я побился бы об заклад, что она дочь какого-нибудь венецианского инженера, строителя каналов, и что ей просто хочется хвастнуть своими знаниями в этой области; но ее последняя фраза, эта галлюцинация сегодня утром, когда она видела Зденко, и прогулка, которую она заставила нас сделать этой ночью на Шрекенштейн, – все это говорит за то, что ее расспросы о водоеме – фантазия в том же роде. Уж не воображает ли она найти Альберта на дне этого колодца? Несчастные молодые люди! Если бы вы могли найти там себе разум и истину!»
Засим добряк капеллан, в ожидании обеда, принялся за свои молитвы. «Видно, безделье и апатия странным образом ослабляют ум, – в свою очередь думала Консуэло. – Чем иным объяснить, что этому святому человеку, так много читавшему и учившемуся, даже не приходит в голову, почему меня так интересует этот водоем. Прости меня, боже, но этот твой служитель очень мало пользуется своей способностью рассуждать. И они еще говорят, что Зденко дурачок!»
Затем Консуэло отправилась давать урок пения молодой баронессе, рассчитывая после этого снова приняться за свои розыски.
Глава 39
– Приходилось ли вам когда-нибудь наблюдать, как вода убывает и как она прибывает? – тихонько спросила Консуэло вечером капеллана, когда тот всецело был поглощен своим пищеварением.
– Что такое? Что случилось? – воскликнул он, вскакивая со стула и в ужасе тараща глаза.
– Я говорю о водоеме, – невозмутимо продолжала она. – Приходилось ли вам самому наблюдать, как происходит это странное явление?
– Ах, да! Вы о водоеме? Понимаю! – ответил он с улыбкой сострадания.
«Вот, – подумал он, – опять начинается припадок безумия».
– Да ответьте же мне, добрейший капеллан, – сказала Консуэло, преследуя свою мысль с тем жаром, который она вносила во все свои умственные занятия, но без всякого злого умысла по отношению к этому достойному человеку.
– Признаюсь, синьора, – ответил он холодно, – лично я никогда не видел того, чем вы интересуетесь, и, поверьте, меня это не настолько беспокоит, чтобы ради этого я не спал по ночам.
– О! я в этом уверена, – нетерпеливо отозвалась Консуэло.
Капеллан пожал плечами и с трудом поднялся со стула, чтобы избегнуть этого настойчивого дознания.
«Ну что ж, если здесь никто не желает пожертвовать часом сна для такого важного открытия, я, если понадобится, посвящу этому целую ночь», – подумала Консуэло, и, подождав, пока все в замке разойдутся по своим комнатам, она накинула плащ и пошла пройтись по саду.
Ночь была холодная, ясная, туман постепенно рассеивался, и полная луна всходила на небосклоне; в ожидании ее восхода звезды побледнели, а сухой воздух отражал каждый звук. Консуэло, возбужденная, но вовсе не разбитая усталостью, бессонницей, своей великодушной и, быть может, несколько болезненной тревогой, была в каком-то лихорадочном состоянии, которого даже вечерняя прохлада не могла успокоить. Ей казалось, что она близка к преследуемой цели. Романтическое предчувствие, которое она принимала за приказание и поощрение свыше, поддерживало ее энергию и воодушевляло ее. Она уселась на бугре, поросшем травою и обсаженном лиственницами, и стала прислушиваться к тихому жалобному журчанию горного ручья на дне долины. Ей почудилось, что временами к журчанию воды примешивается еще более нежный, более жалобный голос. Она прилегла на траву, чтобы, находясь ближе к земле, лучше уловить эти легкие, уносимые ветром звуки. Наконец она различила голос Зденко. Он пел по-немецки, и она разобрала следующие слова, кое-как приспособленные к чешской мелодии, наивной и меланхолической, как и та, что она слышала от него раньше:
«Там, там душа в унынии и в тревоге ждет своего освобождения. Освобождения и обещанного утешения.
Но, кажется, освобождение – в оковах, а утешение неумолимо.
Там, там душа в унынии и в тревоге томится ожиданием».
Когда голос умолк, Консуэло поднялась и оглянулась, ища глазами Зденко; она обежала весь парк и сад, зовя его, и возвратилась, так и не увидев юродивого.
Но через час, после длинной общей молитвы за графа Альберта, на которую были созваны даже слуги замка, когда все легли спать, Консуэло отправилась к «Источнику слез» и, усевшись на его каменной закраине, среди диких, густых папоротников и посаженных Альбертом ирисов, стала пристально смотреть на неподвижную воду, в которой, словно в зеркале, отражалась луна, стоявшая в зените.
Так прошел час. Отважная девушка уже почувствовала, что глаза ее начинают смыкаться от усталости, когда легкий шум на поверхности воды разбудил ее. Она открыла глаза и увидела, что отражение луны в водоеме колышется, разбивается и расплывается светлыми кругами. В то же время до нее донеслось какое-то клокотание и глухой шум, сперва едва слышный, но затем все усиливавшийся. Вода стала убывать, кружась, как в воронке, и менее чем в четверть часа совсем исчезла в глубине.
Консуэло отважилась спуститься вниз на несколько ступенек. Лестница, высеченная из гранитных глыб и вьющаяся спиралью в скале, была сооружена, по-видимому, для того, чтобы можно было спускаться к воде, когда она находится на разных уровнях. Скользкие, покрытые илом ступеньки, без всяких перил, терялись в страшной глубине. Мрак, остаток воды, плескавшейся еще на дне неизмеримой пропасти, невозможность удержаться слабыми ногами на вязкой тине – все это заставило Консуэло отказаться от своей безумной попытки. Пятясь, она с большим трудом поднялась наверх и, дрожащая, подавленная, присела на верхней ступеньке.
Между тем вода, казалось, продолжала убегать в недра земли: шум становился все глуше, пока совсем не затих. Консуэло хотела было сходить за фонарем, чтобы осмотреть сверху, насколько это возможно, внутренность колодца, но, опасаясь упустить приход того, кого ждала, осталась и терпеливо просидела, не двигаясь, еще почти целый час. Наконец ей показалось, что на дне колодца виден слабый свет, и, с тревогой нагнувшись, она увидела, что этот колеблющийся свет мало-помалу движется кверху. Вскоре она уже не сомневалась: Зденко поднимался по спиральной лестнице, придерживаясь за железную цепь, вделанную в скалу. По шуму, который он производил, хватаясь за эту цепь и бросая ее, Консуэло догадалась о том, что в колодце были своеобразные перила, которые кончались на известной высоте и существования которых она никак не могла бы предположить. Зденко нес с собой фонарь. Он повесил его на крюк, очевидно для этой цели вбитый в скалу футах в двадцати ниже уровня земли, а затем легко и быстро поднялся по лестнице уже без помощи цепи или какой-либо видимой опоры. Однако Консуэло, следившая за ним с большим вниманием, заметила, что он придерживается за некоторые выступы скалы, за наиболее крепкие растения в стене и даже, может быть, за какие-нибудь согнутые, торчавшие в стене гвозди, нащупывая их привычной рукой. В тот момент, когда он поднялся настолько высоко, что мог бы заметить Консуэло, она спряталась за каменную полукруглую закраину, обрамлявшую водоем. Зденко вышел и принялся рвать на клумбах цветы, составляя, видимо с разбором и не торопясь, большой букет. Затем он направился в кабинет Альберта, и Консуэло видела через стеклянную дверь, как он долго рылся там в книгах, пока наконец не нашел той, которая, видимо, и была нужна, так как он вернулся к водоему довольный, смеясь и что-то бормоча еле слышно: как видно, его всегдашняя потребность говорить самому с собой боролась в нем со страхом разбудить обитателей замка.
Консуэло еще не решила, стоит ли к нему подойти и попросить проводить ее к Альберту. Надо правду сказать: пораженная всем виденным, взволнованная затеянным ею делом, довольная тем, что ее предчувствия оправдались, но вместе с тем и ужасаясь при мысли, что надо будет спуститься в недра земли и в глубь вод, она в эту минуту не нашла в себе мужества пойти напрямик к развязке и предоставила Зденко спуститься так же, как он и поднялся, снять свой фонарь и исчезнуть. По мере того как он уходил все глубже под землю, голос его становился все громче, и теперь Консуэло уже ясно слышала загадочные слова:
«Освобождение – в оковах, утешение – неумолимо».
С замирающим сердцем Консуэло, нагнувшись над колодцем, раз десять собиралась окликнуть его. Наконец, сделав над собой героическое усилие, она уже совсем было решилась это сделать, но тут ей пришло в голову, что Зденко может от неожиданности поскользнуться на этой опасной лестнице, сорваться и разбиться насмерть. Она воздержалась на этот раз, но дала себе слово, что завтра, в более подходящую минуту, будет храбрее. Консуэло подождала еще, чтобы посмотреть, каким образом будет подниматься вода. Поднялась она гораздо быстрее, чем опускалась: не прошло и четверти часа с того мгновения, когда Зденко скрылся со своим фонарем и голос его затих, как послышался глухой грохот, похожий на отдаленные раскаты грома, и вода хлынула с необычайной силой, кружась, бурля и колотясь о стены своей тюрьмы. Это внезапное вторжение воды было так страшно, что Консуэло затрепетала: ведь бедный Зденко, играя с такими опасностями, распоряжаясь таким образом силами природы, может быть унесенным бурным течением и выброшенным на поверхность водоема, как эти плавающие, покрытые илом растения!
А между тем это происходило, должно быть, очень просто. Быть может, стоило только поднять и опустить шлюз или, приходя, положить камень, а уходя, снять его. Но этот человек, такой рассеянный, всегда погруженный в свои странные мечтания, разве не мог он ошибиться и сдвинуть этот камень чуточку раньше, чем следовало? Приходит ли он по тому самому подземному ходу, по которому устремляется и вода из источника? «Так или иначе, но я должна пробраться туда с ним или без него, – сказала себе Консуэло, – и это будет не позже завтрашней ночи, так как там есть душа в тревоге и в унынии, которая ждет меня и томится ожиданием. Ведь не случайно же Зденко пел это, и не без цели он, ненавидя немецкий язык и с трудом изъясняясь на нем, нынче вдруг заговорил по-немецки».
Наконец она пошла спать, но страшные кошмары терзали ее всю ночь. Лихорадочное состояние ее усиливалось, но, еще полная сил и решимости, она не отдавала себе отчета в этом, а только поминутно просыпалась в испуге, воображая, что она все еще на ступеньках той ужасной лестницы и не в силах на нее подняться, а вода под ней все прибывает и прибывает с глухим ревом и молниеносной быстротой.
За ночь она так изменилась в лице, что утром все это заметили. Капеллан не мог удержаться, чтобы не шепнуть канониссе, что эта «приятная и любезная особа», по-видимому, не в своем уме. И добрая Венцеслава, не привыкшая видеть среди окружающих столько мужества и самоотверженности, сама начала думать, что Порпорина по меньшей мере девушка весьма экзальтированная, нервная и легко поддающаяся возбуждению, – канонисса слишком надеялась на свои крепкие, обитые железом двери и верные ключи, постоянно бряцавшие у ее пояса, чтобы продолжать верить в появление и исчезновение Зденко в позапрошлую ночь. Поэтому она обратилась к Консуэло с ласковыми и полными сострадания словами, умоляя ее не принимать так близко к сердцу их семейное горе, подумать о своем здоровье, в то же время стараясь поддержать в девушке надежду на возвращение Альберта, – надежду, которая, надо сказать, начала уже умирать в глубине ее души.
Но она была поражена и вместе с тем обрадована, когда Консуэло с блестящими от восторга глазами и радостной улыбкой, в которой сквозила некоторая гордость, ответила ей:
– Вы правы, что верите в его возвращение и ждете его, дорогая синьора. Граф Альберт не только жив, но, надеюсь, и неплохо себя чувствует, так как в своем убежище интересуется любимыми книгами и цветами. В этом я убеждена и могу вам представить доказательства.
– Что вы хотите сказать этим, дорогое дитя мое? – воскликнула канонисса, поддаваясь ее уверенному тону. – Что вы узнали? Что вы открыли? Ради самого бога, говорите, верните к жизни несчастную семью!
– Скажите графу Христиану, что его сын жив и недалеко отсюда. Это так же верно, как то, что я люблю вас и уважаю.
Канонисса вскочила, чтобы бежать к брату, который еще не спускался в гостиную, но взгляд и вздох капеллана удержали ее на месте.
– Не будем так опрометчиво радовать моего бедного Христиана, – проговорила она, также вздыхая. – Знаете, дорогая, если бы ваши чудесные обещания не сбылись, мы нанесли бы несчастному отцу смертельный удар!
– Вы сомневаетесь в моих словах? – спросила с удивлением Консуэло.
– Упаси меня бог, благородная Нина! Но вы можете заблуждаться! Увы, с нами самими это не раз случалось! Вы говорите, дорогая, о доказательствах. Не могли ли бы вы привести их нам?
– Не могу… или, скорее, мне кажется, что я не должна это делать, с некоторым смущением проговорила Консуэло. – Я открыла тайну, которой граф Альберт, несомненно, придает большое значение, но не считаю себя вправе выдать ее без его согласия.
– Без его согласия! – воскликнула канонисса, нерешительно глядя на капеллана. – Уж и вправду не видела ли она его?
Капеллан еле заметно пожал плечами, совершенно не понимая, как он терзает бедную канониссу своим недоверием.
– Я его не видела, – продолжала Консуэло, – но скоро увижу, и вы тоже, надеюсь, увидите. Вот почему я и боюсь задержать его возвращение своей нескромностью, противное его воле.
– Да царит божественная истина в твоем сердце, великодушное создание, и пусть говорит она твоими устами! – проговорила растроганная канонисса, глядя на Консуэло нежно, но все же с некоторым беспокойством. – Храни свою тайну, если она у тебя есть, и верни нам Альберта, если ты в силах это сделать! Одно могу сказать: если это осуществится, я буду целовать твои колена, как сейчас целую твой бедный лоб… влажный и горячий, – прибавила она, прикасаясь губами к прекрасному воспаленному лбу молодой девушки и взволнованно глядя на капеллана.
– Если она и безумна, – сказала Венцеслава капеллану, как только они остались наедине, – все-таки это ангел доброты, и мне кажется, она принимает наши страдания ближе к сердцу, чем мы сами. Ах, отец мой!
Над этим домом тяготеет проклятие: здесь каждого, у кого в груди бьется редкое, удивительное сердце, поражает безумие, и наша жизнь проходит в том, что мы жалеем тех, кем должны восхищаться.
– Я вовсе не отрицаю добрых побуждений юной иностранки, – возразил капеллан, – но рассказ ее – бред, не сомневайтесь в этом, сударыня. Она, по-видимому, сегодня ночью видела во сне графа Альберта и вот неосторожно выдает нам свои сны за действительность. Остерегайтесь смутить благочестивую, покорившуюся душу вашего почтенного брата такими пустыми, легкомысленными уверениями. Быть может, не следовало бы также слишком поощрять и безрассудную храбрость синьоры Порпорины… Это может привести ее к опасностям иного рода, чем те, которым она так смело шла навстречу до сих пор…
– Я вас не понимаю! – с серьезным и наивным видом ответила канонисса Венцеслава.
– Очень затрудняюсь объяснить вам это… – проговорил достойный пастырь. – А все-таки мне кажется, что если бы тайное общение, понятно, самое чистое, самое бескорыстное, возникло между этой молодой артисткой и благородным графом…
– Ну и что же? – спросила канонисса с удивлением.
– Что же? А не думаете ли вы, сударыня, что внимание и заботливость, сами по себе весьма невинные, могут в короткое время благодаря обстоятельствам и романтическим идеям вылиться в нечто опасное для спокойствия и достоинства молодой музыкантши?
– Мне это никогда не пришло бы в голову! – воскликнула канонисса, пораженная этими соображениями. – Неужели, отец мой, вы допускаете, что Порпорина может забыть свое скромное, зависимое положение и войти в какие-либо отношения с человеком, который стоит настолько выше ее, как мой племянник Альберт фон Рудольштадт!
– Граф Альберт фон Рудольштадт может сам невольно наталкивать ее на это, проповедуя, что преимущества рождения и класса – одни лишь пустые предрассудки.
– Знаете, вы заронили в мою душу серьезное беспокойство, – сказала Венцеслава, в которой пробудилась фамильная гордость и тщеславие, порожденное происхождением, – единственная ее слабость. – Неужели зло уже зародилось в этом юном сердце? Неужели в ее возбуждении, в стремлении разыскать Альберта говорит не прирожденное великодушие, не привязанность к нам, а менее чистые побуждения?
– Хочу надеяться, что пока этого еще нет, – ответил капеллан, у которого была единственная страсть – разыгрывать при помощи своих советов и суждений особую роль в графской семье, сохраняя при этом вид робкого почтения и раболепной покорности. – Но вам все-таки следует, дочь моя, не закрывать глаза на последующие события и все время помнить об опасности. Эта трудная роль как нельзя больше по вас, так как небо наградило вас осторожностью и проницательностью.
Разговор этот очень взволновал канониссу и дал совершенно новое направление ее тревогам. Словно забывая, что Альберт почти потерян для нее, что он, быть может, в данную минуту умирает или даже умер, она была всецело озабочена мыслью, как предотвратить последствия того, что в душе называла «неподходящей» привязанностью. Она походила в этом на индейца из басни, который, спасаясь от свирепого тигра, влез на дерево и отгонял докучливую муху, жужжавшую над его головой.
В течение всего дня она не сводила глаз с Порпорины, следя за каждым ее шагом, тревожно взвешивая каждое ее слово. Наша героиня, – а в данное время наша мужественная Консуэло была героиней в полном смысле этого слова, – не могла не заметить беспокойства канониссы, но была далека от того, чтобы объяснить его чем-либо иным, кроме недоверия к ее обещанию вернуть Альберта. Девушка и не старалась скрыть свое волнение, так как ее спокойная, безупречная совесть подсказывала ей, что она может не краснеть за свой замысел, а гордиться им. Чувство смущения, вызванное в ней несколько дней назад восторженным отношением молодого графа, рассеялось перед серьезной решимостью действовать, рожденной отнюдь не личным тщеславием. Язвительные насмешки Амелии, угадывавшей ее план, хотя и не знавшей его подробностей, мало ее трогали. Едва обращая на них внимание, она отвечала лишь улыбкой, предоставляя канониссе прислушиваться к колкостям юной баронессы, запоминать их, истолковывать и находить в них страшный тайный смысл.
Глава 40
Консуэло, заметив, что канонисса следит за нею так, как этого не бывало раньше, и опасаясь, как бы такое неуместное рвение не повредило ее планам, стала держаться более хладнокровно, благодаря чему ей удалось днем ускользнуть от наблюдений Венцеславы и проворно направиться по дороге к Шрекенштейну. В эту минуту она ничего другого не хотела, как встретить Зденко, добиться от него объяснений и окончательно выяснить, захочет ли он проводить ее к Альберту. Она увидела его довольно близко от замка, на тропинке, ведущей к Шрекенштейну. Казалось, он шел ей навстречу и, поравнявшись, заговорил с ней очень быстро по-чешски.
– Увы! Я не понимаю тебя, – проговорила Консуэло, как только ей удалось вставить слово. – Я почти не знаю и немецкого языка; это грубый язык, ненавистный нам обоим: тебе он говорит о рабстве, а мне об изгнании. Но раз это единственный способ понимать друг друга, не отказывайся говорить со мной по-немецки; мы оба одинаково плохо говорим на нем, но я тебе обещаю выучиться по-чешски, если только ты захочешь меня учить. После этих приятных ему слов Зденко стал серьезен и, протягивая ей свою сухую, мозолистую руку, которую она, не задумываясь, пожала, сказал по-немецки:
– Добрая девушка божья, я выучу тебя своему языку и всем своим песням; скажи, с какой ты хочешь начать?
Консуэло решила, что надо подделаться к его причудам, употребляя при расспросах его же выражения.
– Я бы хотела, – сказала она, – чтобы ты спел мне балладу о графе Альберте.
– О моем брате, графе Альберте, – отвечал он, – существует более двухсот тысяч баллад. Я не могу передать их тебе: ты их не поймешь. Я каждый день сочиняю новые, совсем непохожие на прежние. Попроси что-нибудь другое.
– Отчего же я тебя не пойму? Я – утешение. Слышишь, для тебя мое имя – Консуэло! Для тебя и для графа Альберта, который один здесь знает, кто я.
– ТЫ Консуэло? – воскликнул со смехом Зденко. – О, ты не знаешь, что говоришь. «Освобождение – в оковах…»
– Я это знаю, – перебила она. – Утешение – неумолимо». А вот ты, Зденко, ничего не знаешь: освобождение разорвало свои оковы, утешение разбило свои цепи.
– Ложь! Ложь! Глупости! Немецкие слова! – закричал Зденко, обрывая свой смех и переставая прыгать. – Ты не умеешь петь!
– Нет, умею, – возразила Консуэло. – Послушай!
И она спела первую фразу его песни о трех горах, которую прекрасно запомнила; разобрать и выучить правильно произносить слова ей помогла Амелия.
Зденко слушал с восхищением и затем сказал ей, вздыхая:
– Я очень люблю тебя, сестра моя, очень, очень. Хочешь, я тебя выучу еще другой песне?
– Да, песне о графе Альберте: сначала по-немецки, а потом ты выучишь меня петь ее и по-чешски.
– А как она начинается? – спросил он, лукаво на нее поглядывая.
Консуэло начала мотив вчерашней песни: «Там есть, там есть душа в тревоге и в унынье…»
– О! Это вчерашняя песня, сегодня я ее уже не помню, – прервал ее Зденко.
– Ну так спой мне сегодняшнюю.
– А как она начинается? Скажи мне первые слова.
– Первые слова? Вот они, слушай: «Граф Альберт там, там, в пещере Шрекенштейна…»
Не успела она произнести этих слов, как выражение лица Зденко внезапно изменилось, глаза его засверкали от негодования. Он отступил на три шага назад, поднял руки, как бы проклиная Консуэло, и гневно и угрожающе заговорил что-то по-чешски.
Сперва она испугалась, но, увидав, что он уходит, окликнула его, чтобы пойти с ним. Он обернулся и, подняв по-видимому без всякого усилия своими худыми и на вид такими слабыми руками огромный камень, яростно прокричал по-немецки:
– Зденко никогда никому не сделал зла. Зденко не оторвал бы крылышка у бедной мухи, а если б малое дитя захотело его убить, он дал бы себя убить малому дитяти. Но если ты хоть раз еще взглянешь на меня, вымолвишь одно слово, дочь зла, лгунья, австриячка, Зденко раздавит тебя, словно дождевого червя, хотя бы ему пришлось затем броситься в поток, чтобы смыть со своего тела и души пролитую им кровь!
Консуэло в ужасе пустилась бежать и в конце тропинки встретила крестьянина, который, увидев ее, мертвенно бледную, словно преследуемую кем-то, спросил, не попался ли ей навстречу волк.
Консуэло, желая выпытать, бывают ли у Зденко припадки буйного помешательства, сказала ему, что она встретила юродивого и испугалась.
– Вам нечего бояться юродивого, – с усмешкой ответил крестьянин, усмотревший в этом трусливость барышни, – Зденко не злой, он всегда или смеется, или поет, или рассказывает истории, никому непонятные, но такие красивые.
– Но разве не бывает, чтобы он рассердился, стал угрожать и швырять камнями?
– Никогда, никогда! – ответил крестьянин. – Этого с ним не случалось и никогда не случится. Зденко нечего бояться: Зденко безгрешен, как ангел.
Несколько успокоившись, Консуэло решила, что крестьянин, пожалуй, и прав и что она неосторожно сказанным словом сама вызвала у Зденко первый и единственный припадок бешенства. Она горько упрекала себя за это. «Я слишком поторопилась, – говорила она себе, – я пробудила в мирной душе этого человека, лишенного того, что так гордо именуют разумом, неведомое ему страдание, которое теперь может снова пробудиться при малейшем поводе. Он был только маньяком, а я, кажется, довела его до сумасшествия». Но ей стало еще тяжелее, когда она вспомнила о причине, вызвавшей гнев Зденко. Теперь уже не было сомнения: ее догадка о том, что Альберт скрывается где-то на Шрекенштейне, была справедлива. Но как тщательно и с какой подозрительностью оберегали Альберт и Зденко эту тайну даже от нее! Значит, они и для нее не делали исключения, значит, она не имела никакого влияния на графа Альберта. То наитие, благодаря которому он назвал ее своим утешением, символическая песня Зденко, призывавшая ее накануне, признание, которое Альберт сделал идиоту относительно имени Консуэло, – все это, значит, было минутной фантазией, а не глубоким, постоянным внутренним чувством, указывавшим ему, кто его освободительница и утешительница. Даже то, что он назвал ее «Утешением», точно угадав, как ее зовут, было, очевидно, простой случайностью. Она ни от кого не скрывала, что она испанка и владеет своим родным языком еще лучше, чем итальянским. И вот Альберт, упоенный ее пением, не зная другого слова, которое могло бы сильнее выразить то, чего жаждала его душа, чем было полно его воображение, именно с этим словом обратился к ней на языке, которым владел в совершенстве и которого никто, кроме нее, не понимал. Консуэло и до сих пор не создавала себе никаких особых иллюзий на этот счет. Но в их своеобразной, удивительной встрече чувствовался словно перст судьбы, и ее воображение было захвачено безотчетно.
Теперь все было под сомнением. Забыл ли Альберт, переживая новую фазу восторженности, то изумительное чувство, которое он испытал, увидев ее? Быть может, она была уже бессильна принести ему облегчение и спасение? А может быть, Зденко, казавшийся ей сначала таким толковым, готовым всячески помочь Альберту, был более безнадежно помешанным, чем ей хотелось бы думать? Исполнял ли он приказания своего друга или совершенно забывал о них, когда с яростью запрещал молодой девушке подходить к Шрекенштейну и доискиваться истины?
– Ну что? – спросила ее тихонько Амелия, когда она вернулась домой. – Удалось вам видеть Альберта, летящего в облаках заката? Не заставите ли вы его мощными заклинаниями вернуться сегодня ночью через дымовую трубу? – Может быть, – ответила Консуэло не без досады.
Первый раз в жизни самолюбие ее было задето. Она вложила в свой замысел столько искренней самоотверженности, столько великодушного увлечения, что теперь страдала, видя, как насмехаются и издеваются над ее неудачей.
Весь вечер она была грустна, и канонисса, заметившая происшедшую в ней перемену, приписала ее боязни, которую испытывала Консуэло, видя, что дала повод разгадать пагубное чувство, зародившееся в ее сердце.
Но канонисса жестоко ошибалась. Если бы Консуэло почувствовала какой-либо проблеск новой любви, в ней не было бы ни той горячей веры, ни той святой смелости, которые до сих пор направляли и поддерживали ее. Напротив, никогда еще, пожалуй, с такой горечью не переживала она возврата своей прежней страсти, как теперь, когда героическими подвигами и каким-то фанатическим человеколюбием стремилась заглушить ее.
Войдя вечером в свою комнату, она увидела на спинете старинную книгу с золотым обрезом, украшенную гербом, в которой сейчас же признала ту, что взял Зденко прошлой ночью из кабинета Альберта и унес. Она раскрыла ее на том месте, где была вложена закладка, и ей бросились в глаза первые слова покаянного псалма: «De profundis clamavi ad te». Эти латинские слова были подчеркнуты, по-видимому, свежими чернилами, так как черта отпечаталась и на следующей странице. Консуэло перелистала всю книгу, оказавшуюся старинной, так называемой Кралицкой библией, изданной в 1579 году, и нигде не нашла больше никакого указания, никакой отметки на полях, никакой записки. Но разве этот крик, вырвавшийся из бездны, так сказать, из недр земли, не был сам по себе достаточно многозначителен и красноречив? Почему же между настойчивым, определенным желанием Альберта и недавним поведением Зденко существовало такое противоречие? Консуэло остановилась на своем последнем предположении: Альберт, больной и удрученный, лежит в подземелье под Шрекенштейном, а Зденко в своей безумной любви к нему не выпускает его оттуда. Быть может, он жертва этого по-своему обожающего его сумасшедшего, который держит молодого человека в плену, разрешая лишь изредка взглянуть на свет божий и исполняя его поручения к Консуэло; когда же его попытки увенчиваются успехом, Зденко из какого-то необъяснимого каприза или страха противится их осуществлению. «Ну что ж? – сказала себе Консуэло. – Пусть я встречу настоящие опасности – я пойду туда; пусть глупцам и эгоистам покажется это смешным и безрассудным – я все-таки пойду, рискуя даже быть оскорбленной равнодушием того, кто меня призывает. Но как можно оскорбляться, если он и в самом деле не менее безумен, чем Зденко? Пожалев их обоих, я лишь исполню свой долг. Я повинуюсь гласу бога, вдохновляющего меня, и его деснице, влекущей меня с неодолимой силой».
Лихорадочное возбуждение, в котором она пребывала последние дни, сменившееся после злосчастной встречи с Зденко страшным упадком духа, вновь охватило ее. Она снова почувствовала прилив сил, и душевных и физических. Утаив от Амелии и книгу, и свое возбужденное состояние, и свой план, весело поболтав с ней и дав ей заснуть, Консуэло отправилась к «Источнику слез», захватив с собой потайной фонарь, который она раздобыла еще утром.
Прождала она довольно долго и из-за холода была принуждена несколько раз входить в кабинет Альберта, чтобы хоть немного согреться. В этой комнате была масса книг, но они не стояли, как полагается, на полках шкафов, а были как попало свалены на полу посреди комнаты, точно кто-то бросил их туда с презрением и отвращением. Консуэло решилась заглянуть в них. Почти все они были латинские, и она могла только догадываться, что они трактуют о религиозных спорах и изданы или одобрены римской церковью. Она пыталась было разобрать заглавия этих книг, как вдруг услыхала ожидаемое клокотание воды в колодце. Прикрыв свой фонарь, она бросилась туда, спряталась за каменную закраину колодца и стала ждать Зденко. На этот раз он не задержался ни в цветнике, ни в кабинете… Он прошел через обе комнаты и вышел из апартаментов Альберта, как узнала потом Консуэло, чтобы посмотреть и послушать у дверей молельни, а также у дверей спальни графа Христиана, молится ли старик в своем горе, или спокойно спит. Эту заботливость, оказывается, он часто проявлял по собственному почину, даже не получая на то приказаний Альберта, как мы это увидим из дальнейшего.
Консуэло не стала раздумывать, что делать. Все было решено заранее. Больше она уже не надеялась ни на рассудок, ни на благожелательность Зденко; она хотела добраться до того, кого считала пленником, одиноким, лишенным присмотра и ухода. Несомненно, между замком и Шрекенштейном существовал только один подземный ход. Пусть этот путь труден и опасен, но во всяком случае там можно пройти, раз Зденко по нему путешествовал каждую ночь. Конечно, крайне важно было иметь при себе свет, и Консуэло запаслась свечами, куском железа, трутом и кремнем, чтобы в случае надобности иметь возможность высечь огонь. Рассказ, слышанный ею от канониссы об осаде, выдержанной когда-то в замке тевтонским орденом, внушал ей убеждение, что она сможет подземным ходом добраться до Шрекенштейна. По словам Венцеславы, у этих рыцарей был в самой их трапезной колодец, питаемый водою из соседних горных источников. Когда их шпионам надо было выйти для наблюдения за неприятелем, вода из колодца выпускалась, и они проходили подземным ходом в подвластную им деревню. Консуэло помнила, что, по местным преданиям, деревня, расположенная на холме, прозванном со времени пожара Шрекенштейном, была подчинена крепости Великанов и во время осады поддерживала с ней тайные сношения. Стало быть, упорно разыскивая потайной ход, она имела для этого серьезное основание и рассуждала вполне здраво.
Она воспользовалась отсутствием Зденко, чтобы спуститься в водоем, но перед этим, встав на колени, поручила свою душу богу и наивно осенила себя крестом, как тогда, за кулисами театра Сан-Самуэле, перед своим первым выходом на сцену; затем храбро стала спускаться по крутой винтовой лестнице, отыскивая в стене те точки опоры, которыми, как она видела, пользовался Зденко, и стараясь при этом не смотреть вниз, чтобы не закружилась голова. Благополучно добравшись до железной цепи и взявшись за нее, Консуэло почувствовала себя более уверенно, и у нее хватило присутствия духа заглянуть на дно водоема. Там еще стояла вода, что взволновало было Консуэло, но сейчас же у нее мелькнула мысль, что, хотя водоем, быть может, и очень глубок, выход из подземелья, откуда появлялся Зденко, должен быть недалеко от поверхности земли. Она уже спустилась с пятидесяти ступенек с той ловкостью и живостью, которой нет у девиц, воспитанных в гостиных, но которая у детей простолюдинов вырабатывается среди игр и сохраняется на всю жизнь. Единственной опасностью, которая ей угрожала, было поскользнуться на сырых ступеньках. Но Консуэло заранее нашла в каком-то углу старую шляпу с большими полями, которую носил на охоте барон Фридрих, выкроила из нее подошвы и подвязала их шнурками к своим ботинкам наподобие котурнов: в последнюю ночную экскурсию Зденко она заметила подобное приспособление на его ногах. На таких войлочных подошвах Зденко бесшумно двигался по коридорам замка, почему ей и казалось, что он скользит подобно тени, а не шагает как человек. В былое время у гуситов было принято перед внезапным нападением на врага обувать подобным образом не только своих шпионов, но даже и лошадей.
Возле пятьдесят второй ступеньки Консуэло увидела каменную плиту пошире и низкую стрельчатую арку. Не задумываясь, она вошла в нее и, согнувшись, пробралась в узкую, низкую подземную галерею, необычайно прочно сделанную рукой человека и еще всю мокрую от только что схлынувшей воды. Минут пять она шла по ней, не встречая никаких препятствий и не ощущая страха, как вдруг сзади послышался слабый шум. Быть может, это Зденко уже спускался, направляясь на Шрекенштейн, но она была намного впереди его и еще прибавила шагу, чтобы опасный спутник не догнал ее. Он никак не мог заподозрить, что она идет впереди, так что ему незачем было спешить, а пока он будет распевать свои жалобные песни и бормотать свои бесконечные сказки, она успеет дойти до Альберта и оказаться под его защитой.
Однако услышанный ею шум стал усиливаться – теперь он уже походил на грохот бурно несущихся вод. Что же могло случиться? Не догадался ли Зденко об ее намерении? Не открыл ли он шлюзы, чтобы задержать ее и утопить? Но сделать это он мог, лишь войдя сюда сам, а он, несомненно, был позади нее. Мысль эта, однако, не очень ее успокоила. Зденко был способен скорее пожертвовать жизнью, утонуть вместе с нею, чем допустить, чтобы убежище Альберта было открыто. На всем своем пути Консуэло не заметила ни заступа, ни шлюза, ни камня – ничего, чем можно было бы задержать воду и затем спустить ее. Вода могла быть только впереди нее, а между тем шум слышался сзади, и он все рос, усиливался, приближался со страшным грохотом.
Внезапно Консуэло с ужасом заметила, что галерея, вместо того чтобы подниматься, опускается – сначала постепенно, а затем все круче и круче. Несчастная ошиблась дорогой! Впопыхах, из-за густого пара, поднимавшегося со дна колодца, она не заметила другой арки, значительно более широкой, находившейся как раз напротив той, в которую она вошла. Она попала в канал, служивший стоком для вод колодца, вместо того чтобы подняться по другому, который вел к резервуару или к источнику. Зденко, идя по противоположной дороге, преспокойно открыл шлюзы: вода ринулась водопадом на дно колодца и, наполнив его до стока, уже устремилась в галерею, по которой мчалась растерявшаяся, похолодевшая от ужаса Консуэло. Вскоре и эта галерея, в которую поступал излишек воды, должна была в свою очередь наполниться. По мере приближения к бездне, куда должна была хлынуть вода, спуск становился все круче. Еще секунда, еще мгновенье – и канал будет затоплен. Свод, еще совсем мокрый, говорил о том, что вода заполняет его доверху, что спасения нет и, как ни мчись несчастная беглянка, ей все равно не спастись от несущегося позади нее бурного потока. Воздух уже вытеснялся массой воды, приближавшейся со страшным шумом. От удушливой жары становилось трудно дышать. Сама жизнь словно замирала, душа преисполнялась ужаса и отчаяния. Уже грохот разъяренной воды раздавался совсем близко от Консуэло, уже рыжеватая пена, зловещая предвестница потока, появилась на вымощенном полу галереи и опередила еле движущуюся, растерявшуюся жертву.
Глава 41
– О матушка! – воскликнула Консуэло. – Открой мне свои объятья! О Андзолето, я так любила тебя! О боже, вознагради меня в лучшей жизни! Едва из груди Консуэло успел вырваться этот вопль предсмертной тоски, как она споткнулась и ударилась о незамеченное препятствие. Какая неожиданность! Какая милость божья! Это была крутая узкая лестница, поднимавшаяся куда-то вверх, и Консуэло полетела по ней на крыльях страха и надежды. Свод нависает над самой головой; поток несется, ударяется о лестницу, по которой Консуэло уже успела взбежать, заливает первые десять ступенек, обдает по самые щиколотки быстро убегающие от него ноги девушки и наконец, достигнув низкого свода, оставшегося уже позади Консуэло, со страшным шумом низвергается в глубокий резервуар, над которым на крошечной площадке очутилась юная героиня, добравшаяся сюда ползком, в потемках, ибо страшный порыв ветра, пронесшийся перед вторжением воды, задул ее фонарь.
Консуэло падает на последнюю ступеньку; поддерживаемая инстинктом самосохранения, она еще не знает, спасена ли она, или шумящий водопад – это новая грозящая ей опасность, а холодные брызги, обдающие ее волосы, – это распростертая над нею ледяная рука смерти.
Между тем резервуар постепенно наполняется, и обильные воды источника несутся дальше в недра земли по другим, глубже проходящим стокам. Шум затихает, пары рассеиваются, в подземелье слышится звонкое журчанье воды, скорее благозвучное, чем страшное. Дрожащей рукой Консуэло удается зажечь фонарь. Сердце еще сильно бьется в груди, но мужество уже вернулось к ней. На коленях благодарит она бога и свою мать и наконец оглядывается кругом, направляя колеблющийся свет фонаря на то, что окружает ее.
Обширный, созданный природою грот распростер свой свод над пропастью, наполняемой водою из дальнего источника, теряющегося в недрах Шрекенштейна. Пропасть эта так глубока, что воды в ней не видно; если же бросить туда камень, он катится минуты две и ныряет с шумом, напоминающим пушечный выстрел. Долго потом эхо пещеры повторяет этот звук, а зловещее клокотание невидимой воды, точно лай адской своры, длится еще того дольше. Узкая тропинка, высеченная в одной из скалистых стен грота, вьется над пропастью и теряется в другой темной галерее, которая идет вверх, отклоняясь от потока, и уже не носит на себе никаких следов руки человеческой…
Таков был путь, открывавшийся перед Консуэло. Другого нет: вода залила и совершенно закрыла дорогу, по которой она сюда пришла. Не ждать же ей тут возвращения Зденко! Здесь убийственно сыро, свет фонаря уже бледнеет, меркнет, грозит совсем погаснуть, а потом его не зажжешь.
Консуэло не падает духом, хотя прекрасно понимает, что это не путь на Шрекенштейн. Эти подземные галереи, открывающиеся перед ней, – игра природы: они ведут либо в тупики, либо в лабиринт, откуда ей не найти выхода. И все-таки она решается идти по ним, хотя бы для того, чтобы найти себе более сухое убежище до будущей ночи. Ночью снова появится Зденко, он остановит поток, вода в галерее схлынет, пленница сможет выбраться отсюда и вновь увидит над собой свет звезд.
Итак, Консуэло с новыми силами углубилась в тайники подземелья. Но на этот раз она внимательно приглядывалась ко всем изменениям почвы и старалась все время идти вверх, не соблазняясь более просторными и прямыми на вид галереями, попадавшимися ей на каждом шагу. Она была уверена, что, действуя так, не наткнется на поток и сможет потом вернуться назад. Она двигалась среди тысячи препятствий: громадные камни преграждали ей дорогу, ранили ноги; огромные летучие мыши, вспугнутые светом фонаря, целыми стаями бились вокруг него и, точно духи тьмы, носились над путницей. Но после первых минут изумления и страха каждое новое препятствие лишь придавало ей мужества. Местами приходилось перебираться через гигантские каменные глыбы, оторвавшиеся от скал, тоже грозивших обвалиться и висевших в каких-нибудь двадцати футах над ее головой; местами же проход так суживался и свод становился таким низким, что ей приходилось ползти в разреженном горячем воздухе. Так продвигалась она с полчаса, как вдруг у одного узкого прохода, где, несмотря на всю ее стройность и гибкость, ей едва удалось пройти, она попала из огня да в полымя, очутившись лицом к лицу со Зденко, сначала окаменевшим от изумления и ужаса, а затем вознегодовавшим, разъяренным, угрожающим – таким, каким она уже видела его однажды.
В этом лабиринте, посреди бесчисленных препятствий, при мерцающем свете фонаря, то и дело затухавшего от недостатка воздуха, о бегстве нечего было и думать, и Консуэло решила, насколько хватит сил, защищать свою жизнь против покушения на убийство. С пеной у рта, с блуждающим взглядом Зденко, очевидно, на этот раз не думал ограничиться одними угрозами. Внезапно он принял необычайное по своей жестокости решение: он стал собирать огромные камни и наваливать их один на другой между собой и Консуэло, чтобы замуровать узкую галерею, где она находилась. Таким образом он мог быть уверен, что, не спуская воды в течение нескольких дней, уморит ее голодом, – так пчела, найдя в своей ячейке назойливого шершня, залепляет воском вход в нее.
Но Зденко сооружал эту стену из гранита и притом воздвигал ее с неимоверной быстротой. Атлетическая сила, которую проявлял этот на вид худой, истощенный человек, ворочая и поднимая глыбы, слишком красноречиво говорила Консуэло о том, что сопротивление немыслимо и что лучше вернуться назад, в надежде найти какой-нибудь другой выход, чем доводить юродивого до последней степени ярости. Она попробовала растрогать его, уговорить, убедить своими речами.
– Зденко, – говорила она, – что ты делаешь, безумец? Альберт не простит тебе моей смерти. Альберт ждет и зовет меня. Я ведь друг его, его утешение, его спасение. Губя меня, ты этим губишь своего друга и брата. Но Зденко, боясь поддаться действию ее слов и твердо решив продолжать начатое дело, запел на родном языке веселую, живую песню, не переставая в то же время возводить свою циклопическую стену.
Еще один камень, и сооружение будет закончено. Консуэло с ужасом смотрела на работу Зденко. «Никогда, – думала она, – не разрушить мне этой стены: тут нужны руки великана». Последний камень был положен, но вскоре Консуэло заметила, что Зденко принимается за сооружение второй стены. Очевидно, целая громада, целая крепость воздвигалась между нею и Альбертом. А Зденко все продолжал петь и, казалось, наслаждался своей работой.
Вдруг счастливая мысль осенила Консуэло. Ей пришла в голову та еретическая формула, которую перевела ей Амелия и которая так возмутила капеллана.
– Зденко! – крикнула она ему по-чешски сквозь щель уже разделяющей их стены. – Друг Зденко! «Обиженный да поклонится тебе».
Едва успела она произнести эти слова, как они оказали на Зденко магическое действие: выронив из рук огромный камень, он начал с тяжким вздохом разбирать стену еще более поспешно, чем складывал; окончив, он протянул руку Консуэло и молча помог ей перебраться через нагроможденные глыбы камней, после чего внимательно посмотрел на нее, странно вздохнул и, передав ей три ключа на красной ленте, указал на лежавшую перед нею дорогу и проговорил:
– «Обиженный да поклонится тебе».
– А ты разве не хочешь быть моим проводником? – спросила она. – Доведи меня до твоего господина.
Зденко покачал головой.
– У меня нет господина, – возразил он, – у меня был друг. Ты отнимаешь его у меня. Веление судьбы свершилось. Иди, куда направляет тебя господь. Я же буду плакать здесь, пока ты не вернешься.
Сев на груду камней, он закрыл лицо руками и не вымолвил больше ни слова.
Консуэло не стала тратить времени на его утешение. Она боялась, как бы в нем снова не пробудилась ярость, и, пользуясь своим временным влиянием на него, а главное, зная теперь, что она на верной дороге к Шрекенштейну, стрелой помчалась вперед. Во время своего мучительного хождения по неведомым галереям Консуэло мало подвинулась вперед, так что Зденко, идя несравненно более длинной, но недоступной для воды дорогой, встретился с ней на месте соединения двух подземных ходов: одного – искусно высеченного в скалах рукой человека, другого – безобразного, причудливого, полного всяких опасностей творения природы; оба они шли по кругу под холмом, на котором возвышался замок с его службами. Консуэло не подозревала, что в эту минуту она находилась под парком замка, и, миновав все его ворота и рвы, шла по дороге, где никакие запоры и ключи канониссы не могли ее остановить. Пройдя некоторое расстояние по новой дороге, она призадумалась: не лучше ли вернуться, отказавшись от предприятия, полного таких препятствий и едва не ставшего для нее роковым? Ведь впереди, может быть, ее ждут еще новые опасности?.. У Зденко снова мог возродиться его злобный умысел. А что, если он пустится за ней вдогонку? Что, если опять соорудит стену, чтобы отрезать ей путь к возвращению? Тогда как, отказавшись от своего намерения и попросив Зденко очистить ей дорогу к колодцу и выпустить из него воду, чтобы можно было выбраться на свет божий, она, конечно, вполне могла рассчитывать на то, что он отнесется к ней сочувственно и доброжелательно. Но еще слишком сильно было впечатление пережитых ужасов, чтобы она могла решиться снова встретиться с этим безумцем. Страх, внушенный ей Зденко, все нарастал, по мере того как она удалялась от него, и теперь, после того как ей удалось с таким поразительным присутствием духа разрушить его мстительный замысел, она готова была лишиться чувств при одном воспоминании об этом. И Консуэло пустилась бежать от Зденко, не имея мужества еще раз попробовать смягчить его и стремясь лишь найти одну из тех волшебных дверей, от которых он дал ей ключи, чтобы поскорее создать преграду между собой и его безумием.
Но не отнесется ли Альберт, другой безумец, которого она так упорно и безрассудно считала кротким и уступчивым, не отнесется ли он к ней так же, как Зденко? Все здесь было покрыто мраком неизвестности, и Консуэло, очнувшись от своего романтического увлечения, спрашивала себя, не она ли самая безумная из всех троих, она, бросившаяся в эту бездну тайн и опасностей, далеко не будучи уверенной в благоприятном и успешном исходе? Тем временем она продолжала идти по великолепному обширному подземелью, сооруженному сильными руками людей средневековья. Это была прорубленная в скалах ровная галерея с низким стрельчатым сводом. Менее твердые породы, меловые жилы и вообще все места, грозившие обвалами, были укреплены стенами, сложенными из четырехугольных гранитных плит. Но Консуэло не теряла времени на созерцание этого громадного сооружения, которое при своей прочности могло простоять еще века. Она не спрашивала себя и о том, как могли теперешние владельцы замка не подозревать о существовании столь удивительного сооружения. Она могла бы легко объяснить себе это, припомнив, что все исторические документы этой семьи и этого поместья были сожжены в эпоху Реформации в Чехии, более ста лет назад. Но она не глядела по сторонам и почти ни о чем не думала, кроме своего спасения, радуясь, что дорога ровная, что есть воздух для дыхания и что можно беспрепятственно бежать вперед. До Шрекенштейна оставалось еще порядочное расстояние, хотя подземный путь и был гораздо короче идущей туда же извилистой горной тропинки. Дорога казалась ей бесконечной, и, не имея возможности ориентироваться, Консуэло даже не знала, ведет ли она на Шрекенштейн или куда-то дальше.
После четверти часа ходьбы она увидела, что свод опять стал выше и всякие следы архитектурной работы исчезли. Хотя громадные каменоломни и величественные гроты, через которые проходила Консуэло, были также созданы человеческими руками, но, заросшие растительностью, наполнявшиеся благодаря многочисленным щелям свежим воздухом, они не имели такого мрачного вида, как галереи. Здесь была тысяча возможностей укрыться и избежать преследования разъяренного врага. Вдруг шум бегущей воды заставил Консуэло вздрогнуть, – если бы в подобном положении она способна была шутить, она призналась бы себе, что даже барон Фридрих по возвращении с охоты не относился с большим отвращением к воде, чем она в эту минуту. Однако в скором времени она успокоилась и сообразила, что с тех пор, как она отдалилась от пропасти, с тех пор, как ее едва не затопило, она все время поднималась в гору. Зденко должен был бы иметь в своем распоряжении гидравлическую машину невероятных размеров и силы, чтобы поднять своего ужасного союзника – то есть поток – до того места, где находилась Консуэло. Очевидно, ей предстояло где-то встретиться с водой источника – со шлюзами или с самим источником. И если бы она была в состоянии рассуждать, то даже удивилась бы, не встретив до сих пор на своем пути этого таинственного «Источника слез», питающего водоем.
Дело в том, что источник этот начинался в неведомых горных недрах, а галерея, пересекавшая его под прямым углом, встречалась с ним сначала около колодца, а потом около Шрекенштейна, где пришлось встретиться с ним и Консуэло. Шлюзы оставались далеко позади нее, на дороге, по которой Зденко шел один. Консуэло же теперь приближалась к источнику, которого за последние несколько столетий не видал никто, кроме Альберта и Зденко. Вскоре она поравнялась с ручьем и пошла вдоль него, уже ничего не боясь и не подвергаясь никакой опасности.
Тропинка, усыпанная свежим мелким песком, тянулась подле прозрачной чистой воды, которая текла, тихо журча, меж довольно крутых берегов. Здесь снова чувствовалась рука человека. Эта тропинка была проложена по откосу плодородной земли: прекрасные растения, растущие у воды, дикий терновник в цвету, несмотря на суровое время года, обрамляли ручей своей зеленью. Воздуха, проникавшего сюда через массу щелей, было достаточно для жизни растений, но щели были слишком узки, чтобы сквозь них мог проникнуть сюда любопытный взор. Это было нечто вроде естественной теплицы; своды защищали ее от снега и холода, а воздух освежался благодаря тысячам незаметных отдушин. Казалось, чья-то заботливая рука охраняла жизнь этих чудесных растений и выбирала из песка камни, выбрасываемые водой на берег; и это предположение не было ошибочно: Зденко постарался сделать приятной, удобной и безопасной дорогу к убежищу Альберта.
Консуэло, все еще взволнованная пережитыми ужасами, начала ощущать благотворное влияние менее мрачной и даже поэтической обстановки. Бледные лучи луны, пробивавшиеся там и сям сквозь расщелины скал и преломлявшиеся в струящейся воде, дуновение лесного воздуха, пробегавшее порой по неподвижным растениям, до которых не доходила вода, – все это говорило о том, что она все ближе и ближе подходит к поверхности земли. Консуэло чувствовала, что оживает, и встреча, предстоявшая в конце ее героического паломничества, рисовалась ей уже в менее мрачных красках. Наконец она увидела, что тропинка, вдруг круто повернув от берега, ведет в короткую галерею, заново выложенную камнями, и обрывается у маленькой двери. По этой двери, казавшейся вылитой из металла – до того она была холодной, – красиво вился плющ.
Когда Консуэло поняла, что настал конец и испытаниям и колебаниям, когда она прикоснулась своей усталой рукой к этому последнему препятствию, которое сейчас же могло быть устранено, так как ключ от этой двери был в другой ее руке, она вдруг смутилась, почувствовав прилив такой робости, которую труднее было побороть, чем все пережитые ужасы. Итак, ей предстоит проникнуть одной в место, скрытое от всех взоров, от всех человеческих помыслов, чтобы нарушить сон или мечты человека, которого она едва знает, который ей ни отец, ни брат, ни супруг, человека, который, быть может, любит ее, но которого сама она не могла и не хотела любить.
«Бог направил и привел меня сюда среди самых ужасных опасностей, – говорила она себе. – По его воле, скорее даже, чем благодаря его покровительству, добралась я сюда. Я пришла с пламенной душой, преисполненной милосердия, со спокойным сердцем, с чистой совестью, с полным бескорыстием. Быть может, здесь меня ждет смерть, но эта мысль не страшит меня. Моя жизнь опустошена, и я лишусь ее без особого сожаления, я только что убедилась в этом: вот уже целый час, как я считаю себя приговоренной к ужасной смерти и отношусь к этому с таким спокойствием, которого я от себя даже не ожидала. Быть может, это милость, которую господь посылает мне в мою последнюю минуту. Быть может, я погибну под ударами разъяренного безумца, но я иду на это с твердостью мученицы. Я горячо верю в загробную жизнь и чувствую, что, если я паду здесь жертвою своей преданности, пожалуй и ненужной, но вызванной моей верой, я буду вознаграждена в лучшем мире. Так что же останавливает меня? Откуда во мне это невыразимое смущение, точно я собираюсь совершить дурной поступок и должна краснеть перед тем, кого пришла спасти?»
Вот как Консуэло, слишком целомудренная, чтобы сознавать свое целомудрие, боролась сама с собой, почти упрекая себя за свои утонченные переживания. Ей даже не приходило в голову, что она может подвергнуться опасности, более ужасной для нее, чем смерть. В своей непорочности она не допускала мысли, что может стать добычей животной страсти безумца. Но она инстинктивно боялась, что поступок ее может быть объяснен менее возвышенными побуждениями, чем это было на самом деле. И все-таки она вложила ключ в замок, – но, сделав это, раз десять собиралась его повернуть и все не решалась: страшная усталость, общий упадок сил мешали ей проявить решимость в тот момент, когда решимость эта должна была быть вознаграждена: на земле – актом великого милосердия, на небе – мученической кончиной.
Глава 42
Наконец она решилась. У нее было три ключа. Следовательно, надо было пройти через три двери и две комнаты, чтобы добраться до той, где, как она предполагала, находился пленный Альберт. У нее будет еще время остановиться, если она почувствует, что силы изменяют ей.
Она вошла в комнату с низкими сводами, где не было никакой мебели, кроме ложа из сухого папоротника, на которое была брошена баранья шкура. Пара башмаков старинного фасона, совсем изношенных, указала ей, что это спальня Зденко. Тут же она обнаружила маленькую корзиночку, которую некоторое время назад принесла с фруктами на скалу Ужаса и которая только через два дня исчезла оттуда. Консуэло решилась открыть вторую дверь, заперев предварительно первую, так как она все еще с ужасом представляла себе возможность возвращения свирепого хозяина этого помещения. Вторая комната, куда она вошла, была, как и первая, с низкими сводами, но стены были обиты циновками и плетенками из прутьев, убранными мхом. Печка давала достаточно тепла, и, вероятно, из ее трубы, выведенной сквозь скалу наружу, временами и вылетали искры, отблеск которых давал загадочный свет, виденный Консуэло на вершине Шрекенштейна. Ложе Альберта, как и ложе Зденко, было сделано из сухих листьев и трав, но Зденко покрыл его великолепными медвежьими шкурами, несмотря на требования Альберта соблюдать полнейшее между ними равенство, – требование, которое, из-за страстной нежности к своему другу, Зденко, заботившийся о нем более, чем о себе самом, не всегда выполнял. Консуэло была встречена в этой комнате Цинабром; пес, услыхав, как повернулся ключ в замке, навострил уши и, с тревогой глядя на дверь, расположился у порога. Цинабр был особенным образом воспитан своим хозяином: это был друг, а не сторож. Ему с самого раннего детства было так строго запрещено рычать и лаять на кого бы то ни было, что он совсем утратил эту естественную для его породы привычку. Но, конечно, подойди к Альберту кто-либо с недобрыми намерениями, у Цинабра нашелся бы голос, а напади кто-либо на его хозяина – он стал бы яростно его защищать. Осторожный и осмотрительный, как настоящий пустынник, он никогда не поднимал ни малейшего шума понапрасну, не обнюхав и не рассмотрев хорошенько человека. Он подошел к Консуэло и, посмотрев на нее проницательным взглядом, в котором было что-то поистине человеческое, обнюхал ее платье и в особенности руку, в которой она долго держала данные ей Зденко ключи; совершенно успокоенный этим обстоятельством, он позволил себе предаться приятным воспоминаниям о своем прежнем знакомстве с Консуэло и положил ей на плечи огромные косматые лапы, медленно помахивая и постукивая об пол своим великолепным хвостом. Оказав ей такой дружеский и почетный прием, он снова улегся на край медвежьей шкуры, покрывавшей ложе его хозяина, и по-стариковски лениво растянулся на ней, не переставая, однако, следить глазами за каждым шагом, за каждым движением пришедшей.
Прежде чем решиться подойти к третьей двери, Консуэло окинула взглядом обитель отшельника, стремясь по ней получить представление о душевном состоянии живущего тут человека. Никаких признаков ни сумасшествия, ни отчаяния она не нашла. Здесь царила чистота и даже своеобразный порядок. Плащ и запасная смена платья висели на рогах зубра, – эту диковинку Альберт вывез из дебрей Литвы, и она заменяла ему вешалку. Его многочисленные книги были аккуратно расставлены на полках из необделанных досок, со вкусом украшенных артистической рукой большими зелеными ветвями. Стол и два стула были из того же материала и такой же работы. Гербарий, тетради старинных нот, совершенно неизвестные Консуэло, со славянскими заглавиями и текстом, еще красноречивее говорили о мирных, простых и серьезных занятиях анахорета. Железная лампа, редкая по своей древности, висела посреди свода и освещала это меланхолическое святилище, где царила вечная ночь.
Консуэло обратила внимание еще на то, что здесь не было оружия. Несмотря на страсть богатых обитателей здешних лесов к охоте и к роскошным охотничьим принадлежностям, необходимым для этого развлечения, у Альберта не было ни ружья, ни ножа, и его старый пес не был обучен «великой науке», что объясняло презрение и жалость, с какими барон Фридрих всегда смотрел на Цинабра. У Альберта было отвращение к крови, и хотя, по-видимому, он менее чем кто либо пользовался жизнью, он чувствовал к ней безграничное, какое-то даже религиозное уважение. Он был не в силах лишить жизни самое ничтожное творение и не мог видеть, когда на его глазах делали это другие. Интересуясь всеми естественными науками, он занимался только минералогией и ботаникой. Энтомология уже казалась ему слишком жестокой наукой, и он никогда не смог бы любознательности ради пожертвовать жизнью насекомого.
Консуэло знала об этих особенностях Альберта и вспомнила о них, увидев принадлежности его невинных занятий.
«Нет, мне нечего бояться такого кроткого, мирного существа, – сказала она себе. – Это келья святого, а не убежище сумасшедшего». Но чем более она успокаивалась относительно его душевного состояния, тем более чувствовала себя смущенной и сконфуженной. Она почти готова была жалеть, что здесь не безумец и не умирающий. Мысль, что сейчас она появится перед настоящим мужчиной, делала ее все более и более нерешительной.
Она постояла так несколько минут в раздумье, не зная, каким образом дать знать о себе, как вдруг до нее донеслись звуки какого-то изумительного инструмента. Это скрипка Страдивариуса пела дивную мелодию – величественную, грустную, извлекаемую верной и искусной рукой. Никогда еще Консуэло не слышала ни такой совершенной скрипки, ни виртуоза столь простого и трогательного. Мелодия была ей незнакома, но, судя по странным, наивным формам, она решила, что этот напев, должно быть, древнее всего того, что ей было известно из старинной музыки. Она слушала с восторгом, и теперь ей стало ясно, отчего Альберт так хорошо понял ее после первой пропетой ею фразы… У него было истинное понимание настоящей, великой музыки. Он мог не быть ученым музыкантом, не знать всех блестящих средств этого искусства, но в нем была искра божия, дар проникновения, любовь к прекрасному. Когда он кончил, Консуэло, совершенно успокоенная, чувствуя к нему еще большую симпатию, чем раньше, уже собралась было постучать в дверь – последнюю преграду, как вдруг эта дверь медленно отворилась и перед нею появился молодой граф со взором, устремленным в землю, держа в опущенных руках скрипку и смычок. Он был страшно бледен, а волосы и костюм его находились в таком беспорядке, какого Консуэло никогда еще не видела. Его глубокая задумчивость, подавленность, растерянность движений – все говорило если не о расстройстве ума, то во всяком случае об ослаблении воли. Он казался одним из тех безмолвных, лишенных памяти призраков, которые, по поверию славян, входят ночью в дома и там машинально, без смысла и цели, инстинктивно делают то, что делали раньше в жизни, причем не узнают и не видят ни своих друзей, ни своих слуг, а те или убегают, или молча, похолодев от ужаса и удивления, смотрят на них.
То же самое испытала и Консуэло, видя, что граф Альберт не замечает ее, хотя она и стояла от него всего в двух шагах. Цинабр поднялся и стал лизать руку хозяина. Альберт что-то дружески сказал ему по-чешски, а затем, следуя взором за собакой, которая подошла, ласкаясь к Консуэло, перевел глаза на ноги девушки, обутые в эту минуту почти так же, как ноги Зденко, и стал внимательно их рассматривать; не поднимая головы, он произнес на родном языке несколько слов, которых она не поняла, но они походили на просьбу и заканчивались ее именем. Найдя его в таком состоянии, Консуэло почувствовала, что ее робость окончательно исчезла. Полная сострадания, она теперь видела в нем только больного с истерзанной душой, который, не узнавая, все-таки зовет ее; и смело, доверчиво положив руку на руку молодого человека, она произнесла по-испански своим чистым, проникающим в душу голосом:
– Консуэло здесь.
Глава 43
Не успела Консуэло произнести свое имя, как граф Альберт поднял глаза и, посмотрев на нее, сразу изменился в лице. Он уронил на пол свою драгоценную скрипку с таким безразличием, словно никогда в жизни не играл на ней, и сложил руки с видом глубокого умиления и почтительной скорби. – Бедная моя Ванда, наконец-то я вижу тебя в этом месте изгнания и муки! – воскликнул он, так тяжко вздыхая, что казалось, грудь его готова была разорваться. – Моя дорогая, дорогая и несчастная сестра, злополучная жертва, отомщенная мной слишком поздно! Я не сумел защитить тебя. О, ты знаешь, что злодей, тебя опозоривший, погиб в мученьях и что рука моя безжалостно обагрилась кровью его сообщников. Я пустил кровь рекой у проклятой церкви. В кровавых потоках смыл я бесчестие твое, мое и нашего народа. Чего же хочешь ты еще, беспокойная и мстительная душа? Времена рвения и гнева миновали, теперь настали дни раскаяния и искупления. Требуй от меня молитв, слез, но не крови. Отныне я чувствую к ней отвращение и не хочу больше проливать ее… Нет, нет, ни одной капли крови! Ян Жижка будет наполнять свою чашу только неиссякаемыми слезами и горькими рыданиями!
Говоря это, Альберт, с блуждающим взором, в крайнем возбуждении, быстро кружил вокруг Консуэло, с ужасом отступая назад всякий раз, как она порывалась прервать его странное заклинание.
Консуэло не пришлось долго раздумывать, чтобы понять, какое направление принял бред молодого графа.
Она слышала много рассказов о Яне Жижке и знала, что у этого грозного фанатика была сестра, монахиня, что сестра эта еще до начала Гуситской войны умерла в монастыре от стыда и горя, будучи обесчещена одним гнусным монахом, и что затем вся жизнь Жижки была долгой, великой местью за это преступление. Очевидно, в эту минуту Альберт, который по какой-то непонятной ассоциации вернулся к своей господствующей идее и вообразил, что он Ян Жижка, обращался к ней, как к призраку Ванды, своей злосчастной сестры.
Консуэло решила не выводить его слишком резко из этого заблуждения.
– Альберт, – начала она, – ведь твое имя уже не Ян и мое не Ванда; взгляни на меня хорошенько и согласись, что я, как и ты, изменилась и лицом и характером. Я пришла к тебе именно затем, чтобы напомнить то, что ты сам только что сказал мне. Да, времена рвения и гнева миновали. Правосудие людское больше чем удовлетворено, и я явилась возвестить тебе о правосудии божьем. Господь повелевает нам прощать и забывать. Эти пагубные воспоминания, это упорство, с которым ты пользуешься даром, не доступным другим людям, – со всеми подробностями переживать мрачные сцены своих прежних существовании, – это упорство, повторяю, оскорбляет бога, и он лишает тебя этого дара, так как ты злоупотребил им. Слышишь ли ты меня, Альберт, и понимаешь ли ты меня теперь?
– О матушка! – воскликнул Альберт, бледный, дрожащий, падая на колени и все еще с бесконечным ужасом смотря на Консуэло. – Я слышу вас и понимаю ваши слова. Я вижу, что вы преображаетесь, чтобы убедить и покорить меня. Нет, вы больше не Ванда Жижка, поруганная девственница, стонущая монахиня, вы – Ванда Прахалиц, которую люди звали графиней фон Рудольштадт, носившая под сердцем того злосчастного, которого теперь они зовут Альбертом.
– Не по произволу людскому зоветесь вы так, – с твердостью возразила Консуэло, – это господь заставил вас возродиться в других условиях, возложив на вас другие обязанности. Этих обязанностей, Альберт, вы либо не знаете, либо презираете их. С нечестивой гордыней углубляясь в прошлые века, вы стремитесь проникнуть в тайны судеб; обнимая взором настоящее и прошедшее, вы приравниваете себя к божеству. Ноя говорю вам, и сама истина, сама вера говорят моими устами: эта мысль, постоянно обращенная к минувшему, – преступление, дерзость. Та сверхъестественная память, которую вы себе приписываете, – фантазия. Какие-то слабые, мимолетные проблески вы приняли за достоверность, и ваше воображение обмануло вас. В своей гордыне вы воздвигаете целое призрачное сооружение, приписывая себе самые выдающиеся роли в истории ваших предков. Берегитесь, – быть может, вы совсем не тот, кем себя воображаете. Дабы наказать вас, вечное знание, быть может, раскроет вам на мгновение глаза, и вы увидите в своей прежней жизни преступления менее славные и поводы для раскаяния менее доблестные, чем те, которыми вы осмеливаетесь хвалиться.
Альберт выслушал эту речь с боязливым вниманием, стоя на коленях и закрыв лицо руками.
– Говори, говори, голос неба! Я слышу, но не узнаю тебя, – прошептал он чуть слышно. – Если ты ангел горы, если ты, как мне кажется, небесное видение, появлявшееся передо мной так часто на скале Ужаса, – говори, приказывай моей воле, моей совести, моему воображению. Ты знаешь, что я тоскую по свету, и если я блуждаю во тьме, то только потому, что хочу рассеять ее, чтобы достичь тебя.
– Немного смирения, доверия и покорности вечным законам мудрости, недоступной человеку, – вот истинный путь для вас, Альберт, – сказала Консуэло. – Отрешитесь в душе, и отрешитесь непоколебимо, раз навсегда, от желания познать то, что вне вашего временного, предначертанного вам существования, – и бог снова будет доволен вами, вы снова станете полезны для других, снова будете в мире с самим собой. Бросьте вашу науку, полную гордыни, и, не теряя веры в бессмертие, не сомневаясь в милосердии божьем – оно прощает прошлое и покровительствует будущему, – старайтесь сделать плодотворной, человечной вашу настоящую жизнь, которую вы презираете, тогда как вы должны были бы уважать ее, отдавшись ей самоотверженно, всем существом своим, всеми силами, со всей присущей вам добротой. А теперь, Альберт, взгляните на меня, и пусть ваши глаза прозрят. Я не сестра ваша, не мать: я – друг, которого посылает вам небо, приведшее меня сюда чудесными путями, чтобы вырвать вас из пут безумия и гордыни. Взгляните на меня и скажите чистосердечно и сознательно: кто я и как меня зовут?
Альберт, дрожащий, растерянный, поднял голову и снова взглянул на нее, – во взгляде его было теперь меньше безумия и ужаса, чем раньше.
– Вы заставляете меня перешагнуть через пропасти, – сказал он ей. Вы своими глубокомысленными словами смущаете мой ум, а ведь я, на свое несчастье, считал себя умнее других. Вы повелеваете мне познать и понять наше время и все человеческое. Я не могу этого сделать. Чтоб забыть некоторые фазы моего существования, я должен пройти через ужасные потрясения, а чтобы войти в новую фазу, мне надо сделать усилие, которое приведет меня к могиле. Если вы прикажете мне именем силы, которая, я чувствую, выше моей, приобщить мои мысли к вашим, я вынужден буду повиноваться, но я знаю, какой борьбы мне это будет стоить, знаю, что заплачу за это жизнью. Сжальтесь же вы, чьи чары имеют надо мной такую власть, помогите мне, – я изнемогаю. Скажите, кто вы? Я вас не знаю, я не помню, чтобы когда-либо видел вас, я даже не знаю, женщина вы или мужчина; вы стоите передо мной, точно таинственная статуя, и я силюсь и не могу припомнить, что она изображает. Помогите, помогите же мне, или я умру.
Лицо Альберта, вначале покрытое лихорадочным румянцем, при последних словах стало мертвенно бледным. Он протянул к Консуэло руки и тут же опустился на пол, чувствуя, что близок к обмороку.
Консуэло, для которой мало-помалу стали ясны тайные свойства его душевной болезни, почувствовала прилив новых сил; это было какое-то наитие. Она взяла его за руки, заставила встать и довела до стула; Альберт опустился на него, изнуренный невероятной усталостью, и тотчас склонился над столом, стоявшим рядом, почти теряя сознание. Борьба, о которой он сейчас говорил, была далеко не фантазией. Он умел овладевать своим рассудком и отгонять безумные видения, снедавшие его мозг, но это стоило ему огромных усилий, огромных страданий, истощавших его силы. Когда припадок безумия проходил сам собой, Альберт чувствовал себя после него бодрым и как бы обновленным; когда же, чтобы вернуться к нормальному состоянию, он делал усилие своей еще могучей воли, физические силы его истощались, и он впадал в каталептическое состояние. Консуэло поняла, что с ним происходит.
– Альберт, – сказала она, кладя свою холодную руку на его пылающий лоб. – Я вас знаю – и этого довольно. Я принимаю в вас участие – и этого тоже пока для вас довольно. Я запрещаю вам делать малейшее усилие, чтобы узнать меня и говорить со мной. Вы должны только слушать меня, и если мои слова покажутся вам неясными, не торопитесь понять их, а дайте мне объяснить их вам. Все, о чем я вас прошу, это пассивно подчиняться и ни о чем не рассуждать. Можете ли вы отдаться на волю своего сердца и сосредоточить в нем свою жизнь?
– О, как мне хорошо, когда я слушаю вас! – отвечал Альберт. – Говорите, говорите еще и еще… Моя душа – в ваших руках. Кто бы вы ни были, держите ее и не выпускайте, ибо она пойдет стучаться в двери вечности и разобьется о них. Скажите мне, кто вы, скажите скорей; если я сразу не пойму – объясните мне, а то я, помимо своей воли, пытаюсь узнать вас, и это меня волнует.
– Я – Консуэло, – ответила девушка, – и вы это знаете, раз вы инстинктивно говорите со мной на языке, который из всех вас окружающих понимаю лишь я одна. Я друг, которого вы давно ждете и уже однажды узнали во время пения. С того дня вы покинули свою семью и скрываетесь здесь, и с этой же минуты я ищу вас. Вы несколько раз звали меня через Зденко, но он, исполняя лишь отчасти ваши приказания, не хотел вести меня к вам. Я добралась до вас, преодолев тысячи опасностей…
– Но, не пожелай этого Зденко, вы не смогли бы прийти сюда, – прервал ее Альберт, с трудом приподнимая голову над столом. – Вы – мечта, я это хорошо знаю, и все, что я слышу, – игра моего воображения… О господи, ты убаюкиваешь меня обманчивыми радостями, но внезапно я сам начинаю сознавать беспорядочность, несообразность своих мечтаний. Тогда я снова оказываюсь один, один во всем мире, со своим отчаянием, со своим безумием… О Консуэло! Консуэло! Мечта блаженная и губительная! Где же существо, носящее твое имя и временами принимающее твой образ? Нет! Ты существуешь только в моем воображении, ты – создание моего бреда… Альберт снова склонил голову на руки, становившиеся все напряженнее и холоднее…
Консуэло видела, что ему грозит летаргия, но, будучи сама совершенно измучена и близка к обмороку, боялась, что не сможет предотвратить ее. Она попробовала отогреть руки Альберта в своих, но ее руки были почти так же безжизненны, как и его.
– Господи, – в отчаянии проговорила она слабым голосом, – помоги двум несчастным, которые почти не в силах поддержать друг друга!
Сама еле живая, взаперти с умирающим, она ниоткуда и ни от кого, кроме Зденко, не могла ждать помощи, а его возвращение казалось ей более страшным, чем желательным.
Ее молитва неожиданно взволновала Альберта.
– Кто-то молится подле меня, – проговорил он, приподнимая свою отяжелевшую голову. – Я не один! О нет, я не один! – прибавил он, смотря на руку Консуэло, сжимавшую его руку. – Рука помощи, таинственное сострадание, человеческое, братское сочувствие! Ты делаешь мою агонию сладостной и наполняешь мое сердце благодарностью!
Альберт прижался своими ледяными губами к руке Консуэло и замер… Поцелуй этот, задев целомудрие девушки, вернул ее к жизни. Все же она не решилась отнять руку у несчастного и, борясь со смущением и изнеможением, еле держась на ногах, вынуждена была опереться на Альберта и положить другую руку ему на плечо.
– Я чувствую, что оживаю, – проговорил Альберт через несколько минут.
– Мне кажется, что я в материнских объятиях… Тетушка Венцеслава, если это вы подле меня, простите, что я забыл вас, отца, всю семью, – до того забыл, что самые ваши имена едва не исчезли из моей памяти. Я вернусь к вам, не покидайте меня! Но отдайте мне Консуэло, Консуэло – ту, которую я ждал так долго и которую наконец нашел… Теперь я снова потерял ее… А без нее я не могу дышать…
Консуэло хотела что-то сказать ему, но, по мере того как память и силы, казалось, возвращались к Альберту, жизнь словно угасала в Консуэло. Все эти ужасы, усталость, волнения, нечеловеческие усилия доконали ее – у нее больше не было сил бороться. Слова замерли на ее устах, ноги подкосились, в глазах потемнело; она упала на колени подле Альберта, и голова ее беспомощно ударилась об его грудь. Тут Альберт, словно проснувшись, узнал ее наконец, громко вскрикнул и крепко сжал в объятиях. Словно сквозь завесу смерти, увидела Консуэло его радость, но она не испугала ее: это была святая, целомудренная радость. Девушка закрыла глаза и впала в состояние, которое было не сном, не бодрствованием, а каким-то полнейшим безразличием, близким к бесчувствию.
Глава 44
Когда Консуэло очнулась, она почувствовала, что сидит на довольно твердой постели; не будучи еще в силах приподнять веки, она попыталась, однако, припомнить, где она и что с ней. Но слабость ее была так велика, что это ей не удавалось. Волнения и усталость последних дней оказались выше ее сил, и она тщетно старалась вспомнить, что с ней произошло с момента отъезда из Венеции. Даже самый отъезд из этой приютившей ее родины, где она провела столько счастливых дней, казался ей сном, и для нее было облегчением, – увы, слишком мимолетным, – забыть хотя бы на минуту о своем изгнании и о несчастьях, вызвавших его. Итак, она вообразила, будто все еще находится в своей убогой комнатке на Корте-Минелли, лежит на старой материнской кровати и будто после бурной, тяжелой сцены с Андзолето (неясные воспоминания о ней всплывали в ее памяти) теперь возвращается к жизни и надежде, ощущая его подле себя, слыша его прерывистое дыхание, его нежный шепот. Радость, томная и сладостная, охватила ее сердце, и она с усилием приподнялась, чтобы взглянуть на своего раскаявшегося друга и протянуть ему руку. Но вместо того она пожала холодную, незнакомую руку, вместо веселого солнца, заливавшего розовым светом белую занавеску ее окна, перед ней мерцал из-под мрачного свода, расплываясь в сыром воздухе, какой-то могильный свет, под собой она чувствовала шкуры диких зверей, а над ней склонилось среди зловещего молчания бледное лицо Альберта, похожего на привидение.
У Консуэло мелькнула мысль, что она живой попала в могилу; она снова закрыла глаза и с болезненным стоном опустилась на свое ложе. Потребовалось несколько минут, пока она смогла разобраться в том, где она и кто этот страшный человек, к которому она попала. Страх, до сих пор заглушавшийся и побежденный ее преданностью и экзальтированным состоянием, теперь овладел ею настолько, что она не решалась даже открыть глаза, опасаясь увидеть нечто ужасное – приготовление к смерти или раскрытый гроб. Почувствовав что-то на лбу, она дотронулась до него рукой. Это была гирлянда из листьев, которою Альберт увенчал ее. Она сняла ее и увидела в ней веточку кипариса.
– Я думал, что ты умерла, о моя душа, о мое утешение»! – воскликнул Альберт, опускаясь подле нее на колени. – И прежде чем последовать за тобой в могилу, я хотел украсить тебя эмблемой брака. Цветы не растут вокруг меня, Консуэло. Только из темного кипариса мог я сплести для тебя свадебный венок. Вот он, не отвергай его. Если нам с тобой суждено умереть здесь, то позволь мне поклясться тебе: если я вернусь к жизни, у меня не будет другой супруги, кроме тебя, а если умру, то умру соединенным с тобой этой неразрывной клятвой.
– Как? Разве мы обручены? – с испугом, растерянно глядя по сторонам, воскликнула Консуэло. – Кто связал нас брачными узами? Кто освятил наш брак?
– Судьба, мой ангел! – ответил Альберт с невыразимой нежностью и грустью. – Не думай уйти от нее! Странная судьба для тебя и тем более для меня. Ты не понимаешь меня, Консуэло, но ты должна узнать истину. Только что ты запретила мне переноситься воспоминаниями в прошлое, во тьму времен. Мое существо повиновалось тебе, и теперь я больше ничего не знаю о предшествовавшей жизни. Но я постиг свою теперешнюю, и я знаю ее: она мгновенно пронеслась вся передо мной, в то время как ты покоилась в объятиях смерти. Это твоя судьба, Консуэло, принадлежать мне; однако ты никогда не будешь моею. Ты не любишь меня и никогда не полюбишь так, как я люблю тебя. Твоя любовь ко мне – только милосердие, твоя самоотверженность – только героизм. Ты святая, которую господь посылает мне, и ты никогда не будешь для меня женщиной. Я должен умереть, снедаемый любовью, которую ты не можешь разделить. И все же ты будешь моей женой, как сейчас ты уже моя невеста: если мы с тобой погибнем здесь, ты из сострадания согласишься назвать меня своим мужем, хотя ни один поцелуй никогда не должен скрепить это; если же мы увидим солнечный свет, то совесть заставит тебя исполнить по отношению ко мне то, что предначертано богом.
– Граф Альберт, – сказала Консуэло, порываясь встать с ложа, покрытого шкурами черных медведей, напоминавшими погребальный покров, – я не знаю, что заставляет вас так говорить: слишком восторженная благодарность ко мне или все еще продолжающийся бред. У меня нет больше сил бороться с вашими иллюзиями, и если они обратятся против меня – меня, которая пришла к вам с опасностью для жизни, чтобы утешить вас и помочь вам, то я чувствую, что не смогу постоять ни за свою жизнь, ни за свободу. Если мое присутствие вас раздражает, а господь покинул меня, да будет его святая воля. Вы думаете, что знаете много, но вы не подозреваете, насколько отравлена моя жизнь и с каким равнодушием я бы пожертвовала ею.
– Я знаю, что ты несчастна, моя бедная, моя святая Консуэло! Знаю, что на челе твоем терновый венец, но сорвать его с тебя мне не дано. Не знаю я ни причин, ни следствий твоих несчастий и не спрашиваю тебя о них. Но я мало любил бы тебя, я был бы недостоин твоего сострадания, если б с первой же нашей встречи не понял, не почувствовал той грусти, которою полны твое сердце и вся твоя жизнь. Чего же тебе бояться меня, о утешенье моей души? Ты, такая стойкая и такая мудрая, ты, которой господь внушил слова, покорившие и оживившие меня в один миг, – неужели в тебе вдруг стал угасать свет веры и разума, раз ты начинаешь страшиться своего друга, своего слуги, своего раба? Приди в себя, мой ангел, взгляни на меня: вот я у ног твоих и навсегда склоняю чело до земли. Чего ты хочешь? Что прикажешь? Быть может, ты желаешь выйти отсюда сейчас же, одна, без меня? Желаешь, чтобы я никогда больше не показывался тебе на глаза? Какой жертвы ты требуешь? Какую клятву хочешь ты услышать от меня? Все могу я тебе обещать и во всем тебе повиноваться. Да, Консуэло, я могу стать спокойным, покорным и с виду даже таким же благоразумным человеком, как другие. Скажи, буду ли я тогда менее страшен тебе, менее неприятен? До сих пор я никогда не мог делать того, что хотел, отныне же мне дано будет выполнить все, что ты пожелаешь. Быть может, переделав себя так, как ты этого хочешь, я умру, но теперь моя очередь сказать тебе, что моя жизнь всегда была отравлена и я с радостью отдам ее ради тебя.
– Дорогой и великодушный Альберт, – сказала успокоенная и растроганная Консуэло, – говорите яснее, дайте мне наконец проникнуть в глубину вашей непроницаемой души. В моих глазах вы человек, стоящий выше всех других; с самой первой минуты нашей встречи я почувствовала к вам уважение и симпатию, и у меня нет причин скрывать это от вас. Мне все время говорили, будто вы безумец. Но я никогда этому не верила. Все эти рассказы только увеличивали мое уважение к вам и доверие. Тем не менее я не могла не признать, что вы страдаете каким-то душевным недугом, глубоким и странным. И вот я, быть может самонадеянно, вообразила почему-то, что смогу облегчить ваши страдания. Вы сами способствовали этому моему убеждению. Я пришла к вам, и вы рассказываете обо мне и о себе самом столько глубокого, столько правдивого, что я готова была бы преклониться пред вами, если бы не ваш фатализм, с которым я никак не могу согласиться. Могу я, не оскорбляя вас и не заставляя вас страдать, высказать вам все? – Говорите, Консуэло, я заранее знаю, что вы хотите сказать.
– Хорошо, я дала себе слово высказать вам все. Вы приводите в отчаяние всех, кто вас любит. Они полагают, что должны участливо щадить то, что они называют вашим безумием; они боятся довести вас до крайнего раздражения, если дадут вам заметить, что они видят его, скорбят о нем и страшатся его. Сама я не верю в это безумие и потому без всякого страха спрашиваю вас: почему вы с вашим умом временами производите впечатление безумного? Почему при всей своей доброте вы бываете неблагодарны и высокомерны? Почему такой просвещенный и религиозный человек, как вы, может предаваться мечтаниям больного, разочарованного ума? Наконец, почему сейчас вы в одиночестве, заживо погребены в этом мрачном подземелье, вдали от любящей семьи, которая разыскивает и оплакивает вас, вдали от ближних, о которых вы так ревностно заботитесь, и, наконец, вдали от меня? Ведь вы сами призывали меня и говорили, что меня любите, а между тем если я не погибла, идя к вам, то только благодаря неимоверному усилию воли и покровительству божию.
– Вы спрашиваете у меня тайну моей жизни, смысл моей судьбы, но вы знаете это лучше меня, Консуэло! Я от вас ждал раскрытия моей сущности, а вы мне задаете вопросы. О! Я вас понимаю: вы хотите заставить меня исповедаться, раскаяться и принять непоколебимое решение, которое помогло бы мне восторжествовать над самим собой. Я готов вам повиноваться. Но я не в состоянии в один миг познать себя, разобраться в себе и преобразиться. Дайте мне несколько дней или хотя бы часов на то, чтобы я мог выяснить для вас и для себя самого, безумен я или же владею своим рассудком. Увы! увы! – и то и другое верно. И мое несчастье в том, что у меня на этот счет нет никаких сомнений! Но вот чего я еще не знаю в эту минуту: иду ли я к полной потере ума и воли, или же в состоянии справиться с демоном, который в меня вселился. Сжальтесь надо мной, Консуэло! Я весь еще во власти волнения, которое сильнее меня. Я не помню того, что говорил вам, я не отдаю себе отчета в том, сколько времени вы здесь; я не понимаю, как можете вы быть здесь, если Зденко не хотел привести вас сюда; я не знаю даже, в каком мире витали мои мысли, когда вы явились предо мной. Увы, мне неизвестно, сколько веков нахожусь я в этом заключении, испытывая неслыханные страдания и борясь с ниспосланным мне бедствием. Когда эти страдания проходят, я уже ничего не помню. У меня остается только страшная усталость, оцепенение, какой-то страх, который я хотел бы прогнать… Консуэло, дайте мне забыться хотя бы на несколько мгновений! Мои мысли прояснятся, язык развяжется! Я обещаю вам это, клянусь! Защитите меня от ослепительного света действительности! Он так долго был скрыт от меня в этой ужасной тьме, что глаза мои не в состоянии сразу вынести его. Вы приказали мне сосредоточить всю жизнь в сердце, жить только сердцем. Да, вы мне это сказали, и мое сознание и память живут лишь с того мгновения, как вы заговорили со мной. Слова ваши внесли ангельский покой в мою душу. Сердце мое теперь живет полной жизнью, но разум мой еще дремлет. Я боюсь говорить вам о себе, так как могу запутаться в своих мыслях и опять напугать вас своим бредом. Я хочу жить только чувством, но эта жизнь мне неведома; она могла бы стать для меня упоительной, отдайся я ей без боязни, что вы будете мной недовольны. Ах, Консуэло, зачем вы сказали мне, чтобы я сосредоточил всю жизнь в моем сердце? Теперь я прошу вас, выскажитесь яснее, позвольте мне думать о вас, видеть и понимать только вас… словом, любить вас. Боже мой! Я люблю! Люблю живое существо, подобное себе! Люблю его всеми силами своего существа. Могу сосредоточить на нем весь свой пыл, всю святость своей любви! Мне вполне достаточно этого счастья, и я не настолько безумен, чтобы требовать большего!
– Ну хорошо, дорогой Альберт! Пусть ваша измученная душа найдет себе успокоение в тихой, нежной, братской любви. Бог – свидетель, что вы можете любить меня так, ничем не рискуя и ничего не боясь. Я чувствую к вам горячую дружбу, какое-то преклонение, которых не могут поколебать никакие мелочные, пустые разговоры и пересуды пошлых людей. Вы поняли благодаря какому-то божественному, таинственному наитию, что жизнь моя разбита горем. Вы это сказали, и высшая истина говорила вашими устами. Я не могу любить вас иной любовью, чем любовью сестры; но не думайте, что во мне говорит только милосердие, жалость. Правда, человеколюбие и сострадание дали мне мужество прийти сюда, но чувство симпатии и особое уважение к вашим душевным качествам дают мне смелость и право говорить с вами так, как я говорю. Раз навсегда откажитесь от заблуждения относительно вашего чувства: никогда не говорите мне ни о любви, ни о браке. Мое прошлое, мои воспоминания делают невозможной любовь между нами, а разница в нашем положении делает такой брак неприемлемым, даже унизительным для меня. Лелея подобные мечты, вы превратили бы мою самоотверженность в нечто безрассудное, почти преступное. Я готова дать вам клятвенное обещание быть вашей сестрой, вашим другом, вашей утешительницей всегда, когда вам только захочется открыть мне свою душу, вашей сиделкой, когда, страдая, вы будете мрачны и удручены. Поклянитесь, что будете видеть во мне только это и не будете любить меня иначе.
– Великодушная женщина, – проговорил Альберт бледнея. – Ты правильно рассчитываешь на мое мужество и хорошо знаешь мою любовь к тебе, раз добиваешься от меня такого обещания. Я был бы способен солгать в первый раз в жизни, был бы готов унизиться до ложной клятвы, если бы ты этого потребовала. Но ты не потребуешь этого, Консуэло. Ты поймешь, что этим ты внесла бы в мою жизнь новое мучение, а в мою совесть угрызения, никогда еще не осквернявшие ее. Не тревожь себя мыслью, какого рода любовью люблю я тебя, ведь я и сам не отдаю себе в этом отчета; знаю только, что не назвать это чувство любовью было бы святотатством. Всему остальному я подчиняюсь: я принимаю твое сострадание, твою заботу, твою доброту, твою тихую дружбу; я всегда буду говорить с тобой только так, как ты мне разрешишь; я не произнесу ни единого слова, могущего смутить тебя; никогда не взгляну на тебя так, чтобы тебе пришлось опустить глаза; никогда не прикоснусь к твоей руке, если это прикосновение тебе неприятно; я даже не дотронусь до края твоих одежд, если ты боишься, что я могу осквернить их своим дыханием. Но ты будешь неправа, если станешь относиться ко мне с недоверием; лучше поддержи во мне это сладостное возбуждение, – оно дает мне жизнь, а тебе нечего его бояться. Я очень хорошо понимаю, что твое целомудрие испугали бы слова любви, которой ты не хочешь разделить; я знаю, что из гордости ты оттолкнула бы изъявления страсти, которую ты не желаешь ни пробуждать, ни поощрять. Успокойся же и безбоязненно поклянись мне быть моей сестрой и утешительницей, а я даю тебе клятву быть твоим братом и слугой. Не требуй от меня большего, – я буду скромен и ненавязчив. С меня довольно, если ты будешь знать, что можешь повелевать и самовластно управлять мною… но не как братом, а как существом, которое отдалось тебе целиком и навсегда.
Глава 45
Эти слова успокоили Консуэло относительно настоящего, но не рассеяли ее опасений насчет будущего. Фанатическое самоотречение Альберта вызывалось глубокой и непреодолимой страстью, в этом нельзя было сомневаться, глядя на его лицо и зная его серьезный характер. Консуэло, смущенная и вместе с тем растроганная, спрашивала себя, сможет ли она и дальше посвящать свои заботы человеку, влюбленному в нее так откровенно и так безгранично. Она никогда не смотрела легко на подобного рода отношения, а с Альбертом каждой женщине следовало быть особенно осторожной. Она не сомневалась ни в его честности, ни в его обещаниях, но то, о чем она мечтала, – вернуть ему покой, – теперь казалось ей совершенно несовместимым с его пламенной любовью, раз она не могла отвечать на такую любовь. Со вздохом протянула она ему руку и, устремив глаза в землю, замерла, погрузившись в печальную задумчивость.
– Альберт, – проговорила она наконец, поднимая на него взор и читая в его глазах мучительное и тревожное ожидание. – Вы не знаете меня, если предлагаете столь неподходящую для меня роль. Только женщина, способная злоупотреблять этой ролью, могла бы на нее согласиться. Я не кокетка, не горда, не считаю себя тщеславной, и во мне нет ни малейшей склонности властвовать. Ваша любовь была бы для меня лестной, если бы я могла разделить ее; и если б я любила вас, то сейчас же сказала бы вам об этом. Я знаю, что огорчаю вас, еще раз повторяя, что это не так, знаю, что говорить такие вещи человеку в вашем состоянии – жестоко, и вам следовало бы избавить меня от необходимости произнести эти слова, но так велит мне совесть, как это мне ни тяжело и как это ни надрывает мое сердце. Пожалейте меня: я вынуждена огорчить, быть может даже оскорбить вас в ту самую минуту, когда я готова отдать жизнь, чтобы возвратить вам счастье и здоровье.
– Я знаю это, благородная девушка, – ответил Альберт с грустной улыбкой. – Ты так добра, так великодушна, что способна отдать жизнь за последнего из людей, но совесть твоя – я знаю и это – ни для кого не пойдет на уступки. Не бойся же обидеть меня, обнаружив непреклонность, которою я восхищаюсь, и стоическую холодность, которая сочетается у тебя с самой трогательной жалостью. Огорчить меня ты не можешь, Консуэло: я ведь не заблуждался, я привык к жесточайшим страданиям, я знаю, что обречен в жизни на самые мучительные жертвы. Не обращайся же со мной, как с человеком слабым, как с ребенком без сердца и самолюбия, повторяя то, что я знаю, – ибо я знаю, что ты меня никогда не полюбишь. Мне известна вся твоя жизнь, Консуэло, хотя я и не знаю ни твоего имени, ни твоей семьи, никаких обстоятельств твоего телесного существования. Я знаю лишь историю твоей души, а остальное не интересует меня. Ты любила, еще любишь и всегда будешь любить существо, о котором я ничего не знаю, не хочу знать и у которого я не буду тебя оспаривать, разве только ты сама прикажешь мне это. Но знай, Консуэло, никогда ты не будешь принадлежать ни ему, ни мне, ни самой себе. Бог уготовил тебе особое существование. Узнать и предвидеть его обстоятельства я не стремлюсь, но знаю его цель и конец. Раба и жертва своей великой души, ты не получишь в этой жизни иной награды, кроме сознания своей силы и ощущения своей доброты; несчастная в глазах окружающих, ты, несмотря ни на что, будешь самым спокойным, самым счастливым из всех человеческих существ, так как всегда будешь справедливейшей и лучшей между ними. Ибо жалости достойны лишь злые и подлые люди, дорогая сестра; и пока человек будет несправедлив и слеп, правильны будут слова Христа: «Блаженны гонимые, блаженны плачущие и надрывающиеся в труде».
Сила и величие, сиявшие на высоком и благородном челе Альберта, произвели на Консуэло такое неотразимое впечатление, что, забыв о своей роли гордой повелительницы и сурового друга, она почувствовала себя во власти этого человека, воодушевленного верой и энтузиазмом. Едва держась на ногах от усталости и волнения, она опустилась на колени и, сложив руки, начала горячо молиться вслух:
– О господи, если ты вложил это пророчество в уста святого, да свершится воля твоя и да будет она благословенна! В детстве я молила тебя даровать мне счастье суетное, полное веселья, а ты уготовил мне такое суровое и тяжкое, какого я не могла постичь. Сотвори же, господи, чтобы глаза мои раскрылись и сердце покорилось. Доля моя, казавшаяся мне столь несправедливой, мало-помалу раскрывается перед моими глазами, и я сумею, о господи, примириться с нею, прося у тебя только того, чего каждый человек вправе ждать от твоей любви и справедливости: веры, надежды и милосердия.
Молясь так, Консуэло почувствовала, как слезы полились у нее из глаз. Она не старалась их удерживать. После стольких волнений, после всего пережитого этот кризис был для нее благодетелен, хотя и ослабил ее еще больше. Альберт молился и плакал вместе с ней, благословляя свои слезы, так долго проливавшиеся в одиночестве и наконец смешавшиеся со слезами великодушного и чистого существа.
– А теперь, – сказала Консуэло, поднимаясь с колен, – довольно думать о себе. Пора заняться другими и вспомнить о наших обязанностях. Я обещала вашим родным вернуть вас. Они в полном отчаянии, плачут и молятся о вас, как об умершем. Хотите ли вы, дорогой Альберт, возвратить им радость и покой? Хотите ли вы последовать за мною?
– Уже? – с горечью воскликнул молодой граф. – Уже расстаться! Так скоро покинуть этот священный приют, где с нами один бог, покинуть эту келью, ставшую мне дорогою с тех пор, как в ней появилась ты, покинуть это святилище счастья, которое, быть может, я никогда уже не увижу, – покинуть ради того, чтобы вернуться в холодную, лживую жизнь, полную условностей и предрассудков! О нет, душа моя, жизнь моя! Еще один день, который для меня равен целому веку блаженства! Дай мне забыть, что существует мир лжи и несправедливости, преследующий меня, как зловещий сон; дай мне не сразу, а постепенно вернуться к тому, что они называют рассудком. Я еще не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выносить зрелище их солнца и их безумия. Мне надо еще созерцать тебя, слушать твой голос. Притом я никогда еще не покидал так внезапно, без долгого раздумья, свое убежище – убежище и ужасное и благодетельное для меня, страшное и спасительное место искупления, куда я бегу без оглядки, где прячусь с дикой радостью и откуда ухожу всегда, испытывая сомнения слишком обоснованные и сожаления слишком длительные. Ты и не подозреваешь, Консуэло, какими крепкими узами прикован я к этой добровольной темнице. Ты не знаешь, что здесь я оставляю свое «я», настоящего Альберта, который и не выходит отсюда; это «я» всегда находится тут, и призрак его зовет и преследует меня, когда я бываю в каком-либо другом месте. Здесь моя совесть, моя вера, мой свет – словом, вся моя действительная жизнь. Сюда я приношу с собой отчаяние, страх, безумие; часто они нападают на меня и вступают со мной в ожесточенную борьбу. Но, видишь, там, вот за этой дверью, находится святилище, где я побеждаю их и обновляюсь душой. Туда вхожу я оскверненный, со смятенною душой, а выхожу оттуда очищенный; и никто не знает, ценою каких пыток я покупаю терпение и покорность. Не вырывай меня отсюда, Консуэло! Позволь мне уйти медленными шагами, сотворив молитву.
– Войдем туда и помолимся вместе! – сказала Консуэло. – А потом уйдем. Время бежит, и, быть может, уж близок рассвет. Надо, чтобы никто не знал дороги, ведущей отсюда в замок, надо, чтобы никто не видел нашего возвращения; надо, пожалуй, чтобы нас не видели возвращающимися вместе, потому что я не хочу выдавать тайну вашего убежища, Альберт, а пока никто ничего не подозревает о моем открытии. Я не хочу, чтобы меня допрашивали, не хочу лгать. Пусть у меня будет право почтительно молчать перед вашими родными. Пусть они думают, что мои обещания были не чем иным, как предчувствием, мечтою. А увидев нас возвращающимися вместе, они могут в моей сдержанности усмотреть злую волю; и хотя для вас, Альберт, я готова пренебречь всем, я не хотела бы без надобности лишаться доверия и дружбы вашей семьи. Поспешим же! Я изнемогаю от усталости и если еще пробуду здесь, то, пожалуй, утрачу и последние силы, необходимые мне для обратного пути. Помолимся же и пойдем!
– Ты изнемогаешь от усталости! Так отдохни же здесь, моя любимая! Спи, я благоговейно буду охранять твой сон, а если мое присутствие беспокоит тебя, запри меня в соседнем гроте. Железная дверь будет между нами, и пока ты меня не позовешь, я буду молиться за тебя в моей церкви.
– А в то время как вы будете молиться, я же – предаваться отдыху, ваш отец будет переживать мучительные часы. Я видела однажды, как он, стоя ослабевшими коленями на каменном полу своей молельни, согбенный от старости и горя, бледный, недвижимый, казалось, ждал только вести о вашей смерти, чтобы испустить дух. А ваша бедная тетушка будет метаться, как в жару, перебираясь с башни на башню и тщетно высматривая вас на горных тропинках. И сегодня в замке все опять сойдутся утром и разойдутся вечером в отчаянии и смертельной тоске. Альберт, вы, видимо, не любите ваших родных, раз так безжалостно, без угрызений совести, можете заставлять их томиться и страдать.
– Консуэло! Консуэло! – воскликнул Альберт, казалось пробуждаясь от сна. – Не говори, не говори этого! Ты терзаешь мое сердце. Какое же преступление совершил я? Какие причинил бедствия? Почему они так тревожатся? Сколько же часов протекло с тех пор, как я ушел от них?
– Вы спрашиваете, сколько часов! Спросите лучше, сколько дней, сколько ночей, – чуть ли не сколько недель!
– Дней, ночей?! Молчите, Консуэло, не говорите мне о моем несчастье!
Я знал, что утрачиваю здесь представление о времени, знал, что происходящее на поверхности земли не доходит до этой гробницы… но не подозревал, что это может исчисляться днями и даже неделями!
– Не преднамеренная ли это забывчивость, друг мой? В этих вечных потемках ничто не говорит вам об окончании и возрождении дня: тьма родит вечную ночь. Здесь, кажется, нет у вас даже и песочных часов. Это устранение всяких способов исчисления времени не является ли жестокой предосторожностью, чтобы заглушить угрызения совести, не слышать голоса сердца?
– Признаюсь, что, приходя сюда, я ощущаю потребность отрешиться от всего, что есть во мне чисто человеческого. Но, боже мой, я не знал, что горе и думы способны до того поглотить мою душу, что часы могут протянуться для меня днями, а дни пролететь как часы. Что же я за человек? И как это никто никогда не сказал мне об этом новом злополучном моем свойстве?
– Напротив, это признак огромной духовной силы. Она только отклонилась от своего пути и направлена исключительно на мрачные размышления. Ваши близкие решили скрывать от вас горести, которые вы причиняете им, они считают нужным, чтобы уберечь вас от страданий, умалчивать о своих собственных. Но, по-моему, поступать так – значит, недостаточно уважать вас, сомневаться в вашем сердце. А я, Альберт, не сомневаюсь в нем и потому ничего не скрываю от вас.
– Идем же, Консуэло, идем! – проговорил Альберт, торопливо набрасывая на себя плащ. – Несчастный! Я заставил страдать отца, которого обожаю, тетушку, которую нежно люблю! Не знаю, достоин ли я увидеть их. Я готов никогда не возвращаться сюда, лишь бы не повторять такой жестокости. Но нет, я счастлив, я встретил дружеское сердце, – оно будет предостерегать меня, оно поможет мне вернуть уважение к самому себе. Наконец-то нашелся человек, который сказал мне правду обо мне и всегда будет говорить ее, не правда ли, дорогая сестра?
– Всегда, Альберт, клянусь вам!
– Боже милостивый! И существо, явившееся мне на помощь, именно то единственное из всех существ, которое я могу слушать, которому я могу верить! Господь знает, что творит! Не подозревая о своем безумии, я обвинял в нем других. Увы! Скажи мой благородный отец то, что вы сейчас мне сказали, я даже не поверил бы ему, Консуэло! Вы – олицетворение самой истины, олицетворение жизни, вы одна можете убедить меня, вы одна можете дать моему помраченному уму небесное спокойствие, которое от вас исходит.
– Пойдемте же, – настаивала Консуэло, помогая ему застегнуть плащ, чего он никак не мог сделать своей неверной и дрожащей рукой.
– Да, пойдем, – повторил он за нею, растроганным взором следя за тем, как она дружески помогает ему. – Но раньше поклянись мне, Консуэло, что, если я вернусь сюда, ты не покинешь меня. Поклянись, что ты еще придешь сюда за мной, хотя бы для того, чтобы осыпать меня упреками, обозвать неблагодарным, отцеубийцей, сказать мне, что я не стою твоих забот! О, не предоставляй меня самому себе! Ты видишь, что я весь в твоей власти и что одно твое слово убеждает и исцеляет меня лучше, чем целые века размышлений и молитв. – А вы поклянитесь мне, – ответила Консуэло, кладя ему на плечи руки (толстый плащ придал ей смелости) и доверчиво улыбаясь, – поклянитесь, что никогда не вернетесь сюда без меня!
– Так, значит, ты придешь сюда со мной! – воскликнул он, глядя на нее в упоении, но не смея обнять ее. – Поклянись же мне в этом, а я даю тебе обет никогда не покидать отцовского крова без твоего приказания или разрешения.
– Ну, так пусть господь услышит и примет наше взаимное обещание, – сказала Консуэло вне себя от радости. – Мы с вами, Альберт, еще придем сюда помолиться в вашей церкви, и вы научите меня молиться; ведь никто не учил меня этому, а я горю желанием познать бога. Вы, друг мой, раскроете мне небо, а я, когда надо, буду напоминать вам о земных делах и человеческих обязанностях.
– Божественная сестра! – сказал Альберт, и глаза его наполнились радостными слезами. – Поверь, мне нечему учить тебя. Это ты должна исповедать меня, узнать и переродить. Это ты научишь меня всему, даже молитве. О! Теперь мне не нужно одиночество, дабы возноситься душою к богу. Теперь мне не нужно простираться над костьми моих предков, дабы понять и постичь бессмертие. Мне нужно только посмотреть на тебя, чтобы моя ожившая душа вознеслась к небу как благостный гимн, как очистительный фимиам.
Консуэло увела его, сама открыв и закрыв двери.
– Цинабр, сюда! – позвал Альберт своего верного товарища, подавая ему фонарь, лучше устроенный и более приспособленный для такого рода путешествий, чем тот, который захватила с собой Консуэло. Умное животное с гордым и довольным видом взяло в зубы дужку фонаря и двинулось в путь, останавливаясь, когда останавливался его хозяин, то замедляя, то ускоряя шаг, сообразно с его шагами, придерживаясь середины дороги, чтобы уберечь свою драгоценную ношу от ударов о скалы и кусты.
Консуэло шла с величайшим трудом: она чувствовала себя совсем разбитой, и не будь руки Альберта, который поминутно поддерживал и подхватывал ее, она бы уже раз десять упала. Они спустились вместе вдоль ручья, по его прелестному свежему берегу.
– Это Зденко с такой любовью заботится о наряде здешних таинственных гротов, – пояснил Альберт. – Он расчищает русло реки, которое заносится гравием и ракушками, ухаживает за бледными цветами, вырастающими на берегах, и оберегает их от ее подчас слишком суровых ласк.
Консуэло взглянула сквозь расщелину скалы на небо – там блестела звезда.
– Это Альдебаран, звезда цыган, – проговорил Альберт. – Рассветать начнет только через час.
– Так, значит, это моя звезда, – отозвалась Консуэло. – Ведь я, дорогой граф, если не по происхождению, то по положению – нечто вроде цыганки. Мать мою в Венеции иначе и не звали, хотя она со своими испанскими предрассудками горячо возмущалась этой кличкой. А меня там знали и теперь знают под именем Zingarella.
– Почему ты на самом деле не дитя этого гонимого племени! – воскликнул Альберт. – Я еще больше любил бы тебя, если б это было возможно! Консуэло, которая нарочно заговорила о цыганах, считая, что полезно напомнить графу фон Рудольштадту о различии в их происхождении и положении, вдруг вспомнила рассказы Амелии о симпатиях Альберта к нищим и бродягам, а вспомнив, сама испугалась, что невольно поддалась бессознательному кокетству, и умолкла.
Но Альберт вскоре прервал молчание.
– То, что вы мне сейчас сказали, – начал он, – пробудило во мне, не знаю уж по какой ассоциации, одно воспоминание моей юности. Оно довольно незначительно, но все же надо вам рассказать об этом, хотя бы уже потому, что с минуты нашей встречи с вами оно не раз с какой-то странной настойчивостью приходило мне в голову. Опирайтесь на меня покрепче, дорогая сестра, пока я буду вам рассказывать.
Мне было около пятнадцати лет; однажды вечером я возвращался один по тропинке, которая, обогнув Шрекенштейн, вьется затем по холмам к замку. Вдруг я заметил впереди себя худую высокую женщину, нищенски одетую, которая тащила на спине тяжелую ношу, часто останавливаясь у скал, чтобы присесть и перевести дух. Я подошел к ней. Загорелая, иссушенная горем и нуждой, она была все-таки красива. Несмотря на ее лохмотья, в ней чувствовалась какая-то скорбная гордость: протягивая мне руку, она, казалось, не молила, а приказывала. Кошелек мой был пуст, и я предложил ей пойти со мной в замок, где я мог оказать ей помощь деньгами, предложить ужин и ночлег. «Хорошо, так мне это будет даже приятнее, – сказала она с иностранным акцентом, который я принял за цыганский. – Я смогу отблагодарить вас за гостеприимство, пропев вам песни разных стран, где я побывала. Я редко прошу милостыню и делаю это только в крайней нужде».
«Бедная женщина! – сказал я. – У вас тяжелая ноша, а ваши бедные ноги, почти босые, все изранены. Дайте мне узел, я донесу его до дома, вам будет легче идти».
«Ноша эта с каждым днем становится все тяжелее и тяжелее, – промолвила женщина с печальной улыбкой, которая сразу превратила ее в красавицу. – Я ношу ее уже несколько лет, проделала с ней сотни миль и никогда не жалуюсь на это. Я никогда никому ее не доверяю, но вы кажетесь мне таким добрым юношей, что вам я могу позволить донести ее до дома».
Говоря это, она расстегнула плащ, закрывавший ее всю (из-под него выглядывала только шейка гитары), и я увидел ребенка пяти-шести лет, бледного, загорелого, как и мать, с кротким, спокойным личиком, растрогавшим мне сердце. Это была девочка, вся в лохмотьях, худая, но крепкая, спавшая ангельским сном на горячей, усталой спине бродячей певицы. Я взял ребенка на руки, но мне с трудом удалось удержать его, так как, проснувшись и увидев, что лежит на руках у чужого, девочка стала вырываться и плакать. Мать заговорила с ней на своем языке, стараясь успокоить ее. Мои ласки и заботы утешили ребенка, и, подходя к замку, мы были с нею уже совсем друзьями. Поужинав и уложив девочку в постель, которую я для них велел приготовить, бедная женщина переоделась в странный наряд, еще более жалкий, чем ее лохмотья; взяв гитару, она явилась в столовую, где мы сидели за ужином, и стала нам петь испанские, французские и немецкие песни. Мы были очарованы ее прекрасным голосом и тем чувством, с каким она их пела. Моя добрая тетушка была очень внимательна к ней и добра. Казалось, певица была тронута этим, но продолжала держаться так же гордо, уклончиво отвечая на все наши вопросы. Ее ребенок заинтересовал меня больше даже, чем она сама. Мне хотелось еще посмотреть на девочку, позабавить ее и даже совсем оставить у себя. Какое-то нежное, заботливое чувство проснулось во мне к этому бедному маленькому существу, в нищете странствующему по свету Всю ночь девочка снилась мне, а утром я побежал взглянуть на нее. Но цыганка уже исчезла; я помчался на гору, но и там не нашел ее. Она поднялась до света и ушла по дороге, ведущей на юг, со своим ребенком и моей гита рой, которую я ей отдал, так как ее собственная, к великому ее огорчению, разбилась.
Альберт! Альберт! – в страшном волнении вскричала Консуэло. – Эта гитара в Венеции и хранится у моего учителя Порпоры; я возьму ее у него и никогда уже с нею не расстанусь. Она из черного дерева с серебряным вензелем, который я прекрасно помню: «А Р.» У матери моей была плохая память, – слишком уж много видела она на своем веку, и она не помнила ни вашего имени, ни названия замка, ни даже самой страны, где все это случилось. Но она мне часто рассказывала о гостеприимстве, оказанном ей владельцем этой гитары, и о трогательной доброте юного красавца вельможи, который нес меня целых полмили на руках и разговаривал с нею, как с равной О дорогой Альберт я тоже все это помню! По мере того как вы рассказывали, давно забытые образы один за другим вставали предо мной. Вот почему ваши горы показались мне не совсем уж незнакомыми, вот почему в этой местности мне все время что-то смутно вспоминалось! И главное – вот почему при первом же взгляде на вас я почувствовала странный трепет и невольно с почтением склонилась перед вами, как перед старым другом и покровителем, давно утраченным, но о котором я всегда вспоминала с сожалением.
А ты думаешь, Консуэло, воскликнул Альберт прижимая ее к груди, – что я не узнал тебя сразу с первой же минуты? Что из того, что с годами ты выросла, изменилась, похорошела? У меня такая память (дар чудесный, хотя часто и пагубный), которой не нужно ни глаз, ни слов, чтобы действовать на протяжении дней и веков. Правда, я не знал, что ты и есть моя дорогая маленькая Zmgarella, но был уверен что уже видел тебя, любил, прижимал к своему сердцу которое с той минуты, неведомо для меня самого, привязалось к твоему и слилось с ним на всю мою жизнь.
Глава 46
Разговаривая таким образом, они дошли до разветвления двух дорог, где Консуэло встретила Зденко, и уже издали увидели свет фонаря, который он поставил подле себя на землю. Консуэло, знавшая теперь опасные причуды и атлетическую силу юродивого, невольно прижалась к Альберту.
– Почему вы боитесь этого кроткого и любящего человека? – спросил молодой граф, удивленный и вместе с тем обрадованный выражением этого испуга. – Зденко нежно привязан к вам, хотя после приснившегося ему вчера дурного сна он и не хотел исполнить мое желание и несколько неприязненно отнесся к вашему великодушному плану прийти сюда за мной. Но стоит мне проявить настойчивость, и он делается послушным, как ребенок. Скажи я хоть слово, и он будет у ваших ног. – Не унижайте его в моем присутствии, – сказала Консуэло. – Не усиливайте его ненависти ко мне. Когда мы его обгоним, я скажу вам, какие у меня причины опасаться и избегать его.
– Зденко – существо почти неземное, – возразил Альберт, – и я никогда не поверю, чтобы он мог быть опасен для кого-либо. Состояние экстаза, в котором он постоянно находится, делает его чистым и милосердным, как ангел.
– Это состояние экстаза, которым я и сама восхищаюсь, Альберт, превращается в болезнь, когда оно длительно. Не заблуждайтесь на этот счет: богу не угодно, чтобы человек отрешался до такой степени от ощущения и сознания действительности и так часто уносился в область туманных представлений идеального мира. Безумием и яростью кончается такого рода опьянение. Оно является как бы возмездием за гордыню и праздность.
Цинабр остановился перед Зденко, посмотрел на него с дружелюбным видом, очевидно ожидая какой-нибудь ласки, которой, однако, тот не удостоил его. Юродивый сидел, обхватив голову обеими руками, в той же позе и на той же самой скале, где его оставила Консуэло. Альберт обратился к нему по-чешски, но он едва ответил. Он уныло качал головой, по щекам его струились слезы, а на Консуэло он не хотел и взглянуть. Альберт, повысив голос, стал выговаривать ему, но в тоне его было больше нежности и увещания, чем приказания и упрека. Наконец Зденко поднялся и протянул руку Консуэло. Та, дрожа, пожала ее.
– Теперь, – заговорил Зденко по-немецки, глядя на нее кротко, хотя и с грустью, – тебе нечего бояться меня, но ты делаешь мне очень больно, и я чувствую, что рука твоя полна наших бед.
Он пошел впереди, обмениваясь время от времени несколькими словами с Альбертом. Они шли по просторной, прочно сделанной галерее, по которой Консуэло еще не проходила и которая привела их в пещеру с круглым сводом, где они снова очутились у источника, низвергавшегося в широкий искусственный бассейн, выложенный обтесанными камнями. Отсюда вода растекалась двумя потоками: один терялся в галереях, другой устремлялся к водоему замка. Его-то и перекрыл Зденко, навалив своими геркулесовыми руками три огромных камня. Снимал же он их тогда, когда хотел опустить уровень воды в колодце ниже свода и лестницы, ведущей к террасе молодого графа.
– Посидим здесь, – сказал Альберт своей спутнице, – пока вода из водоема уйдет через отводную трубу…
– Которая мне слишком хорошо известна, – проговорила Консуэло, дрожа всем телом.
– Что вы хотите этим сказать? – спросил Альберт, с удивлением глядя на нее.
– Я расскажу вам это когда-нибудь после, – ответила Консуэло. – А сейчас я не хочу ни расстраивать, ни волновать вас рассказом об опасностях, которые мне удалось преодолеть…
– Но что же такое она хочет рассказать? – с ужасом воскликнул Альберт, глядя на Зденко.
Зденко что-то ответил по-чешски, продолжая с равнодушным видом месить своими большущими загорелыми руками глину, которой он замазывал щели между камнями, ускоряя этим опорожнение цистерны.
– Объяснитесь, Консуэло! – обратился к ней страшно взволнованный Альберт. – Я ничего не понимаю из того, что он мне говорит. Зденко утверждает, что не он провел вас сюда, но что вы якобы сами прошли недоступными подземельями, куда слабая женщина никогда бы не отважилась пробраться, да просто и не смогла бы этого сделать. Он говорит (чего только не болтает этот несчастный), что вас вела судьба и что архангел Михаил (которого он называет гордецом и властолюбцем) провел вас через воды и бездну.
– Возможно, – улыбаясь, ответила Консуэло, – что в это дело и вмешался архангел Михаил, ибо я действительно шла по руслу источника, опередила несшийся за мною поток, раза два-три уже считала себя погибшей, проходила по каким-то пещерам и каменоломням, где на каждом шагу могла задохнуться или провалиться… и все-таки эти опасности были не так ужасны, как ярость Зденко в ту минуту, когда случай или провидение вывели меня на верную дорогу.
Тут Консуэло, все время говорившая с Альбертом по-испански, рассказала ему в немногих словах о своей встрече с его «миролюбивым» Зденко, о том, как он пытался похоронить ее заживо, что и было бы приведено им в исполнение, если бы она не догадалась укротить его странным еретическим приветствием. Холодный пот выступил на лбу Альберта, когда он узнал эти невероятные подробности; слушая Консуэло, он не раз бросал на Зденко грозные взгляды, точно собираясь уничтожить его. Заметив это, Зденко принял странно вызывающий, презрительный вид. Консуэло дрожала, боясь, как бы эти два безумца не набросились друг на друга. Для нее теперь было ясно, что, несмотря на возвышенный ум и утонченность чувств, рассудок Альберта испытал тяжелые потрясения, от которых, пожалуй, никогда не оправится вполне. Она попыталась примирить двух безумцев, ласково говоря с обоими, но Альберт встал и, подав Зденко ключи от своего тайного убежища, очень холодно сказал ему несколько слов. Тот немедленно подчинился, взял фонарь и, распевая непонятные песни, удалился.
– Консуэло, – сказал Альберт, когда Зденко скрылся из виду, – если бы это верное животное, лежащее у ваших ног, взбесилось – да, да, если бы мой бедный Цинабр невольно своей яростью подверг опасности вашу жизнь, мне пришлось бы его убить. Поверьте, рука моя не дрогнула бы, хотя мне никогда не приходилось проливать кровь даже тех существ, которые стоят ниже человека. Будьте же спокойны, вам теперь больше не грозит ни малейшей опасности.
– О чем вы говорите, Альберт? – спросила Консуэло, встревоженная этим неожиданным намеком. – Теперь мне нечего бояться! Зденко все-таки человек, хотя и потерявший рассудок по своей, а может быть, отчасти и по вашей вине. Не говорите ни о крови, ни о наказании! Вы обязаны вернуть его на путь истинный, излечить его, а не поддерживать его бред. А теперь идемте! Я дрожу при мысли, что рассветет раньше, чем мы успеем вернуться.
– Ты права, – проговорил Альберт, снова пускаясь в путь. – Сама мудрость говорит твоими устами, Консуэло. Мое безумие оказалось заразительным для этого несчастного, и ты явилась вовремя, чтобы отвести нас обоих от бездны, куда мы с ним катились. Исцеленный тобою, я постараюсь исцелить и Зденко… Но если это мне не удастся, если его безумие будет грозить твоей жизни, то, хотя Зденко и божий человек и ангельски добр ко мне, хотя он единственный настоящий друг, которого я имел до сих пор на земле… будь уверена, Консуэло, я сумею вырвать его из своего сердца, и больше ты его никогда не увидишь.
– Довольно, довольно, Альберт, – прошептала Консуэло, уже не в силах после всех пережитых ужасов испытывать еще новые. – Не останавливайте своих мыслей на подобных предположениях! Я готова лучше сто раз умереть, чем внести в вашу жизнь необходимость такого поступка и такое отчаяние. Но Альберт не слушал ее; казалось, он совсем лишился рассудка. Он уже не помнил, что ее надо поддерживать, не замечал, что она шатается от усталости и чуть не падает на каждом шагу. Всецело поглощенный мыслями об опасностях, пережитых ею ради него, с ужасом рисуя себе все это, охваченный каким-то восторженно-благодарным чувством, он мчался вперед, что-то отрывисто выкрикивая и не обращая внимания на то, что она с трудом тащится за ним.
В этом отчаянном положении Консуэло вспомнила о Зденко, который был позади и мог вернуться, вспомнила о потоке, который он все еще, так сказать, держал в своих руках и который мог спустить в тот миг, когда она, лишенная помощи Альберта, стала бы одна подниматься к водоему, – потому что Альберт, во власти какого-то нового бреда, полагал, что она идет впереди, и, несясь за этим обманчивым призраком, оставлял ее во мраке. Это было слишком для женщины, даже для такой, как Консуэло. Цинабр бежал так же быстро, как и его хозяин, он со всех ног мчался вперед, унося в зубах фонарь. Свой же фонарь Консуэло оставила в убежище Альберта. Дорога то и дело поворачивала, вследствие чего свет поминутно исчезал. Наткнувшись впотьмах на какой-то выступ, Консуэло упала и не нашла сил подняться. Смертельный холод охватил ее. Еще одна страшная мысль промелькнула в ее мозгу: вероятно, Зденко получил приказание через определенное время открыть шлюзы, чтобы, напустив воду, скрыть лестницу и выход из колодца; даже независимо от своей ненависти к ней, он должен был по привычке выполнить эту необходимую предосторожность.
«Итак, все кончено! – подумала Консуэло, тщетно силясь ползти. – Я жертва неумолимого рока! Мне не выйти из этого рокового подземелья, глазам моим не увидеть больше дневного света!..»
Уже пелена, гуще окружавшего ее густого мрака, стала заволакивать ей взор, руки окоченели, какая-то апатия, похожая на последний предсмертный сон, заглушила страх… И вдруг она почувствовала, что чьи-то могучие руки поднимают ее, сжимают, уносят по направлению к колодцу… чья-то пылающая грудь трепещет у самой ее груди, согревая ее; чей-то дружеский, ласковый голос шепчет ей нежные слова. Цинабр прыгает перед нею с качающимся фонарем. Это Альберт, придя в себя, уносит, спасает ее со страстью матери, потерявшей было и вновь нашедшей своего ребенка. За три минуты они дошли до канала, из которого только что ушла вода, достигли арки и лестницы колодца. Цинабр, привыкший к этому опасному подъему, бросился вперед, словно боясь, что помешает хозяину, путаясь под его ногами. Альберт, держа одной рукой Консуэло, а другой хватаясь за цепь, поднялся по винтовой лестнице в тот момент, когда вода уже бурлила на дне колодца. Эта опасность была не меньше других, перенесенных ею раньше, но Консуэло уже не ощущала страха. Альберт вообще обладал такой физической силой, пред которой сила Зденко казалась игрушечной, а в данную минуту, под влиянием невероятного возбуждения, сила эта стала просто сверхъестественной. Когда при свете занимающейся зари он опустил свою драгоценную ношу на закраину колодца, Консуэло наконец облегченно вздохнула и, оторвавшись от тяжело дышавшей груди Альберта, вытерла его высокий вспотевший лоб своим шарфом.
– Друг, – нежно сказала она, – если б не вы, я была бы мертва; вы отплатили за все, сделанное мною для вас; я чувствую сейчас вашу усталость больше, чем вы сами, и мне кажется, что на вашем месте я бы не выдержала.
– О моя маленькая Zingarella! – с восторгом воскликнул Альберт, целуя шарф, которым она вытирала его лицо. – Ты не тяжелее для меня, чем в тот день, когда я нес тебя со Шрекенштейна в этот самый замок.
– Замок, откуда вы, Альберт, не выйдете больше без моего разрешения; не забывайте своих клятв!
– А ты своих! – ответил он, опускаясь перед ней на колени.
Он закутал Консуэло шарфом и провел ее в свою комнату, откуда она тихонько проскользнула к себе. Замок просыпался. В нижнем этаже уже слышался сухой, резкий кашель канониссы – признак, что она проснулась. Консуэло посчастливилось: никто не видел и не слышал, как она добралась до своей комнаты. Дрожащей рукою сняла она с себя разорванную и испачканную одежду и, заперев ее в сундук, вынула из замка ключ. У нее еще нашлись силы скрыть все следы своего таинственного путешествия; но едва положила она свою измученную голову на подушку, как ее охватил тяжелый, лихорадочный сон, полный фантастических видений и кошмаров, и она вытянулась на постели во власти неумолимой горячки.
Глава 47
Между тем канонисса Венцеслава, посвятив полчаса молитве, поднялась по лестнице, и, как всегда, первая мысль ее была о дорогом племяннике. Она направилась к дверям его комнаты и приложила ухо к замочной скважине, хотя меньше чем когда-либо надеялась услышать легкий шорох, говорящий об его возвращении. Каковы же были ее удивление и радость, когда до нее донеслось ровное дыхание спящего! Осенив себя крестом, она решилась тихонько отворить дверь и на цыпочках войти в комнату. Альберт спокойно спал на своей постели, а Цинабр, свернувшись клубком, – на соседнем кресле. Не разбудив ни того, ни другого, она побежала к графу Христиану, который, распростершись в своей часовне, молился с обычным смирением о возвращении ему сына на небесах или на земле.
– Братец, – тихо сказала Венцеслава, опускаясь на колени рядом с ним, – оставьте ваши молитвы и ищите в сердце своем самые горячие благодарения: господь услышал вас!
Больше ей ничего не нужно было объяснять. Старик, повернувшись к сестре и прочтя в ее маленьких светлых оживленных глазах глубокую, сочувственную радость, поднял к алтарю свои иссохшие руки и угасшим голосом воскликнул:
– Боже! Ты возвратил мне сына! И оба в едином религиозном порыве стали поочередно произносить вполголоса слова прекрасной молитвы Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаеши раба твоего, владыко…»
Решено было не будить Альберта. Призвали барона, капеллана, всех слуг и благоговейно прослушали в домовой церкви замка благодарственное молебствие. Амелия искренне обрадовалась, узнав о возвращении двоюродного брата, но решила, что совершенно напрасно ради благочестивого празднования этого счастливого события ее подняли в пять часов утра и заставили промучиться целую длинную обедню, во время которой ей пришлось подавить не один зевок.
– Почему ваша подруга, добрейшая Порпорина, не пришла поблагодарить бога вместе с нами? – спросил граф Христиан племянницу, когда служба кончилась.
– Я пробовала ее разбудить, – ответила Амелия, – звала, тормошила, прибегала ко всяким способам, но мне не удалось ни втолковать ей что-либо, ни заставить ее открыть глаза. Если бы она не пылала в жару и не была красна, как огонь, я, право, подумала бы, что она мертва. Должно быть, она очень плохо спала эту ночь, и сейчас ее лихорадит.
– Так, видимо, она больна, эта достойная особа! – проговорил граф.
– Дорогая сестра Венцеслава, вам бы следовало пойти взглянуть на нее и сделать все, что требует ее состояние. Избави бог, чтобы такой радостный день был омрачен болезнью этой благородной девушки!
– Хорошо, братец, – ответила канонисса, бросая вопросительный взгляд на капеллана (в последнее время она ничего не предпринимала по отношению к Консуэло, не посоветовавшись с ним). – Но вы не беспокойтесь, Христиан, ничего страшного нет, просто синьора Нина очень нервна и, наверно, скоро выздоровеет… Но разве не удивительно, – обратилась она к капеллану, отведя его в сторону, – что эта девушка с такой уверенностью предсказала возвращение Альберта? Господин капеллан, уж не ошиблись ли мы с вами относительно нее? Может, она и вправду вроде святой и у нее бывают откровения?
– Святая присутствовала бы на обедне, а не лежала в такую минуту в лихорадке, – глубокомысленно изрек капеллан.
Это мудрое замечание вызвало глубокий вздох у канониссы. Однако она все-таки пошла навестить Консуэло и обнаружила у нее сильный жар, сопровождаемый непреодолимой сонливостью. Был приглашен капеллан, который заявил, что болезнь может оказаться очень серьезной, если жар продлится. Он спросил молодую баронессу, как провела ночь ее соседка, не очень ли была беспокойна.
– Напротив, – ответила та, – ее совсем не было слышно. А я, по правде сказать, после всех ее предсказаний и чудесных сказок, которые она рассказывала в последние дни, ожидала услышать в ее комнате дьявольский шабаш. Но, должно быть, сатана уносил ее далеко отсюда или она имеет дело с очень благовоспитанными бесенятами, ибо, по-моему, тишина была полная и мой сон ни разу не был потревожен.
Капеллану эти шутки Амелии очень не понравились, а канонисса, у которой недостаток ума искупался сердечностью, сочла их попросту неуместными у постели тяжело больной подруги. Но она ничего не сказала, приписав колкости племянницы ревности, имевшей, без сомнения, слишком основательную причину, и спросила капеллана, какие лекарства надо давать Порпорине.
Он прописал успокоительное средство, но оказалось невозможным заставить больную проглотить его: зубы ее были стиснуты и запекшиеся губы отказывались от всякого питья. Капеллан нашел это плохим признаком, но с апатией, заразившей, к несчастью, весь дом, отложил установление диагноза до следующего дня, сказав: «Посмотрим, надо выждать; сейчас еще ничего не определить». Таковы вообще были приговоры этого эскулапа в рясе.
– Если не наступит перемена, – сказал он, выходя из комнаты Консуэло, – придется подумать о том, чтобы пригласить врача. На себя я не возьму лечение столь необычного нервного заболевания. Я помолюсь о синьоре; быть может, принимая во внимание то душевное состояние, в котором она пребывала в последнее время, помощь господа окажется более действенной, чем помощь врачебного искусства.
Оставив подле Консуэло служанку, все отправились готовиться к завтраку. Канонисса собственноручно испекла пирог, вкуснейший из всех, когда-либо выходивших из ее искусных рук. Она радовалась, представляя, с каким удовольствием Альберт после столь продолжительного поста полакомится своим любимым кушаньем. Красавица Амелия облеклась в новое ослепительное платье, рассчитывая, что Альберт, увидя ее такой обольстительной, быть может, пожалеет, что обижал и раздражал ее. Каждый думал о том, как бы порадовать молодого графа. Позабыто было лишь одно существо, которым, однако, надо было прежде всего заняться, – бедная Консуэло, та, кому родные были обязаны возвращением Альберта и кого он, конечно, жаждал поскорее увидеть.
Альберт вскоре проснулся и, не прибегая к тщетным попыткам отдать себе отчет в том, что с ним было накануне, как это обычно бывало с ним после припадков безумия, увлекавших его в подземное убежище, сразу вспомнил и свою любовь, и счастье, которое дала ему Консуэло. Он вскочил, оделся, надушился и побежал обнять отца и тетку. Радость родных была неописуема, когда они увидели, что Альберт вполне в здравом уме, что он сознает свое долгое отсутствие, горячо и нежно упрашивает их простить его, обещая никогда больше не причинять, им такого горя и беспокойства. Он увидел, в каком восторге были его близкие от того, что он вернулся к действительности. Но от него не ускользнули также их старания скрыть от него его прежнее состояние, и его даже немного задело, что с ним продолжают обращаться как с ребенком, в то время как он снова стал мужчиной. Однако он покорился этой каре, в сущности ничтожной по сравнению с его виной, и говорил себе, что получил спасительное предупреждение и Консуэло будет довольна, что он понял это и примирился.
Сев за стол, окруженный ласками, вниманием, заботами, даже радостными слезами своей семьи, он с беспокойством стал искать глазами ту, которая стала теперь необходима для его счастья и для его спокойствия. Он видел, что ее место пусто, и не решался спросить, почему Порпорина не появляется. Канонисса, заметив, что племянник, вздрагивая, оборачивается каждый раз, как отворяются двери, нашла нужным успокоить его, сказав, что молодая гостья плохо спала прошлую ночь и теперь отдыхает, пожелав провести часть дня в постели.
Альберт прекрасно понимал, что его освободительница должна изнемогать от усталости, но все-таки при этом известии испуг отразился на его лице. – Тетушка, – обратился он к канониссе, не будучи в силах скрывать дальше свое волнение, – если бы приемная дочь Порпоры была серьезно больна, мы не сидели бы, я полагаю, так спокойно за столом, кушая и беседуя?
– Успокойтесь, Альберт, – вмешалась Амелия, вспыхнув от досады. – Нина, постоянно бредившая вами и предвещавшая ваше возвращение, теперь спит в ожидании его, в то время как мы здесь радостно его празднуем. Альберт побледнел от негодования и, гневно глядя на двоюродную сестру, проговорил:
– Если кто здесь и ждал меня, не теряя при этом сна, то совсем не та особа, о которой вы упомянули: свежесть ваших щек, моя прелестная кузина, говорит о том, что вы не потеряли ни единого часа сна в мое отсутствие и что в настоящую минуту вы совсем не нуждаетесь в отдыхе. От всего сердца благодарю вас за это, так как мне было бы очень тяжело просить у вас прощения в том, в чем я со стыдом и болью прошу его у всех прочих моих родных и друзей.
– Очень благодарна за исключение, – возразила Амелия, побагровев от гнева. – Постараюсь и впредь его заслужить, а свои бессонные ночи и беспокойство приберегу для кого-нибудь другого, кто сумеет оценить это, а не высмеивать.
Эта легкая перестрелка – явление, далеко не новое между Альбертом и его невестой, никогда, впрочем, не носившее до сих пор у обеих сторон такого резкого характера, – набросила какую-то тень грусти и принужденности на весь остаток утра, несмотря на всеобщие старания развлечь Альберта. Канонисса несколько раз навещала больную и каждый раз находила ее все в более и более тяжелом состоянии. Беспокойство, проявленное Альбертом в отношении Консуэло, задело Амелию как личное оскорбление, и она ушла поплакать в свою комнату. Капеллан высказался в том смысле, что, если до вечера жар не уменьшится, нужно будет послать за врачом.
Граф Христиан задержал сына подле себя, чтобы отвлечь его от тревожных мыслей, которых он не мог понять, продолжая считать их проявлением болезни. Но, стараясь привлечь сына ласковыми словами, добрый старик никак не мог найти темы для беседы и душевных излияний, так как ни разу не осмелился исследовать душу сына до глубины, из опасения, что этот более сильный ум победит и разобьет его самого в религиозных вопросах. Правда, граф Христиан называл безумием и вольнодумством проблески яркого света, сквозившие в странных речах Альберта, – слабые глаза правоверного католика не выдерживали этого блеска, – но в душе он сочувствовал сыну, в то же время противясь желанию серьезно расспросить его. Каждый раз, когда граф Христиан пытался опровергнуть еретические суждения Альберта, прямые и веские доказательства последнего принуждали его умолкнуть. Природа не наделила старика красноречием, он не обладал способностью многословно и складно оспаривать взгляд противника и еще менее способен был прибегать к шарлатанству в споре, иными словами, стараться, за недостатком логики, произвести впечатление призрачной ученостью и смелостью доказательств. Простодушный и скромный, он умолкал, упрекая себя, что в юные годы не изучил тех трудных предметов, в которых его побивал Альберт. Будучи уверен, что в бездне богословских наук таятся сокровища истины, которыми более ловкий и более ученый человек, чем он, сумел бы разбить ересь Альберта, он цеплялся за свою поколебленную веру и, чтобы не действовать более энергично, прикрывался своим невежеством и простотою, лишь усиливавшим гордыню вольнодумца и приносившими ему, таким образом, больше вреда, чем пользы.
Их разговор раз двадцать прерывался в силу какого-то обоюдного опасения и раз двадцать возобновлялся благодаря обоюдным усилиям, а под конец оборвался сам собой. Старый Христиан задремал в кресле, а Альберт, покинув его, пошел справиться о состоянии Консуэло, которое тем больше его пугало, чем больше старались скрыть ее болезнь.
Более двух часов проблуждал он по коридорам, подстерегая канониссу или капеллана, чтобы узнать хоть что-нибудь о Консуэло. Капеллан отвечал ему кратко и сдержанно, а канонисса, завидя издали племянника, спешила принять веселый вид и завести разговор совсем о другом, чтобы обмануть его кажущимся спокойствием. Но Альберт хорошо видел, что она начинает не на шутку тревожиться и все чаще и чаще заходит в комнату Консуэло; от его наблюдательности не укрылось также и то, что никто не стеснялся поминутно открывать и закрывать двери, мало заботясь о том, что этот стук и возня могут потревожить Консуэло, спящую якобы мирным и столь необходимым ей сном. Он отважился даже подойти к этой комнате, за минутное пребывание в которой готов был бы отдать жизнь. Перед ней была другая комната, так что две плотных двери, не пропускавшие ни малейшего звука, отделяли ее от коридора. Канонисса, заметив стремление племянника проникнуть к Консуэло, заперла обе двери на ключ и на задвижку, а сама стала ходить через находившуюся рядом комнату Амелии, куда Альберт вошел бы справиться о больной не иначе, как со страшным отвращением. Наконец, видя, в каком он отчаянии, и боясь возвращения его недуга, тетка решилась на ложь: в душе моля бога простить ей, она сказала племяннику, что больная чувствует себя гораздо лучше и даже собирается спуститься в столовую к обеду.
Альберт не мог усомниться в словах тетки, никогда до сих пор не осквернявшей своих чистых уст ложью, и отправился к старому графу, не зная, как дождаться часа, который должен был вернуть ему Консуэло и счастье. Но этот желанный час пробил для него напрасно: Консуэло не появилась.
Канонисса, делая большие успехи в искусстве лжи, рассказала, будто больная встала было, но, почувствовав некоторую слабость, предпочла обедать у себя в комнате. Канонисса даже сделала вид, что посылает больной лучшие куски самых тонких блюд. Благодаря всем этим хитростям тревога Альберта несколько улеглась. Хотя он и испытывал гнетущую тоску, как бы предчувствуя неслыханное несчастье, однако покорился, сделав над собой усилие, чтобы казаться спокойным.
Вечером Венцеслава с довольным видом, уже почти не притворяясь, сообщила, что Порпорине лучше: щеки ее уже не пылают, пульс скорее слаб, чем учащен, и, по-видимому, она должна хорошо провести ночь.
«Но почему же, несмотря на эти добрые вести, я все-таки холодею от ужаса? – спрашивал себя молодой граф, прощаясь в обычное время перед сном со своими родными.
Дело в том, что добрейшая канонисса, несмотря на свою худобу и свой горб, никогда не болела, а потому ничего не понимала в болезнях. И вот, видя, что Консуэло из багрово-красной стала синевато-бледной, что ее бурлящая кровь как будто застыла в жилах, а грудь, не имевшая сил вдыхать воздух, кажется спокойной и неподвижной, она сочла ее выздоровевшей и сейчас же с детской доверчивостью объявила об этом. Но капеллан, несколько больше ее смысливший в заболеваниях, понимал прекрасно, что это кажущееся спокойствие – лишь предвестник жестокого кризиса, и, как только Альберт ушел к себе, предупредил канониссу, что наступил момент послать за доктором. К несчастью, город был далеко, ночь темна, дороги ужасны, а Ганс, несмотря на все свое усердие, чрезвычайно медлителен. К тому же разразилась гроза, полил сильный дождь. Старая лошадь, на которой ехал старый слуга, всего пугалась, раз двадцать спотыкалась и кончила тем, что вместе с растерявшимся седоком, видевшим в каждом холме Шрекенштейн, а в каждой сверкающей молнии – огненный полет злого духа, заблудилась в лесах. Только когда уже совсем рассвело, удалось Гансу выбраться на верную дорогу. Погоняя насколько было сил свою лошадь, добрался он до города, где в это время доктор еще крепко спал. Проснувшись, доктор стал медленно одеваться, собираться и наконец пустился в путь. Таким образом, на все это были потрачены целые сутки.
Альберт тщетно старался уснуть. Тревога, снедавшая его, и зловещие раскаты грома всю ночь не давали ему сомкнуть глаз. Сойти вниз он не смел, боясь вызвать негодование тетки, которая и так уже утром отчитала его за неуместное и неприличное хождение около комнат девиц. Он оставил свою дверь открытой, и несколько раз ему казалось, что внизу ходят. Он выскакивал на лестницу, но, никого не увидев и ничего не услышав, старался успокоить себя, объясняя напугавшие его обманчивые звуки шумом дождя и порывами ветра. С той минуты, как Консуэло потребовала, чтобы он бережно относился к своему рассудку и душевному состоянию, Альберт терпеливо и твердо старался побороть в себе и волнения и страхи, сдерживая свою любовь силой этой самой любви. Но вдруг среди раскатов грома, треска и стона древних стен замка, сквозь вой урагана до него донесся долгий душераздирающий крик, пронзивший его, словно удар кинжала. Тут Альберт, который только что бросился, не раздеваясь, на постель, решив заснуть, вскочил, опрометью спустился по лестнице и постучал в дверь Консуэло. Но здесь уже снова царила тишина, и никто не открыл ему. Он уже решил, что все это ему приснилось, но вот раздался новый крик, еще более страшный, еще более зловещий, от которого у него похолодело сердце. Уже без всяких колебаний бежит он темным коридором, стучится у двери Амелии, кричит, что это он, Альберт. Слышится стук задвигающегося засова, и голос Амелии повелительно приказывает ему удалиться. А между тем крики и стоны становятся все громче: это голос Консуэло, полный нестерпимой муки; он слышит, как обожаемые уста в отчаянии выкрикивают его имя. С бешенством напирает он на дверь, срывает замок и задвижку и, отбросив на кушетку Амелию, которая разыгрывает оскорбленную невинность, ибо ее застали в шелковом капоте и кружевном чепчике, мертвенно бледный, со вставшими дыбом волосами, врывается в комнату Консуэло.
Глава 48
Консуэло, в страшном бреду, билась в руках двух самых сильных в доме служанок, которые едва удерживали ее в постели. Несчастной мерещились, как это бывает иногда при мозговой горячке, неслыханные ужасы, и она стремилась убежать от преследовавших ее страшных видений, а в женщинах, которые удерживали ее и старались успокоить, она видела остервенелых врагов, чудовищ, жаждущих ее гибели. Растерявшийся капеллан, который ждал, что она с минуты на минуту умрет, сраженная недугом, уже читал над нею отходную, а больная принимала его за Зденко, замуравливающего ее под бормотание своих таинственных напевов. В дрожащей канониссе, пытавшейся своими слабыми силами помочь служанкам удержать больную, Консуэло видела призрак то одной, то другой Ванды – то сестры Жижки, то матери Альберта. Ей мерещилось, что обе они поочередно появляются в пустынном гроте отшельника и упрекают ее в том, что она, вторгшись в их владения, присвоила себе их права. Ее восклицания, стоны, ее бред, непонятный для окружающих, были в прямой связи с виденным и слышанным ею в прошлую ночь, со всем тем, что так сильно взволновало и поразило ее. Консуэло чудился рев потока, и она делала руками движения, словно плыла, и встряхивала свои распущенные черные волосы, как бы сбрасывая с них воображаемую пену. Она ощущала все время присутствие Зденко: то позади нее он открывает шлюзы, то впереди с ожесточением преграждает ей путь. Она твердила все время о камнях и воде, что заставило капеллана сказать, качая головой: «Какое, однако, длительное и тяжелое сновидение. Не знаю, право, почему в последнее время она так неотступно думала об этом колодце? Наверное, это было начало болезни: слышите, она все время упоминает о нем в своем бреду».
В ту минуту, когда Альберт вне себя ворвался в ее комнату, Консуэло, выбившись совсем из сил, лепетала какие-то невнятные слова, а потом вдруг опять принялась дико кричать. Воображение ее, не сдерживаемое больше силой воли, заставляло девушку снова со страшным напряжением переживать испытанные ею ужасы. Но что-то похожее на какой-то смысл проскальзывало минутами в ее бреду, и она начинала звать Альберта таким звучным и звенящим голосом, что, казалось, самые стены дома должны были содрогнуться, потом крики эти переходили в рыдания, которые, казалось, грозили задушить ее, хотя ее блуждавшие глаза были сухи и блестели устрашающим блеском.
– Я здесь! Я здесь! – закричал Альберт, бросаясь к ее постели.
Консуэло услыхала его и, вообразив, что Альберт бежит впереди нее, со стремительностью и силой, какие придает горячка даже самым слабым организмам, вырвалась из державших ее рук и, растрепанная, босая, в одной тонкой, измятой белой ночной сорочке, делавшей ее похожей на привидение, выскочила на середину комнаты. В ту минуту, когда ее собирались снова схватить, она с ловкостью дикой кошки перепрыгнула через стоявший перед нею спинет, метнулась к окну, приняв его за отверстие рокового колодца, стала одной ногой на подоконник, протянула руки и, снова выкрикнув в бурную, зловещую ночь имя Альберта, выбросилась бы из окна, если бы Альберт, еще более быстрый и сильный, чем она, не схватил ее на руки и не перенес обратно на кровать. Она его не узнала, но совершенно не сопротивлялась и перестала кричать. Альберт, не жалея самых нежных слов, стал по-испански горячо уговаривать ее. Она слушала его, устремив глаза в одну точку, не видя и не отвечая ему; вдруг она привстала, опустилась на своей кровати на колени и запела строфу из «Те Deum» Генделя, которого недавно начала с восторгом изучать. Никогда еще голос ее не звучал с такой силой, с таким чувством, никогда не была она так хороша, как в эту минуту экстаза: волосы ее распустились, яркий лихорадочный румянец горел на щеках, а глаза, казалось, читали что-то в небесах, разверзшихся для них одних. Канонисса была до того растрогана, что вся в слезах упала на колени у кровати, а капеллан, несмотря на свою недоброжелательность, склонил голову, охваченный религиозным чувством. Закончив строфу, Консуэло глубоко вздохнула, и божественная радость озарила ее лицо.
– Я спасена! – крикнула она, падая навзничь, бледная и холодная, как мрамор; глаза ее, хотя и открытые, словно потухли, губы посинели, руки окоченели.
На минуту воцарилось молчание, даже какое-то оцепенение. Амелия, не решавшаяся войти и наблюдавшая эту страшную сцену стоя у порога, от ужаса упала в обморок. Канонисса и обе женщины бросились к ней на помощь. Консуэло, мертвенно бледная, покоилась на руках у Альберта, который, припав головой к груди умирающей, казался таким же мертвецом, как и она. Канонисса, распорядившись уложить Амелию в кровать, снова появилась на пороге комнаты.
– Ну что, господин капеллан? – спросила она, совсем убитая.
– Это смерть, сударыня, – проговорил капеллан глухим голосом, опуская руку Консуэло после безуспешных попыток нащупать ее пульс.
– Нет! Это не смерть! Нет! Тысячу раз нет! – воскликнул Альберт, порывисто приподнимаясь. – Я лучше освидетельствовал ее сердце, чем вы ее пульс. Оно еще бьется, она дышит, она жива! О! Она будет жить! Не так и не теперь суждено ей кончить жизнь! Кто отважился подумать, что бог приговорил ее к смерти?! Настала минута, когда надо серьезно заняться ею. Господин капеллан, дайте мне ваш ящик. Я знаю, что ей нужно, а вы не знаете. Да делайте же то, что я вам говорю, несчастный! Вы не оказали ей помощи, – вы могли предотвратить этот ужасный припадок, и вы этого не сделали, не пожелали сделать! Вы скрыли от меня ее недуг, вы все обманули меня. Вы хотели ее гибели, не правда ли? Ваша трусливая осторожность, ваше отвратительное равнодушие сковали вам язык и руки! Дайте мне ваш ящик, говорю я вам, и предоставьте мне действовать.
И так как капеллан не решался передать ему свои лекарства, боясь, чтобы в неопытных руках возбужденного, полупомешанного человека они не стали смертельным ядом, Альберт вырвал ящик из его рук. Не обращая внимания на уговоры тетки, он сам выбрал и отвесил быстро действующее и сильное успокоительное средство: Альберт был гораздо более сведущ во многих вещах, чем думали его близкие. В ту пору своей жизни, когда он еще отдавал себе отчет в болезненных явлениях своего мозга, он изучал на самом себе действие самых сильных средств. Человек смелый, к тому же вдохновленный страстной преданностью к любимой женщине, он быстро принял решение и вот теперь приготовил лекарство, к которому никогда не отважился бы прибегнуть капеллан. Ему удалось, вооружившись необыкновенным терпением и нежностью, разжать зубы больной и заставить ее проглотить несколько капель этого сильно действующего средства. Через час, в продолжение которого он несколько раз давал ей это лекарство, Консуэло начала свободно дышать, руки ее потеплели, лицо несколько оживилось. Она еще ничего не слышала и не чувствовала, но состояние ее уже походило на что-то вроде сна, даже губы немного порозовели. В это время появился доктор. Видя серьезность положения, он заявил, что его позвали слишком поздно и что он не ручается за исход болезни. По его мнению, надо было еще накануне пустить кровь, а теперь момент упущен и кровопускание может лишь вызвать новый припадок.
– Пусть припадок повторится, – проговорил Альберт, – но кровь пустить надо.
Доктор – немец, тяжеловесный субъект с большим самомнением, привыкший к тому, что его слушают, как оракула, ибо во всей округе у него не было конкурентов, – приподнял свои тяжелые веки и, моргая, посмотрел на того, кто позволил себе так смело решить подобный вопрос.
– Говорю вам, необходимо сделать кровопускание, – настойчиво повторил Альберт. – Будет ли пущена кровь или не будет, припадок все равно повторится.
– Позвольте, – возразил доктор Вецелиус, – это вовсе не так неизбежно, как вы изволите думать. – И улыбнулся несколько презрительной, иронической улыбкой.
– Если припадок не повторится, все кончено, – проговорил Альберт, вы сами должны это знать. Такая сонливость прямо ведет к притуплению умственных способностей, к параличу, к смерти. Ваш долг овладеть недугом, повысить его интенсивность, для того чтобы преодолеть его. Словом, вам надо бороться, а иначе к чему ваше присутствие здесь? Молитвы и погребение – не ваше дело. Пустите кровь, или я сам пущу ее!
Доктор прекрасно знал, что Альберт был прав, и сам собирался пустить кровь, но ему казалось, что такому значительному лицу, как он, не подобает высказаться сразу и тотчас перейти к действию: могли бы подумать, что болезнь проста и лечение несложно. А наш немец любил напугать, напустить на себя глубокомысленные колебания, недоумения, среди которых его как бы вдруг осеняла гениальная мысль – и тогда он победоносно выходил из затруднений. Это давало возможность сказать то, что о нем говорили тысячу раз: «Болезнь была так запущена, приняла такое опасное течение, что сам доктор Вецелиус призадумался. Никто, кроме него, не смог бы уловить нужный момент и сделать то, что надо. Да, это человек чрезвычайно осторожный, очень знающий! Словом, большой человек! Такого доктора и в Вене не найти!»
Видя, что ему противоречат, припертый к стене нетерпением Альберта, он ответил:
– Если вы врач и пользуетесь тут авторитетом, то я совершенно не понимаю, зачем меня пригласили? Мне остается только уехать.
– Если вы не желаете своевременно приступить к делу, то можете удалиться, – проговорил Альберт.
Доктор Вецелиус, глубоко оскорбленный тем, что его пригласили к больной одновременно с каким-то неизвестным коллегой, относящимся к нему без должного почтения, встал и прошел в комнату Амелии: ему надо было заняться еще этой молодой нервической особой, не перестававшей звать его к себе, и проститься с канониссой. Но последняя не отпустила его.
– О нет, дорогой доктор, вы не можете покинуть нас в таком положении! Подумайте, какая ответственность лежит на нас! Мой племянник обидел вас. Но стоит ли придавать значение вспыльчивости человека, который так мало владеет собой?
– Неужели это граф Альберт? – спросил пораженный доктор. – Я никогда бы не узнал его. Как он переменился!
– Конечно, за те десять лет, что вы его не видели, в нем произошло много перемен.
– А я, признаться, считал его совершенно выздоровевшим, – не без ехидства заметил Вецелиус, – поскольку меня ни разу не приглашали к нему со времени его возвращения.
– Ах, любезный доктор, вы прекрасно знаете, что Альберт никогда не соглашался подчиниться указаниям науки.
– Но, однако, он, как видно, сам стал врачом?
– Он знает кое-что во всех областях, но всюду вносит свою кипучую стремительность. Ужасное состояние, в котором он застал эту молодую девушку, очень его взволновало; если бы не это – поверьте, вы бы нашли его более вежливым, более рассудительным, более признательным вам за те заботы, которые вы проявляли о нем, когда он был ребенком.
– Боюсь, что он сейчас более чем когда-либо нуждается в них, – возразил доктор, которому, несмотря на все почтение, питаемое к графской семье и замку, все-таки легче было огорчить канониссу, намекая на сумасшествие ее племянника, чем отрешиться от своей пренебрежительной манеры и от мелочной мести.
Жестокость доктора очень огорчила канониссу, тем более что обиженный Вецелиус мог распространить в округе слух о душевном состоянии ее племянника, которое она так тщательно от всех скрывала. Она промолчала, надеясь этим обезоружить доктора, и смиренно спросила его мнение относительно предлагаемого Альбертом кровопускания.
– В настоящую минуту я считаю это нелепостью, – заявил Вецелиус, желая сохранить за собой инициативу и изречь собственными устами решение, когда ему это заблагорассудится.
– Я подожду часок-другой, послежу за больной, – продолжал он, – и когда наступит нужный момент, будь это даже раньше, чем я предполагаю, я сделаю то, что надо. Но во время кризиса, при теперешнем состоянии ее пульса, я не могу сказать заранее ничего определенного.
– Так вы остаетесь у нас? Да благословит вас бог, дорогой доктор!
– Коль скоро мой противник – молодой граф, – проговорил Вецелиус с сострадательно-покровительственной улыбкой, – меня ничто не может удивить: пусть говорит себе, что хочет.
Доктор собирался уже вернуться в комнату Консуэло, дверь в которую была закрыта капелланом, чтобы Альберт не мог слышать приведенного сейчас разговора, когда сам капеллан, бледный и растерянный, оставив больную, прибежал за ним.
– Ради бога, доктор! – воскликнул он. – Идите, примените свой авторитет, ибо моего граф Альберт не признает, да, кажется, он не послушался бы и голоса самого господа! Граф продолжает стоять на своем и, вопреки вашему запрету, все-таки хочет пустить кровь умирающей; и, уверяю вас, он это сделает, если только нам с вами не удастся силой или хитростью удержать его. Одному богу известно, умеет ли он даже держать в руках ланцет! Он может если не убить, то во всяком случае искалечить ее несвоевременным кровопусканием.
– Конечно, – насмешливо проговорил доктор со злорадным эгоизмом бессердечного человека, тяжелым шагом направляясь к двери. – То ли еще мы с вами увидим, если мне не удастся образумить его!
Но когда он подошел к кровати, Альберт уже держал в зубах окровавленный ланцет; одной рукой он поддерживал руку Консуэло, в другой держал тарелку. Вена была вскрыта, и темная кровь обильно текла из нее. Капеллан стал охать, возмущаться, призывать небо в свидетели. Доктор попытался шутками отвлечь Альберта, думая потом незаметно закрыть вену, с тем чтобы снова открыть ее, когда ему вздумается, и весь успех приписать себе. Но Альберт остановил его выразительным взглядом. Когда вытекло достаточное количество крови, он с ловкостью опытного оператора наложил на ранку повязку, потом тихонько прикрыл руку Консуэло одеялом и, протянув канониссе флакон с нюхательными солями, чтобы та давала его вдыхать больной, пригласил капеллана и доктора в комнату Амелии.
– Господа, – обратился он к ним, – вы никак не можете быть полезны лицу, которое я лечу. Нерешительность или предрассудки парализуют ваше усердие и ваши знания. Объявляю вам, что я все беру на себя и не хочу, чтобы вы отвлекали меня и мешали мне в таком серьезном деле. А потому я прошу господина капеллана идти читать свои молитвы, а господина доктора прописывать лекарства моей кузине. Я не допущу больше ни мрачных прогнозов, ни приготовлений к смерти у постели лица, к которому скоро должно вернуться сознание. Да будет вам это известно, господа! Если я оскорбляю этим ученого и огорчаю друга, то готов буду просить у них прощения, когда смогу думать о себе.
Высказав все это спокойным, ласковым тоном, так противоречившим сухости его слов, он вернулся в комнату Консуэло, запер за собой дверь на ключ и, положив его в карман, сказал канониссе:
– Никто не войдет сюда и не выйдет отсюда без моего разрешения.
Глава 49
Ошеломленная канонисса не посмела ответить племяннику ни слова. В выражении его лица, во всей его осанке была такая непреклонность, что добрейшая тетка даже испугалась и инстинктивно, с необыкновенной готовностью и образцовой аккуратностью начала исполнять все его желания. Доктор, видя, что его авторитет решительно не признается, и не рискуя вступать в препирательства с буйнопомешанным, как он потом рассказывал, благоразумно удалился. Капеллан отправился молиться. Альберт же с помогавшими ему теткой и двумя служанками провел весь день в комнате Консуэло, ни на минуту не ослабляя своего ухода за ней. После нескольких часов спокойствия у больной снова повторился припадок, но только более короткий. Когда благодаря сильным успокоительным средствам припадок затих, Альберт стал уговаривать тетку пойти соснуть и прислать какую-нибудь женщину на смену двум служанкам, которым тоже нужно было отдохнуть.
– А вы, Альберт, разве не хотите отдохнуть? – робко спросила Венцеслава.
– Нет, дорогая тетушка, я совершенно не нуждаюсь в отдыхе.
– Увы, – ответила она, – вы себя убиваете, дитя мое… Дорого же нам обойдется эта иностранка! – добавила, уходя к себе, расхрабрившаяся старушка, заметив, что молодой граф не слушает ее.
Все же Альберт согласился немного перекусить, чтобы набраться сил, которые, он чувствовал, могли ему понадобиться. Он поел в коридоре стоя и не спуская глаз с двери. Кончив, он бросил салфетку на пол и вернулся в комнату больной, затем наглухо закрыл дверь к Амелии, чтобы те немногие лица, которых он допускал, проходили коридором. Тем не менее Амелия сделала вид, будто хочет ухаживать за подругой. Но она бралась за все так неловко, приходила в такой ужас от всякого движения больной, так боялась новых судорог, что Альберт, выйдя из себя, попросил ее ни во что не вмешиваться, идти в свою комнату и заняться своими делами.
– В мою комнату? – отвечала Амелия. – Если бы даже приличие и позволяло мне спать в комнате, отделенной от вас одной дверью, – ведь вы, можно сказать, поселились у меня, – то неужели вы думаете, что я в состоянии заснуть хоть на минуту, слыша эти раздирающие душу вопли, эту страшную агонию?
Альберт, пожав плечами, ответил ей, что в замке много других комнат и что она может выбрать любую, пока больная не будет перенесена в помещение, где ее соседство никого не обеспокоит.
Раздосадованная Амелия последовала этому совету. Тяжелее всего ей было смотреть на нежные, можно сказать материнские заботы, которыми Альберт окружал ее соперницу.
– Ах, тетушка! – воскликнула она, бросаясь на шею канониссы, когда та устроила ее в собственной спальне, где велела поставить еще одну кровать рядом со своей. – Мы с вами не знали Альберта: теперь мы видим, как он умеет любить!
Несколько дней Консуэло была между жизнью и смертью. Но Альберт боролся с недугом так упорно и так искусно, что наконец ему удалось победить его. Как только девушка оказалась вне опасности, он велел перенести ее в одну из башен замка. Здесь дольше бывало солнце, и вид отсюда был красивее и шире, чем из других окон. Вообще комната эта со своей старинной мебелью более соответствовала серьезным вкусам Консуэло, чем та, куда нашли нужным поместить ее по приезде, и уже давно можно было понять из ее слов, что ей хотелось бы жить там. Здесь ей не угрожала назойливость подруги, и, несмотря на постоянное присутствие женщины, сменявшейся утром и вечером, она могла проводить в сущности наедине со своим спасителем томительные и сладостные дни своего выздоровления. Они всегда говорили по-испански: нежные слова, осторожно выражавшие страсть Альберта, были милее для слуха Консуэло на языке, напоминавшем ей родину, мать, детство. Преисполненная горячей благодарности, измученная страданиями, от которых избавил ее один Альберт, она теперь предавалась тому дремотному покою, который наступает после тяжкого кризиса. Память ее мало-помалу пробуждалась, но как-то неравномерно. Так, например, живо припоминая с чистой и понятной радостью помощь и самоотверженность Альберта в главные моменты их встреч, она в то же время как-то неясно, как бы сквозь густое облако, прозревала заблуждения его рассудка и всю глубину его слишком серьезной страсти. Бывали часы, когда после сна или приема успокоительного лекарства все, что возбуждало в ней прежде недоверие и страх к ее великодушному другу, представлялось ей каким-то бредом. Она до того привыкла к нему и его заботам о себе, что, когда он уходил, по ее же просьбе, обедать со своей семьей, она волновалась и плохо себя чувствовала, пока он отсутствовал. Ей казалось, что успокоительные средства, приготовленные и поданные не им самим, производят на нее обратное действие; когда же он сам подносил их ей, она с медленной и полной значения улыбкой, удивительно трогательной на красивом лице, с которого еще не совсем исчезла тень смерти, говорила:
– Теперь, Альберт, я верю, что вы чародей: стоит вам повелеть капле воды оказать на меня благотворное действие, и она моментально передает мне и ваше спокойствие и вашу силу.
Впервые в жизни Альберт был счастлив; а так как душа его, казалось, была способна с такой же силой чувствовать радость, с какой она чувствовала скорбь, то в этот период его жизни, период восторгов и упоения, он был счастливейшим человеком на земле. Комната, где он во всякое время, без докучных свидетелей, мог видеть любимую, стала для него раем. Ночью, когда все в доме ложились спать, он, делая вид, будто тоже идет к себе, тихонько пробирался в эту комнату. Сиделка, которой поручено было следить за больной, крепко спала, он прокрадывался к кровати своей дорогой Консуэло, глядел и не мог наглядеться на нее, спящую, бледную, поникшую, словно цветок после бури. Потом он усаживался в большое кресло (уходя, он никогда не забывал поставить его у постели больной) и проводил в нем всю ночь, засыпая таким чутким сном, что стоило Консуэло пошевельнуться, как он уже нагибался над нею и прислушивался к тому, что она бормотала слабым голосом; а когда девушка, взволнованная каким-нибудь сном, тревожимая остатками прежних страхов, искала его руки, дружеское пожатие всегда готово было ее успокоить. Если сиделка просыпалась, Альберт обыкновенно говорил ей, что только что вошел, и у той создалось впечатление, что молодой граф раза два-три в ночь навещает свою больную. А между тем он и получаса за всю ночь не проводил в своей комнате. Консуэло, так же как и сиделка, ошибалась на этот счет, – хотя она чаще замечала присутствие Альберта, но была еще так слаба, что ему ничего не стоило ввести ее в заблуждение насчет продолжительности своих посещений. Иногда среди ночи, когда она начинала умолять его идти спать, он уверял ее, что уже близок рассвет и что он только что встал. Благодаря этим невинным обманам Консуэло, никогда не страдая от его отсутствия, в то же время не беспокоилась по поводу того утомления, которому он подвергал себя ради нее.
Правда, несмотря на все, усталость его была так незначительна, что он даже не замечал ее. Любовь дает силы самым слабым, а у Альберта был исключительно крепкий организм, да к тому же никогда в сердце человеческом не жила такая огромная, живительная любовь, как теперь у него. Когда с первыми лучами солнца Консуэло с трудом добиралась до своей кушетки, стоявшей у полуоткрытого окна, Альберт усаживался позади нее и в мчавшихся облаках и пурпурных лучах восходящего солнца силился прочесть те мысли, которые вид неба мог пробудить в его молчаливой подруге. Иногда он незаметно брал в руки кончик тонкого шарфа, который она набрасывала себе на голову и который теплый ветерок развевал по спинке кушетки, и, склонив голову, словно отдыхая, тихо прижимался к нему губами. Однажды Консуэло, потянув шарф к себе на грудь, обратила внимание на то, что конец его теплый и влажный. Обернувшись с большей живостью, чем она это делала обычно во время болезни, она увидела своего друга в необыкновенно возбужденном состоянии: щеки его пылали, глаза горели лихорадочным огнем, он тяжело дышал. Альберт мгновенно овладел собой, но все-таки успел прочесть испуг на лице Консуэло. Это глубоко опечалило его. Он предпочел бы увидеть в ее глазах презрение и суровость, чем признаки страха и недоверия. Он решил следить за собой настолько внимательно, чтобы никогда больше воспоминанием о своем безумии не потревожить ту, которая исцелила его от этого безумия почти ценою собственной жизни и рассудка.
Он добился этого благодаря силе воли, какой, пожалуй, не нашел бы в себе и более уравновешенный человек. Он уже давно привык сдерживать пыл своих чувствований, борясь с частыми и таинственными приступами своего недуга, и окружающие даже не подозревали, как велика была его власть над собой. Они не знали, что чуть ли не каждый день ему приходилось подавлять сильнейшие припадки и что только окончательно сокрушенный глубочайшим отчаянием и безумием он убегал в свою неведомую пещеру, оставаясь победителем даже в своем поражении, так как все же был в состоянии скрыть от людских взоров свое падение. Альберт принадлежал к числу безумцев, достойных самой глубокой жалости и самого глубокого уважения: он знал о своем безумии и чувствовал его приближение вплоть до момента, когда бывал всецело им охвачен. Но даже и тут, в самый разгар своих припадков, он сохранял смутное воспоминание о действительном мире и не желал показываться, пока окончательно не придет в себя. Такое воспоминание о реальной деятельной жизни мы все храним, когда тяжелые сновидения погружают нас в жизнь вымысла и бреда. Мы боремся порой с этими ночными страхами и кошмарами, мы говорим себе, что это бред, и пытаемся проснуться, но какая-то злая сила вновь и вновь захватывает нас и снова повергает в ту страшную летаргию, где нас осаждают и терзают зловещие и мучительные видения.
В подобных чередованиях протекала насыщенная бурными переживаниями и вместе с тем жалкая жизнь этого непонятного человека; спасти его от страданий могло только сильное, тонкое и нежное чувство. И такое чувство появилось наконец в его жизни. Консуэло была как раз такою чистой душою, которая, казалось, была создана для того, чтобы проникнуть в эту мрачную душу, до сих пор недоступную для глубокой любви. В заботливости молодой девушки, порожденной вначале романтическим энтузиазмом, в ее почтительной дружбе, вызванной признательностью за самоотверженный уход за нею во время болезни, было нечто пленительное и трогательное, нечто такое, что господь счел, видимо, особенно подходящим для исцеления Альберта. Весьма возможно, что, если бы Консуэло откликнулась, позабыв о прошлом, на его пылкую любовь, эти новые для него восторги и внезапная безмерная радость могли бы повлиять на него самым печальным образом. Но ее застенчивая, целомудренная дружба должна была медленно, но более верно способствовать его исцелению. Это являлось одновременно и уздою и благодеянием для него; и если обновленное сердце молодого человека было опьянено, то к опьянению примешивалось чувство долга, жажда самоотвержения, дававшие его мыслям иную пищу, а его воле – иную цель, нежели та, которая поглощала его до сих пор. Он испытывал одновременно и счастье быть любимым так, как никогда еще не был любим, и горе не быть любимым с такою страстью, какую испытывал сам, и, наконец, страх, что потеряет это счастье, если покажет, что он не вполне им удовлетворен. Все эти чувства до такой степени заполняли его душу, что в ней не оставалось места для фантазий, на которые так долго наталкивали его бездействие и одиночество. Теперь он, словно по волшебству, избавился от этих мечтаний, он забыл о них, и образ любимой удерживал его несчастья на расстоянии, встав, словно небесный щит, между ним и ими.
Итак, отдых для ума и покой для чувств, необходимые для восстановления сил юной больной, теперь лишь изредка и ненадолго нарушались тайным волнением ее врача. Консуэло, как мифологический герой, спустилась в преисподнюю, чтобы вывести из нее своего друга, – и вынесла оттуда для себя самой ужас и безумие. Теперь он, в свою очередь, старался освободить ее от мрачных мыслей, и благодаря его нежным заботам и страстной почтительности ему это удалось. Опираясь друг на друга, они вступали вместе в новую жизнь, не смея, однако, оглядываться назад и думать о той бездне, откуда они вырвались. Будущее было для них новою бездной, не менее таинственной и ужасной, куда они тоже не отваживались заглядывать. Зато они могли спокойно наслаждаться настоящим, этим благодатным временем, которое им ниспослало небо.
Глава 50
Остальные обитатели замка были далеко не так спокойны. Амелия была взбешена и больше не удостаивала больную своими посещениями. Она подчеркнуто не разговаривала с Альбертом, не смотрела на него, даже не отвечала на его утреннее и вечернее приветствие. И ужаснее всего было то, что Альберт, по-видимому, совершенно не замечал ее досады.
Канонисса, видя явную, нескрываемую страсть племянника к «авантюристке», не знала теперь ни минуты покоя. Она ломала себе голову, придумывая, как бы избавиться от такой опасности, как положить конец такому скандалу, и по этому поводу у нее не прекращались совещания с капелланом. Но почтенный пастырь не очень-то желал прекращения создавшегося положения вещей. Давно уже он не играл никакой роли в семейных тревогах, а со времени последних волнений его роль снова сделалась более значительной: наконец-то он мог позволить себе такое удовольствие, как шпионить, разоблачать, предупреждать, предсказывать, советовать, – словом, мог по своему усмотрению вертеть домашними делами, причем все это проделывать втихомолку, укрывшись от гнева молодого графа за юбками старой тетки. Оба они не переставали находить новые поводы к тревогам, новые причины быть настороже. Одного им никогда не удавалось – найти спасительный выход. Не было дня, когда бы добрейшая Венцеслава не пыталась вызвать своего племянника на решительное объяснение, но каждый раз его насмешливая улыбка или ледяной взгляд заставляли ее умолкнуть и разрушали ее планы. Ежеминутно она искала удобного случая проскользнуть к Консуэло, чтобы ловко и строго отчитать ее, но ежеминутно Альберт, точно предупрежденный домашними духами, появлялся на пороге комнаты и, подобно Юпитеру Громовержцу, одним движением бровей сокрушал гнев и замораживал мужество богов, враждебных его дорогой Трое. Все же канониссе удалось несколько раз заговорить с больной, и так как минуты, когда они оставались с глазу на глаз, были очень редки, то она старалась воспользоваться ими, чтобы наговорить ей разных нелепостей, казавшихся ей самой чрезвычайно многозначительными. Но Консуэло была так далека от приписываемых ей честолюбивых замыслов, что ровно ничего не поняла из этих намеков. Ее удивление, ее искренность, доверчивость моментально обезоруживали добрую канониссу, которая никогда в своей жизни не могла устоять против откровенного тона и сердечной ласки. Сконфуженная, она шла к капеллану поведать ему о своем поражении, и остаток дня проходил в обсуждении планов на завтрашний день.
Между тем Альберт, отлично догадываясь об этих уловках и видя, что разговоры тетки начинают удивлять и беспокоить Консуэло, решил положить им конец. Однажды он подкараулил Венцеславу в ту минуту, когда та ранехонько утром, не рассчитывая встретить его, пробиралась к Консуэло; она уже взялась было за ручку двери, собираясь войти в комнату больной, как вдруг перед нею предстал племянник.
– Милая моя тетушка, – проговорил он, ласково отрывая ее руку от двери и поднося к своим губам, – мне надо сказать вам по секрету нечто очень для вас интересное, а именно: жизнь и здоровье особы, которая лежит здесь, для меня гораздо драгоценнее, чем моя собственная жизнь, чем мое собственное счастье. Я прекрасно знаю, что по наказу вашего духовника вы считаете своим долгом препятствовать проявлению моей преданности и стараетесь, насколько возможно, сократить мои заботы о ней. Не будь этого влияния, ваше благородное сердце никогда не позволило бы вам горькими словами и несправедливыми упреками мешать выздоровлению больной, едва вырвавшейся из когтей смерти. Но раз уж фанатизм или мелочность пастыря могут делать чудеса, могут превращать искреннее благочестие и чистейшее милосердие в слепую жестокость, то я всеми силами буду противодействовать этому злодеянию, орудием которого согласилась сделаться моя бедная тетушка. Теперь я буду охранять свою больную день и ночь, я ни на минуту не покину ее, а если, несмотря на все мои старания, вы умудритесь отнять ее у меня, то клянусь самой страшной для верующих клятвой, навсегда покину дом моих предков. Надеюсь, что господин капеллан, узнав от вас о нашем разговоре, перестанет терзать вас и бороться с великодушными порывами вашего материнского сердца.
Бедная канонисса совсем остолбенела и на речь племянника смогла ответить только слезами. Разговор происходил в конце коридора, куда Альберт увел ее, опасаясь, чтобы Консуэло не услышала их. Придя немного в себя, Венцеслава стала горячо упрекать племянника за его вызывающий, угрожающий тон и тут же не преминула воспользоваться случаем поставить на вид все безрассудство его привязанности к девушке такого низкого происхождения, как Нина.
– Милая тетушка, – возразил на это Альберт, улыбаясь, – вы забываете, что если в нас и течет царственная кровь Подебрадов, то предки наши, монархи, были возведены на престол восставшими крестьянами и храбрыми солдатами. Стало быть, каждый Подебрад в своем славном происхождении должен всегда видеть лишний повод для сближения со слабыми и неимущими, так как от них-то и пошли корни его силы и могущества; и все это было не так давно, чтобы об этом можно было уже забыть.
Когда Венцеслава рассказала капеллану об этом бурном разговоре, тот посоветовал ей не раздражать молодого графа настойчивостью и не доводить его до еще большего возмущения, терзая ту, которую он защищает.
– По этому поводу надо обратиться к графу Христиану, – сказал он. Ваша чрезмерная мягкость усилила смелость его сына; пусть ваши благоразумные доводы внушат наконец отцу чувство тревоги и заставят его принять решительные меры по отношению к опасной особе.
– Да неужели вы думаете, – возразила канонисса, – что я не прибегала уже к этому средству? Но, увы, мой брат постарел на пятнадцать лет за эти пятнадцать дней последнего исчезновения Альберта. Его умственные силы так ослабли, что он совершенно не понимает моих намеков и как-то инстинктивно боится самой мысли о новом огорчении; словно ребенок, он радуется тому, что сын нашелся и рассуждает, как разумный человек. Ему кажется, что Альберт совершенно выздоровел, и он не замечает, что бедный сын его охвачен новым безумием более пагубным, чем прежнее. Уверенность Христиана так глубока, он так наивно тешит себя этой мыслью, что у меня не хватает мужества открыть ему глаза на все происходящее. Мне кажется, господин капеллан, что если бы брат услышал это разоблачение от вас, он принял бы его с большей покорностью, и вообще благодаря вашим духовным увещаниям ваша беседа с ним была бы более полезной и менее тягостной.
– Это разоблачение слишком щекотливо, – ответил капеллан, – чтобы могло быть сделано столь скромным пастырем, как я. Оно было бы гораздо уместнее в устах сестры, которая может смягчить его такими ласковыми словами, с какими я не смею обращаться к высокочтимому главе семьи.
Обе эти почтенные особы потратили много дней на препирательства о том, кто из них первый отважится заговорить со старым графом. А пока они колебались, привычка к медлительности и апатия делали свое дело – любовь в сердце Альберта все росла и росла. Консуэло заметно поправлялась, и никто не нарушал их нежной близости, которую благодаря неподдельной чистоте и глубокой любви никакой суровый страж не мог бы сделать ни более целомудренной, ни более сдержанной, чем она была.
Между тем баронесса Амелия, не в силах дольше переносить свою унизительную роль, настойчиво просила отца увезти ее в Прагу. Барон Фридрих, предпочитавший пребывание в лесах жизни в городе, тем не менее обещал ей все что угодно, но бесконечно откладывал день отъезда, не делая к нему никаких приготовлений. Дочка поняла, что надо ускорить развязку, и придумала способ быстро и внезапно осуществить свое желание. Сговорившись со своей горничной, хитрой и решительной француженкой, она однажды утром, когда отец собирался на охоту, стала просить его отвезти ее в соседний замок к знакомой даме, которой давно уже надо было отдать визит. Барону не очень-то хотелось отказываться от своего ружья и охотничьей сумки, переодеваться и менять весь распорядок дня, но он надеялся, что такое потворство сделает дочь менее требовательной, что прогулка рассеет ее дурное настроение и она без особенного неудовольствия проведет в замке Исполинов несколько лишних дней. Заручившись одной неделей, он уже думал, что обеспечит себе свободу на всю жизнь: не в его привычках было заглядывать дальше. Итак, покорившись своей участи, он отправил Сапфира и Пантеру на псарню, а сокол Атилла вернулся на свой насест с угрюмым и недовольным видом, что вызвало у его хозяина тяжелый вздох.
Наконец барон уселся с дочерью в карету и, как это с ним обычно бывало в подобных случаях, немедленно и крепко заснул. Тотчас же Амелия приказала кучеру повернуть и ехать на ближайшую почтовую станцию. Они домчались туда через два часа, и когда барон открыл глаза, почтовые лошади, которые должны были везти его в Прагу, были уже впряжены в карету.
– Что такое? Где мы? Куда мы едем? Амелия, что это ты выдумала, милочка? Что значит этот каприз или эта шутка?
На все эти вопросы молодая баронесса, ласкаясь к отцу, отвечала лишь взрывами веселого смеха. И только когда увидела, что форейтор уже на лошади, а карета катится по большой дороге, она, сразу приняв серьезный вид, весьма решительно заговорила:
– Милый папа, ни о чем не беспокойтесь. Наш багаж прекрасно уложен, каретные ящики полны всем необходимым для дороги. В замке Исполинов остались только ваше оружие и собаки. В Праге они вам не нужны, а впрочем, они будут вам присланы по первому же требованию. Дяде Христиану за завтраком передадут мое письмо. В нем я пишу, что нам необходимо было уехать – и пишу так, что это не особенно огорчит его и не вызовет раздражения ни против вас, ни против «меня. А теперь я смиренно прошу прощения за то, что обманула вас; но ведь прошел месяц с тех пор, как вы обещали мне сделать то, что я выполнила сейчас, – стало быть, в сущности, я не иду против вашей воли, увозя вас в Прагу в ту минуту, когда вы об этом не думали; зато, я уверена, вы в восторге, что избавлены от всех неприятностей, связанных с решением уехать и с дорожными сборами. Мое положение становилось невыносимым, а вы и не замечали этого. Вот мое извинение и оправдание. Соблаговолите же обнять меня и не смотрите на меня такими грозными глазами – я ужасно их боюсь.
Говоря это, Амелия, так же как и ее наперсница, едва удерживалась от смеха, ибо никогда в жизни у барона не было грозного взгляда ни для кого вообще, а для обожаемой дочки и подавно. В данную же минуту взгляд у него был растерянный и даже, надо признаться, бессмысленный, – таково было действие неожиданности. Если он и был несколько раздосадован выкинутой над ним шуткой, огорчен внезапной разлукой с братом и сестрой, с которыми даже не простился, то вместе с тем он был так изумлен случившимся, что его неудовольствие тотчас же сменилось восхищением.
– Но как вы умудрились все это устроить, не возбудив во мне ни малейшего подозрения? – допрашивал он. – Да, по правде сказать, снимая охотничьи сапоги и отсылая верховую лошадь, я был далек от мысли, что еду в Прагу и что сегодня вечером не буду обедать с братом! Вот странное приключение! Я уверен, что никто не поверит, когда я стану о нем рассказывать… Но куда же, Амелия, запрятали вы мою дорожную шапку? Как, по-вашему, не спать же мне, надвинув на уши эту шляпу с галунами?
– Ваша шапка? Вот она, милый папа, – проговорила юная плутовка, подавая ему меховую шапку, которую он тут же с простодушным удовольствием надел на голову.
– А моя дорожная фляжка? Наверно, ты забыла о ней, злая девчонка?
– Конечно, нет! – воскликнула Амелия, протягивая ему хрустальную бутылку, оплетенную русской кожей и отделанную серебром. – Я сама наполнила ее лучшим венгерским вином, какое только имеется в подвале у тети. Попробуйте-ка его, это ваше любимое.
– А моя трубка, а мой кисет с турецким табаком?
– Все тут, – сказала горничная, – мы ничего не забыли, обо всем позаботились, чтобы господину барону было приятно путешествовать.
– В добрый час! – проговорил барон, набивая себе трубку. – Тем не менее, дорогая Амелия, вы со мной поступили прескверно. Вы делаете из вашего отца посмешище. По вашей милости все будут надо мной издеваться.
– Дорогой папа, – отвечала Амелия, – это я являюсь посмешищем в глазах света, давая повод думать, будто упорно хочу выйти замуж за кузена, который совершенно не удостаивает меня своим вниманием и на моих глазах усиленно ухаживает за моей учительницей музыки. Достаточно долго терпела я такое унижение и не знаю, много ли найдется девушек моего круга, моей наружности и моих лет, которые отнеслись бы к этому так, как я, а не похуже. Я уверена, что есть девушки, которые скучают меньше, чем скучала я в последние полтора года, и которые, однако, убегают или позволяют похитить себя, лишь бы избавиться от своей скучной жизни. Я же довольствуюсь тем, что убегаю, похищая собственного отца. Это более ново и более прилично. Что думает по этому поводу дорогой мой папочка?
– Ты у меня настоящий бесенок! – проговорил барон, целуя дочку.
Он очень весело провел всю дорогу, попивая, покуривая и отсыпаясь, ни на что больше не жалуясь и ничему больше не удивляясь.
В замке это событие не произвело того впечатления, на какое рассчитывала юная баронесса. Начать с Альберта: если бы ему не сообщили, он и через неделю не заметил бы этого, а когда канонисса объявила ему об отъезде родственников, он ограничился тем, что сказал:
– Вот единственная умная вещь, которую сделала умница Амелия с минуты своего приезда сюда. Что касается добрейшего дяди, то, я надеюсь, он скоро к нам вернется.
– А я жалею об отъезде брата, – сказал старый Христиан. – В мои годы имеют значение недели и даже дни. То, что тебе, Альберт, кажется коротким сроком, для меня может стать вечностью, и я далеко не так уверен, как ты, что увижусь снова с моим тихим и беспечным братом Фридрихом. Ну, что же делать! Этого хотела Амелия, – прибавил он с улыбкой, сворачивая и откладывая в сторону удивительно ласковое и вместе с тем злое письмо, оставленное ему юной баронессой. – Ведь женская злоба ничего не прощает. Вы, дети мои, не были рождены друг для друга, и мои сладкие мечты развеялись как дым!
Говоря это, старый граф с какой-то меланхолической веселостью поглядел на сына, как бы ожидая уловить в его глазах тень сожаления. Но ничего подобного он в них не прочел. А Альберт, нежно пожав руку отца, дал ему этим понять, что благодарит его за отказ от проекта, который был так мало ему по сердцу.
– Да будет воля твоя, господи! – снова заговорил старик. – И да будет сердце твое свободно, сын мой! Ты теперь здоров и кажешься спокойным и счастливым среди нас. Я умру утешенный, и благодарность отца принесет тебе счастье после нашей разлуки.
– Не говорите о разлуке, отец мой, – воскликнул молодой граф с глазами, полными слез, – я не в силах вынести эту мысль!
Тут капеллан встал и с деланно скромным видом вышел, предварительно приободрив взглядом уже несколько растроганную канониссу. Взгляд этот был и приказанием и сигналом. С душевной болью и со страхом она поняла, что наступила минута говорить. И вот, закрыв глаза, словно человек, бросающийся из окна во время пожара, она начала, путаясь и бледнея:
– Конечно, Альберт нежно любит отца и не захочет смертельно огорчить его…
Альберт поднял голову и посмотрел на тетку таким ясным, пронизывающим взором, что та смутилась и не смогла сказать ничего больше. Старый граф, казалось, не слышал этой странной фразы, а среди воцарившегося молчания бедная Венцеслава трепетала под взглядом племянника, словно куропатка, загипнотизированная собакой, делающей над ней стойку.
Но через несколько минут граф Христиан, очнувшись от своей задумчивости, ответил сестре так, как будто она продолжала говорить или как будто он прочел в ее душе все то, что она собиралась ему открыть.
– Дорогая сестра, – сказал он, – позвольте мне дать вам совет: не терзайте себя тем, в чем вы ничего не понимаете. Вы в своей жизни не имели понятия о том, что такое сердечное влечение, а суровые правила канониссы не годятся для молодого человека.
– Боже милостивый! – прошептала совсем расстроенная канонисса. – Или брат не хочет меня понять, или разум и благочестие покинули его! Возможно ли, чтобы он по своей слабости стал поддерживать или так легко смотреть…
– Что поддерживать, тетушка? – спросил Альберт решительно и строго. – Говорите, раз уж вас заставляют это делать! Выскажите яснее вашу мысль. Пора кончить с этим напряженным состоянием, и пора нам узнать друг друга.
– Нет, сестра, не говорите, – остановил ее граф Христиан, – ничего нового вы мне не скажете. Я давно прекрасно понял вас, но только не подавал виду. Минута для объяснений по этому поводу еще не настала. Когда придет время, я буду знать, что надо делать.
И он намеренно заговорил о другом. Канонисса совсем упала духом, а Альберт взволновался, не понимая, что хотел сказать отец.
Капеллан, узнав, как глава семьи отнесся к его предостережению, переданному окольным путем, страшно перепугался. Граф Христиан, несмотря на свой беспечный, нерешительный вид, никогда не был слабым человеком. Не раз случалось ему, выйдя из своего, казалось бы, апатичного состояния, действовать энергично и разумно. Священник струсил, поняв, что зашел слишком далеко и может получить выговор. И он принялся поспешно уничтожать дело рук своих, уговаривая канониссу больше ни во что не вмешиваться. Две недели прошли самым мирным образом. Консуэло даже в голову не приходило, что она является причиной семейных волнений. Альберт по-прежнему заботился о ней, а об отъезде Амелии сообщил, как о временной отлучке, не возбудив в Консуэло ни малейшего подозрения относительно его причины. Консуэло начала выходить из своей комнаты, и когда она в первый раз прогуливалась по саду, старый Христиан своей слабой, дрожащей рукой поддерживал неверные шаги выздоравливающей.
Глава 51
То был чудесный день в жизни Альберта, когда вернувшаяся к жизни Консуэло, поддерживаемая его старым отцом, на глазах у всей семьи протянула ему руку и с несказанно кроткой улыбкой проговорила:
– Вот кто спас меня! Кто ухаживал за мной как за родной сестрой!
Но этот день, день апогея его счастья, сразу изменил, и притом больше, чем он мог это предвидеть, его отношения с Консуэло. Отныне, войдя снова в семейный круг, она довольно редко оставалась с ним наедине. Старый граф, казалось еще больше полюбивший Консуэло после ее болезни, по-отцовски заботился о девушке, что глубоко трогало ее. Канонисса, правда, ничего больше не говорила, но все-таки считала своим долгом следить за каждым ее шагом и при появлении Альберта была всегда тут как тут. А так как молодой граф не обнаруживал больше никаких признаков умственного расстройства, то в замок стали усиленно приглашать родственников и соседей, чего давно уже не бывало. С какой-то простодушной и трогательной гордостью старики хотели показать им, каким общительным и любезным сделался снова молодой граф фон Рудольштадт; поскольку же Консуэло, видимо, требовала и взглядами и своим примером, чтобы он исполнял желания родных, то ему волей-неволей пришлось вернуться к роли светского человека и гостеприимного хозяина замка.
Это внезапное превращение не легко далось Альберту. Он покорился только ради той, которую любил. Но за это он жаждал награды в виде более продолжительных бесед, откровенных излияний. Он терпеливо выносил целые дни принуждения и скуки, лишь бы вечером услышать от нее слово одобрения и благодарности. Когда же между ними появлялась, как навязчивый призрак, канонисса и вырывала у него и эту чистую радость, он озлоблялся и падал духом. Проводя ужасные ночи, он часто бродил у колодца, который был всегда полон прозрачной воды с того дня, когда он поднялся из него, неся на руках Консуэло. Измученный тяжелыми думами, Альберт почти проклинал данный им обет не ходить больше в свою тайную обитель. Его пугало то, что, чувствуя себя несчастным, он не может в недрах земли схоронить тайну своего страдания.
Конечно, и родные и его подруга не могли не обратить внимания на его измученный после бессонницы вид, на все чаще и чаще возвращавшееся к нему мрачное настроение и рассеянность. Но Консуэло нашла способ разгонять эти тучи и возвращать себе власть над ним всякий раз, когда ей грозило ее потерять: она начинала петь, и тотчас молодой граф, очарованный и покорный, находил облегчение в слезах или в новом приливе восторга. Средство это было неотразимо; и когда Альберту удавалось перекинуться с Консуэло хоть словом наедине, он восклицал:
– Консуэло, ты нашла дорогу к моей душе! Ты обладаешь силой, недоступной простым смертным: ты говоришь языком богов, тебе дано выражать самые возвышенные чувства и передавать людям самые могучие переживания твоей вдохновенной души. Пой же всегда, когда заметишь, что я изнемогаю! На слова, произносимые тобой в пении, я почти не обращаю внимания, – они являются только темой, несовершенным указанием, которое служит для раскрытия и развития музыкальной мысли, я почти не слушаю их, – до моего сердца доходит только твой голос, чувство, с каким ты поешь, твое вдохновение! Музыка говорит о том таинственном и возвышенном, о чем мечтает душа, что она предчувствует. В мелодии как бы раскрываются высшие идеи и чувства, которые бессилен выразить человеческий язык. Это – откровение бесконечного. И когда ты поешь, я принадлежу человечеству тем, что человечество почерпнуло божественного и вечного у создателя. Все то утешение и ободрение, в которых отказывают мне твои уста в обыденной жизни, все, что светская тирания не позволяет тебе высказать мне, – все сторицею воздает мне твое пение. Оно раскрывает мне твою сущность, и тогда душа моя обладает тобою и в радости и в горе, в вере и в сомнениях, в порывах восторга и в неге мечты.
Иногда Альберт говорил все это Консуэло и в присутствии семьи – по-испански, но видимое неудовольствие тетки и правила учтивости не дозволяли девушке отвечать ему. Наконец однажды, очутившись наедине с ним в саду, когда Альберт снова заговорил о том, какое счастье дает она ему своим пением, Консуэло спросила:
– Почему, если вы считаете музыку более совершенной и убедительной, чем слова, почему вы сами не общаетесь со мною этим способом? Ведь вы знаете музыку, быть может, еще лучше моего.
– Что вы хотите этим сказать, Консуэло? – воскликнул с удивлением молодой граф. – Я становлюсь музыкантом, только слушая вас.
– Не старайтесь меня обмануть, – ответила она. – Раз в жизни мне пришлось слышать поистине божественную игру на скрипке, и это играли вы, Альберт, – в пещере Шрекенштейна. В тот день я услышала вас, прежде чем вы увидели меня. Я овладела вашей тайной, – простите мне и дайте услышать еще раз ту чудную мелодию, из которой в моей памяти удержалось несколько фраз и которая раскрыла мне в музыке еще неведомые красоты. Консуэло попробовала вполголоса спеть смутно запомнившуюся ей мелодию, и Альберт сейчас же узнал ее.
– Это гуситский народный гимн, – сказал он. – Стихи, положенные на музыку, – произведение моего предка Гинко Подебрада, сына короля Георга, одного из поэтов нашей родины. У нас есть немало превосходных стихотворений – Стрея, Шимона Ломницкого и многих других, но они запрещены имперской полицией. Эти религиозные и народные песни, положенные на музыку неизвестными гениями Чехии, далеко не все уцелели в памяти богемцев. Некоторые из них сохранились в народе, и Зденко, обладающий необычайной памятью и музыкальным чутьем, знает их довольно много. Я собрал их и записал. Они очень красивы, и вам будет интересно познакомиться с ними. Но услышать их вы сможете только в моем убежище, там моя скрипка и все собрание нот. Среди них есть очень ценные рукописные сборники старинных католических и протестантских композиторов. Ручаюсь, что вы не знакомы ни с Жоскеном, несколько мелодий которого нам передал по наследству Лютер в своих церковных песнопениях, ни с Клодом Ле Женом, ни с Аркадельтом, ни с Георгом Рау, ни с Бенедиктом Дуцисом, ни с Иоанном Вейсом. Скажите, дорогая Консуэло, не побудит ли вас интерес к этим любопытным произведениям еще раз прийти в мою пещеру, откуда я так давно изгнан, и посетить мою церковь, которую вы еще не знаете?
Предложение это хотя и возбудило любопытство молодой артистки, однако заставило ее вздрогнуть. Ужасная пещера будила в ней такие воспоминания, что она не могла без дрожи подумать об этом, а мысль, что она может снова очутиться там вдвоем с Альбертом, невзирая на все доверие к нему, была ей мучительна. Он сразу заметил это.
– Я вижу, вас отталкивает самая мысль об этом паломничестве, хотя вы и обещали мне отправиться туда со мной, – сказал он. – Не будем больше говорить об этом. Верный своей клятве, я не пойду в свое убежище без вас.
– Вы, Альберт, напомнили мне о моей клятве, – сказала она, – и я сдержу ее, как только вы этого потребуете. Но, милый мой доктор, вы все-таки не должны забывать, что мои силы еще недостаточно окрепли. Не можете ли вы пока показать мне здесь эти любопытные произведения и дать мне послушать замечательного артиста, который играет на скрипке гораздо лучше, чем я пою?
– Вы смеетесь надо мной, дорогая сестра! Но все равно – вы услышите меня только в моей пещере. Именно там я попытался заставить этот инструмент говорить так, как внушало мне сердце; до того я ничего не смыслил в нем, несмотря на многолетние занятия с блестящим, но поверхностным профессором, которому отец платил большие деньги. Именно там я постиг, что такое музыка, постиг также, каким святотатственным глумлением заменяет ее большинство людей. А я, признаюсь, не был бы в состоянии извлечь из скрипки ни единого звука иначе, как распростершись мысленно перед божеством. Даже если бы я видел, что вы, холодно стоя рядом со мной, внимательно прислушиваетесь к исполняемым мною вещам, стремясь из любопытства определить степень моего таланта, то я, наверно, играл бы так плохо, что, пожалуй, вы не смогли бы и слушать. С тех пор как я немного овладел этим инструментом, который посвятил восхвалению господа и жаркой молитве, я никогда не прикасался к нему иначе, как переносясь в идеальный мир и повинуясь вдохновению, которое ни вызвать, ни удержать не в моих силах. А когда у меня нет этого вдохновения, потребуйте, чтобы я исполнил самую простую музыкальную фразу, и я знаю, что, при всем желании угодить вам, память изменит мне, а пальцы будут неуверенны, как у ребенка, берущего первые ноты.
– Я в состоянии понять ваше отношение к музыке, – ответила растроганная Консуэло, внимательно выслушав его, – и надеюсь, что смогу присоединиться к вашей молитве с душой настолько сосредоточенной и благоговейной, что присутствие мое не расхолодит вашего вдохновения. Ах, дорогой Альберт, отчего мой учитель Порпора не слышит того, что вы говорите о святом искусстве! Он стал бы пред вами на колени! Но даже этот великий артист менее суров, чем вы: он считает, что певец и виртуоз должны черпать вдохновение в симпатии и восхищении своих слушателей.
– Быть может, Порпора, что бы он ни говорил, соединяет в музыке религиозное чувство с человеческой мыслью. Быть может, он относится к духовной музыке как католик. Стань я на его точку зрения, я рассуждал бы, как он. Если бы я разделял веру и симпатии с народом, исповедующим одну со мной религию, я тоже искал бы в близости этих душ, проникнутых одним со мной религиозным чувством, то вдохновение, которое я вынужден был до сих пор находить в уединении, благодаря чему, быть может, оно и не бывало полным. Если когда-нибудь, Консуэло, мне выпадет счастье слить в молитве, как я ее понимаю сердцем, твой божественный голос со звуками моей скрипки, тогда, без сомнения, я поднимусь до высоты, какой никогда еще не достигал, и молитва моя будет более достойна божества. Не забывай, дорогая, что до сих пор верования мои были ненавистны всем окружающим, а те, кого они не оскорбляли, издевались над ними. Вот почему слабое свое дарование я скрывал от всех, кроме бога и бедного моего Зденко. Отец мой любит музыку и хотел бы, чтобы моя скрипка, столь же священная для меня, как систр элевсинских мистерий, развлекала его. Но, боже великий, что было бы со мной, если бы мне пришлось аккомпанировать Амелии, поющей какую-нибудь каватину, и что сталось бы с моим отцом, если бы я заиграл одну из старинных гуситских мелодий, доведших стольких богемцев до каторги и казни, или какой-нибудь из не менее старых гимнов наших лютеранских предков, – ведь он краснеет за свое происхождение от них! А более новых произведений, Консуэло, я не знаю. Разумеется, они существуют, и некоторые из них превосходны. Все, что вы мне рассказали о Генделе и других великих композиторах, на которых вы воспитывались, представляется мне гораздо выше во многих отношениях, чем то, чему, в свою очередь, я мог бы научить вас. Но чтобы ознакомиться с этой музыкой и изучить ее, мне надо было бы войти в новый музыкальный мир, а туда я мог бы решиться проникнуть только с вами, чтобы вы щедрой рукой излили на меня те сокровища, которых я так долго не знал или которыми пренебрегал.
– А я, – сказала, улыбаясь, Консуэло, – кажется, не возьмусь за это. Слышанное мною в пещере так прекрасно, так велико, так единственно в своем роде, что я побоюсь набросать гравия в источник из хрусталя и бриллиантов. Теперь я вижу, Альберт, что в музыке вы гораздо больший знаток, чем я. Но не скажете ли вы мне что-нибудь и о светской музыке? Ведь она должна стать моей профессией. Я боюсь обнаружить, что в светской музыке, как и в духовной, я была до сих пор не на высоте своего призвания и что мои знания недостаточны и поверхностны.
– Напротив, Консуэло, я смотрю на вашу роль как на священную и нахожу, что как ваша профессия – высшая из всех доступных женщине, так и душа ваша наиболее достойна выполнить это священнодействие.
– Постойте, постойте, дорогой граф, – с улыбкой возразила Консуэло, – из того, что я вам часто рассказывала о монастыре, где училась музыке, и о церкви, где пела хвалы творцу, вы заключаете, что я посвятила себя служению алтарю или скромному монастырскому преподаванию; но когда вы узнаете, что Zingarella в силу своего происхождения была в детстве предоставлена случайностям, что она занималась и духовной и светской музыкой, причем к той и к другой относилась с одинаковым жаром, не заботясь о том, куда приведет ее судьба – в или на театральные подмостки…
– Я убежден, что бог отметил тебя и предназначил еще в утробе матери быть святой, а потому без тревоги смотрю на жизненные случайности и уверен, что и на сцене ты будешь так же свята, как в монастыре.
– Как? Вы при всей суровости своих взглядов не боялись бы общения с актрисой?
– На заре религий, – ответил он, – храм и театр были одинаково священны. При первоначальной чистоте идей культовые обряды являлись зрелищем для народа, искусство зарождалось у подножия алтарей; самые танцы, посвященные в наши дни нечистому сладострастию, являлись музыкой чувства на празднествах богов. Музыка и поэзия – наивысшее выражение веры, а женщина, одаренная гениальностью и красотой, – жрица, пророчица и вдохновительница. Эти строгие, величавые формы прошлого заменились нелепыми и преступными разграничениями: католичество лишило празднества красоты, а торжественные церемонии – участия женщин; вместо того чтобы направить и облагородить любовь, оно изгнало и осудило ее. Но красота, женщина и любовь не могли утратить своей власти. И люди воздвигли им новые храмы, называемые театрами, в которых нет иного бога. Виноваты ли вы, Консуэло, что эти храмы обратились в вертепы разврата? Природа, которая создает свои чудеса, не заботясь о том, как они будут приняты людьми, сотворила вас, чтобы вы блистали среди женщин, расточая в мире сокровища дарования и гения. А монастырь и могила – синонимы. Вы не могли бы схоронить дары провидения, не совершив самоубийства. Для вашего полета нужен большой простор. Некоторые существа не могут жить без проявления своего «я», они повинуются властному велению природы, и воля божья в этом отношении так определенна, что бог отнимает у них способности, которыми их наделил, если они не пользуются ими как должно. Артист чахнет и гибнет в неизвестности, так же как мыслитель заблуждается и отчаивается в полном одиночестве, как всякий человеческий ум повреждается и гибнет в уединении и затворничестве. Идите же на сцену, Консуэло, если вас туда влечет, и выносите кажущееся бесчестие со смирением благочестивой души, обреченной на страдание, на тщетные поиски своей родины в здешнем мире! Не бойтесь! Тьма и порок – не ваша стихия: дух святой властно отстранит их от вас. Долго и с воодушевлением говорил Альберт, быстро шагая рядом с Консуэло под тенистыми деревьями речного заповедника. Он легко заразил девушку своим восторженным отношением к искусству, и она даже забыла о своем нежелании идти в пещеру. Видя, что он так горячо жаждет этого, она сама захотела побыть подольше наедине с этим пылким и вместе с тем застенчивым человеком, узнать его взгляды, которые он решался высказывать ей одной. Взгляды эти были новы для Консуэло, удивительно новы в устах аристократа того времени и той страны. Они поразили молодую артистку именно потому, что были смелым и откровенным выражением тех чувств, которые волновали ее самое. Будучи актрисой и в то же время человеком набожным, она ежедневно слыхала, как канонисса и капеллан беспощадно предавали проклятию комедиантов и балетных танцовщиков, ее собратьев. Теперь она почувствовала себя восстановленной во всех своих правах серьезным, просвещенным человеком, и ей казалось, что грудь ее свободнее дышит, сердце спокойнее бьется, казалось, что она нашла свое место в жизни. В глазах ее блестели слезы, а щеки горели ярким невинным румянцем, когда в конце аллеи она увидела искавшую ее канониссу.
– О моя жрица! – прошептал Альберт, прижимая к груди ее руку, опиравшуюся на него. – Придете ли вы молиться в мою церковь?
– Да, – ответила она, – приду непременно.
– А когда?
– Когда захотите. Но считаете ли вы, что я уже в силах совершить такой подвиг?
– Да, так как мы отправимся на Шрекенштейн днем и дорогой, не столь опасной, как через водоем.
Хватит ли у вас храбрости встать завтра на рассвете и выйти из ворот замка, как только они будут открыты? Меня вы найдете в тех кустах, что видны отсюда на склоне холма, у подножия каменного креста, и я буду вашим проводником.
– Ну хорошо, даю вам слово, – ответила, все-таки не без волнения, Консуэло.
– Сегодняшний вечер слишком прохладен для такой продолжительной прогулки, – сказала, подходя к ним, канонисса.
Альберт промолчал. Он не умел притворяться. Консуэло, чувствуя, что ни в чем не может упрекнуть себя, смело взяла под руку канониссу и крепко поцеловала ее в плечо. Венцеслава хотела было обдать девушку холодом, но невольно поддалась обаянию этой прямой, любящей души, а потому только вздохнула и, вернувшись домой, пошла помолиться за обращение ее на путь истинный.
Глава 52
Однако прошло несколько дней, а страстное желание Альберта все не могло исполниться. Канонисса так следила за Консуэло, что хоть она и вставала с зарей и первая переходила через подъемный мост, как только его опускали, однако ей тут же попадались навстречу канонисса или капеллан, бродившие по обсаженной буками площадке перед замком и не спускавшие глаз с открытого места, через которое надо было перейти, чтобы добраться до поросшего кустами холма. Консуэло решала прогуливаться одна на виду у них и отказаться от встречи с Альбертом. А тот, видя из своего тенистого убежища этот неприятельский дозор, делал большой круг по лесу и, никем не замеченный, возвращался в замок.
– Вы сегодня очень рано гуляли, синьора Порпорина, – обратилась к ней как-то за завтраком канонисса, – разве вы не боитесь, что влажная утренняя роса может повредить вам?
– Это я, тетушка, посоветовал синьоре дышать свежим утренним воздухом и не сомневаюсь, что эти прогулки принесут ей большую пользу, – вступился Альберт.
– Я полагала, что особе, посвящающей себя пению, – возразила канонисса несколько деланным тоном, – не следует выходить в наши туманные утра; но раз это по вашему указанию…
– Доверьтесь мнению Альберта, – сказал граф Христиан, – он уже доказал, что он такой же хороший врач, как хороший сын и хороший друг. Вынужденное притворство заставляло Консуэло краснеть, и ощущение у нее было до крайности тягостное. Когда она смогла украдкой переброситься с Альбертом несколькими словами, она кротко пожаловалась ему на это, прося отказаться от его проекта, хотя бы до тех пор, пока не ослабнет бдительность тетки. Альберт послушался, умоляя ее в то же время не прекращать своих утренних прогулок в окрестностях парка, чтобы он мог присоединиться к ней в благоприятный момент.
Консуэло очень хотела бы уклониться от этого. Правда, она любила прогулки и чувствовала даже потребность ежедневно хоть немного погулять вне давящих стен и рвов замка, но ей было тяжело обманывать людей, которых она уважала и чьим гостеприимством пользовалась. Любовь, даже не очень сильная, на многое закрывает глаза, но дружба размышляет, и Консуэло размышляла много… Стояли последние хорошие дни лета – ведь прошло уже несколько месяцев со времени ее появления в замке Исполинов. Какое это было лето для Консуэло! Даже в самую бледную осень в Италии было больше света и тепла. Но и в этом тепловатом воздухе, в этом небе, часто покрытом легкими перистыми белыми облачками, была своя прелесть, своя красота. Одинокие прогулки были ей по душе, быть может, потому, что ее не очень тянуло снова попасть в подземелье. Хотя Консуэло и решилась на это, она чувствовала, что Альберт избавил бы ее от большой тяжести, вернув ей слово, и когда она не видела его умоляющих глаз и не слышала его вдохновенных речей, то в душе благословляла канониссу, избавлявшую ее от данного ею обещания все новыми и новыми препятствиями.
Однажды утром, гуляя вдоль берега горной речки, она высоко над собой увидела Альберта, перегнувшегося через балюстраду цветника. Несмотря на разделявшее их значительное расстояние, она все время чувствовала на себе беспокойный страстный взгляд этого человека, воле которого она до некоторой степени подчинилась.
«В какое странное положение попала я, – думалось ей. – В то время как этот настойчивый друг наблюдает за мной, желая убедиться, верна ли я своей клятве, откуда-нибудь из замка за мною, без сомнения, тоже следят, опасаясь, чтобы я не встретилась с ним вопреки правилам и приличиям. Я не знаю, что происходит в уме у тех и у других. Баронесса Амелия не возвращается. Канонисса как будто чувствует ко мне недоверие и стала гораздо холодней. Граф Христиан же относится ко мне дружелюбнее, чем раньше, и говорит, что боится появления Порпоры, которое, вероятно, повлечет за собой мой отъезд. Альберт точно забыл о том, что я запретила ему надеяться на мою любовь. Словно ожидая от меня всего, он ни о чем не просит, но и не отказывается от своей страстной любви, дающей ему, по-видимому, счастье, несмотря на то, что я не в состоянии отвечать на нее. А между тем каждое утро я, словно настоящая возлюбленная, жду свидания с ним, желая в то же время, чтобы он не являлся, и подвергаю себя порицанию, а быть может, и презрению семьи, которая не может понять ни моей преданности ему, ни вообще наших отношений. Да как им и понять, когда я сама не могу разобраться в них и даже не предвижу, чем все это кончится. Странная у меня судьба! Неужели я обречена вечно жертвовать собой либо для того, кого я люблю, но кто меня не любит, либо для того, кого я уважаю, но не люблю?»
Эти размышления навеяли на нее глубокую грусть. Она ощущала потребность принадлежать только самой себе, эту высшую, самую законную потребность, которая является необходимым, непременным условием для движения вперед, для развития выдающегося артиста. Забота об Альберте, взятая ею на себя, тяготила ее, как цепи. Горькое воспоминание об Андзолето и Венеции неотступно преследовало ее среди бездействия и одиночества жизни, слишком монотонной и размеренной для ее могучей натуры.
Она остановилась у скалы, на которую Альберт не раз указывал ей, как на место, где по странной случайности он видел ее впервые ребенком, привязанной ремнями к спине матери, которая носила ее по горам и долам и распевала, как стрекоза в басне, не задумываясь о грозящей старости и суровой нужде.
«Бедная матушка, – подумала юная Zingarella, – снова я по воле неисповедимой судьбы в тех местах, которыми когда-то прошла и ты, едва запомнив их, сохранив лишь воспоминание о трогательном гостеприимстве. Ты была молода и красива и, конечно, на своем пути встречала не одно место, где могла бы найти приют любви или где общество могло простить и перевоспитать тебя, – словом, ты могла бы свою тяжелую бродячую жизнь переменить на спокойную и благополучную. Но ты чувствовала и всегда говорила, что благополучие – это неволя, а спокойствие – скука, убийственная для артистической души. Да, ты была права, я чувствую это. Вот и я в том самом замке, где ты согласилась тогда остаться, как и во всех других, только на одну ночь. Здесь я не знаю ни нужды, ни усталости, со мной хорошо обходятся, даже балуют, богатый вельможа у моих ног – и что же? Я задыхаюсь в неволе, меня гложет скука».
Поддавшись необычайному унынию, Консуэло села на скалу и стала пристально глядеть на песок тропинки, словно надеясь обнаружить на нем следы босых ног матери. Овцы, бродившие здесь, оставили на колючем кустарнике клочки своей шерсти. Эта рыжевато-коричневая шерсть живо напомнила Консуэло грубое сукно, из которого был сделан материнский плащ, так долго укрывавший ее от холода и солнца, от пыли и дождя. Она помнила, как он потом, обратившись в лохмотья, рассыпался на их плечах.
«И мы тоже, – говорила она себе, – были бедными бродячими овцами и так же, как они, оставляли на придорожных колючках клочья своих лохмотьев; но мы уносили с собой горделивую любовь к свободе и умели ею пользоваться».
Погруженная в эти мечты, Консуэло не отрывала глаз от покрытой желтым песком тропинки, которая красиво извивалась по холму среди зеленых елей и темного вереска и, расширяясь на дне долины, вела на север.
«Что может быть прекраснее дороги! – думала Консуэло. – Это символ деятельной, полной разнообразия жизни. Сколько веселых мыслей будят во мне прихотливые изгибы этой тропинки. Я не помню мест, по которым она извивается, а между тем когда-то, несомненно, ходила по ним. Но как чудесны, должно быть, эти места по сравнению с мрачной крепостью, вечно спящей на своих неподвижных утесах! Насколько этот матовозолотистый песок и огненно-золотой дрок, бросающий на него свою тень, насколько все это заманчивее прямых аллей и чопорных буков надменного, холодного парка! Стоит мне только взглянуть на эти длинные, как по линейке проведенные аллеи, и я уже чувствую усталость. К чему двигать ногами, когда и так уже все видно как на ладони! Другое дело – дорога, свободно убегающая вперед и прячущаяся в лесах! Она манит и влечет своими изгибами, своими тайнами. К тому же по этой дороге ходят все люди, она принадлежит всему миру. У нее нет хозяина, закрывающего и открывающего ее по своему желанию. Не только богатый и сильный может топтать растущие по ее краям цветы и вдыхать их аромат – каждая птица может вить свое гнездо в ветвях ее деревьев, каждый бродяга может положить свою голову на ее камни. Ни стена, ни частокол не закрывают горизонта, – впереди лишь необъятный небесный простор и, насколько хватает глаз, дорога – земля свободы. Поля, леса, что находятся справа и слева, принадлежат хозяевам, а дорога – тому, у кого ничего нет, кроме нее! Но зато как же он ее любит! Самый грубый нищий и тот чувствует к ней непреодолимую нежность. Пусть воздвигают для него больницы, роскошные, как дворцы, они будут казаться ему темницей. Его поэзией, его мечтой, его страстью всегда будет большая дорога. О матушка, матушка! Ты это знала и постоянно твердила мне об этом. Отчего не могу я воскресить твоего праха, покоящегося так далеко отсюда, под водорослями лагун! Отчего не можешь ты снова взять меня на свои сильные плечи и унести туда, где кружится ласточка над синеющими холмами, где воспоминание о прошлом и сожаление об утраченном счастье не могут догнать артистанепоседу, несущегося быстрее их, и где каждый день новые горизонты, новый мир встают между ним и врагами его свободы! Бедная мать, отчего ты больше не можешь ни ласкать меня, ни срывать на мне свое сердце, осыпая меня то поцелуями, то ударами, подобно ветру, который то ласкает, то сгибает молодые колосья в поле, чтобы снова поднять и снова согнуть их по своей прихоти. Твоя душа была сильнее моей, и ты вырвала бы меня не добром, так силой из сетей, в которых я все больше и больше запутываюсь».
Погруженная в эти упоительные, но горестные мечтания, Консуэло вдруг услышала голос, заставивший ее так вздрогнуть, как будто к ее сердцу прикоснулись раскаленным железом. То был мужской голос, доносившийся из глубины отдаленной лощины и напевавший на венецианском наречии песню «Эхо», одно из самых оригинальных произведений Кьодзетто. Певец пел неполным голосом, и дыхание его, по-видимому, прерывалось ходьбой. Пропев наугад одну фразу, словно желая разогнать дорожную скуку, он начинал с кем-то разговаривать, затем снова принимался петь, по несколько раз повторяя ту же модуляцию, точно для упражнения, и все приближался к тому месту, где неподвижная и дрожащая Консуэло уже была близка к обмороку. Разобрать, о чем говорил путешественник со своим спутником, она не могла: они были еще слишком далеко; видеть говорящих было тоже невозможно, – выступ скалы закрывал ту часть лощины, по которой они шли. Но как могла она не узнать мгновенно этого голоса, так хорошо ей знакомого, как могла не узнать песни, которой сама обучила своего неблагодарного ученика, заставляя его столько раз повторять ее!
Наконец, когда оба невидимых путешественника подошли ближе, она услышала, как один из них (этот голос был ей незнаком) сказал на ломаном итальянском языке, с сильным местным акцентом:
– Эй, синьор! Синьор! Не ходите туда, там лошадям не пройти, да и меня потеряете из виду; идите за мной вдоль горной речки. Видите дорогу? Вот она перед нами, а вы пошли тропинкой для пешеходов. Голос, столь хорошо знакомый Консуэло, стал как будто удаляться, затихать, но вскоре она опять услышала, как он спрашивал, чей это великолепный замок виден на том берегу.
– Замок Ризенбург, или замок Исполинов, – пояснил его спутник, бывалый проводник.
Через некоторое время проводник показался у подножья холма, ведя под уздцы двух взмыленных лошадей. Плохая дорога, размытая незадолго перед этим горной речкой, заставила всадников сойти с коней. Путешественник шел позади – на некотором расстоянии, и наконец Консуэло, перегнувшись над закрывавшей ее скалой, увидела его. Он шел к ней спиной, к тому же дорожный костюм до того изменил не только его фигуру, но и самую походку, что Консуэло, не услышав голоса, пожалуй, не узнала бы его. Но вот он остановился, рассматривая замок, снял свою широкополую шляпу и вытер платком лицо. Хотя Консуэло глядела на него издали и сверху, но тотчас же узнала эти густые золотистые кудри, узнала привычное движение руки, которым он отбрасывал волосы со лба, когда ему бывало жарко.
– У этого замка очень внушительный вид! – услышала Консуэло его восклицание. – Будь у меня время, я был бы не прочь попросить живущих здесь великанов накормить меня завтраком!
– И не пробуйте! – ответил на это проводник, качая головой. – Рудольштадты принимают у себя только нищих да родственников. – Не слишком, значит, гостеприимны? В таком случае черт с ними!
– Видите ли, это оттого, что им надо кое-что скрывать, – пояснил проводник.
– Клад? Или преступленье?
– О нет! У них сын сумасшедший.
– Тогда пусть черт заберет и его! Он окажет им только услугу! Проводник засмеялся. Андзолето снова запел.
– Ну вот, – обратился к нему проводник, останавливаясь, – наконец и кончилась плохая дорога. Если угодно, садитесь на лошадь, и мы мигом доскачем до Тусты. Дорога туда чудесная – один песок. Оттуда на Прагу идет большой тракт, и вы там достанете хороших почтовых лошадей.
– Если так, – проговорил Андзолето, поправляя стремена, – я могу сказать теперь: черт побери и тебя. По правде говоря, твои клячи, твои горные дороги и ты сам порядком мне надоели.
С этими словами он быстро вскочил на коня, пришпорил его и, не обращая внимания на едва поспевавшего за ним проводника, во весь опор поскакал на север. Он мчался, поднимая столбы пыли, по той самой дороге, на которую только что так долго смотрела Консуэло, никак не ожидая, что сейчас по ней пронесется, подобно роковому призраку, враг всей ее жизни, вечная мука ее сердца…
В неописуемом волнении глядела она ему вслед. Пока он был вблизи, она, трепеща и холодея от ужаса, думала только о том, чтобы он не заметил ее. Когда же она увидела, что он удаляется, что вот-вот исчезнет из поля ее зрения и, быть может, навсегда, страшное отчаяние овладело ею. Она устремилась на верхушку скалы, чтобы как можно дольше не терять его из виду. Несокрушимая любовь снова с безумной силой вспыхнула в девушке, и ей страстно захотелось крикнуть, позвать его, но голос ее замер: ей показалось, что рука смерти сдавила ей горло, разрывает грудь; в глазах потемнело, глухой шум, подобный морскому гулу, раздался в ушах… В изнеможении она почти упала со скалы и очутилась в объятиях незаметно подошедшего Альберта, который унес ее, полумертвую, в более уединенное и более укрытое убежище.
Глава 53
Боязнь выдать своим волнением тайну, которая до сих пор была так глубоко скрыта в ее душе, возвратила Консуэло силы: она овладела собой и уверила Альберта, что в ее состоянии нет ничего особенного. В ту минуту, когда молодой граф подхватил ее на руки, бледную и близкую к обмороку, Андзолето со своим проводником уже исчез вдали меж елей, и потому Альберт мог подумать, будто сам виновен в том, что Консуэло чуть не упала в пропасть. Одна мысль об опасности, которой он подверг ее, испугав своим внезапным появлением, до того взволновала его самого, что в первые минуты он совершенно не заметил несообразности ее ответов. Консуэло, которой он по временам внушал еще какой-то суеверный страх, трепетала и теперь при мысли, что он может силою своего прозрения хоть отчасти догадаться об ее тайне. Но Альберт, с тех пор как любовь заставила его жить обычной человеческой жизнью, казалось, совсем утратил свои прежние, почти сверхъестественные способности. Вскоре Консуэло окончательно справилась со своим волнением, и когда Альберт предложил ей отправиться с ним в его келью, эта мысль показалась ей не такой неприятной, как несколькими часами раньше. Строгая душа и мрачная обитель этого человека, так серьезно относившегося к ее судьбе, были тем убежищем, где она в эту минуту жаждала найти покой и силы, необходимые для борьбы с воспоминаниями о своей несчастной любви.
«Само провидение посылает мне этого друга среди моих испытаний, – думала она, – и то мрачное святилище, куда он хочет вести меня, является как бы могилой, куда мне лучше лечь, чем идти вслед за злым гением, только что пронесшимся передо мной. О господи, пусть земля разверзнется под моими ногами и навек поглотит меня, если я последую за ним!»
– Дорогое Утешение, – начал Альберт, – я шел сказать вам, что тетушка сегодня все утро занята проверкой счетов с ферм; она совсем забыла о нас, и мы можем наконец осуществить наше паломничество. Впрочем, если вам все еще неприятно увидеть места, с которыми связано для вас столько мучений, столько ужасов…
– Нет, друг мой, нет, – не дала ему докончить Консуэло, – напротив, никогда я не была так расположена, как в эту минуту, помолиться в вашей церкви и слить мою душу с вашей на крыльях той священной песни, которую вы обещали мне исполнить.
Они отправились к Шрекенштейну; углубляясь в лес в направлении, противоположном тому, каким проследовал Андзолето, Консуэло почувствовала, что ей становится все легче, словно каждый шаг, отдалявший ее от юноши, разрушал роковые чары, власть которых она только что испытала. Она шла так быстро и решительно, хотя и с серьезным, сосредоточенным видом, что молодой граф мог бы приписать эту наивную поспешность желанию сделать ему приятное, если бы основу его характера не составляло недоверие к себе и своей судьбе.
Он привел ее к подножию Шрекенштейна, ко входу в пещеру, наполненную стоячей водой и заросшую густой растительностью.
– Эта пещера, где вы можете заметить некоторые следы сводов, известна у окрестного населения под названием «Подвал монаха». Одни думают, что это был и в самом деле монастырский подвал, когда на месте этих развалин еще стоял укрепленный городок. Другие говорят, что в более поздние времена он служил убежищем одному кающемуся преступнику, который, желая искупить свои грехи, сделался отшельником. Как бы то ни было, никто никогда не отваживается проникнуть в эту пещеру. Существует поверье, что вода в ней чрезвычайно глубока и даже смертельно ядовита, якобы из-за каких-то медных пластов, через которые она пробивается. На самом же деле вода эта и не глубока и не вредна; здесь скалистое дно, и мы легко пройдем по нему, если вы, Консуэло, захотите еще раз довериться моим сильным рукам и моей святой любви к вам.
Убедившись затем, что поблизости никого нет и никто не может наблюдать за ними, он взял ее на руки, чтобы она не замочила ног, и, войдя в воду по колено, стал пробираться со своей ношей сквозь кустарник и гирлянды плюща, скрывавшие глубину пещеры. Вскоре он опустил ее на сухой мелкий песок в месте, где царил полный мрак; Альберт сейчас же зажег захваченный с собою фонарь, и они тронулись в путь; после нескольких поворотов в подземных галереях, похожих на те, по которым Консуэло уже проходила с ним однажды, они очутились у двери кельи, находившейся напротив той, где она была в первый раз.
– Это подземное сооружение, – сказал Альберт, – служило вначале убежищем во время войны либо для именитых жителей городка, стоявшего на горе, либо для владельцев замка Исполинов (городок был в вассальной зависимости от них), которые могли проникать сюда по знакомым вам потайным галереям. Если впоследствии. как утверждают, в «Подвале монаха» жил отшельник, то очень вероятно, что он мог знать об этом убежище. Когда я проник сюда впервые, мне показалось, что галерея, по которой мы с вами пришли, была расчищена не так давно, тогда как галереи, ведущие в замок, я нашел до того заваленными гравием и землей, что мне стоило немалых трудов сделать их проходимыми. Кроме того, найденные мною здесь обрывки циновок, кружка, распятие, лампа и, наконец, скелет человека, лежащего на спине со скрещенными на груди руками, – должно быть, он молился в последний раз перед последним сном, – все это доказало мне, что какой-то отшельник благочестиво и мирно закончил здесь свое таинственное существование. Наши крестьяне верят, что душа пустынника все еще обитает в недрах горы. Они утверждают, будто часто видят, как он блуждает по горе и даже витает над нею в лунные ночи, и уверяют также, будто слышали не раз, как он молится, плачет, стонет и даже будто какая-то странная, непонятная музыка, нежная, как дуновение ветерка, доносилась до них и замирала на крыльях ночи. Знаете, Консуэло, когда возбуждение и отчаяние населяло природу вокруг меня призраками и ужасами, мне и самому чудилось, будто я вижу мрачного кающегося грешника, распростертого у подножия Гусита; порой мне даже представлялось, что я слышу его жалобные, раздирающие душу стоны, поднимавшиеся со дна пропасти. Но с тех пор как я открыл эту келью и поселился в ней, я никогда не видел никакого отшельника, кроме самого себя, никакого призрака, кроме собственной особы, а также не слыхал иных стонов, кроме тех, что вырывались из моей груди. Со времени своего первого свидания с Альбертом в этой самой пещере Консуэло ни разу не Слышала от него безумных речей. Поэтому, беседуя с ним, она никогда не решалась касаться ни его странных слов, произнесенных в ту ночь, ни галлюцинаций, которые тогда им владели. Ее удивляло, что он, по-видимому, совершенно забыл о них, и, не смея ему об этом напоминать, она только спросила, действительно ли полный покой подобного уединения избавлял его от того возбужденного состояния, о котором он говорил.
– Не могу с точностью ответить вам на это, – сказал он, – и если вы не настаиваете, то, по правде сказать, я не хотел бы вызывать это воспоминание. Мне кажется, что раньше со мной действительно бывали настоящие припадки безумия. Мои старания скрыть их еще больше их обостряли и делали более заметными. Когда благодаря Зденко, который владеет переходящей из рода в род тайной этих подземных сооружений, я нашел способ избавляться от тягостной для меня заботливости родных и скрывать от взоров всех свое отчаяние, мое существование изменилось. Я стал больше владеть собой, а уверенность, что в случае особенно сильного приступа недуга я могу всегда скрыться от назойливых свидетелей, помогла мне разыгрывать в семье роль спокойного, покорного судьбе человека.
Консуэло поняла, что бедный Альберт заблуждается, но она чувствовала, что теперь не время его разубеждать. Радуясь, что он с таким хладнокровием говорит о прошлом, она принялась осматривать келью более внимательно, чем могла это сделать в свое первое посещение. Ей бросилось в глаза, что относительный порядок и чистота, замеченные ею в тот раз, перестали царить здесь: холод, сырые стены и плесень на книгах говорили о полной заброшенности этих мест.
– Вы видите, я сдержал данное вам слово, – обратился к ней Альберт, которому с большим трудом удалось растопить печь, – моей ноги не было здесь с тех пор, как вы своим могущественным влиянием вырвали меня отсюда.
Тут Консуэло едва удержалась от вопроса, который готов был сорваться у нее с языка. Она чуть было не спросила: неужели и его друг Зденко, этот верный слуга и ревностный страж, неужели и он забросил и покинул это убежище? Но она вовремя вспомнила, в какую глубокую грусть впадал Альберт каждый раз, как она заговаривала о Зденко, спрашивая, что с ним сталось и почему со времени ужасной встречи с ним в подземелье она ни разу не видела его. Альберт всегда уклонялся от этого разговора: он то притворялся, будто не слышал вопроса, то, не отвечая прямо, просил ее успокоиться и не опасаться больше юродивого. Сперва она думала, что Зденко было приказано никогда не попадаться ей на глаза и что он свято выполняет это. Но когда она возобновила свои одинокие прогулки, Альберт, желая окончательно ее успокоить, поклялся ей, страшно побледнев, что она нигде не встретит Зденко, так как тот отправился в очень далекое путешествие. И действительно, с тех пор никто его не видел, и стали уже думать, что он или умер, забившись в какой-нибудь угол, или совсем покинул родной край.
Консуэло не верила ни в эту смерть, ни в этот отъезд. Зная страстную привязанность Зденко к Альберту, она не могла допустить мысли, чтобы их разлука была окончательной. Мысль же о смерти возбуждала в ней глубокий ужас, в котором она боялась признаться самой себе, ибо всякий раз вспоминала при этом о страшной клятве, которую в исступлении дал ей Альберт: клятве пожертвовать жизнью несчастного, если это понадобится для спокойствия любимой. Но она гнала от себя это ужасное подозрение, вспоминая, как кроток и человечен был Альберт всю свою жизнь. К тому же вот уже несколько месяцев, как молодой граф был совершенно спокоен: очевидно, Зденко не совершил ничего, что могло бы привести его в такую ярость, как тогда в подземелье. Вообще Альберт как будто забыл об этой мучительной минуте, и Консуэло сама старалась не вспоминать о ней. Из всех событий в подземелье он помнил только то, что происходило, когда он был в здравом уме. Поэтому Консуэло остановилась на мысли, что Зденко было запрещено не только входить, но даже приближаться к замку и что он, бедный, с досады или с горя, обрек себя на добровольное заключение в подземном убежище. Она предполагала, что несчастный выходит оттуда ночью, чтобы подышать воздухом или поговорить на Шрекенштейне с Альбертом, который, без сомнения, заботится хотя бы о пропитании Зденко, – точно так, как Зденко заботился раньше о его собственном. При виде заброшенной кельи у Консуэло явилось предположение, что Зденко, рассердившись на хозяина, не хотел убирать его покинутое убежище; а так как, входя в пещеру, Альберт сказал, что ей совершенно нечего бояться, она, пользуясь тем, что ее друг возится над заржавленной, никак не открывавшейся дверью в «церковь», попыталась открыть дверь, ведущую в келью Зденко, надеясь найти там следы его недавнего пребывания. Как только она повернула ключ, дверь легко открылась, но здесь было так темно, что она ничего не могла разглядеть. Подождав, пока Альберт вошел в таинственную молельню, которую он хотел привести в порядок, перед тем как принять гостью, она взяла фонарь и тихонько вернулась в комнату Зденко, все-таки немного боясь встретиться с ним лицом к лицу. Но там не было ни малейшего признака его пребывания. Постель из листьев и овечьих шкур была вынесена, грубо сколоченная скамейка, рабочие инструменты, войлочные сандалии – все исчезло бесследно. При виде сырости, блестевшей на стенах, трудно было даже предположить, что вообще под этими сводами когда-либо мог спать человек. Это открытие опечалило и ужаснуло Консуэло. Судьба Зденко была окружена какой-то мрачной тайной, и она с содроганием подумала, что, может быть, сама явилась причиной какого-нибудь страшного события. В Альберте было два человека: мудрец и безумец. Один – кроткий, сострадательный, нежный; другой – странный, суровый, быть может, свирепый и беспощадный в своих решениях. Тут Консуэло вдруг вспомнила, как Альберту все мерещилось, будто он кровожадный фанатик – Ян Жижка; вспомнилось его пристрастие к событиям в Богемии времен гуситов; да и в самой его страсти к ней – страсти немой и терпеливой – было что-то властное, непостижимое… Все эти мысли пронеслись в одно мгновенье в уме молодой девушки, казалось, подтверждая самые тяжкие ее подозрения. Похолодев от ужаса, стояла она неподвижно, избегая смотреть на голый, холодный пол из боязни увидеть на нем следы крови.
Она все еще продолжала стоять, погруженная в эти зловещие думы, когда услышала, что Альберт настраивает свой драгоценный инструмент; и вот скрипка запела тот старинный псалом, который Консуэло так жаждала услышать еще раз. Музыка была до того своеобразна, а Альберт вкладывал в нее столько чистого и глубокого чувства, что Консуэло, забыв все свои тревоги, словно притягиваемая магнетической силой, медленно направилась к нему.
Глава 54
Дверь «церкви» была открыта; Консуэло остановилась на пороге, чтобы рассмотреть вдохновенного виртуоза и необычайное святилище. Так называемая «церковь» представляла собой просто огромную пещеру, высеченную, вернее выдолбленную, в скалах руками природы и в особенности подземными водами. Несколько факелов, укрепленных в разных местах на гигантских глыбах, бросали фантастический свет на зеленоватые скалистые стены. Свет этот не проникал в мрачные углубления, откуда неясно выступали очертания длинных сталактитов, похожих на призраки. Это были огромные причудливые нагромождения, образованные проникшей сюда когда-то водой. Они были то скручены, как чудовищные змеи, которые, сплетясь, пожирали друг друга, то, вылезая из почвы и опускаясь со сводов в виде чудовищных игл, походили на колоссальные зубы, оскаленные в раскрытых пастях, образуемых черными углублениями скал. Кое-где виднелось что-то вроде бесформенных статуй, исполинских изображений варварских богов древности. Свойственная скалам растительность: огромные лишаи, жесткие, как чешуя драконов, гирлянды так называемых «оленьих языков» с широкими тяжелыми листьями, группы молодых кипарисов, недавно посаженных посредине пещеры на бугорках наносной земли, похожих на могильные холмы, – все это придавало пещере мрачный, величественный и зловещий вид, поразивший воображение молодой артистки. Но первое чувство ужаса вскоре сменилось восторгом. Подойдя ближе, она увидела Альберта, стоявшего у источника, который пробивался в середине пещеры. Сделанный для него резервуар был так глубок, что клокотание обильных вод источника совсем не было заметно на его поверхности. Она была гладка и неподвижна, как глыба темного сапфира, а в красивых водяных растениях, посаженных по ее краям Альбертом и Зденко, не было заметно ни малейшей дрожи. Источник был горячий, и его теплые испарения придавали воздуху пещеры мягкость и влажность, благоприятные для растительности. Вода из бассейна вытекала несколькими ручейками: одни тотчас же с глухим шумом терялись в скалах, другие, чистые, прозрачные, протекали по пещере и потом исчезали в темных углублениях, бесконечно расширявших ее пределы.
Как только граф Альберт увидел Консуэло, он пошел ей навстречу и помог перейти через излучины источника. В более глубоких местах были переброшены стволы деревьев, в других же выступавшие из воды камни облегчали переход для привычных ног. Он протягивал ей руку и несколько раз даже переносил ее. Но на этот раз Консуэло пугал не поток, мрачно и молчаливо катившийся у ее ног, а этот загадочный проводник, к которому ее влекла неодолимая симпатия и от которого в то же время отталкивало какое-то не поддающееся определению чувство. Подойдя к источнику, она увидела на широком камне в несколько футов вышиной нечто такое, что мало способствовало ее успокоению. То было четырехугольное сооружение, вроде памятника, какие можно видеть в катакомбах, искусно сложенное из человеческих костей и черепов. – Не пугайтесь, – сказал ей Альберт, заметив, что она вздрогнула, это благородные останки мучеников моей религии, образующие алтарь, перед которым я люблю размышлять и молиться.
– Какая же у вас религия, Альберт? – наивно и грустно спросила Консуэло. – Чьи это кости: гуситов или католиков? Разве и те и другие не были жертвами нечестивой ярости и мучениками веры, одинаково горячей? Неужели правда, что вы предпочитаете учение гуситов вере ваших родителей и что реформы, последовавшие за реформами Яна Гуса, кажутся вам недостаточно строгими и действенными? Скажите, Альберт, чему я должна верить из всего того, что мне о вас говорили?
– Если вам говорили, что я предпочитаю реформу гуситов лютеранской, великого Прокопия – мстительному Кальвину, подвиги таборитов – подвигам солдат Валленштейна, – то это сущая правда, Консуэло. Но что вам до моих верований? Вы по наитию чувствуете истину и знаете божество лучше, чем я. Боже упаси, чтобы я привел вас сюда для того, чтобы отяготить вашу чистую душу, смутить вашу спокойную совесть своими думами и душевными муками! Оставайтесь такой, какая вы есть, Консуэло! Вы родились благочестивой и святой; более того, вы родились в бедности, неизвестности, и ничто не пыталось затуманить ваш разум, вашу совесть, ваше чувство справедливости. Мы можем, не препираясь, молиться вместе, вы, знающая все, ничему не учившись, и я, мало знающий, несмотря на все мои поиски. В каком бы храме вы ни молились, вы всегда будете обращаться к истинному богу и истинная вера будет гореть в вашей душе. Итак, не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы получить через вас откровение, хотел я соединить наши голоса и мысли перед алтарем, сложенным из костей моих предков. – Значит, я не ошиблась, приняв эти благородные останки, как вы их называете, за останки гуситов, сброшенные в колодец Шрекенштейна кровожадной яростью междоусобицы во времена вашего предка Яна Жижки, который, как говорят, страшно отомстил за это. Мне также рассказывали, что после того, как он сжег деревню, он велел засыпать колодец. Мне кажется, что я вижу на темном своде, прямо над головой, круг из обтесанных камней, указывающий, что мы с вами как раз под тем местом, где я не раз сиживала, утомившись искать вас. Скажите, граф Альберт, та ли это скала, которую, как я слышала, вы окрестили камнем Искупления?
– Да, – ответил Альберт, – это здесь пытки и чудовищные жестокости освятили место моих молений и алтарь моей скорби. Вы видите огромные глыбы, нависшие над нашими головами, и вот те, другие, у источника? Могучие руки таборитов сбросили их сюда по приказу того, кого звали «Грозным слепцом»; но глыбы эти только отвели воды к подземным руслам, куда они и пробились. Стенки колодца были разрушены, и, чтобы скрыть развалины, я посадил эти кипарисы. Но чтобы засыпать совсем эту пещеру, понадобилась бы целая гора земли. Глыбы, застрявшие вверху колодца, задержались там благодаря винтовой лестнице, подобной той, по которой вы отважились спуститься в водоем через мой цветник в замке Великанов. Оседание горных пород с течением времени все больше и больше сдавливало и сдерживало эти глыбы. Теперь если и случится незначительному камешку сорваться оттуда, то это бывает только зимой, во время сильных ночных морозов; вам, как видите, совершенно нечего бояться обвала.
– Вовсе не это заботит меня, Альберт, – возразила Консуэло, переводя взгляд на мрачный алтарь, куда он положил свою скрипку. – Я хочу знать, почему вы почитаете память и останки только этих жертв, как будто не было мучеников и у противной стороны, как будто преступления одних простительнее преступлений других.
Консуэло сказала это, строго и с недоверием глядя на Альберта. Она снова вспомнила о Зденко, и все эти вопросы были как бы частью того дознания высокой судебной инстанции, которому она охотно подвергла бы его, если бы отважилась на это.
Мучительное волнение вдруг охватило графа, и Консуэло приняла это за угрызение совести; он схватился руками за голову, потом прижал их к груди, точно боясь, что она разорвется. Лицо его страшно изменилось, и девушка испугалась, не догадался ли он об ее подозрении.
– Вы не знаете, какую причиняете мне боль! – воскликнул он наконец, прислоняясь к алтарю из костей и склоняя голову к этим высохшим черепам, казалось, смотревшим на него своими пустыми глазницами. – Нет! Вы не можете этого знать, Консуэло! И ваши холодные рассуждения будят во мне воспоминания о злополучных днях, пережитых мною. Вы не знаете, что говорите с человеком, пережившим века страданий, с человеком, который, послужив слепым орудием непреклонного правосудия божьего, уже получил награду и понес кару. Я так много страдал, так много пролил слез, так старался искупить свою жестокую судьбу, столько заглаживал ужасов, которые рок заставлял меня совершать… я начал наконец надеяться, что смогу забыть обо всем. Забыть! Этого жаждало мое истерзанное сердце! Это было мольбой, мечтой каждой минуты моей жизни! Распростертый над этими скелетами, я здесь годами вымаливал сближения с людьми, примирения с богом! А когда вы пожалели меня, я начал верить в свое спасение. Взгляните на этот венок из засохших цветов, готовых уже рассыпаться в прах, – я увенчал им верхний череп моего алтаря. Вы не узнаете этих цветов; а я не раз оросил их горькими и сладостными слезами: ведь это вы сорвали и передали их мне через товарища моих страданий, верного обитателя моей гробницы. И вот, плача и целуя эти цветы, я с тревогой спрашивал себя, сможете ли вы когда-нибудь почувствовать глубокую, настоящую любовь к такому преступнику, как я, к такому безжалостному фанатику, бездушному тирану!..
– Но какие же совершили вы преступления? – спросила, возвысив голос, Консуэло, волнуемая самыми разнообразными чувствами и став смелее при виде глубокого уныния Альберта. – Если вы хотите сделать мне какое-то признание, сделайте его здесь, сделайте его сейчас, чтобы я знала, могу ли я оправдать и полюбить вас.
– Оправдать меня – да, вы можете меня оправдать, ибо тот Альберт фон Рудольштадт, которого вы знаете, жил чистой жизнью ребенка. Но тот, кто вам неизвестен, – Ян Жижка, поборник чаши, – был вовлечен гневом божьим в целый ряд беззаконий!..
Консуэло увидела, какую оплошность сделала она, раздувая тлевший под пеплом огонь и наводя бедного Альберта на разговор о том, что составляло предмет его помешательства. Но сейчас не время было разубеждать его с помощью рассуждении: она попробовала успокоить его, говоря с ним языком его недуга.
– Довольно, Альберт. Если ваше настоящее существование было посвящено молитве и раскаянию, вам нечего больше искупать, и господь прощает Яна Жижку.
– Бог не открывается непосредственно смиренным творениям, которые ему служат, – отвечал граф, качая головой. – Он унижает или одобряет их, пользуясь одними для спасения или для наказания других. Мы все являемся лишь исполнителями его воли, когда, движимые духом милосердия, пытаемся укорять или утешать наших ближних. Вы, милая девушка, не имеете права отпускать мне грехи. У самого священника нет этой великой власти, хотя церковь в своей гордыне и приписывает ее ему. Но вы можете добыть мне господне прощение, полюбив меня. Ваша любовь может примирить меня с небом и заставить меня забыть дни, называемые «историей прошлых веков»… Вы можете давать мне именем всемогущего бога самые торжественные обещания, но я не смогу им поверить: я буду усматривать в них лишь благородный и великодушный фанатизм. Положите руку на свое сердце и спросите его, обитает ли в нем мысль обо мне, наполняет ли его моя любовь, – и если оно ответит «да», это «да» будет священной формулой отпущения моих грехов, моего искупления, будет тем чудом, которое даст мне покой, счастье и забвение. Лишь таким образом можете вы быть жрицей моей религии, и моя душа получит отпущение на небесах, как душа католика получает отпущение из уст духовника. Скажите, что вы меня любите, – воскликнул он, страстно порываясь к ней, словно желая схватить ее в свои объятия. Но она отшатнулась, испугавшись той клятвы, которой он требовал, а он снова упал на кости алтаря, тяжко стеная.
– Я знал, что она не сможет полюбить меня, – воскликнул Альберт, – знал, что никогда не буду прощен, что никогда не забуду тех проклятых дней, когда еще не знал ее!
– Альберт, дорогой Альберт, – проговорила Консуэло, глубоко потрясенная терзавшим его горем, – имейте мужество выслушать меня. Вы упрекаете меня, будто я хочу обмануть вас надеждой на чудо, а между тем вы сами требуете от меня еще большего чуда. Бог, который видит все и оценивает наши заслуги, может все простить; но такое слабое, ограниченное существо, как я, – могу ли я понять и принять одним только усилием ума и преданности такую странную любовь, как ваша? Мне кажется, что это от вас зависит – внушить мне ту исключительную привязанность, какой вы от меня требуете и дать которую не в моей власти, особенно когда я еще так мало знаю вас. Так как мы заговорили с вами мистическим языком религии – меня немного научили ему в детстве, – то я скажу, что для искупления грехов надо, чтобы на вас снизошла благодать. А разве вы заслуживаете того подобия искупления, которого ищете в моей любви? Вы требуете от меня самого чистого, самого нежного, самого кроткого чувства, а мне кажется, что ваша душа не склонна ни к нежности, ни к кротости, – в ней гнездятся самые мрачные мысли и вечное злопамятство.
– Что вы хотите сказать этим, Консуэло? Я не понимаю вас.
– Я хочу сказать, что вы беспрестанно находитесь во власти зловещих фантазий, мыслей об убийствах, кровавых видений. Вы плачете над преступлениями, якобы совершенными вами много веков назад, а между тем воспоминание о них вам дорого. Вы называете их славными, великими, вы приписываете их воле божьей и праведному его гневу. Словом, вы одновременно и ужасаетесь и гордитесь, разыгрывая в своем воображении роль какого-то ангела-истребителя. Если допустить, что вы действительно были в прошлом мстителем и разрушителем, то можно подумать, что в вас сохранился инстинкт мщения и разрушения, что в вас живет склонность, чуть ли не стремление, к этой страшной доле, раз вы все заглядываете туда, за пределы своей настоящей жизни, и плачете над собой, как над преступником, приговоренным оставаться таковым и дальше.
– Нет, благодаря милосердию всемогущего отца душ, он берет их обратно к себе и, восстановив своей любовью, потом возвращает к деятельной жизни! – вздымая руки к небу, воскликнул Рудольштадт. – Нет, нет, во мне не сохранился инстинкт насилия и жестокости! Довольно с меня и того, что я был обречен пройти огнем и мечом через те варварские времена, которые мы на нашем фанатическом и дерзком языке зовем «эпохой рвения и ярости». Но вы несведущи в истории, божье дитя, вы не понимаете прошлого; и судьбы народов, в которых вам всегда, должно быть, выпадала миссия мира, роль ангела-утешителя, загадочны для вас. А вам надо ознакомиться с этими ужасающими истинами, чтобы иметь представление о том, что порой повелевает праведный бог злосчастным людям.
– Говорите же, Альберт! Объясните мне, что могло быть такого важного и священного в бесплодных распрях о причащении, чтобы народы стали убивать друг друга во имя божественной евхаристии?
– Вы правы, называя ее божественной, – ответил Альберт, садясь у источника рядом с Консуэло. – Это подобие равенства, это таинство, установленное существом наивысшим среди людей с целью увековечить принцип братства, достойно того, чтобы вы, равная самым могущественным и благородным представителям человечества, назвали его божественным! А между тем существуют еще тщеславные безумцы, которые считают вас ниже себя, считают кровь вашу менее драгоценной, чем кровь земных королей и князей! Что подумали бы вы обо мне, Консуэло, если бы я, потому только, что веду свой род от этих самых королей и князей, вообразил себя выше вас?
– Я простила бы вам этот предрассудок, священный для всей вашей касты; восставать против него мне никогда не приходило в голову, и я счастлива, что родилась свободной и равной маленьким людям, которых я люблю гораздо больше, чем великих мира сего.
– Быть может, Консуэло, вы простили бы мне, «но вы бы меня не уважали. Оставаясь здесь с глазу на глаз со мной, человеком, обожающим вас, вы не чувствовали бы себя так покойно, как теперь, когда вы уверены, что для меня вы так же священны, как если бы были по праву рождения провозглашены императрицей Германии. О, позвольте мне думать, что божественную жалость, заставившую вас тогда, в первый раз, прийти сюда, вы почувствовали только потому, что знали мой характер и мои принципы! Итак, дорогая сестра, признайте же в своем сердце (я обращаюсь к нему, не желая утомлять ваш мозг философскими рассуждениями), что равенство священно, что это воля отца людей и что долг людей – стремиться установить это равенство. Когда народы были горячо привержены обрядности своей религии, для них в причащении заключалось все равенство, каким только дозволяли пользоваться законы, установленные обществом. Бедные и слабые находили в нем утешение: оно помогало им переносить тяготы жизни, давая надежду, что впоследствии их потомкам будет лучше; богемцы всегда хотели соблюдать обряд евхаристии в том виде, в каком его проповедовали и выполняли апостолы. То было поистине древнее братское единение, трапеза равенства, отображение царства божия, которое должно было осуществиться на земле. В один прекрасный день римская церковь, подчинившая народы и царей своей деспотической и честолюбивой власти, пожелала отделить христианина от священника, народ от духовенства. Она отдала чашу в руки своих служителей, дабы те скрыли божество в таинственных ковчегах; и вот эти священнослужители путем своих бессмысленных толкований превратили причащение в какой-то языческий культ, в котором миряне могли участвовать не иначе, как с их, священнослужителей, соизволения. Они захватили ключи от совести людской, сделав исповедь тайной; и святая чаша, та славная чаша, к которой бедняк шел утолять и обновлять свою душу, исчезла в шкатулке из кедрового дерева, разукрашенной золотом, откуда причастие извлекали только для того, чтобы приблизить его к устам священника. Он один стал достоин вкушать от крови и слез Христа. Смиренный верующий должен был, став на колени, лизать его руку, чтобы вкусить хлеб ангелов. Теперь вы понимаете, почему народ закричал в один голос: «Чашу, верните нам чашу! Чашу для простого народа, чашу для детей, женщин, грешников и безумных! Чашу для всех нищих, всех убогих и телом и душой!» Таков был крик возмущения, соединивший в одно целое всю Богемию. Остальное вам известно, Консуэло. Вы уже знаете, что к этой первоначальной идее, отражавшей в религиозном символе всю радость, все благородные искания гордого и великодушного народа, присоединились, как следствие преследований и страшной борьбы с соседними народами, еще идеи свободы отечества и национальной чести. Завоевание чаши повлекло за собой другие благороднейшие завоевания и создало новое общество. Если же история, написанная невежественными или скептически настроенными людьми, расскажет вам, будто только жажда крови и алчность к золоту разожгли эти злополучные войны, не верьте: это ложь перед богом и людьми! Правда, личная злоба и честолюбие пятнали порою подвиги наших предков, но то был все тот же извечный дух властолюбия и жадности, постоянно грызущий богатых и знатных. Они, и только они, позорили святое дело и десятки раз изменяли ему. Народ – грубый, но искренний, фанатичный, вдохновенный – объединился в секты, поэтические названия которых вам известны: табориты, оребиты, сироты, союзные братья. Этот народ – мученик своей веры – бежал в горы, где соблюдал со всей суровостью закон дележа и полнейшего равенства, верил в вечную жизнь душ, воплощающихся в обитателях земного мира, ждал пришествия и торжества Христа, воскресения Яна Гуса, Яна Жижки, Прокопа Лысого и всех непобедимых вождей, проповедовавших свободу и служивших ей. Такое верование не кажется мне вымыслом, Консуэло. Наша роль на земле не так коротка, как принято думать, и обязанности наши не кончаются со смертью. Что же касается желания капеллана, а быть может, и моих добрых, но слабых родных приписывать мне узкое и ребяческое увлечение гуситским культом, то, хоть я действительно в дни своего болезненного возбуждения как будто смешивал символ с принципом и образ с идеей, не презирайте меня слишком за это, Консуэло. В глубине души я никогда не думал воскрешать эти забытые обряды, не имеющие смысла в наши дни. Иные образы и иные символы нужны были бы для нынешних просвещенных людей, если бы только они согласились раскрыть глаза и если б иго рабства не препятствовало народам искать религию свободы. Слишком строго и лживо перетолковывались мои симпатии, вкусы и привычки. Устав от бесплодных и суетных идей людей нашего века, я ощутил потребность укрепить свое соболезнующее сердце общением с людьми простодушными или несчастными. Мне нравилось разговаривать со всеми этими бродягами, юродивыми, со всеми обездоленными, лишенными земных благ и любви своих ближних; я открывал иногда в наивном бреде тех, кого называют помешанными, мимолетные, но поразительные проблески божественной мысли. Мне приходилось также, выслушивая признания так называемых «отверженных» и преступников, рассказывавших о своем раскаянии и угрызениях совести, наталкиваться на глубокие, хотя и не всегда чистые следы их справедливости и невиновности. И вот, видя меня сидящим за столом у невежды или у изголовья разбойника, добрые люди заключили, что я еретик и даже колдун! Что я могу ответить на такие обвинения? Когда же я, потрясенный чтением истории своей родины и размышлениями над ней, не сдерживаясь говорил вещи, похожие на бред (быть может, они и были бредом), меня стали бояться, принимая за безумца, одержимого дьяволом… Дьявол! А знаете ли вы, Консуэло, что это такое? Рассказать вам об этой таинственной аллегории, созданной священнослужителями всех религий?
– Да, друг мой, – сказала Консуэло, успокоенная и почти убежденная, забыв свою руку в руке Альберта. – Объясните мне, что такое сатана. Сказать правду, хотя я не переставала верить в бога и никогда открыто не восставала против того, чему меня учили о нем, я все-таки никогда не верила в дьявола. Если бы он действительно существовал, то бог заковал бы его в цени так далеко от себя и от нас, что мы ничего и не узнали бы о Нем. – Если бы он существовал, – отвечал Альберт, – то мог бы быть лишь чудовищным созданием того бога, существование которого самые нечестивые софисты предпочитали уж лучше отрицать, лишь бы не быть вынужденными признавать его за тип и идеал всяческого совершенства, знания и любви. Как могло совершенство породить зло, знание – ложь, любовь – ненависть и развращенность? Эту сказку надо отнести к поре детства рода человеческого, когда бедствия и страдания в мире физическом заставили трусливых детей земли думать, будто есть два бога, два высших и созидающих духа: один – источник всех благ, а другой – всех зол; два начала, почти одинаковые, ибо царство Эблиса должно было существовать неисчислимый ряд веков и пасть лишь после ужасающих боев в сферах Эмпирея. Но почему же после проповеди Христа и чистого евангельского света духовенство осмелилось воскресить и утвердить в умах народов это грубое верование их древних предков? Потому что, вследствие неудовлетворительного или неправильного толкования апостольского учения, понятие о добре и зле оставалось смутным и незаконченным для человеческого ума. Был введен и освящен принцип полного разделения прав и назначения духа и плоти, прерогатив духовной и светской власти. Христианский аскетизм возвышал душу и клеймил позором тело. Так как мало-помалу фанатизм довел до крайности это осуждение телесной жизни, а в обществе, несмотря на учение Христа, уцелел древний порядок деления на касты, небольшая группа людей продолжала жить и господствовать с помощью разума, в то время как огромное большинство прозябало во мраке суеверия. Просвещенные и могущественные касты, особенно духовенство, стали тогда душою общества, народ же оставался только его телом. Кто же был истинным покровителем разумных существ? Бог. А неразумных? Дьявол. Ибо бог давал жизнь душе и возбранял жизнь чувственную, к которой сатана постоянно влечет людей слабых и грубых. Одна из таинственных и странных сект возмечтала, как и многие другие, восстановить право плоти и воссоединить в одном общем божественном начале эти два произвольно разделенных начала. Секта эта хотела утвердить любовь, равенство и общность имущества, как основу человеческого счастья. Это была справедливая и святая идея. Нужды нет, что при этом бывали крайности и злоупотребления. Секта эта стремилась вывести из уничижения так называемое злое начало и, наоборот, сделать из него служителя и движущую силу доброго начала. Таким образом, эти философы отпустили сатане его прегрешения, и он был восстановлен в сонме небесных духов. Поэтическими истолкованиями они постарались превратить архангела Михаила и его воинство в угнетателей и узурпаторов славы и могущества, осуждая в их лице первосвященников и князей церкви, оттеснивших к вымыслам об аде религию равенства и основы счастия человеческого рода. Итак, мрачный и скорбный Люцифер вышел из бездны, где он, скованный, подобно божественному Прометею, стонал столько веков. Его освободители все же не дерзали открыто взывать к нему, но посредством таинственных и загадочных формул выразили идею его апофеоза и будущего царствования над человечеством, которое было слишком долго развенчано, унижено и оклеветано, как и он сам. Боюсь, однако, что я утомил вас своими объяснениями. Простите меня, дорогая Консуэло. Но вам изобразили меня антихристом и поклонником демона, и мне хотелось оправдаться перед вами и доказать, что я менее суеверен, чем те, кто меня обвиняет.
– Вы нисколько не утомили меня, – ответила, кротко улыбаясь, Консуэло, – и я очень рада узнать, что не вступила в союз с врагом рода человеческого, прибегнув однажды ночью к приветствию лоллардов. – Вы, оказывается, очень осведомлены по этой части, – заметил Альберт и снова принялся объяснять ей возвышенный смысл тех великих истин, называемых еретическими, которые были погребены под недобросовестными обвинениями и приговорами софистов католицизма. Все более и более воодушевляясь, он рассказал ей о своих исследованиях, размышлениях, мрачных фантазиях, которые довели его самого до аскетизма и суеверия во времена, казавшиеся ему более далекими, чем они были на самом деле. Стараясь сделать свою исповедь как можно более удобопонятной и простой, он достиг удивительной ясности ума, говорил о себе с такой искренностью, с таким беспристрастием, как будто о. дело шло о другом человеке, и касался слабостей и болезненных явлений своего рассудка так, как будто давно излечился от этих опасных припадков. Он излагал свои мысли с такой рассудительностью, что, отбросив вопрос о времени, представление о котором, видимо, было утеряно для него (он каялся, например, в том, что когда-то воображал себя Яном Жижкой, Вратиславом, Подебрадом и другими героями минувшего, совершенно забывая, что за полчаса перед тем впадал в такое же заблуждение), Консуэло не могла не видеть в нем человека выдающегося и просвещенного; никто из тех, с кем ей приходилось встречаться до сих пор, не высказывал более великодушных, а следовательно, и более справедливых взглядов. Мало-помалу внимание и интерес, сверкавшие в глазах молодой девушки, ее сообразительность, поразительная способность усваивать отвлеченные идеи так воодушевили Рудольштадта, что речь его зазвучала еще убедительнее, еще ярче. Консуэло, после нескольких вопросов и возражений, на которые он сумел удачно ответить, уже не думала об удовлетворении своей природной любознательности, а только пребывала в каком-то восторженном удивлении, которое внушал ей Альберт. Она забыла все тревоги, пережитые за этот день: и Андзолето, и Зденко, и кости мертвецов, лежавшие перед ее глазами. Какие-то чары завладели ею: живописное место, где она находилась, эти кипарисы, страшные скалы и мрачный алтарь показались ей при дрожащем свете факелов каким-то подобием волшебного Элизиума, где блуждали священные и величественные видения. Хотя она и бодрствовала, но ее рассудок, подвергшийся напряжению, слишком сильному для ее поэтической натуры, был как бы усыплен. Уже не слушая того, что говорил Альберт, она погрузилась в сладостный экстаз, умиляясь при мысли о сатане, которого он только что изобразил как великую, непризнанную идею, а ее артистическое воображение нарисовало его в виде красивого, страдальческого, бледного образа, родного брата Христа, склонившегося над нею, дочерью народа, отверженным ребенком мировой семьи. Вдруг она заметила, что Альберта уже нет подле нее, что он больше не держит ее руки, перестал говорить, а стоит в двух шагах у алтаря и играет на своей скрипке мелодию, которая однажды так поразила и очаровала ее.
Глава 55
Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения неизвестных у нас и забытых в Богемии авторов, которые перешли к Зденко от его предков и которые молодой граф записал после долгих трудов и дум. Он так проникся духом этих произведений, на первый взгляд диких, но глубоко трогательных и истинно прекрасных своей серьезной и ясной манерой, и так усвоил их, что мог долго импровизировать на эти темы, дополняя их собственными вариациями, схватывая и развивая основное чувство произведения, но не поддаваясь чрезмерно своему личному вдохновению, а сохраняя благодаря искусному и вдумчивому толкованию своеобразный, строгий и проникновенный характер этих старинных напевов. Консуэло хотела было запомнить эти драгоценные образцы пламенного народного гения старой Богемии, но это ей не удавалось, отчасти из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, отчасти из-за неопределенности этой музыки, чуждой ее уху.
Есть музыка, которую можно назвать естественной, так как она является плодом не науки и не размышления, а вдохновения, не поддающегося строгим правилам или условностям. Такова народная музыка, по преимуществу музыка крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает среди них, так и не удостоившись точной записи и не получив окончательного отображения в виде определенной темы. Неизвестный артист, который импровизирует безыскусственную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом (а таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее поэтичными), редко когда сумеет запомнить и тем более записать свои мимолетные мысли. От него эта баллада переходит к другим музыкантам, таким же детям природы, как и он сам, а те ее переносят из деревни в деревню, из хижины в хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему дарованию. Вот почему эти деревенские песни и романсы, такие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, большей частью утрачиваются и редко живут больше ста лет в памяти народа. Ученые музыканты не особенно заботятся их собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным пониманием и возвышенным чувством, других же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную первоначальную мелодию, которая, быть может, уже не существует и для самого автора и которую, разумеется, никогда не оставляли определенной и неизменной многочисленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему невежеству, другие развивали, украшали и улучшали ее благодаря своему превосходству, ибо изучение искусства не заглушило в них непосредственности восприятия. Они и сами не сознавали, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные слушатели тоже не замечали этого. Крестьянин не исследует и не спрашивает. Если небо создало его музыкантом, он поет как птица – подобно соловью, без устали импровизирующему, хотя основные элементы его пения, варьируемые до бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна. Ему не нужно записывать свои произведения, – он творит без отдыха, подобно земле, им обрабатываемой; он творит ежечасно, подобно природе, его вдохновляющей.
В сердце Консуэло была и чистота, и поэзия, и чуткость – словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В этом тоже проявлялась великая артистка, и усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни свежести, ни мягкой нежности – этих сокровищ вдохновения и юности души. Бывало, она не раз тайком от Порпоры признавалась Андзолето, что некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу, чем все высокие произведения падре Мартини или маэстро Дуранте вместе взятые. Испанские песни и болеро, исполнявшиеся ее матерью, были для нее источником поэзии, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Чехии, вдохновение этого народа – народа пастухов и воинов, фанатично-сурового и нежного, сильного в своей трудовой жизни! Все в этой музыке было для нее и ново и поразительно. Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего ее могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающую сердце жалобу – эти следы угнетения, запечатлевшиеся в душе его народа и его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации и уныния, благодарственных гимнов и воплей отчаяния было самым совершенным и самым глубоким выражением переживаний несчастной Богемии и несчастного Альберта.
Справедливо говорят, что цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробуждает столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека; никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие народов, бурю их страстей и тяжесть страданий. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, смятение, энтузиазм, вера, сомнение, слава, спокойствие – все это и еще многое другое музыка дает нам или отнимает у нас силою своего гения и в меру нашей восприимчивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и, не впадая в мелочные звуковые эффекты или в узкое подражание шумам действительности, показывает нам сквозь туманную дымку, возвышающую и обожествляющую их, те предметы внешнего мира, к которым она уносит наше воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних соборов и в то же время заставили нас проникнуть в мысли народов, которые построили их и повергались там ниц, распевая свои религиозные гимны. Для того, кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто сумел бы должным образом ее слушать, нет надобности ездить по всему свету, знакомиться с разными национальностями, осматривать их памятники, читать их книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Хорошо переданная еврейская мелодия переносит нас в синагогу; вся Шотландия отражается в подлинной шотландской песне, как и вся Испания в подлинной испанской. Таким образом мне удалось не раз побывать в Польше, в Германии, в Неаполе, в Ирландии, в Индии, и я лучше знаю этих людей и эти страны, чем если бы мне пришлось изучать их целые годы. В одно мгновение я переносился к ним и жил их жизнью; обаяние музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой жизни.
Постепенно Консуэло перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась, а чувства, отрешившись от внешних восприятии, витали в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали иные существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и в то же время прекрасном, мечутся призраки былых героев Чехии; она слышала погребальный звон монастырских колоколов, в то время как грозные табориты, худые, полунагие, окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих укрепленных гор. Потом она видела ангелов смерти – на облаках, с чашей и мечом в руке; повиснув густой толпою над головами вероломных первосвященников, они изливали на проклятую землю чашу божьего гнева. И ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа крупными каплями падает за их спинами, чтобы угасить пожар, зажженный их яростью. То ей рисовалась ночь, полная ужаса и мрака, и она слышала стоны и хрипение умирающих, покинутых на поле битвы; то мерещился ей ослепительно палящий день, и «Грозный слепец», в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проносился, словно молния, на своей повозке. Храмы открываются сами собой при его приближении, монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища. Тогда победители приносят изможденных старцев, покрытых, подобно Лазарю, язвами, прибегают юродивые, распевая и смеясь, как Зденко, проходят палачи, обрызганные запекшейся кровью, малые дети с непорочными руками и ангельскими личиками, женщины-воительницы со связками пик и смоляных факелов – и все усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на апокалиптических картинах Альбрехта Дюрера, подносит к их жаждущим устам деревянную чашу прощения, искупления и божественного равенства.
Этот ангел является во всех видениях, проносящихся в эту минуту перед глазами Консуэло. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых; он влачит за собою порванные им цепи, и его бурые крылья, истрепанные и повисшие, хранят на себе следы насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, оскверненным злодеяниями, он прижимает к своей груди маленьких детей.
Вдруг Консуэло почудилось, будто скрипка Альберта заговорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, поддерживающего вас в борьбе. Я не демон, я – архангел, вождь восстания и покровитель великой борьбы. Как и Христос, я – бог бедных, слабых и угнетенных. Когда он обещал вам царство божие на земле, когда он возвещал вам свое второе пришествие, он этим хотел сказать, что после преследований вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с ним и со мною свободу и счастие. Мы должны были вернуться вместе, и действительно возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое. Это он, божественное начало, бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило невежество и где я, горя в пламени вожделения и негодования, претерпевал муки, подобные тем, что заставили и его испытать на кресте книжники и фарисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми; он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил меня с богом и с вами. Отныне правом и уделом слабого будет не хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус милосерд, кроток, нежен и справедлив; я тоже справедлив, но я силен, воинственен, суров и упорен. О народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь? Того, который среди всех твоих бедствий поддерживал тебя, говоря: «Добивайся счастья, не отрекайся от него. Счастье – твое право! Требуй его, и ты его добьешься!» Разве ты не видишь на моем челе следов всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах рубцов от оков, которые ты носил? Испей чашу, которую я тебе принес: ты найдешь в ней мои слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными, и ты почувствуешь, что они одинаково жгучи и одинаково целительны».
Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце Консуэло. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными спутанными волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той братской, благоговейной любовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей почудилось, будто, окруженный группой чешских братьев, он обратился именно к ней, мягко упрекая за недоверие и страх, почудилось, будто он притягивает ее к себе магнетическим взором, против которого невозможно устоять. Очарованная, вне себя, она вскочила, бросилась к нему и, протянув руки, опустилась перед ним на колени. Альберт выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с криком удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. Это его она слышала, его видела, мечтая о мятежном ангеле; это его лицо притягивало и покоряло ее. Это ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся голосом: «Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и божья навеки!»
Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее губам, как она вся похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, одновременно леденя и обжигая ее. Внезапно очнувшись от своей мечты, она была так страшно потрясена, что ей показалось, будто она умирает; вырвавшись из объятий графа, она упала на алтарь, и груда черепов со страшным шумом рухнула на нее. Покрытая этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого она только что, в минуту безумного возбуждения, обнимала, как бы давая ему этим право на свою душу и свою судьбу, она почувствовала такую ужасную, такую мучительную тоску, что, спрятав лицо в распустившихся волосах и рыдая, закричала:
– Скорей отсюда, скорей! Ради бога, воздуха! Света! Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне увидеть солнце!
Альберт, видя, как она все больше бледнеет и начинает бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но в своем ужасе она этого не поняла, вскочила и кинулась бежать в глубь пещеры, не обращая внимания на воды потока, таившего в некоторых местах несомненную опасность.
– Ради бога! – закричал Альберт. – Не туда! Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!
Но крик его только усилил ее страх, и она, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед, дважды с легкостью козы перепрыгнув через излучины потока; наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь, обсаженную кипарисами, она упала ничком на мягкую, недавно взрыхленную землю.
Этот толчок разрядил ее нервное состояние: ужас сменился в ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, она лежала, не отдавая себе отчета в том, что с ней произошло, так что граф смог наконец подойти. У него хватило присутствия духа захватить один из горевших факелов, в расчете на то, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное и глубокое место потока, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой человек, совсем подавленный и разбитый такими внезапно пережитыми противоположными волнениями, не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села на земляную насыпь, о которую только что споткнулась. Она тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, – недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и засохшими цветами. Как ужаленная, она вскочила и, не будучи в силах справиться с новым охватившим ее припадком ужаса, вскричала:
– О Альберт, кого вы похоронили здесь?
– Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на свете до встречи с вами, – с глубочайшей скорбью ответил он. – Если это святотатство, господь простит мне его! Я совершил его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее на воздух. Идемте, Консуэло, покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастливейшим и несчастнейшим из людей.
– О да! Выйдем отсюда! Я не знаю, какие испарения поднимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю рассудок.
Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом шел впереди, освещая своей спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэло, несмотря на свое состояние, как истая артистка, вспомнила о драгоценном инструменте.
– Альберт, – сказала она, – вы забыли у источника вашу чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до сей поры переживаний, что я никак не могу примириться с тем, чтобы она погибла там от сырости.
Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь все, кроме Консуэло. Но она продолжала настаивать:
– Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же…
– Если она вам сделала только зло, пусть погибает! – с горечью проговорил он. – Во всю свою жизнь я не дотронусь до нее. Мне даже хочется, чтобы она погибла как можно скорее.
– Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только зло, – возразила Консуэло, в которой снова проснулось уважение к музыкальному дарованию графа. – Просто волнение оказалось выше моих сил – и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней! Мне хочется собственноручно и бережно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне вернется мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее.
Консуэло была тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее граф за эти слова надежды. Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской стыда вспомнила она лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но при этом она не могла не преклониться мысленно перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться таким моментом, чтобы сказать ей хотя бы одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда. Она почувствовала к нему бесконечную благодарность за эту тонкость чувств и дала себе слово смягчить самыми ласковыми словами прощальное приветствие, предстоящее им при выходе из подземелья.
Но воспоминание о Зденко, подобно мстительному призраку, продолжало преследовать ее, обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за исключением одного, были ей понятны по той причине, что она знала их наизусть. На черной двери чья-то рука (это могла быть только рука Зденко) мелом написала: «Обиженный да… тебе». Одно слово было непонятно для Консуэло, это изменение очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал в футляр свою скрипку: у Консуэло не хватило мужества сделать это, – больше того, ей даже в голову не пришло исполнить то, что она обещала. Ее снова охватило желание выйти поскорее из этого подземелья. Пока Альберт с трудом запирал заржавленный замок, она не смогла удержаться и, указав пальцем на таинственное слово, вопросительно взглянула на своего спутника.
– Оно значит, – со странным спокойствием ответил Альберт, – что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что с вами говорили, Консуэло…
– Да, сатана, я знаю. Но что же дальше?
– Так вот: «Сатана пусть простит тебе!»
– Что простит? – спросила она, бледнея.
– Если страдание тоже требует прощения, то мне нужно долго молиться, – с какой-то светлой грустью проговорил граф.
Они вышли в галерею и до самого «Подвала монаха» не проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэло увидела, как безмолвные слезы двумя ручьями медленно катятся по его щекам. Это огорчило девушку; и все-таки, когда Альберт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она уже собиралась промочить ноги в этой солоноватой воде, лишь бы не позволить ему взять себя на руки. Отказалась она от его услуг под тем предлогом, что он, видимо, очень устал, и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг Альберт, загасив факел, проговорил:
– Прощайте же, Консуэло, видя ваше отвращение к себе, я должен погрузиться в вечную ночь: как призрак, вызванный вами на мгновение, я сумел только напугать вас – и потому я возвращаюсь в свою могилу.
– Нет, ваша жизнь принадлежит мне, – воскликнула Консуэло, оборачиваясь и удерживая его. – Вы дали мне клятву никогда без меня не входить в эту пещеру, и вы не имеете права взять ее назад.
– Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возложить на призрак?
Одинокий – лишь тень человека; а тот, кого не любят, одинок всюду и со всеми.
– Альберт! Альберт! Вы надрываете мне сердце! Пойдемте, несите меня отсюда! Быть может, при дневном свете я наконец разберусь в своей судьбе.
Глава 56
Альберт повиновался, и, когда они стали спускаться со Шрекенштейна в долину, Консуэло почувствовала, что волнение ее действительно утихает.
– Простите мне то страдание, которое я причинила вам, – проговорила она, слегка опираясь на его руку. – Теперь я не сомневаюсь, что в пещере у меня был припадок безумия.
– К чему вспоминать о нем, Консуэло? Я никогда не заговорил бы о нем с вами; я прекрасно знаю, что эту минуту вы хотите вычеркнуть из своей памяти. Мне тоже надо стремиться забыть о ней.
– Друг мой, я не хочу забыть об этом припадке, но хочу, чтобы вы его простили. Расскажи я вам странное видение, которое почудилось мне в то время, когда вы исполняли ваши богемские мелодии, вы поняли бы, что, поразив и напугав вас, я была вне себя. Не можете же вы допустить, что я забавлялась, играя вашим рассудком и вашим спокойствием… Бог свидетель, что я и сейчас готова отдать за вас жизнь.
– Знаю, Консуэло, что вы не дорожите своей жизнью, а я вот чувствую, что цепко ухватился бы за свою, если бы…
– Договаривайте же!
– Если б был любим так, как я люблю!
– Альберт, я люблю вас, насколько это для меня возможно, и, наверно, полюбила бы вас, как вы того заслуживаете, если бы…
– Ну, теперь договаривайте вы!
– Если б из-за непреодолимых препятствий это не было преступно с моей стороны.
– Какие же это препятствия? Я все ищу их и не могу найти. Видно, они в глубине вашего сердца, в ваших воспоминаниях!
– Не будем говорить о моих воспоминаниях: они так ужасны, что для меня было бы лучше умереть, чем снова пережить прошлое. Но ваше положение в свете, ваше богатство, противодействие и возмущение ваших родных – где мне взять мужество, чтобы перенести все это? У меня нет ничего, кроме чувства собственного достоинства и бескорыстия; что останется мне, если я пожертвую и этим?
– Моя любовь и твоя, если бы ты любила меня, но я чувствую, что этого нет, и прошу у тебя лишь немного – жалости. Как можешь ты быть унижена, даря мне, словно милостыню, немного счастья? Кто же из нас двоих был бы у ног другого? И как может мое богатство опозорить тебя? Если оно тяготит тебя, как и меня, мы могли бы тотчас же раздать его бедным. Неужели» ты думаешь, что я давным-давно не решил поступить с ним согласно своим вкусам и взглядам, то есть избавиться от него, когда смерть отца прибавит к горю разлуки еще ужас получения наследства? Итак, тебя пугает богатство? Но я дал обет бедности. Ты боишься блеска моего имени? Оно поддельно, а настоящее мое имя в опале. Я не верну его себе, – это было бы неуважением к памяти отца, – но клянусь тебе: в той безвестности, в которой я буду жить, имя Рудольштадт никого уже не ослепит, и ты не сможешь упрекнуть меня в этом. Что же касается противодействия моих родных… О, будь только одно это препятствие! Скажи, что нет другого, и ты увидишь!
– Это величайшее из всех препятствий, единственное, которое не в силах устранить ни вся моя преданность вам, ни вся благодарность.
– Ты лжешь, Консуэло! Посмей поклясться, что ты говоришь правду! Это не единственное препятствие!
Консуэло была в нерешительности: она никогда не лгала; а с другой стороны, ей хотелось загладить страдания, причиненные другу, который спас ей жизнь и заботился о ней три месяца, как самая нежная, любящая мать. Она надеялась смягчить свой отказ, сославшись на препятствия, которые действительно считала непреодолимыми. Но настойчивые расспросы Альберта смущали ее, а собственное сердце было для нее каким-то лабиринтом, где она запуталась; она не могла сказать себе с уверенностью, любит или ненавидит она этого странного человека, к которому ее влекла таинственная, могучая симпатия, в то время как непреодолимый страх и что-то похожее на отвращение вызывали в ней дрожь при одной мысли о браке с ним.
Ей казалось в эту минуту, что она ненавидит Андзозото. Да и могла ли она испытывать другое чувство, сравнивая этого грубого эгоиста, этого гнусного честолюбца, подлого и коварного, с Альбертом, таким великодушным, добрым, таким чистым, полным самых высоких и романтических достоинств? В этом сопоставлении было лишь одно темное пятно – посягательство на жизнь Зденко (от этого подозрения она никак не могла отделаться). Но не было ли это подозрение плодом ее больного воображения, не был ли это просто кошмар, который рассеется при первом же объяснении? И она решила, не откладывая, попытаться выяснить это. С деланно рассеянным видом, словно не расслышав последнего вопроса Альберта, она остановилась и, глядя на проходившего неподалеку крестьянина, воскликнула:
– Боже мой! Мне показалось, что это Зденко.
– Альберт вздрогнул и, выпустив руку Консуэло, которой та опиралась на него, быстро пошел вперед, потом вдруг остановился и вернулся обратно со словами:
– Как вы ошиблись, Консуэло: этот человек ни единой черточкой не напоминает… – Он так и не был состоянии произнести имя Зденко. Вид у него при этом был страшно взволнованный.
– Однако вам самому сначала тоже так показалось, – возразила Консуэло, внимательно следя за ним.
– Я очень близорук, но мне следовало бы помнить, что такая встреча невозможна.
– Невозможна? Стало быть, Зденко очень далеко отсюда?
– Достаточно далеко, чтобы вам не бояться его безумия.
– Не можете ли вы мне объяснить, откуда у него взялась эта внезапная ненависть, после того как он выказывал мне такую симпатию?
– Я уже говорил вам, что это нашло на него после сна, который он видел накануне того дня, когда вы спустились в подземелье. Ему приснилось, будто мы с вами подходим к алтарю и вы даете мне слово стать моей женой, и в это время вы вдруг запели наш старинный богемский гимн да так громко, что задрожала вся церковь. И будто, пока вы пели, я, все больше и больше бледнея, проваливался сквозь пол церкви и наконец, мертвый, был погребен в усыпальнице наших предков. Тогда будто бы вы, поспешно сбросив свадебный венок, толкнули ногой плиту, которая тут же и прикрыла меня, а сами пустились плясать на погребальном камне, распевать на неизвестном языке непонятные вещи с выражением самой необузданной, самой лютой радости. В ярости он бросился на вас, но вы исчезли, словно дым, и тут он проснулся, страшно озлобленный, обливаясь холодным потом. Его крики и проклятия так громко отдавались под сводами кельи, что я тоже проснулся. Мне стоило большого труда заставить его рассказать свой сон и еще труднее было убедить в том, что сон этот не может оказать никакого влияния на мою судьбу. Мне было особенно трудно разуверить его, так как я сам был в страшно возбужденном, болезненном состоянии, а также потому, что до тех пор никогда не пытался этого делать, поскольку он верил в свои видения и сны. Однако на следующий день после этой беспокойной ночи мне показалось, что он либо совсем забыл об этом сне, либо перестал придавать ему значение, так как больше не вспоминал о нем, и когда я попросил его пойти поговорить с вами обо мне, он не оказал никакого сопротивления. Ему, очевидно, никогда даже в голову не приходило, что вы захотите и сможете разыскать меня тут, и его безумие проснулось, только когда он увидел, что вы решились на это. Во всяком случае, он не говорил мне о своей ненависти к вам до той минуты, пока мы, возвращаясь с вами из кельи, не встретили его в подземной галерее. Тут он лаконически сказал мне по-чешски, что намерен и решил избавить меня от вас (это его подлинное выражение), уничтожив вас при первой же встрече на том основании, что вы бич моей жизни и что в ваших глазах он читает мой смертный приговор. Простите, что я передаю вам его безумные слова, и поймите теперь, почему мне было необходимо удалить его и от вас и от себя. Не будем больше говорить об этом, умоляю вас: тема эта мне очень тяжела. Я любил Зденко, как свое второе «я». Его безумие до того слилось с моим и отождествилось, что у нас являлись одни и те же мысли, одни и те же видения, даже физические страдания у нас бывали одинаковые. Он был более наивен и, следовательно, более поэт, чем я; у него был более ровный характер, и в то время как мне являлись ужасные и грозные призраки, он благодаря своей более мягкой и более спокойной натуре видел тихие и грустные. Основная разница между нами заключалась в том, что мои припадки повторялись время от времени, а его экзальтированное состояние было постоянным. Я то бывал охвачен безумием, то становился бесстрастным, унылым зрителем своего несчастья, тогда как он жил словно в мире грез, где все внешние предметы принимали символические образы. И этот бред был всегда так полон любви и нежности, что в минуты моего просветления (конечно, самые мучительные для меня) мне был поистине необходим, чтобы оживить и примирить меня с жизнью, тихий, но изобретательный безумец Зденко.
– О друг мой, – вырвалось у Консуэло, – вы должны были бы ненавидеть меня, и я сама себя ненавижу за то, что лишила вас такого драгоценного, преданного друга. Но разве не пора кончить с этим изгнанием? Я думаю, что буйство его уже прошло…
– Прошло… вероятно… – проговорил с горькой, загадочной улыбкой Альберт, делая ударение на слове «вероятно».
– Так почему же, – продолжала Консуэло, стараясь отогнать мысль о смерти Зденко, – почему вы не призовете его обратно? Уверяю вас, я не буду его бояться, и нам вдвоем, наверно, удалось бы заставить его забыть свое предубеждение против меня…
– Не говорите этого, Консуэло, – уныло остановил ее Альберт, – возвращение его невозможно. Я пожертвовал своим лучшим другом, тем, кто был моим спутником, моим слугой, моей опорой, кто был для меня предусмотрительной, неутомимой матерью и в то же время простодушным, невежественным и послушным ребенком. Он заботился о всех моих нуждах, о всех моих жалких, невинных удовольствиях. Он защищал меня от самого себя, когда на меня находили приступы отчаяния, и силой или хитростью задерживал меня в подземелье, если видел, что в мире живых, в обществе других людей я не в состоянии сохранить ни своего достоинства, ни жизни. Жертву эту я принес без оглядки и раскаяния, ибо я должен был так поступить, поскольку вы, безбоязненно встретившая опасности подземелья, вы, возвратившая мне рассудок и сознание моих обязанностей, – вы стали для меня более драгоценной и более священной, чем сам Зденко.
– Альберт, это заблуждение, а быть может, и кощунство! Нельзя сравнивать одну минуту мужества с преданностью целой жизни!
– Не думайте, что я поступил так под влиянием эгоистичной, дикой любви. Такую любовь я сумел бы заглушить в своем сердце, и я скорее заперся бы со Зденко в подземелье, чем разбил бы сердце и жизнь лучшего из людей. Но глас божий прозвучал определенно. Я боролся со своим увлечением: я бежал от вас, решил не встречаться с вами до тех пор, пока мои мечты и предчувствия, говорящие, что вы ангел, несущий мне спасение, не осуществятся. До этого ужасного, лживого сна, внесшего такую смуту в кроткую, набожную душу Зденко, он разделял со мной и мое влечение к вам, и мои страхи, и мои надежды, и мои благоговейные стремления. Несчастный, он отрекся от вас в тот день, когда вы открыли мне себя! Божественный свет, всегда озарявший тайники его мозга, вдруг погас, и бог осудил его, вселив в него дух заблуждения и ярости. Я тоже должен был покинуть его, ибо вы явились предо мной в лучах славы, вы опустились ко мне на крыльях чуда. Чтобы раскрыть мне глаза, вы нашли слова, которых при вашем твердом уме и артистическом образовании вы не могли знать или подготовить заранее. Вас вдохновило сострадание и милосердие, и под их чудодейственным влиянием вы сказали мне то, что мне необходимо было услышать, чтобы узнать и постичь жизнь человеческую.
– Что же я вам сказала такого мудрого, такого значительного? Право, Альберт, я и сама не знаю.
– Я тоже не знаю, но сам бог был в звуке вашего голоса, в ясности вашего взора. Подле вас я мгновенно понял то, до чего один не додумался бы за всю свою жизнь. Прежде я знал, что моя жизнь – искупление и мученичество, и ждал свершения своей судьбы во тьме и уединении, в слезах, в негодовании, в науке, в аскетизме, в умерщвлении своей плоти. Вы открыли предо мной иную жизнь, иное мученичество: вы научили меня терпению, кротости, самоотверженности; вы начертали мне наивно и просто мои обязанности, начиная с обязанностей по отношению к моей семье; о них я совсем забыл, а родные по чрезмерной доброте своей скрывали от меня мои преступления. Благодаря вам я загладил их и по спокойствию, которое тотчас же почувствовал, понял, что это все, чего бог требует от меня в настоящем. Я знаю, конечно, что этим не исчерпываются мои обязанности, и жду откровения божьего относительно дальнейшего моего существования. Но теперь я спокоен, у меня есть оракул, которого я могу вопрошать. Это вы, Консуэло! Провидение дало вам власть надо мной, и я не восстану против его воли. Итак, я не должен был ни минуты колебаться между высшей силой, наделенной даром переродить меня, и бедным, пассивным существом, которое только делило до этого мои горести и выносило мои бури.
– Вы говорите о Зденко, не правда ли? Но почему вам не приходит в голову, что бог мог предназначить меня и для его исцеления? Вы видите, что у меня была какая-то власть над ним, раз мне удалось удержать его одним словом в ту минуту, когда рука его уже была занесена, чтобы погубить меня.
– О боже, это правда, у меня не хватило веры, я испугался. Но я знаю, что значит клятва Зденко. Он, помимо моей воли, поклялся жить только для меня и свято выполнял эту клятву в течение всей моей жизни. Когда он поклялся уничтожить вас, мне даже в голову не пришло, что можно удержать его от выполнения его намерения. Вот почему я решился оскорбить, изгнать, сокрушить, уничтожить его самого.
– Уничтожить! О боже! Альберт, что значит это слово в ваших устах?
Где Зденко?
– Вы спрашиваете меня, как бог спросил Каина: «Что сделал ты со своим братом?»
– О господи! Но вы не убили его, Альберт! Выкрикнув эти страшные слова, Консуэло крепко стиснула руку Альберта, глядя на него со страхом, смешанным с мучительным состраданием. Но она сейчас же отшатнулась – так ужаснуло ее холодное, гордое выражение этого бледного лица, где, казалось, застыла мука.
– Я не убил его, – наконец произнес он, – но отнял у него жизнь – это несомненно. Неужели вы осмелитесь поставить мне это в вину, вы, ради которой я, пожалуй, убил бы таким же образом собственного отца? Вы, ради которой я не побоялся бы никаких угрызений совести, не побоялся бы порвать самые дорогие узы, разбить самое святое? Если я предпочел страху увидеть вас зарезанной безумцем, раскаяние и сожаление, которые меня гложут, то неужели в вашем сердце не найдется хоть немного сострадания, чтобы не напоминать мне постоянно о моем горе и не упрекать меня за величайшую жертву, которую я только был в силах вам принести? Ах, значит, и у вас бывают минуты жестокости! Видно, жестокость – удел всего рода человеческого!
В этом упреке – первом, который Альберт осмелился ей сделать, – было столько величия, что Консуэло прониклась страхом и яснее, чем когда-либо раньше, почувствовала, что он внушает ей ужас. Нечто вроде чувства оскорбленного самолюбия – чувства, пожалуй, мелкого, но неотделимого от сердца женщины, заступило место той сладостной гордости, которую она невольно испытала, слушая рассказ Альберта о его страстном поклонении ей. Она почувствовала себя униженной и, конечно, непонятой: ведь она стремилась узнать его тайну единственно потому, что намеревалась или, во всяком случае, желала ответить на его любовь, – если бы он снял с себя это страшное подозрение. И в то же время она видела, что Альберт в душе обвиняет ее: видимо, он считал, что если он и убил Зденко, то единственный человек, не имеющий права произнести над ним приговор, – это тот, жизнь которого потребовала жертву другой жизни, да еще жизни, бесконечно для него дорогой.
Консуэло не смогла ничего ответить; она попыталась было заговорить о другом, но слезы мешали ей. Увидя, что его любимая плачет, Альберт, полный раскаяния, стал молить у нее прощения, но она попросила его никогда не касаться этого вопроса, столь опасного для его душевного равновесия, и прибавила с каким-то горьким унынием, что сама никогда не произнесет больше имени, вызывающего у них обоих такое ужасное душевное волнение. Во время остальной части пути оба чувствовали напряженность и тоску. Несколько раз порывались они заговорить, но из этого ничего не получалось. Консуэло не отдавала себе отчета в том, что она говорит, не слышала и того, что говорил ей Альберт. Однако он казался спокойным, словно Авраам или Брут после жертвы, принесенной по требованию суровой судьбы. Это грустное, но невозмутимое спокойствие при такой тяжести на душе казалось остатком безумия, и Консуэло могла оправдать своего друга, только вспомнив, что он все-таки безумен. Если бы, чтобы спасти ее жизнь, он убил своего противника в открытом бою, она увидела бы в этом только лишний повод для благодарности и, пожалуй, даже восхитилась бы его силой и храбростью. Но это таинственное убийство, совершенное, очевидно, во тьме подземелья, эта могила, вырытая в молельне, это суровое молчание после преступления, этот стоический фанатизм, – ведь он дерзнул свести ее в пещеру и наслаждаться там музыкой, – все это в глазах Консуэло было чудовищно, и она чувствовала, что любовь этого человека не находит дороги к ее сердцу.
«Когда же мог он совершить это убийство? – спрашивала она себя. – В течение последних трех месяцев я ни разу не видела, чтобы лицо его омрачилось, и ничто не давало мне повода заподозрить, что у него нечистая совесть. Неужели был день, когда он мог мою протянутую руку пожать рукой, на которой были капли крови? Какой ужас! Верно, он сделан из камня, изо льда, и любовь его ко мне какая-то зверская. А я так жаждала быть безгранично любимой! Так горевала, что меня недостаточно любят! Так вот какую любовь приберегало для меня небо в утешение!
Потом она снова принялась думать о том, когда именно мог совершить Альберт свое отвратительное жертвоприношение, и решила, что это могло произойти только во время ее серьезной болезни, когда она была безучастна ко всему окружающему; но тут ей вспомнился его нежный заботливый уход, и она уж совсем не могла постичь, как в одном и том же человеке уживались два столь различных существа.
Погруженная в свои мрачные думы, она дрожащей рукою рассеянно брала цветы, которые Альберт имел обыкновение срывать для нее по дороге, зная, что она их обожает. Ей даже не пришло в голову расстаться со своим другом, не доходя до замка, и вернуться одной, чтобы таким образом скрыть их долгую совместную прогулку. Да и Альберт – потому ли, что он тоже не подумал об этом, или не считал больше нужным притворяться перед своей семьей – ничего ей не сказал. И вот у самого входа в замок они столкнулись лицом к лицу с канониссой. Тут Консуэло (и, вероятно, также и Альберт) впервые увидела, как лицо этой женщины, об уродстве которой обыкновенно забывали благодаря его доброму выражению, запылало от гнева и презрения.
– Вам, синьора, давно следовало бы вернуться, – обратилась она к Порпорине дрожащим и прерывающимся от негодования голосом. – Мы очень беспокоились о графе Альберте, отец его даже не пожелал без него завтракать. У него был назначен на сегодняшнее утро разговор с сыном, о чем вы нашли возможным заставить забыть графа Альберта. Что же касается вас, то какой-то юнец, назвавший себя вашим братом, ожидает вас в гостиной, притом слишком уж нетерпеливо.
Произнеся эти гневные слова, бедная Венцеслава, сама испугавшись собственной смелости, круто повернулась к ним спиной и убежала в свою комнату, где по крайней мере с час кашляла и плакала.
Глава 57
– Моя тетушка в странном расположении духа, – заметил Альберт Консуэло, поднимаясь с нею по ступенькам. – Прошу за нее прощения, друг мой; будьте уверены, что сегодня же она изменит и свое обращение и свою манеру говорить с вами.
– Мой брат? – в полном недоумении от только что сообщенного ей известия повторила Консуэло, не слыша слов молодого графа.
– А я и не знал, что у вас есть брат, – заметил Альберт, на которого поведение тетки произвело более сильное впечатление, чем это сообщение. – Конечно, для вас большое счастье повидаться с ним, дорогая Консуэло, и я рад…
– Не радуйтесь, граф, – прервала его Консуэло, которую вдруг охватило тяжелое предчувствие, – мне, быть может, предстоит большое огорчение, и…
Вся дрожа, она остановилась и уже готова была попросить совета и защиты у своего друга, но побоялась слишком связать себя с ним. И вот, не смея ни принять, ни оттолкнуть того, кто явился к ней, прикрывшись ложью, она вдруг почувствовала, что у нее подкашиваются ноги, и, побледнев, прислонилась к перилам на последней ступеньке крыльца.
– Вы боитесь недобрых вестей о вашей семье? – спросил Альберт, в котором тоже начинало пробуждаться беспокойство.
– У меня нет семьи, – отвечала Консуэло, делая усилие, чтобы идти дальше.
Она хотела было прибавить, что у нее нет и брата, но какое-то смутное опасение удержало ее. Войдя в столовую, она услышала в соседней гостиной шаги путешественника, быстро, с явным нетерпением ходившего по комнате из угла в угол. Невольно она шагнула к графу, как бы стремясь укрыться за его любовью от надвигающихся на нее страданий, и схватила его за руку.
Пораженный Альберт почувствовал, что в нем пробуждаются смертельные опасения.
– Не входите без меня, – прошептал он. – Предчувствие, а оно меня никогда не обманывает, говорит мне, что этот брат – враг и ваш и мой. Я холодею, мне страшно, точно я вынужден кого-то возненавидеть.
Консуэло высвободила свою руку, которую Альберт крепко прижимал к груди. Она содрогнулась при мысли, что у него вдруг может явиться одна из его странных идей, одно из тех непреклонных решений, печальным примером которых служила для нее предполагаемая смерть Зденко.
– Расстанемся здесь, – сказала она ему по-немецки (из соседней комнаты ее могли уже слышать). – В данную минуту мне нечего бояться, но если мне будет грозить опасность, поверьте, Альберт, я прибегну к вашей защите.
Страшно подавленный, боясь быть навязчивым, он не посмел ослушаться ее, уйти же из столовой все-таки не решился. Консуэло поняла его колебания и, войдя в гостиную, закрыла обе двери, чтобы он не мог ни видеть, ни слышать то, что должно было произойти.
Андзолето (это был он, о чем она сразу догадалась по его дерзости и тотчас узнала по походке) приготовился смело встретиться с ней и по-братски расцеловать при свидетелях. Когда же она вошла одна, бледная, но холодная и суровая, вся храбрость покинула его, и, бормоча что-то, он бросился к ее ногам. Ему не надо было притворяться: безграничная радость и нежность залили его сердце, когда наконец он нашел ту, которую, несмотря на свою измену, никогда не переставал любить. Он зарыдал, а так как она отнимала у него руки, он целовал и обливал слезами край ее платья. Консуэло не ожидала увидеть такого Андзолето. Четыре месяца он рисовался ей таким, каким показал себя в ночь разрыва: желчным, насмешливым, презреннейшим и ненавистнейшим из людей. Только сегодня утром она видела, как он нагло шел по дороге с бесшабашным, почти циничным видом. И вот он стоит перед ней на коленях, униженный, кающийся, весь в слезах, совсем как в бурные дни их страстных примирений, более привлекательный чем когда-либо, потому что дорожный костюм, грубоватый, но ловко на нем сидевший, очень шел к нему, а загар путешествий придавал более мужественный характер его поразительно красивому лицу.
Трепеща, словно голубка, захваченная ястребом, она вынуждена была сесть и закрыть лицо руками, чтобы защитить себя от обаяния его взгляда. Андзолето, объясняя это движение стыдом, снова расхрабрился, и его первоначальный искренний порыв сразу загрязнили дурные мысли. Покинув Венецию из чувства отвращения, явившегося своего рода возмездием за его проступки, он искал одного – удачи, но в то же время всегда жаждал и надеялся найти свою дорогую Консуэло. В нем жила уверенность, что такой поразительный талант не может остаться долго в безвестности, и он везде старался напасть на ее след, вступая в разговоры с содержателями гостиниц, проводниками, встречными путешественниками. В Вене он нашел несколько знатных соотечественников и признался им в своем побеге. Те посоветовали ему поселиться где-нибудь подальше от Венеции и выждать, пока граф Дзустиньяни забудет или простит его проделку. Обещая ему свою помощь, они в то же время снабдили его рекомендательными письмами в Прагу, Берлин и Дрезден. Проезжая мимо замка Исполинов, Андзолето не догадался расспросить проводника и только после часа быстрой езды, пустив лошадь шагом, снова заговорил с ним, интересуясь окрестностями и их жителями. Естественно, что проводник принялся рассказывать о графах фон Рудольштадт, об их образе жизни, о странностях графа Альберта, сумасшествие которого ни для кого не было тайной, особенно с тех пор, как к нему с такой нескрываемой неприязнью стал относиться доктор Вецелиус. Тут проводник для пополнения местных сплетен не преминул прибавить, что граф Альберт только что превзошел все свои чудачества, отказавшись жениться на своей благородной двоюродной сестре, красавице баронессе Амелии фон Рудольштадт: он увлекся какой-то авантюристкой, которая не очень хороша собой, но в которую, однако, все влюбляются, стоит ей запеть, потому что голос у нее удивительный.
Оба эти признака были так характерны для Консуэло, что наш путешественник не мог не поинтересоваться именем авантюристки и, услыхав, что ее зовут Порпориной, отбросил всякие сомнения. В ту же минуту он повернул коня обратно; моментально придумав, под каким предлогом и в качестве кого сможет он пробраться в столь строго охраняемый замок, он стал выпытывать у проводника новые сведения. Из болтовни этого человека он заключил, что Консуэло, несомненно, любовница молодого графа, который, конечно, женится на ней, так как, видимо, она околдовала всю семью; и вместо того чтобы выгнать ее, все окружают ее таким вниманием и заботами, какими никогда не пользовалась баронесса Амелия.
Эти подробности раззадорили Андзолето не меньше, а пожалуй, еще больше, чем его истинная привязанность к Консуэло. Он не раз вздыхал о прежней жизни, которую она умела сделать для него такой приятной, и прекрасно сознавал, что потеря ее советов и указаний если не губит окончательно, то сильно вредит его музыкальной карьере. Наконец, помимо всего, его влекла к ней любовь, хотя и эгоистичная, но глубокая и непреодолимая. А теперь ко всему этому присоединилось тщеславное искушение отбить Консуэло у богатого и знатного любовника, расстроить ее блестящий брак, заставить говорить и в здешних краях и в свете, что вот, мол, девушка предпочла убежать с ним, бедным артистом, вместо того чтобы стать графиней и владелицей замка. И он снова и снова заставлял проводника рассказывать о том, каким влиянием пользуется Порпорина в замке Исполинов, смакуя заранее, как этот самый человек будет повествовать другим путешественникам о красивом молодом иностранце, который вихрем влетел в негостеприимный замок Великанов, «пришел, увидел и победил», а через несколько часов или дней вышел оттуда, похитив у знаменитого, могущественного вельможи, графа фон Рудольштадта, талантливейшую из певиц…
При этой мысли он с такой силой вонзил шпоры в бока бедной лошади и так захохотал, что проводник подумал, не безумнее ли этот путешественник самого графа Альберта.
Канонисса встретила Андзолето недоверчиво, но не решилась его выпроводить, надеясь, что он увезет от них свою мнимую сестрицу. Узнав от нее, что Консуэло гуляет, Андзолето был очень раздосадован. Ему подали завтрак, во время которого он стал расспрашивать слуг. Один из них, немного понимавший по-итальянски, простодушно сказал, что он видел синьору на горе с молодым графом Альбертом. Андзолето испугался, как бы в первые минуты Консуэло не обдала его холодом, не держала бы себя надменно. Ему казалось, что если она до сих пор лишь целомудренная невеста сына хозяина замка, то непременно должна гордиться своим положением, а если уже стала его любовницей, то будет менее самоуверенной, опасаясь, как бы старый друг не испортил ей все дело. Победа над ней, невинной, рисовалась ему нелегкой, зато более славной; иное дело – победа над падшей. Но и в том и в другом случае можно было сделать попытку и надеяться на успех.
Андзолето был слишком наблюдателен, чтобы не заметить досады и беспокойства канониссы по поводу долгой прогулки Порпорины с ее племянником. Так как он еще не видел графа Христиана, то мог заключить, что проводник был плохо осведомлен, что на самом деле семейство со страхом и неудовольствием относится к любви молодого графа к авантюристке и что она смиренно опустит голову перед своим первым возлюбленным.
После четырех мучительных часов ожидания Андзолето, который успел за это время немало передумать, решил, судя по своей собственной, далеко не безупречной нравственности, что такое продолжительное пребывание Консуэло с его соперником говорит об их полной близости. Это придало ему смелости и решимости во что бы то ни стало дождаться ее, и после первого порыва нежности, охватившего его при появлении Консуэло, Андзолето, видя, как она, смущенная, задыхаясь, опустилась на стул, решил, что стесняться нечего. Это сразу развязало ему язык. Он начал обвинять себя во всем, что произошло, притворно унижаясь, проливал слезы, рассказывал об угрызениях совести и страданиях, описывая свои переживания в более поэтических красках, чем они могли быть в действительности, и наконец со всем красноречием венецианца и ловкого актера стал молить о прощении. Консуэло, взволнованная сначала самим звуком его голоса, больше боялась собственной слабости, чем могущества соблазна. За последние четыре месяца она тоже много передумала, и это помогло ей настолько прийти в себя, чтобы узнать в страстных уверениях Андзолето повторение того, что ей не раз приходилось слышать в последнее время их злосчастной любви. Ее оскорбило, что он повторяет все те же клятвы, те же мольбы, как будто ничего не произошло со времени тех ссор, когда она была еще так далека от предчувствия его гнусной измены. Возмущенная его наглостью к красноречием, тогда как были бы более уместны безмолвие стыда и слезы раскаяния, Консуэло встала и резко оборвала его разглагольствования, холодно проговорив:
– Довольно, Андзолето. Я вам давно простила и больше не сержусь. Возмущение сменилось жалостью; забыв свои страдания, я забыла и вашу вину. Нам больше нечего сказать друг другу. Благодарю за добрый порыв, который заставил вас прервать свое путешествие для примирения со мной. Как видите, вы были прощены заранее. Прощайте же и продолжайте свой путь.
– Уехать! Мне! Расстаться с тобой, снова потерять тебя! – вскричал Андзолето с непритворным испугом. – Нет, лучше прикажи мне сейчас же покончить с собой! Нет! Нет! Никогда я не соглашусь жить без тебя. Это невозможно, Консуэло, я уже убедился в этом. Там, где нет тебя, ничто для меня не существует. Отвратительное мое честолюбие, мерзкое тщеславие, из-за которых я тщетно хотел пожертвовать своей любовью, являются для меня источником не радости, а муки. Твой образ преследует меня всюду. Воспоминание о нашем счастье, таком чистом, целомудренном, таком восхитительном (ты сама разве можешь найти подобное?), всегда перед моими глазами. Все химеры, которыми я пытаюсь себя окружить, возбуждают во мне отвращение. О Консуэло, вспомни наши чудесные венецианские ночи, нашу лодку, наши звезды, наши нескончаемые песни, вспомни твои уроки и наши долгие поцелуи! Вспомни твою узкую кровать, где я спал один, пока ты читала на террасе свои молитвы! Разве я не любил тебя тогда? Разве человек, для которого ты была святыней всегда, даже когда спала, оставаясь с ним наедине, разве такой человек не способен любить? Если я был негодяем по отношению к другим женщинам, то разве я не был ангелом подле тебя? Чего мне это стоило, одному богу известно! О! Не забывай же всего этого! Ты уверяла тогда, что любишь меня, а теперь все позабыла! Я же, неблагодарный, чудовище, подлец, ни на мгновение не мог забыть нашей любви! И я не могу от нее отречься, а ты отказываешься без сожаления и без усилий! Но, видно, ты, святая, никогда не любила меня, а я, хоть я и дьявол, обожаю тебя…
– Возможно, – ответила Консуэло, пораженная искренностью его тона, что вы непритворно сожалеете о потерянном, оскверненном вами счастье, но это – возмездие, которое вы заслужили, и я не должна препятствовать вам нести его. Андзолето, счастье развратило вас, так пусть же небольшое страдание вас очистит! Ступайте и помните обо мне, если эта скорбь целительна для вас, а если нет, забудьте, как забываю вас я, которой нечего ни искупать, ни исправлять.
– Ах! У тебя железное сердце! – воскликнул Андзолето, удивленный и задетый за живое ее бесстрастным тоном. – Но не думай, что ты можешь так легко выгнать меня! Возможно, мой приезд стесняет тебя и мое присутствие тебе в тягость. Я прекрасно знаю, что ты готова пожертвовать воспоминаниями нашей любви ради титула и богатства. Но этому не бывать! Я не отступлюсь от тебя! И если мне придется тебя потерять, то это будет не без борьбы! Если ты меня вынудишь, то знай: в присутствии всех твоих новых друзей я напомню тебе наше прошлое, – скажу о клятве, которую ты мне дала у постели твоей умирающей матери и которую сто раз повторяла мне на ее могиле и в церквах, где мы, стоя на коленях, прижавшись друг к другу, слушали прекрасную музыку, а порою шептались. Смиренно, у ног твоих я напомню тебе – тебе одной – о некоторых вещах, и ты выслушаешь меня, а если нет… горе нам обоим, Консуэло! Мне придется рассказать при твоем новом возлюбленном о фактах, ему неизвестных. Они ведь ничего о тебе не знают, не знают даже, что ты была актрисой. Вот это я и доведу до их сведения, и посмотрим тогда, вернется ли к благородному графу Альберту его рассудок, чтобы оспаривать тебя у актера, твоего друга, твоей ровни, твоего жениха, твоего любовника! Не доводи меня до отчаяния, Консуэло, или…
– Что? Угрозы? Наконец-то я узнаю вас, Андзолето! – с негодованием проговорила Консуэло. – Что ж, я предпочитаю видеть вас таким и благодарю, что вы сняли с себя маску. Да, слава богу, теперь в моем сердце не будет ни сожалений, ни сострадания. Я вижу, сколько злобы в вашем сердце, сколько низости в вашем характере, сколько ненависти в вашей любви! Ступайте же, вымещайте на мне свою досаду – вы окажете мне этим большую услугу! Но если вы не научились еще клеветать так, как научились оскорблять, то не можете сказать обо мне ничего, за что мне пришлось бы краснеть.
Высказав все это, она направилась к двери, открыла ее и собиралась уже выйти, как вдруг столкнулась с графом Христианом. При виде этого почтенного старика, который, поцеловав руку Консуэло, вошел в комнату с приветливым и величественным видом, Андзолето, устремившийся было вслед за девушкой, чтобы удержать ее во что бы то ни стало, в смущении отступил, и от его смелости не осталось и следа.
Глава 58
– Прошу прощения, дорогая синьора, – начал старый граф, – что я не оказал лучшего приема вашему брату. Я сделал распоряжение не беспокоить меня, так как все утро был занят не совсем обычными делами, и мое распоряжение было выполнено слишком хорошо, ибо мне даже не доложили о приезде гостя, который и для меня и для всей моей семьи может быть только самым дорогим.
Затем, обращаясь к Андзолето, он прибавил:
– Поверьте, сударь, что я очень рад видеть у себя такого близкого родственника любимой нами Порпорины. Очень прошу вас остаться и гостить у нас, сколько вам будет угодно. Полагаю, что после такой долгой разлуки вам есть о чем поговорить, да и побыть вместе это уже большая радость. Надеюсь, что здесь вы будете чувствовать себя как дома, наслаждаясь счастьем, которое я разделяю с вами.
Против обыкновения, старый граф совершенно свободно говорил с посторонним человеком. Застенчивость его уже давно стала исчезать подле кроткой Консуэло, а в этот день его лицо было озарено каким-то особенно ярким светом, напоминавшим солнце в час заката. Андзолето растерялся перед величием, которое сияло на челе почтенного старца – человека с прямой и ясной душой. Юноша умел низко гнуть спину перед вельможами, в душе ненавидя и высмеивая их, – в большом свете, где в последнее время ему приходилось вращаться, у него было для этого слишком много поводов. Но никогда еще ему не доводилось встречать такого истинного достоинства, такой радушной, сердечной учтивости, как у старого владельца замка Исполинов. Он смущенно поблагодарил старика, почти раскаиваясь, что обманом выманил у него такой отеческий прием. Больше всего он боялся, что Консуэло может разоблачить его обман и сказать графу, что он вовсе не ее брат. Он чувствовал, что в эту минуту не в силах был бы ответить ей ни дерзостью, ни местью.
– Я очень тронута вашей добротой, господин граф, – ответила после минутного размышления Консуэло, – но брат мой, хотя он и бесконечно это ценит, не может воспользоваться вашим любезным приглашением: неотложные дела заставляют его спешить в Прагу, и он уже простился со мной…
– Но это невозможно! – воскликнул граф. – Вы почти не виделись!
– Он потерял несколько часов, ожидая меня, и теперь у него каждая минута на счету, – возразила Консуэло. – Он сам прекрасно знает, что ему нельзя пробыть здесь ни одного лишнего мгновения, – прибавила она, бросая на своего мнимого брата выразительный взгляд.
Эта холодная настойчивость вернула Андзолето свойственные ему наглость и самоуверенность.
– Пусть будет как угодно дьяволу, то есть я хотел сказать богу, – поправился Андзолето, – но я не в состоянии расстаться с моей дорогой сестрицей так поспешно, как этого требуют ее рассудительность и осторожность. Никакое, даже самое выгодное дело не стоит минуты счастья, и раз его сиятельство так великодушно разрешает мне остаться, я с великой благодарностью остаюсь. Обязательства мои в Праге будут выполнены немного позднее, только и всего.
– Вы рассуждаете как легкомысленный юноша, – возразила Консуэло, задетая за живое. – Есть такие дела, когда честь выше выгоды…
– Я рассуждаю как брат, а ты всегда рассуждаешь, как королева, дорогая сестренка…
– Вы рассуждаете как добрый юноша, – добавил старый граф, протягивая Андзолето руку. – Я не знаю дел, которых нельзя было бы отложить до завтра. Правда, меня всегда упрекали за мою беспечность, но я не раз убеждался, что обдумать лучше, чем поспешить. Вот, например, дорогая Порпорина, уж много дней, даже, можно сказать, недель, как мне нужно обратиться к вам с одной просьбой, а я до сих пор все медлил, и, думается мне, так и надо было, – теперь для этого как раз настал час. Можете ли вы уделить мне сегодня час времени для беседы? Я шел просить вас об этом, когда узнал о приезде вашего брата. Мне кажется, что это радостное событие произошло очень кстати, и, быть может, присутствие вашего родственника будет совсем не лишним при нашем разговоре.
– Я всегда и в какое угодно время к услугам вашего сиятельства, – ответила Консуэло. – Что касается брата, то он еще мальчик, которого я не ввожу в свои личные дела…
– Я это знаю, – дерзко вмешался Андзолето, – но раз его сиятельство разрешает, то мне не надо иного позволения, чтобы присутствовать при этом таинственном разговоре.
– Позвольте мне судить о том, как должно поступать и мне и вам, гордо возразила Консуэло. – Господин граф, я готова следовать за вами и почтительно выслушать вас.
– Вы слишком строги к этому милому юноше с таким веселым, открытым лицом, – проговорил, улыбаясь, граф и, оборачиваясь к Андзолето, прибавил: – Потерпите, дитя мое, придет и ваш черед. То, что я имею сказать вашей сестре, не может быть скрыто от вас, и, надеюсь, она скоро разрешит мне посвятить вас в эту тайну, как вы выразились.
Андзолето имел наглость воспользоваться веселым радушием старика и удержал его руку в своей, как бы цепляясь за него, чтобы выведать тайну, в которую его не желала посвятить Консуэло. У него даже не хватило такта выйти из гостиной, чтобы не вынуждать к этому самого графа. Оставшись один, он злобно топнул ногой, боясь, что Консуэло, научившаяся так хорошо владеть собой, может расстроить все его планы и, невзирая на его ловкость, выпроводить его отсюда. Ему захотелось проскользнуть внутрь дома и подслушать под дверьми. С этой целью, выйдя из гостиной, он побродил сначала по саду, а затем решил забраться в коридор, где, встречая кого-нибудь из слуг, делал вид, будто любуется архитектурой замка. Но вот уже три раза в различных местах он наталкивался на одетого во все черное человека, необычайно сурового на вид, на которого, правда, он не обратил особого внимания. То был Альберт, как будто не замечавший его, но вместе с тем не спускавший с него глаз. Андзолето, видя, что молодой граф (он уже догадался, кто это) на целую голову выше его и бесспорно очень красив, понял, что сумасшедший из замка Великанов вовсе не такой ничтожный во всех отношениях соперник, каким он представлял его себе. Тогда он счел за лучшее вернуться в гостиную и в этой огромной комнате, рассеянно перебирая пальцами клавиши клавесина, начал пробовать свой красивый голос.
– Дочь моя, – говорил меж тем граф Христиан Консуэло, придвигая ей большое кресло, обитое красным бархатом с золотой бахромой, а сам усаживаясь с ней рядом на стуле, – я хочу просить вас об одной милости, хотя и не знаю, имею ли я право на это сейчас, когда вы еще не понимаете моих намерений. Могу ли я надеяться, что моя седина, мое нежное уважение к вам и дружба, которою подарил меня благородный Порпора, ваш приемный отец, – что все это вместе внушит вам достаточное доверие ко мне и вы согласитесь, ничего не утаивая, раскрыть мне свое сердце?
Растроганная, но вместе с тем несколько испуганная таким вступлением, Консуэло поднесла руку старика к своим губам и ответила с искренним порывом:
– Да, господин граф, я уважаю и люблю вас так, как если б имела честь быть вашей дочерью, и могу без всякого страха и вполне откровенно ответить на все ваши вопросы касательно меня лично.
– Ничего другого я и не прошу у вас, дорогая дочь моя, и благодарю за это обещание. Поверьте, что я не способен им злоупотребить, так же как, я уверен, и вы не способны изменить своему слову.
– Я верю вам, господин граф, и слушаю вас.
– Так вот, дитя мое, – сказал старик с каким-то наивным, но ободряющим любопытством. – Как ваша фамилия?
– У меня нет фамилии, – без малейшего колебания ответила Консуэло.
– Мою мать все звали Розамундой. При крещении мне дали имя Мария-Утешительница. Отца своего я никогда не знала.
– Но вам известна его фамилия?
– Нет, господин граф, я никогда не слыхала о ней.
– А маэстро Порпора удочерил вас? Он закрепил передачу вам своего имени законным актом?
– Нет, господин граф, между артистами это не принято, да оно и не нужно. У моего великодушного учителя ровно ничего нет, и ему нечего завещать. Что же касается его имени, то при моем положении в свете совершенно безразлично, как я его ношу – по обычаю или по закону. Если у меня есть некоторый талант, имя это станет моим по праву, в противном же случае мне выпала честь, которой я недостойна.
Несколько минут граф хранил молчание, потом, снова беря руку Консуэло в свою, он заговорил:
– Благородная откровенность ваших ответов еще более возвысила вас в моих глазах. Не думайте, что я задавал все эти вопросы для того, чтобы, в зависимости от вашего рождения и положения в свете, больше или меньше уважать вас. Я хотел знать, пожелаете ли вы сказать мне правду, и вполне убедился в вашей искренности. Я бесконечно благодарен вам за это и нахожу, что вы с вашим характером более благородны, чем мы с нашими титулами.
Консуэло не могла не улыбнуться простодушию, с каким старый аристократ восхищался ее признанием, в сущности, ничего ей не стоившим. Восхищение это говорило об остатке упорного предрассудка, с которым, очевидно, благородно боролся Христиан, стараясь победить его в себе.
– А теперь, дорогое мое дитя, – продолжал он, – я предложу вам еще более щекотливый вопрос. Будьте снисходительны и простите мне мою смелость.
– Не бойтесь ничего, господин граф, я отвечу на все так же спокойно.
– Так вот, дитя мое, вы не замужем?
– Нет, господин граф.
– И… вы не вдова? У вас нет детей?
– Я не вдова, и у меня нет детей, – ответила Консуэло, едва удерживаясь от смеха, так как не понимала, к чему клонит граф.
– И вы ни с кем не связаны словом? – продолжал он. – Вы совершенно свободны?
– Простите, господин граф, я была обручена с согласия и даже по приказанию моей умирающей матери с юношей, которого любила с детства и чьей невестой была до минуты моего отъезда из Венеции.
– Стало быть, вы не свободны? – проговорил граф со странной смесью огорчения и удовлетворения.
– Нет, господин граф, я совершенно свободна, – ответила Консуэло.
– Тот, кого я любила, недостойно изменил мне, и я порвала с ним навсегда. – Значит, вы его любили? – спросил граф после некоторого молчания.
– Да, всей душой, это правда.
– И… может быть, и теперь еще любите? – Нет, господин граф, это невозможно.
– Вам не доставило бы никакого удовольствия видеть его?
– Видеть его было бы для меня мукой.
– И вы никогда не позволяли ему?.. Он не осмелился… Но я боюсь вас оскорбить… Пожалуй, вы подумаете, что я хочу знать слишком много…
– Я понимаю вас, господин граф. Но раз уж я исповедуюсь, то вы узнаете обо мне решительно все и сможете сами судить, заслуживаю ли я вашего уважения или нет. Он позволял себе очень много, но осмеливался лишь на то, что разрешала ему я сама. Так, мы часто пили из одной чашки, отдыхали на одной и той же скамье. Он спал в моей комнате, пока я молилась, ухаживал за мной во время моей болезни. Я ничего не боялась. Мы всегда были одни, любили друг друга, уважали, должны были пожениться. Я поклялась моей матери, что останусь, как говорят, «благоразумной девушкой». Слово это я сдержала, если быть благоразумной – значит верить человеку, который обманывает тебя, и любить и уважать того, кто не заслуживает ни любви, ни уважения. И только когда он захотел сделаться больше чем моим братом, еще не сделавшись моим мужем, только тогда я начала защищаться. И когда он изменил мне, я обрадовалась, что сумела так хорошо защитить себя. Этому бесчестному человеку ничего не стоит утверждать противное, но это не имеет большого значения для такой бедной девушки, как я. Только бы не сфальшивить во время пения, – больше от меня ничего не требуется. Только бы я могла с чистой совестью целовать распятие, перед которым я поклялась матери быть целомудренной; а что подумают обе мне другие – по правде сказать, мало меня трогает. У меня нет семьи, которой пришлось бы краснеть за меня, нет родных, нет братьев, которые могли бы встать на мою защиту…
– Как нет братьев? Но ведь один-то брат есть? Консуэло хотела было рассказать графу по секрету всю правду, но подумала, что с ее стороны будет неблагородно искать у человека постороннего защиты Против тоге, кто так низко угрожал ей. Она решила, что должна найти в себе достаточно твердости, чтобы самой защитить себя и избавиться от Андзолето. К тому же ее великодушное сердце не могло допустить, чтобы человек, которого она когда-то так свято любила, был выгнан хозяином из дома. Как бы вежливо граф Христиан ни выпроводил Андзолето и как бы ни был тот виновен перед нею, у нее не хватило духа подвергнуть его такому страшному унижению, и она лишь ответила на вопрос старика, что вообще смотрит на брата как на сорванца и никогда к нему не относилась иначе как к ребенку.
– Надеюсь, он не негодяй какой-нибудь? – заметил граф.
– Кто его знает, – ответила она. – Я стараюсь держаться от него как можно дальше, наши характеры, взгляды на жизнь слишком различны. Вы, наверное, заметили, что я не очень стремилась удерживать его здесь.
– Пусть будет так, как вы этого хотите, дитя мое; я считаю вас очень рассудительной. Теперь, когда вы рассказали мне все с такой благородной откровенностью…
– Простите, господин граф, я рассказала вам о себе не все, так как вы не обо всем спросили. Мне неизвестно, почему вы сегодня делаете мне честь интересоваться моей жизнью. Я предполагаю, что кто-то, очевидно, отозвался обо мне неблагоприятно и вы желаете знать, не бесчестит ли мое пребывание ваш дом. До сих пор, так как вы меня спрашивали о самых поверхностных вещах, я считала нескромным без вашего разрешения занять вас рассказом о себе самой, но раз вам, по-видимому, угодно узнать всю мою жизнь, то я должна сообщить вам об одном обстоятельстве, которое, быть может, повредит мне в ваших глазах. Я не только могла бы посвятить себя театральной карьере, как вы часто мне советовали, но (хотя я уже не питаю к театру ни малейшего влечения) в прошлом сезоне я дебютировала в Венеции под именем Консуэло… Меня прозвали Zingarella, и вся Венеция знает мое лицо и мой голос.
– Постойте! – воскликнул граф, ошеломленный этим новым открытием.
– Так это вы то диво, что наделало столько шума в Венеции в прошлом году и о котором с таким восторгом кричали итальянские газеты? Прекраснейший голос и величайший талант, какого не бывало на памяти человеческой…
– В театре Сан-Самуэле, господин граф. Похвалы эти, конечно, очень преувеличены, но неопровержим тот факт, что я – та самая Консуэло, которая пела в нескольких операх; словом, я актриса, или, выражаясь более изысканно, певица. Теперь решайте, заслуживаю ли я вашего доброго отношения.
– Непостижимо! И какая странная судьба! – проговорил граф, погружаясь в раздумье. – А говорили ли вы об этом здесь кому-нибудь, кроме меня, дитя мое?
– Господин граф, я почти все рассказала вашему сыну, не вдаваясь только в те подробности, которые я сейчас вам сообщила.
– Альберту, значит, известно ваше происхождение, ваша прежняя любовь, ваша профессия?
– Да, господин граф.
– Прекрасно, дорогая синьора; не нахожу слов, чтобы благодарить вас за удивительную честность, с какой вы отнеслись к нам, и обещаю, что вам не придется в ней раскаиваться. А теперь, Консуэло (да, да, теперь я припоминаю, именно так называл вас с самого начала Альберт, говоря с вами по-испански), позвольте мне собраться с силами. Я слишком взволнован. Нам с вами, дитя мое, о многом еще надо поговорить, и вы простите мое волнение перед таким важным, решительным моментом. Сделайте милость, подождите меня здесь одну минуту.
Он вышел, и Консуэло, следившая за ним взглядом, увидела через стеклянные двери, как старик вошел в свою молельню и благоговейно опустился там на колени.
Страшно взволнованная, она терялась в догадках, чем может кончиться столь торжественно начатый разговор. Сперва ей пришло в голову, что Андзолето, ожидая ее, уже сделал то, что грозился сделать, – возможно, в беседе с капелланом или с Гансом он говорил о ней таким тоном, который мог возбудить беспокойство и недоумение ее хозяев. Но граф Христиан не умел притворяться, а до сих пор его обращение с нею, его слова говорили скорее о возросшей привязанности, чем о пробуждении недоверия. К тому же ее откровенные ответы поразили его именно своей неожиданностью; последнее же известие было просто ударом грома. И вот теперь он молится и просит бога просветить или поддержать его при принятии какого-то важного решения. «Не собирается ли он просить меня уехать вместе с братом? Или намерен предложить мне денег? – спрашивала она себя. – Ах, избави меня бог от подобного оскорбления. Но нет, он слишком деликатный, слишком добрый человек, чтобы решиться так унизить меня. Что же хотел он сказать мне с самого начала и что скажет мне сейчас? Быть может, прогулка наша с графом Альбертом причинила ему большое беспокойство и старик собирается побранить меня? Ну что ж! Пожалуй, я и заслужила это, – придется выслушать выговор, раз я не смогу ответить откровенно на вопросы, которые могут быть мне предложены относительно графа Альберта. Какой тягостный день! Еще несколько таких дней, и я уже не смогу превзойти своим пением ревнивых возлюбленных Андзолето: в груди у меня все горит, а в горле совсем пересохло».
Вскоре граф Христиан вернулся. Он был спокоен, и по его бледному лицу видно было, что благородство одержало верх в его душе.
– Дочь моя, – сказал он, усаживаясь рядом с нею и вынуждая ее остаться в роскошном кресле, которое она хотела ему уступить и где, помимо воли, восседала с испуганным видом, – пора и мне быть с вами таким же откровенным, как были вы со мной. Консуэло, мой сын любит вас.
Девушка сначала покраснела, потом побледнела и попыталась было что-то сказать, но Христиан ее остановил.
– Это не вопрос, – сказал он, – я не имел бы права предложить его вам, а вы на него ответить, ибо я знаю, что вы нисколько не поощряли надежд Альберта. Он сказал мне все и я верю ему ибо он никогда не лжет, так же как и я.
– Я тоже никогда не лгу, – проговорила Консуэло, поднимая глаза к небу с выражением простодушной гордости. – Граф Альберт, должно быть, сказал вам, господин граф…
– Что вы отвергли всякую мысль о браке с ним, – договорил старик.
– Я должна была это сделать, зная обычаи и мнение света. Для меня ясно, что я не гожусь в жены графу Альберту уже по той причине, что, не считая себя ниже кого бы то ни было перед богом, я не хочу принимать милости и благодеяния от кого бы то ни было из людей.
– Мне известна ваша справедливая гордость, и я считал бы ее преувеличенной, если бы Альберт зависел только от себя, но поскольку вы были уверены, что я никогда не соглашусь на такой брак, вы должны были ответить именно так, как ответили.
– А теперь, господин граф, – сказала Консуэло, поднимаясь, – мне понятно все остальное, и я умоляю вас избавить меня от унижения, которого я так страшилась. Я уеду из вашего дома и давно уже сделала бы это, если б считала возможным уехать, не рискуя рассудком и жизнью графа Альберта, на которого я имею больше влияния, чем мне бы хотелось. Раз вы уже знаете все то, что мне невозможно было вам сказать, теперь вы сможете оберегать его, бороться с последствиями этой разлуки и вообще возьмете на себя заботу о нем: вы имеете на это гораздо больше права, чем я. Если я и присвоила себе нескромно это право, то бог простит мне мое прегрешение, ибо ему известно, как чисты были помыслы, руководившие мной.
– Я знаю, – проговорил граф. – Господь внушил это моей совести, а Альберт моему сердцу. Садитесь же, Консуэло, и не спешите обвинять меня в дурных намерениях. Я пригласил вас сюда не для того, чтобы приказать вам оставить мой дом, а чтобы молить вас остаться в нем на всю жизнь.
– На всю жизнь! – повторила, чуть не падая в кресло, Консуэло, одновременно радуясь, что восстановлено ее достоинство, и ужасаясь такому предложению. – На всю жизнь! Господин граф, вы, верно, не думаете о том, что изволите говорить.
– Много я думал об этом, дочь моя, – ответил граф с грустной улыбкой, – и чувствую, что мне не придется в этом раскаиваться. Сын мой страстно любит вас, вы всецело завладели его душой, вы вернули его мне, вы пошли разыскивать его в таинственное место, которое он не пожелал назвать, но куда никто, сказал он мне, кроме матери или святой, не отважился бы проникнуть. Вы рисковали жизнью, чтобы спасти его от одиночества и безумия, губивших его. Благодаря вам он больше не терзает нас своими исчезновениями. Одним словом, вы вернули ему спокойствие, здоровье, рассудок. Ведь нельзя же отрицать, что мой бедный сын был помешан, а теперь он, несомненно в здравом уме. Мы чуть ли не всю эту ночь проговорили с ним, и я вижу, что он, пожалуй, рассудительнее меня. Я знал, что сегодня утром вы должны были отправиться вместе с ним на прогулку. Это с моего разрешения он просил вас о том, чего вы не пожелали слушать… Вы боялись меня, дорогая Консуэло. Вы думали, что старому Рудольштадту, зараженному аристократическими предрассудками, непристойно быть пред вами в долгу за сына. И вы ошиблись. Конечно, у старого Рудольштадта были и гордость и предрассудки, быть может, и теперь они имеются у него – он не хочет прихорашиваться перед вами, – но в порыве беспредельной признательности он отрешается от них и горячо благодарит вас за то, что вы вернули ему его последнее, его единственное дитя.
Говоря это, граф Христиан взял обе руки Консуэло и покрыл их поцелуями и слезами.
Глава 59
Консуэло была глубоко растрогана этим изъявлением чувств, которое оправдало ее в собственных глазах и успокоило ее совесть. До этой минуты она часто со страхом думала о том, что слишком неосторожно отдается своим великодушным порывам. Теперь она получила одобрение и награду. Ее радостные слезы смешались со слезами старика, и долго оба были так взволнованы, что не могли продолжать разговор.
Однако Консуэло все еще не понимала сделанного ей предложения, а граф, считая, что он достаточно ясно высказался, видел в ее молчании и слезах доказательство согласия и благодарности.
– Я иду за сыном, – проговорил наконец старик. – Пусть у ваших ног узнает он о своем беспредельном счастье и присоединит свои благословения к моим.
– Подождите, господин граф! – воскликнула Консуэло, ошеломленная такой поспешностью. – Я не совсем понимаю, чего вы от меня требуете. Вы одобряете привязанность графа Альберта ко мне и преданность, выказанную ему мною. Вы удостаиваете меня своего доверия, зная, что я не злоупотребляю им. Но как я могу обещать вам посвятить всю жизнь такой странной дружбе? Я понимаю, что вы рассчитываете на время и на мою рассудительность, чтобы поддержать душевное спокойствие вашего благородного сына и охладить его пылкое чувство ко мне, но я не уверена, долго ли я сохраню эту власть над ним; притом, если бы даже подобная близость и не была опасна для такого восторженного человека, как граф Альберт, то я не вольна посвятить свою жизнь этой славной задаче. Я не принадлежу себе.
– О небо! Что вы говорите, Консуэло? Так, значит, вы не поняли меня?
Или вы меня обманули, сказав, что свободны, что у вас нет никаких сердечных привязанностей, никаких обязательств, нет семьи?
– Но, господин граф, – возразила Консуэло недоумевая. – У меня есть цель жизни, призвание, профессия. Я принадлежу искусству, которому посвятила себя с самого детства.
– Великий боже, что вы говорите! Вы хотите вернуться на сцену?
– Не знаю еще. Я не солгала вам, сказав, что меня больше не тянет туда. На этом бурном пути я испытала пока только ужасные мучения, но в то же время я чувствую, что с моей стороны было бы слишком смело дать обещание навсегда отказаться от этого поприща. Такова была моя судьба, и, видно, нельзя избежать будущего, которое ты однажды себе наметил. Но, вернусь ли я на подмостки, буду ли выступать в концертах или давать уроки – все равно я остаюсь и должна оставаться певицей. Да и на что иное я годна? Где еще я могу сохранить независимость? Чем займу свой ум, привыкший к труду и жаждущий этих ощущений?
– О Консуэло, Консуэло! – с горечью воскликнул граф Христиан. – Все, что вы говорите, верно. Но я думал, что вы любите моего сына, а теперь вижу, что вы его не любите.
– А если бы я полюбила его со страстью, которая заставила бы меня забыть самое себя, что сказали бы вы на это, граф? – воскликнула Консуэло, теряя терпение. – Значит, вы считаете, что никакая женщина не может влюбиться в графа Альберта, если просите меня остаться при нем навсегда?
– Что вы, дорогая Консуэло! Или я недостаточно ясно высказался, или вы принимаете меня за безумного. Разве я не просил вашей руки и сердца для моего сына? Разве я не поверг к вашим стопам этот законный и бесспорно почетный союз? Если бы вы любили Альберта, то в счастливой жизни с ним, конечно, нашли бы вознаграждение за потерю вашей славы и ваших триумфов. Но вы не любите его, раз считаете невозможным отказаться ради него от того, что называете своей судьбой!
Это объяснение, независимо от воли добродушного Христиана, несколько запоздало. Не без ужаса и смертельного отвращения жертвовал старый аристократ ради счастья сына всеми своими взглядами на жизнь, всеми убеждениями своей касты. И когда после долгой и мучительной борьбы с Альбертом и самим собой жертва, наконец, была принесена, – окончательное утверждение этого страшного акта не могло перейти без усилия из его сердца на уста.
Консуэло почувствовала или угадала это, так как в ту минуту, когда Христиану показалось, что он не в состоянии добиться ее согласия на этот брак, лицо старика озарилось невольной радостью, к которой примешивалось какое-то странное смятение.
Консуэло мгновенно поняла свое положение. Гордость, быть может несколько эгоистичная, возбудила в ней неприязнь к предлагаемому браку.
– Так вы хотите, чтобы я стала женой графа Альберта? – сказала она, еще ошеломленная таким предложением. – И вы согласились бы назвать меня своей дочерью, согласились бы, чтобы я носила ваше имя, согласились бы представить меня вашим родственникам и друзьям?.. Ах, граф, как вы любите своего сына и как ваш сын должен любить вас!
– Если вы, Консуэло, видите в этом такое необычное великодушие, значит, вашему сердцу оно недоступно или сам предмет кажется вам недостойным его.
– Граф, – заговорила Консуэло после минутного молчания, закрыв лицо руками, – я точно во сне. Гордость невольно возмущается во мне при мысли о тех унижениях, которыми будет полна моя жизнь, если я осмелюсь принять жертву, приносимую вашей отеческой любовью.
– Но кто посмел бы унизить вас, Консуэло, раз отец и сын укрыли бы вас под защитой брака и семьи?
– А тетушка, граф? Ведь она здесь занимает место родной матери, разве она могла бы смотреть на это без краски негодования?
– Она сама присоединится к нашим мольбам, если вы дадите слово уступить. Не требуйте от человеческой натуры того, что превышает ее силы: и возлюбленный и отец могут вынести унижение, горе отказа, – моя сестра не справится с этим. Но, уверившись в успехе, мы приведем ее в ваши объятия, дочь моя.
– Граф, – обратилась к старику трепещущая Консуэло, – стало быть, граф Альберт говорил вам, что я люблю его?
– Нет, – ответил граф, вдруг вспомнив что-то, – Альберт говорил мне, что препятствие именно в вашем сердце. Он сто раз повторял мне это, но я не мог ему поверить. Вашу сдержанность по отношению к нему я объяснял вашим прямодушием и вашей скромностью; и все же я думал, что, освободив вас от ваших сомнений, я добьюсь того признания, в котором вы отказали ему.
– А что сказал он вам о нашей сегодняшней прогулке?
– Лишь несколько слов: «Попытайтесь, дорогой отец: это единственное средство узнать, гордость или отчуждение закрывают для меня ее сердце». – Увы, граф! Что подумаете вы обо мне, если я скажу вам, что и сама этого не знаю?
– Я подумаю, дорогая Консуэло, что это отчуждение. Ах, сын мой, бедный мой сын! Как ужасна его судьба! Единственная женщина, которую он смог полюбить, не любит его. Только этого несчастья нам недоставало.
– Боже мой! Вы должны ненавидеть меня, граф, вы не понимаете, как может противиться моя гордость, раз вы жертвуете своею. Вам кажется, что для гордости такой девушки, как я, гораздо меньше оснований, а между тем, поверьте, в эту минуту в сердце моем происходит борьба не менее жестокая, чем та, из которой вы вышли победителем.
– Нет, я понимаю это. Не думайте, синьора, что я так мало уважаю целомудрие, прямодушие и бескорыстие, чтобы не суметь оценить гордость, опирающуюся на такие сокровища. Но то, что смогла победить отцовская любовь (видите, я говорю с вами совершенно откровенно), я думаю, сможет победить и любовь женщины. Ну что же, предположим даже, что вся жизнь Альберта, ваша жизнь и моя были бы борьбой со светскими предрассудками, от чего пришлось бы долго и много страдать и нам троим и моей сестре с нами. Да разве наша взаимная любовь, чистая совесть, преданность друг другу не помогли бы нам стать сильнее всего светского общества? Для великой любви ничтожны все те беды, которые так страшат вас и за себя и за нас. Но вы с тоской и страхом ищете в глубине своей души эту великую любовь и не находите ее, Консуэло, потому что ее там нет.
– О да, в этом, и только в этом все препятствие, – проговорила Консуэло, крепко прижимая руки к сердцу, – все остальное пустяки. У меня тоже были предрассудки. Вы подаете мне пример того, как я должна отбросить их, чтобы сравняться с вами в величии и героизме. Не будем больше говорить о моих чувствах, о моем ложном стыде; не надо даже касаться моей будущности и моего искусства, – добавила она со вздохом.
– Я смогу и от этого отречься, если… если… если я люблю Альберта! Вот что нужно мне знать. Выслушайте меня, граф. Сто раз спрашивала я себя об этом, но никогда у меня не было того спокойствия, какое дает мне теперь ваше согласие. Как могла я раньше серьезно думать о чем-либо, когда даже самый этот вопрос казался мне безумием и преступлением? Теперь же, мне кажется, я сумею разобраться в себе и решить. Дайте мне несколько дней, чтобы собраться с мыслями и понять, есть ли моя безмерная преданность ему, безграничное уважение, внушаемое мне его достоинствами, эта огромная симпатия, эта странная власть его слов надо мной, – есть ли все это любовь или восхищение. Ведь все это я чувствую, граф, но с этим борется во мне невыразимый ужас, глубокая печаль и (скажу вам без утайки, мой благородный друг!) воспоминание о любви, менее восторженной, но более мягкой, более нежной, совсем непохожей на эту.
– Вы странная и благородная девушка! – с умилением проговорил граф Христиан. – Сколько мудрости и своеобразия в ваших словах и мыслях! Вы во многих отношениях похожи на моего бедного Альберта, а тревожная неуверенность ваших чувств напоминает мне мою жену, мою благородную печальную красавицу Ванду. О Консуэло! Какое сладкое и вместе с тем горестное воспоминание будите вы в моей душе! Знаете, я хотел было сказать вам: победите свою нерешительность, справьтесь со своими опасениями, полюбите этого несчастного, обожающего вас человека, полюбите из чувства добродетели, величия души, сострадания! Быть может, он и не даст вам счастья, но, спасая его, вы заслужите награду на небесах. Однако вы напомнили мне его мать, отдавшуюся мне из чувства долга и дружбы. Она не могла любить меня, простого, добродушного, робкого человека, той восторженной любовью, которой жаждала ее душа. До конца она была верна мне и великодушна, но как она страдала! Увы! Для меня ее любовь была и отрадой и мукой, а ее постоянство – гордостью и укором. С горя она умерла, а мое сердце было разбито навеки. И если сейчас я – существо ничтожное, незаметное, мертвое, не слишком удивляйтесь этому, Консуэло. Я выстрадал то, чего никому не понять. Ни одному человеку никогда я не говорил об этом. Вам первой с трепетом открываю я свою душу. Нет, нет, пусть глаза мои закроются в скорби и сын мой сейчас же погибнет под тяжестью своей судьбы, но я не буду уговаривать вас пожертвовать собой, не буду убеждать Альберта принять от вас такую жертву! Я слишком хорошо знаю, что значит насиловать природу, бороться с ненасытной потребностью души. Обдумайте же все это не торопясь, дочь моя, – закончил со слезами старый граф, прижимая ее к груди и с отеческой нежностью целуя ее благородный лоб. – Так будет лучше. Если вы все-таки откажете ему, то, подготовленный беспокойством, он не будет до такой степени убит этой страшной вестью, как был бы поражен ею сегодня.
Условившись таким образом, они расстались. Консуэло, совсем измученная волнениями и усталостью, стараясь не натолкнуться на Андзолето, проскользнула по коридорам и заперлась в своей комнате.
Здесь девушка попыталась несколько успокоиться; чувствуя себя совсем разбитой, она бросилась на постель и вскоре впала в тяжелое забытье, скорее изнуряющее, чем восстанавливающее силы. Ей хотелось уснуть, думая об Альберте, чтобы эти мысли как бы созрели в тех таинственных проявлениях сна, в которых мы надеемся порою найти пророческий ответ на волнующие нас вопросы. Но в ее отрывочных сновидениях в течение нескольких часов непрестанно появлялся не Альберт, а Андзолето. Она видела Венецию, Корте-Минелли, свою первую любовь, безмятежную, радостную, поэтическую. А каждый раз, когда она пробуждалась, воспоминание об Альберте связывалось в ней с воспоминанием о зловещей пещере, где звуки скрипки, удесятеренные эхом пустых подземелий, вызывали тени мертвецов и плакали над свежей могилой Зденко. Страх и печаль как бы закрывали ее сердце для любви, когда она представляла себе эту картину. Будущее, которое ей сулили, рисовалось только среди мрачной тьмы и кровавых видений, тогда как лучезарное, полное счастья прошлое заставляло дышать свободно ее грудь и радостно биться сердце. Ей казалось, что в этих снах, говоривших о прошлом, она слышит свой собственный голос, – он растет, растет, наполняет все вокруг и, могучий, уносится к небесам. А когда ей вспоминались фантастические звуки скрипки в пещере, этот же голос становился резким, глухим и терялся, подобно предсмертному хрипу, в подземных безднах.
Все эти смутные видения до того утомили ее, что она встала с постели, чтобы от них избавиться. Услышав первый призыв колокола, возвещавший, что обед будет подан через полчаса, она стала одеваться, продолжая думать все о том же. Но странная вещь: в первый раз в жизни она с интересом смотрелась в зеркало, а своей прической и туалетом занялась гораздо внимательнее, чем волновавшими ее серьезными вопросами. Она невольно прихорашивалась, ей хотелось быть красивой. И это непреодолимое кокетство проснулось в ней не для того, чтобы возбудить страсть и ревность любящих ее соперников, – она думала и могла думать только об одном из них. Альберт никогда ни единым словом не обмолвился об ее наружности. Охваченный своей страстью, быть может, он считал ее даже красивее, чем она была на самом деле. Но мысли его были так возвышенны, а любовь так велика, что он побоялся бы осквернить ее, взглянув на нее восторженными глазами влюбленного или испытующим оком артиста. Для него она была всегда окутана облаком, сквозь которое взор его не дерзал проникнуть и которое его воображение окружало ослепительным ореолом. На внешние перемены он не обращал внимания: для него она всегда была одинаковой. Он видел ее мертвенно бледною, иссохшею, увядшею, борющеюся со смертью и более похожею на призрак, чем на женщину. Тогда внимательно и с тревогой он искал в ее чертах лишь более или менее страшные симптомы болезни, не замечая, что она подурнела, что, быть может, она способна внушить ужас или отвращение. Когда же к ней вернулись блеск и живость молодости, он даже не заметил, потеряла или выиграла от этого ее внешность. Для него она и в жизни и в смерти была идеалом всего молодого, высокого, идеалом несравненной красоты. Вот почему Консуэло перед зеркалом никогда не думала об Альберте.
Совсем иначе обстояло дело с Андзолето. С каким бесконечным вниманием он разглядывал, изучал ее в тот день, когда стремился и не мог решить, красива она или нет. Как отмечал он малейшую черточку ее наружности, малейшее усилие понравиться ему. Как знал ее волосы, руки, ноги, ее походку, цвета, которые были ей к лицу, малейшую складку ее одежды. И с каким пылким воодушевлением хвалил он ее наружность, с каким томным сладострастием смотрел на нее! Целомудренная девушка не понимала тогда трепета своего сердца. Она не хотела понимать его и теперь, а между тем вновь ощущала его, и почти с той же силой, при мысли, что сейчас появится перед Андзолето. Она сердилась на себя, краснела от стыда и досады, старалась наряжаться для одного Альберта – и все-таки выбирала и прическу, и ленты, и даже взгляды, которые нравились Андзолето. «Увы! Увы! – думала она, кончив одеваться и отрываясь от зеркала. – Неужели я действительно могу думать только о нем и былое счастье имеет надо мною больше власти, чем презрение к этому человеку и обещания новой любви? Сколько я ни всматриваюсь в будущее, без него оно сулит мне лишь ужас и отчаяние. Но каково было бы это будущее с ним? Разве я не знаю, что чудесные дни Венеции безвозвратно прошли, что невинность больше не будет обитать с нами, что душа Андзолето развращена, ласки его способны только унизить меня, а моя жизнь была бы ежечасно отравлена стыдом, ревностью, страхом и раскаянием?»
Строго отдав себе отчет в том, что в ней происходит, Консуэло поняла, что она нисколько не заблуждается относительно Андзолето и что от чувства к нему в ней не осталось и следа. Она уже не любила его в настоящем, боялась и почти ненавидела его, думая о будущем, которое могло бы только еще больше развратить его, но В прошлом она так его обожала, что была не в силах вырвать его ни из своей жизни, ни из своей души. Теперь он был для нее как бы портретом, напоминающим любимое существо и сладостные дни, и подобно вдове, которая тайком от нового супруга любуется изображением его предшественника, она чувствовала, что умерший занимает в ее сердце больше места, чем живой.
Глава 60
Консуэло была девушкой рассудительной и, обладая умом возвышенным, понимала, что чувство Альберта – искреннее, благороднее и ценнее любви Андзолето. Теперь, когда оба оказались перед нею, она было подумала, что одержала победу над своим врагом. Проникновенный взгляд Альберта, долгое и крепкое пожатие его честной руки красноречиво свидетельствовали о том, что молодой граф знает, чем кончился ее разговор с графом Христианом, и согласен с покорной признательностью ждать решения своей участи. На самом деле, Альберт не надеялся получить так много, и даже самая неопределенность этого решения была ему сладка, ибо рассеяла опасения, связанные с самонадеянной заносчивостью Андзолето. Последний, наоборот, действовал чрезвычайно самоуверенно. Догадываясь приблизительно о том, что происходит вокруг, он решил идти напролом, рискуя даже быть выброшенным за дверь. Его развязные манеры, иронический, дерзкий взгляд вызывали в Консуэло глубочайшее отвращение, а когда он с наглым видом подошел, намереваясь взять ее под руку, она отвернулась и пошла к столу с Альбертом, предложившим ей руку.
Как всегда, молодой граф сел напротив Консуэло, – старый Христиан усадил ее по левую руку от себя, на место, раньше занимаемое Амелией. Вместо обычно сидевшего слева от Консуэло капеллана канонисса пригласила сесть между девушкой и капелланом мнимого брата; таким образом, Андзолето мог нашептывать на ухо Консуэло всякие колкости, а его грубые остроты, как он и рассчитывал, вызывали негодование старого священника, которого он и раньше уже стал задирать.
План Андзолето был чрезвычайно прост: он старался возбудить к себе ненависть, стать нестерпимым для тех членов семьи, которые, как он чувствовал, были настроены враждебно к предполагаемому браку; своими дурными манерами, фамильярным тоном, неуместными речами он рассчитывал создать самое отвратительное представление о среде и родстве Консуэло. «Посмотрим, – говорил он себе, – переварят ли они «братца», которого я им преподнесу».
Андзолето, незаконченный певец и посредственный трагик, был прирожденным комиком. Он достаточно насмотрелся на светское общество и научился подражать хорошим манерам и приятным разговорам благовоспитанных людей; но это могло только примирить канониссу с низким происхождением невесты, а потому он прибег к противоположной линии поведения с тем большей легкостью, что она была ему гораздо более свойственна. Убедившись в том, что Венцеслава, умышленно говорившая только на немецком языке, принятом при дворе и среди благонамеренных подданных, тем не менее не пропускает ни одного из сказанных им итальянских слов, Андзолето стал без удержу болтать, то и дело прикладываясь к доброму венгерскому вину; он не опасался, что вино подействует на него, ибо привык к самым крепким напиткам, однако притворялся, будто всецело находится под влиянием жгучих винных паров, желая выставить себя завзятым пьяницей. План его удался как нельзя лучше. Граф Христиан, сначала снисходительно смеявшийся над его шутовскими выходками, вскоре стал только принужденно улыбаться, и ему нужно было призвать на помощь всю свою светскую обходительность, все свое отеческое чувство, чтобы не поставить на место несносного будущего шурина своего благородного сына. Капеллан не раз в негодовании подпрыгивал на стуле, бормоча по-немецки нечто, напоминающее заклинание против бесов. Трапеза в результате получилась для него крайне неудачной, – никогда в жизни его пищеварение так не страдало. Канонисса слушала все непристойности гостя со сдержанным презрением и злобным удовольствием. При каждом новом вздоре, который изрекал Андзолето, она посматривала на брата, словно брала его в свидетели, а добродушный Христиан опускал голову, силясь каким-нибудь, не всегда удачным, замечанием отвлечь внимание слушателей. Тогда канонисса бросала взгляд на Альберта, но Альберт был невозмутим, – казалось, он не видит и не слышит своего неугомонного, веселого гостя.
Из всех присутствующих удрученнее всех была, несомненно, Консуэло. Сначала она решила было, что распущенность и цинизм Андзолето, которых она раньше в нем не замечала, являются следствием его развратной жизни, ибо никогда он не вел себя так в ее присутствии. Девушка была настолько поражена, настолько возмущена, что хотела даже уйти из-за стола, как вдруг догадалась, что все это не что иное, как военная хитрость, и к ней тотчас вернулось хладнокровие, столь гармонировавшее с ее неиспорченностью и чувством достоинства. Она не стремилась проникнуть ни в тайны, ни во взаимоотношения этой семьи, чтобы интригами завоевать предлагавшееся ей Альбертом положение. Это положение ни на минуту не ослепило ее, и она в глубине души сознавала, насколько несправедливы обвинения, возводимые на нее канониссой. Она знала, она прекрасно видела, что любовь Альберта, доверие его отца выше этих ничтожных испытаний.
Презрение, внушаемое ей Андзолето, оказавшимся таким низким и злобным в своей мести, придало ей силы, Глаза ее только раз встретились с глазами Альберта, и они поняли друг друга. Консуэло сказала: «Да», а Альберт ответил: «Несмотря ни на что!»
– Обожди радоваться, ты еще у меня попляшешь, – шепнул своей соседке Андзолето, перехвативший и истолковавший этот взгляд по-своему.
– Вы очень доброжелательны, благодарю вас, – ответила Консуэло.
Они переговаривались сквозь зубы с быстротой, присущей венецианскому наречию, для которого так характерно обилие гласных и эллипсов, что итальянцы Рима и Флоренции сами на первых порах с трудом его понимают.
– Я признаю, что в эту минуту ты ненавидишь меня, – говорил Андзолето, – и воображаешь, что будешь ненавидеть вечно, но все-таки тебе от меня не уйти.
– Вы слишком рано открыли свои карты, – сказала Консуэло.
– Но не слишком поздно, – возразил Андзолето. – Сделайте милость, благочестивый отче, – обратился он к капеллану, толкнув его под локоть так, что тот пролил на свои брыжи половину вина, которое подносил ко рту. – Лейте смелее это славное винцо, оно столь же полезно для души и тела, как вино святой обедни!
– Ваше сиятельство, – обратился он к старому графу, протягивая бокал, – у вас с левой стороны, у самого сердца, стоит в запасе флакончик из желтого хрусталя, горящий, как солнце. Уверен, что, выпей я только каплю этого нектара, я превращусь в полубога.
– Берегитесь, дитя мое, – проговорил граф, положив худую руку в перстнях на граненое горлышко графина, – стариковское вино порою сковывает уста молодым.
– От злости ты стала красива, как бесенок, – заметил Андзолето своей соседке на чистом итальянском языке, чтобы все его поняли. – Ты напоминаешь мне Дьяволицу из оперы Галуппи, которую ты так чудесно сыграла в прошлом году в Венеции.
– Послушайте, ваше сиятельство, – обращаясь к графу, сказал он, долго вы намерены держать в вашей золоченой, обитой шелком клетке мою сестрицу? Предупреждаю вас: она птичка певчая, а птица, которой не дают петь, скоро теряет оперение. Я понимаю, что она счастлива здесь, но досточтимая публика, которую она свела с ума, громко требует ее возвращения. Что касается меня, то дайте мне ваше имя, ваш замок, все вино вашего подвала с вашим почтеннейшим капелланом придачу, – я ни за что не соглашусь расстаться с моими театральными кенкетами, моими котурнами, моими руладами.
– Вы, стало быть, тоже актер? – сухо, с холодным презрением спросила канонисса.
– Актер, шут, к вашим услугам, illustrissima, – нимало не смущаясь, отвечал Андзолето.
– И у него есть талант? – спросил у Консуэло старый граф Христиан со свойственным ему мягким, добродушным спокойствием.
– Никакого, – промолвила Консуэло, с сожалением глядя на своего противника.
– Если это так, то ты себя же порочишь, – сказал Андзолето, – ведь я твой ученик.
– Однако, надеюсь, – продолжал он по-венециански, – у меня хватит таланта, чтобы смешать твои карты.
– Вы только себе этим повредите, – возразила Консуэло на том же наречии, – дурные намерения оскверняют сердце, а ваше сердце потеряет при этом гораздо больше, чем вы заставите потерять меня в сердцах других.
– Очень рад видеть, что ты принимаешь мой вызов. Начинай же, прекрасная воительница! Как ни спускаете вы свое забрало, а я вижу в блеске ваших глаз досаду и страх.
– Увы! Вы можете прочесть в них только глубокое огорчение. Я думала, что смогу забыть, сколь вы достойны презрения, а вы стараетесь мне это напомнить.
– Презрение и любовь часто отлично уживаются.
– В низких душах.
– В душах самых гордых; так было и будет всегда.
В таких пикировках прошел весь обед. Когда перешли в гостиную, канонисса, по-видимому решившая потешиться наглостью Андзолето, попросила его что-нибудь спеть. Он не заставил себя просить и, с силой ударив нервными пальцами по клавишам старого, дребезжащего клавесина, запел одну из залихватских песен, оживлявших интимные ужины Дзустиньяни. Слова песни были неприличные. Канонисса не поняла их – ее забавлял пыл, с каким пел Андзолето. Графа Христиана не могла не поразить красота голоса певца и необычайная легкость исполнения, и он наивно наслаждался, слушая его. После первой песни он попросил Андзолето спеть еще. Альберт, сидя подле Консуэло, ничего, казалось, не слышал, – он не проронил ни слова. Андзолето вообразил, что молодой граф раздосадовав и сознает, что над ним наконец одержали верх. Он позабыл о своем намерении разогнать слушателей непристойными песнями; к тому же, видя, что благодаря наивности хозяев или их незнанию венецианского наречия это совершенно напрасный труд, он поддался соблазну вызвать восхищение, какое рождает артист, поющий ради удовольствия петь; а кроме того, ему захотелось похвастаться перед Консуэло своими успехами. Он действительно подвинулся вперед в возможных для него пределах. Голос его, быть может, потерял свою первоначальную свежесть, оргии лишили его юношеской мягкости, но зато теперь Андзолето лучше владел им, стал более умелым в преодолении трудностей, к чему всегда инстинктивно стремился. Он спел хорошо и получил много похвал от графа Христиана, канониссы и даже капеллана, поклонника рулад, не способного оценить манеру петь Консуэло, отличавшуюся простотой и естественностью.
– Вы говорили, что у него нет таланта, – сказал граф, обращаясь к Консуэло, – вы слишком строги или слишком скромны в отношении своего ученика. Он очень талантлив, и наконец я вижу в нем что-то, присущее вам.
Добрый Христиан хотел этим маленьким триумфом Андзолето загладить унижение, которое перенесла мнимая сестра из-за выходок брата: он усиленно подчеркивал достоинства певца, а тот слишком любил блистать, да и скверная роль, навязанная им себе, стала уже на – доедать ему, и, заметив, что граф Альберт становится все более задумчив, он снова сел за клавесин.
Канонисса, дремавшая обыкновенно при исполнении длинных музыкальных вещей, попросила спеть еще какую-нибудь венецианскую песенку; и на этот раз Андзолето выбрал более приличную. Он знал, что лучше всего ему удавались народные песни. Даже у Консуэло своеобразные особенности венецианского наречия не звучали так естественно и характерно, как у этого сына лагун, врожденного певца и мима.
Он так чудесно изображал то грубую откровенность рыбаков Истрии, то остроумную, удалую бесшабашность гондольеров Венеции, что невозможно было без живого интереса ни внимать ему, ни глядеть на него. Его красивое, живое и выразительное лицо становилось то суровым и гордым, как у первых, то ласковым и насмешливо-веселым, как у вторых. Вульгарное кокетство его наряда, от которого за милю отдавало Венецией, еще усиливало впечатление и в данный момент не только не портило его, а, напротив, шло к нему.
Консуэло, вначале относившейся к выходкам Андзолето безразлично, пришлось теперь притворяться равнодушной и чем-то озабоченной. Волнение все более и более охватывало ее. В Андзолето она видела всю Венецию, а в этой Венеции – всего Андзолето прежних дней, с его веселым нравом, целомудренной любовью, с его ребяческой гордостью. Глаза ее заволакивались слезами, а игривость Андзолето, смешившая других, будила в ее сердце глубокую нежность. После народных песен граф Христиан попросил Андзолето исполнить духовные.
– О, что касается этих песнопений, я знаю все, какие только исполняются в Венеции, но они на два голоса, и если сестра – она тоже их знает – не захочет петь со мной, то я не смогу исполнить желание ваших сиятельств. Все тотчас стали упрашивать Консуэло. Она долго отказывалась, хотя ей самой очень хотелось петь. Наконец, уступая просьбам добрейшего Христиана, стремившегося примирить ее с братом и старавшегося показать, что сам он совершенно примирился с ним, она села подле Андзолето и робко запела одну из длиннейших духовных песен на два голоса, которые в Венеции во время великого поста поют по целым ночам у статуй мадонн на перекрестках улиц. Мелодия у них скорее веселая, чем печальная, но однообразие припева и поэтичность слов, в которых чувствуется часто что-то языческое, исполнены нежной грусти, – она мало-помалу овладевает слушателем и наконец совсем захватывает.
Консуэло, подражая женщинам Венеции, пела нежным, глуховатым голосом, а Андзолето – резким, гортанным, как поют тамошние юноши, сопровождая свое пение аккомпанементом на клавесине, тихим, непрерывным и легким, напомнившим его подруге журчание воды у каменных плит и шелест ветерка в виноградных лозах. Ей почудилось, что она в Венеции в волшебную летнюю ночь, под открытым небом, у какой-нибудь часовенки, увитой виноградными листьями, освещенной трепетным сиянием лампады, отражающимся в слегка подернутых рябью водах канала. О, какая разница между зловещим, душу раздирающим волнением, пережитым ею этим утром, когда она слушала скрипку Альберта у других вод – неподвижных, черных, молчаливых, полных призраков, и этим видением Венеции – с дивным небом, сладкими мелодиями, лазурными волнами, изборожденными отражением то быстро мелькавших огней, то лучезарных звезд! Андзолето как бы возвращал ее к созерцанию чудного зрелища, воплощавшего для нее идею жизни и свободы, тогда как пещера, суровые древнечешские напевы, кости, освещенные зловещим светом факелов, отражающимся в воде, где, быть может, таились те же наводящие ужас реликвии, бледное восторженное лицо аскета Альберта, мысли о неведомом мире, символические картины, мучительное возбуждение от непонятных чар слишком тяготили спокойную, простую душу Консуэло. Чтобы проникнуть в эту область отвлеченных идей, ей достаточно было одного усилия, которое при ее яркой фантазии ей ничего не стоило сделать, но в результате все существо ее было надломлено, истерзано таинственными муками, изнуряющим очарованием. Ее южный темперамент, больше даже, чем воспитание, восставал против сурового посвящения в мистическую любовь. Альберт был для нее гением севера, глубоким, могучим, иногда величественным, но всегда печальным, как ветер ледяных ночей, как приглушенный голос зимних потоков. У него была душа мечтательная, пытливая, вопрошающая, все превращающая в символы – и бурные грозовые ночи, и путь метеоров, и дикую гармонию лесов, и стертые надписи древних могил. Андзолето, напротив, был олицетворением юга, распаленной и оплодотворенной горячим солнцем и ярким светом плотью, вся поэзия которой заключалась в интенсивности произрастания, а гордость – в силе организма. В нем говорила жизнь чувства, жажда наслаждений, беспечность и бесшабашность артистической натуры, своего рода неведение или равнодушие к понятию о добре и зле, нетребовательность к тому, что называется счастьем, презрение или неспособность к мышлению – словом, то был враг и противник идей.
Оказавшись между этими двумя людьми, из которых каждый был связан со средой, совершенно чуждой другому, Консуэло точно обессилела, лишилась всякой способности действовать энергично, смело, уподобилась душе, отделенной от тела. Она любила прекрасное, жаждала идеала, и Альберт знакомил ее с этим прекрасным, предлагал ей этот идеал. Но Альберт, развитию таланта которого мешал недуг, слишком отдавался умственной жизни. Он так мало знал о потребностях жизни действительной, что часто терял способность ощущать собственное существование. Он не представлял себе, что мрачные идеи и предметы, с которыми он сжился, могут внушить его невесте, находившейся всецело под влиянием любви и добродетели, иные чувства, кроме восторженной веры и умиленной любви. Он не предвидел, не понимал, что увлекает ее в атмосферу, где она умерла бы, подобно тропическому растению в полярном холоде. Вообще, он не отдавал себе отчета в том, какое насилие она должна была совершить над собой, чтобы думать и чувствовать, как он.
Андзолето, напротив, нанося раны душе Консуэло, возмущая во всех отношениях ее ум, в то же время вмещал в своей могучей груди, развившейся под дуновением благовонных ветров юга, живительный воздух, в котором Цветок Испании (как он, бывало, называл Консуэло) нуждался, чтобы ожить. Он напомнил ей о жизни, исполненной бездумного созерцания, неведения и прелести, о мире простых мелодий, светлых и легких, о спокойном, беззаботном прошлом, в котором было так много движения, непосредственного целомудрия, честности без усилий, набожности без размышления. Это было почти существование птицы. А разве артист не похож на птицу и разве не следует человеку испить хоть немного от кубка жизни, общей для всего живого, чтобы самому стать совершеннее и направить к добру сокровища своего ума!
Голос Консуэло звучал все нежнее и трогательнее по мере того, как она инстинктивно поддавалась анализу, которому я здесь уделил, быть может, слишком много времени. Да простится мне это! Иначе было бы трудно понять, вследствие какой роковой изменчивости чувств эта девушка, такая разумная, такая искренняя, за четверть часа перед тем с полным основанием ненавидевшая Андзолето, забылась до того, что с наслаждением слушала его голос, касалась его волос, дышала одним с ним воздухом. Гостиная, слишком большая, как известно читателям, была плохо освещена, да к тому же и день уже клонился к вечеру. Пюпитр клавесина, на который Андзолето поставил раскрытую толстую нотную тетрадь, скрывал их от слушателей, сидевших на некотором расстоянии, и головы певцов все ближе и ближе склонялись друг к другу. Андзолето, аккомпанируя уже только одной рукой, другой обнял гибкий стан своей подруги и незаметно привлек ее к себе. Шесть месяцев негодования и горя исчезли из памяти молодой девушки, как сон. Ей казалось, будто она в Венеции и молит мадонну благословить ее любовь к красавцу жениху, предназначенному ей матерью, молящемуся с ней рука об руку, сердце к сердцу. Она не заметила, как Альберт вышел из комнаты, и самый воздух показался ей легче, сумерки – мягче. Вдруг по окончании одной строфы она почувствовала на своих губах прикосновение горячих уст своего первого жениха. Она сдержала крик и, склонившись над клавесином, разрыдалась.
В эту минуту вернулся граф Альберт; он услышал ее рыдания, увидел оскорбительную радость Андзолето. Волнение, прервавшее пение юной артистки, не удивило остальных свидетелей этой сцены. Никто не видел поцелуя, и каждый допускал, что воспоминания детства и любовь к своему искусству могли вызвать эти слезы. Графа Христиана несколько огорчила эта чувствительность, говорившая о глубокой привязанности девушки к тому, чем он просил ее пожертвовать. Канонисса же и капеллан ликовали, тая надежду, что жертва эта не сможет осуществиться. Альберт еще не задумывался над тем, можно ли будет графине Рудольштадт снова стать артисткой или ей придется отказаться от сцены. Он готов был на все согласиться, все разрешить, даже сам настоять, лишь бы только она была счастлива и свободна; он предоставлял ей самой сделать выбор между светом, театром и уединением. Отсутствие предрассудков и эгоизма доходило в нем до того, что ему в голову не приходили самые простые вещи. Так, он даже не подумал, что у Консуэло могла явиться мысль пожертвовать собой ради него, не желавшего ни единой жертвы. Но с присущей ему дальновидностью он проник в самую сердцевину дерева и обнаружил там червя. В один миг ему стало ясно, чем на самом деле был Андзолето для Консуэло, какую цель преследовал и какое чувство внушал ей. Альберт внимательно посмотрел на этого неприятного ему человека, к которому до сих пор не хотел приглядываться, не желая ненавидеть брата Консуэло. И он увидел в нем любовника – смелого, пылкого, опасного. Благородный Альберт не подумал о себе; ни сомнение, ни ревность не проснулись в его сердце, – он понял только, что Консуэло грозит опасность, ибо своим глубоким, проникновенным взором этот человек, чье слабое зрение с трудом выносило солнечный свет, плохо различало цвета и формы, читал в глубине душ и благодаря какой-то таинственной силе провидения проникал в самые тайные помыслы негодяев и плутов. Я не в силах объяснить естественным путем этот странный, временами проявлявшийся в нем дар. Некоторые его свойства, не расследованные и не объясненные наукой, так и остались непонятными как для его близких, так и для рассказчика, повествующего вам о них и по прошествии ста лет столь же мало знающего о них, как и великие умы его века. Альберт, увидев во всей наготе эгоистическую, тщеславную душу своего соперника, не сказал себе: «Вот мой враг», а подумал: «Вот враг Консуэло», – и, ничем не показав, что он сделал такое открытие, дал себе слово оберегать, охранять ее.
Глава 61
Воспользовавшись первой же представившейся возможностью, Консуэло вышла из гостиной и спустилась в сад. Солнце село, первые звезды, спокойные и бледные, мерцали в небе, еще розоватом на западе и уже темном на востоке.
Юной артистке хотелось вдохнуть покой чистого прохладного воздуха первых осенних вечеров. Страстное томление теснило ей грудь, пробуждая в ней в то же время угрызения совести, и она призывала все силы души на помощь своей воле. Она могла бы задать себе вопрос: «Да неужели я не знаю, люблю я его или ненавижу?» Консуэло трепетала, словно чувствуя, что мужество покидает ее в опаснейшую минуту ее жизни; и впервые она не находила в себе той непосредственности первого побуждения, той святой уверенности в правильности своих намерений, которые всегда поддерживали ее в испытаниях. Она покинула гостиную, чтобы уйти от чар Андзолето, и в то же время смутно желала, чтобы он пошел за ней.
Листья начинали осыпаться; когда, разметаемые подолом платья, они шелестели позади нее, ей чудились чьи-то шаги; она готова была бежать без оглядки, но тут же останавливалась, словно прикованная к месту волшебной силой. Действительно, за ней кто-то шел, не смея и не желая себя обнаружить. То был Альберт. Чуждый мелкого притворства, именуемого приличием, и чувствуя себя в силу своей великой любви выше всякого ложного стыда, он через минуту вышел вслед за нею, решив без ее ведома охранять ее и помешать соблазнителю приблизиться к ней. Андзолето заметил эту наивную поспешность, но это его не очень встревожило: он слишком хорошо видел смущение Консуэло, чтобы не счесть свою победу обеспеченной; к тому же мелкие победы развили в нем чудовищное самомнение, и он решил не ускорять событий, не раздражать своей возлюбленной, не приводить в ужас семью. «Мне незачем теперь спешить, – говорил он себе. – Гнев придал бы ей только силы, тогда как мой скорбный, подавленный вид уничтожит остаток ее злобы против меня. У нее гордый ум, – обратимся к ее чувствам. Она, без сомнения, менее сурова, чем была в Венеции, здесь нрав ее смягчился. Не беда, если сопернику выпадет лишний счастливый денек, – завтра она будет моей, а быть может, еще и этой ночью. Увидим! Не будем ее запугивать, подстрекая к какому-нибудь отчаянному решению. Она не выдала меня. Из жалости или из страха она предоставляет им считать меня ее братом, а старики, несмотря на все мои глупости, решили терпеть меня из любви к ней. Я добился своего быстрее, чем надеялся, – можно и передохнуть».
И граф Христиан, и канонисса, и капеллан были чрезвычайно удивлены, заметив, как внезапно изменились к лучшему манеры Андзолето, как скромен стал его тон, как тихо и предупредительно он стал держать себя. Андзолето дипломатично пожаловался шепотом капеллану на сильнейшую головную боль, прибавив, что вообще очень воздержан в отношении вина, а тут выпил за обедом венгерского, не имея понятия об его крепости, и оно ударило ему в голову. Минуту спустя его признание было сообщено по-немецки канониссе и графу, который отнесся к этой попытке молодого человека оправдаться с большою теплотой. Венцеслава сначала была менее снисходительна, но усилия лицемера понравиться ей, почтительное восхваление дворянства, восторженные отзывы о порядке, царившем в замке, – все это не замедлило обезоружить ее благожелательную, незлопамятную душу. Сперва она его слушала от нечего делать, но под конец заинтересовалась разговором и согласилась с братом, что Андзолето прекрасный, очаровательный молодой человек.
Через час Консуэло вернулась с прогулки; это время не пропало даром для Андзолето. Он успел так расположить к себе всю семью, что был уже уверен в возможности оставаться в замке столько дней, сколько ему понадобится для достижения своей цели. Он не понял, что говорил по-немецки старый граф Консуэло, но догадался по тому, как смотрел на него Христиан, и по удивленному и смущенному виду молодой девушки, что старый граф рассыпался в похвалах по его адресу и даже слегка пожурил ее за недостаток внимания к такому милому брату.
– Послушайте, синьора, – обратилась к ней канонисса, которая, несмотря на всю свою неприязнь, все-таки желала ей добра, да к тому же считала это делом благочестия. – Вы за обедом сердились на своего брата, и, надо сказать правду, он этого заслуживал, но он лучше, чем показался нам сначала. Брат нежно любит вас и только что много говорил о вас с глубоким чувством и даже с уважением. Не будьте же к нему более строги, чем мы. По моему глубокому убеждению, он очень огорчен тем, что выпил лишнее за обедом, а особенно – из-за вас. Поговорите с ним, не будьте холодны с человеком, столь близким вам по крови. Возьмите пример с меня: хоть мой брат, барон Фридрих, в юности и любил меня поддразнивать и даже часто очень сердил, я никогда не могла и часа быть с ним в ссоре.
Консуэло, не смея ни разубеждать добрую старушку, ни поддерживать ее заблуждение, была сражена этой новой атакой Андзолето, сила и ловкость которого были для нее очевидны.
– Вы не поняли, что сказала моя сестра? – спросил Христиан молодого человека. – Сейчас переведу в двух словах: моя сестра упрекнула Консуэло за то, что она уж слишком по-матерински строга с вами. А я уверен, что сама Консуэло жаждет помириться. Поцелуйтесь же, дети мои! Ну, милый юноша, сделайте первый шаг и, если у вас в прошлом и были какие-нибудь прегрешения по отношению к ней, покайтесь, чтобы она вас простила. Андзолето не заставил повторять это дважды. Схватив дрожащую руку Консуэло, не решившуюся отнять ее, он проговорил:
– Да, я был страшно виноват перед нею и так раскаиваюсь, что все мои попытки забыться только еще больше разбивают мне сердце. Она прекрасно знает это, и, не будь у нее железной души, гордой, как власть, и беспощадной как добродетель, она поняла бы, что я и так уже достаточно наказан угрызениями совести. Прости меня, сестра, и верни мне свою любовь, не то я сейчас же уеду и буду скитаться по белу свету в отчаянии, одиночестве и тоске. Всюду чужой, без поддержки, без совета, без привязанности, я не смогу больше верить в бога, и мои заблуждения падут на твою голову.
Эта покаянная речь чрезвычайно растрогала графа и вызвала слезы у доброй канониссы.
– Слышите, Порпорина! – воскликнула она. – Его слова прекрасны и справедливы. Господин капеллан, вам следует именем веры приказать синьоре помириться с братом.
Капеллан уже собирался было вмешаться в это дело, но Андзолето, не дождавшись его проповеди, схватил в объятия Консуэло и, несмотря на ее сопротивление и испуг, страстно поцеловал перед самым носом капеллана в назидание присутствующим.
Консуэло, в ужасе от столь наглого обмана, решила положить этому конец.
– Довольно! – проговорила она. – Господин граф, выслушайте меня…
Она готова была все рассказать, но тут вошел Альберт. И тотчас мысль о Зденко сковала страхом ее душу, готовую открыться. Неукротимый покровитель Консуэло был способен без шума и без лишних слов освободить ее от врага, которого она собиралась разоблачить. Она побледнела, с горестным упреком взглянула на Андзолето, и слова замерли на ее устах.
Ровно в семь часов вечера все уселись за стол ужинать. Если столь частые трапезы способны лишить аппетита моих изящных читательниц, я принужден им сказать, что мода воздерживаться от пищи была не в чести в те времена и в той стране. Кажется, я уже упоминал о том, что в Ризенбурге кушали медленно, плотно и часто – чуть ли не половина дня проходила за обеденным столом; и, признаюсь, Консуэло, с детства поневоле привыкшая довольствоваться в течение дня несколькими ложками сваренного на воде риса, находила эти гомерические трапезы смертельно длинными. Впервые она не смогла дать себе отчет в том, сколько длился этот ужин – час, мгновение или столетие. Она так же мало сознавала, что существует, как и Альберт, когда он бывал один в своем гроте. Ей казалось, что она пьяна, до такой степени стыд, любовь и ужас владели ею. Она ничего не ела, не слышала, ничего не видела вокруг себя. В смятении, подобно человеку, летящему в пропасть и видящему, как одна за другой ломаются непрочные ветки, за которые он пытается удержаться, она глядела на дно бездны, и голова ее шла кругом. Андзолето сидел подле нее, он задевал за ее платье, то и дело касался локтем ее локтя, а ногой ее ноги. Стремясь ей услужить, он дотрагивался до ее рук и на миг удерживал их в своих, но этот миг, это жгучее пожатие заключало в себе целый мир наслаждений… Тайком он шептал ей слова, от которых можно было задохнуться, пожирал ее глазами… Пользуясь мгновением, мимолетным, как молния, он менялся с ней стаканом и прикасался губами к хрусталю, до которого только что дотрагивались ее губы. Он умел быть пламенем для нее и холодным, как лед, в глазах других. Он премило держал себя, учтиво разговаривал, был чрезвычайно внимателен к канониссе, преисполнен почтения к капеллану, предлагал ему лучшие куски мяса и сам нарезал их с грациозной ловкостью человека, привыкшего к хорошему столу. Он заметил, что благочестивый отец был лакомкой, но по своей застенчивости нередко ограничивал себя по части чревоугодия. Капеллану пришлась весьма по вкусу предупредительность молодого человека, и он стал желать, чтобы этот новый кравчий до конца дней своих пробыл в замке Исполинов. Все заметили, что Андзолето пил только воду, и когда капеллан, как бы в ответ на его любезность, предложил ему вина, он проговорил во всеуслышание:
– Тысячу раз благодарю, но больше я уже не попадусь. Ваше прекрасное вино, в котором я недавно пытался найти забвение, коварно. Теперь мои горести миновали, и я возвращаюсь к воде, своему обычному напитку и верному другу.
Все засиделись несколько дольше обычного. Андзолето вновь пел и на этот раз – для Консуэло. Он выбирал произведения ее любимых старинных композиторов, которым она сама обучила его, и исполнял их старательно, со вкусом и тонкостью, как она всегда от него требовала. То было новое напоминание о самых дорогих, самых чистых минутах ее любви и увлечения искусством.
Когда все собрались расходиться, Андзолето, улучив минуту, шепнул ей:
– Я знаю, где твоя комната; меня поместили в том же коридоре. В полночь я встану на колени у твоей двери и простою так до утра. Не откажи выслушать меня хоть минуту. Я не порываюсь снова завоевать твою любовь – я ее не стою. Знаю, что ты больше не можешь любить меня, знаю, что другой осчастливлен тобой и мне надо уехать. Уеду я с глубокой скорбью в душе, и остаток дней моих будет отдан во власть фуриям. Но не выгоняй меня, не сказав мне слова сострадания, не сказав «прости»! Если ты откажешь мне в этом, я с рассветом уеду и тогда уже погибну навсегда.
– Не говорите так, Андзолето. Мы должны расстаться с вами сейчас, и расстаться навек. Я вам прощаю и желаю…
– Доброго пути, – ироническим тоном докончил он и, тотчас возвращаясь к своему лицемерию, продолжал: – Ты безжалостна, Консуэло. Ты хочешь, чтобы я окончательно погиб, чтобы во мне не осталось ни единого доброго чувства, ни единого хорошего воспоминания. Чего ты боишься? Не тысячу ли раз доказывал я тебе свое уважение, чистоту своей любви? Когда любишь безумно, разве не становишься рабом? Неужели ты не знаешь, что одного твоего слова достаточно, чтобы укротить, поработить меня? Ради бога, если только ты не возлюбленная того человека, за которого выходишь замуж, если он не хозяин твоей комнаты и не неизбежный компаньон твоих ночей… – Он не возлюбленный мой и никогда им не был, – прервала его Консуэло тоном горделивой невинности.
Было бы лучше, если бы она подавила в себе этот гордый порыв, хотя и вполне обоснованный, – он был слишком чистосердечен сейчас. Андзолето не был трусом, но он любил жизнь, и, рассчитывай он найти в комнате Консуэло отважного стража, молодой итальянец преспокойно остался бы у себя. Правдивые нотки, прозвучавшие в ответе молодой девушки, окончательно придали ему смелости.
– В таком случае я не погублю твоего будущего, – сказал он, – я буду так осторожен, так ловок, войду так беззвучно и буду так тихо говорить, что не поврежу твоей репутации. Да к тому же не брат ли я тебе? Что ж удивительного, если бы, уезжая на рассвете, я пришел с тобой проститься. – Нет, нет, не приходите! – в ужасе проговорила Консуэло. – Покои графа Альберта находятся рядом, а что, если он догадается обо всем?.. Андзолето, если вы подвергнете себя опасности… я не ручаюсь за вашу жизнь. Говорю вам серьезно, у меня кровь стынет в жилах при мысли…
И в самом деле, Андзолето, державший ее руку в своей, почувствовал, как она стала холоднее мрамора.
– Если ты заставишь меня стоять у твоей двери и препираться с тобой, ты действительно подвергнешь мою жизнь опасности, – с улыбкой прервал он ее, – но если дверь твоя будет не заперта, а наши поцелуи немы, то мы ничем не рискуем. Вспомни, как проводили мы вместе целые ночи, не разбудив ни одного из наших многочисленных соседей на Корте-Минелли. Ну, а что до меня, то если нет иного препятствия, кроме ревности графа, и иной опасности, как смерть…
В эту минуту Консуэло увидела, как взор графа Альберта, обычно затуманенный, остановившись на Андзолето, вдруг стал ясным и глубоким. Разговор их слышать он не мог, но казалось, он слышит глазами. Консуэло высвободила свою руку из руки Андзолето и подавленным голосом проговорила:
– Ах! Если ты любишь меня, не веди себя вызывающе с этим страшным человеком!
– Ты за себя боишься? – быстро спросил Андзолето.
– Нет, но за все, что меня окружает и грозит мне.
– И за тех, кто тебя обожает, конечно? Ну что ж, пусть так! Умереть на твоих глазах, у твоих ног! О, я только этого и жажду! Я буду у твоих дверей в полночь; сопротивляясь, ты только ускоришь мою гибель.
– Как! Вы уезжаете завтра и ни с кем не прощаетесь? – спросила Консуэло, увидав, что он, раскланявшись с графом и канониссой, ничего не сказал им о своем отъезде.
– Нет, не прощаюсь, – сказал он, – они стали бы меня удерживать, а я, видя, что все кругом словно сговорились продлить мои мученья, мог бы против воли уступить. Ты передашь им за меня извинения и прощальный привет. Я приказал проводнику держать лошадей наготове к четырем часам утра.
Это было более чем верно. Манера Альберта как-то по-особенному смотреть на него не ускользнула от Андзолето. Он решил идти на все, но был готов и к бегству. На всякий случай его лошади стояли оседланными на конюшне, и проводник получил приказ не ложиться.
Консуэло вернулась к себе в комнату в состоянии неописуемого ужаса. Она не хотела видеть у себя Андзолето и в то же время боялась, как бы что-нибудь не помешало ему прийти. Все время она находилась во власти этого двойственного, обманчивого, неодолимого чувства, вносившего разлад между ее сердцем и совестью. Никогда еще она не казалась себе такой несчастной, брошенной, такой одинокой на свете.
«О! Мой учитель Порпора, где вы? – мысленно восклицала она. – Лишь вы один могли бы спасти меня, вам одному известен мой недуг и грозящие мне опасности. Только вы, резкий, строгий, недоверчивый, как отец и друг, смогли бы удержать меня от падения в бездну, куда я лечу. Но разве вокруг меня нет друзей? Разве граф Христиан не отец мне? Разве не была бы матерью для меня канонисса, имей я мужество не обращать внимания на ее предрассудки и раскрыть ей свое сердце? А Альберт, разве он не опора моя, не брат, не муж, согласись я только произнести одно слово? Да! Он должен быть моим защитником, а я боюсь его, отталкиваю!.. Надо пойти к ним, – мысленно прибавила она, вставая и в волнении сделав несколько шагов по комнате, – мне нужно соединить свою судьбу с ними, я должна искать у них покровительство, укрыться под крыльями этих ангелов-хранителей. Здесь обитают покой, достоинство, честь; унижение и отчаяние ждут меня подле Андзолето. О да! Надо идти к ним, покаяться в том, что произошло в тот страшный день; надо рассказать обо всем, что творится во мне, чтобы они могли удержать, защитить меня от меня самой. Надо связать себя с ними клятвой, надо произнести «да», которое поставит преграду между мной и моим мучителем. Иду к ним!..»
Однако, вместо того чтобы идти, она без сил упала на стул и в отчаянии стала рыдать над своим утраченным покоем, над своей сокрушенной силой.
«Но как, – говорила она себе, – как идти к ним с новой ложью, как предлагать им распутницу, жену-прелюбодейку?! Ведь на самом деле я развращена в душе, и на устах моих, которые произнесли бы обет неизменной верности чистосердечнейшему из людей, горит еще поцелуй другого, а сердце мое трепещет нечистой радостью при одном воспоминании о нем. Ах! Ведь и моя любовь к недостойному Андзолето изменилась, как и он сам. Это уже не та спокойная, святая любовь, с мыслью о которой я безмятежно засыпала, осененная крылами матери, распростертыми в вышине небес. Это увлечение – столь же бурное и низкое, как и тот, кто возбудил его во мне. В душе моей не осталось уже ничего великого, правдивого. С сегодняшнего утра я лгу самой себе так же, как лгу другим. Как же мне теперь не лгать? Здесь или вдалеке – Андзолето всегда будет предо мной. Одна мысль о завтрашней разлуке мучительна для меня, и в объятиях другого я буду грезить только о нем. Что же делать, как быть?»
А время шло – и страшно быстро и страшно медленно.
«Мы встретимся, – говорила она себе, – я скажу ему, что ненавижу, презираю его, что не хочу больше его видеть. Но нет, я опять лгу: я ничего не скажу, а если у меня хватит духу сказать, то я сейчас же откажусь от своих слов. Я даже не уверена, что сохраню целомудрие, – Андзолето уже не верит в него и может отнестись ко мне непочтительно. Да и я сама больше не верю в себя, не верю ни во что, я способна отдаться ему под влиянием страха, но не по слабости. О! Лучше умереть, чем потерять к себе уважение, когда хитрость и распутство восторжествуют над стремлением к святости, над благородными намерениями, вложенными в меня богом!» Она подошла к окну, и ей пришла в голову мысль броситься вниз, чтобы смерть избавила ее от бесчестья, которое словно уже коснулось ее. Борясь с этим мрачным искушением, она искала путей к спасению. В сущности в них недостатка не было, но ей казалось, что все они влекут за собой другие опасности. Прежде всего она заперла на задвижку дверь, в которую мог войти Андзолето. Но она лишь наполовину знала этого холодного эгоиста и, имея доказательства его физической храбрости, не подозревала, что он совершенно лишен мужества морального, когда человек готов идти на смерть ради удовлетворения своей страсти. Она думала, что он дерзнет прийти к ней, будет добиваться объяснения, может даже поднять шум, а между тем достаточно было малейшего шороха, чтобы привлечь внимание Альберта. В стене смежной комнаты, как почти во всех помещениях замка, была потайная лестница, которая вела в нижний этаж и выходила у самых покоев канониссы. Это было единственное убежище, где девушка могла укрыться от безрассудной дерзости Андзолето. Если бы она решилась на этот шаг, ей пришлось бы во всем покаяться и даже сделать это заранее, дабы не подать повода к скандалу, который от испуга легко могла раздуть добрейшая Венцеслава. Оставался еще сад, но, появись там Андзолето, – а он, по-видимому, уже хорошо изучил весь замок, – это значило бы прямо идти на гибель. Обдумывая все это, Консуэло увидела из своего окна, выходившего на задний двор, свет у конюшен; разглядела она там и человека: не будя других слуг, он, казалось, готовился к отъезду. По одежде она узнала в нем проводника Андзолето, седлавшего по его приказанию коней. Увидела она также свет у сторожа подъемного моста и не без основания подумала, что тот был предупрежден проводником об отъезде, хотя точное время еще не было назначено. Пока Консуэло наблюдала за происходившим у конюшни, перебирая в уме тысячи предположений и проектов, ей пришел в голову странный и очень смелый план. Благодаря ему исчезала необходимость принять то или другое крайнее решение, что так ужасало ее, и в то же время в ее жизни открывались новые перспективы, – вот почему план этот показался ей настоящим вдохновением свыше. Ей некогда было останавливаться ни на способах осуществления этого плана, ни на его последствиях. Казалось, само провидение позаботилось о том, чтобы она могла претворить его в жизнь, а последствий она надеялась избежать. И Консуэло принялась за нижеследующее письмо, страшно спеша, что легко можно себе представить, ибо на часах замка уже пробило одиннадцать:
«Альберт! Я принуждена уехать. Люблю Вас всей душой. Вы это знаете, но во мне живут противоречивые, мятежные чувства, я терзаюсь и не в состоянии объяснить это ни Вам, ни себе самой. Будь Вы со мной в эту минуту, я сказала бы, что вверяю себя Вам, предоставляю Вам заботиться о моем будущем, согласна быть Вашей женой, быть может, даже сказала бы Вам, что хочу этого. Однако я обманула бы Вас или дала бы безрассудный обет, так как сердце мое недостаточно еще очистилось от прежней любви, чтобы без страха принадлежать сейчас Вам и без угрызений совести заслужить Вашу любовь. Я отправляюсь в Вену, чтобы встретиться с Порпорой или дождаться его, – судя по письму, которое он прислал Вашему батюшке, он уже должен находиться там или приедет туда через несколько дней. Клянусь, я еду к нему, чтобы забыть ненавистное прошлое и жить надеждой на будущее, в котором Вы являетесь для меня опорой опор. Не ищите меня, я запрещаю Вам следовать за мной во имя этого будущего; Ваше нетерпение может лишь повредить, а быть может, – и разрушить все. Ждите меня и будьте верны клятве, которую Вы мне дали, – не ходить без меня… Вы понимаете, о чем я говорю! Надейтесь на меня, – я приказываю, так как ухожу со святой уверенностью вернуться очень скоро или призвать Вас к себе. Сейчас я словно в страшном сне, и мне кажется, что, оставшись наедине с собой, я проснусь достойной Вас. Не хочу, чтобы брат следовал за мной, – я обману его, направив по ложному пути. Во имя всего самого для Вас дорогого не мешайте ни в чем моему замыслу и верьте в мою искренность. Тогда я увижу, действительно ли Вы любите меня и могу ли я, не краснея, противопоставить Вашему богатству свою бедность, Вашему титулу – свое скромное происхождение, Вашей учености – свое невежество. Прощайте!.. Нет, до свиданья, Альберт! Чтобы доказать Вам, что я уезжаю не навсегда, поручаю Вам склонить Вашу уважаемую, дорогую тетушку благосклонно посмотреть на наш брак и сохранить доброе отношение ко мне Вашего отца, лучшего и достойнейшего из людей. Откровенно расскажите ему обо всем. Из Вены напишу».
Надежда, что подобным письмом можно убедить и успокоить человека, настолько влюбленного, как Альберт, была, конечно, очень смела, но не безрассудна. Консуэло чувствовала, пока писала это письмо, как к ней возвращаются и сила воли и прямодушие. Она действительно готова была выполнить все, что обещала. Она верила в глубокую проницательность, почти ясновидение Альберта, знала, что его не обманешь, была убеждена, что он ей поверит и, оставаясь верным себе, беспрекословно послушается ее. В эту минуту она смотрела и на Альберта и на все происходящее его глазами. Сложив письмо, но не запечатав его, она накинула дорожный плащ, покрыла голову очень густым черным вуалем, надела прочную обувь, захватила имевшуюся у нее небольшую сумму денег, немного белья и на цыпочках, с невероятными предосторожностями спустилась по лестнице в нижний этаж; там она пробралась в покои графа Христиана, а затем – в его молельню, куда он неизменно входил ровно в шесть утра. Она положила письмо на подушку, на которую граф обычно клал свой молитвенник, прежде чем опуститься на колени; потом, сойдя во двор, никого не разбудив, направилась прямо к конюшням.
Проводник, чувствовавший себя не особенно спокойно глухой ночью в большом замке, где все спало мертвым сном, в первую минуту перепугался, увидев черную женщину, приближавшуюся к нему, словно привидение. Он забился в дальний угол конюшни, не смея ни крикнуть, ни задать ей вопроса. Этого-то и надо было Консуэло. Как только она сообразила, что ее никто не может ни увидеть, ни услышать (ей было известно, что окна комнат Альберта и Андзолето не выходят на этот двор), она сказала проводнику:
– Я сестра молодого человека, которого ты привез сюда нынче утром. Он похищает меня. Это только что решено между нами. Скорей замени седло на его лошади дамским, – их здесь несколько, – и следуй за мной до Тусты, не проронив ни слова, не сделав ни единого шага, который мог бы выдать прислуге замка мое бегство. Плату получишь вдвойне. Ты удивлен? Ну, живо! Как только доберемся до города, ты должен будешь тотчас же на этих лошадях вернуться сюда за братом.
Проводник покачал головой.
– Тебе будет заплачено втрое.
Проводник кивком головы выразил согласие.
– И ты карьером привезешь его в Тусту, где я буду ждать вас. Проводник опять покачал головой.
– Тебе дадут за вторую поездку в четыре раза больше, чем за первую. Проводник повиновался. В один миг лошадь, на которой должна была ехать Консуэло, была переседлана.
– Это не все, – проговорила Консуэло, вспрыгнув на лошадь, когда та еще не была окончательно взнуздана, – дай мне твою шляпу и накинь поверх моего свой плащ. На один миг. – Понимаю, – сказал проводник, – надо надуть сторожа – нетрудное дело! О, я не впервые похищаю знатных девиц! Надеюсь, ваш возлюбленный хорошо заплатит, хоть вы и сестра ему, – усмехаясь, добавил он.
– Прежде всего я сама хорошо заплачу тебе. Ну, помалкивай! Готов?
– Уже в седле.
– Поезжай вперед и вели спустить мост.
Они проехали по мосту шагом, сделали крюк, чтобы миновать стены замка, и через четверть часа были уже на большой дороге, усыпанной песком. Консуэло до того ни разу в жизни не ездила верхом. К счастью, ее лошадь, хотя и сильная, была смирного нрава. Проводник подбадривал ее, прищелкивая языком, и она, идя ровным, сдержанным галопом по лесу и кустарнику, доставила амазонку к месту назначения через два часа.
При въезде в город Консуэло остановила лошадь и спрыгнула на землю.
– Я не хочу, чтобы меня здесь видели, – сказала она проводнику, давая ему условленную плату за себя и за Андзолето. – По городу я пойду пешком, достану здесь у знакомых экипаж и поеду по дороге в Прагу. Я поеду быстро, чтобы до рассвета как можно дальше отъехать от мест, где меня знают в лицо. Утром я сделаю остановку и буду ждать брата.
– А где?
– Не знаю еще. Скажи ему, что на одной из почтовых станций. Пусть только не расспрашивает, раньше чем не отъедет на десять миль отсюда. Тогда пусть справляется о госпоже Вольф – это первое пришедшее мне в голову имя. Только ты не забудь его. Скажи, в Прагу ведет только одна дорога?
– Одна до…
– Отлично! Остановись в предместье и дай передохнуть лошадям. Постарайся, чтобы не заметили дамского седла, набрось на него плащ. Не отвечай ни на какие вопросы и поскорее пускайся в обратный путь. Постой, еще одно слово: передай брату, пусть он не колеблется, не задерживается и уезжает так, чтобы его никто не видел. В замке ему грозит смерть.
– Господь с вами, красотка, – ответил проводник, успевший уже убедиться в том, что ему хорошо заплачено. – Да если б даже мои бедные лошадки околели, я и то был бы рад услужить вам.
«Досадно, однако, – подумал он, когда девушка исчезла в темноте, мне не удалось увидеть и кончика ее носа. Хотелось бы знать, настолько ли она красива, чтобы стоило ее похищать. Сначала-то она напугала меня своим черным покрывалом и решительной походкой, – ну, да чего только не наговорили мне там, в людской, я уж не знал, что и думать. До чего суеверны и темны эти люди со своими привидениями да со своим черным человеком у дуба Шрекенштейна! Эх! Мне больше сотни раз приходилось там бывать, и никогда я его не видел. Правда, проезжая у подножья горы, я всегда старался опустить голову и смотреть в сторону оврага».
За этими бесхитростными рассуждениями проводник накормил овсом лошадей, а сам, чтобы разогнать сон, хорошенько подкрепился в соседнем трактире пинтой медовой шипучки и отправился обратно в Ризенбург отнюдь не спеша, как надеялась и предусматривала Консуэло, наказывая ему торопиться. Все больше удаляясь от нее, добрый малый терялся, в догадках относительно романтического приключения, в котором был посредником. Мало-помалу, благодаря ночному мраку, а пожалуй, и парам крепкого напитка, приключение это стало рисоваться ему в еще более чудесном виде. «А забавно, – думалось ему, – если б эта черная женщина оказалась мужчиной, а мужчина – привидением замка, мрачным призраком Шрекенштейна! Говорят же, что он злобно подшучивает над ночными путниками, а старик Ганс даже клялся мне раз десять, будто видел его в конюшне, когда задавал перед рассветом корм лошадям старого барона Фридриха. Черт побери! Не очень-то оно приятно! Встретиться да побыть с такими тварями всегда к беде! Если мой бедный Серко возил на себе этой ночью сатану, ему, наверное, несдобровать. Сдается мне, что из его ноздрей уже пышет пламя. Как бы он еще не закусил удила! Ей-ей! Любопытно будет, добравшись до замка, убедиться, что в моем кармане – сухие листья вместо денег от этой чертовки. А вдруг мне скажут, что синьора Порпорина, вместо того чтобы мчаться по дороге в Прагу, преспокойно почивает в своей кроватке? Кто тогда останется в дураках – черт или я? Что верно то верно, она и вправду неслась, как ветер, а когда мы с ней расстались, исчезла так мгновенно, словно провалилась сквозь землю».
Глава 62
Андзолето не преминул встать в полночь, взять свой стилет, надушиться и загасить свечу. Но в ту минуту, когда он собирался тихонько отпереть дверь (а он уже раньше обратил внимание на то, что замок в ней открывался мягко и бесшумно), он с изумлением вдруг обнаружил, что ключ не поворачивается. Возясь с ним, он изломал себе все пальцы и вконец измучился, рискуя к тому же толчками в дверь кого-нибудь разбудить. Однако все усилия его оказались тщетны. А другой двери из его комнаты не было. Окна же выходили в сад на высоте пятидесяти футов от земли, причем стена была совершенно гладкая и спуститься по ней было невозможно, – при одной мысли о таком спуске кружилась голова.
«Это не случайность, – сказал себе Андзолето, еще раз напрасно попытавшись открыть дверь. – Будь то Консуэло (неплохой признак: ее страх свидетельствовал бы об ее слабости) или же граф Альберт, они у меня оба за это поплатятся!»
Он решил было снова уснуть, но ему мешала досада, а быть может, какое-то беспокойство, близкое к страху. Если эта предосторожность была делом рук Альберта, значит он один во всем доме не заблуждался относительно «братских» отношений между Андзолето и Консуэло. А у той был уж очень испуганный вид, когда она предупреждала его остерегаться «этого страшного человека». Как ни убеждал себя Андзолето, что молодой граф, страдающий умственным расстройством, вряд ли может быть последовательным в своих действиях, да к тому же, принадлежа к именитому роду, он, конечно, не пожелает в силу предрассудков драться на дуэли с комедиантом, все же бывший жених Консуэло чувствовал себя не совсем спокойно. Альберт произвел на него впечатление человека хоть и помешанного, но тихого и вполне владеющего собой; что же касается предрассудков, то, по-видимому, они не очень-то сильны в нем, раз позволяли ему думать о браке с актрисой. А потому Андзолето стал не на шутку опасаться, что, добиваясь своей цели, нарвется на столкновение с молодым графом и наживет себе беду. Такая развязка не столько пугала его, сколько казалась постыдной. Он научился владеть шпагой и льстил себя надеждой, что не спасует ни перед кем, как бы искусен ни был противник. Тем не менее успокоиться он не мог и так и не сомкнул глаз всю ночь.
Около пяти часов утра ему как будто послышались шаги в коридоре, и вскоре дверь легко и бесшумно открылась. Еще не рассвело, а потому, увидав человека, так бесцеремонно входящего в его комнату, Андзолето подумал, что настала решительная минута. Он бросился к своему стилету и, словно бык, ринулся вперед. Но тотчас же в предрассветной мгле он узнал своего проводника, который делал ему знаки говорить потише и не шуметь. – Что значат эти шутки и что тебе от меня надо, дурень? – раздраженно спросил Андзолето. – Как ты умудрился пробраться сюда?
– Да как же иначе, если не через дверь, добрый синьор.
– Дверь была заперта на ключ.
– Но ключ-то вы оставили снаружи.
– Не может быть! Он на моем столе.
– Что ж тут удивительного, – там, значит, другой.
– Кто же так подшутил надо мной, заперев меня здесь? Вчера был только один ключ; уж не ты ли проделал это, приходя сюда за чемоданом?
– Клянусь богом, не я, и другого ключа я не видел.
– Ну, стало быть, это черт! Что у тебя за деловой и таинственный вид и что тебе от меня надо? Я за тобой не посылал.
– Вы не даете мне слова вымолвить. Впрочем, увидев меня, вы, должно быть, сами поняли, зачем я пришел. Синьора благополучно доехала до Тусты, и вот я, по ее приказанию, вернулся с лошадьми за вами.
Понадобилось несколько мгновений, прежде чем Андзолето сообразил, в чем дело; однако произошло это достаточно быстро, чтобы проводник, суеверные страхи которого уже начали рассеиваться вместе с зарей, не заподозрил снова проделок дьявола. Плут первым делом исследовал деньги, данные ему Консуэло, постучав ими об пол конюшни, и остался доволен своей сделкой с адом.
Андзолето понял все с полуслова и подумал, что беглянка, находясь под бдительным надзором, не смогла предупредить его о своем решении и под влиянием грозящей опасности, выведенная, быть может, из себя ревностью жениха, воспользовалась удобной минутой, чтобы избавиться от его гнета, сбежать и вырваться на свободу.
«Как бы там ни было, – сказал он себе, – нечего сомневаться и раздумывать. Указания, присланные ею с этим человеком, доставившим ее до тракта, ведущего на Прагу, ясны и определенны. Победа! Только бы мне выбраться отсюда, не прибегая к помощи шпаги».
Поспешно собравшись и вооружившись с головы до ног, Андзолето послал проводника разведать, свободен ли путь.
Узнав от него, что, по-видимому, в доме все еще спят, за исключением сторожа подъемного моста, только что впустившего проводника, Андзолето тихонько вышел, вскочил на коня и, не встретив во дворе никого, кроме конюха, подозвал его и дал ему на чай, чтобы отъезд его не показался бегством.
– Клянусь святым Венцеславом, – сказал конюх проводнику, – вот странная вещь! Лошади вышли из конюшни все в мыле, словно скакали ночь напролет.
– Видно, ваш черный дьявол приходил, – ответил проводник.
– Вот оно что! – подхватил конюх. – То-то я слышал всю ночь ужасный шум в той стороне, да боялся выйти посмотреть; но вот, как я вижу вас перед собой, так же явственно слышал я скрип решетки и грохот опускаемого подъемного моста. Я даже решил, что вы уезжаете, и уж не чаял вас встретить нынче утром.
Сторож у подъемного моста сделал другого рода замечание.
– Ваша милость, стало быть, изволит двоиться? – спросил он, протирая глаза. – Я видел, как вы уехали в полночь, а вот вы опять здесь.
– Это приснилось вам, любезный, – сказал Андзолето, также давая ему на чай, – да я и не уехал бы, не попросив вас выпить за мое здоровье.
– Ваша милость делает мне слишком много чести, – ответил сторож на ломаном итальянском языке. – Как бы там ни было, – прибавил он по-чешски проводнику, – а я видел в эту ночь двоих…
– Смотри, как бы будущей ночью тебе не увидеть четверых, – ответил проводник, поскакав вслед за Андзолето по мосту. – Черный дьявол любит выкидывать штучки с такими сонями, как ты.
Итак, Андзолето, руководясь советами и указаниями проводника, добрался до Тусты, или Тауса, ибо, кажется, это один и тот же город.
Отпустив проводника и взяв почтовых лошадей, он проехал городом. И здесь и на протяжении еще десяти миль он воздерживался от каких бы то ни было расспросов. На указанной станции он остановился позавтракать (его мучил голод) и справился относительно г-жи Вольф, которая должна была ждать его здесь с каретой. Понятно, никто не мог дать о ней никаких сведений. Правда, в городке имелась г-жа Вольф, но она жила здесь уже лет пятьдесят и держала галантерейную лавку. Андзолето, разбитый, измученный, решил, что Консуэло, очевидно, не нашла возможным здесь остановиться. Он хотел было нанять почтовую карету, но таковой не оказалось. И волей-неволей пришлось ему вновь взобраться на лошадь и мчаться во весь опор. Ему казалось, что он вот-вот встретит заветную карету, куда и бросится и тотчас забудет о всех волнениях и усталости. Но встречалось очень мало путешественников, и ни в одном экипаже не видно было Консуэло. Наконец, в полном изнеможении, не находя нигде наемного экипажа, страшно раздосадованный, Андзолето решил остановиться у дороги и подождать Консуэло, – ему уже казалось, что он опередил ее. Весь остаток дня и всю последующую ночь у него было достаточно времени, чтобы проклинать женщин, постоялые дворы, ревнивцев и дороги. На следующий день ему удалось достать место в проезжавшем мальпосте, и он продолжал путь в Прагу, но все с тем же успехом.
Предоставим же ему продвигаться на север в состоянии бешеной злобы и нетерпения, смешанного с надеждой, а сами вернемся на минуту в замок и посмотрим, какое впечатление произвел отъезд Консуэло на его обитателей. Можно легко себе представить, что графу Альберту спалось не больше, чем двум другим действующим лицам описанного нами приключения. Заручившись вторым ключом от комнаты Андзолето, он запер дверь снаружи и перестал беспокоиться об его поползновениях, прекрасно зная, что, если только сама Консуэло не вмешается в это дело, никто не пойдет его освобождать. Он содрогался от одной мысли, что это может произойти, но со свойственной ему утонченной деликатностью не хотел пускаться на рискованную разведку.
«Если Консуэло до такой степени любит его, – думал граф, – мне нечего бороться, я покорюсь судьбе! А узнаю я об этом очень скоро: она правдива и завтра же откровенно откажется от предложения, сделанного мною сегодня. Если же человек этот только преследует ее и угрожает, то она хоть на сегодняшнюю ночь будет избавлена от его домогательств. Какой бы ни послышался мне теперь шорох, я не шевельнусь, – я не хочу внушать ей отвращения. Не стану подвергать бедняжку мукам стыда, явившись к ней без зова. Нет! Я не буду играть роль низкого шпиона, подозрительного ревнивца, ибо пока ее отказы и колебания лишают меня всяких прав на нее. Знаю одно: я могу быть спокоен за свою честь и, хоть боюсь за свою любовь, уверен, что не буду обманут. О душа моей любимой! Ты, что пребываешь и в совершеннейшей из женщин и в боге вселенной! Если сквозь тайны и мрак человеческой мысли тебе дано в эту минуту читать в моем сердце, внутреннее чувство должно подсказать тебе, что я люблю слишком сильно, чтобы не верить твоему слову!»
Мужественный Альберт свято выполнил принятое им на себя обязательство, и хотя во время бегства Консуэло ему и показалось, будто в нижнем этаже он слышит ее шаги, а затем какой-то менее понятный стук со стороны подъемной решетки, он все стерпел, молился и, благоговейно скрестив руки, сдерживал трепетавшее в груди сердце. Когда стало светать, он услышал шаги и стук открывшейся двери в комнате Андзолето. «Негодяй! – подумал он. – Покидает ее самым бесстыдным образом и без всяких предосторожностей. Точно хочет похвастаться своей победой. Ах, я почитал бы ничтожным зло, которое он причиняет мне, если б своей любовью он не осквернял другой души, более драгоценной и дорогой мне, чем моя собственная».
Время подошло к тому часу, когда граф Христиан обычно вставал, и Альберт отправился к нему; но он отнюдь не собирался предупреждать отца о происходящем, а хотел просить его еще раз поговорить с Консуэло. Он был уверен, что она не солжет. Ему казалось, что ей самой хотелось объясниться, и он готов был поддержать ее в постигшем ее горе, утешить, притворившись, будто покоряется своей судьбе, чтобы только смягчить горечь пережитой ею разлуки. Альберт не задавался мыслью, как отразится это на нем самом. Он чувствовал, что либо рассудок его, либо жизнь не вынесет такого удара, и не страшился мук, превышающих его силы.
Он встретился с отцом в момент, когда старик входил в молельню. Письмо, положенное на подушку, одновременно бросилось в глаза обоим. Вместе они схватили его, вместе прочли. Старик был сражен письмом, ибо опасался, что сын не перенесет удара, а Альберт, готовый к большему несчастью, был спокоен, преисполнен покорности и непоколебимого доверия.
– Она чиста, – проговорил он, – и хочет любить меня. Она чувствует, что я люблю ее по-настоящему, нерушимо верю в нее. Господь оградит ее от опасности! Будем уповать на это, отец мой, и будем спокойны. Не бойтесь за меня, я сумею осилить свое горе, одолеть тревогу.
– Сын мой, – сказал растроганный старик, – вот мы стоим с тобой перед алтарем, где сияет бог твоих предков. Ты перешел в другую веру, и, как мне ни больно, ты знаешь, что я никогда не упрекал тебя. Я паду ниц перед тем самым распятием, перед которым прошлой ночью дал тебе клятву сделать все от меня зависящее, чтобы любовь твоя была услышана и освящена почетным союзом. Я сдержал свое обещание и теперь возобновляю его. А еще я буду молить всевышнего, чтобы он исполнил твои желания, мои же не будут в разладе с ними. Не присоединишься ли ты к моей молитве в торжественный час, когда, быть может, решается на небесах судьба твоей земной любви? О! Мой благородный сын, в коем предвечный сохранил все добродетели, вопреки испытаниям, ниспосланным твоей прежней вере! Сын мой, молившийся верховному владыке на коленях, подобно юному ангелу, рядом со мной у могилы матери! Неужели ты и сегодня не вознесешь к нему своего голоса, дабы мой не звучал напрасно?
– Отец, – ответил Альберт, обнимая старца, – если наша вера отличается по форме и догматам, то души наши всегда сходятся на одном извечном божественном принципе. Вы служите богу премудрому, милосердному, идеалу совершенства, познания и добра, – ему я никогда не переставал поклоняться. О Иисусе Христе, распятый за нас! – произнес он, становясь перед распятием на колени рядом с отцом. – Ты, коему люди поклоняются как Слову и перед коим я благоговею, как перед самым благородным и чистым проявлением всеобъемлющей любви среди нас! Услышь мою молитву, ты, чья мысль вечно живет в боге и в нас! Благослови влечения и честные намерения! Пожалей торжествующую развращенность и поддержи борющуюся невинность! Предаю счастье свое в руки божий. О господь милосердный! Да направит и оживит твоя воля сердца, не знающие другой силы, кроме твоей, и иного утешения, кроме пребывания твоего и примера твоих деяний на земле!»
Глава 63
Андзолето совершенно впустую продолжал путь в Прагу, так как Консуэло, дав проводнику ложные указания, что было необходимо для успеха задуманного ею плана, повернула влево по знакомой дороге, – она раза два сопровождала баронессу Амелию в замок, расположенный по соседству с маленьким городком Таусом. Замок этот был самым отдаленным пунктом, где она имела случай побывать за время своих редких выездов из Ризенбурга. Естественно, что местность эта и проходящие по ней дороги всплыли в ее памяти, как только она задумала и поспешно осуществила смелый план бегства. Ей вспомнилось, что хозяйка замка, гуляя с ней по террасе и указывая на красоты широко расстилавшегося перед глазами пейзажа, сказала:
– Эта красивая, усаженная деревьями дорога, которая теряется, как видите, за горизонтом, сходится с трактом, идущим на юг, – по ней мы ездим в Вену.
Итак, Консуэло, хорошо помня это указание, была уверена, что не заблудится и через некоторое время попадет на дорогу, по которой она приехала в Чехию. Она добралась до знакомого ей замка Бьела, прошла мимо парка и, невзирая на темноту, без труда нашла обсаженную деревьями дорогу. И вот еще до рассвета она очутилась почти в трех милях, считая по прямой, от того места, которое ей хотелось оставить как можно дальше позади. Молодая, крепкая, привыкшая с детства к большим переходам пешком, к тому же побуждаемая отважной волей, она встретила зарю, не ощущая особой усталости. Небо было безоблачно, дорога суха и покрыта мягким песком, приятным для ходьбы. Непривычная для Консуэло скачка верхом несколько утомила ее, но известно, что ходьба в таком случае лучше отдыха, а у сильных, энергичных людей одна усталость заставляет забывать о другой.
Однако, когда звезды стали бледнеть, а сумрак рассеиваться, Консуэло испугалась одиночества. Впотьмах она чувствовала себя так спокойно; держась все время настороже, она была уверена, что в случае погони успеет вовремя спрятаться. При дневном же свете, чтобы не идти долго по открытому месту, она решила свернуть с прежней дороги, тем более что вскоре вдали показались группы людей, разбросанных точно черные точки по белеющему среди еще темных полей тракту. На таком близком расстоянии от Ризенбурга она рисковала быть узнанной первым встречным и потому перешла на тропинку, которая, пересекая под прямым углом петлю, образованную дорогой в обход скалы, казалось ей, сокращала путь. По этой тропинке она прошла, никого не встретив, еще с час и очутилась в лесистой местности, где, как она надеялась, могла легко скрыться от людских взоров. «Если бы мне удалось, – думала она, – никем не замеченной пройти миль восемь-десять, я могла бы спокойно выйти на большую дорогу и при первом удобном случае нанять экипаж и лошадей».
Эта мысль напомнила ей о деньгах; она сунула руку в карман и вытащила кошелек, чтобы сосчитать, сколько же у нее осталось для предстоящего ей длинного и трудного пути, после того как она щедро вознаградила проводника, вывезшего ее из Ризенбурга. Пока у нее еще не было времени об этом подумать, да и вряд ли она вообще решилась бы на столь рискованный побег, будь она более осторожна. Но каковы же были ее удивление и ужас, когда кошелек оказался гораздо более легким, чем она предполагала. В спешке она, видно, захватила не больше половины имевшихся у нее денег или же впотьмах дала проводнику вместо серебряных золотые монеты, а возможно, что, открыв кошелек для уплаты проводнику, она выронила часть своего достояния на пыльную дорогу, – как бы то ни было, но, пересчитав не раз и не два свои скудные средства, она поняла, что весь путь до Вены ей придется проделать пешком.
Это открытие несколько обескуражило Консуэло – не из-за усталости (она нисколько ее не боялась), а из-за опасностей, подстерегающих молодую женщину во время столь долгого путешествия пешком. Страх, до этого времени подавляемый мыслью о том, что она вот-вот избавится от всех случайностей большой дороги, сев в экипаж, теперь заговорил в ней с большей силой, чем раньше, когда она находилась в возбужденном состоянии. И вот впервые в жизни, словно пораженная ужасом, рожденным несчастьем и слабостью, она быстро зашагала вперед, выбирая самые густые перелески, чтобы укрыться там в случае нападения.
В довершение беды, лишь увеличившей ее тревогу, она вскоре заметила, что уже идет не по проторенной тропинке, а просто пробирается наугад по лесу, становившемуся все гуще и пустыннее. Если это мрачное уединение и успокаивало ее в некоторых отношениях, то, с другой стороны, она была совсем не уверена, что идет по правильному пути, а не возвращается назад и не приближается, неведомо для себя, к замку Исполинов. Андзолето ведь, пожалуй, еще там – какое-нибудь подозрение, какая-нибудь случайность, желание отомстить Альберту могли удержать его в замке. Да разве и самого Альберта не надо было опасаться в первые минуты смятения и отчаяния? Консуэло была убеждена, что он подчинится ее решению, но, появись она в окрестностях замка и услышь молодой граф о том, что ее можно догнать и вернуть обратно, разве он не примчался бы, чтобы своими мольбами добиться ее возвращения? И позволительно ли, в случае если б ее неудавшаяся попытка бежать стала широко известна, сделать посмешищем и благородного человека, и его семью, и самое себя? К тому же через несколько дней Андзолето мог возвратиться, а это возродило бы затруднения и опасности, только что устраненные ее отважным, великодушным поступком. Нет, лучше все претерпеть, всему подвергнуться, чем возвращаться в Ризенбург!
Решив отыскать направление на Вену и во что бы то ни стало держаться его, она остановилась в укромном, таинственном месте, где среди скал, под сенью старых деревьев, пробивался ручеек. Все вокруг было словно вытоптано лапами каких-то животных. Но были ли то окрестные стада или лесные звери, которые приходили порой пить из этого источника, скрытого среди чащи, Консуэло не могла решить. Она подошла к ручью, стала на колени на влажные камни и напилась студеной чистой воды, обманув этим голод, уже дававший себя чувствовать; затем, продолжая стоять на коленях, она призадумалась над своим положением.
«Было бы безрассудно и недостойно не осуществить задуманного, – сказала она себе. – Как! Да может ли быть, чтобы дочь моей матери до того изнежилась от приятной жизни, что не в состоянии перенести солнечного жара, голода, усталости, опасности? Я так мечтала о бедности и свободе, когда была окружена этим угнетающим благосостоянием, так жаждала избавиться от него! И вот я прихожу в ужас на первых же порах! Разве не моя прирожденная профессия «нестись вперед, страдать, дерзать»? Что изменилось во мне с тех пор, как мы с милой мамой, еще до зари, частенько шагали натощак, подкрепляя силы водой из маленьких придорожных источников?
Вот как, красавица Zingarella? Мы можем только распевать в театрах, спать на пуху да путешествовать в каретах? Да разве мы с матерью боялись чего-либо? Не говаривала ли она мне при встрече с подозрительными людьми: «Ничего не бойся – беднякам ничто не угрожает, нищие не воюют между собой». В то время она была еще молода и красива, а приходилось ли мне когда-либо видеть, чтобы ее оскорбляли прохожие? Злейшие из людей щадят беззащитных. Как же иначе могли бы существовать бедные девушки, нищенки, бродящие по дорогам, не имея иного покровителя, кроме бога? Неужели я вроде тех девиц, что не смеют сделать шагу из дома, не вообразив, что весь мир, опьяненный их прелестями, бросится их преследовать? Неужели, если женщина идет одна по общей для всех земле, это значит, что она неизбежно будет опозорена и утратит честь только из-за того, что у нее нет средств окружить себя стражами? Вот ведь моя мать – она была сильна, как мужчина; она, точно лев, защищала бы себя. А я разве не могу быть такой же мужественной и сильной? Ведь в моих жилах течет добрая плебейская кровь! Разве нельзя покончить с жизнью, если тебе грозит потерять нечто более ценное, чем жизнь? Да и, кроме того, я иду пока по местам спокойным, где жители кротки и милосердны, а когда попаду в неизвестные края, то лишь при особом невезении мне не встретится в минуту опасности одно из тех простых, великодушных созданий, каких господь посылает всюду, чтобы они служили провидением для слабых и угнетенных! Ну, будем же мужественны! Сегодня, во всяком случае, мне придется бороться только с голодом. Обойдусь без хлеба и никуда не зайду до вечера, пока совсем не стемнеет и я не буду далеко, далеко… Голод знаком мне, и я умею переносить его, несмотря на чревоугодие, к которому хотели приучить меня в Ризенбурге. День ведь быстро проходит. Когда наступит жара, а ноги утомятся, я припомню философскую истину, так часто слышанную мною в детстве: «Кто спит – обедает», запрячусь куда-нибудь в расщелину скалы, и ты увидишь, дорогая мама, в эту минуту незримо ступающая рядом со мной и охраняющая меня, что я умею отдыхать без диванов и подушек».
Беседуя таким образом сама с собой, бедная девушка понемногу забывала о своих сердечных муках. Сознание огромной победы, одержанной над собой, умалило ее страх перед Андзолето. Ей даже казалось, что с той минуты, когда ей удалось расстроить его план и не позволить себя соблазнить, в душе ее стала затихать эта пагубная любовь. К трудностям своего романтического похождения она относилась с какой-то веселостью, смешанной с грустью, то и дело повторяя чуть слышно: «Тело мое страдает, зато душа спасена. Птица, не имея сил защититься, обладает крыльями для спасения и, очутившись в воздушных пространствах, смеется над ловушками и западнями».
К воспоминанию об Альберте, к мыслям об его ужасе и горе она относилась иначе, но всеми силами боролась с одолевавшим ее состраданием. Она твердо решила отстранять его образ до тех пор, пока не оградит себя от слишком поспешного раскаяния и неблагоразумной нежности.
«Дорогой Альберт, чудесный друг, – мысленно обратилась она к нему, – я не могу не вздыхать, представляя себе твои муки. Но только в Вене я решусь разделить их с тобой, пожалеть тебя. Только в Вене позволю я своему сердцу признаться, как оно чтит тебя и скорбит о тебе! Ну! Вперед!» – сказала себе Консуэло, пробуя встать. Но тщетно раза два или три пыталась она подняться, чтобы покинуть этот дикий, красивый источник, чье сладкое журчание, казалось, манило ее продлить минуты отдыха. Сон, который ей хотелось отложить до полудня, смыкал ей веки, а голод вызывал непреодолимую слабость, – она не думала, что так отвыкла переносить его. Напрасно старалась она обмануть себя. Накануне она почти не дотронулась до пищи – слишком много было беспокойств и волнений. Какой-то туман заволакивал ей глаза; холодный, мучительный пот расслаблял тело. Она бессознательно поддалась усталости и в ту минуту, когда уже совсем было решила подняться и продолжать путь, тяжело опустилась вместо этого на траву, голова ее склонилась на дорожный узелок, и она заснула крепким сном. Солнце, красное и жаркое, каким подчас оно бывает в короткое чешское лето, весело поднималось в небе. Ключ журчал по камешкам, словно желая монотонной своей песней убаюкать путницу, а птицы летали над ее головой, щебеча свои неугомонные песенки.
Глава 64
Консуэло проспала часа три, как вдруг шум, не похожий ни на журчание ручья, ни на щебетание птиц, вывел ее из забытья. Не имея сил подняться и еще не понимая, где она находится, девушка приоткрыла глаза и увидела в двух шагах от себя человека, нагнувшегося над камнем и пьющего воду у источника точно так, как делала она сама, – попросту подставив рот под струю. Вначале Консуэло испугалась, но, взглянув еще раз на пришельца, появившегося в ее убежище, успокоилась, так как он, казалось, почти не обращал на нее внимания, – потому ли, что уже вволю нагляделся на путницу во время ее сна, или же потому, что вообще не особенно интересовался этой встречей. К тому же это скорее был ребенок, чем мужчина. На вид ему было не больше пятнадцати-шестнадцати лет; он был небольшого роста, худой и очень загорелый. Лицо его, ни красивое, ни уродливое, в эту минуту ничего не выражало, кроме мирной беззаботности.
Инстинктивно Консуэло опустила на лицо вуаль, но не изменила позы, считая, что лучше притвориться спящей, чем подвергнуть себя расспросам; да и вообще так, пожалуй, лучше – особенно если путник и дальше не будет обращать на нее внимания. Однако сквозь вуаль она не переставала следить за каждым движением незнакомца, выжидая, чтобы тот взял свою котомку и палку, лежавшие на траве, и пошел своей дорогой.
Но вскоре она увидела, что юноша тоже решил отдохнуть и даже позавтракать, так как он раскрыл свою дорожную сумку и, вынув оттуда большую краюху хлеба, принялся резать ее и уписывать за обе щеки, застенчиво поглядывая время от времени на спящую и стараясь как можно осторожнее действовать своим складным ножом, словно боясь разбудить ее. Этот знак внимания совсем успокоил Консуэло, а хлеб, который уплетал юный путник с таким явным удовольствием, пробудил в ней муки голода. Убедившись по изношенной одежде юноши и его запыленной обуви, что он беден и пришел издалека, она решила, что провидение посылает ей неожиданную помощь и ею следует воспользоваться. Краюха хлеба была большая, и юноша мог без особого ущерба для своего аппетита уделить ей кусочек. Консуэло поднялась, делая вид, что протирает глаза, как будто только что проснулась, и решительно посмотрела на юношу, чтобы внушить ему уважение, – на тот случай, если бы он вдруг утратил проявленную им до сих пор почтительность.
Но такая предосторожность была излишней. Как только юноша увидел, что девушка проснулась и встала, он слегка смутился, опустил глаза, потом попробовал взглянуть на нее и, ободренный выражением лица Консуэло – несказанно доброго и привлекательного, несмотря на ее стремление хранить суровость, – заговорил таким приятным, благозвучным голосом, что юная музыкантша сразу почувствовала к нему расположение.
– Ну вот, сударыня, наконец-то вы проснулись, – проговорил он, улыбаясь, – вам здесь так славно спалось, что, не бойся я поступить невежливо, я тоже заснул бы.
– Если вы так же любезны, как вежливы, окажите мне маленькую услугу, – сказала материнским тоном Консуэло.
– Все, что вам будет угодно, – ответил юный путник; и голос его показался Консуэло приятным и задушевным.
– Тогда продайте мне частицу вашего завтрака, – сказала Консуэло, если, конечно, это не будет для вас лишением.
– Продать?! – воскликнул, краснея, изумленный юноша. – О! Будь у меня завтрак, я бы его не продал! Разве я трактирщик? Я с удовольствием предложил бы вам его!
– Ну, так поделитесь со мной, а я взамен дам вам на что купить себе лучший завтрак.
– Нет! Нет! – возразил он. – Смеетесь вы, что ли? Или вы так горды, что не можете принять от меня жалкого кусочка хлеба? Увы! Как видите, больше я ничего не могу вам предложить.
– Хорошо! Принимаю ваш хлеб. Ваша доброта заставила бы меня устыдиться, если бы я возгордилась.
– Берите! Берите, милая барышня! – радостно воскликнул юноша. – Вот вам хлеб, режьте его сами! Да не церемоньтесь! Едок я небольшой, а тут было запасено на целый день.
– Но сможете ли вы купить еще хлеба на сегодняшний день?
– Да ведь его везде можно достать! Ну, кушайте на здоровье, если хотите доставить мне удовольствие!
Консуэло не заставила себя больше просить, чувствуя, что было бы сущей неблагодарностью по отношению к братски угощавшему ее юноше отказаться позавтракать с ним. И, усевшись неподалеку от него, она принялась уписывать хлеб, по сравнению с которым все изысканные блюда, когда-либо отведанные ею за столом богачей, показались ей безвкусными и грубыми.
– Какой у вас хороший аппетит, – заговорил юноша, – просто смотреть приятно. Ну, и повезло же мне, что я вас встретил: очень рад! Знаете что? Давайте съедим весь хлеб – как здесь ни пустынно, набредем же мы сегодня на какое-нибудь жилье.
– Значит, местность эта вам незнакома?
– Я здесь впервые, но путь, по которому я шел от Вены до Пильзена, мне знаком, и я теперь возвращаюсь обратно той же дорогой.
– Куда обратно? В Вену?
– Да, в Вену. А вы тоже туда направляетесь?
Консуэло, не зная, брать ли юношу себе в спутники или уклониться от его общества, притворилась, что не слышала, чтобы не отвечать сразу.
– Но что я говорю, – продолжал юноша, – разве такая красавица отправится одна в Вену? А между тем вы, видно, путешествуете: у вас такой же дорожный узелок, как и у меня, и вы тоже странствуете пешком.
Консуэло, решив избегать вопросов юноши, пока не убедится, насколько можно доверять ему, предпочла ответить вопросом на вопрос.
– Вы из Пильзена? – спросила она.
– Нет, – ответил юноша, не имевший ни склонности, ни повода быть недоверчивым, – я из Рорау, это в Венгрии; мой отец каретник.
– А как вы ушли так далеко от дома? Разве вы не занимаетесь тем же ремеслом, что и отец?
– И да и нет: отец мой каретник, а я нет; но в то же время он и музыкант, – а я жажду им стать.
– Музыкантом? Браво! Это чудесная профессия.
– Может, она и ваша?
– Однако не учиться же музыке направлялись вы в Пильзен? Это, говорят, очень унылый военный город.
– О нет! У меня было поручение туда, а теперь я возвращаюсь в Вену, чтобы, приискав себе какой-нибудь заработок, продолжать там занятия музыкой.
– Что же вы избрали? Музыку или пение?
– Пока и то и другое. У меня довольно хороший голос, а вот тут у меня скрипочка – хоть и плохонькая, но я пытаюсь передать на ней то, что чувствую. Однако я честолюбив и мне хотелось бы достичь большего.
– Сочинять, очевидно?
– Вы угадали. У меня из головы не выходит это проклятое сочинительство. Сейчас покажу вам, какой у меня в дорожной котомке добрый спутник – объемистая книга; я разорвал ее на части, чтобы можно было брать отрывки с собой во время странствий. Когда устану, я сажусь в каком-нибудь уголке, немного позанимаюсь – и усталость как рукой снимает. – Очень похвально. Бьюсь об заклад, что это «Gradus ad Parnassum» Фукса!
– Именно! Я вижу, вы хорошо знакомы с музыкой; теперь я уверен, что вы сами тоже музыкантша. Сейчас, когда вы спали, я, глядя на вас, говорил себе: «Совсем не похожа на немку, по лицу – настоящая южанка, вполне возможно, что она итальянка и, безусловно, артистка». Поэтому-то вы и доставили мне большое удовольствие, попросив у меня хлеба; а теперь я вижу, что, хотя вы как нельзя лучше говорите по-немецки, выговор у вас все-таки иностранный.
– А что, если вы ошибаетесь? Вы тоже мало похожи на немца, и лицо у вас смуглое, как у итальянца, а между тем…
– О! Вы слишком любезны, сударыня! Лицо у меня – как у африканца, и товарищи по хору в соборе святого Стефана обычно звали меня мавром. Но вернемся к нашему разговору. Я был немало удивлен, увидев, что вы спите в лесу совсем одна. И у меня родились тысячи предположений относительно вас. Быть может, подумал я, это моя счастливая звезда привела меня сюда, чтобы я встретил добрую душу, которая помогла бы мне. Словом… сказать вам уж все?
– Говорите, не бойтесь.
– Мне показалось, что вы слишком хорошо одеты и слишком белы лицом для бродяжки, а увидев у вас дорожный мешок, я вообразил, что вы состоите при некой особе, иностранке и… артистке! О! При той великой артистке, которую я жажду увидеть и чье покровительство было бы моим спасением и счастьем. Ну, сударыня, признайтесь: вы из какого-нибудь соседнего замка и шли с поручением в окрестности! И вы, конечно, знаете… О да! Вы должны знать замок Исполинов!
– Ризенбург? Вы идете в Ризенбург?
– По крайней мере пытаюсь туда пробраться. Несмотря на все указания, данные мне в Клатау, я так заблудился в этом проклятом лесу, что не представляю себе, как выбраться отсюда. К счастью, вы знаете Ризенбург и будете так добры сказать мне, далеко ли еще до него.
– Но что же вам надо в Ризенбурге?
– Я хочу повидаться с Порпориной.
– В самом деле? Но тут Консуэло, боясь выдать себя путнику, который мог упомянуть о ней в Ризенбурге, спохватилась и равнодушно спросила:
– А скажите, пожалуйста, кто такая эта Порпорина?
– Как, вы не знаете? Увы! Я вижу, вы совсем чужой человек в этих краях. Но раз вы музыкантша и знаете Фукса, то, конечно, знакомы и с именем Порпора.
– А вы знакомы с Порпорой?
– Нет еще, как раз, желая познакомиться с ним, я и ищу покровительства его знаменитой любимой ученицы – синьоры Порпорины.
– Расскажите же мне, как вам это пришло в голову? Быть может, я найду способ проникнуть с вами в замок к Порпорине.
– Сейчас расскажу вам все. Как я уже говорил вам, я сын честного каретника, уроженец маленького местечка на границе Австрии и Венгрии. Отец мой – церковный ризничий и органист в нашей деревне. У моей матери, бывшей поварихи местного вельможи, прекрасный голос, и отец вечерами, отдыхая от работы, аккомпанировал ей на арфе. Так я, естественно, пристрастился к музыке, и, помнится, с самого раннего детства для меня не было большего удовольствия, как принимать участие в наших семейных концертах, держа в руках кусок дерева, по которому я пилил обломком рейки, воображая, что это скрипка со смычком и что я извлекаю из нее волшебные звуки. Да, да! Мне и теперь еще кажется, что мои милые щепки не были немы и из-под моего смычка звучал небесный голос, не слышимый для других, но опьянявший меня сладостными мелодиями.
Однажды, когда я вот так играл на своей воображаемой скрипке, к нам зашел мой двоюродный брат Франк, школьный учитель в Гаймбурге. Своеобразный экстаз, в котором я находился, очень заинтересовал его. Он заявил, что это свидетельствует о необычайном таланте, и увез меня с собой в Гаймбург, где в течение трех лет – со всею строгостью, смею вас уверить – обучал меня музыке. Какие чудесные фермато с руладами и фиоритурами отбивал он своей палочкой на моих пальцах и ушах! Однако я не падал духом. Я учился читать и писать; у меня была настоящая скрипка, я играл на ней простенькие упражнения, знакомясь в то же время с правилами пения и латинским языком. Я делал настолько быстрые успехи, насколько это было возможно с таким нетерпеливым преподавателем, каким был мой двоюродный брат Франк.
Было мне около восьми лет, когда случай, или, вернее, провидение, в которое я, как добрый христианин, всегда верил, привело в дом моего двоюродного брата господина Рейтера, капельмейстера венского собора. Меня ему представили как чудо-ребенка; я свободно прочитал с листа пьесу и настолько понравился ему, что он увез меня в Вену, где поместил певчим в собор святого Стефана.
Там нам приходилось работать всего два часа в день, а остальное время, предоставленные сами себе, мы могли делать все, что хотели. Но любовь к музыке подавляла во мне и детскую лень и детскую непоседливость. Стоило мне, бывало, играя с товарищами на площади, услышать звуки органа, как я бросал все и возвращался в церковь, чтобы насладиться духовным пением и музыкой. По вечерам я часами простаивал на улице под окнами, из которых доносились обрывки концерта или просто слышался приятный голос. Я был любознателен, я жаждал узнать, понять все, что поражало мой слух. Но особенно мне хотелось сочинять. В тринадцать лет, не зная ни единого правила, я отважился написать обедню и показал партитуру нашему учителю Рейтеру. Он поднял меня на смех и посоветовал немного «поучиться», прежде чем браться за сочинительство. Ему легко было так говорить. А у меня не было возможности платить учителю, ибо родители мои были слишком бедны, чтобы посылать деньги и на мое содержание и на образование. Наконец однажды я получил от них шесть флоринов, на которые и купил себе вот эту книгу и еще книгу Маттезона. С большим жаром принялся я изучать их и находил в этом громадное удовольствие. Голос мой окреп и считался лучшим в хоре. Несмотря на сомнения и неясности, порождавшиеся моим невежеством, которое я силился рассеять, я все же чувствовал, что развиваюсь и в голове моей зарождаются мысли. Но я с ужасом думал, что приближаюсь к тому возрасту, когда, по правилам капеллы, мне придется покинуть детскую певческую школу; я понимал, что эти восемь лет работы в соборе явятся для меня последними годами учения, ибо у меня нет ни средств, ни покровителей, ни учителей, затем мне придется вернуться в родительский дом и обучаться каретному ремеслу. К довершению своих горестей я стал замечать, что маэстро Рейтер, вместо того чтобы привязаться ко мне, стал со мной очень суров и думал только о том, как бы приблизить час моего исключения из школы. Я не подозревал причины столь незаслуженной антипатии. Некоторые из моих товарищей легкомысленно уверяли меня, что он мне завидует, находя в моих сочинительских попытках проявление музыкального гения, что он вообще ненавидит и обескураживает молодых людей, в которых обнаруживает талант, превосходящий его собственный. Я далек от столь лестного для моего самолюбия толкования его немилости, но мне все-таки кажется, что с моей стороны было ошибкой показывать ему свои творения: он увидел во мне безмозглого честолюбца и самонадеянного нахала.
– К тому же, – перебила рассказчика Консуэло, – старые учителя вообще не любят учеников, опережающих их в знаниях. Но как вас зовут, дитя мое? – Иосиф.
– Иосиф… а дальше?
– Иосиф Гайдн.
– Непременно запомню ваше имя: если из вас что-нибудь выйдет, я хоть буду знать, почему ваш учитель так неприязненно относился к вам и почему меня так заинтересовал ваш рассказ. Пожалуйста, продолжайте.
Юный Гайдн принялся за свое повествование, а Консуэло, пораженная сходством их судеб – судеб двух бедняков и артистов, внимательно вглядывалась в лицо юноши-певчего. Это худенькое желтоватое лицо необыкновенно оживилось в порыве излияний, голубые глаза сверкали лукавством, шаловливым и добродушным, и все в его манере держать себя и выражаться говорило о недюжинном уме.
Глава 65
– Каковы бы ни были причины антипатии маэстро Рейтера, – продолжал свой рассказ Иосиф, – он доказал мне это весьма жестоко и в связи с поступком самым незначительным. У меня были новые ножницы, и я, как настоящий школьник, пробовал их на всем, что только попадалось мне под руку. Сидевший впереди меня мальчик-певчий, очень гордившийся своей длинной косой, то и дело стирал ею записи, которые я наносил мелом на аспидной доске. И вот в голове моей мелькнула молниеносная роковая мысль. Все было делом мгновения. Крак! Ножницы раскрылись, и коса очутилась на полу! Учитель своим ястребиным взором следил за каждым моим движением. Прежде чем мой бедный товарищ успел заметить свою горестную утрату, я был подвергнут строгому выговору, опозорен и без дальних церемоний выгнан. Вышел я из детской певческой школы в ноябре прошлого года в семь часов вечера и очутился на площади, без гроша в кармане, разутый и раздетый, если не считать того жалкого платья, которое было на мне. Тут на меня напало полное отчаяние. Меня так злобно разбранили и выгнали с таким скандалом, что я вообразил, будто и в самом деле совершил великий проступок. Горько оплакивал я этот пук волос, этот кусочек ленты, отрезанные моими злополучными ножницами. Товарищ, чью голову я так опозорил, прошел мимо меня тоже с ревом. Сколько было пролито слез, сколько раскаяния и угрызений совести из-за прусской косы! Мне хотелось броситься моему товарищу на шею, стать перед ним на колени, но я не посмел и стыдливо продолжал сидеть в своем углу. А ведь бедный мальчик, вполне возможно, оплакивал мою опалу еще больше, чем собственные волосы.
Я провел ночь на улице; а утром, когда я, вздыхая, размышлял о том, как необходим и недостижим для меня завтрак, ко мне подошел Келлер, парикмахер школы певчих святого Стефана. Он только что причесывал маэстро Рейтера, и тот, продолжая на меня злиться, ни о чем другом говорить не мог, как об ужасном случае с отрезанной косой. Поэтому шутник Келлер, заметив мою жалкую фигуру, покатился со смеху и принялся осыпать меня язвительными насмешками. «Вот он, бич парикмахеров! – закричал еще издали, завидев меня, этот балагур. – Вот он, враг всех и вся, кто, подобно мне, поддерживает красоту шевелюры! Ах! Мой юный обрезатель кос! Милейший мой истребитель тупеев! Пожалуйте-ка сюда, дайте я обрежу ваши прекрасные черные кудри, чтобы наделать из них кос взамен тех, что падут от вашей руки!» Я был в отчаянии, в ярости. Закрыв лицо руками, считая себя предметом мести общества, я кинулся бежать, но добряк Келлер остановил меня. «Куда ты, несчастный? – спросил он меня, смягчаясь. – Куда ты денешься без хлеба, без одежды, без друзей да еще с таким преступлением на совести? Мне жаль тебя, я так люблю твой красивый голос, которым не раз наслаждался в соборе. Идем ко мне. У меня с женой и детьми всего одна комната на пятом этаже. Но и этого нам более чем достаточно, так что мансарда, которую я снимаю на шестом этаже, пустует. Живи в ней и кормись у нас до тех пор, пока не найдешь работы. Но чур! К волосам моих клиентов относись с должным уважением и париков моих ножницами не касайся!»
И я пошел за великодушным Келлером, моим спасителем и отцом! Он был так добр, этот бедный труженик, что, помимо помещения и стола, уделил мне еще немного денег, и я мог продолжать учение. Я взял напрокат скверненький клавесин, весь источенный червями, и, забившись на чердак со своим Фуксом и Маттезоном, без удержу предался своей страсти к сочинительству. С этой минуты я могу считать, что провидение стало покровительствовать мне. Всю эту зиму я с наслаждением изучал первые шесть сонат Эммануила Баха и, как мне кажется, хорошо их усвоил. В то же время небо, как бы в награду за мое усердие и настойчивость, послало мне небольшую работу, давшую мне возможность существовать и расплатиться с моим дорогим хозяином. По воскресеньям я играл на органе в домовой церкви графа Гаугвица, а перед тем по утрам исполнял партию первой скрипки в церкви святых отцов милосердия. Кроме того, у меня нашлись два покровителя. Один из них – аббат, который написал множество стихов на итальянском языке, как говорят, очень хороших. Он в большой милости и у императора и у императрицы. Имя его – господин Метастазио; он живет в одном доме с Келлером и со мной, и я даю уроки молодой девице, его племяннице. Другой мой покровитель – его превосходительство венецианский посланник. – Синьор Корнер? – с живостью спросила Консуэло.
– Ах! Вы знаете его? – воскликнул Гайдн. – Господин аббат Метастазио ввел меня к нему в дом. Мой скромный талант пришелся там по вкусу, и его превосходительство обещал посодействовать, чтобы со мной позанимался Порпора» который сейчас вместе с госпожой Вильгельминой, супругой или возлюбленной его превосходительства, находится на курорте в Маненсдорфе. Это обещание страшно обрадовало меня. Подумать только, – стать учеником такого великого учителя, лучшего в мире преподавателя пения! Изучить композицию, истинные, подлинные основы итальянского искусства! Я думал, что спасен, благословлял свою счастливую звезду и уже воображал себя великим музыкантом. Но увы! Несмотря на добрые намерения его превосходительства, осуществить его обещание оказалось не так легко, как я думал, и если мне не удастся найти более солидной рекомендации, боюсь, что я не смогу даже подойти близко к Порпоре. Говорят, знаменитый маэстро – большой чудак, и насколько он может быть предан, внимателен и великодушен в отношении одних своих учеников, настолько бывает капризен и жесток с другими. По-видимому, маэстро Рейтер ничто в сравнении с Порпорой, и я дрожу при одной мысли увидеть его. Однако ж, хотя он сначала и отказал наотрез его превосходительству, мотивируя свой отказ нежеланием брать новых учеников, я знаю, что его превосходительство будет настаивать, и поэтому не теряю надежды. Я решил терпеливо выносить самые жестокие оскорбления со стороны Порпоры, лишь бы он научил меня чему-нибудь.
– Вы приняли благое решение, – заметила Консуэло. – Вам не преувеличили, говоря о резкости великого музыканта и его суровой внешности. Но вы правы: не надо отчаиваться, ибо если только вы терпеливы, способны слепо повиноваться и обладаете настоящим музыкальным талантом, – а я чувствую, что это так, – если вы не теряете головы при первом налетевшем шквале, к тому же если вам удастся выказать перед ним смышленость и быстроту соображения, то обещаю вам: после трех-четырех уроков он станет самым кротким и добросовестным учителем, возможно даже, что, если, как мне кажется, вы столь же добры, сколь и умны, Порпора станет вам верным другом, справедливым, благожелательным отцом.
– О! Вы бесконечно радуете меня. Я вижу, что вы его знаете и должны также знать его знаменитую ученицу, новую графиню Рудольштадт… Порпорину…
– Но где же вы слышали об этой Порпорине и чего хотите от нее?
– Письма к Порпоре и энергичного ходатайства перед ним, когда она будет в Вене; ведь она, конечно, туда поедет после своей свадьбы с этим богатым аристократом, графом Рудольштадтом.
– А откуда вы знаете об этом браке?
– Благодаря величайшей в мире случайности. Мой друг Келлер узнал в прошлом месяце, что в Пильзене умер его родственник, который оставил ему небольшое наследство. У Келлера не было ни времени, ни средств на такое путешествие, и он все не решался предпринять его, боясь, что наследство не покроет дорожных расходов и потери времени. Как раз перед этим я получил немного денег за свою работу и предложил ему съездить в Пильзен на правах его доверенного. Вот я и отправился в этот город и в одну неделю, к своему великому удовольствию, закончил дело о наследстве Келлера. Конечно, оно не бог весть как велико, но и этим немногим ему не приходится пренебрегать. Я везу ему документы, утверждающие его в наследстве на небольшую усадьбу; он по своему усмотрению сможет либо продать ее, либо пользоваться доходами. Возвращаясь из Пильзена, я очутился вчера в местечке Клатау, где и заночевал. День был базарный, и постоялый двор оказался битком набит народом. Я сидел за столом, где закусывал толстяк, которого величали доктором Вецелиусом; в жизни не встречал я большего обжоры и болтуна. «Знаете новость? – спросил он, обращаясь к соседям. – Граф Альберт Рудольштадт, этот сумасшедший, архисумасшедший, чуть ли не бешеный, женится на учительнице музыки своей двоюродной сестры; эта авантюристка, нищая, говорят, была актрисой в Италии, и старик музыкант Порпора якобы похитил ее; но скоро она ему опротивела, и старик отправил ее родить в Ризенбург. Все это держалось в величайшей тайне, и сначала, не понимая ничего в болезни и конвульсиях барышни, считавшейся очень добродетельной, Рудольштадты вызвали меня для лечения злокачественной лихорадки. Но едва я успел пощупать пульс больной, как граф Альберт, по-видимому знавший кое-что о ее добродетели, бросился на меня, точно бешеный, оттолкнул и больше не впустил в комнату. Все было окружено полнейшей тайной. Старушка канонисса, по-моему, играла роль акушерки. Никогда старой даме еще не приходилось бывать в таком переплете. Ребенок исчез. Но удивительнее всего, что молодой граф, не имеющий, как вы знаете, представления о времени и принимающий месяцы за годы, вообразил себя отцом ребенка и так энергично поговорил со своей семейкой, что те, боясь, как бы он снова не впал в бешенство, согласились на этот славный брак». – Какая мерзость! Какая гнусность! – вскричала вне себя Консуэло. Надо же наплести столько возмутительной клеветы и нелепостей.
– Не думайте только, что я хоть на секунду поверил всему этому, – возразил Иосиф Гайдн. – Физиономия старого доктора так же глупа, как и зла, и еще прежде, чем его изобличили во лжи, я был уверен, что он клевещет и несет вздор. Но едва успел он докончить свою сказку, как пять или шесть окружавших его молодых людей встали на защиту девушки, и я таким образом узнал правду. Они наперебой принялись превозносить красоту, прелесть, скромность, ум и несравненный талант Порпорины. Всем им была понятна любовь к ней графа Альберта, все завидовали его счастью и восхищались старым графом, согласившимся на их брак. Доктора же Вецелиуса обозвали вралем и безумцем. Так как при этом упоминалось о глубоком уважении маэстро Порпоры к ученице, которой он пожелал даже дать свое имя, то мне пришла в голову мысль отправиться в Ризенбург, пасть к ногам будущей или, может быть, уже настоящей графини (говорят, будто свадьба состоялась, но это держат пока в секрете, чтобы не вызвать неудовольствия императорского двора) и, рассказав Порпорине свою историю, добиться с ее помощью милости стать учеником ее знаменитого учителя. Несколько минут Консуэло задумчиво молчала: последние слова Иосифа относительно императорского двора поразили ее. Но вскоре она снова обратилась к нему.
– Дитя мое, – проговорила она, – не ходите в Ризенбург, там нет Порпорины. Она не вышла замуж за графа Рудольштадта, и совершенно неизвестно, состоится ли этот брак вообще. Правда, речь об этом была, и мне кажется, что жених и невеста достойны друг друга. Но Порпорина, несмотря на свою преданность и дружеское расположение к графу Альберту, несмотря на глубокое уважение и безграничное почтение к нему, не нашла возможным отнестись опрометчиво к столь серьезному делу. Она взвесила, с одной стороны, какой вред принесла бы этой знатной семье, заставив ее потерять расположение и, быть может, даже покровительство императрицы, а так же уважение других вельмож и почет во всем крае, с другой же стороны – какой ущерб нанесла бы себе, отказавшись служить прекрасному искусству, которое она с любовью изучала и которому храбро решила посвятить себя. Она сказала себе, что жертва велика и с той и с другой стороны, и, прежде чем очертя голову решиться на нее, она должна посоветоваться с Порпорой, а молодому графу дать время убедиться в прочности своего чувства. И вот она взяла и отправилась в Вену пешком, без провожатого и почти без денег, унеся с собой из всех предложенных ей богатств лишь чистую совесть и гордость артистки, – ушла с надеждой вернуть покой и рассудок тому, кто любит ее.
– В таком случае это действительно настоящая артистка! Какая она умница и какая у нее благороднейшая душа, если она так поступила! – воскликнул Иосиф, глядя на Консуэло блестящими глазами. – И, если не ошибаюсь, с ней-то я и говорю, перед ней и падаю ниц!
– Да, она сама протягивает вам руку и предлагает свою дружбу, а также обещает походатайствовать перед Порпорой. Мы, по-видимому, вместе будем продолжать путь и, если бог поможет, как он до сих пор помогал нам обоим и как помогает всем уповающим только на него, скоро доберемся до Вены и будем там брать уроки у одного и того же учителя.
– Слава богу! – со слезами радости на глазах, в восторге воздевая руки к небу, воскликнул Гайдн. – То-то я почувствовал, глядя на вас во время вашего сна, что в вас есть что-то необыкновенное и моя жизнь, моя будущность в ваших руках!..
Глава 66
После того как молодые люди познакомились поближе, дружески рассказав друг другу подробности своей жизни, они стали думать, как лучше добраться до Вены и какие следует принять предосторожности. Прежде всего они вынули кошельки и сосчитали деньги. Консуэло все-таки оказалась богаче своего спутника. Но их соединенных капиталов хватало только на то, чтобы без особых лишений проделать путь пешком, не страдая от голода и не проводя ночи под открытым небом. Ни о чем другом нечего было и мечтать, и Консуэло примирилась с этим. Однако, невзирая на философски веселое настроение девушки, Иосиф был озабочен и задумчив. – Что с вами? – спросила она. – Вы, быть может, боитесь, что я окажусь для вас обузой в пути? А я готова биться об заклад, что хожу лучше вас.
– Вы все должны делать лучше, – ответил он, – но меня тревожит вовсе не это. Меня печалит и пугает мысль, что ваша молодость и красота привлекут к вам алчные взоры встречных, а я мал и тщедушен и, при всем желании отдать за вас жизнь, не в силах буду вас защитить.
– Есть о чем думать, бедный мой мальчик! Допустим, что я достаточно хороша и могу привлечь взоры прохожих, но уважающая себя женщина всегда сумеет внушить почтение своим умением держаться.
– Будь вы урод или красавица, будь вы молоды или стары, дерзки или скромны – вы не можете чувствовать себя в безопасности на этих дорогах, запруженных солдатами и всякого рода сбродом. С тех пор как заключен мир, страна наводнена военными, возвращающимися по своим гарнизонам, особенно добровольцами – любителями приключений, которые в погоне за легкой наживой после демобилизации грабят прохожих, занимаются вымогательством у деревенских жителей и вообще ведут себя в провинции, как в завоеванной стране. Бедность наша является для нас в некотором роде защитой, но довольно того, что вы женщина, чтобы пробудить их звериные инстинкты. Я серьезно думаю об изменении маршрута. Вместо того чтобы идти на Писек и Будвейсс – места расквартирования войск, через которые постоянно передвигаются демобилизованные солдаты и прочий сброд, ничем от них не отличающийся, – мы поступим благоразумнее, спустившись по течению Молдавы горными, более или менее пустынными ущельями, где ничто не возбуждает жадности этих господ и не толкает их к разбою. Мы пройдем вдоль реки до Рейхенау и вступим в Австрию через Фрейштадт. В Австро-Венгрии мы будем под защитой полиции, менее беспомощной, чем чешская.
– Вы, значит, знакомы с этой дорогой?
– Я даже не знаю, существует ли она, но у меня в кармане есть маленькая карта; покидая Пильзен, я предполагал – для разнообразия – возвратиться через горы и постранствовать…
– Что ж, пусть будет так. Мысль ваша мне по душе, – сказала Консуэло, рассматривая развернутую Иосифом карту. – Везде есть тропинки для пешеходов и хижины, готовые приютить скромных людей с тощим карманом. Действительно, эта горная цепь приведет нас к Молдаве, а дальше она тянется вдоль реки.
– Это самая большая горная цепь Богемского Леса; там расположены ее наиболее высокие вершины, которые служат границей между Баварией и Богемией. Мы без труда доберемся до нее, придерживаясь этих вершин, – они указывают на то, что справа и слева идут долины, спускающиеся к обеим провинциям. Раз теперь, слава богу, ничто не влечет меня в этот замок Великанов, который никак не найти, я не сомневаюсь, что сумею провести вас верной и наикратчайшей дорогой.
– Идем же! – сказала Консуэло. – Я вполне отдохнула. Сон и ваш чудесный хлеб вернули мне силы, и я думаю, что сегодня смогу пройти еще добрых две мили. К тому же хочется как можно скорее уйти из этих мест, где я все боюсь встретить кого-нибудь из знакомых.
– Постойте, – проговорил Иосиф, – у меня мелькнула блестящая мысль!
– Посмотрим, какая!
– Если вам не претит переодеться мужчиной – ваше инкогнито обеспечено, и вы избегнете во время наших ночлегов всех скверных предположений, какие могут возникнуть по адресу девушки, путешествующей вдвоем с молодым человеком.
– Мысль недурна, но вы забываете, что мы не так богаты, чтобы делать покупки. Кроме того, где найти одежду по моему росту?
– Видите ли, самая мысль эта, пожалуй, не пришла бы мне в голову, не имей я с собой всего, что нужно для ее выполнения. Мы с вами одинакового роста, что делает больше чести вам, чем мне, а у меня в мешке есть совсем новый костюм, который совершенно изменит вашу внешность. Вот история этого костюма: мне прислала его моя милая мама; думая сделать мне полезный подарок и желая, чтобы я был прилично одет, когда явлюсь в посольство на занятия с барышнями, она решила заказать у себя в деревне изящнейший костюм по нашей тамошней моде. Правда, костюм живописен и материя хорошая, вот увидите. Но представляете, какое впечатление я произвел бы в посольстве и каким взрывом смеха встретила бы меня племянница господина Метастазио, покажись я в этом деревенском казакине и в этих широчайших штанах с буфами! Я поблагодарил бедную маму за ее доброе намерение, а сам решил спустить костюм какому-нибудь нуждающемуся крестьянину или странствующему актеру. Вот почему я и захватил его с собой, но, к счастью, не нашел случая сбыть. Здешние жители утверждают, что костюм старомоден, и спрашивают, польский он или турецкий.
– А вот случай и подвернулся! – воскликнула, смеясь, Консуэло. Мысль ваша превосходна, и странствующая актриса вполне удовольствуется вашим турецким костюмом, брюки в котором, кстати, очень похожи на юбку.
Покупаю его у вас, правда, в долг, а еще лучше – с условием, что вы отныне становитесь кассиром нашей «шкатулки», как выражается, говоря о своей казне, прусский король, и будете оплачивать мои путевые расходы до Вены.
– Там видно будет, – проговорил Иосиф и положил кошелек в карман, с твердым намерением не брать за костюм денег. – Теперь остается убедиться, подойдет ли вам костюм. Я зайду вон в ту рощу, а вы идите за скалу: там сколько угодно места, и вы сможете переодеться спокойно и в полной безопасности.
– В таком случае выходите на сцену, – ответила Консуэло, указывая на рощу, – а я удалюсь за кулисы.
Не успел ее почтительный спутник, держа данное им слово, углубиться в рощу, как девушка, спрятавшись за скалу, занялась своим превращением. Когда Консуэло вышла из убежища и взглянула в воду источника, послужившего ей зеркалом, она не без некоторого удовольствия увидела в ней красивейшего крестьянского мальчика, какого когда-либо породила славянская раса. Ее тонкую и гибкую, как тростник, талию опоясывал широкий красный кушак, а стройная, словно у серны, ножка скромно выглядывала повыше щиколотки из-под широких складок шаровар. Черные волосы, которые она упорно не пудрила, были острижены во время болезни и теперь кольцами вились вокруг ее лица. Она растрепала их рукой, придав прическе небрежный вид, подобающий молоденькому пастушку. Как актриса, Консуэло умела носить любой костюм, а мимический талант помог ей изобразить на лице простодушие и глупость деревенского парня; она настолько преобразилась, что к ней сразу вернулись беззаботность и мужество. Стоило Консуэло облечься в театральный костюм, как она вошла в роль, – обычное явление у актеров, – она совершенно перевоплотилась в изображаемый ею персонаж, почувствовала себя беспечным, сильным и ловким мальчишкой, с удовольствием предающимся невинному бродяжничеству.
Ей пришлось трижды свистнуть, пока наконец Гайдн, ушедший в глубь рощи дальше, чем было нужно, не то из почтительности, не то из страха перед соблазном заглянуть в расщелину скалы, вернулся к ней. Увидев преображенную девушку, он вскрикнул от удивления и восторга; хотя он и ожидал увидеть ее изменившейся, однако в первую минуту едва поверил собственным глазам. Это превращение поразительно красило Консуэло, и юному музыканту она показалась совсем иной.
Женская красота всегда возбуждает у юнцов двойственное чувство – удовольствия и страха; а одежда, придающая женщине даже в глазах людей искушенных, известную таинственность и загадочность, играет немалую роль в беспокойном томлении юноши. Иосиф был чист душой и, что бы ни говорили некоторые его биографы, юношей целомудренным и робким. Он был ослеплен, увидав Консуэло, спящую у источника, раскрасневшуюся от заливавших ее солнечных лучей, неподвижную, точно прекрасная статуя. Говоря с нею и слушая ее, он переживал дотоле не испытанное волнение, которое приписывал восторгу и радости столь счастливой встречи. Но сердце его учащенно билось все эти четверть часа, которые он провел вдали от нее в лесу, во время ее таинственного переодевания. Сейчас волнение снова охватило его, и, подходя к Консуэло, он решил скрыть под маской беспечности и веселости неизъяснимое томление, пробуждавшееся в его душе.
Столь удачная перемена одежды, словно и в самом деле превратившая девушку в юношу, внезапно изменила также и душевное состояние Иосифа. На первый взгляд казалось, он был полон все того же братского порыва живейшей дружбы, неожиданно разгоревшейся между ним и его милым попутчиком. Та же жажда двигаться, видеть побольше новых мест, то же презрение опасностей, могущих встретиться на пути, та же заразительная веселость – все, что одушевляло в эту минуту Консуэло, захватило и его; и они легко, словно перелетные пташки, понеслись вперед по лесам и долам.
Однако, пройдя несколько шагов и заметив за плечом у Консуэло привязанный к палке узелок с вещами, к которым прибавилось только что снятое женское платье, Иосиф позабыл, что должен считать ее мальчиком. Между ними по этому поводу разгорелся спор: Консуэло доказывала, что он и так более чем достаточно нагружен своей дорожной котомкой, скрипкой и тетрадью «Gradus ad Pamassum»; Иосиф же решительно объявил, что положит узелок Консуэло в свою котомку, а она ничего нести не будет. Девушке пришлось уступить, но во имя правдоподобия ее роли и для соблюдения мнимого между ними равенства он согласился, чтобы Консуэло несла на перевязи его скрипку.
– Знаете, – говорила она ему, добиваясь этой уступки, – необходимо, чтобы у меня был вид вашего слуги или по крайней мере проводника, ибо я крестьянин, в чем невозможно усомниться, а вы – горожанин.
– Какой там горожанин, – отвечал, смеясь, Гайдн, – ни дать ни взять подмастерье парикмахера Келлера!
Юноша был немного огорчен, что не может показаться перед Консуэло в более изящном одеянии, чем его выцветший от солнца и несколько истрепавшийся в дороге костюм.
– Нет, – сказала Консуэло, желая утешить его, – у вас вид знатного юноши, который промотал денежки папаши и теперь возвращается в отчий дом с подручным своего садовника, соучастником его похождений.
– Мне кажется, нам лучше всего взять на себя роли, наиболее подходящие к нашему положению, – возразил Иосиф. – Мы можем выдавать себя только за тех, кем я, да и вы, являемся в данную минуту, – то есть за бедных странствующих актеров. А так как обычно этого сорта люди одеваются как могут, в то, что найдется или придется по карману, то нередко можно встретить трубадуров вроде нас, таскающих по дорогам обноски какого-нибудь маркиза или солдата; отчего бы и нам с вами не носить – мне черный потертый костюм скромного учителишки, а вам – необычное в этом крае одеяние венгерского крестьянина? Хорошо даже в случае расспросов сказать, что мы недавно странствовали в тех местах. Я могу с видом знатока распространяться о знаменитом селе Рорау, никому не ведомом, и о великолепном городе Гаймбурге, до которого никому нет дела. Ну, а вас всегда выдаст ваше милое итальянское произношение, и вы хорошо сделаете, если не будете отрицать, что вы итальянец и певец по профессии.
– Кстати, нам надо с вами придумать себе прозвища, таков обычай. Ваше уже найдено: поскольку я итальянец, я буду звать вас Беппо, – это уменьшительное от Иосиф.
– Зовите как хотите. У меня то преимущество, что я не известен ни под каким именем. Вы – другое дело: вам непременно надо прозвище. Какое же вы себе выберете?
– Да первое попавшееся уменьшительное венецианское имя, хотя бы Нелло, Мазо, Ренцо, Дзото… О нет, только не это! – воскликнула она, когда у нее по привычке сорвалось с языка уменьшительное имя Андзолето.
– Почему же не это? – спросил Иосиф, уловивший, с какою страстностью она отказывалась от этого имени.
– Оно принесло бы мне несчастье. Говорят, есть такие имена.
– Ну, так как же мы окрестим вас?
– Бертони. Это распространенное итальянское имя и нечто вроде уменьшительного от Альберт.
– Синьор Бертони! Хорошо звучит, – проговорил Иосиф, силясь улыбнуться. Но то, что Консуэло вспомнила о своем знатном женихе, кинжалом вонзилось в его сердце; и, глядя, как она идет впереди него легкой, непринужденной походкой, он сказал себе в утешение: «А я ведь совсем забыл, что она – мальчишка!»
Глава 67
Вскоре они вышли на опушку леса и направились на юго-восток. Консуэло шла с непокрытой головой. Иосиф, видя, как солнце заливает яркой краской ее белое лицо, хотел, но не решался высказать ей по этому поводу свое огорчение. Шляпа на нем была далеко не новая, он не мог предложить ее девушке и, чувствуя, что ничем не в состоянии ей помочь, не решился заговорить об этом – только сунул шляпу под мышку, но таким резким движением, что это было замечено его спутницей.
– Вот странная фантазия! – заметила она. – Вы, должно быть, находите погоду пасмурной, а равнину тенистой? Это напоминает мне о том, что моя собственная голова не покрыта. А поскольку я не всегда была избалована благами жизни, мне пришлось научиться самыми разными способами добывать их себе без особых расходов. Говоря это, она сорвала ветку дикого винограда и согнула ее в виде венка – получилась шляпа из зелени.
«Вот теперь она снова перестала быть юношей, – подумал Иосиф, – и становится похожей на музу».
Они проходили селом; заметив лавку, где продается всякая всячина, Иосиф поспешно вошел в нее, – Консуэло даже в голову не пришло зачем, – и вскоре вышел, держа в руке простенькую соломенную шляпу с широкими, приподнятыми с боков полями, какие носят крестьяне придунайских долин.
– Если вы начнете так роскошествовать, – сказала она, надевая это приобретение, – то мы, пожалуй, останемся с вами без хлеба к концу нашего путешествия.
– Вам остаться без хлеба! – с живостью воскликнул Иосиф. – Да я лучше стану просить милостыню у прохожих, кувыркаться на площадях, зарабатывать медяки… вообще уж и не знаю, что еще! Нет! Нет! Со мной вы ни в чем не будете нуждаться! – И, видя, что его пылкая речь несколько удивляет Консуэло, он прибавил, стараясь умерить свои добрые чувства: – Подумайте только, синьор Бертони, ведь вся моя будущность зависит от вас, моя судьба в ваших руках, и в моих интересах доставить вас целой и невредимой к маэстро Порпоре.
У Консуэло даже не возникло мысли о том, что ее спутник может внезапно в нее влюбиться. Целомудренным и простодушным женщинам редко приходят в голову подобные предположения, появляющиеся зато у кокеток при каждой встрече, – быть может потому, что те всегда жаждут, чтобы в них влюблялись. Кроме того, очень молодая женщина обычно смотрит на мужчину своего возраста как на мальчика. Консуэло была на два года старше Гайдна, а он был так мал и тщедушен, что ему с трудом можно было дать лет пятнадцать. Она прекрасно знала, что на самом деле он старше, но ей и на ум не приходило, что его воображение и чувства уже пробудились для любви. Однако, остановившись передохнуть и полюбоваться чудесным видом, какие встречаются на каждом шагу в этой горной местности, она заметила необычайное волнение своего спутника и перехватила его взгляд, прикованный к ней в каком-то экстазе.
– Что с вами, друг Беппо? – наивно спросила она. – Вы как будто чем-то расстроены, и я не могу отделаться от мысли, что я вас стесняю.
– Не говорите так! – горестно воскликнул он. – Неужели вы такого плохого мнения обо мне и отказываете мне в доверии и в дружбе? А ведь я охотно отдал бы за вас жизнь.
– В таком случае не грустите, если только у вас нет повода к печали, которым вы не поделились со мной.
Иосиф впал в мрачное молчание, и они долго так шли, пока он не нашел в себе силы прервать его. Постепенно юноша приходил все в большее и большее смущение: он боялся, что тайна его будет разгадана, но никак не мог найти темы для возобновления разговора. Наконец, сделав над собой огромное усилие, он проговорил:
– Знаете, о чем я серьезно подумываю?
– Нет, не догадываюсь, – ответила Консуэло, все это время погруженная в собственные думы и не находившая ничего странного в его молчании.
– Я шел и думал: вот бы хорошо поучиться у вас итальянскому языку, если только вам это не скучно. Прошлой зимой я начал изучать этот язык по книгам, но так как произношение перенять мне было не у кого, я не осмелюсь вымолвить при вас ни слова. Между тем я понимаю все, что читаю, и если бы во время нашего путешествия вы потрудились заставить меня стряхнуть с себя ложный стыд и поправляли бы меня на каждом слове, мне кажется, что при моем музыкальном слухе труд ваш не пропал бы даром.
– О! С огромным удовольствием! – воскликнула Консуэло. – Я люблю, когда люди не теряют ни одной драгоценной минуты жизни, чтобы пополнять свои знания, а так как, преподавая, учишься сам, то нам обоим, несомненно, будет полезно поупражняться в произношении этого в высшей степени музыкального языка. Вы считаете меня итальянкой; на самом деле это не так, хотя я и говорю по-итальянски почти без акцента. По-настоящему же хорошо я произношу слова только в пении. И когда мне захочется донести до вас всю гармонию итальянских звуков, я буду петь трудные слова. Убеждена, что плохое произношение только у тех, у кого нет слуха. Если ухо ваше в совершенстве улавливает оттенки, то правильно повторить их – дело памяти.
– Значит, это будет одновременно и урок итальянского языка и урок пения! – воскликнул Иосиф.
«И урок, который будет длиться целых пятьдесят миль! – с восторгом подумал он. – Ей-ей! Да здравствует искусство, наименее опасное из всех страстей!»
Урок начался тотчас же, и Консуэло, которая сперва с трудом удерживала смех всякий раз, как Иосиф произносил что-нибудь по-итальянски, вскоре стала восхищаться легкостью и тщательностью, с какими он исправлял свои ошибки. Между тем юный музыкант, страстно желая услышать голос артистки и видя, что повода к этому все не появляется, пустился на хитрость. Притворившись, будто ему не удается придать итальянскому «а» должную ясность и четкость, он пропел одну мелодию Лео, где слово «felicita» повторялось несколько раз. Консуэло, не останавливаясь и нисколько не задыхаясь, словно сидя у себя за роялем, тотчас же пропела эту фразу несколько раз подряд. При звуке ее голоса, с которым не мог сравниться ни один голос того времени, – сильного, проникающего в самую душу, – дрожь пробежала по телу Иосифа, и он с возгласом восторга судорожно сжал руки.
– Теперь ваш черед, попробуйте! – проговорила Консуэло, не замечая его восторженного состояния.
Гайдн пропел фразу, да так хорошо, что его молодой учитель захлопал в ладоши.
– Превосходно! – сказала ему Консуэло искренним, сердечным тоном. Вы быстро усваиваете, и голос у вас чудесный.
– Можете говорить об этом что угодно, но сам я никогда не смогу вымолвить о вас ни единого слова.
– Да почему же? – спросила Консуэло.
Тут, повернувшись, она заметила на глазах его слезы; он стоял, до хруста сжав пальцы, как это делают шаловливые дети и страстно увлеченные мужчины.
– Давайте прекратим пение, – сказала она, – вон навстречу нам едут всадники.
– Ах, боже мой! Да, да! Молчите! – воскликнул вне себя Иосиф. – Не нужно, чтобы они вас слышали, а то сейчас же спрыгнут с коней и падут ниц перед вами!
– Этих страстных любителей музыки я не боюсь – это мясники, которые везут позади себя, на крупе, телячьи туши.
– Ах! Надвиньте ниже шляпу, отвернитесь! – ревниво вскричал Иосиф, подходя к ней ближе. – Пусть они вас не слышат и не видят! Никто, кроме меня, не должен ни видеть, ни слышать вас!
Остаток дня прошел в серьезных занятиях вперемежку с ребяческой болтовней. Упоительная радость заливала взволнованную душу Иосифа, и он никак не мог решить – самый ли он трепещущий из влюбленных или самый ликующий из поклонников искусства. Консуэло, казавшаяся ему то лучезарным кумиром, то чудесным товарищем, заполняла всю его жизнь, преображала все его существо. Под вечер он заметил, что она едва плетется, – усталость взяла верх над ее веселым настроением. Невзирая на частые привалы под тенью придорожных деревьев, она уже несколько часов чувствовала себя совсем разбитой. Но именно этого она и добивалась. Не будь у нее даже необходимости как можно скорей покинуть этот край, она и тогда стремилась бы усиленным движением, напускной веселостью отвлечься от своей душевной муки. Первые вечерние тени, придавая пейзажу грустный вид, пробудили в девушке мучительные чувства, с которыми она так мужественно боролась. Ей рисовался мрачный вечер в замке Исполинов и предстоящая Альберту, быть может, ужасная ночь. Подавленная своими мыслями, она невольно остановилась у подножья большого деревянного креста, водруженного на вершине голого пригорка и, очевидно, отмечавшего место свершения какого-то чуда или злодейства, память о котором сохранило предание.
– Увы! Вы очень устали, хоть и стараетесь не показывать вида, – заметил, обращаясь к ней, Иосиф. – Но до привала рукой подать: я уже вижу там, в глубине ущелья, огоньки какой-то деревушки. Вы, пожалуй, думаете, что у меня не хватит сил понести вас, а между тем, если б вы только пожелали…
– Дитя мое, – улыбаясь, ответила она ему, – вы уж очень кичитесь тем, что вы мужчина. Пожалуйста, не смотрите так свысока на то, что я женщина, и поверьте, сейчас у меня больше сил, чем осталось у вас самого. Я запыхалась, взбираясь по тропинке, вот и все; а если я остановилась, то потому лишь, что мне захотелось петь.
– Слава богу! – воскликнул Иосиф. – Пойте же здесь, у подножия креста, а я стану на колени… Ну, а если пение еще больше утомит вас?..
– Это не будет долго, – сказала Консуэло, – но у меня явилась фантазия пропеть один стих гимна, который я пела с матерью утром и вечером, когда нам попадалась среди полей часовня или крест, водруженный, как вот этот, у перекрестка четырех дорог. Однако причина, побуждавшая Консуэло запеть, была еще романтичнее, чем она это изобразила. Думая об Альберте, она вспомнила о его, можно сказать, сверхъестественной способности видеть и слышать на расстоянии. Она живо вообразила себе, что в эту самую минуту он думает о ней, а быть может, даже и видит ее. И, полагая облегчить его муку, общаясь с ним через пространство и ночь посредством любимой им песни, Консуэло взобралась на камни, служившие основанием кресту, и, повернувшись в ту сторону горизонта, где должен был находиться замок Ризенбург, полным голосом запела стих из испанской духовной песни: «О Соnsuelo de mi alma…» «Боже мой, боже мой! – сказал себе Гайдн, когда она умолкла.
– До сих пор я не слышал пения, я не знал, что значит петь! Да разве бывают человеческие голоса, подобные этому голосу? Услышу ли я когда-нибудь что-либо похожее на полученное сегодня откровение? О музыка! Святая музыка! О гений искусства! Как ты воспламеняешь меня и как устрашаешь!»
Консуэло спустилась с камня, на котором она стояла словно мадонна; в прозрачной синеве ночи отчетливо вырисовывался ее изящный силуэт. В порыве вдохновения она, в свою очередь, подобно Альберту, вообразила, что сквозь леса, горы и долины видит его: он сидел на Шрекенштейне, спокойно, покорно, преисполненный святой надежды. «Он слышал меня, – подумала она, – узнал мой голос и свою любимую песню; он понял меня и теперь вернется в замок, поцелует отца и спокойно уснет».
– Все идет прекрасно, – сказала она Иосифу, не замечая его неистового восторга.
Сделав несколько шагов, она вернулась и поцеловала грубое дерево креста. Быть может, в этот самый миг Альберт, в силу странного, непонятного дара восприятия, ощутил как бы электрический толчок, смягчивший напряженность его мрачного состояния и внесший в самые таинственные глубины его души блаженное умиротворение. Возможно, что именно в эту минуту он и впал в тот глубокий и благотворный сон, во время которого, к своей великой радости, застал его на рассвете следующего дня страшно беспокоившийся отец.
Деревушка, огоньки которой наши путники заметили в темноте, в действительности оказалась обширной фермой, где их гостеприимно встретили. Семья добрых землепашцев ужинала под открытым небом, у порога своего дома, за грубым деревянным столом, куда и их усадили охотно, но без особого радушия. Их ни о чем не спрашивали, едва даже удостоили взгляда. Эти славные люди, утомленные долгим и знойным рабочим днем, ели молча, наслаждаясь простой обильной пищей. Консуэло нашла ужин превосходным и отдала ему должное, а Иосиф, забывая о пище, глядел на бледное благородное лицо Консуэло, выделявшееся среди грубых загорелых лиц крестьян, кротких и тупых, как у волов, что паслись на траве вокруг них, пережевывая пищу с неменьшим шумом, чем их хозяева.
Каждый из ужинающих, насытившись и сотворив крестное знамение, уходил спать, предоставляя более здоровым предаваться застольным наслаждениям сколько им заблагорассудится. Как только мужчины встали из-за стола, ужинать сели прислуживавшие им женщины вместе с детьми. Более живые и любопытные, они задержали юных путешественников и засыпали их вопросами. Иосиф взял на себя труд угощать их заранее заготовленными на такой случай сказками, которые, в сущности, не так уж далеки были от истины: он выдавал себя и своего товарища за бедных странствующих музыкантов. – Какая жалость, что сегодня не воскресенье, – заметила самая молоденькая из женщин, – мы бы с вашей помощью устроили танцы.
Они заглядывались вовсю на Консуэло, принимая ее за красавца юношу, а та, следуя взятой на себя роли, кидала на них смелые, вызывающие взгляды. Вначале она было вздохнула, представляя себе всю прелесть этих патриархальных нравов, таких далеких от ее беспокойной бродячей жизни. Но, увидя, как бедные женщины стоят позади мужей, прислуживая им, а затем весело доедают их объедки, одни – кормя грудью малюток, другие, словно прирожденные рабыни, – кормя своих сыновей-мальчуганов, обслуживая прежде всего их, а потом уже дочерей и самих себя, – она поняла, что эти добрые земледельцы всего лишь дети голода и нужды: самцы – прикованные к земле рабы плуга и скота, и самки, прикованные к хозяину, то есть к мужчине, – затворницы, вечные рабыни, обреченные трудиться без отдыха да еще переживать волнения и муки материнства. С одной стороны – владелец земли, угнетающий того, кто на ней работает, или облагающий его такими поборами, что крестьянин за свой тяжкий труд не имеет даже самого необходимого; с другой стороны – скупость и страх, передающиеся от хозяина к арендатору и обрекающие последнего сурово и скаредно относиться к своей семье и собственным нуждам. И тут это мнимое благополучие стало казаться ей отупением от несчастья или оцепенением от усталости; и она сказала себе, что лучше быть артистом или бродягой, чем владельцем поместий и крестьянином, ибо с обладанием как земли, так и снопа, связаны и несправедливая тирания и мрачное порабощение алчностью.
– Viva la libertal – сказала она Иосифу по-итальянски, в то время как женщины шумно мыли и убирали посуду, а немощная старуха, словно автомат, вертела прялку.
К своему удивлению, Иосиф услышал, что некоторые крестьянки кое-как болтают по-немецки. Он узнал от них, что глава семьи, хоть и крестьянин по виду, является дворянином по происхождению, что он получил некоторое образование и в молодости обладал небольшим состоянием, но война за австрийское наследство совершенно разорила его и, не видя другого выхода, чтобы поднять свое многочисленное семейство, он стал фермером соседнего аббатства. Это аббатство страшно обирало его, он только что выплатил за «архиерейское право на митру» – то есть налог, взимаемый имперским казначейством с религиозных общин при каждой смене духовного лица. Фактически этот налог уплачивался только вассалами и арендаторами церковных владении сверх собственных их повинностей и других мелких поборов. Рабочие, трудившиеся на ферме, были крепостными, но отнюдь не считали себя более несчастными, чем их хозяин. Коронным откупщиком был еврей. Его выпроводили из аббатства, которое он донимал, и он взялся за землепашцев, терпевших от него еще больше, чем от аббатства; этим утром он как раз потребовал у них сумму, составлявшую сбережения нескольких лет. Притесняемый и католическими священниками и евреями – сборщиками податей, бедный землепашец не знал, кого из них больше ненавидеть и бояться.
– Видите, Иосиф, – сказала Консуэло своему товарищу, – не была ли я права, говоря, что лишь мы с вами богаты в этом мире? Ведь мы не платим налогов за свои голоса и работаем только когда нам вздумается.
Настало время ложиться спать. Консуэло была до того утомлена, что заснула на скамейке у входа. Иосиф воспользовался этой минутой и попросил хозяйку предоставить им по кровати.
– Кровати, дитя мое? – воскликнула она, улыбаясь. – Хорошо, если мы сможем дать вам одну, а вы уж как-нибудь устроитесь на ней вдвоем.
Этот ответ заставил покраснеть бедного Иосифа. Он взглянул на Консуэло, но, увидев, что она ничего не слыхала, преодолел свое волнение.
– Мой товарищ очень утомился, и если вы сможете уступить ему хоть какую-нибудь кровать, мы за нее заплатим, сколько вы пожелаете. Мне же довольно угла в риге или коровнике.
– Ну, если этому мальчику нездоровится, то мы из человеколюбия дадим ему кровать в общей комнате – три дочери наши лягут вместе на одной; но скажите вашему товарищу, чтобы он вел себя смирно и прилично, а то мой муж и зять спят в той же комнате и быстро сумеют его образумить.
– Я отвечаю за скромность и порядочность моего товарища, только надо узнать, не предпочтет ли он спать на сене, чем в комнате, где так много народу.
И вот бедному Иосифу поневоле пришлось разбудить синьора Бертони, чтобы сообщить ему о предложении хозяйки. Против его ожидания Консуэло вовсе не испугалась; она нашла, что раз девушки спят в одной комнате с отцом и зятем, то и ей будет там безопаснее, чем где-либо в другом месте, и, пожелав покойной ночи Иосифу, она проскользнула за четыре коричневые шерстяные занавески, скрывавшие указанную ей кровать, и там, едва успев раздеться, заснула крепчайшим сном.
Глава 68
Проспав несколько часов в тяжелом оцепенении, Консуэло проснулась от какого-то непрекращающегося шума. С одной стороны старуха бабушка, чья кровать почти касалась ее кровати, надрывалась от пронзительного, раздирающего кашля; с другой стороны молодая женщина кормила грудью ребенка и убаюкивала его пением; храп мужчин напоминал рычание; маленький мальчик плакал, ссорясь со своими тремя братьями, лежавшими на одной с ним постели; женщины поднялись, чтобы утихомирить их, и своими выговорами и угрозами наделали еще больше шума. Беспрерывное движение, детские крики, грязь, вонь, удушливый воздух, наполненный густыми, смрадными испарениями, стали до того противны Консуэло, что терпеть дольше она была не в силах. Одевшись потихоньку, она дождалась минуты, когда все угомонились, вышла из дома и принялась отыскивать уголок, где бы можно было поспать до утра: ей казалось, что она лучше заснет на свежем воздухе. Всю прошлую ночь она шла и потому не заметила холода, хотя климат этого горного края был гораздо суровее, чем в окрестностях Ризенбурга, да и сама она была в подавленном состоянии, противоположном тому возбуждению, в котором убегала из замка. Консуэло почувствовала озноб, и вообще ей ужасно нездоровилось. Со страхом стала она думать о том, что раз с самого начала ей так плохо, то, пожалуй, она не выдержит, если придется несколько дней кряду идти, а потом еще не спать ночью. Хотя она и упрекала себя в том, что привыкла к роскоши замка и стала «принцессой», но в этот миг за час хорошего сна отдала бы остаток жизни.
Не смея вернуться в дом из боязни разбудить и потревожить хозяев, она стала разыскивать вход в ригу, но вместо нее наткнулась на полуоткрытую дверь коровника и ощупью пробралась в него. Там царила глубочайшая тишина. Считая помещение пустым, Консуэло растянулась в яслях, полных соломы, теплота и здоровый запах которой показались ей восхитительными.
Она начинала было уже засыпать, когда почувствовала на лбу чье-то горячее, влажное дыхание, тотчас же исчезнувшее, затем послышалось сильное сопение и как бы сдавленное проклятие. Придя в себя от испуга, Консуэло разглядела в предрассветных сумерках удлиненные контуры и два страшных рога над своей головой, – то была красавица корова, которая, просунув голову сквозь решетку и удивленно обнюхав девушку, с ужасом отшатнулась. Консуэло забилась подальше в угол, чтобы не мешать животному, и преспокойно заснула. Ухо ее скоро привыкло ко всем звукам хлева: к лязгу цепей, задевающих о кольца, к мычанию коров, к трению рогов о дерево яслей. Она не проснулась даже, когда работницы пришли выгонять коров во двор, чтобы на открытом воздухе подоить их. Хлев опустел. В углу, куда забилась Консуэло, было так темно, что ее не заметили, и солнце уже встало, когда она открыла глаза. Утопая в соломе, Консуэло еще несколько минут наслаждалась своим благополучием и радовалась, чувствуя себя отдохнувшей и окрепшей, готовой снова легко и беззаботно пуститься в путь. Выскочив из яслей, чтобы разыскать Иосифа, она тут же увидела его: он сидел на яслях напротив.
– Вы причинили мне немало беспокойства, дорогой синьор Бертони, – сказал он. – Когда девушки сообщили мне, что вас нет в комнате и они не знают, куда вы девались, я принялся повсюду вас искать и, наконец, отчаявшись, пришел сюда, где и провел ночь; и вот, к своему великому удивлению, нашел вас здесь. Я вышел из дому, когда еще только светало, и не представлял себе, что вы находитесь в куче соломы, под носом у этих животных, которые могли вас поранить. Право, синьора, вы слишком отважны и совсем не думаете об опасностях, которым себя подвергаете.
– Какие опасности, милый мой Беппо? – с улыбкой спросила Консуэло, протягивая ему руку. – Эти славные коровы не такие уж свирепые животные, и я напугала их больше, чем они меня.
– Но, синьора, – понизив голос, возразил Иосиф, – вы среди ночи забираетесь в первое попавшееся место. Другие люди, помимо меня, могли быть в этом хлеву – какой-нибудь грубый холоп или бродяга, менее почтительный, чем ваш верный и преданный Беппо. Подумайте только, если бы вместо тех яслей, где вы спали, вы попали в соседние и в них вместо меня разбудили бы какого-нибудь солдата или неотесанного мужика!
Консуэло покраснела при мысли, что спала так близко от Иосифа и совершенно наедине с ним, в потемках, но это смущение только усилило ее доверие и дружбу к славному юноше.
– Видите, Иосиф, – промолвила она, – небо не покидает меня и в моем безрассудстве, раз оно привело меня к вам. Провидение вчера утром послало мне встречу с вами у источника, когда вы предложили мне хлеб, доверие и дружбу. Оно же этой ночью отдало под вашу защиту и мой беспечный сон. Тут она со смехом рассказала ему, как скверно провела ночь в общей комнате с шумной семьей фермера и как хорошо и покойно было ей среди коров. – Значит, правда, – заметил Иосиф, – что у скота и помещение лучше и нравы менее грубы, чем у ухаживающего за ним человека.
– Как раз об этом думала и я, засыпая в яслях. Эти животные не возбудили во мне ни страха, ни отвращения; и я упрекала себя в том, что приобрела такие аристократические привычки, – теперь общество мне подобных и соприкосновение с бедностью стали для меня положительно невыносимы. Тому, кто рожден в нищете, не следовало бы, встретившись снова с нуждой, чувствовать то презрительное отвращение, которому я поддалась. И если сердце не испорчено в атмосфере богатства, откуда эта изнеженность, которая понудила меня сегодня ночью сбежать от зловония и жары, суетни и гомона этого человеческого выводка?
– Дело в том, что опрятность, чистый воздух и порядок в доме – законная и настоятельная потребность всех избранных натур, – ответил Иосиф. – Кто рожден артистом, тому свойственно чувство прекрасного, чувство добра и отвращения ко всему грубому и безобразному. А нищета безобразна. Я тоже крестьянин, и родители мои родили меня под соломенной крышей, но они врожденные артисты. В нашем крохотном бедном домике чисто, он хорошо обставлен. Правда, наша бедность граничила с довольством, тогда как крайняя нужда, быть может, заглушает все, даже самое желание сделать свою жизнь лучше.
– Бедные люди! – проговорила Консуэло. – Будь я богата, сейчас бы выстроила им дом, а если бы была королевой, то избавила бы их от всех этих налогов, монахов, евреев, которые их донимают!
– Будь вы богаты, вы и не подумали бы об этом, а родясь королевой, не возымели бы подобного желания. Уж таков мир.
– Значит, мир очень плох.
– К несчастью, да! Не будь музыки, уносящей душу в мир идеала, человеку, сознающему, что происходит в земной юдоли, пришлось бы убить себя. – Убить себя легко, но это полезно только самому самоубийце. Нет, Иосиф, нужно и богатому оставаться человечным.
– А так как это, по-видимому, невозможно, то следовало бы по крайней мере всем беднякам быть артистами.
– Совсем неплохая мысль, Иосиф! Если бы все несчастные понимали и любили искусство настолько, что смогли бы опоэтизировать нищету, тогда сами собой исчезли бы грязь, отчаяние, самоунижение и богачи не позволяли бы себе так попирать ногами и презирать бедняков. Все-таки к артистам чувствуют некоторое уважение.
– Мм… вы первый человек, подавший мне такую мысль! – воскликнул Гайдн. – Стало быть, у искусства могут быть задачи очень серьезные, очень полезные для человечества?..
– А вы думали до сих пор, что оно является только развлечением?
– Нет, но я считал его болезнью, страстью, грозой, бушующей в сердце, пламенем, загорающимся в нас и переходящим от нас к другим… Если вы знаете, что такое искусство, скажите мне.
– Скажу тогда, когда это для меня самой станет ясно. Но можете не сомневаться, Иосиф: искусство – великая вещь. А теперь идем; и смотрите, не забудьте скрипки – вашего единственного достояния, источника вашего будущего богатства.
И они принялись укладывать провизию для легкого завтрака, решив насладиться им на травке в каком-нибудь романтическом уголке. Когда Иосиф вытащил кошелек, чтобы расплатиться, хозяйка улыбнулась и без всякого жеманства решительно отказалась от денег. Как ни уговаривала ее Консуэло, женщина была непреклонна; она даже следила за своими юными гостями, чтобы они не сунули потихоньку детям какой-нибудь монеты.
– Не забывайте, – сказала она наконец с некоторым высокомерием Иосифу, продолжавшему настаивать, – что мой муж от рождения дворянин и, поверьте, несчастье не унизило его до того, чтобы брать деньги за оказанное гостеприимство.
– Такая гордость кажется мне слегка преувеличенной, – заметил Иосиф своей спутнице, когда они вышли на дорогу, – в ней, пожалуй, больше спеси, чем любви к ближнему.
– А я вижу в этом только любовь к ближнему. Мне очень стыдно, и сердце мое наполняется раскаянием при мысли, что я, видите ли, не смогла примириться с неудобствами этого дома, где не побоялись обременить и осквернить себя присутствием такого бродяги, как я. Ах, проклятая утонченность! Дурацкая изнеженность балованных детей! Ты – недуг, ибо делаешь здоровыми одних в ущерб другим!
– Вы слишком близко принимаете к сердцу все, что происходит на нашей земле, – проговорил Иосиф. – Мне кажется, такая великая артистка, как вы, должна быть хладнокровнее и безразличнее ко всему, что не имеет отношения к ее профессии. В трактире в Клатау, где я услышал про вас и про замок Исполинов, говорили, что граф Альберт Рудольштадт, при всех своих странностях, великий философ. Вы почувствовали, синьора, что нельзя одновременно быть артистом и философом, потому-то вы и обратились в бегство. Не думайте так много о человеческих бедствиях, лучше вернемся к нашим вчерашним занятиям.
– Охотно, но, прежде чем начать, позвольте вам заметить, что граф Альберт хоть и философ, а куда более великий артист, чем мы с вами.
– Правда? Значит, у него есть все, чтобы быть любимым! – вздохнув, проговорил Иосиф.
– Все, на мой взгляд, кроме бедности и низкого происхождения, – ответила Консуэло.
Незаметно для себя, подкупленная вниманием со стороны Иосифа, подзадориваемая его наивными вопросами, которые он задавал дрожащим голосом, она увлеклась и довольно долго и с удовольствием рассказывала ему о своем женихе. Обстоятельно отвечая на каждый вопрос, она постепенно поведала ему о всех особенностях чувства, внушенного ей Альбертом. Быть может, столь исключительное доверие к юноше, с которым она познакомилась только накануне, было бы неуместным при всяких других обстоятельствах. И действительно, только столь необычные обстоятельства могли породить его. Как бы то ни было, Консуэло поддалась непреодолимой потребности самой припомнить все достоинства своего жениха и поверить их дружескому сердцу. И, рассказывая, девушка с удовлетворением, подобным тому, какое испытываешь пробуя свои силы после серьезной болезни, поняла, что любит Альберта больше, чем думала, когда обещала ему приложить все старания, чтобы любить только его одного. Теперь, вдали от него, Консуэло могла дать волю своему пылкому воображению, и все, что было в характере Альберта прекрасного, благородного, достойного, представало перед ней в более ярком свете, ибо над ней уже не тяготела необходимость принять слишком поспешно бесповоротное решение. Гордость девушки не страдала больше, раз ее не могли обвинить в честолюбии; она бежала, отказалась от всех благ, связанных с этим браком, и могла, не стесняясь и не краснея, отдаться любви, властно овладевшей ее душой. Имя Андзолето ни разу не сорвалось с ее языка, и она с радостью заметила, что ей даже в голову не пришло упомянуть о нем, когда она рассказывала Иосифу о своем пребывании в Богемии.
Излияния эти, быть может, неуместные и безрассудные, оказались чрезвычайно своевременными. Иосиф понял, насколько душа Консуэло серьезно захвачена любовью, и смутные надежды, невольно зародившиеся в нем, рассеялись как сон, – юноша постарался заглушить в себе даже самое воспоминание о них. Наговорившись вволю, оба приумолкли и часа два шли, не проронив ни слова. Иосиф твердо решил отныне видеть в своей спутнице не очаровательную сирену или опасного, загадочного товарища по скитаниям, а только великую артистку и благородную женщину, чья дружба и советы могли самым благотворным образом повлиять на всю его жизнь.
Горя желанием ответить откровенностью на откровенность, а также стремясь создать двойную преграду собственным пылким чувствам, он открыл ей свою душу и рассказал, что также не свободен и, можно сказать, даже является женихом. Роман Гайдна был не столь поэтичен, как роман Консуэло, но тому, кто знает его конец, известно, что он был не менее чист и не менее благороден. Юноша питал дружеские чувства к дочери своего великодушного хозяина, парикмахера Келлера, и тот, заметив их невинную любовь, сказал ему однажды:
– Иосиф, я доверяю тебе. Ты, кажется, любишь мою дочь, и она, вижу, неравнодушна к тебе. Если ты так же честен, как трудолюбив и признателен, то, став на ноги, будешь моим зятем.
Преисполненный горячей благодарности, Иосиф дал слово и, хотя нисколько не был влюблен в свою невесту, считал себя связанным на всю жизнь.
Рассказывал он об этом с грустью, которую был не в силах победить, сравнивая свое положение с упоительными мечтами, ибо от мечтаний этих ему приходилось отказываться. Консуэло же увидела в этой грусти симптом глубокой, непреодолимой любви к дочери Келлера. Гайдн не посмел разубеждать ее, а ее уважение, ее уверенность в порядочности и чистоте Беппо благодаря этому только выросли.
Итак, их путешествие протекало спокойно, не сопровождаясь опасными вспышками, какие вполне возможны, когда юноша и девушка, оба приятные, умные, проникнутые взаимной симпатией, отправляются в двухнедельное странствование в условиях полной свободы. Хотя Иосиф и не любил дочери Келлера, он предоставил Консуэло принимать честное отношение к данному им слову за верность любящего сердца; подчас в груди его бушевала буря, но он так умел с нею справляться, что целомудренная его спутница, отдыхая под охраной юноши, который, точно верный пес, оберегал ее глубокий сон на вереске в чаще леса, шагая с ним рядом по пустынным дорогам, вдали от человеческого взора, ночуя часто в одной с ним риге или пещере, ни разу не заподозрила ни его внутренней борьбы, ни величия его победы над собой. Когда в старости Гайдн прочел первые книги «Исповеди» Жан-Жака Руссо, он улыбнулся сквозь слезы, вспомнив свое путешествие с Консуэло по Богемскому Лесу, где спутниками их были трепетная любовь и благоговейное целомудрие.
Но однажды добродетель юного музыканта все же подверглась тяжкому испытанию. Когда погода была хорошей, дорога легкой и луна ярко светила, они шли ночью, ибо это был наилучший и самый надежный способ путешествия, избавлявший от риска набрести на неудачный ночлег; а днем они делали привал в каком-нибудь тихом, укромном местечке, где и проводили время, высыпаясь, обедая, болтая и занимаясь музыкой. Как только с наступлением вечера начинало тянуть холодком, они, поужинав и собрав вещи, пускались в путь и шли до рассвета. Таким образом они избегали утомительной ходьбы в жару, любопытных взоров, грязи постоялых дворов и траты денег. Но когда дождь, зачастивший в возвышенной части Богемского Леса, где берет свое начало Молдава, заставлял их искать приюта, они укрывались где только могли – то в хижине крестьянина, то в сарае какой-нибудь вотчины. Они старались не останавливаться в харчевнях, где, конечно, могли бы легче найти приют, желая избежать неприятных встреч, скандалов, грубых намеков. И вот как-то вечером, укрываясь от грозы, они зашли в хижину к пастуху, пасшему коз, который, увидев гостей, лишь гостеприимно зевнул и, указав на овчарню, проговорил:
– Ступайте на сеновал.
Консуэло, по обыкновению, забилась в самый темный угол, а Иосиф собирался было устроиться поодаль в другом углу, но наткнулся на ноги спящего человека, который грубо огрызнулся. Вслед за проклятиями, которые спросонок пробормотал спящий, послышались еще и ругательства. Иосиф, испугавшись подобной компании, нашел Консуэло и схватил ее за руку, боясь, как бы кто-нибудь не лег между ними. Сначала они хотели было тотчас же уйти, но дождь лил как из ведра по дощатой крыше сарая, да к тому же все снова заснули.
– Останемся, пока не пройдет дождь, – прошептал Иосиф. – Вы можете спать спокойно: я не сомкну глаз и буду рядом. Никому в голову не придет, что тут женщина. Но как только погода станет более или менее сносной, я вас разбужу, и мы удерем отсюда.
Консуэло далеко не успокоилась, но уйти теперь было, пожалуй, еще опаснее. Пастух и его гости могли обратить внимание на то, что молодые люди боятся оставаться с ними. Это могло показаться им подозрительным, и, возникни у них злые намерения, они могли пуститься по следам двух путников, чтобы напасть на них. Взвесив все это, Консуэло притихла, но под влиянием вполне понятного страха просунула руку под руку Иосифа, неусыпная заботливость которого внушала ей доверие.
Оба не спали и, когда дождь перестал, собрались было уходить, как вдруг услышали, что незнакомцы зашевелились, встали и принялись тихонько переговариваться на каком-то непонятном наречии. Подняв и взвалив на плечи тяжелый груз, люди вышли, обменявшись с пастухом несколькими словами по-немецки, из которых Иосиф заключил, что они занимаются контрабандой и хозяин посвящен в это. Была полночь, всходила луна, и Консуэло при свете ее лучей, косо падавших в полуоткрытую дверь, уловила блеск оружия в тот момент, когда контрабандисты прятали его под свои плащи. Почти тотчас сарай опустел: пастух оставил ее вдвоем с Гайдном – он ушел вместе с контрабандистами, чтобы проводить их по горным тропинкам и указать переход через границу, известный, по его словам, ему одному.
– Только вздумай подвести нас! При первом же подозрении я раскрою тебе череп, – сказал ему один из этих людей с очень энергичным, суровым лицом.
То были последние слова, слышанные Консуэло. Под мерными шагами контрабандистов гравий хрустел еще несколько минут, но затем шум соседнего ручья, вздувшегося от ливня, заглушил их шаги, и они замерли вдали.
– Мы напрасно боялись их, – проговорил Иосиф, не выпуская руки Консуэло и все еще прижимая ее к своей груди, – эти люди больше нашего избегают человеческих глаз.
– Вот потому-то мы с вами и подвергались, по-моему, известной опасности, – ответила Консуэло. – Вы хорошо сделали, что не ответили на их ругательства, наткнувшись на них в темноте: они приняли вас за своего. Иначе они, пожалуй, заподозрили бы в нас шпионов, и нам не поздоровилось бы. Но теперь, слава богу, бояться нечего, наконец-то мы одни.
– Спите, – сказал Иосиф, почувствовав, к своему немалому огорчению, что Консуэло отпустила его руку. – Я не засну, и с зарей мы уйдем отсюда.
Консуэло устала больше от страха, чем от ходьбы; она так привыкла спать под защитой своего друга, что не замедлила уснуть. Но Иосиф, также привыкший после волнений засыпать подле нее, на этот раз не смог ни на минуту забыться. Рука Консуэло, целых два часа подряд дрожавшая в его руке, волнение, вызванное страхом и ревностью и пробудившее со всею силой его любовь, последние слова, которые, засыпая, пробормотала Консуэло: «Наконец-то мы одни», – все это всколыхнуло задремавшую в нем было страсть. Вместо того чтобы из уважения к Консуэло уйти, по обыкновению, в глубь сарая, он, видя, что она замерла и не шелохнется, остался подле нее; сердце его так громко колотилось, что, не усни Консуэло, она услышала бы его удары. Все волновало его: унылый шум ручья, стон ветра в елях, лунные лучи, пробивавшиеся сквозь щели крыши и падавшие на бледное, обрамленное черными кудрями лицо Консуэло, и, наконец, то жуткое и грозное, что сообщается природой сердцу человеческому, когда жизнь кругом первобытна и дика. Иосиф начал было успокаиваться и засыпать, как вдруг почувствовал словно прикосновение чьих-то рук к своей груди. Он вскочил с сена и наткнулся на крошечного козленка, который прижимался к нему, чтобы погреться. Иосиф приласкал его и, сам не зная почему, принялся целовать, орошая слезами. Наконец рассвело. Увидев при свете благородный лоб и серьезные, спокойные черты Консуэло, юноша устыдился своих мук. Он поднялся и пошел к источнику, чтобы освежить в его ледяных струях лицо и голову. Казалось, ему хотелось очистить свой мозг от греховных мыслей, затуманивших его.
Консуэло скоро присоединилась к нему и стала умываться так же весело, как проделывала это каждое утро, стараясь стряхнуть с себя тяжесть сна и храбро освоиться с утренним холодком. Ее удивил расстроенный и грустный вид Гайдна.
– О! На этот раз, друг Беппо, вы хуже моего справляетесь с усталостью и волнениями: вы бледны, как эти белые цветы, которые точно плачут, склонившись над водой.
– Зато вы свежи, как эти чудные дикие розы, которые будто смеются вдоль берегов, – ответил Иосиф. – Хоть вид у меня и немощный, но я не боюсь усталости, а вот волнения, синьора, я в самом деле не умею переносить.
Все утро он был грустен. Когда же они сделали привал на чудесном лугу, под сенью дикого винограда, чтобы подкрепиться хлебом и орехами, Консуэло, желая выяснить причину его мрачного настроения, закидала его таким множеством наивных вопросов, что он не смог удержаться от соблазна поведать ей о глубоком недовольстве собой и своей судьбой.
– Ну, если уж вам так хочется знать, извольте. Я думаю о своей несчастной судьбе: ведь с каждым днем мы все больше приближаемся к Вене, где я связал себя обетом на всю жизнь, в то время как сердце мое не лежит к этому. Я не люблю своей невесты и чувствую, что никогда не полюблю ее. Однако я обещал и сдержу слово.
– Да может ли это быть! – воскликнула пораженная Консуэло. – В таком случае, мой бедный Беппо, наши участи, казавшиеся мне во многом такими схожими, на самом деле совершенно противоположны: вы бежите к невесте, которую не любите, а я бегу от жениха, которого люблю. Странная судьба: одним она дает то, что их страшит, а у других отнимает самое дорогое! Говоря это, она дружески пожала ему руку, и Иосиф прекрасно понял, что слова ее продиктованы отнюдь не зародившимся подозрением насчет его безрассудства или желанием проучить его. Но благодаря этому урок оказался еще более действенным. Она сочувствовала его несчастью и горевала вместе с ним; в то же время искренние слова, вырвавшиеся, казалось, из самой глубины ее сердца, служили доказательством того, что она любит другого беззаветно и непоколебимо.
То была последняя вспышка – больше страсть к Консуэло не терзала Иосифа. Он схватил скрипку и, с силой ударив по струнам, забыл эту бурную ночь.
Когда они снова пустились в путь, он уже совсем отрешился от своей несбыточной любви и во время последующих событий испытывал к своей спутнице только самую сильную, самую преданную дружбу.
Когда Консуэло, видя Иосифа сумрачным, пыталась утешить его ласковыми словами, он говорил ей:
– Не беспокойтесь обо мне. Хоть я и обречен не любить своей жены, у меня по крайней мере есть чувство дружбы к ней, а дружба может вполне заменить любовь, – я понимаю это лучше, чем вы думаете.
Глава 69
Гайдн никогда не имел оснований жалеть об этом путешествии и о душевных страданиях, с которыми ему приходилось бороться, ибо за всю свою жизнь не получил более прекрасных уроков итальянского языка и такого совершенного представления о музыке. В долгие часы отдыха, проведенные в хорошую погоду в полном уединении под сенью Богемского Леса, наши юные артисты обнаружили друг перед другом весь свой ум, всю свою талантливость. Хотя у Иосифа Гайдна был прекрасный голос и, выступая в качестве певчего, он научился отлично владеть им, хотя он играл на скрипке и еще на нескольких инструментах, тем не менее, слушая пение Консуэло, он скоро понял, насколько она выше его по мастерству, понял, что и без Порпоры она могла бы сделать из него искусного певца. Но стремления и дарование Гайдна не ограничивались этим родом искусства. Консуэло, заметив, что при правильном и глубоком понимании теории он слаб в практике, сказала ему однажды с улыбкой:
– Не знаю уж, хорошо ли я делаю, обучая вас пению, ведь если вы увлечетесь карьерой певца, то, чего доброго, загубите более высокое дарование. А ну-ка, посмотрим ваше произведение! Невзирая на продолжительные и серьезные занятия контрапунктом с таким великим учителем, как Порпора, я научилась лишь различать, что талантливо, а что нет; сама же я никогда не смогла бы создать ничего серьезного, ибо, даже наберись я смелости дерзнуть, у меня не хватило бы на это пороху. Если же у вас есть способность к творчеству, вы должны избрать именно этот путь, а к пению и к игре на инструментах относиться как к чему-то вспомогательному.
Дело в том, что после встречи с Консуэло Гайдн стал мечтать о карьере певца. Следовать за нею, жить подле нее, то и дело встречаться с нею в ее бродячей жизни стало с некоторых пор его пламенным желанием. Поэтому ему не хотелось показывать ей свое произведение, хотя он окончил его перед отъездом в Пильзен и захватил с собой. Иосиф одинаково боялся и показаться ей посредственностью в этом жанре и обнаружить талант, который побудил бы ее воспротивиться его стремлению стать певцом. В конце концов он уступил и дал вырвать у себя таинственную тетрадь. То была небольшая фортепианная соната, предназначавшаяся для его юных учеников. Консуэло начала с того, что стала безмолвно читать сонату глазами; Иосиф поразился, глядя, как она с первого взгляда прекрасно схватывает вещь, словно слышит ее в исполнении. Затем Консуэло заставила сыграть некоторые пассажи на скрипке и сама пропела те, что были доступны для голоса. Не знаю, предугадала ли Консуэло в Гайдне по этой безделке будущего творца «Сотворения мира» и стольких других крупных произведений, но она почувствовала в нем большого музыканта и, возвращая ему ноты, сказала:
– Мужайся, Беппо, – ты выдающийся артист и можешь стать великим композитором, если будешь работать. У тебя несомненно есть идеи; А с идеями и знаниями можно далеко пойти. Приобретай же знания и постарайся не ссориться с Порпорой, – хоть у него и тяжелый характер, но именно такой учитель тебе нужен. А о сцене забудь, – твое место не там. Твое оружие – перо. Не ты должен слушаться, а к тебе должны прислушиваться. Когда можешь быть душой, зачем же превращаться в одно из орудий? Так-то, будущий маэстро! Бросьте упражнять свое горлышко трелями и каденциями. Вам надо знать, как их расставить, а не как исполнять. Это уж предоставьте вашей покорной и подвластной вам слуге, которая претендует на первую женскую роль, какую вы соблаговолите написать для меццо-сопрано.
– О Consuelo de mi alma! – в восторге воскликнул окрыленный надеждами Иосиф. – Писать для вас! Быть понятым вами, переданным в вашем исполнении! Какие перспективы славы и честолюбивых мечтаний вы открываете передо мной! Но нет! Это грезы! Это безумие! Учите меня петь. Я лучше постараюсь передать мысли так, как их понимаете и чувствуете вы, чем вкладывать в ваши божественные уста звуки, недостойные вас!
– Ну, ну, довольно церемоний, – проговорила Консуэло, – попробуйте сымпровизировать что-нибудь на скрипке или голосом. Это путь, каким следует душа, проникая на уста и в кончики пальцев. Я послушаю и узнаю, есть в вас искра божия или вы только ловкий ученик, бессознательно заимствующий у других.
Гайдн повиновался. Не без удовольствия убедилась она, что музыкальное его образование не так уж велико и что импровизации его по мысли молоды, просты и свежи. Она все больше и больше подбадривала его и с этих пор решила заниматься с ним пением лишь для того, чтобы он мог пользоваться им для своей работы.
Они стали развлекаться исполнением маленьких итальянских дуэтов; Гайдн тут же выучил их наизусть с ее голоса.
– Если до конца путешествия у нас не хватит денег, так волей-неволей придется распевать на улицах, – сказала она ему. – Притом полиция может пожелать проверить наши таланты, приняв нас за бродяг-карманников а таких несчастных горемык, позорящих наше ремесло, предостаточно. Будем же готовы ко всему! Мой голос на низких, контральтовых нотах может сойти за голос несложившегося юнца. Вам же следует разучить на скрипке аккомпанемент к нескольким моим песням. Увидите, это совсем неплохое упражнение. В этих народных шуточных песенках много огня и самобытного чувства, а мои старинные испанские песни просто гениальны, настоящие алмазы-самородки. Маэстро, воспользуйтесь ими! Идеи родят идеи!
Занятия эти были полны прелести для Гайдна. Может быть, уже тогда зародилась в нем мысль создать те милые детские пьески, которые он впоследствии написал для театра марионеток маленьких принцев Эстергази. Консуэло вносила в эти занятия столько веселости, грации, оживления и остроумия, что к милому юноше вернулись детская резвость и беззаботное счастье, и, забыв любовные мечты, лишения, беспокойства, он жаждал только, чтобы эти уроки на ходу никогда не кончились.
Мы не собираемся здесь проследить шаг за шагом путешествие Консуэло и Гайдна. Мало знакомые с тропами Богемского Леса, мы могли бы дать неверные указания, положившись только на свою память. Достаточно сказать, что первая половина путешествия, в общем, была более приятна, чем трудна, пока не случилось происшествия, которое мы не можем обойти молчанием. Начиная с самого истока Влтавы, наши герои все время придерживались северного берега реки, который показался им менее людным и более живописным. Так они шли в течение целого дня по глубокому ущелью, полого спускавшемуся в том же направлении, что и Дунай. Но, дойдя до Шенау, они заметили, что горная гряда в этом месте переходит в плоскогорье, и пожалели, что не пошли по противоположному берегу, вдоль другой горной гряды, которая, постепенно повышаясь, уходит в сторону Баварии. Эти лесистые горы изобиловали естественными убежищами и поэтическими уголками в гораздо большей мере, чем долины Чехии. Во время своих дневных привалов в лесу Гайдн и Консуэло забавлялись ловлей птичек силками и на клей. И если, пробудившись от сна, они обнаруживали в своих ловушках мелкую дичь, то тут же, под открытым небом, жарили на костре из хвороста плоды своей охоты и находили стряпню великолепной. Жизнь даровалась одним лишь соловьям на том основании, что эти птички певчие – их собратья.
Наши милые путники принялись искать брод, но никак не могли найти его. Река была быстрая, с крутыми берегами, глубокая и к тому же вздувшаяся от дождей. Наконец они наткнулись на пристань, у которой стояла на причале лодчонка, охраняемая мальчиком. Некоторое время они колебались, не решаясь подойти, – они видели, что несколько человек уже опередили их и уславливаются относительно переправы. Затем люди эти простились: трое направились вдоль северного берега Влтавы, а двое вошли в лодку. Это обстоятельство заставило Консуэло принять решение.
– Пойдем ли мы вправо или влево, нам не избежать встречи, – сказала она Иосифу, – так уж лучше переправиться на тот берег, раз мы этого хотели.
Гайдн все еще колебался, находя, что у этих людей подозрительный вид, резкий тон в разговоре и вообще грубые манеры; но вот один из них, как бы желая опровергнуть это неблагоприятное впечатление, остановил лодочника и, поманив Консуэло добродушно-шутливым жестом, обратился к ней по-немецки:
– Эй, дитя мое, идите сюда, лодка не особенно перегружена, и если хотите – можете переехать с нами.
– Очень признателен вам, сударь, – ответил Гайдн, – мы воспользуемся вашим позволением.
– Ну, дети мои, прыгайте! – сказал тот, что с самого начала обратился к Консуэло; товарищ называл его Мейером.
Иосиф, едва усевшись в лодку, заметил, что оба незнакомца очень внимательно и с большим любопытством поглядывают то на Консуэло, то на него. Но лицо господина Мейера дышало добротой и веселостью, голос у него был приятный, манеры учтивые, а седеющие волосы и отеческий вид внушали Консуэло доверие.
– Вы музыкант, дитя мое? – спросил ее г-н Мейер немного спустя.
– К вашим услугам, добрый господин, – ответила Консуэло.
– Вы тоже? – спросил господин Мейер Иосифа и, указывая на Консуэло, прибавил: – Это, конечно, ваш брат?
– Нет, сударь, мой друг, – сказал Иосиф, – мы даже не одной с ним национальности, и он плохо понимает по-немецки.
– Из какой же он страны? – продолжал допрашивать господин Мейер, все поглядывая на Консуэло.
– Из Италии, сударь, – ответил опять Гайдн.
– Кто же он – венецианец, генуэзец, римлянин, неаполитанец или калабриец? – допытывался господин Мейер, с необыкновенной легкостью произнося каждое из этих названий на соответствующем диалекте.
– О сударь, вы, я вижу, можете говорить с любым итальянцем, – ответила наконец Консуэло, боясь упорным молчанием обратить на себя внимание, – я из Венеции.
– А! Чудный край! – продолжал Мейер, тотчас же переходя на родное для Консуэло наречие. – Вы давно оттуда?
– Всего полгода.
– И вы странствуете по свету, играя на скрипке?
– Нет, он аккомпанирует на скрипке, – ответила Консуэло, указывая на Иосифа, – а я пою.
– И вы не играете ни на каком инструменте? Ни на гобое, ни на флейте, ни на тамбурине?
– Нет, мне это совсем не нужно.
– Но если вы музыкальны, вы легко научились бы, не правда ли?
– Конечно, если бы это понадобилось.
– А вы об этом не думаете?
– Нет, я предпочитаю петь.
– И вы правы, однако вам придется взяться за это или хотя бы временно переменить профессию.
– Почему же, сударь?
– Да потому, что голос ваш если уже не начал, то скоро начнет ломаться; сколько вам лет – четырнадцать, пятнадцать, не больше?
– Да, около этого.
– Ну, так не пройдет и года, как вы запоете лягушкой, и далеко еще не известно, обратитесь ли вы снова в соловья. Для мальчика всегда опасен переход от детства к юности, – иногда бывает так: вырастет борода, а голос пропадет. На вашем месте я учился бы на флейте, с ней всегда заработаешь на кусок хлеба.
– Там видно будет.
– А вы, любезный, играете только на скрипке? – обратился господин Мейер к Иосифу по-немецки.
– Простите, сударь, – ответил Иосиф, в свою очередь проникаясь доверием к доброму Мейеру, совершенно не смущавшему Консуэло, – я играю понемножку на нескольких инструментах.
– На каких же, например?
– На клавесине, арфе, флейте – понемногу на всем пробую играть, как только представляется случай поучиться.
– С такими талантами вы совершенно напрасно бродите по большим дорогам – это тяжкое ремесло. Товарищу вашему, который и моложе и слабее вас, это совсем не под силу – он уже хромает.
– Вы это заметили? – сказал Иосиф, тоже прекрасно видевший, что спутница его прихрамывает, хотя она и не признавалась, что ноги у нее опухли и болят.
– Я прекрасно видел, с каким трудом он дотащился до лодки, – сказал Мейер.
– Что поделаешь, сударь! – проговорил Гайдн, скрывая под видом философского равнодушия свое огорчение. – Родишься ведь не для одних только благ, и когда приходится страдать – страдаешь!
– А разве нельзя жить и счастливее и приличнее, обосновавшись на одном месте? Неприятно, что такие умные и скромные юнцы, какими вы мне кажетесь, занимаются бродяжничеством. Поверьте человеку, у которого есть дети и который, по всей вероятности, никогда больше не встретится с вами, дружочки мои. Такая жизнь, полная приключений, убивает и развращает человека. Запомните мои слова.
– Спасибо за добрый совет, сударь, – проговорила, ласково улыбаясь, Консуэло, – быть может, мы им воспользуемся.
– Да услышит вас господь, мой маленький гондольер, – сказал г-н Мейер Консуэло, которая машинально, по народной венецианской привычке, схватила весло и начала им грести.
Лодка причалила к берегу, сделав довольно большой крюк из-за быстрого течения. Г-н Мейер дружески попрощался с молодыми музыкантами, пожелав им доброго пути, а его молчаливый спутник расплатился с лодочником, не позволив молодым людям заплатить за себя. Вежливо поблагодарив своих спутников, Консуэло и Иосиф стали подыматься по тропинке, ведущей к горам, тогда как оба незнакомца пошли в том же направлении, придерживаясь низкого берега реки.
– Этот господин Мейер, кажется, хороший человек, – проговорила Консуэло, в последний раз взглянув на него сверху, когда тот уже исчезал из виду. – Уверена, что он прекрасный отец.
– Он любопытен и болтлив, – заметил Иосиф, – я очень рад, что вы избавились от его расспросов. – Он разговорчив, как все много путешествовавшие люди. Судя по тому, с какой легкостью он владеет разными наречиями, этот Мейер настоящий космополит. Откуда он может быть родом?
– Произношение у него саксонское, хотя и на нижнеавстрийском наречии он говорит очень хорошо. Мне кажется, он из Северной Германии, верно – пруссак.
– Тем хуже для него; не люблю пруссаков, а короля Фридриха, после всего, что я о нем слышала в замке Великанов, люблю еще меньше, чем его народ.
– В таком случае вы хорошо будете чувствовать себя в Вене: у воинственного короля-философа там нет приверженцев ни при дворе, ни среди населения.
Беседуя таким образом, они добрались до лесной чащи и пошли тропинками, которые то терялись среди сосен, то извивались по склону амфитеатра, образуемого бугристыми горами. Консуэло находила Карпатские горы скорее красивыми, чем величественными. Она много раз путешествовала в Альпах и потому отнюдь не приходила от окружающего в восторг, как Иосиф, впервые видевший такие высокие горы. И если в юноше все вызывало восторг, то спутница его была более склонна к мечтательности. К тому же Консуэло в тот день чувствовала большую усталость и делала огромные усилия, чтобы скрыть это, боясь огорчить Иосифа, и без того слишком огорчавшегося из-за нее.
Они поспали несколько часов, а потом, перекусив и позанимавшись музыкой, на закате снова пустились в путь. Но вскоре Консуэло была вынуждена сознаться, что ночной переход ей не под силу; хотя она, подобно героиням идиллий, долго окунала свои изящные ножки в кристальные струи источника – ничто не помогало, пятки были слишком изранены булыжниками. К несчастью, местность оказалась совершенно пустынной – ни хижины, ни монастыря, ни шалаша. Иосиф пришел в отчаяние. Было слишком холодно, чтобы ночевать под открытым небом. Наконец сквозь узкий проход между двумя холмами они увидели у подножия противоположного склона огоньки. Долина, куда они спустились, находилась уже в Баварии, но видневшийся город был гораздо дальше, чем они предполагали, и опечаленному Иосифу казалось, что с каждым шагом город все более отодвигается от них. К довершению несчастья тучи обложили все небо и вскоре зарядил мелкий холодный дождь. Дождевая завеса совсем скрыла огоньки от взоров наших путников, так что, спустившись не без труда и риска к подножию горы, они не знали, куда идти. Дорога, к счастью, оказалась довольно ровной, и они продолжали, все время спускаясь, тащиться по ней, как вдруг услышали шум едущего навстречу экипажа. Иосиф, не колеблясь, окликнул едущих, чтобы выяснить, что это за местность и где тут можно найти приют.
– Вы кто такие? – раздался ему в ответ грубый голос, и вслед за этим послышался звук взводимого курка. – Прочь! Или размозжу череп!
– Нас нечего бояться, – ответил Иосиф, не смущаясь, – посмотрите сами: перед вами двое детей, которые просят лишь указать им дорогу.
– Эге! – воскликнул другой голос, в котором Консуэло сейчас же узнала голос любезного г-на Мейера. – Да ведь это мои утренние юные сорванцы! Узнаю говор старшего. И вы тоже тут, гондольер? – прибавил он повенециански, обращаясь к Консуэло.
– Да, – ответила она также по-венециански. – Мы заблудились и просим вас, добрый господин, указать нам замок или конюшню, где мы могли бы приютиться. Скажите нам, если знаете.
– Эх, бедные мои ребята, – ответил Мейер, – вы по меньшей мере в двух милях от какого бы то ни было жилья. В этих горах вам не найти и собачьей конуры. Но мне жаль вас, садитесь ко мне в экипаж; я могу без особого ущерба для себя дать вам два места. Ну, не церемоньтесь же, влезайте!
– Вы, право, слишком добры, сударь, – сказала Консуэло, тронутая радушием этого хорошего человека, – но вы ведь едете на север, а нам надо в Австрию.
– Нет, я еду на запад. Не больше чем через час я довезу вас до Биберека. Там вы переночуете, а завтра сможете добраться до Австрии. Это даже сократит вам путь. Ну, решайтесь же, если не хотите мокнуть под дождем и задерживать нас.
– Смелей, нечего колебаться! – шепнула Консуэло Иосифу, и они сели в экипаж.
В нем, как они увидели, сидело трое: двое спереди, причем один из них правил, а третий, г-н Мейер, – занимал заднее место. Консуэло забилась в уголок, Иосиф сел посередине. Экипаж был шестиместный, вместительный, прочный. Лошадь, крупная и сильная, подгоняемая энергичной рукой, снова пустилась рысью, звеня бубенчиками и нетерпеливо поводя ушами.
Глава 70
– Что я вам говорил! – воскликнул г-н Мейер, возобновляя разглагольствования, прерванные утром. – Ну может ли быть более тяжелое и неприятное ремесло? Когда светит солнце, все как будто прекрасно, но оно ведь не всегда светит, и ваша доля так же изменчива, как погода.
– А чья доля не изменчива и не сомнительна? – проговорила Консуэло. – Когда небо немилостиво, провидение посылает на нашем пути добрых людей, так что в данную минуту нам не приходится на него жаловаться.
– У вас хорошая голова, мой дружок, – ответил Мейер, – вы из той чудной страны, где все умны; но, поверьте мне, ни ваш ум, ни прекрасный голос не помешают вам погибнуть от голода в унылых австрийских провинциях. На вашем месте я стал бы искать счастья в богатой, цивилизованной стране, под покровительством великого государя.
– Какого же? – спросила удивленная Консуэло.
– Да не знаю, право; мало их разве?
– Но разве королева Венгрии не великая монархиня? – вмешался в разговор Гайдн. – Разве в ее государстве нельзя найти покровительства?
– Ну конечно, – ответил Мейер, – но вы не знаете, что ее величество Мария-Терезия ненавидит музыку, а бродяг – еще больше, так что если вы появитесь в виде трубадуров на улицах Вены, вы будете тотчас изгнаны.
В эту минуту Консуэло снова увидела невдалеке, пониже дороги, огоньки, которые и раньше уже мелькали перед ними, и сообщила об этом Иосифу, а тот, обратясь к г-ну Мейеру, выразил желание сойти и добраться до этого ночлега, более близкого, чем Биберек.
– Как! Вы принимаете это за огоньки? Они, конечно, в самом деле огни, но только освещают они не жилье, а опасные болота, где немало путешественников заблудилось и погибло. Приходилось вам когда-нибудь видеть блуждающие болотные огни?
– Я много раз видал их на венецианских лагунах и часто на маленьких озерах в Богемии, – ответила Консуэло.
– Так вот, дети мои, то, что вы видите там вдали, – такие же блуждающие огни.
Господин Мейер долго еще убеждал молодых людей в необходимости где-нибудь твердо обосноваться, говорил об отсутствии всякой возможности найти средства к жизни в Вене, не указывая, однако, места, куда он советовал бы им отправиться. Сначала Иосиф, пораженный его настойчивостью, испугался, не догадывается ли их спутник о том, что Консуэло женщина, но дружелюбное отношение к ней как к мальчику, его советы не шататься по дорогам, а, придя в возраст, стать военным, успокоили его на этот счет, и он убедил себя, что добрейший Мейер – один из тех ограниченных людей, которые, страдая от навязчивых идей, твердят целый день какую-нибудь первую пришедшую им утром в голову мысль. Консуэло же принимала его не то за школьного учителя, не то за лютеранского пастора, который одержим идеями воспитания, нравственности и прозелитизма.
Через час, в полнейшей темноте, они приехали в Биберек. Экипаж въехал на постоялый двор, где тотчас же два каких-то человека, отозвав Мейера в сторону, вступили с ним в разговор. Когда они вошли затем в кухню, где Консуэло с Иосифом грелись у очага и просушивали свою одежду, юноша узнал в них тех самых двух человек, которые расстались с Мейером у перевоза, когда тот, оставив их на левом берегу Молдавы, сам переправился через реку. Один из них был кривой, а у другого хотя и имелись оба глаза, однако лицо от этого отнюдь не казалось привлекательнее. Тот, что переправился с Мейером через реку и ехал с молодыми людьми в экипаже, также присоединился к ним, четвертый же не показывался. Они переговаривались на наречии, непонятном даже для Консуэло, знавшей столько языков. Г-н Мейер, по-видимому, пользовался среди них авторитетом и, во всяком случае, влиял на их решения, ибо после общего довольно оживленного совещания вполголоса Мейер высказал свое мнение, и все удалились, за исключением одного, которого Консуэло в разговоре с Иосифом назвала «Молчальником», – того самого, что не расставался с Мейером.
Гайдн собирался было уже скромно поужинать со своей спутницей на краешке кухонного стола, когда г-н Мейер, подойдя к ним, пригласил их разделить его трапезу и так при этом добродушно настаивал, что они не решились отказаться.
Мейер увел их в столовую, где они попали на настоящий пир, так по крайней мере показалось бедным молодым людям, лишенным всех этих прелестей во время своего пятидневного, далеко не легкого странствования. Однако Консуэло приняла в ужине очень сдержанное участие: роскошный стол Мейера, подобострастное отношение к нему прислуги, большое количество вина, поглощаемого как им, так и его спутником, – все это начинало менять мнение девушки о пасторских добродетелях их амфитриона. Особенно коробило ее стремление Мейера заставить Иосифа и ее самое пить вина больше, чем им хотелось, равно как и пошлые шуточки, которые он отпускал, не позволяя им прибавлять воды к вину. С еще большим беспокойством заметила она, что Иосиф, по рассеянности или из желания подкрепиться, налегал на вино и становился общительнее и оживленнее, чем ей того хотелось. Наконец, выведенная из терпения тем, что Иосиф не обращает внимания на ее подталкивание локтем с целью удержать его от чрезмерных возлияний, Консуэло отняла у него стакан в тот момент, когда г-н Мейер собирался снова наполнить его.
– Нет, сударь, нет! – проговорила она. – Позвольте не подражать вам!
Нам это совсем не пристало.
– Странные вы музыканты! – воскликнул Мейер, смеясь с откровенной беззаботностью. – Музыканты – и непьющие! Первых таких встречаю!
– А вы, сударь, тоже музыкант? – обратился к нему Иосиф. – Ручаюсь, что да! Черт меня побери, если вы не капельмейстер при дворе какого-нибудь саксонского принца!
– Возможно, – ответил, улыбаясь, Мейер. – Вот почему, дети мои, я и чувствую к вам симпатию.
– Если вы, сударь, большой музыкант, то разница между вашим талантом и талантом бедных уличных певцов слишком велика, чтобы они могли заинтересовать вас, – возразила Консуэло.
– Среди бедных уличных певцов встречается больше талантов, чем думают, – сказал на это Мейер, – и много есть великих музыкантов, даже капельмейстеров первейших государей мира, которые начали с того, что распевали на улицах. А что, если я вам скажу, что не далее как сегодня утром, между девятью и десятью часами, я слышал два прелестных голоса, распевавших на левом берегу Влтавы красивый итальянский дуэт под прекрасный и очень умелый аккомпанемент на скрипке? И случилось это в то время, когда я завтракал с друзьями на холме. Когда же с горы стали спускаться очаровавшие меня музыканты, я был поражен, увидев двух бедных детей, одного одетого маленьким крестьянином, другого… очень милого, простого, но весьма невзрачного на вид… Не конфузьтесь и не удивляйтесь, друзья мои, моим добрым чувствам и выпьем за муз, наших общих и божественных покровительниц.
– Господин маэстро! – радостно воскликнул совсем покоренный Иосиф.
– Хочу выпить за ваше здоровье. О! Я уверен, вы настоящий музыкант, раз вы пришли в восторг от таланта… моего друга, синьора Бертони.
– Нет, пить вы больше не будете! – сказала выведенная из терпения Консуэло, вырывая у него из рук стакан. – И я также, – прибавила она, опрокидывая свой, – мы живем только нашими голосами, господин профессор, а вино портит голос; вы должны, следовательно, поддерживать в нас трезвость, а не спаивать нас.
– Ну что ж, вы рассуждаете здраво, – сказал Мейер, ставя на середину стола графин, который он до сих пор прятал за спиной. – Да, будем беречь голос. Отлично сказано! Вы благоразумны не по годам, друг Бертони, и я рад, что, испытав вас, убедился в вашей высокой нравственности. Вы далеко пойдете! Об этом говорит и ваше благоразумие и ваш талант. Да, вы далеко пойдете, и я хочу иметь честь и заслугу содействовать этому.
Тут мнимый профессор, расположившись поудобнее и представляясь необычайно искренним и добрым, предложил увезти их с собой в Дрезден, обещая там добиться у знаменитого Гассе согласия давать им уроки, а также снискать для них особое покровительство польской королевы, курфюрстины саксонской.
Принцесса Мария-Антуанетта, супруга Августа III, короля Польши, была, как мы уже знаем, ученицей Порпоры. Это-то соперничестве между Порпорой и Sassone за благоволение государыни-дилетантки и было первоначальной причиной их глубокой вражды. Если бы даже Консуэло была склонна искать счастья в Северной Германии, то и тогда она не выбрала бы для своего дебюта тот двор, где ей пришлось бы столкнуться со школой и партией, взявшей верх над ее учителем. Достаточно говорил ей об этом Порпора в минуты обиды и горечи, чтобы она, будучи в курсе дела, могла последовать советам профессора Мейера.
Совершенно иначе был настроен Иосиф. Одурманенный выпитым за ужином вином, он вообразил, что встретил могущественного покровителя и вершителя своей судьбы. Ему не приходило в голову покинуть Консуэло и следовать за новым другом, но, будучи немного навеселе, он мечтал когда-нибудь снова встретиться с ним. Он верил в доброжелательство Мейера и горячо благодарил его. Опьяненный радостью, он схватил скрипку и прескверно заиграл на ней. Это, однако, не помешало Мейеру шумно аплодировать юноше, – потому ли, что он не хотел обидеть его, сказав, что тот фальшивит, или потому, думалось Консуэло, что сам был неважный музыкант. Его искреннее заблуждение относительно пола Консуэло, чье пение он слышал, говорило за то, что он не был преподавателем с очень развитым слухом, раз можно было его провести, словно какого-нибудь деревенского музыканта, играющего на серпенте, или учителя-трубача.
Тем временем г-н Мейер настойчиво продолжал уговаривать молодых музыкантов ехать с ним в Дрезден. Отказываясь, Иосиф тем не менее с таким сияющим лицом выслушивал его соблазнительные предложения и так горячо обещал явиться к нему в самом ближайшем времени, что Консуэло сочла нужным открыть глаза Мейеру на неисполнимость его обещания.
– В настоящее время и думать об этом нечего, – проговорила она решительным тоном. – Вы прекрасно знаете, Иосиф, что это невозможно, ведь у вас совершенно иные планы.
Мейер возобновил свои соблазнительные предложения, однако его удивила непоколебимость не только Консуэло, но и Иосифа, который, как только в разговор вступал синьор Бертони, снова становился благоразумным.
Тут за Мейером пришел «молчаливый» путешественник, ненадолго появившийся только во время ужина, и они оба вышли. Консуэло воспользовалась случаем, чтобы побранить Иосифа и за легковерие, с каким он относился к радужным обещаниям первого встречного, и за увлечение хорошим вином.
– Неужели я сказал что-нибудь лишнее? – испуганно спросил Иосиф.
– Нет, – возразила она, – но неблагоразумно так долго общаться с незнакомыми людьми. Глядя на меня, в конце концов можно заметить или хотя бы заподозрить, что я не мальчик. Как я ни старалась измазать карандашом руки и держать их по возможности под столом, вряд ли могли эти господа не обратить внимание на их слабость, не будь они поглощены один – бутылкой, другой – болтовней. Теперь нам было бы всего благоразумнее скрыться и отправиться ночевать на другой постоялый двор. Мне как-то не по себе с этими новыми знакомыми, которые словно преследуют нас по пятам.
– Что вы! – воскликнул Иосиф. – Стыдно уйти, даже не попрощавшись и не поблагодарив такого хорошего человека и, быть может, знаменитого профессора. Кто знает, не беседовали ли мы с самим великим Гассе!
– Ручаюсь, что нет, и не будь вы навеселе, вы заметили бы, какие пошлые общие фразы говорил он о музыке. Великие учителя так не рассуждают. Нет, это какой-нибудь второстепенный музыкант из оркестра, добрый малый, болтун и порядочный пьяница. Не знаю почему, но по его физиономии мне кажется, что он никогда не играл ни на чем ином, кроме медных инструментов, а его косой взгляд словно ищет капельмейстера.
– Пусть он валторнист или второй кларнетист, а все-таки он приятный собеседник! – воскликнул, покатываясь со смеху, Иосиф.
– Зато вот о вас этого никак нельзя сказать, – проговорила с некоторым раздражением Консуэло. – Протрезвитесь, простимся и пойдем.
– Дождь льет как из ведра; слышите, как он стучит в окна?
– Надеюсь, вы не намереваетесь заснуть за этим столом, – сказала Консуэло, расталкивая Иосифа, чтобы тот не спал.
В эту минуту в комнату вернулся Мейер.
– Вот тебе и раз! – весело воскликнул он. – Я рассчитывал здесь переночевать и завтра выехать в Шамб, а друзья заставляют меня вернуться назад, уверяя, будто я им необходим для каких-то дел в Пассау. Приходится уступить. И раз мне нужно отказаться от удовольствия увезти вас в Дрезден, так позвольте, дети мои, дать вам добрый совет: воспользуйтесь случаем. Я по-прежнему смогу уделить вам два места в своем экипаже, ибо эти господа поедут в другом. Завтра утром мы будем в Пассау, – это всего в шести милях отсюда. Там я пожелаю вам доброго пути. Вы будете у австрийской границы и сможете, без всякого утомления, за небольшую плату спуститься на судне по Дунаю до Вены.
Иосиф нашел предложение превосходным, тем более что поездка в экипаже позволит отдохнуть израненным ногам Консуэло. Действительно, оказия казалась благоприятной, а путешествие по Дунаю было способом передвижения, о котором они еще не думали. Консуэло тоже согласилась, так как заметила, что Иосиф на этот раз не способен позаботиться о безопасном ночлеге. Впотьмах, забившись в угол экипажа, она могла не опасаться наблюдений своих спутников, а г-н Мейер уверял, что в Пассау они приедут до рассвета. Иосиф был в восторге от ее решения. Однако Консуэло все-таки было не по себе, а друзья Мейера ей все меньше нравились. Она спросила, не музыканты ли его спутники.
– Все – более или менее, – лаконически ответил Мейер.
Экипажи оказались заложенными, кучера на своих местах, а трактирные слуги, очень довольные щедротами г-на Мейера, из кожи вон лезли, чтобы до последней минуты угодить ему. Во время этой суеты, в момент затишья, Консуэло послышался стон, как будто доносившийся с середины двора. Она обернулась к Иосифу, но тот ничего, видимо, не слышал. Когда же стон повторился, дрожь пробежала по ее телу. Однако никто, по-видимому, ничего не заметил, и она решила, что, должно быть, завизжала собака, которой надоело сидеть на цепи. Но как ни пыталась Консуэло отвлечься, жуткое чувство не покидало ее. Подавленный стон среди мрака, ветра и дождя, донесшийся со двора, где стояла эта группа людей, – одни безучастные, другие чем-то взволнованные, – произвел на нее самое зловещее впечатление, хоть она и не была уверена, был ли то стон, или просто игра ее воображения. Консуэло тотчас вспомнила об Альберте и, словно проникшись его даром таинственного прозрения, испугалась какой-то опасности, нависшей над головой ее жениха или ее собственной.
А экипаж уже мчался. Впряженная в него свежая лошадь, более сильная, чем первая, быстро несла его. Другой экипаж, ехавший так же быстро, то отставал, то опережал их. Иосиф опять болтал с г-ном Мейером, а Консуэло пыталась заснуть, – она притворилась спящей, чтобы иметь право молчать. Усталость взяла верх над ее грустью и беспокойством, и она заснула крепчайшим сном. Когда она проснулась, Иосиф тоже спал, а г-н Мейер наконец умолк. Дождь перестал лить, небо прояснилось, и начинало светать. Местность была совершенно незнакома Консуэло. Только время от времени вырисовывались на горизонте вершины горной цепи, похожей на Богемский Лес.
По мере того как проходила ее сонливость, она все с большим удивлением смотрела на горы: они должны были быть слева от нее, а находились справа. Звезды уже погасли, но солнце, которому, по ее расчету, надлежало взойти впереди, еще не появлялось. Она решила, что горы перед ее глазами – не Богемский Лес, а какие-то другие. Г-н Мейер храпел, но она побоялась заговорить с возницей, единственным не спавшим в эту минуту человеком. Лошадь по довольно крутому косогору пошла шагом, а стук колес заглушал сырой песок колеи. Тут Консуэло снова явственно услышала тот глухой мучительный стон, который уже доносился до нее на постоялом дворе в Бибереке. Голос, казалось, раздавался где-то позади. Машинально она повернулась, но сзади была только кожаная спинка экипажа, на которую она опиралась. Консуэло сочла это галлюцинацией, и поскольку мысли ее постоянно занимал Альберт, она вдруг с ужасом подумала: уж не умирает ли он; а что если благодаря непостижимой силе любви этого странного человека к ней доносятся его предсмертные вздохи, зловещие, душераздирающие. Эта мысль до того завладела ею, что ей стало дурно. Боясь совсем задохнуться, она обратилась к вознице, когда тот остановился на половине подъема, чтобы дать передохнуть лошади, и попросила у него позволения подняться в гору пешком. Он разрешил и, спрыгнув сам, пошел, посвистывая, подле лошади.
Человек этот был слишком хорошо одет для профессионального кучера. При каком-то его движении Консуэло показалось, что она видит у него за поясом пистолет. Подобная предосторожность в пустынном крае, каким они проезжали, была более чем естественна, тем более что форма экипажа, который Консуэло, идя у колес, хорошо рассмотрела, говорила о том, что в нем везут товары. Экипаж был очень глубок; позади сиденья, по-видимому, находился ящик, вроде тех, в которых перевозят ценности и депеши. На сей раз он, очевидно, был не слишком загружен, раз одна лошадь свободно везла его. Гораздо больше поразило Консуэло то, что тень ее стала удлиняться вперед, и, обернувшись, она увидела, что солнце довольно высоко поднялось на горизонте, но не там, где ему следовало взойти, если бы экипаж действительно направлялся в Пассау, а на противоположной стороне. – Куда же мы – едем? – спросила она возницу, поспешно подходя к нему.
– Мы повернулись к Австрии спиной.
– Да, на полчаса, – очень спокойно ответил тот, – мы возвращаемся назад, так как мост через реку, по которому нам надо ехать, сломан и приходится делать получасовой объезд, чтобы попасть на другой.
Немного успокоившись, Консуэло села в экипаж и обменялась несколькими незначительными словами с г-ном Мейером, который было проснулся, но тотчас снова уснул. Иосиф же спал все время без просыпу. Тут они добрались до вершины косогора, и Консуэло увидела перед собой длинную, крутую и извилистую дорогу, а в глубине ущелья показалась река, о которой ей говорил возница. Но, насколько мог видеть глаз, незаметно было никакого моста, а между тем они подвигались все к северу. Встревоженная и удивленная, Консуэло больше не могла заснуть.
Вскоре начался новый подъем; лошадь казалась очень утомленной. Все путешественники вышли из экипажа, кроме Консуэло, – у нее все еще болели ноги. И вот тут-то опять послышался стон, он повторился несколько раз и так ясно, что девушка уже никак не могла приписать его обману чувств: без всякого сомнения, стон шел из потайного ящика. Консуэло тщательно осмотрела экипаж и обнаружила в углу, где все время сидел Мейер, маленький глазок наподобие задвижки, прикрытый кожей и сообщавшийся с ящиком. Она попыталась было его отодвинуть, но не смогла. Задвижка оказалась на замке, ключ от которого находился, вероятно, в кармане мнимого профессора.
Консуэло, пылкая и мужественная в такого рода происшествиях, вытащила из-за пазухи нож с крепким и острым лезвием: голос целомудрия и предчувствие опасностей, от которых самоубийство всегда может избавить энергичную женщину, побудили ее захватить с собой это оружие. Она воспользовалась моментом, когда все путешественники ушли вперед, в том числе и возница, не имевший больше оснований опасаться, что лошадь будет горячиться, и быстрым уверенным движением расширила узкую щель между глазком и спинкой экипажа настолько, чтобы можно было заглянуть во внутренность таинственного хранилища. Каковы же были ее удивление и ужас, когда она увидела в тесном ящике, куда воздух и свет проникали только через проделанную вверху щель, мужчину огромного роста, с заткнутым ртом, окровавленного, с туго связанными руками и ногами; он лежал, согнувшись вдвое, в страшно неудобном, мучительном положении. Лицо, насколько его можно было разглядеть, отличалось мертвенной бледностью и, казалось, было искажено предсмертной судорогой.
Глава 71
Похолодев от ужаса, Консуэло выскочила из экипажа, догнала Иосифа и украдкой сжала ему руку, давая знать, чтобы он отошел с ней подальше от остальных.
Опередив компанию на несколько шагов, она чуть слышно проговорила:
– Мы погибли, если сейчас же не убежим: люди эти – грабители и разбойники. Я только что убедилась в этом. Ускорим шаг и бежим от них куда глаза глядят. У них есть какое-то основание обманывать нас.
Иосифу пришло в голову, что страшный сон расстроил его спутницу. Он едва понимал, что она говорит. Сам он чувствовал какую-то непривычную вялость и резь в желудке: очевидно, хозяин трактира подмешал в вино какие-то вредные и опьяняющие снадобья. Иосиф не сомневался, что он не настолько нарушил свою обычную умеренность, чтобы чувствовать себя таким сонным и ослабевшим.
– Дорогая синьора, – ответил он, – вы под впечатлением какого-то кошмара, и, слушая вас, мне кажется, что я сам поддаюсь ему. Будь эти славные люди даже бандитами, как вы думаете, скажите, на какую богатую добычу могут они рассчитывать, захватив нас?
– Не знаю, но боюсь; и если бы вы, как я, своими глазами видели убитого человека в экипаже, в котором мы едем…
Здесь Иосиф не мог не рассмеяться, до того заявление Консуэло в самом деле походило на галлюцинацию.
– Ах! Да неужели вы не замечаете и того, что они обманывают нас и везут к северу, оставляя и Пассау и Дунай позади? – с жаром продолжала она. – Смотрите, где солнце, и обратите внимание, по какой пустыне мы движемся, вместо того чтобы подъезжать к большому городу!
Иосиф наконец проникся сознанием, что ее наблюдения вполне правильны и, можно сказать, летаргическое спокойствие, в каком он пребывал, начало постепенно рассеиваться.
– Ну что ж, идемте, – сказал юноша, ускорив шаг. – Их намерения сразу выяснятся, если они против нашей воли захотят удержать нас.
– А если нам не удастся ускользнуть сейчас, то не теряйте хладнокровия, Иосиф, слышите! Нужно будет перехитрить их и улучить другой момент. Тут она дернула его за руку и притворилась, будто хромает еще сильнее, чем вынуждала боль ноги, но все-таки пошла быстрее. Не успели они сделать так и десяти шагов, их окликнули сначала дружески, а затем более строго. Звал г-н Мейер, но так как они не обращали на него внимания, вслед им полетела энергичная брань остальных спутников. Иосиф оглянулся и с ужасом увидел направленный на них пистолет возницы.
– Они убьют нас, – сказал он Консуэло, замедляя шаг. – А разве мы еще находимся на расстоянии выстрела? – хладнокровно спросила она, увлекая его вперед и пускаясь бежать.
– Не знаю, – ответил Иосиф, стараясь остановить ее, – поверьте мне, нужный момент еще не настал. Они будут стрелять.
– Остановитесь или я уложу вас на месте, – крикнул возница, бежавший быстрее их, с пистолетом в вытянутой руке.
– Теперь надо брать смелостью, – сказала Консуэло, останавливаясь, делайте и говорите то же, что я, Иосиф.
– Эх, – громко проговорила она, оборачиваясь и смеясь с апломбом хорошей актрисы, – если бы только больные ноги не мешали мне дальше бежать, я показал бы вам, что подшутить над нами вам не удастся.
Глядя на смертельно бледного Иосифа, она притворно громко расхохоталась и, указывая приближавшимся к ним другим спутникам на своего растерявшегося товарища, воскликнула с прекрасно разыгранной веселостью:
– Он поверил! Бедный мой товарищ поверил! Ах, Беппо! Я не считал тебя таким трусом. Ну, господин профессор, взгляните-ка на Беппо, он на самом деле вообразил, что его хотят пристрелить!
Консуэло нарочно говорила по-венециански, своей веселостью сдерживая пыл человека с пистолетом, ни слова не понимавшего на этом наречии. Г-н Мейер также сделал вид, будто смеется. Затем, повернувшись к вознице, он сказал ему, подмигивая глазом (что прекрасно подметила Консуэло):
– Какая глупая шутка! Зачем пугать бедных детей?
– Мне хотелось узнать, насколько они храбры, – ответил тот, засовывая пистолет за пояс.
– Увы! Господа будут о тебе неважного мнения, друг Иосиф, – лукаво проговорила Консуэло. – А вот я не испугался, отдайте мне в этом справедливость, синьор Пистолет!
– Вы молодец! – заметил Мейер. – Из вас вышел бы славный барабанщик, и вы, не моргнув, отбарабанили бы штурмовой марш, шагая во главе полка и нимало не заботясь о свистящих вокруг снарядах.
– О! Это еще неизвестно, – возразила она, – может, и испугался бы, поверь я, что он и вправду хочет нас убить. Но нам, венецианцам, знакомы всякие проделки, и нас не так-то легко провести.
– Все равно, это шутка дурного тона, – возразил Мейер и, обернувшись к вознице, для виду слегка пробрал его.
Но Консуэло трудно было провести. По их интонациям она поняла, что они обсуждали происшедшее и пришли к заключению, что ошиблись, заподозрив юнцов в желании убежать.
Усевшись снова со всеми в экипаж, Консуэло, смеясь, обратилась к г-ну Мейеру:
– Согласитесь, что ваш возница с пистолетом – чудак; я буду теперь звать его синьор Пистолет. Все же, господин профессор, сознайтесь, что его шутка не так уж нова.
– Немецкая шуточка, – заметил Мейер. – В Венеции это проделывают остроумнее, не правда ли?
– А знаете, что на вашем месте проделали бы итальянцы, если бы им вздумалось подшутить над нами? Они завели бы экипаж за первый попавшийся придорожный куст, а сами спрятались бы. И вот мы оба обернулись и, никого не увидев, подумали бы, что это дьявольское наваждение. Кто бы тогда был в дураках? Прежде всего я, едва передвигающий ноги, да и Иосиф тоже, испугавшийся, точно корова, заблудившаяся в Богемском Лесу, – он решил бы, что его бросили в этой пустыне!
Господин Мейер, смеясь над ее ребяческим балагурством, переводил все синьору Пистолету, не менее его забавлявшемуся дурачеством гондольера.
– О, вы чересчур большие хитрецы – мы уже больше не решимся подшутить над вами, – заявил Мейер.
Консуэло же, заметив глубокую иронию, пробившуюся наконец сквозь веселый отеческий тон мнимого добряка, продолжала, однако, разыгрывать роль простофили, воображающего себя умником, – прием, применяемый во всех мелодрамах.
Несомненно, они попали в серьезную переделку. Консуэло, ловко выдерживая свою роль, была в очень возбужденном состоянии. К счастью, в таком состоянии действуют, а в удрученном – погибают.
Теперь она была настолько же весела, насколько до сих пор сдержанна, и Иосиф, уже пришедший в себя, удачно вторил ей. Притворившись, будто они нисколько не сомневаются в том, что действительно подъезжают к Пассау, молодые люди притворно стали очень внимательно прислушиваться к предложению отправиться в Дрезден, которое г-н Мейер не преминул возобновить. Таким способом они заручились его полным доверием и дали ему возможность подыскать предлог для признания, что он без их согласия везет их в Дрезден. И предлог скоро нашелся. Г-н Мейер не был новичком в подобного рода похищениях. Произошел оживленный разговор на неизвестном языке между тремя лицами – г-ном Мейером, синьором Пистолетом и «молчальником». Затем они вдруг заговорили по-немецки, будто продолжая начатую беседу.
– Говорил же я вам, что мы сбились с пути, – воскликнул г-н Мейер.
– Спутники-то наши исчезли! Уже более двух часов, как они отстали от нас, а я, сколько ни смотрю на косогор, ничего не замечаю.
– Совсем их не видно, – подтвердил возница, высовываясь из экипажа и с унылым видом снова садясь на место.
Консуэло еще у первого подъема прекрасно заметила исчезновение другого экипажа, с которым они одновременно выехали из Биберека.
– Я был убежден, что мы заблудились, – сказал Иосиф, – но не хотел говорить об этом.
– Что же вы, черт вас побери, молчали? – вмешался «молчальник», делая вид, будто крайне раздражен этим открытием.
– Да потому, что меня это забавляло, – сказал Иосиф, вдохновленный невинным коварством Консуэло. – Ведь забавно же заблудиться в экипаже! Я думал, что это случается только с пешеходами.
– Ото, вот так презабавная история. Мне это нравится, – промолвила Консуэло. – Теперь остается только пожелать, чтоб мы оказались на дрезденской дороге!
– Знай я, где мы, – возразил г-н Мейер, – я бы тоже порадовался вместе с вами, дети мои. Признаюсь, мне не очень-то улыбалось ехать в Пассау исключительно ради удовольствия моих друзей, и если мы действительно сбились с пути, то я был бы очень доволен воспользоваться этим предлогом, чтоб не простирать дальше нашей к ним любезности.
– Право, господин профессор, – заговорил Иосиф, – поступайте как знаете, это уж ваше дело. Если мы вам не в тягость и вы по-прежнему не прочь захватить нас с собой в Дрезден, мы готовы следовать за вами хоть на край света. А ты, Бертони, что скажешь на это?
– Да «кажу то же, – ответила Консуэло, – будь что будет!
– Славные вы ребята! – сказал на это Мейер, под напускной озабоченностью скрывая свою радость. – Но все-таки хотелось бы мне знать, где мы находимся.
– Где бы мы ни были, а надо сделать привал! – заявил возница. – Лошадь совсем выбилась из сил. Ведь со вчерашнего вечера она ничего не ела, а везла всю ночь. Да и все мы рады будем подкрепиться. Вот как раз лесок; кое-что из провизии у нас еще осталось. Стой!
Въехали в лес, распрягли лошадь. Иосиф и Консуэло с большой готовностью предложили свои услуги, что было доверчиво принято. Оглобли экипажа опустили на землю, и так как при этом положение спрятанного узника стало, должно быть, еще мучительнее, до слуха Консуэло вновь донесся его стон. Мейер также услыхал его и пристально посмотрел на Консуэло, желая убедиться, обратила ли она на это внимание. Но девушка сумела притвориться глухой и оставалась невозмутимой, хотя жалость и терзала ей сердце.
Мейер обошел вокруг экипажа, и отошедшая в сторону Консуэло видела, как он открыл сзади маленькую дверцу, заглянул внутрь потайного ящика, затем закрыл ее и снова положил ключ в карман.
– Что, товар не поврежден? – крикнул Мейеру «молчальник».
– Все в порядке, – ответил тот с поистине животным равнодушием и велел готовить завтрак.
– Теперь, – быстро проговорила Консуэло, проходя мимо Иосифа, – иди за мной и делай все, как я.
Она помогла разложить на траве провизию и откупорить бутылки. Иосиф подражал ей, представляясь страшно веселым. Г-н Мейер с удовольствием поглядывал, с каким усердием прислуживают ему эти добровольцы. Он любил блага жизни и принялся есть и пить в обществе своих товарищей с большей жадностью и более грубыми ухватками, чем накануне. Он поминутно протягивал стакан своим новоиспеченным пажам, а те все время то вставали, то садились, то снова пускались бегом в ту или другую сторону, выслеживая момент, когда можно будет сбежать окончательно, но выжидая, чтоб их опасные стражи стали менее бдительными от действия яств и вина. Наконец г-н Мейер, растянувшись на траве, выставил на солнце свою широкую грудь, украшенную пистолетами. Возница пошел посмотреть, хорошо ли ест лошадь, а «молчальник» отправился разыскивать на илистом берегу ручья, у которого была сделана стоянка, подходящее место для водопоя. Это послужило сигналом к освобождению. Консуэло сделала вид, будто также разыскивает водопой. Иосиф зашел с ней подальше в кусты, и, как только они почувствовали, что их не видно за густой листвой, оба пустились, как два зайца, бежать по лесу. Среди густых зарослей им уже нечего было опасаться пуль. Когда же они услышали, что их зовут, они были уже достаточно далеко и могли без боязни продвигаться вперед.
– А все же лучше ответить, – сказала, останавливаясь, Консуэло, – это рассеет их подозрение и даст нам время отбежать подальше.
И Иосиф отозвался:
– Сюда, сюда! Здесь вода!
– Источник! Источник! – кричала Консуэло.
И тут, повернув под прямым углом, чтобы сбить с толку преследователей, они понеслись как ветер. Консуэло уже не думала о своих больных, опухших ногах, Иосиф освободился от действия наркотика, подбавленного накануне Мейером в его вино. Страх окрылял их.
Так бежали они минут десять в направлении, противоположном взятому ими сначала, не прислушиваясь даже к голосам, звавшим их с двух сторон, и вдруг выскочили на опушку леса. Перед ними был крутой косогор, поросший густой травой и спускавшийся к проезжей дороге; у его подножия, в зарослях вереска, возвышались группы деревьев. – Не будем выбираться из леса, – предложил Иосиф, – они явятся сюда и с этого возвышенного места увидят нас, куда бы мы ни направились.
С минуту Консуэло колебалась, но, окинув быстрым взглядом местность, сказала Иосифу:
– Лес слишком мал, надолго мы не скроемся в нем. Впереди же дорога и надежда встретиться с кем-нибудь.
– Да это та самая дорога, по которой мы только что ехали! – воскликнул Иосиф. – Смотрите, она огибает холм и поднимается справа к месту, откуда мы убежали. Стоит одному из них сесть на лошадь, и он догонит нас, прежде чем мы успеем спуститься.
– Это еще неизвестно, – сказала Консуэло. – Под гору ведь бежать легко. А вон там на дороге кто-то поднимается по направлению к нам. Весь вопрос в том, чтоб добраться туда раньше, чем нас настигнут. Бежим! Некогда было терять времени на размышления, и Иосиф положился на интуицию Консуэло. Вмиг спустились они с холма и едва успели добраться до первых зарослей, как услыхали у лесной опушки голоса своих преследователей. На этот раз они уже не откликнулись, а лишь пуще пустились бежать под защитой деревьев и кустарников, пока не наткнулись на ручей с крутыми берегами, которого не было видно из-за деревьев. Длинная доска служила мостом через него. Беглецы перебрались по ней, а затем бросили доску в воду.
Очутившись на другом берегу, они продолжали спускаться вдоль ручья, все время под покровом густой растительности. Не слыша больше голосов, они решили, что преследователи либо потеряли их из виду, либо, не сомневаясь больше относительно их намерений, изыскивают способ захватить их врасплох. Но вскоре береговые заросли кончились, и они остановились, боясь, что их заметят. Иосиф осторожно высунул голову из-за последних кустов и увидел одного из разбойников на страже у опушки леса, а другого (вероятно, то был синьор Пистолет, в чьей резвости они уже убедились) у подножия холма, неподалеку от речки. В то время как Иосиф изучал положение противника, Консуэло направилась к дороге и почти тотчас вернулась к своему спутнику.
– Экипаж, – проговорила она, – мы спасены! Необходимо добраться до него раньше, чем наш преследователь догадается переправиться через ручей.
Они побежали к дороге напрямик, не считаясь с тем, что их путь пролегал по открытой местности. Экипаж во весь карьер мчался им навстречу.
– О боже мой! – воскликнул Иосиф. – Что, если это экипаж их сообщников?
– Нет, – ответила Консуэло, – это карета шестериком, с двумя форейторами и двумя кучерами. Говорю тебе, мы спасены, еще немножко мужества! Действительно, надо было возможно скорее добраться до дороги: синьор Пистолет заметил их следы на песке у ручья. Он был сильный и быстрый, как дикий кабан. Следы моментально привели его к сваям, на которых раньше лежала доска. Угадав хитрость беглецов, он вплавь перебрался через ручей, разыскал на другом берегу следы и теперь уже показался из-за кустов. Тут он увидел беглецов, пробиравшихся среди зарослей вереска… но увидел также и карету. Он понял их намерение и, не имея возможности помешать его осуществлению, вновь укрылся в кусты и стал ждать.
Крик двух молодых людей, принятых сперва за нищих, не остановил кареты. Путешественники бросили несколько мелких монет, а сопровождавшие их форейторы, видя, что наши беглецы, вместо того чтобы их поднять, продолжают бежать у дверцы кареты, понеслись от них вскачь, стараясь избавить своих господ от такой назойливости. Консуэло, запыхавшись и изнемогая (как обычно случается перед достижением цели), не в состоянии была произнести ни единого звука, а только продолжала бежать за всадниками, с мольбой протягивая к ним руки. Иосиф же, уцепившись за дверцу кареты, рискуя сорваться и быть раздавленным, кричал прерывающимся голосом:
– Помогите! Помогите! За нами погоня! Грабители! Разбойники!
Одному из двух путешественников, сидевших в карете, наконец удалось разобрать эти отрывистые слова. Он подал знак форейтору, и тот остановил кучеров. Тут Консуэло выпустила уздечку другого всадника, за которую, невзирая на бег лошади и угрожавший ей хлыст, она было ухватилась, и подошла к Иосифу. Лицо ее, возбужденное бегом, поразило путешественников, и они вступили в переговоры.
– Что это значит? – спросил один из них. – Новая манера выпрашивать милостыню? Вам подали, что же вам еще надо? Почему вы не отвечаете? Консуэло, казалось, была при последнем издыхании. Иосиф, еле переводя дух, мог только выговорить:
– Спасите нас! Спасите! – и указал на лес и на холм, не в силах прибавить ни одного слова.
– Они похожи на загнанных на охоте лисиц, – заметил другой путешественник, – подождем, пока они немного отдышатся.
И оба роскошно одетых вельможи посмотрели на них с хладнокровной улыбкой, являвшейся таким контрастом по сравнению с возбужденным состоянием беглецов. Наконец Иосифу удалось произнести еще раз: «Грабители, убийцы». Тотчас же благородные путешественники приказали открыть дверцы кареты и, став на подножку, обозрели окрестность, удивляясь, что не видят ничего, оправдывающего подобный переполох. Разбойники попрятались, и кругом все было пустынно и безмолвно. Тут Консуэло, придя в себя, заговорила, останавливаясь после каждой фразы, чтобы перевести дух.
– Мы бедные странствующие музыканты, – начала она. – Нас захватили незнакомые нам люди, которые под видом услуги предложили сесть к ним в экипаж и везли нас всю ночь. На заре мы заметили, что нас обманывают и везут на север, вместо того чтобы направляться в Вену. Мы хотели было бежать, но они пригрозили нам пистолетом. Наконец они сделали, привал вон в том лесу. Мы от них убежали и понеслись навстречу вашему экипажу. Если вы нас теперь покинете, мы погибли: они в двух шагах от дороги, один здесь – в кустах, остальные в лесу.
– Сколько же их? – спросил форейтор.
– Друг мой, – по-французски ответил ему тот из путешественников, который стоял на подножке и к которому обратилась Консуэло, так как он был ближе других, – вас совершенно не касается, сколько их. Странный вопрос! Ваша обязанность – драться, когда я вам прикажу, а считать врагов я вас вовсе не уполномачиваю.
– Вы в самом деле хотите развлечься схваткою? – спросил по-французски второй вельможа. – Но помните, барон, на это надо время.
– Времени надо немного, а кости мы разомнем. Хотите присоединиться ко мне, граф?
– Пожалуй, если это вас забавляет. – И граф с величавой беспечностью взял в одну руку шпагу, а в другую два усыпанных драгоценными камнями пистолета.
– О, господа, вы поступаете прекрасно! – воскликнула Консуэло, позабыв на минуту в пылу возбуждения свою скромную роль и пожимая обеими руками руку графа.
Граф, удивленный такой фамильярностью какого-то ничтожного мальчишки, с гадливой усмешкой посмотрел на свой рукав, встряхнул его и с презрением медленно перевел взгляд на Консуэло, а та не могла не улыбнуться, вспомнив, с каким пылом граф Дзустиньяни и другие знатные венецианцы в былые времена добивались милости поцеловать ту самую руку, чье пожатие показалось сейчас столь оскорбительным. Отразилась ли в эту минуту на лице Консуэло спокойная, скромная гордость, столь противоречившая ее убогому виду, или ее изысканная речь, указывавшая на принадлежность к хорошему обществу, заставили предположить в ней переодетого юного дворянина, или, наконец, инстинктивно почувствовалась прелесть ее пола, но только выражение лица графа вдруг сразу изменилось, и он улыбнулся ей уже не презрительно, а ласково. Граф был еще молод, красив, и внешность его могла бы показаться ослепительной, не превосходи его барон молодостью, правильностью черт лица и статностью фигуры. Оба, как гласила молва, были красивейшими мужчинами своего времени.
Консуэло, видя, что выразительные глаза молодого барона также с недоумением и интересом устремлены на нее, отвлекла внимание обоих вельмож, сказав:
– Идите, господа, или, вернее, пойдемте, – мы будем вашими проводниками. В кузове экипажа этих бандитов, как в темнице, запрятан какой-то несчастный. Он лежит, связанный по рукам и по ногам, умирающий, окровавленный, с кляпом во рту. Освободите его! Это дело достойно ваших благородных сердец!
– Какой милый мальчуган, клянусь богом! Мы, право, не зря выслушали его. Быть может, мы вырвем из рук этих бандитов какого-нибудь честного дворянина.
– Вы говорите, они там? – спросил граф, указывая на лес.
– Да, – ответил Иосиф, – но они разбежались; и если только вашим сиятельствам угодно последовать моему скромному совету, вам следует разделиться для нападения: надо как можно скорее подняться в карете по этому косогору и достигнуть вершины холма. У самой опушки леса вы найдете экипаж с узником. Я же в это время проведу господ всадников напрямик. Бандитов всего трое. Они хорошо вооружены, но если увидят, что их окружили со всех сторон, не будут сопротивляться.
– Совет неплохой, – промолвил барон. – Граф, оставайтесь в карете, и пусть с вами едет ваш слуга: я возьму его лошадь. Один из юнцов проводит вас и укажет, где остановиться. А я беру с собой егеря и вот этого юнца. Поспешим, а то разбойники, вероятно, начеку и могут нас опередить.
– Экипаж разбойников никуда от вас не уйдет, – заметила Консуэло, лошадь еле жива от усталости.
Барон вскочил на коня графского слуги, а тот поместился на запятках кареты.
– Садитесь в карету, – сказал граф Консуэло, пропуская ее вперед; он и сам не мог понять, почему он так поступил. Однако сел он все же на заднее сиденье, предоставив ей переднее. Форейторы пустили, лошадей вскачь, а граф, высунувшись из окна кареты, не спускал глаз со своего спутника, который верхом на лошади переправлялся через ручей в сопровождении слуги, посадившего к себе на седло Иосифа. Консуэло была очень неспокойна за своего бедного приятеля, которого могла уложить первая же шальная пуля; но в то же время горячность, с какою он взялся за это опасное дело, вызывала ее одобрение и внушала уважение к нему. Она видела, как он поднимался по холму в сопровождении всадников, лихо пришпоривавших своих коней. Затем все скрылись в кустах. Вдруг раздались два выстрела, потом еще один. Карета в это время огибала холм.
Консуэло, не зная, чем все кончилось, стала горячо молиться.
Граф, испытывавший такую же тревогу за своего благородного спутника, с раздражением закричал форейторам:
– Да погоняйте же, шалопаи! Вскачь!
Глава 72
Синьор Пистолет, – мы не можем называть этого человека иначе, чем окрестила его Консуэло, ибо не находим настолько интересным, чтобы наводить о нем справки, – видел из своего убежища, как карета остановилась на крики беглецов. Другой безыменный, прозванный Консуэло Молчальником, сделал с холма те же наблюдения и бросился бежать к Мейеру; они вместе стали обсуждать, как спастись.
Прежде чем барон переправился через ручей, синьор Пистолет опередил его и успел притаиться в чаще леса. Он дал им проехать, а потом дважды выстрелил вслед: одним выстрелом он пробил шляпу барона, а другим слегка ранил лошадь слуги. Барон круто повернул коня, увидел стрелявшего, поскакал на него и пистолетным выстрелом свалил на землю; затем, предоставив раненому с проклятиями кататься среди колючек, сам последовал за Иосифом, подъехавшим к экипажу Мейера почти одновременно с графской каретой. Граф успел спрыгнуть на землю. Мейер и Молчальник исчезли вместе с лошадью, не тратя времени на то, чтобы укрыть в кустах экипаж. Прежде всего победители взломали замок у ящика, где находился узник. Консуэло рьяно принялась разрезать веревки и помогла вынуть кляп изо рта несчастного, а узник, почувствовав себя свободным, бросился в ноги своим избавителям и стал благодарить бога. Но едва успел он взглянуть на барона, как решил, что попал из огня да в полымя.
– Боже мой! Господин барон фон Тренк! – воскликнул он. – Не губите меня, не выдавайте! Сжальтесь, сжальтесь над несчастным дезертиром, над мужем и отцом! Ведь я такой же пруссак, как вы сами, господин барон, – ведь я, как и вы, австрийский подданный и умоляю вас, не арестовывайте меня. Ох, смилуйтесь надо мной!
– Простите его, господин барон фон Тренк! – воскликнула Консуэло, не зная, ни с кем она говорит, ни о чем идет речь.
– Я тебя милую, – отвечал барон, – с условием, что ты самой страшной клятвой поклянешься никогда не говорить, кому ты обязан своей жизнью и свободой.
С этими словами барон вынул из кармана носовой платок и закрыл им себе лицо, оставив открытым только один глаз.
– Вы ранены? – спросил граф.
– Нет, – ответил он, опуская пониже на лицо шляпу, – но попадись нам эти мнимые разбойники, мне не очень хотелось бы, чтобы они меня узнали. Я и так не на слишком хорошем счету у своего милостивого монарха. Этого только еще мне недоставало!
– Понимаю, – заметил граф, – но будьте покойны: я беру все на себя.
– Это может спасти дезертира от розог и виселицы, но не спасет меня от немилости. Да уж все равно, – почем знать, что может случиться; надо, рискуя всем, оказывать услуги ближнему. Ну-ка, братец, можешь держаться на ногах? Что-то не очень, как видно. Ты ранен?
– Правда, меня страшно били, но теперь я ничего не чувствую.
– Короче говоря, ты в силах удрать?
– О да, господин адъютант!
– Не называй меня так, чудак! Молчи и убирайся! Да и нам, любезный граф, не мешает сделать то же самое. Мне не терпится поскорее выбраться из этого леса. Я убил вербовщика, и дойди это только до короля, мне не поздоровится! Хотя в конце концов все это пустяки, – прибавил он, пожимая плечами.
– Увы! – сказала Консуэло, в то время как Иосиф протягивал свою фляжку дезертиру. – Если вы бросите его здесь, его сейчас же снова заберут. Ноги у него распухли от веревок, руками он с трудом владеет. Взгляните, какой он бледный и изнуренный.
– Мы его не бросим, – заявил граф, не сводивший глаз с Консуэло. – Спешьтесь, Франц, – приказал он своему слуге и, обращаясь к дезертиру, сказал: – Садись на эту лошадь, я ее дарю тебе; и вот еще в придачу, – прибавил он, бросая ему кошелек. – А хватит у тебя сил добраться до Австрии?
– Да, да, ваше сиятельство!
– Ты хочешь ехать в Вену?
– Да, ваше сиятельство!
– И снова поступить на службу?
– Да, ваше сиятельство, только не в Пруссии.
– Так отправляйся к ее королевскому величеству, – она всех принимает раз в неделю, – скажи ей, что граф Годиц шлет ей в подарок красавца гренадера, в совершенстве выдрессированного на прусский лад.
– Лечу, ваше сиятельство!
– Но смотри, не смей упоминать о господине бароне, а то велю своим людям схватить тебя и отправить обратно в Пруссию. Запомни!
– Лучше мне сейчас же умереть! Ох! Если бы негодяи не связали мне рук, я бы покончил с собой, когда они меня снова захватили!
– Проваливай!
– Слушаю, ваше сиятельство! Он дочиста опорожнил фляжку, возвратил ее Иосифу, поцеловал его, не подозревая, что обязан ему гораздо большим, и, бросившись в ноги графу и барону, стал благодарить их, но барон остановил его нетерпеливым жестом на полуслове; тогда он перекрестился, поцеловал землю и взобрался на лошадь с помощью слуг, так как еле мог шевелить ногами. Однако, очутившись в седле, он сразу приободрился, почувствовал прилив сил, пришпорил коня и умчался по дороге, ведущей на юг. – Если когда-нибудь обнаружится, что я не удержал вас от этого поступка, – сказал барон графу, – то моя песенка спета. А впрочем, все равно, – добавил он, заливаясь смехом. – Идея подарить Марии-Терезии фридриховского гренадера просто великолепна! Этот олух, пускавший пули в уланов императрицы, теперь будет пускать их в кадетов прусского короля! Нечего сказать, хороши верноподданные! Прекрасные войска!
– Государи от этого нимало не страдают, – проронил граф. – А что же нам делать с этими юнцами? – добавил он.
– Мы можем только повторить то, что сказал гренадер, – ответила Консуэло. – Если вы нас здесь покинете, мы пропали!
– Мне кажется, мы не давали вам до сих пор повода сомневаться в нашей гуманности, – проговорил граф, вкладывая в каждое слово какое-то рыцарское чванство. – Мы довезем вас до места, где вам нечего будет опасаться. Мой слуга, у которого я взял лошадь, сядет на козлы, – сказал он барону и, понизив голос, прибавил: – Разве вы не предпочитаете общество этих двух юнцов обществу слуги, которого нам пришлось бы взять в карету, что гораздо больше стеснило бы нас?
– Да, конечно, – ответил барон, – артисты, при всей своей бедности, везде желанные гости. Кто знает, не окажется ли вот этот самый музыкантик, нашедший в кустах свою скрипку и схвативший ее с такой радостью, будущим Тартини? Ну, трубадур, – сказал он Иосифу, только что с успехом подобравшему свою сумку, скрипку и рукопись, – едем с нами, и на первом же привале вы нам воспоете это славное сражение, где на поле битвы не было обнаружено ни единой души.
– Можете сколько угодно потешаться надо мной, ведь вам, а не мне выпала великая честь прикончить висельника, – промолвил граф, когда оба удобно расположились на заднем, а мальчики на переднем сиденье и карета быстро покатилась к Австрии.
– В том-то и дело, что я не уверен, убил ли я его наповал, и очень боюсь когда-нибудь встретить его у дверей кабинета Фридриха. Охотно уступил бы вам честь этого подвига.
– А я, хотя мне не удалось даже видеть противника, искренне завидую вам, – возразил граф. – Я уже начал было входить во вкус приключения и с радостью наказал бы негодяев по заслугам. Подумайте только! Хватать дезертиров и набирать рекрутов в самой Баварии, верной союзницы Марии-Терезии! Наглость просто неслыханная!
– Вот вам готовый повод для войны, не будь мы утомлены войнами и не живи в такое мирное время. Вы очень обяжете меня, граф, если не станете разглашать это приключение; дело не только в моем государе, – а он был бы крайне недоволен мной, узнай он о моей роли в этой истории, – но и в миссии, с какою я послан к вашей императрице. Она приняла бы меня очень недоброжелательно, явись я к ней после дерзкого поступка, совершенного моим правительством.
– Можете быть совершенно спокойны, – ответил граф, – вы знаете, что я не особенно ревностный подданный, ибо во мне нет честолюбия царедворца. – Да какие же еще честолюбивые чувства вы могли бы питать, дорогой граф? И любовь и богатство увенчали все ваши желания. А вот я… Ах! Как различна до сих пор наша судьба, несмотря на кажущееся с первого взгляда сходство!
Говоря это, барон вынул спрятанный на груди портрет, усыпанный бриллиантами, и стал нежно глядеть на него, тяжко вздыхая, что показалось несколько смешным Консуэло. Она нашла, что столь открытое проявление чувства отнюдь не является показателем хорошего тона, и в глубине души посмеялась над манерами царедворца.
– Дорогой барон, – проговорил граф, понижая голос (Консуэло сделала вид, будто ничего не слышит, и даже искренне старалась не слышать), – умоляю вас, не удостаивайте никого доверием, каким вы почтили меня, а главное – никому, кроме меня, не показывайте портрета. Вложите его обратно в футляр и не забывайте, что этот мальчик так же хорошо понимает французский язык, как и мы с вами.
– Кстати, – воскликнул барон, пряча портрет, на который Консуэло постаралась не бросить ни единого взгляда, – что собирались делать с этими мальчуганами наши вербовщики? Скажите, что они вам предлагали, уговаривая ехать с собой?
– Действительно, – сказал граф, – я как-то об этом не подумал, да и теперь не могу понять, что это им взбрело на ум: спрашивается, зачем понадобились дети людям, заинтересованным в том, чтобы набрать мужчин зрелого возраста и богатырского сложения?
Иосиф рассказал, что мнимый Мейер выдавал себя за музыканта и, не переставая, говорил о Дрездене и об ангажементе в капелле курфюрста.
– А! Теперь понимаю! – сказал барон. – Готов поручиться, что знаю этого Мейера. Это, должно быть, Н., бывший капельмейстер военного оркестра, а теперь вербовщик музыкантов в прусские полки. Наши соотечественники туповаты, они играют фальшиво и не попадают в такт; а у его величества слух потоньше, чем у его батюшки, покойного короля, и потому он вербует своих трубачей, флейтистов и горнистов в Богемии и в Венгрии. Милейший профессор какофонии вздумал сделать хороший подарок своему властелину – привезти ему, помимо дезертира, выловленного на вашей земле, еще двух смышленых музыкантиков. А соблазнять Дрезденом и придворными прелестями – было совсем неплохо придумано для начала. Но вам бы Дрездена и в глаза не видать, дети мои, и вы волей-неволей были бы зачислены до конца дней своих в оркестр какого-нибудь пехотного полка.
– Теперь я себе ясно представляю ожидавшую нас участь, – ответила Консуэло. – Я слыхал рассказы об ужасах этого военного строя, о жестоком похищении рекрутов, которых сманивают обманом. По тому, как обошлись эти негодяи с несчастным гренадером, я вижу, что рассказы эти нисколько не преувеличены. О! Вели кий Фридрих…
– Да будет вам известно, молодой человек, – проговорил барон с несколько иронической напыщенностью, – что его величеству неведомы способы действий, он знает только результаты их.
– И он пользуется ими, не заботясь об остальном, – в тон ему с неудержимым негодованием заметила Консуэло. – О! Я прекрасно знаю, господин барон, короли никогда не бывают виноваты, они не повинны ни в чем, что делается им в угоду!
– А плутишка не так глуп! – смеясь, воскликнул граф. – Но будьте осторожны, мой милый маленький барабанщик, и не забывайте, что говорите в присутствии старшего офицера полка, куда вы должны были, по-видимому, попасть.
– Я умею молчать, господин граф, и никогда не ставлю под сомнение скромность других.
– Слышите, барон. Он обещает вам молчать, а вы и не помышляли просить его об этом. Ну, право, прелестный мальчик!
– И я всем сердцем полагаюсь на него, – проговорил барон. – Граф, – продолжал он, – вам бы следовало завербовать его и предложить в пажи ее высочеству.
– Готов, если он согласен, – смеясь, сказал граф. – Хотите занять эту должность, гораздо более приятную, чем прусская служба? Да, дитя мое, тут не придется ни дуть в медные трубы, ни отбивать на барабане сбор, ни получать тумаки, ни есть хлеб из толченого кирпича, а только поддерживать шлейф и носить веер прелестнейшей дамы, жить в волшебном замке, принимать участие в играх и веселье и выступать в концертах, не уступающих концертам Фридриха. Что? Вас это не соблазняет? Уж не принимаете ли вы меня за второго Мейера?
– А кто же эта величественная и прелестная дама? – спросила, улыбаясь, Консуэло.
– Вдовствующая маркграфиня Байрейтская, княгиня Кульмбахская, а ныне моя прославленная супруга и владетельница замка Росвальд в Моравии, – ответил граф Годиц.
Много раз приходилось слышать Консуэло рассказы канониссы Венцеславы фон Рудольштадт о генеалогии, браках и всяких происшествиях в княжеских и аристократических родах, больших и малых, как Германии, так и соседних с нею государств. Некоторые из биографий поразили Консуэло, и среди них была биография графа Годица-Росвальда, богатейшего моравского вельможи. Изгнанный и отверженный отцом, разгневанным его распутством, граф-авантюрист был известен всем европейским дворам; наконец он стал обер-шталмейстером и любовником вдовствующей маркграфини Байрейтской, потом тайно обвенчался с ней и увез ее сначала в Вену, а затем в Моравию; здесь он унаследовал состояние отца, и его супруга оказалась обладательницей огромного богатства. Канонисса часто возвращалась к этой истории, находя ее весьма скандальной, ввиду того, что маркграфиня была владетельной принцессой, а граф – обыкновенным дворянином. Для нее это был повод обрушиться на неравные браки и на браки по любви. Консуэло, стремясь понять кастовые предрассудки дворянства и познакомиться с ними, извлекала пользу из этих рассказов и не забывала их. Когда граф Годиц впервые назвал себя, ей сразу показалось, что с его именем у нее связаны какие-то смутные воспоминания; теперь же перед нею ясно встали все обстоятельства жизни и романтического брака знаменитого авантюриста. Но о бароне фон Тренке ей никогда не приходилось слышать. Тогда только начиналась его нашумевшая опала, и ему не дано было предугадать свое ужасное будущее. Итак, она слушала рассказы графа, не без хвастовства рисовавшего картину своего богатства. Бывая при дворах, в маленьких и надменных герцогствах Германии, где над ним с презрением насмехались, Годиц не раз краснел, чувствуя, что на него смотрят как на бедняка, разбогатевшего благодаря жене. Унаследовав огромные имения, кичась царственной роскошью своего моравского графства, он отныне считал честь свою восстановленной и любил подчеркивать свои новые преимущества на зависть мелким властителям, более бедным, чем он. Полный внимания и нежнейшей заботливости к маркграфине, он, однако, не считал необходимой безупречную верность по отношению к супруге, которая была гораздо старше его. А принцесса – потому ли, что она отличалась устойчивостью взглядов и утонченным тактом, свойственным ее эпохе и заставлявшем закрывать глаза на многое, или потому, что считала исключенным, чтобы возвеличенный ею супруг мог когда-либо заметить увядание ее красоты, – не препятствовала его похождениям. Проехав несколько миль, путники сделали привал в местечке, где заранее все было приготовлено для приема знатных гостей. Консуэло и Иосиф, выйдя из кареты, хотели здесь проститься со своими избавителями, но те воспротивились, ссылаясь на возможность новых посягательств на них со стороны снующих в этой местности вербовщиков. – Вы не знаете, – сказал им Тренк (и он нисколько не преувеличивал), – до чего ловко и страшно это отродье. В какое бы место просвещенной Европы вы ни попали, если вы бедны и беззащитны, если вы физически сильны или у вас есть какие-нибудь дарования, – вы рискуете попасть в лапы этих плутов и насильников. Им известны все переходы через границу, все горные тропинки, все проселочные дороги, все подозрительные притоны, все мерзавцы, на поддержку и помощь которых они могут рассчитывать в случае надобности. Они знают все языки, все наречия, так как всюду побывали и перепробовали все профессии. Они бесподобно правят лошадьми, бегают, плавают, перепрыгивают через пропасти, как истые бандиты. Они почти все поголовно смельчаки, не знают усталости, ловки, бесстыжи, мстительны, изворотливы и жестоки. Это изверги рода человеческого; вот из таких-то подонков военная организация покойного короля Вильгельма Толстого и набрала самых ценных агентов своего могущества, лучших столпов дисциплины. Они настигнут дезертира в дебрях Сибири, отправятся разыскивать его под пулями вражеских войск – исключительно ради удовольствия доставить его обратно в Пруссию, чтобы там его повесили в назидание остальным. Они вытащили из алтаря священника, служившего обедню, только потому, что он был ростом в пять футов и десять дюймов; выкрали врача у супруги великого курфюрста; неоднократно приводили в ярость старого маркграфа Байрейтского, угоняя его полк, состоящий из двадцати – тридцати человек, причем он не дерзал даже открыто высказать свое возмущение; они обратили в пожизненного солдата французского дворянина, ехавшего куда-то под Страсбург на свидание с женой и детьми; хватали подданных царицы Елизаветы, уланов маршала Саксонского, пандуров Марии-Терезии, венгерских магнатов, польских вельмож, итальянских певцов и, наконец, женщин всех национальностей – этих новых сабинянок, которых они насильно выдавали замуж за солдат. Они берут все, что попадется; помимо щедрого вознаграждения и путевых издержек, они получают известную премию с каждой головы, да нет, что я говорю, – с каждого дюйма.
– Да, – проговорила Консуэло, – они поставляют человеческое мясо по столько-то за унцию! Ах, ваш великий король – настоящее чудовище! Но будьте покойны, господин барон, можете говорить свободно: вы совершили огромное благодеяние, освободив бедного дезертира, и я предпочел бы вынести пытки, предназначенные ему, чем вымолвить слово, могущее вам повредить.
Тренк, человек по натуре горячий, не признавал осторожности, к тому же он был так озлоблен непонятной для него суровостью и несправедливостью Фридриха, что ему доставляло горькое удовольствие разоблачать перед графом Годицем беззакония того самого государственного строя, свидетелем и соучастником злодеяний которого он был сам в дни своего благоденствия, когда взгляды его были не столь справедливы и строги. Теперь же, хоть он и получил, несмотря на тайные преследования, важное поручение к Марии-Терезии, очевидно благодаря доверию короля, барон начинал ненавидеть своего повелителя и слишком откровенно выказывал свои чувства. Он обрисовал графу страдания, рабство и отчаяние многочисленной прусской армии, очень ценной во время войны, но настолько опасней в мирное время, что пришлось для обуздания ее прибегнуть к системе беспримерного террора и жестокости. Рассказал и об эпидемии самоубийств, свирепствующей в армии, и о преступлениях, совершаемых солдатами, даже честными и набожными, с единственной целью добиться смертного приговора и избавиться таким путем от ужасов жизни, на которую их обрекли.
– Поверите ли, – говорил он, – солдаты страстно стремятся попасть в ряды «поднадзорных». Надо вам сказать, что «поднадзорные» пополняются за счет рекрутов-иностранцев (главным образом похищенных), а также за счет прусской молодежи. В начале своей военной карьеры, кончающейся для них только вместе с жизнью, все они, особенно в первые годы, предаются безмерному отчаянию. Их разбивают на ряды и, как в мирное, так и в военное время, заставляют маршировать впереди ряда людей более покорных – или более решительных, – получивших приказ стрелять в каждого идущего перед ним при малейшей попытке к бегству или неповиновению. Если же ряд, которому поручена эта экзекуция, не выполнит ее, то следующий за ним ряд, составленный из людей еще более бесчувственных и более жестоких (а такие встречаются среди старых, очерствелых солдат и добровольцев, почти поголовных негодяев), обязан стрелять в оба передних, и так далее, в случае если и третий оплошает при выполнении экзекуции. Таким образом, каждый ряд солдат имеет во время сражения врага перед собой и врага позади себя, но близких – товарищей или братьев по оружию – нет ни у кого. Повсюду насилие, смерть и ужас. Только таким образом, говорит великий Фридрих, создаются непобедимые солдаты. Так вот в этих именно рядах и домогается юный прусский солдат желанного места, а добившись его и потеряв всякую надежду на спасение, он бросает оружие и бежит, чтобы навлечь на себя пули своих товарищей. Этот отчаянный порыв спасает некоторых; им порой ценою риска и невероятных опасностей удается бежать, а иногда и перейти к врагу. Король прекрасно знает, с каким ужасом относятся в армии к его железному ярму. И вам, быть может, известна острота, которую он сказал своему племяннику, герцогу Брауншвейгскому, присутствовавшему на одном из его больших смотров и не перестававшему восхищаться прекрасней выправкой солдат и вообще чудесными маневрами.
«Вас удивляет, – обратился к нему Фридрих, – такое сборище красавцев и полное их единодушие, а меня несравненно больше удивляет нечто другое».
«Что же?» – спросил молодой герцог. «Да то, что нам с вами не грозит среди них опасность», – ответил король.
– Барон, дорогой барон! – возразил граф Годиц. – Это оборотная сторона медали. Чудес люди не творят. Мог ли Фридрих быть величайшим полководцем своего времени, отличайся он голубиной кротостью?.. Знаете что? Не говорите больше о нем. А то, пожалуй, вы вынудите меня, естественного врага Фридриха, защищать короля против вас, его адъютанта и любимца!
– По тому, как он обращается со своими любимцами, когда на него найдет каприз, можно судить о том, как он относится к рабам. Но вы правы: не будем больше говорить о нем, а то у меня является дьявольское желание вернуться в лес и собственными руками передушить его усердных поставщиков человеческого мяса, которых я пощадил из-за глупого и трусливого благоразумия!
Великодушная горячность барона пришлась по сердцу Консуэло. Она с интересом слушала его живые рассказы о прусской военной жизни, но не знала, что в смелом негодовании барона есть доля личного недовольства, тогда как ей он казался человеком исключительно благородным. Правда, в душе Тренка было несомненное благородство. Гордый молодой красавец не был рожден для низкопоклонства. Он очень отличался от своего новоприобретенного в дороге друга, надменного богача Годица. Граф, приводивший ребенком в ужас и отчаяние своих воспитателей, был наконец предоставлен самому себе, и хотя теперь он уже вышел из возраста буйных шалостей, все же в его манерах и разговорах осталось много мальчишеского; и это противоречило его геркулесовой фигуре и красивому лицу, немного поблекшему за сорок лет постоянной невоздержанности и переутомления. Поверхностные знания, которыми он от времени до времени любил прихвастнуть, были почерпнуты им исключительно из романов, из модной философии и из посещения театров. Он воображал себя артистом, но и в этом, как во всем, ему не хватало тонкости и глубины. Однако его барская осанка, утонченная любезность и веселые остроты пленили юного Гайдна, и он нравился ему гораздо больше, чем барон, быть может еще потому, что к последнему с явным интересом относилась Консуэло.
Барон, напротив, получил хорошее образование. Хотя блеск придворной жизни и эгоизм кипучей молодости настолько увлекали его порой, что он забывал об истинной ценности человеческого величия, в глубине души его сохранились независимость чувств и твердость принципов, выработанных серьезным чтением и хорошим воспитанием. Его гордый характер мог измениться под влиянием лести и угодничества, но достаточно было малейшей несправедливости, чтобы он вспылил и вышел из себя. Красавец паж Фридриха омочил губы в кубке с ядом, но любовь – любовь безграничная, смелая, экзальтированная – вновь воскресила в нем отвагу и твердость. Пораженный в самое сердце, он поднял голову, бросая вызов тирану, желавшему поставить его на колени.
В то время, о котором мы повествуем, ему было на вид не больше двадцати лет. Целый лес каштановых волос, которыми он не хотел жертвовать ради дисциплинарных установлении Фридриха, осенял его высокий лоб. Великолепно сложенный, с искрящимися глазами, черными, как смоль, усиками и белыми, как алебастр, но сильными, как у атлета, руками, он обладал голосом не менее свежим и мужественным, чем его лицо, мысли и любовные упования. Консуэло все думала о таинственной любви, о которой он непрестанно упоминал, но это чувство уже не казалось ей смешным с той минуты, как девушка подметила, что порывы откровенности сменялись у барона внезапной сдержанностью, что указывало на врожденную непосредственность и вполне понятное недоверие, порождавшее постоянную внутреннюю борьбу с самим собой и с судьбой. Консуэло помимо воли то и дело задумывалась над тем, кто же дама сердца юного красавца, и ловила себя на мысли, что самым искренним образом желает успеха этим двум романтическим возлюбленным. День показался ей не столь длинным, как она ожидала, боясь тягостного пребывания с глазу на глаз с двумя незнакомцами из чуждого ей круга. В Венеции она получила представление о вежливости, а в замке Ризенбург приобрела привычку к ней, равно как и к мягким манерам и изысканным речам, являвшимся приятной особенностью того общества, которое в те времена принято было называть избранным. С присущей ей сдержанностью она не вступала в разговор, пока к ней не обратятся, и спокойно обдумывала на свободе все, о чем ей приходилось слышать. Ни барон, ни граф, по-видимому, не заметили, что она переодета. Барон не обращал никакого внимания ни на нее, ни на Иосифа: если он и бросал им несколько слов, то делал это между прочим, продолжая начатый разговор с графом; но вскоре, увлекшись, он забывал даже и о нем, беседуя, казалось, с собственными мыслями, как человек, чей ум питается собственным внутренним огнем. Что же касается графа, то он был либо важен, как монарх, либо резв, как французская маркиза. Он вынимал из кармана тонкие таблички из слоновой кости и что-то заносил на них с сосредоточенным видом мыслителя или дипломата, затем, напевая, перечитывал, и Консуэло видела, что это французские слащаво-любовные стишки. Порой он декламировал их барону, а тот, не слушая, находил их чудесными. Иногда граф самым добродушным образом совещался с Консуэло, спрашивая ее с деланной скромностью:
– Как вы находите стихи, юный мой друг? Ведь вы понимаете по-французски, не правда ли?
Консуэло надоела притворная снисходительность Годица, по-видимому желавшего ее поразить; она не удержалась и указала ему на две-три ошибки в его четверостишии «К красоте». Мать научила Консуэло красивым оборотам в иностранных языках, на которых сама пела с легкостью и даже некоторым изяществом. Консуэло, любознательная и музыкальная, а потому во всем искавшая гармонию, меру и ясность, впоследствии глубже усвоила из книг правила различных языков. Упражняясь в переводе лирических стихов и приноравливая иностранные слова к народным песням, она обращала особенное внимание на ударения, чтобы ориентироваться в произношении и ритме. Таким путем ей удалось хорошо изучить стихосложение нескольких языков, а потому не стоило большого труда указать моравскому поэту на его погрешности.
Восхищенный познаниями Консуэло, но не в силах усомниться в своих собственных, Годиц обратился за третейским судом к барону, и тот оказался настолько компетентным в этом вопросе, что согласился с мнением маленького музыканта. С этой минуты граф занялся исключительно Консуэло, не подозревая, по-видимому, ни ее настоящего возраста, ни пола. Он только спросил, где он получил образование, что так хорошо усвоил законы Парнаса.
– В одной бесплатной певческой школе в Венеции, – лаконично ответила Консуэло.
– По-видимому, учение в этой стране поставлено лучше, чем в Германии.
А где учился ваш товарищ?
– При венском соборе, – ответил Иосиф.
– Дети мои, – продолжал граф, – вы оба кажетесь мне и умными и способными. На первой же нашей остановке я вас проэкзаменую по музыке, и если оправдается то, что обещают ваши лица и манеры, я приглашаю вас в свой оркестр или театр в Росвальде. Серьезно, я хочу представить вас маркграфине. Что вы на это скажете? А? Это было бы большим счастьем для вас, мальчики.
Консуэло едва сдержала смех, услышав, что граф собирается экзаменовать по музыке ее и Гайдна. Она лишь почтительно поклонилась, делая неимоверные усилия, чтобы не расхохотаться. Иосиф же, чувствуя все выгоды нового покровительства, поблагодарил и не отказался. Граф снова взялся за свои таблички и прочел Консуэло половину маленького, удивительно скверного и плохого по стилю либретто итальянской оперы, которое он сам собирался положить на музыку и поставить в день именин жены на собственном театре, с собственными актерами, в собственном замке, вернее – в собственной «резиденции», ибо, считая себя благодаря браку с маркграфиней принцем, он иначе не выражался.
Консуэло время от времени подталкивала Иосифа локтем, желая обратить его внимание на промахи графа. Умирая от скуки, она говорила себе, что если знаменитая красавица наследственного маркграфства Байрейтского с уделом Кульмбах дала увлечь себя подобными мадригалами, то, невзирая на свои титулы, любовные похождения и годы, она, должно быть, особа крайне легкомысленная.
Читая и декламируя, граф ел конфеты, чтобы смягчить горло, и то и дело угощал ими своих юных спутников, а те, не имея со вчерашнего дня во рту ни маковой росинки и умирая от голода, уписывали, за неимением лучшего, эту пищу, способную скорее обмануть голод, чем удовлетворить его. Каждый из них думал про себя, что и конфеты и стихи графа довольно безвкусны.
Наконец, уже под вечер, на горизонте показались крепостные стены и шпили того самого Пассау, куда, как Консуэло думала еще этим утром, ей никогда не добраться. После пережитых опасностей и ужасов она почти так же обрадовалась этому городу, как в другое время обрадовалась бы Венеции. Когда они переправлялись через Дунай, она не удержалась и радостно пожала руку Иосифу.
– Это ваш брат? – спросил граф; до сих пор ему не приходило в голову задать этот вопрос.
– Да, ваше сиятельство, – наобум ответила Консуэло, чтобы отделаться от расспросов любознательного графа.
– Однако вы совсем не похожи друг на друга, – сказал граф.
– А сколько детей не похожи на своих отцов! – весело заметил Иосиф.
– Значит, вы не вместе воспитывались?
– Нет, ваше сиятельство. При нашем кочевом образе жизни воспитываешься где и как придется.
– Не знаю почему, но мне кажется, – проговорил граф, понижая голос, что вы хорошего происхождения. Все в вас самих и в вашем разговоре отличается прирожденным благородством.
– Я совсем не знаю, какого я происхождения, ваше сиятельство, – ответила, смеясь, Консуэло, – должно быть, мои предки были музыкантами, потому что я больше всего на свете люблю музыку.
– Отчего вы одеты моравским крестьянином?
– Да потому что в пути платье мое износилось, и я купил на ярмарке то, что вы на мне видите.
– Так вы были в Моравии? Пожалуй, еще и в Росвальде?
– Да, ваше сиятельство, был в его окрестностях, – шаловливо отвечала Консуэло, – я издали видел, не дерзнув приблизиться, ваше роскошное поместье, ваши статуи, ваши каскады, ваши сады, ваши горы и еще бог весть что! Настоящие чудеса, волшебный дворец!
– Вы все это видели? – воскликнул граф, удивившись, что не знал этого раньше, и не догадываясь, что Консуэло, прослушав целых два часа подряд описание прелестей его резиденции, могла со спокойной совестью повторить вслед за ним все слышанное. – О! В таком случае вы должны жаждать вернуться туда, – сказал он.
– Просто горю нетерпением – особенно теперь, после того как я имел счастье узнать вас, – ответила Консуэло, положительно ощущавшая потребность поиздеваться над графом, чтобы отомстить ему за чтение либретто. Тут она легко выпрыгнула из лодки, на которой они только что переправились через реку, и воскликнула с утрированным немецким акцентом:
– О Пассау! Приветствую тебя! Карета подвезла их к дому богатого вельможи, друга графа. Он сам находился в отсутствии, но все было приготовлено для временного пребывания графа. Их ждали, и слуги хлопотали с ужином, который вскоре был подан. Граф, находивший особенное удовольствие в разговорах со своим маленьким музыкантом (так он называл Консуэло), охотно посадил бы его за свой стол, но осуществить это желание помешала ему мысль, что это может не понравиться барону. Консуэло же и Иосиф были очень рады поесть в людской и без всяких возражений уселись за стол со слугами. Гайдну вообще еще не приходилось пользоваться большим почетом у вельмож, допускавших его на свои пиршества. И хотя искусство и сделало его настолько утонченным, что он прекрасно понимал, сколь обидно такого рода обращение, он без ложного стыда всегда помнил, что его мать когда-то была кухаркой у владельца их деревни. И позднее, когда Гайдн достиг расцвета своего таланта, он как человек не пользовался большим вниманием у своих покровителей, хотя уже в то время вся Европа высоко ценила его как артиста. Он прослужил двадцать пять лет у князя Эстергази; и говоря «прослужил», мы не имеем в виду, что это была только служба музыканта. Паэр видел его с салфеткой под мышкой и при шпаге: он стоял, согласно обычаю того времени и той страны, за стулом своего хозяина и исполнял обязанности метрдотеля, то есть старшего лакея.
Консуэло с самого детства, когда она бродяжничала с матерью-цыганкой, не приходилось есть со слугами. Ее очень забавляла важность этих лакеев знатного дома: чувствуя себя униженными обществом двух маленьких фигляров, они посадили их отдельно, на конце стола, и уделяли им самые плохие куски. Но благодаря голоду и прирожденной умеренности в пище наши юнцы нашли все превосходным. Когда же их веселость обезоружила надменные души дворни, их попросили поиграть за десертом для увеселения «господ лакеев». Иосиф отплатил им за презрение, с большой готовностью сыграв для них на скрипке, а Консуэло, почти успевшая забыть утренние волнения и муки, начала было петь, как вдруг их вызвали к графу и барону, которые сами решили поразвлечься музыкой.
Отказать не было никакой возможности. После помощи, которую оказали им вельможи, Консуэло сочла бы всякую отговорку неблагодарностью; да к тому же отказываться петь под предлогом усталости или хрипоты было бы совсем не легкой уверткой, ибо хозяева только что слышали ее пение, доносившееся из людской.
Она пошла вслед за Иосифом, готовым одинаково оптимистически относиться ко всем перипетиям их странствования. Войдя в роскошный зал, где оба вельможи, облокотясь на стол, залитый светом двадцати свечей, допивали последнюю бутылку венгерского, Кенсуэло и Иосиф остановились, как полагалось бродячим музыкантам, у дверей и приготовились исполнить маленькие итальянские дуэты, разученные в горах.
– Внимание! Прежде чем начать, – лукаво сказала Консуэло Иосифу, – помни, что господин граф собирается экзаменовать нас с тобой по музыке. Постараемся же не провалиться!
Граф был очень польщен этим замечанием. Барон положил на перевернутую тарелку портрет своей таинственной Дульцинеи и, по-видимому, совсем не был расположен слушать пение.
Консуэло старалась не обнаруживать ни своего голоса, ни своего умения петь. Ее мнимый пол не допускал бархатистости звука, а в том возрасте, какой придавал ей мальчишеский костюм, она не могла иметь законченного музыкального образования. Консуэло пела детским тембром, несколько резким и как бы преждевременно разбитым благодаря злоупотреблению пением на открытом воздухе. Она находила забавным подражать наивному, неумелому пению и смелым коротким фиоритурам уличных мальчишек Венеции. Но как ни чудесно разыгрывала она эту музыкальную пародию, в ее шутливой игривости было столько прирожденного вкуса, дуэт был пропет с таким огнем, так дружно, сама народная песня была так свежа и оригинальна, что барон, прекрасный музыкант и врожденный артист, положил на место портрет, поднял голову, стал взволнованно ерзать на стуле и наконец громко захлопал, воскликнув, что никогда в жизни не слыхивал такой настоящей, прочувствованной музыки. Графу же Годицу, воспитанному на произведениях Фукса, Рамо и других классических авторов, гораздо меньше понравились и самый жанр и исполнение. Он нашел, что барон – северный варвар, и оба покровительствуемые им мальчика, правда, довольно смышленые ученики, но ему придется вытягивать их при помощи своих уроков из мрака невежества. У него была мания самому обучать своих артистов, и он проговорил поучительным тоном, качая головой:
– Недурно, но придется много переучивать. Ничего!
Не беда! Все это мы исправим!
Граф уже воображал, что Консуэло и Иосиф его собственность и входят в состав его капеллы. Он попросил Гайдна поиграть на скрипке, и так как тому не было никакого основания скрывать своих дарований, юноша чудесно исполнил небольшую, но удивительно талантливую вещь собственного сочинения. На этот раз граф остался вполне доволен.
– Ну, тебе место уже обеспечено, – сказал он, – будешь у меня первой скрипкой; ты мне вполне подходишь. Но ты будешь также заниматься на виоле-д\'амур, это мой любимый инструмент, я выучу тебя играть на Нем. – Господин барон тоже доволен моим товарищем? – спросила Консуэло Тренка, снова впавшего в задумчивость.
– Настолько доволен, – ответил барон, – что если когда-нибудь мне придется жить в Вене, я не пожелаю иметь иного учителя, кроме него.
– Я буду учить вас на виоле-д\'амур, – предложил граф, – не откажите мне в предпочтении.
– Я предпочитаю скрипку и этого учителя, – ответил барон, проявлявший, несмотря на озабоченное состояние духа, бесподобную откровенность. Он взял скрипку и сыграл с большой чистотой и выразительностью несколько пассажей из только что исполненной Иосифом пьесы. Отдавая скрипку, он сказал юноше с неподдельной скромностью:
– Мне хотелось показать, что я гожусь вам только в ученики и могу учиться прилежно и со вниманием.
Консуэло попросила его сыграть еще что-нибудь, и он выполнил ее просьбу без всякого жеманства. У него были и талант, и вкус, и понимание. Голиц рассыпался в преувеличенных похвалах самой вещи.
– Она не очень хороша, – ответил Тренк, – ибо это мое сочинение. Но все-таки я люблю ее, так как она понравилась принцессе.
Граф скорчил гримасу, как бы желая сказать, что барон должен взвешивать свои слова. Но Тренк не обратил на это никакого внимания и, глубоко задумавшись, в течение нескольких минут продолжал водить смычком по струнам, потом, бросив скрипку на стол, встал и зашагал по комнате, потирая рукою лоб. Наконец он подошел к Годицу и сказал:
– Желаю вам доброй ночи, дорогой граф. Я должен уехать отсюда до зари, заказанная карета приедет за мной в три часа. Раз вы думаете провести здесь все утро, мы, по всей вероятности, увидимся только в Вене. Счастлив буду снова встретиться с вами и еще раз поблагодарить вас за приятное путешествие, которое мы проделали вместе. Всем сердцем предан вам на всю жизнь.
Они несколько раз пожали друг другу руки; выходя из комнаты, барон подошел к Иосифу и, давая ему несколько золотых, проговорил:
– Это аванс за уроки, которые я попрошу вас давать мне в Вене. Вы найдете меня в прусском посольстве.
Кивнув затем на прощанье Консуэло, он сказал:
– А тебя, если когда-нибудь повстречаю барабанщиком или трубачом в своем полку, возьму с собой, и мы вместе сбежим, слышишь?
И, еще раз поклонившись графу, он вышел.
Глава 73
Как только граф Годиц остался наедине со своими музыкантами, он почувствовал себя свободнее и стал очень разговорчив. Самой большой его страстью было корчить из себя регента и разыгрывать роль импресарио; итак, он пожелал немедленно заняться образованием Консуэло.
– Иди сюда и садись, – сказал он ей. – Мы здесь одни, а слушать внимательно нельзя, когда люди находятся друг от друга бог весть на каком расстоянии. Садитесь и вы, – обратился он к Иосифу, – и извлекайте пользу из урока.
– Ты не умеешь вывести ни одной трели, – продолжал он, снова обращаясь к знаменитой оперной певице. – Слушайте оба хорошенько, вот как это делается.
И он пропел простейшую фразу, прибавив к ней самым вульгарным образом несколько фиоритур.
Консуэло, забавляясь, повторила фразу, нарочно сделав трель не так, как он показал.
– Не то! – закричал граф громовым голосом, ударяя кулаком по столу. Вы не слушаете!
Он снова повторил фразу, а Консуэло с самым серьезным видом еще более причудливо и безнадежно плохо оборвала фиоритуру, притворяясь, будто старается изо всех сил. Иосиф задыхался от судорожного смеха и нарочно кашлял, чтобы скрыть это.
– Ла-ла-ла-трала-тра-ла, – пел граф, передразнивая своего неумелого ученика и подпрыгивая на стуле, как если бы он испытывал величайший гнев, хотя на самом деле был далек от этого, но считал гнев необходимым признаком вдохновенного учителя с сильным характером. Консуэло потешалась над ним с добрых четверть часа, а затем, поиздевавшись вволю, вдруг проделала трель со всею чистотой, на какую только была способна.
– Браво! Брависсимо! – воскликнул граф, в восторге откидываясь на спинку стула. – Наконец-то! Чудесно! Я знал, что заставлю вас это проделать. Дайте мне первого попавшегося мужика, и я в один день поставлю ему голос и научу его так, как другим, пожалуй, не удастся и за целый год! Ну, повтори эту фразу и отчетливо пропой все ноты, но легко, будто не касаясь их… А вот это еще лучше! Превосходно! Да, мы из тебя сделаем толк!
И граф отер себе лоб, хотя на нем не было ни единой капельки пота.
– А теперь, – проговорил он, – перейдем к трели с каденцией на одном дыхании. – И он показал, как исполнять ее, причем его исполнение отличалось той шаблонной легкостью, какую приобретают заурядные хористы, подражая солистам, чьей техникой они восторгаются, и воображая себя не менее искусными певцами.
Консуэло еще раз потешила себя, постаравшись вызвать вспышку напускного гнева, – любимый прием графа, когда он садился на своего конька; закончила она такой совершенной и длительной каденцией, что Годиц невольно закричал:
– Довольно! Довольно! Наконец-то ты понял! Я был уверен, что открою тебе, в чем тут секрет. Ну, теперь займемся руладой. Ты усваиваешь все с удивительной легкостью, хотел бы я всегда иметь таких учеников. Консуэло, которую уже начали одолевать сон и усталость, сократила урок. Она покорно проделала все рулады, какие приказывал педагог-магнат, хотя они и были весьма плохого вкуса, и даже запела своим естественным голосом, не боясь больше выдать себя, раз граф был склонен все приписывать себе, не исключая блеска и божественной чистоты ее голоса.
– Насколько все становится яснее по мере того, как я показываю, каким образом должно открывать рот и подавать звук! – с торжеством воскликнул граф, обращаясь к Иосифу. – Ясность в преподавании, настойчивость и пример – вот три условия, следуя которым можно очень быстро сделать из человека певца и декламатора. Завтра мы опять займемся, так как нам надо пройти десять уроков, после чего вы научитесь петь. Придется проделать целый ряд сложных упражнений. А теперь ступайте отдыхать, я велел приготовить для вас комнаты во дворце. Пробуду я здесь по делам до полудня. После завтрака вы поедете со мной в Вену. Отныне считайте себя как бы на службе у меня. Для начала, Иосиф, пойдите и скажите моему камердинеру, чтобы он пришел посветить мне до моей комнаты. А ты, – обратился он к Консуэло, – останься и повтори последнюю руладу. Я не вполне доволен ею. Не успел Иосиф выйти, как граф, взяв обе руки Консуэло в свои и очень выразительно глядя на нее, попытался привлечь ее к себе. Остановившись на прерванной руладе, Консуэло посмотрела на графа с большим удивлением, решив, что он хочет заставить ее отбивать такт, но, заметив его возбужденный взгляд и распутную улыбку, она резким движением вырвала руки и отодвинулась к концу стола.
– Вот как! Вы желаете разыгрывать неприступность! – сказал граф, возвращаясь к своему беспечно важному тону. – Так значит, милочка, у нас имеется маленький возлюбленный?! Бедняга очень неказист, и я надеюсь, что с сегодняшнего дня вы откажетесь от него. Судьба ваша будет обеспечена, если вы не станете колебаться, ибо я не люблю проволочек. Вы прелестная девчурка, умная, кроткая и очень мне нравитесь; я с первого взгляда увидел, что вы не созданы для того, чтобы шататься по дорогам с этим плутишкой. О нем я позабочусь. Отправлю в Росвальд и устрою его судьбу. А вы останетесь в Вене; я поселю вас в прелестной квартирке, и если вы будете благоразумны и скромны, то даже введу вас в светское общество. Научившись музыке, вы станете примадонной моего театра, и когда я свезу вас в свою резиденцию, вы снова увидитесь со своим случайно встреченным дружком. Ну, так решено?
– Да, господин граф, – ответила очень серьезным тоном, отвешивая глубокий поклон, Консуэло, – конечно, решено!
В эту минуту Иосиф вернулся с камердинером, несшим два канделябра, и граф вышел, слегка потрепав по щеке Иосифа и многозначительно улыбнувшись Консуэло.
– Вот уж подлинный чудак! – сказал Иосиф своей спутнице, как только остался с ней наедине.
– Даже более чем подлинный, – задумчиво отозвалась Консуэло.
– Но все это не так важно, – продолжал Иосиф, – а человек он – самый прекрасный в мире и в Вене будет мне очень полезен.
– Да, в Вене, пожалуй, сколько тебе будет угодно, но в Пассау этому не бывать, предупреждаю тебя. Где наши вещи, Иосиф?
– На кухне. Сейчас схожу за ними и снесу в наши комнаты; говорят, они прелестны. Наконец-то мы выспимся!
– Простак ты, Иосиф, как я погляжу, – проговорила Консуэло, пожимая плечами. – Ну, – прибавила она, – живо отправляйся за вещами и простись со своей красивой комнатой и хорошей кроватью, где ты собирался так славно выспаться. Мы сейчас же уходим из этого дома, слышишь? Торопись, а то, вероятно, скоро запрут двери.
Иосифу все это показалось сном.
– Вот тебе и раз! – воскликнул он. – Неужели эти знатные вельможи тоже вербовщики? «– Графа я еще больше боюсь, чем Мейера, – с раздражением ответила Консуэло. – Ну, беги без колебаний, а то я брошу тебя и уйду одна.
В тоне и выражении лица Консуэло было столько решимости и энергии, что растерянный, взволнованный Гайдн немедленно повиновался. Через три минуты он вернулся с дорожной сумкой, где были его тетради и пожитки, а еще через столько же они, выйдя никем не замеченные из дворца, добрались уже до предместья.
Здесь они вошли на какой-то жалкий постоялый двор и сняли две маленькие комнатки, уплатив за них вперед, чтоб иметь возможность без всякой задержки уйти когда им вздумается.
– Но все-таки не скажете ли вы мне причину этой новой тревоги? – спросил Гайдн Консуэло, пожелав ей покойной ночи на пороге ее комнаты.
– Спи спокойно, – ответила она, – скажу тебе в двух словах, что теперь нам особенно бояться нечего. Господин граф, бросив свой орлиный взгляд, догадался, что я женщина, и оказал мне честь, сделав признание, удивительно польстившее моему самолюбию. Доброй ночи, друг Беппо. Удираем мы до света. Я постучу в дверь и разбужу тебя.
На другой день восходящее солнце озарило наших юных путешественников, когда они плыли уже вниз по быстротечному Дунаю, охваченные такой чистой радостью и с сердцем таким покойным, как воды красавицы реки. Их за плату взял на свое суденышко старый лодочник, везший товары в Линц. Славный старик очень пришелся им по душе и не мешал их разговору. Он не понимал ни слова по-итальянски, а так как его лодка была порядком нагружена, то он не взял других пассажиров; наконец они почувствовали себя в безопасности и отдыхали телом и душой, в чем очень нуждались. Погода была великолепная, и они наслаждались чудесными видами, ежеминутно мелькавшими перед их глазами. На лодке имелся маленький, очень чистенький трюм, куда Консуэло могла спускаться, чтобы дать отдохнуть глазам от сверкания водной глади. Но за последние дни она так привыкла быть под открытым небом и на солнцепеке, что предпочитала проводить почти все время лежа на тюках, глядя на скалы и деревья, словно убегавшие от нее. На досуге она музицировала с Гайдном, а забавное воспоминание о меломане Годице, которого Иосиф называл «маэстроманом», вносило много веселья в их наивную болтовню. Иосиф чудесно копировал графа и со злорадством думал о его разочаровании. Их смех и песни веселили и очаровывали старого лодочника, который, как всякий добрый немецкий бедняк, страстно любил музыку. Он тоже пел им свои песни, от которых словно веяло рекой, и Консуэло переняла от него напевы и слова. Окончательно же они завоевали сердце старика, угостив его вдосталь на первой же пристани, где они закупили съестных припасов на целый день. Этот день был самым мирным и самым приятным из всех дней их путешествия.
– Что за прелесть барон фон Тренк! – воскликнул Иосиф, разменивая один из блестящих золотых, полученных от вельможи. – Ему я обязан тем, что, наконец, в состоянии избавить божественную Порпорину от усталости, голода, опасностей – словом, от всех зол, которые влечет за собою нищета. А ведь мне сперва не понравился этот благородный, доброжелательный барон!
– Да, – сказала Консуэло, – вы предпочитали ему графа. Теперь я так счастлива, что этот меломан ограничился одними посулами и не загрязнил наших рук своими благодеяниями.
– В конце концов ведь мы ровно ничем ему не обязаны, – продолжал Иосиф. – Кому пришла мысль сразиться с вербовщиками и кто решился на это? Барон. Графу было совершенно безразлично, а пошел он на это только из любезности к барону и из-за хорошего тона. Кто рисковал жизнью и кому пуля пробила шляпу у самого черепа? Опять-таки барону. Кто ранил, а быть может, и уложил на месте гнусного синьора Пистолета? Барон. Кто спас дезертира, быть может в ущерб себе и даже подвергая себя гневу своего страшного повелителя? Наконец, кто отнесся к вам с уважением и сделал вид, что не догадывается о том, что вы женщина? Кто постиг красоту ваших итальянских арий и прелесть вашей манеры петь?
– А также талант маэстро Иосифа Гайдна! – прибавила, улыбаясь, Консуэло. – Барон! Все тот же барон!
– Конечно! – продолжал Гайдн, желая отплатить девушке за ее лукавый намек. – И, быть может, к большому счастью отсутствующего благородного и любимого существа, о котором шла речь, объяснение в любви божественная Порпорина выслушала из уст нелепого графа, а не храброго, обворожительного барона!
– Беппо! – ответила с грустной улыбкой Консуэло. – Отсутствующие приобретают изъян только в глазах людей с неблагодарным, низким сердцем. Вот почему великодушному, искреннему барону, влюбленному в таинственную красавицу, не могло прийти в голову за мной ухаживать. Спросите самого себя: пожертвовали бы вы так легко любовью к своей невесте и верностью к ней ради первого явившегося каприза?
Беппо тяжело вздохнул.
– Вы не можете быть для кого бы то ни было «первым явившимся капризом», – сказал он, – и… если бы барон забыл, увидя вас, и прошлые и настоящие увлечения, ему легко можно было бы это простить.
– Вы что-то становитесь, Беппо, дамским угодником и льстецом! Видно, на вас оказало влияние общество господина графа, но желаю вам никогда не жениться на маркграфине и никогда не узнать, как обходятся с любовью, женившись на деньгах!
Добравшись к вечеру до Линца, молодые путники наконец уснули без страха и забот о завтрашнем дне. Проснувшись, Иосиф тотчас же побежал купить обувь, белье, некоторые изысканные мелочи мужского туалета не только для себя, но главным образом для Консуэло, чтобы она, превратившись в «молодца» и «красавца», как она шутя выразилась, могла осмотреть город и окрестности.
Старик лодочник обещал, если найдет груз для доставки в Мелк, снова забрать их к себе «на борт» и прокатить по Дунаю еще миль двадцать.
Они провели день в Линце, взбирались на холм, осматривали укрепленный замок у его подножия и другой – на вершине, откуда могли созерцать излучины величественной реки среди плодородных равнин Австрии. Отсюда же они увидели нечто весьма их развеселившее – карету графа Годица, торжественно въезжавшую в город. Они узнали экипаж и ливрею лакеев и, пользуясь тем, что за дальностью расстояния их не было видно, забавлялись, насмешливо кланяясь до земли. Наконец вечером, спустившись на берег, они застали свою лодку нагруженной товарами для доставки в Мелк и с радостью снова сговорились со старым кормчим относительно переезда. Вышли они из Линца до рассвета; звезды еще сияли над их головами и отражались в зыбкой поверхности реки, превращаясь в разбегающиеся по ней серебряные струйки. Этот день был не менее приятен, чем предыдущий. Одно только огорчало Гайдна: они приближались к Вене, и путешествие, о невзгодах и опасностях которого он забыл, помня только восхитительные минуты, должно было скоро прийти к концу. В Мелке, как ни жаль, им пришлось расстаться со своим славным кормчим. На других судах, которыми они могли воспользоваться, уже не было бы ни такого уединения, ни такой безопасности. К тому же извилины реки намного удлиняли путь до Вены, а Консуэло хотелось быть поскорее на месте. Она чувствовала себя отдохнувшей, освежившейся, готовой ко всяким случайностям, а потому предложила Иосифу продолжать путь пешком, пока не подвернется какая-нибудь подходящая оказия. Им оставалось до Вены еще миль двадцать, и этот способ передвижения, конечно, был не из быстрых. Но дело в том, что, хотя Консуэло и уверяла себя, будто жаждет снова облечься в женское платье и вернуться к жизненным удобствам, в глубине души она, как и Иосиф, совсем не стремилась так скоро завершить путешествие. Она была артисткой до мозга костей и не могла не любить свободы, случайностей, проявлений мужества и ловкости, постоянно сменяющих друг друга картин природы, которые по-настоящему может оценить только пешеход, и, наконец, романтических приключений, сопутствующих бродячей и уединенной жизни.
Я называю эту жизнь уединенною, читатель, стремясь выразить то сокровенное и таинственное чувство, которое, пожалуй, вам легче понять, чем мне объяснить. Мне кажется, что для выражения этого состояния души в нашем языке не найдется определения, но вы вспомните, как это бывает, если вам приходилось путешествовать пешком где-нибудь далеко, одному, или со своим вторым «я», или, наконец, подобно Консуэло, с приветливым товарищем, веселым, услужливым и мыслящим с вами заодно. И если у вас не было какой-нибудь неотложной заботы или повода к беспокойству, вы, наверное, испытывали в такие минуты странную, быть может, даже несколько эгоистическую, радость, говоря себе: никто не беспокоится обо мне, и я ни о ком не беспокоюсь! Никто не знает, где я! Те, кто властвует над моею жизнью, тщетно стали бы меня искать, – они не найдут меня в этом никому неведомом, новом для меня самого уголке, где я укроюсь. Те, кого моя жизнь затрагивает и волнует, отдохнут от меня, как и я от них. Я всецело принадлежу себе – и как повелитель и как раб. Ибо среди нас, о читатель, нет ни единого человека, который по отношению известной группы людей не был бы одновременно и рабом и повелителем. И это, заметьте, происходит помимо нашей воли, нашего сознания и стремления.
Никто не знает, где я!? Чувство одиночества, несомненно, имеет свою прелесть – свою невыразимую прелесть, жестокую по виду, справедливую и сладостную по существу. Мы рождены для взаимного общения. Путь долга длинен и суров, горизонтом ему служит смерть, которая, может статься, короче одной ночи отдыха. Итак, в путь! Вперед, не жалея ног! Однако, если нам представится столь редкий, но благоприятный случай, когда можно безобидно и без угрызений совести отдохнуть, ибо перед нами тропинка, утопающая в зелени, – воспользуемся несколькими часами уединения и предадимся созерцанию! Такие часы безделья необходимы деятельному, мужественному человеку для восстановления сил. И я утверждаю, что чем ревностнее стремится ваше сердце служить дому божию (то есть человечеству), тем более вы способны оценить немногие минуты уединения, когда вы всецело принадлежите себе. Эгоист всегда и всюду одинок. Его душа никогда не томится любовью, страданием, постоянством; она безжизненна и холодна и нуждается во сне и покое не больше, чем мертвец. Умеющий любить редко бывает одинок, а когда он одинок, он доволен. Душа его может наслаждаться перерывом в деятельности, и перерыв этот будет подобен крепкому сну сильного организма. Такой сон красноречиво говорит об испытанной усталости и является предвестником предстоящих испытаний. Я не верю в искренность горя тех, кто не стремится отвлечься от него, ни в безграничную самоотверженность людей, никогда не нуждающихся в отдыхе. У одних печаль – следствие упадка духа, свидетельствующего о том, что человек надломлен, угасает и не имеет сил любить то, что им утрачено; у других под неослабевающей и неутомимой самоотверженностью скрывается постыдное вожделение или эгоистическое, даже преступное, ожидание вознаграждения.
Эти размышления, быть может слишком длинные, не являются неуместными в повествовании о жизни Консуэло, деятельной и самоотверженной, которую, однако, могли бы порой обвинить в эгоизме и легкомыслии люди, не сумевшие понять ее.
Глава 74
Пустившись в путь, наши странники в первый же день увидели перед собой деревянный мост через речку, а на нем – нищую с крошечной девочкой на руках; она сидела, прислонясь к перилам моста, и просила милостыню. Ребенок был бледен, нездоров, истощенная женщина дрожала от лихорадки. Консуэло почувствовала глубокую симпатию и жалость к несчастным, напомнившим ей мать и ее собственное детство.
– Вот в таком положении мы бывали не раз, – сказала она Иосифу, понявшему ее с полуслова и остановившемуся вместе с ней, чтобы посмотреть на нищенку и расспросить ее.
– Увы, – начала свой рассказ нищенка, – еще несколько дней тому назад я была счастливейшей женщиной. Я крестьянка из окрестностей Харманица в Богемии. Пять лет назад я вышла замуж за своего двоюродного брата, рослого красавца, работягу и лучшего из мужей. Через год после свадьбы мой бедный Карл, отправившись в горы за дровами, вдруг исчез, и никто не знал, что с ним приключилось. Мне грозила нищета, и я страшно горевала, предполагая, что муж либо погиб, свалившись в пропасть, либо растерзан волками. Мне представлялся случай снова выйти замуж, но я и думать об этом не могла – ведь я любила мужа и не знала, что с ним приключилось. И как же была я вознаграждена, дети мои! Однажды вечером, в прошлом году, постучали в дверь; я открыла и тут же упала на колени: передо мной стоял муж, но, боже милосердный, в каком виде! Словно привидение: весь высохший, желтый, с блуждающим взглядом, взъерошенными волосами, обратившимися в ледяные сосульки, с окровавленными босыми ногами, только что прошедшими неизвестно сколько сотен миль по ужасающим дорогам в самую жестокую зиму! Но он был так счастлив, вновь обретя жену и бедную крошечную дочурку, что скоро воспрянул духом, поправился и принялся за работу. Рассказал он мне, что был похищен разбойниками, которые увезли его очень далеко, к морю, и там продали в солдатчину прусскому королю. Он прожил три года в самой мрачной из стран, нес очень тяжелую службу и с утра до вечера получал побои. Наконец, милые мои дети, ему удалось бежать, дезертировать. Он как бешеный отбивался от своих преследователей, одного из них убил, а другому вышиб камнем глаз. Избавившись от них, он шел днями и ночами, прячась, как дикий зверь, в болотах и лесах. Так он прошел через Саксонию и Богемию. Он был спасен! Он возвратился ко мне! Ах, как мы были счастливы всю ту зиму, несмотря на бедность и холод! Одно мучило нас: как бы снова не появились в наших краях эти хищные птицы, причина всех наших бед. Мы строили планы отправиться в Вену, явиться к императрице, рассказать ей о нашем горе, добиться ее покровительства, военной службы для мужа и кое-какой поддержки для меня и ребенка. Но из-за сильнейшего потрясения, какое я перенесла, увидев вновь Карла, я захворала, и мы были принуждены всю зиму и все лето провести в горах, выжидая, пока я смогу пуститься в путь. Все это время мы были постоянно начеку, даже ночью. Наконец блаженная минута настала! Я чувствовала себя достаточно сильной для ходьбы, а нашу девчурку, которой нездоровилось, должен был нести на руках отец. Но злодейка-судьба поджидала нас, когда мы спустились с гор. Мы спокойно шли по краю малолюдной дороги, не обращая внимания на экипаж, который уже с четверть часа медленно поднимался в том же направлении. Вдруг экипаж остановился и из него вышли трое мужчин.
– Это на самом деле он? – воскликнул один из них.
– Да, – ответил другой, кривой. – Он! Он! Хватай его!
Муж, обернувшись при этих словах, проговорил:
– Ай! Пруссаки! Вот кривой, которому я вышиб глаз, я его узнаю!
– Беги! Беги! Спасайся! – прошептала я.
Он пустился бежать, но тут один из этих мерзавцев бросился ко мне, свалил на землю и приставил пистолет к моей голове и к голове моей девочки. Не приди ему в голову эта дьявольская мысль, муж был бы спасен, так как бегал он лучше этих бандитов, да и был впереди них. Но на вопль, вырвавшийся у меня. Карл обернулся и, при виде дочери под дулом пистолета, с громким криком побежал обратно, чтобы предотвратить выстрел. Когда изверг, наступивший на меня ногой, увидел мужа на таком расстоянии, что тот мог его услышать, он крикнул:
– Сдавайся или я их убью! Сделай только один шаг, и все кончено!
– Сдаюсь! Сдаюсь! Я здесь! – ответил бедный мой муж и помчался к ним быстрее, чем убегал, несмотря на катившиеся под ноги камни и знаки, которые я делала ему, умоляя оставить нас и дать нам умереть.
Когда Карл попал в руки этих зверей, они принялись его бить и били до крови. Я бросилась было защищать мужа, но они и меня избили. Видя, что его вяжут по рукам и ногам, я стала рыдать и громко застонала. Злодеи объявили мне, что если я тотчас же не замолчу, они прикончат ребенка, и уже вырвали его у меня. Тогда Карл сказал мне:
– Замолчи, жена, приказываю тебе! Подумай о нашей девочке!
Я послушалась; но когда эти чудовища связали мужа и принялись затыкать ему рот кляпом, приговаривая: «Да, да, плачь! Больше ты его не увидишь, мы сейчас его повесим!», сердце у меня перевернулось, и я замертво упала на дорогу.
Не знаю, сколько времени я пролежала в пыли. Когда я открыла глаза, была уже ночь. Бедная моя дочурка, прижавшись ко мне, дрожала, надрываясь от рыданий. На дороге виднелось кровавое пятно да след от колес экипажа, увезшего моего мужа. Я просидела там еще час-другой, пытаясь успокоить и отогреть окоченевшую и перепуганную до полусмерти Марию. Наконец, собравшись с мыслями, я рассудила, что разумнее не бежать за похитителями, догнать которых я была не в силах, а заявить о случившемся властям в ближайшем городе, Визенбахе. Так я и поступила, а затем решила продолжать свой путь в Вену, броситься там к ногам императрицы и молить ее походатайствовать перед прусским королем об отмене смертного приговора мужу. Ее величество могла бы потребовать выдачи его, как своего подданного, в том случае если бы не удалось настигнуть вербовщиков. И вот, на милостыню, поданную мне в епископстве Пассау, где я рассказала о своем несчастье, доехала я на телеге до Дуная, а оттуда на лодке спустилась вниз по реке до Мелка. Но теперь средства мои истощились. Люди, которым я рассказываю о случившемся, принимают меня, должно быть, за мошенницу, не верят мне и дают так мало, что остается только идти пешком. Хорошо, если через пять-шесть дней я доберусь до Вены и не погибну от усталости, я совсем больна, да и горе лишило меня последних сил. А теперь, милые мои детки, если есть возможность помочь мне немного, сделайте это, пожалуйста: мне больше нельзя ждать, надо идти и идти, как «вечный жид», пока не добьюсь справедливости.
– Хорошая вы моя! Бедная моя! – воскликнула Консуэло, обнимая нищенку и плача от радости и сострадания. – Мужайтесь! Мужайтесь! Надейтесь! Успокойтесь! Муж ваш освобожден. Он сейчас скачет на добром коне по направлению к Вене, с туго набитым кошельком в кармане.
– Что вы говорите? – воскликнула жена дезертира, и глаза ее покраснели, а губы судорожно задергались. – Вы его знаете? Вы видели его? О господи! Боже великий! Боже милосердный!
– Что вы делаете! – остановил Иосиф свою подругу. – А если эта радость ложная, если дезертир, которому мы помогли спастись, не муж ее?
– Он самый, Иосиф! Говорю тебе, это он! Вспомни кривого, вспомни приемы синьора Пистолета! Вспомни, как дезертир говорил, что он человек семейный и австрийский подданный! Впрочем, в этом очень легко убедиться. Каков из себя ваш муж?
– Рыжий, с зелеными глазами, широколицый, ростом пять футов восемь дюймов; нос немного приплюснутый, лоб низкий, – словом, красавец мужчина!
– Так, верно! – сказала, улыбаясь, Консуэло. – А как он был одет?
– Плохонький зеленый дорожный плащ, коричневые штаны, серые чулки.
– И это похоже! А на вербовщиков вы обратили внимание?
– Обратила ли я внимание на вербовщиков! Пресвятая дева Мария! Да их страшные лица всегда будут перед моими глазами!
Тут бедная женщина с большими подробностями описала синьора Пистолета, кривого и Молчальника.
– Был там еще четвертый, – добавила она, – он оставался при лошади и ни во что не вмешивался. У него было толстое равнодушное лицо, показавшееся мне даже более жестоким, чем у остальных; когда я плакала, а мужа колотили и вязали веревками, словно какого-нибудь убийцу, этот толстяк преспокойно распевал и играл на губах, словно на инструменте: брум, брум, брум. Ах! Что за каменное сердце!
– Ну, это Мейер! – воскликнула Консуэло, обращаясь к Иосифу. – Неужели ты и теперь еще сомневаешься? Это же его милая привычка все время петь, подражая трубе!
– Правда, – согласился Иосиф. – Значит, при нас действительно освободили Карла! Слава богу!
– Да, да! Прежде всего надо благодарить господа! – воскликнула бедная женщина, бросаясь на колени. – А ты, Мария, – обратилась она к своей девчурке, – целуй землю вместе со мной, благодари ангелов-хранителей и пресвятую деву: твой папа нашелся, и мы скоро его увидим!
– Скажите мне, милая, – спросила Консуэло, – у Карла тоже есть обыкновение, когда он очень счастлив, целовать землю?
– Да, дитя мое, он всегда так делает. Вернувшись после своего дезертирства, он ни за что не хотел войти в дом, пока не поцеловал порога.
– Что это, обычай вашей страны?
– Нет, его собственная привычка. Он и нас обучил, и это всегда приносит нам счастье.
– Конечно, его мы и видели, – сказала Консуэло, – на наших же глазах, поблагодарив своих избавителей, он поцеловал землю. Ты ведь заметил, Беппо?
– Конечно, заметил! Он самый! Теперь не может быть никаких сомнений! – Дайте же прижать вас к сердцу, ангелочки мои, – воскликнула жена Карла, – какую весть вы мне принесли! Расскажите мне обо всем.
Иосиф передал все, как было. Когда бедная женщина излила весь восторг, всю благодарность небесам и Иосифу с Консуэло, которых она справедливо считала главными спасителями мужа, она спросила, как же ей теперь разыскать его.
– Думаю, – сказала Консуэло, – что вам лучше всего продолжать свой путь. Вы найдете мужа в Вене, если не встретитесь с ним еще дорогой. Несомненно, первой его заботой, когда он попадет в Вену, будет доложить обо всем императрице, а затем просить полицию сообщить по всей стране ваши приметы. Конечно, он не преминул рассказать о случившемся в каждом сколько-нибудь значительном городе, через который проезжал, и расспрашивал в пути, не видел ли кто вас. Если вы доберетесь до Вены раньше него – смотрите, сейчас же сообщите полиции свой адрес, чтобы Карлу, когда он появится в городе, тотчас передали его.
– Но что это за полиция? Где она помещается? Я ровно ничего в этом не смыслю. Такой огромный город! Я, бедная крестьянка, совсем там потеряюсь!
– Знаете, – сказал Иосиф, – у нас самих никогда подобных дел не бывало, и мы тоже ничего не смыслим в них, но вы попросите первого встречного провести вас в прусское посольство, а там спросите господина барона фон…
– Осторожно, Беппо, – прошептала Консуэло, напоминая Иосифу, что не следует компрометировать барона, вмешивая его в эту историю.
– Ну, а граф Годиц?
– Да, к графу можно обратиться. Он сделает из тщеславия то, что его спутник сделал бы из самоотверженности. Разыщите дворец маркграфини Байрейтской, – сказала Консуэло женщине, – и передайте ее мужу записку, которую я сейчас напишу.
Консуэло вырвала листок из записной книжки Иосифа и карандашом написала следующее:
«Консуэло Порпорина, примадонна театра Сан-Самуэле в Венеции, она же бывший синьор Бертони, странствующий певец в Пассау, поручает благородному сердцу графа Годица-Росвальда жену Карла, дезертира, которого Ваше сиятельство вырвали из рук вербовщиков и осыпали своими милостями. Порпорина льстит себя надеждой отблагодарить господина графа за его покровительство в присутствии маркграфини, если господин граф окажет певице честь, разрешив ей выступить в малых покоях ее высочества».
Консуэло старательно вывела свою подпись и посмотрела на Иосифа. Он ее понял и вынул кошелек. По молчаливому соглашению, в порыве великодушия, они отдали бедной женщине последние два золотых, оставшихся от подарка Тренка, чтобы она смогла на лошадях добраться до Вены. Затем, доведя ее до ближайшей деревни, они помогли ей нанять скромный экипаж. После этого они накормили ее, снабдили кое-какими пожитками, истратив на это остаток своего скромного достояния, и отправили в путь-дорогу счастливейшее создание, только что возвращенное ими к жизни.
Тут Консуэло, смеясь, спросила, осталось ли что-нибудь у них в кошельке. Иосиф потряс над ухом скрипкой и ответил:
– Только звуки! Консуэло блестящей руладой попробовала голос под открытым небом и воскликнула:
– И сколько еще звуков! – затем весело протянула руку своему товарищу и, горячо пожав его руку, сказала: – Молодец, Беппо!
– И ты тоже! – ответил Иосиф, смахивая набежавшую слезу и громко смеясь при этом.
Глава 75
Не особенно страшно остаться без денег под конец путешествия; но, будь наши юные музыканты и далеко еще от цели, им и тогда было бы не менее весело, чем в ту минуту, когда они очутились без гроша. Нужно самому побывать в таком положении безденежья на чужбине (а Иосиф здесь, вдали от Вены, чувствовал себя почти таким же чужим, как и Консуэло), чтобы знать, какая чудесная беззаботность, какой дух изобретательности и предприимчивости, словно по волшебству, охватывает артиста, истратившего последний грош. До этого он тоскует, постоянно боится неудач, у него мрачные предчувствия в предвидении страданий, затруднений, унижений, но с последней уходящей монетой все рассеивается. Тут для поэтических душ открывается новый мир, святая вера в милосердие ближних и вообще немало пленительных химер. Наряду с этим развивается работоспособность и появляется приветливость, помогающие легко преодолевать препятствия. Консуэло испытывала некое романическое удовольствие, возвращаясь к бедности, напомнившей ей годы детства; она была счастлива, что сделала доброе дело, отдав все свое достояние, и сейчас же придумала средство добыть себе и своему спутнику ужин и ночлег. – Сегодня воскресенье, – сказала она Иосифу, – в первом же поселке, который нам попадется на пути, начни играть танцы. Мы не пройдем и двух улиц, как найдутся люди, желающие поплясать, а мы с тобой изобразим гудошников. Ты не можешь сделать свирель? Я мигом выучусь на ней играть, и как только в состоянии буду извлекать из нее хоть несколько звуков, – аккомпанемент тебе обеспечен.
– Могу ли я сделать свирель? – воскликнул Иосиф. – Сейчас вы в этом убедитесь!
Вскоре на берегу реки они отыскали прекрасный стебель тростника, Иосиф искусно просверлил его – и он зазвучал чудесно. Свирель тут же была испробована, затем последовала репетиция, и наши герои, успокоившись, направились в деревушку, находившуюся на расстоянии трех миль. Они вошли туда под звуки свирели и пения, выкрикивая перед каждой дверью: «Кто хочет поплясать, кто хочет попрыгать? Вот музыка! Открывайте бал!»
Они дошли до небольшой площади, обсаженной прекрасными деревьями; их сопровождало с полсотни ребят: крича и хлопая в ладоши, дети неслись за ними. Вскоре появились веселые парочки и, подняв пыль, открыли бал. Прежде чем земля была утоптана ногами танцующих, здесь собралось все население деревушки, кольцом расположившись вокруг танцующих, неожиданно, без всякого сговора и колебаний, устроивших бал. Сыграв несколько вальсов, Иосиф засунул скрипку под мышку, а Консуэло, взобравшись на стул, произнесла перед присутствующими речь на тему о том, что, мол, у голодных музыкантов и пальцы слабы и дыхания не хватает. Не прошло и пяти минут, как у них вволю было и хлеба, и масла, и сыра, и пива, и сладких пирожков. Что же касается денежного вознаграждения, то на этот счет быстро сговорились: решено было сделать сбор, и каждый даст сколько пожелает.
Закусив, Консуэло и Иосиф взобрались на бочку, которую для этого торжественно выкатили на середину площади, и танцы возобновились. Но через два часа они были прерваны известием, взволновавшим всех; переходя из уст в уста, оно дошло и до наших странствующих музыкантов. Оказалось, что местный сапожник, торопясь закончить ботинки для одной требовательной заказчицы, всадил себе в большой палец шило.
– Это огромное несчастье! – проговорил какой-то старик, опираясь на бочку, служившую музыкантам пьедесталом. – Ведь сапожник Готлиб – органист нашей деревни, а завтра как раз у нас храмовой праздник. Да, большой праздник, чудесный праздник! На десять миль кругом такого не бывает! Особенно хороша у нас обедня, издалека приходят ее послушать. Наш Готлиб – настоящий регент: он играет на органе, дирижирует детским хором, сам поет и чего только не делает, особенно в этот день! Просто из кожи вон лезет! Теперь без него все пропало. И что скажет господин каноник собора святого Стефана?! В этот праздник он сам приезжает к нам служить большую обедню и так всегда доволен нашей музыкой. Добрый каноник от музыки без ума! А какая честь для нас видеть его перед нашим алтарем, – ведь он никогда не выезжает из своего прихода и не станет себя утруждать из-за пустяков. – Ну что ж, – сказала Консуэло, – есть способ все уладить: мы с товарищем возьмем на себя и орган и детский хор, – словом, всю обедню; а если господин каноник останется недоволен, нам ничего не заплатят за труды.
– Да, да! Легко сказать, молодой человек! – воскликнул старик, – Нашу обедню под скрипку и флейту не служат, да-с! Это дело серьезное, а вы не знакомы с нашими партитурами.
– Мы примемся за них сегодня же вечером, – проговорил Иосиф с видом снисходительного превосходства, которое импонировало собравшимся вокруг него слушателям.
– Посмотрим, – сказала Консуэло, – поведите нас в церковь, пусть там кто-нибудь надует мехи, и если наша игра придется вам не по вкусу – вы вольны нам отказать.
– А как же с партитурой – шедевром аранжировки Готлиба?
– Мы сходим к Готлибу, и если он будет недоволен нами, – откажемся от своего намерения. К тому же раненый палец не помешает Готлибу ни управлять хором, ни самому исполнить свою партию.
Старики деревни, собравшись вокруг музыкантов, посовещались и решили произвести опыт. Бал прекратили, – ведь обедня каноника дело посерьезнее, чем какие-то там танцы!
После того как Гайдн и Консуэло поочередно сыграли на органе, а затем пропели вместе и порознь, их, за неимением лучшего, признали довольно сносными музыкантами. Некоторые ремесленники осмелились даже утверждать, что они играют лучше Готлиба и что исполненные ими отрывки из Скарлатти, Перголезе и Баха по меньшей мере так же прекрасны, как музыка Гольцбауэра, дальше которой Готлиб никак не хотел идти. Зато приходский священник, спешно явившийся послушать их, дошел даже до того, что принялся утверждать, будто канонику гораздо больше понравятся эти песнопения, чем те, которыми его обычно угощали. Пономарь, не разделявший этого мнения, грустно покачал головой, и священник, не желая раздражать своих прихожан, согласился, чтобы оба виртуоза, посланные провидением, сговорились, если возможно, с Готлибом относительно обедни.
Все толпой направились к дому сапожника, и тот был вынужден показать каждому свою вспухшую руку, чтобы его освободили от обязанностей органиста. По его мнению, было больше чем очевидно, что выступать он не может. Готлиб был одарен некоторой музыкальностью и довольно прилично играл на органе, но, избалованный похвалами сограждан и несколько шутливым одобрением каноника, был до болезненности самолюбив во всем, что касалось его дирижерства и исполнения. Вот почему предложение заменить его случайными музыкантами было встречено им недоброжелательно: он предпочитал, чтобы на обедне в день храмового праздника совсем не было музыки, только бы не делить ни с кем своей славы. Но ему пришлось все-таки уступить. Долго он притворялся, будто не может найти партитуры, и разыскал ее, только когда священник пригрозил, что предоставит юным артистам выбор и исполнение всей музыкальной части. Консуэло и Гайдн должны были доказать свое умение, прочитав с листа самые известные по трудности пассажи одной из двадцати шести обеден Гольцбауэра, которую предполагали исполнять на следующий день. Музыка эта, не талантливая и не оригинальная, была все же хорошо написана и легко читалась; особенно не составляла она труда для Консуэло, преодолевавшей несравненно большие трудности. Слушатели были очарованы, а Готлиб, становившийся все озлобленнее и мрачнее, заявил, что он очень рад, что все довольны, сам же он немедленно ложится в постель, потому что у него лихорадка.
Певцы и музыканты тотчас отправились в церковь, и наши два новоиспеченных регента принялись за репетицию. Все шло прекрасно. Пивовар, ткач, школьный учитель и булочник играли на скрипках; дети и их родители составили хор. Все это были добрые крестьяне и мастеровые, люди очень флегматичные, старательные и добросовестные.
Иосифу уже приходилось слышать музыку Гольцбауэра в Вене, где она была в то время в чести, и он очень легко с ней справлялся. Консуэло же, участвуя во всех повторяющихся ариях, так хорошо вела за собою хор, что он превзошел себя. Два соло должны были исполнять сын и племянница Готлиба, его любимые ученики и лучшие певцы в приходе, но оба корифея на репетицию не явились, мотивируя это тем, что они и так уверены в своих силах.
Иосиф и Консуэло отправились ужинать в дом священника, где им был приготовлен ночлег. Добрый священник сиял; видно было, что он очень дорожил благолепием своей обедни и хотел изо всех сил угодить господину канонику.
На следующий день вся деревня еще до света была на ногах. Трезвонили в колокола, по дорогам из окрестных деревень тянулись толпы верующих, чтобы присутствовать на торжественной службе. Карета каноника приближалась с величавой медлительностью. Церковь была разубрана самыми лучшими украшениями. Консуэло очень потешило, что каждое из действующих лиц приписывало своей роли особое значение. Здесь царило почти такое же тщеславие и соперничество, как за кулисами театра. Только выражалось оно более наивно и скорее смешило, чем вызывало негодование.
За полчаса до начала обедни явился растерянный ризничий и сообщил о заговоре завистливого и вероломного Готлиба. Узнав, что репетиция прошла прекрасно и все участвовавшие в ней прихожане очарованы пришельцами, он, притворившись тяжко больным, запретил своей племяннице и сыну, двум главным корифеям, покинуть его, и таким образом обедня лишалась не только самого Готлиба, чье присутствие считалось необходимым, дабы дать ход делу, но и двух соло, лучших номеров во всей мессе. Хористы, по словам жеманного и торопливого ризничего, совсем упали духом, и ему стоило большого труда собрать их на совещание в церкви.
Консуэло и Иосиф спешно явились на место действия, заставили хор повторить самые трудные места, поддерживая своими голосами более слабых, и таким образом всех успокоили и подбодрили. Что же касается соло, то они очень скоро столковались и взялись исполнить их сами. Консуэло, порывшись в памяти, вспомнила одно духовное песнопение Порпоры, по тону и словам напоминавшее то, что требовалось. Она тут же набросала его на нотной бумаге, прорепетировала с Гайдном, и он смог ей аккомпанировать. Консуэло нашла и для него знакомый ему отрывок из произведения Себастьяна Баха, и они тотчас с грехом пополам аранжировали его.
Уже зазвонили к обедне, а они все еще репетировали и спевались, несмотря на громкий трезвон большого колокола. Когда господин каноник, облаченный в ризы, появился у алтаря, хор уже пел, с многообещающей смелостью и быстротой приступив к исполнению фугообразного творения немецкого композитора. Консуэло с удовольствием глядела на серьезные лица этих добрых немецких бедняков, вслушиваясь в их чистые голоса» звучавшие с поистине педантичной согласованностью и никогда не иссякающим, но всегда сдержанным воодушевлением.
– Вот подходящие исполнители для такой музыки, – сказала она Иосифу во время паузы, – будь у них огонь, которого не хватило композитору, все бы пошло вкривь и вкось, но у них нет этого огня, и идеи, выкованные механически, механически же и воспроизводятся. Жаль, нет здесь знаменитого маэстро Годица-Росвальда, – он подвинтил бы этих механических исполнителей, лез бы вон из кожи, ничего не добился бы, но остался бы чрезвычайно доволен собою.
Мужское соло беспокоило многих, но Иосиф блестяще с ним справился. Когда же настал черед Консуэло, то ее итальянская манера пения сначала всех удивила, затем привела в смущение, но в конце концов все-таки восхитила. Певица старалась петь как можно лучше; выразительность ее полнозвучного и бесподобного голоса привела в непередаваемый восторг Иосифа.
– Не верится, – сказал он ей, – чтобы вы могли когда-либо лучше спеть, чем вы пели сейчас для жалкой деревенской обедни.
– Во всяком случае никогда я не пела с таким подъемом и таким удовольствием, – отвечала она. – Эта публика мне больше по душе, чем театральная. Ну, а теперь дай мне посмотреть с хор, доволен ли господин каноник. Да! У почтенного каноника совсем блаженный вид, и, судя по тому, как все ищут в выражении его лица воздаяния за свою старательность, я вижу, что единственно о ком здесь не думают, это о боге.
– За исключением вас, Консуэло! Только вера и любовь к богу могут вдохновить на такое пение!
Когда оба исполнителя вышли из церкви, население чуть было не понесло их с триумфом на руках в дом священника, где их ждал хороший завтрак. Священник представил музыкантов господину канонику, и тот, осыпав их похвалами, выразил желание еще раз, «на запивку», прослушать соло Порпоры. Но Консуэло, не без основания дивившаяся тому, как никто не узнал ее женского голоса, и опасавшаяся прозорливости каноника, отказалась петь под предлогом, что репетиция и деятельное участие во всех партиях слишком утомили ее. Отговорка, однако, не была принята во внимание, и пришлось присутствовать за завтраком каноника.
Каноник был человек лет пятидесяти, с добрым красивым лицом, хорошо сложенный, хотя немного располневший. Манеры его были изысканны и даже, можно сказать, благородны. Он всем говорил по секрету, что в жилах его течет королевская кровь, так как он является одним из четырехсот незаконнорожденных сыновей Августа Второго, курфюрста Саксонского и Короля Польского.
Он был мил и любезен, насколько следует быть светскому человеку и духовному сановнику. Иосиф заметил подле него какого-то мирянина, с которым он обращался одновременно и с уважением и фамильярно. Иосифу казалось, что он уже видел этого человека где-то в Вене, но припомнить имени его никак не мог. – Итак, дети мои, вы отказываете мне в удовольствии еще раз услышать произведение Порпоры? А вот мой друг, большой музыкант и во сто раз лучший судья в этом деле, чем я, был поражен тем, как вы исполнили этот отрывок. Но раз вы утомлены, – прибавил он, обращаясь к Иосифу, – я больше не стану вас мучить своими просьбами, однако вы будете так любезны сказать мне свое имя, а также, где вы учились музыке.
Иосиф понял, что ему приписывают исполнение соло, спетого Консуэло. Консуэло выразительным взглядом приказала ему поддержать заблуждение каноника.
– Меня зовут Иосифом, – ответил он кратко, – а учился я в детской певческой школе святого Стефана.
– Я также, – заметил незнакомец, – учился в этой школе при Рейтере-отце; а вы, конечно, – при Рейтересыне?
– Да, сударь.
– Но потом вы, наверно, еще у кого-нибудь занимались? Вы учились в Италии?
– Нет, сударь.
– Это вы играли на органе?
– То я, то мой товарищ.
– А кто из вас пел?
– Мы оба.
– Но ведь Порпору исполняли не вы? – проговорил незнакомец, искоса поглядывая на Консуэло.
– Во всяком случае не этот ребенок, – сказал каноник, также взглянув на Консуэло, – он слишком молод, чтоб так прекрасно петь.
– Да, не я, а он, – отрывисто ответила Консуэло, указывая на Иосифа.
Она жаждала избавиться от этого допроса и с нетерпением поглядывала на дверь.
– Почему вы говорите неправду, дитя мое? – наивно спросил священник. – Я же вчера слышал и видел, как вы пели, и прекрасно узнал голос вашего товарища Иосифа, когда он исполнял соло Баха.
– По-видимому, вы ошиблись, ваше преподобие, – с лукавой улыбкой заметил незнакомец, – или же этот юноша чрезмерно скромен. Как бы то ни было, мы хвалили и того и другого.
Потом, отведя священника в сторону, незнакомец проговорил:
– У вас ухо верное, но глаз не проницательный; это делает честь чистоте ваших помыслов. Тем не менее следует вывести вас из заблуждения: этот юный венгерский крестьянин – очень искусная итальянская певица.
– Переодетая женщина! – воскликнул пораженный священник.
Он внимательно стал приглядываться к Консуэло, в то время как та отвечала на благожелательные вопросы каноника, и от удовольствия ли, или от негодования, но добрый священник густо покраснел от брыжей вплоть до камилавки.
– Уж верьте мне, – продолжал незнакомец. – Напрасно стараюсь я доискаться, кто бы она могла быть, никак не могу разгадать; а что касается ее переодевания и того положения, в котором она сейчас оказалась, то это следует отнести исключительно за счет безрассудства… Все из-за любви, господин кюре! Но это нас не касается.
– Из-за любви! Это, конечно, очень красиво звучит! – воскликнул разволновавшийся священник. – Похищение, преступная интрига с этим молодчиком! Но ведь это отвратительно! А я-то как попался! Поместил их в священническом доме! Еще, по счастью, дал им отдельные комнаты, так что, надеюсь, под моей крышей не происходило ничего скандального. Ах! Какое происшествие! Воображаю, как надо мной потешились бы вольнодумцы моего прихода! А такие, сударь, имеются, и некоторых из них я даже знаю.
– Если ваши прихожане не распознали женского голоса, то, по всей вероятности, и не разглядели ни черт ее лица, ни походки. А между тем взгляните, что за красивые ручки, какие шелковистые волосы, до чего крошечная ножка, несмотря на грубую обувь!
– Ничего я не желаю видеть! – воскликнул вне себя священник. – Какая гнусность – переодеваться в мужской костюм! В священном писании есть стих, осуждающий на смерть всякого, мужчину или женщину, сменяющего одежду своего пола. На смерть – слышите, сударь?! Это в достаточной мере указывает на всю тяжесть греха. И она еще осмелилась проникнуть в храм божий и бесстыдно воспевать хвалу господу, в то время как душой и телом загрязнена таким преступлением!
– И воспевала эту хвалу божественно! Я прослезился; никогда я не слыхивал ничего подобного! Странная тайна! Кто эта женщина? Все, кого я мог бы заподозрить, гораздо старше ее.
– Да это ребенок, совсем молоденькая девушка, – продолжал священник, который не мог удержаться от того, чтобы не посмотреть на Консуэло с интересом, боровшимся в его сердце со строгими принципами.
– Экая змейка! Посмотрите только, с каким кротким и скромным видом она отвечает господину канонику. Ах! Если кто-нибудь догадается об этой проделке, я пропал! Придется мне уехать отсюда!
– Как же вы сами и никто из ваших прихожан не распознали женского голоса? Ну и простаки же вы, скажу я вам!
– Что поделаешь! Мы, правда, находили нечто необыкновенное в ее голосе, но Готлиб говорил, что это голос итальянский, из Сикстинской капеллы, и он уже такие слышал. Не знаю, что он этим хотел сказать, я ведь ничего не смыслю в музыке, выходящей за пределы моей службы, и был так далек от всякого подозрения. Как быть, сударь? Как быть?
– Если никто ничего не подозревает, мой совет вам – молчать обо всем. Выпроводите этих юнцов как можно скорее. Если хотите, я возьмусь избавить вас от них.
– О да! Вы окажете мне огромную услугу! Стойте, стойте, я дам вам денег. Сколько им заплатить?
– Это меня не касается. Мы-то щедро платим артистам… Но ваш приход небогат, и церковь не обязана следовать практике театра.
– Я не стану скупиться, я дам им шесть флоринов! Сейчас иду… Но что скажет господин каноник? Он, по-видимому, ничего не замечает. Вот он разговаривает с «ней» совсем по-отечески… Святой человек!
– А что, по-вашему, он бы очень возмущался?
– Да как же ему не возмущаться! Впрочем, я не столько боюсь его нагоняя, сколько насмешек. Вы ведь знаете, как он любит вышучивать, он так остроумен. Ох! Как он будет издеваться над моей наивностью!..
– Но поскольку он, видимо, продолжает разделять ваше заблуждение… он не вправе и насмехаться над вами. Ну что ж! Притворитесь, будто ничего не случилось, воспользуйтесь первым удобным моментом и сплавьте ваших музыкантов. Они отошли от окна, где велся этот разговор, и священник, проскользнув к Иосифу, который, казалось, гораздо меньше занимал каноника, чем синьор Бертони, сунул ему в руку шесть флоринов. Получив эту скромную сумму, Иосиф сделал знак Консуэло, чтобы она скорей отделалась от каноника и шла за ним. Но каноник подозвал к себе Иосифа и, продолжая на основании его ответов считать, что женский голос принадлежал ему, спросил:
– Скажите же мне, почему вы выбрали этот отрывок Порпоры, вместо того чтобы исполнить соло господина Гольцбауэра?
– У нас не имелось этой партитуры, да и она была нам незнакома, – ответил Иосиф, – я спел единственную из пройденных мною вещей, которую хорошо помнил.
Тут священник поспешил рассказать о маленькой хитрости Готлиба, и эта артистическая зависть очень рассмешила каноника.
– Ну что ж, – заметил незнакомец, – ваш милый сапожник оказал нам громадную услугу: вместо плохого соло мы насладились шедевром великого мастера. Вы доказали свой вкус, – прибавил он, обращаясь к Консуэло.
– Не думаю, – возразил Иосиф, – чтобы соло Гольцбауэра было так плохо. Те из его произведений, что мы исполняли, были не без достоинств. – Достоинства – это еще не гениальность, – ответил незнакомец, вздыхая, и, настойчиво обращаясь к Консуэло, он добавил:
– А вы какого мнения, дружок? Считаете ли вы, что это одно и то же?
– Нет, сударь, я этого не считаю, – ответила она лаконично и холодно, так как взгляды этого человека все больше смущали и тяготили ее.
– Однако же вам доставило удовольствие пропеть обедню Гольцбауэра? вмешался каноник. – Ведь это прекрасная вещь, не правда ли?
– Мне она не доставила ни удовольствия, ни неудовольствия, – ответила Консуэло, нетерпение вызвало у нее непреодолимое желание высказаться откровенно.
– Вы хотите сказать, что эта вещь ни хороша, ни дурна? – воскликнул, смеясь, незнакомец. – Ну-с, дитя мое, вы прекрасно ответили, и я вполне согласен с вашим мнением.
Каноник громко расхохотался, священник же казался очень смущенным, а Консуэло, нисколько не интересуясь этим музыкальным диспутом, скрылась вслед за Иосифом.
– Ну, господин каноник, как вы находите этих детей? – лукаво спросил незнакомец, как только те вышли.
– Очаровательны! Чудесны! Вы уж извините меня, что я говорю это после отповеди, которою наградил вас этот мальчуган.
– Да что вы! Я нахожу этого мальчика просто восхитительным! Какой талант в такие юные годы! Поразительно! Что за мощные и скороспелые натуры эти итальянцы!
– О таланте мальчика ничего не могу вам сказать, – возразил каноник естественным тоном, – я не нашел в нем ничего особенно замечательного. Но вот его товарищ – удивительный юноша, и он наш с вами соотечественник, не в обиду будь сказано вашей «итальяномании».
– Ах, вот что! – проговорил незнакомец, подмигивая священнику. – Значит, Порпору исполнял старший?
– И я так полагаю, – ответил священник, совершенно смущенный тем, что его заставляют лгать.
– Я в этом вполне уверен: он сам мне сказал, – заметил каноник.
– А второе соло, значит, исполнил кто-либо из ваших прихожан? – продолжал допрашивать незнакомец.
– Должно быть, – ответил священник, делая усилие, чтобы поддержать эту ложь.
Оба посмотрели на каноника, желая убедиться, удалось ли им провести его или он насмехается над ними. Казалось, он вообще перестал думать об этом. Невозмутимость его успокоила священника. Заговорили о другом. Но четверть часа спустя каноник снова вспомнил о музыке и пожелал видеть Иосифа и Консуэло, с тем, объявил он, чтобы увезти их к себе в имение и там на досуге еще раз хорошенько прослушать. Перепуганный священник прошептал какие-то малопонятные объяснения. Каноник, смеясь, спросил его: не велел ли уж он бросить своих маленьких музыкантов в котел для подкрепления завтрака, который и так кажется ему великолепным? Священник переживал настоящую пытку. На выручку ему пришел незнакомец.
– Сейчас приведу их, – сказал он канонику.
И он вышел, сделав знак добродушному священнику, чтобы тот рассчитывал на какую-нибудь хитрость. Но придумывать ничего не понадобилось. Он узнал от служанки, что юные музыканты уже дали тягу, великодушно уделив ей один флорин из шести, только что ими полученных.
– Как? Ушли?! – воскликнул огорченный каноник. – Надо их догнать! Я хочу их видеть и слышать, хочу во что бы то ни стало!
Притворились, будто исполняют его желание, но никто и не подумал догонять юных артистов. Да это было бы и напрасно, так как они, боясь грозящего им любопытства, умчались, как птицы. Каноник был очень огорчен и даже несколько рассержен.
– Слава богу, он ничего не подозревает, – сказал священник незнакомцу.
– Ваше преподобие, – ответил тот, – вспомните историю с епископом, который, в пятницу кушая по недосмотру скоромное, был предупрежден об этом своим викарием. «Несчастный, – воскликнул епископ, – неужели ты не мог подождать до конца обеда!» Быть может, и нам следовало предоставить канонику заблуждаться сколько его душе угодно.
Глава 76
Было тихо и ясно, полная луна сияла в небесном эфире, в старинной приории звонко и торжественно пробило девять часов, когда Иосиф и Консуэло, тщетно поискав звонка у ограды, стали обходить безмолвное обиталище, в надежде, что их услышит гостеприимный хозяин. Но надежда была напрасна: все двери были на запоре, ни одна собака не лаяла, ни в одном окне мрачного здания не было видно даже слабого проблеска света.
– Это дворец молчания, – сказал, смеясь, Гайдн, – и если б часы дважды не пробили тихо и торжественно четыре четверти в тоне до и си и девять ударов в тоне соль, я считал бы, что это жилище предоставлено совам и привидениям.
Местность вокруг была очень пустынна. Консуэло устала. К тому же таинственное жилище привлекало ее поэтическую натуру.
– Если бы даже нам пришлось спать в какой-нибудь часовне, – сказала она, – мне все-таки хотелось бы ночевать здесь. Попробуем во что бы то ни стало пробраться туда, даже если надо перелезть через эту стену, что не так уж трудно сделать.
– Давайте я помогу вам взобраться наверх, а там я мигом перескочу и поддержу вас, когда вы будете спускаться, – сказал Иосиф.
Сказано – сделано. Стена была низенькая. Две минуты спустя наши юнцы с отважным спокойствием уже прогуливались внутри священной ограды. Они были в прекрасном саду-огороде, который содержался в большом порядке. Фруктовые деревья, расположенные веером, протягивали к ним свои длинные ветви, отягощенные румяными яблоками и золотистыми грушами. Виноградные лозы, кокетливо изогнутые в виде арок, были покрыты, словно чудными серьгами, крупными гроздьями сочного винограда. Огромные грядки с овощами также отличались своеобразной прелестью. Спаржа с изящными стеблями и шелковистыми волосиками, блестевшими от вечерней росы, напоминала рощу карликовых елей, покрытых серебристым флером. Горох, поднимаясь на подпорках легкими гирляндами, образовал длинные беседки, какие-то узкие таинственные проулочки, где щебетали крошечные полусонные малиновки. Американские тыквы, гордые левиафаны этого моря зелени, тяжело выпячивали свое оранжевое брюхо, покоясь на широких темных листьях. Молодые артишоки, словно крошечные головки в коронах, толпились вокруг своего главы, августейшего стебля-родоначальника. Дыни сидели под стеклянными колпаками, будто тяжеловесные китайские мандарины под паланкинами, и из каждого такого кристального свода луна высекала крупный голубоватый бриллиант, о который ветреные ночные бабочки, летая, ударялись головками.
Шпалеры из роз отделяли огород от цветника; они доходили до зданий и окружали их поясом из цветов. Укромный сад казался каким-то раем. Под тенью великолепных густых кустов ютились редкие растения, распространявшие чудесный аромат. Песок под ногами был мягок, как ковер. Газон казался расчесанным травинка к травинке, настолько он был ровен и гладок. Цветы росли так буйно, что совсем не видно было земли, отчего круглые клумбы походили на громадные корзины цветов. Удивительно влияние обстановки на душевное и физическое состояние человека! Не успела Консуэло подышать этим сладостным воздухом, полюбоваться этим святилищем беспечного благосостояния, как почувствовала себя совершенно отдохнувшей, словно выспалась на славу.
– Вот поразительно! – сказала она Беппо. – Стоило мне увидеть этот сад, и я уже совсем забыла о каменистых дорогах и о своих больных ногах. Мне кажется, что я отдыхаю, глядя на все это. Никогда я не любила расчищенных, ухоженных садов, окруженных высокими стенами, а вот этот сад, после стольких дней пути по пыльной дороге, после ходьбы по твердой, утоптанной земле, представляется мне настоящим раем. Я умирала от жажды, а сейчас, когда я вижу эти прелестные растения, распускающиеся от вечерней росы, мне кажется, что я пью вместе с ними и уже утолила свою жажду.
Посмотри, Иосиф, разве есть что-нибудь очаровательнее цветов, распускающихся при лунном свете? Взгляни на этот букет белых звезд как раз посредине клумбы с газоном и не смейся надо мной. Не знаю их названия, кажется, ночные красавицы. О, как удачно они названы! Красивы и чисты, как звезды на небе. Малейшее дуновение ветерка – и они то склоняются, то выпрямляются, и чудится, будто они смеются и резвятся, словно девочки, одетые во все белое. Они напоминают мне моих школьных подруг, когда по воскресеньям, в одежде послушниц, мы бегали у высоких церковных стен. Вот они внезапно замерли в недвижном воздухе, обратив головки к луне, – точно смотрят на нее и восхищаются. И кажется, что и луна тоже глядит на них, не спуская глаз, и парит над ними, словно большая ночная птица. Неужели ты думаешь, Беппо, что цветы ничего не чувствуют? А мне кажется, что красивый цветок не просто бессмысленно растет, но и испытывает чудесные ощущения. Не будем говорить о маленьких жалких растеньицах, выстроившихся вдоль канав, где они чахнут в пыли, обгладываемые каждым проходящим стадом. Растеньица эти похожи на маленьких нищенок, вздыхающих о капле недоступной им воды. Растрескавшаяся и жаждущая земля алчно вбирает в себя всю влагу, не делясь ею с их корнями. Но садовые цветы, за которыми так ухаживают, красивы и горды, как королевы. Они проводят время, кокетливо раскачиваясь на стеблях, а когда восходит на небе их милая подруга – луна, стоят совсем распустившиеся в полудреме и предаются сладким грезам. Быть может, они спрашивают себя, есть ли на луне цветы, подобно тому как мы хотели бы знать, живут ли там люди. Я вижу, Иосиф, что ты смеешься надо мной, а между тем удовольствие, которое я испытываю, вовсе не самообман. В воздухе, очищенном и освеженном их ароматом, есть что-то возвышающее, и я чувствую какую-то связь между своей жизнью и жизнью всего окружающего.
– Как мог бы я насмехаться над вами, – ответил, вздыхая, Иосиф, когда все ваши впечатления сейчас же передаются мне, когда каждое ваше словечко трепещет в моей душе, как звук на струнах инструмента. Но посмотрите, Консуэло, на это жилище и объясните мне, почему оно навевает на меня такую сладостную и глубокую грусть.
Консуэло взглянула на приорию. То было небольшое здание XII века, когда-то укрепленное зубчатыми парапетами, которые впоследствии были заменены остроконечными крышами из сероватых шиферных плит. Башенки, увенчанные частыми бойницами, оставленными для украшения, были похожи на большие корзины. Густые заросли плюща нарушали однообразие стен, а на обнаженных частях фасада, залитого лунным светом, ночной ветер колебал легкую расплывчатую тень молодых тополей. Большие гирлянды виноградных лоз и жасмина обрамляли двери и вились вокруг окон.
– От жилища этого веет тишиной и грустью, – ответила Консуэло, – но оно не манит меня, как сад. Растения созданы, чтобы произрастать на одном месте, люди же – чтобы двигаться и общаться друг с другом. Будь я цветком, я хотела бы расти в этом цветнике – здесь хорошо, но как женщина я не желала бы жить в келье, запертая в каменной громаде. А ты хотел бы быть монахом, Беппо?
– Ну нет! Боже меня упаси! Но мне было бы приятно работать, не думая о крыше над головой и о хлебе насущном; мне хотелось бы вести жизнь спокойную, уединенную, с некоторым достатком, без забот, присущих нищете. Словом, я желал бы прозябать в пассивной размеренной жизни, даже в некоторой зависимости, лишь бы разум мой был свободен, лишь бы у меня не было иных забот, иных хлопот, иного долга, как только заниматься музыкой. – Ну что ж, милый товарищ, творя спокойно, ты творил бы спокойную музыку.
– А почему бы ей быть плохой? Что может быть лучше спокойствия? Небеса – спокойны, луна – спокойна, эти цветы, чей мирный вид вас так прельщает…
– Их неподвижность нравится мне лишь потому, что она наступила после того, как их только что колебал ветерок. Ясность неба нас поражает единственно потому, что мы не раз видели его в грозовых тучах. А луна никогда не бывает так величественна, как среди теснящихся вокруг нее облаков. Разве отдых может быть по-настоящему сладок без усталости? Непрерывная неподвижность – это уже не отдых. Это – небытие, это – смерть.
Ах! Если бы ты прожил, как я, целые месяцы в замке Исполинов, ты бы знал, что спокойствие – не жизнь!
– Но что вы называете спокойной музыкой?
– Музыку слишком выдержанную, слишком холодную. Смотри, как бы ты не насочинил такой музыки, избегая усталости и мирских тревог!
Так беседуя, подошли они к самой приории. Кристальная вода била из мраморного шара с золотым крестом наверху и, струясь из чаши в чашу, падала в большую гранитную раковину, где плескалась масса маленьких красных рыбок, которыми так любят забавляться дети.
Консуэло и Беппо, в сущности еще дети, принялись забавляться самым искренним образом, бросая рыбкам песок, чтобы подразнить их за прожорливость, и следя глазами за их быстрыми движениями, как вдруг увидели идущую прямо к ним высокую, одетую в белое женщину с кувшином; она приближалась к фонтану и очень походила на одну из фантастических личностей – «ночных прачек», легенды о которых распространены почти во всех суеверных странах. Озабоченность или безразличие, с каким она принялась наполнять водой кувшин, не выказывая при виде пришельцев ни удивления, ни страха, заключали в себе на первый взгляд нечто торжественное и странное. Но вскоре громкий крик и уроненный ею при этом на дно бассейна кувшин доказали им, что в ней не было ничего сверхъестественного. У доброй женщины просто с годами ослабело зрение, а как только она заметила незнакомых людей, то страшно перепугалась и бросилась, бежать к дому, призывая на помощь пресвятую деву Марию и всех святых.
– Что случилось, тетка Бригита? – раздался из дома мужской голос. Уж не встретились ли вы с какой-нибудь нечистой силой?
– Два дьявола, или, скорее, два вора, стоят там у фонтана, – ответила женщина, подбегая к своему собеседнику, который, появившись на пороге двери, простоял там несколько минут с нерешительным и недоверчивым видом.
– Наверное, еще один из ваших обычных страхов. Разве в такой час какие-нибудь воры покусятся на нас?
– Клянусь вам своим вечным спасением, что там стоят две черные фигуры, неподвижные, как статуи! Да разве вы сами не видите их отсюда? Смотрите же, они все еще там и не уходят. Пресвятая дева Мария! Побегу, спрячусь в погреб.
– Действительно, я что-то вижу, – проговорил мужчина, стараясь говорить грубым голосом. – Сейчас позвоню, вызову садовника, и вместе с его двумя помощниками мы легко справимся с этими плутами, которые могли пробраться сюда только перелезши через стенку, так как я сам запер все ворота.
– Пока что запрем дверь, – заметила старуха, – а потом ударим в набат.
Дверь закрылась, а наши двое юношей продолжали стоять в недоумении, не зная, что им предпринять. Бежать – значило подтвердить мнение, которое составилось о них, а оставаться – значило подвергнуться грубому нападению. Совещаясь, они увидели слабый луч, пробивавшийся сквозь ставню нижнего этажа. Луч расширился, и малиновая шелковая занавеска, из-за которой лился мягкий свет лампы, стала медленно приподниматься. У края занавески появилась рука, казавшаяся при ярком лунном свете белой и полной. Рука осторожно поддерживала бахрому занавески, в то время как чей-то незримый глаз, должно быть, рассматривал то, что делалось вне дома.
– Давай петь: это единственный выход, – сказала своему товарищу Консуэло, – я начну, а ты мне вторь. Нет, возьми скрипку и сыграй любую ритурнель в любом тоне.
Иосиф повиновался, и Консуэло запела во весь голос, одновременно импровизируя и музыку и слова – нечто вроде ритмического речитатива на немецком языке:
«Нас двое бедных пятнадцатилетних детей; мы малы и не сильнее и не злее тех соловушек, чьим сладким песням подражаем».
– Ну, Иосиф, – прошептала она, – еще аккорд, чтобы оттенить речитатив. Затем она продолжала:
«Измученные усталостью, подавленные мрачным одиночеством ночи, мы увидели издали этот дом, он показался нам необитаемым, и мы перекинули через стену одну ногу, а потом и другую».
– Иосиф, еще аккорд в ля минор!
«Очутились мы в заколдованном саду, среди плодов, достойных земли обетованной. Мы умирали от жажды, умирали от голода, и все-таки если не хватит хоть единого красного яблочка на шпалерах, если сорвали мы хоть единую ягодку с виноградной лозы, пусть нас выгонят и проучат как злодеев».
– Теперь, Иосиф, модуляцию, чтобы вернуться в до мажор.
«А между тем нас подозревают, нам грозят; но мы не хотим бежать, не хотим прятаться, ибо не совершили ничего дурного… если только не считать, что мы вошли в дом божий, перелезши через стену. Но когда дело идет о том, чтобы забраться в рай, то все дороги хороши, и кратчайшие – наилучшие».
Консуэло завершила свой речитатив одним из тех красивых хоралов на простонародном латинском языке, известном в Венеции как «latino di frate», которые народ распевает вечерами перед статуями мадонны. Когда она кончила, две белые руки, постепенно высунувшиеся из-за занавесей, бурно зааплодировали, и голос, показавшийся ей не совсем незнакомым, крикнул из окна:
– Добро пожаловать, ученики муз! Входите, входите! Вас ждет здесь гостеприимство!
Юные музыканты приблизились, а минуту спустя лакей в красной с лиловым ливрее вежливо распахнул перед ними двери.
– Я принял было вас за жуликов, прошу извинить меня, друзья мои, – смеясь, сказал он. – Но вы сами виноваты, что не запели раньше. С таким паспортом, как голос и скрипка, вы можете рассчитывать на самый радушный прием у моего хозяина. Пожалуйте. По-видимому, он уже знает вас.
С этими словами приветливый слуга поднялся впереди них по двенадцати ступенькам очень пологой лестницы, покрытой прекрасным турецким ковром. Не успел еще Иосиф спросить имя хозяина, как лакей открыл дверь, тотчас бесшумно за ним закрывшуюся, и, проведя их через уютную переднюю, ввел в столовую, где любезный хозяин этого счастливого обиталища, сидя перед жареным фазаном и двумя бутылками старого золотистого вина, начинал переваривать первое блюдо, уже принявшись с благодушным и одновременно величественным видом за второе. Вернувшись с вечерней прогулки, он приказал привести себя в порядок и освежить себе лицо, что и было исполнено его камердинером. Он был напудрен и выбрит, седеющие кудри мягко вились вокруг его почтенной головы, блестя ирисовой, чудесно пахнущей пудрой. Красивые руки покоились на коленях, обтянутых короткими черными шелковыми панталонами с серебряными застежками. Ноги прекрасной формы, которыми он немного гордился, туго обтянутые прозрачными лиловыми шелковыми чулками, отдыхали на бархатной подушке. Его статное, дородное тело, облаченное в запашный из превосходного красного шелка стеганный на вате халат, утопало в большом, крытом ковровой тканью кресле, где локоть нигде не рисковал наткнуться на угол, до того кресло это было хорошо набито волосом и везде закруглено. Экономка Бригита, сидя у пылающего и потрескивающего камина за креслом хозяина, со священнодействующим видом варила кофе. Второй лакей, не уступавший первому ни в выправке, ни в приветливости, стоя у стола, осторожно отрезал крылышко дичи, спокойно и терпеливо ожидаемое благочестивым отцом.
Иосиф и Консуэло низко поклонились, узнав в хозяине старшего каноника собора святого Стефана, в присутствии которого они прошлым утром служили обедню.
Глава 77
Не было на свете человека, жизнь которого сложилась бы так спокойно и удобно, как жизнь господина каноника. Благодаря многочисленным покровителям, принадлежавшим к королевскому дому, он был в возрасте семи лет объявлен совершеннолетним; хоть человек в эти годы еще и не отличается большим умом, однако, согласно церковному уставу, он в скрытом виде обладает им настолько, чтобы получать и тратить доходы с бенефиция. Вследствие такого постановления тонзурированного юнца возвели в каноники, несмотря на то, что он был побочным сыном короля. Сделано это было в полном соответствии с церковными уставами: ребенок, видите ли, считается законнорожденным, если он получает доходы с церковного имущества и находится под покровительством королевского дома. Те же самые канонические постановления требовали, чтобы каждый претендент на церковное имущество происходил от бесспорного и законного брака, в противном случае его могли объявить «неправоспособным», а в случае надобности – даже «недостойным» и «бесчестным». Но существует столько средств для соглашения с небом! А потому в некоторых случаях каноническое право устанавливало, что подкинутый ребенок может считаться законнорожденным, на том, впрочем, истинно христианском основании, что в случае неизвестного происхождения должно-де скорее предполагать хорошее, чем плохое. Итак, маленький каноник в качестве совершеннолетнего стал получать прекрасный доход с церковного имущества. Дожив до пятидесяти лет и имея за собой сорок лет якобы действительной службы в капитуле, он был признан каноником, отслужившим «юбилейный срок», то есть каноником в отставке. Ему предоставлялось жить где заблагорассудится, не исполнять никакой работы при капитуле, пользуясь, однако, всеми выгодами, доходами и привилегиями канониката. Правда, достойный каноник с юных лет оказывал капитулу очень большие услуги. Он объявил себя «отсутствующим», что на языке каноническом означает право – под более или менее благовидным предлогом – жить вдали от капитула, не теряя при этом доходов с церковного имущества, связанных со службой. Достаточно было чумной эпидемии в его резиденции, чтобы это послужило основанием для «отсутствия». Могло быть причиной «отсутствия» слабое или расстроенное здоровье. Но самым надежным и уважительным поводом являлась ссылка на научные занятия. Для этого предпринимался и объявлялся какой-нибудь объемистый труд на темы о морали, об отцах церкви, о таинствах или, того лучше, об устройстве капитула, к которому принадлежишь, о принципах, на которых он основан, о почетных и материальных выгодах, имеющих отношение к службе при капитуле, о требованиях, которые могли бы быть предъявлены другим капитулам, о процессе, который велся или будет вестись против соперничающей общины по поводу какой-нибудь земли, права попечительства или дома, данного по бенефицию. И такого рода сутяжные и финансовые хитросплетения были настолько интереснее духовному сословию, чем комментарии к учению и разъяснению догматов, что стоило только какому-нибудь видному члену капитула предложить заняться исследованием и наведением справок в правительственных учреждениях относительно старинных документов, набросать записки о судопроизводстве, настрочить жалобы и даже пасквили на богатых противников, как ему предоставляли выгодное и приятное право вернуться к частной жизни и проедать свои доходы либо путешествуя, либо сидя в своем бенефициальном доме у собственного камелька. Так и поступил наш каноник.
Человек умный, одаренный красноречием и изящным слогом, он дал себе слово – и давал его всю жизнь – написать книгу о правах, льготах и привилегиях своего капитула. Окруженный запыленными фолиантами, которые он ни разу не раскрыл, он своей книги не написал, не писал ее и теперь, да и вообще ему не суждено было когда-либо ее написать. Два секретаря, приглашенные им за счет капитула, занимались тем, что опрыскивали его особу духами и готовили ему трапезы. О пресловутой книге много было толков; ее ожидали, на силе ее аргументов строили тысячи воздушных замков, мечтая о славе, мести и золоте. Эта несуществующая книга уже создала своему автору репутацию человека образованного, упорного в труде и красноречивого, чему он вовсе не спешил представить доказательства. И происходило это не потому, что он был неспособен оправдать высокое мнение своих собратий, но потому, что жизнь коротка, а за обедами и ужинами засиживаешься долго, приводить себя в порядок тоже необходимо, ну и doice far niente так восхитительно. Затем у нашего каноника были две невинные, но неутолимые страсти: он обожал садоводство и музыку. Где же было ему при таком количестве дел и занятий найти время для написания книги? Наконец, так приятно говорить о книге, которую не пишешь, и, напротив, так неприятно слышать разговоры о труде, который уже написан. Бенефиции его святой особы представлял собою весьма доходное имение, приобщенное к приории, где каноник жил восемь-девять месяцев в году, предаваясь разведению цветов и ублажению своей утробы. Жилище было обширным и романтическим. Каноник обставил его не только комфортабельно, но даже роскошно. Предоставляя медленно разрушаться корпусу, где жили прежде монахи, он заботливо поддерживал и со вкусом украшал ту часть здания, которая наиболее соответствовала его сибаритским привычкам. Благодаря новым переделкам древний монастырь преобразился в настоящий маленький замок, где благочестивый отец вел жизнь помещика. Он был наиприятнейшей духовной особой: снисходительный, остроумный, когда это требовалось, правоверный и речистый с людьми своего сословия, обходительный, забавный и веселый в светском обществе, любезный, радушный и щедрый с артистами. Слуги каноника, деля с ним хорошую жизнь, которую он умел себе создать, помогали ему изо всех сил. Экономка была немного сварлива, но варила такое вкусное варенье, умела так сохранять фрукты, что он выносил ее скверное расположение духа и спокойно выдерживал бури, говоря себе при этом, что человек должен мириться с чужими недостатками, но не может обойтись без прекрасного десерта и чудесного кофе.
Наши юные музыканты были приняты им с самым милым радушием.
– Вы очень умные и изобретательные дети, – сказал он им, – и я полюбил вас всем сердцем. К тому же вы очень талантливы; а у одного из вас – уж не знаю теперь, у которого – голос самый нежный, самый приятный, самый волнующий из когда-либо слышанных мною. Голос этот – чудо, клад. И я огорчился сегодня, узнав от священника о вашем внезапном уходе; я уж думал, что, должно быть, никогда больше не встречусь с вами, никогда больше не услышу вас. Право, я даже лишился аппетита, стал мрачным, озабоченным… Чудесный голос и чудесная музыка не выходили у меня из головы, продолжали звучать в ушах. Но провидение, действительно желающее мне добра, а быть может, и ваше доброе сердце, дети мои, снова привело вас ко мне, ибо вы, наверное, угадали, что я сумел вас и понять и оценить.
– Должны сознаться, господин каноник, – ответил Иосиф, – что только случай привел нас сюда, и мы далеки были от того, чтобы рассчитывать на такую счастливую случайность.
– Это счастливая случайность для меня, – любезно возразил каноник, – и вы мне споете… Но нет, это было бы слишком эгоистично с моей стороны – вы устали, может быть, голодны… Сначала вы поужинаете, хорошенько выспитесь у меня, а завтра займемся музыкой. Да, музыкой, я буду слушать вас целый день! Андреас, сейчас же проводите молодых людей в буфетную и как можно лучше позаботьтесь о них… Впрочем, нет: поставьте им два прибора на конце стола – они будут ужинать со мной.
Андреас исполнил приказание с готовностью и даже с каким-то благожелательным удовольствием. Но Бригита совсем иначе отнеслась к этому: она покачала головой, пожала плечами и проворчала сквозь зубы:
– Нечего сказать, подходящие сотрапезники! Странное общество для человека вашего круга!
– Замолчите, Бригита! – спокойно ответил каноник. – Вы никогда, никем и ничем не бываете довольны и как только увидите, что кому-нибудь что-нибудь приятно, сейчас же приходите в ярость.
– Вы уж не знаете, что и выдумать для своего времяпрепровождения, – прибавила она, не обращая ни малейшего внимания на сделанное ей замечание. – Лестью, всякими россказнями, песенками вас можно провести, точно малого ребенка.
– Замолчите! – сказал каноник, несколько повышая голос, но не переставая весело улыбаться. – У вас голос оглушительный, как трещотка, и если вы не перестанете ворчать, то совсем потеряете голову и испортите мне кофе.
– Подумаешь, великая радость и большая честь, – прошипела старуха, варить кофе для таких гостей.
– О! Я знаю, вам нужны важные персоны. Вы любите величие. Вы хотели бы иметь дело только с епископами, князьями да канониссами самых старинных дворянских фамилий! А по мне, все это не стоит куплета хорошо исполненной песни.
Консуэло с удивлением слушала, как человек, отличавшийся такой величественной осанкой, мог с каким-то наивным удовольствием препираться со своей экономкой; да и в продолжение всего ужина ее изумляла ребячливость его интересов. Он болтал массу вздора – решительно по поводу всего, просто для провождения времени и для того, чтобы поддержать в себе хорошее настроение. Поминутно он обращался к слугам, то серьезно обсуждая вопрос о соусе к рыбе, то беспокоясь о каком-то диване или столе, заказанном им, тут же давал противоречивые приказания, расспрашивал челядь о самых пустячных подробностях своего хозяйства, обдумывал эти пустяки с торжественностью, достойной серьезнейшей темы, выслушивал одного, останавливал другого, пробирал Бригиту, противоречившую ему на каждом шагу, – и проделывал все это, пересыпая и вопросы и ответы всевозможными прибаутками. Можно было подумать, что, принужденный вследствие своей уединенной и ленивой жизни проводить много времени в обществе прислуги, он, желая дать работу мозгу, а с другой стороны – способствовать пищеварению, занимался гигиены ради упражнением мысли не слишком серьезным и не слишком легким.
Ужин был превосходный и необыкновенно обильный. За жарким господин каноник вызвал повара, благосклонно похвалил его за приготовление некоторых блюд, кратко и наставительно пожурил за другие, не достигшие совершенства. Оба наши путешественника, словно свалившись с облаков, поглядывали друг на друга, думая, что им снится забавный сон, до того все эти изощрения казались ему непостижимыми.
– Ну, ну! Не так уж плохо, – проговорил добродушный каноник, отпуская своего искусника-кулинара, – я сделаю из тебя толк, если будешь стараться и не перестанешь любить свое ремесло.
«Можно вообразить, – подумала Консуэло, – что дело идет об отеческом наставлении или религиозном поучении».
За десертом, отпустив также и экономке ее долю похвал и замечаний, каноник наконец забыл об этих важных вопросах и перешел к музыке, где показал себя своим юным гостям в гораздо лучшем свете. У него было хорошее музыкальное образование, серьезные познания, верные взгляды и просвещенный вкус. Он довольно хорошо играл на органе. Усевшись после обеда за клавесин, он сыграл несколько отрывков из произведений старинных немецких композиторов, исполняя их с тонким вкусом и согласно добрым традициям прошлого. Не без интереса слушала Консуэло его игру. Найдя на клавесине толстую нотную тетрадь со старинными пьесами, она принялась ее перелистывать. Позабыв и об усталости и о позднем времени, она стала просить каноника сыграть, не изменяя своей красивой, тонкой и полнозвучной манере, некоторые из этих пьес, особенно понравившихся ей. Каноник был чрезвычайно польщен, что его слушают с таким удовольствием. Музыка, которую он знал, уже вышла из моды, и потому он не часто находил любителей, способных оценить то, что было ему по сердцу. И вот он воспылал любовью к Консуэло, так как Иосиф, измученный усталостью, заснул в предательски удобном кресле.
– Браво! – воскликнул каноник в порыве увлеченья. – Ты необычайно одарен, дитя мое, и умен не по годам. Тебя ожидает необыкновенная будущность. Впервые жалею я о безбрачии, налагаемом на меня моей профессией. Этот комплимент заставил покраснеть и привел в трепет Консуэло, которой пришло в голову, что в ней признали женщину, но она очень скоро успокоилась, как только каноник наивно прибавил:
– Да, жалею, что у меня нет детей, ибо небо, быть может, послало бы мне такого сына, как ты, а это было бы счастьем моей жизни… будь его матерью хотя бы сама Бригита! Но скажи мне, друг мой, какого ты мнения о Себастьяне Бахе, у которого столько фанатиков-поклонников среди современных ученых? Считаешь ли и ты его таким поразительным гением? У меня там лежит толстенная книга – его произведения; я их собрал и дал переплести, так как все надо иметь в доме… А впрочем, может статься, они действительно прекрасны… Но разбирать их стоит большого труда, и, признаться, после первой же неудачной попытки я поленился снова приняться за них… Притом у меня мало остается времени для самого себя. Ведь я занимаюсь музыкой в редкие минуты, оторванные от более серьезных дел. Ты видел, как я занят управлением моего маленького хозяйства, но из этого не надо заключать, что я человек свободный и счастливый. Наоборот, я раб огромного, страшного, взваленного на себя труда. Я пишу книгу и работаю над нею вот уже тридцать лет, но другой и в шестьдесят не написал бы ее. Книга эта требует неимоверных познаний, бессонных ночей, непоколебимого терпения и самых глубоких размышлений. Зато, мне кажется, книга заставит о себе говорить.
– Но она уже скоро будет кончена? – спросила Консуэло.
– Не так скоро, не так скоро… – ответил каноник, стараясь скрыть от самого себя, что он еще не приступал к ней. – Итак, мы говорили с тобой о музыке этого Баха… она ужасно трудна, да, по-моему, и очень своеобразна.
– А мне кажется, преодолей вы свое предвзятое мнение, вы убедились бы, что Бах – гений; он охватывает, объединяет и одухотворяет все прошлое и настоящее.
– Ну хорошо, – согласился каноник. – Если это так, то завтра мы все втроем попробуем разобрать что-нибудь из его произведений. А теперь вам время спать, а мне – погрузиться в работу. Но завтрашний день вы проведете у меня, не правда ли, это решено?
– Целый день – пожалуй, много, сударь: нам надо спешить в Вену, но все утро мы будем к вашим услугам.
Каноник запротестовал, стал настаивать, и Консуэло сделала вид, что сдается, решив утром несколько ускорить адажио великого Баха, с тем, чтобы выбраться из приории не позднее двенадцати часов дня.
Когда вопрос коснулся ночлега, горячий спор возник на лестнице между Бригитой и главным камердинером. Усердный Иосиф, стараясь угодить своему барину, приготовил для молодых музыкантов две хорошенькие келейки в недавно отремонтированном здании, занимаемом каноником и его свитой. Бригита же, напротив, упорно настаивала на том, чтобы поместить их в заброшенных кельях старинного монастыря. «Эта часть здания, – говорила она, – отделена от новой капитальными дверями и крепкими запорами».
– Как! – кричала экономка своим пронзительным голосом на гулкой лестнице. – Вы собираетесь поместить этих бродяг дверь в дверь с нами? Да разве вы не видите по их лицам, по их манерам, по их ремеслу, что это цыгане, авантюристы, скверные маленькие разбойники, которые сбегут отсюда до света, утащив с собой нашу серебряную посуду! Да еще неизвестно, не убьют ли они нас самих.
– Убьют! Эти-то дети! – воскликнул, смеясь, камердинер. – Вы с ума сошли, Бригита. Хоть вы и старая и дряхлая, а, пожалуй, сами еще обратите их в бегство, стоит вам только ощериться.
– Сами вы старый и дряхлый, слышите! – кричала в ярости старуха. – Говорю вам, они не будут здесь ночевать, я этого не хочу! Ну да! С ними всю ночь не сомкнешь глаз!
– И совершенно напрасно: я глубоко уверен, что у этих детей не больше моего охоты беспокоить ваш почтенный сон. Но довольно об этом. Господин каноник приказал мне хорошенько позаботиться об его гостях, и я не упрячу их в эту лачугу, полную крыс, где гуляет ветер. Быть может, вы еще хотите уложить их там на голом полу?
– Я велела садовнику поставить для них две складные кровати. А вы считаете, что эта голь привыкла к пуховикам?
– Тем не менее эту ночь они будут спать на пуховиках, так как барин этого желает. А я, госпожа Бригита, признаю только его приказания. Предоставьте мне исполнять свои обязанности и помните, что ваш долг, так же как и мой, – повиноваться, а не приказывать.
– Правильно, Иосиф! – проговорил, смеясь, каноник, слышавший через полуоткрытую дверь передней весь этот спор. – А вы, Бригита, идите приготовьте мне туфли и оставьте нас в покое. До свиданья, юные друзья мои. Ступайте за Иосифом и спите хорошенько. Да здравствует музыка! Да здравствует завтрашний прекрасный день!
Долго еще после того, как наши путешественники расположились в своих хорошеньких келейках, доносилась до них воркотня экономки, словно зимний северный ветер завывал по коридорам. Когда же шум, свидетельствовавший о торжественном отходе ко сну каноника, совершенно затих, Бригита подошла на цыпочках к дверям юных гостей и заперла их, быстро повернув ключ в каждом замке. Иосиф, погрузившись в лучшую из когда-либо попадавшихся ему в жизни постелей, уже крепко спал. Консуэло также последовала его примеру, немало посмеявшись в душе над ужасом Бригиты. Дрожа от страха почти все ночи во время своего путешествия, она теперь в свою очередь приводила в трепет других. Она могла бы применить к себе басню о зайце и лягушках, но я не уверен, были ли известны Консуэло басни Лафонтена. Как раз в то время достоинство их оспаривалось величайшими умами мира: Вольтер осмеивал их, а Фридрих Великий, подражая, как обезьяна, своему философу, тоже относился к ним с глубочайшим презрением.
Глава 78
Ранним утром Консуэло разбудило восходящее солнце и веселое щебетанье тысячи птиц в саду. Девушка попробовала было выйти из своей комнаты, но «арест» не был еще снят: госпожа Бригита продолжала держать своих пленников под замком. Консуэло пришло в голову, что это, пожалуй, хитрая выдумка каноника: желая наслаждаться весь день музыкой, он прежде всего счел нужным обеспечить себя музыкантами. Молодая девушка, чувствовавшая себя в мужском костюме вполне свободно, стала куда смелее и приобрела известную ловкость; выглянув в окно, она убедилась, что вылезть из него не так уж трудно, ибо вдоль всей стены вились по крепким шпалерам старые виноградные лозы. И вот, спустившись тихонько и осторожно, чтобы не попортить чудесного монастырского винограда, она очутилась на земле и забралась в сад, смеясь в душе над удивлением и разочарованием Бригиты, когда та обнаружит, что все ее предосторожности ни к чему не привели. Консуэло опять увидела, уже при новом освещении, прелестные цветы и роскошные плоды, которыми восхищалась накануне при лунном свете. Купаясь в косых лучах розового улыбающегося солнца, еще краше зацвели под свежим дыханием утра исполненные поэзии прекрасные творения земли. Атласно-бархатистый налет покрыл плоды, на всех ветвях кристальными бусинками повисла роса, от посеребренных газонов шел легкий пар, словно страстное дыхание земли, стремящееся достигнуть неба и слиться с ним в нежном, любовном порыве. Но ничто в этот таинственный час рассвета не могло сравниться со свежестью и красотой цветов, когда они, еще влажные от ночной росы, приоткрылись как бы для того, чтобы обнаружить сокровища своей чистоты, излить свои тончайшие ароматы. Только самый первый и чистый солнечный луч достоин был мельком взглянуть на них, на мгновение обладать ими. Цветник каноника мог служить источником наслаждения для любого садовода-любителя. Консуэло же он показался слишком симметрично разбитым, слишком ухоженным. И все же десятки сортов роз, редкие и прекрасные гибискусы, пурпуровый шалфей, до бесконечности разнообразная герань, благоухающий дурман с глубокими опаловыми чашечками, наполненными амврозией богов, изящные ласточники (в их тонком яде насекомое, упиваясь негой, находит смерть), великолепные кактусы, подставлявшие солнцу свои яркие венчики на утыканных колючками стволах, и еще тысячи редких, великолепных, никогда не виданных Консуэло растений, названия и родины которых она не знала, надолго приковали ее внимание.
Исследуя различную форму растений, анализируя те чувства, которые, казалось, выражал весь их облик, она стала искать связь между музыкой и цветами и задумалась над тем, как эти два увлечения совмещаются в душе хозяина этого дома и сада. Ей уже и раньше приходило в голову, что гармония звуков отвечает гармонии красок. А гармонией гармоний ей казался аромат. Консуэло погрузилась в смутные сладкие мечтания, и в эту минуту ей чудилось, будто она слышит голоса, исходившие от каждого прелестного венчика, голоса, рассказывавшие ей о тайнах поэзии на языке, до сих пор ей неведомом. Роза говорила о страстной любви, лилия – о своей непорочности, пышная магнолия втихомолку поведала о чистых радостях святой гордости, а крошечная маргаритка шептала о прелестях простой, скромной жизни. Некоторые цветы громко и властно заявляли: «Я красива и царствую». Другие шептали еле внятно, но таким нежным, в душу проникающим голосом: «Я мала и любима». И все вместе качались в такт с утренним ветерком, образуя воздушный хор, который постепенно замирал среди умиленных трав и листвы, жаждавших уловить таинственный смысл происходящего.
Вдруг в эту идеальную гармонию ворвались пронзительные, ужасные, мучительные человеческие крики, нарушившие восхитительно созерцательное настроение Консуэло; крики неслись к ней из чащи деревьев, скрывавшей монастырскую ограду. Вслед за криками, замершими в деревенской тиши, послышался грохот экипажа, затем экипаж, по-видимому, остановился, и кто-то принялся колотить в решетчатые ворота, замыкавшие сад» с этой стороны. Но либо в доме все еще спали, либо никто не хотел ответить, – потому что приезжие долго стучали впустую, а пронзительные крики женщины, прерывавшиеся энергичной бранью мужчины, взывавшего о помощи, разбивались о монастырские стены, не вызывая в них отклика, как и в сердцах живущих под их сенью людей. Все окна фасада были так хорошо законопачены для охранения сна каноника, что ни единый звук не мог проникнуть сквозь сплошные дубовые ставни, обитые кожей на конском волосе. Слуги, занятые во внутреннем дворике позади дома, не слышали криков, а собак в приории не имелось: каноник не любил этих назойливых стражей, которые под предлогом ограждения от воров нарушают покой своих хозяев. Консуэло попробовала было проникнуть в дом, чтобы дать знать о прибытии путешественников, оказавшихся, по-видимому, в бедственном положении, но все было так крепко заперто, что она отказалась от этой мысли и в волнении бросилась к решетчатым воротам, из-за которых доносился шум.
Дорожный экипаж, нагруженный доверху багажом и побелевший от пыли после долгого пути, стоял перед главной аллеей сада. Форейторы слезли с лошадей и старались расшатать негостеприимные ворота, а стоны и жалобы все неслись из экипажа.
– Откройте, если вы христиане, – кричали оттуда, – у нас тут умирает дама!
– Откройте! – закричала, высовываясь из окна кареты, женщина, черты лица которой были незнакомы Консуэло, но чье венецианское произношение поразило ее. – Госпожа моя умрет, если ей сейчас же не дадут приюта. Откройте, коли вы не звери!
Консуэло, не думая о последствиях своего порыва, бросилась открывать ворота, но на них висел огромный замок, ключ от которого, вероятно, находился в кармане Бригиты. Звонок тоже не действовал благодаря потайной пружине. В этой спокойной местности, где жители отличались большой честностью, такие предосторожности принимались не против воров, а, по-видимому, против шума и беспокойства, причиняемых слишком поздними или слишком ранними посетителями. Несмотря на страстное желание помочь, Консуэло, не в силах ничего сделать, с горестью выслушивала брань горничной, которая, обращаясь к своей хозяйке, нетерпеливо выкрикивала по-венециански:
– Дуралей, увалень этакий! Открыть ворота не умеет!
Немецкие форейторы, более терпеливые и спокойные, старались помочь Консуэло, но так же безуспешно. Тут больная дама, высунувшись из окна кареты, крикнула громким голосом на ломаном немецком языке:
– А! Черт тебя побери! Да беги же за кем-нибудь, чтоб открыли! Мерзкая скотина!
Энергичное обращение дамы успокоило Консуэло относительно угрожавшей больной близкой смерти. «Если она близка к кончине, то во всяком случае к какой-то весьма буйной кончине», – подумала девушка и обратилась к путешественнице по-венециански:
– Я не из этого дома, меня здесь приютили только на ночь. Постараюсь разбудить хозяев, но этого так скоро и просто не сделаешь. Неужели, сударыня, вы в такой опасности, что не можете немного обождать, не приходя в отчаяние?
– Я рожаю, дурень! – закричала путешественница. – Мне некогда ждать! Беги, кричи, хоть разнеси все, а приведи людей и помоги мне войти сюда. За труды тебе хорошо заплатят…
Она снова принялась вопить, а у Консуэло задрожали колени: это лицо, этот голос были ей знакомы.
– Как зовут вашу хозяйку? – крикнула она горничной.
– А тебе что до этого? Беги же, негодный! – проговорила взволнованная горничная. – Если будешь медлить, ничего от нас не получишь!
– Да я ничего и не хочу от вас, – горячо возразила Консуэло, – но мне надо знать, кто вы. Если ваша госпожа музыкантша, ее примут здесь без всяких разговоров, а она, если я не ошибаюсь, знаменитая певица.
– Иди, мальчик, – сказала роженица, находившая в себе силы в промежутках между схватками быть хладнокровной и энергичной. – Иди скажи жителям этого дома, что знаменитая Корилла может умереть, если какая-нибудь христианская душа или душа артиста не сжалится над ее положением. Я заплачу… скажи, что я щедро заплачу.
– София, – обратилась она к горничной, – прикажи положить меня на землю; я буду меньше мучиться, лежа на дороге, чем в этой адской карете. Консуэло уже мчалась к приории, твердо решив устроить оглушительный шум и во что бы то ни стало добраться до самого каноника. Девушка уже не думала удивляться или приходить в волнение от странной случайности, которая привела сюда ее соперницу, причину всех ее несчастий. Она хотела только одного – помочь ей. Стучать Консуэло не понадобилось: она встретила Бригиту – домоправительница каноника, привлеченная криками, выходила из дома в сопровождении садовника и камердинера.
– Хорошенькая история, нечего сказать! – сурово проговорила старуха, когда Консуэло изложила ей суть дела. – Не ходите туда, Андреас, не двигайтесь и вы с места, господин садовник. Разве вы не видите, что все подстроено этими бандитами для того, чтобы нас ограбить и убить? Я ждала этого. Тревога эта – хитрость! Шайка злодеев шныряет вокруг дома, в то время как те, которых мы приютили, стараются под благовидным предлогом ввести их к нам. Ступайте за ружьями, господа, и будьте готовы прикончить эту мнимую роженицу с усами и в штанах. Ну хорошо! Пусть даже это роженица. Допустим! Она принимает наш дом за больницу, что ли? У нас тут нет акушерки, я лично ничего не смыслю в таких делах, а господин каноник не любит писка новорожденных. Как же дама могла пуститься в дорогу, зная, что ей время родить? А раз она это сделала, кто же виноват? Да можем ли мы избавить ее от страданий? Пусть родит в своей карете: ей там будет не хуже, чем у нас, где ничего не приспособлено для такого неожиданного подарка.
Эту речь, начатую для Консуэло, Бригита, брюзжа, продолжала, пока они шли по аллее, и закончила у ворот – уже для горничной Кориллы.
В то время как путешественницы после тщетных переговоров обменивались упреками и даже бранью с несговорчивой экономкой, Консуэло, надеясь на доброту каноника и слабость его к музыке, проникла в дом. Напрасно искала она комнату хозяина – она только заблудилась в обширном помещении, закоулки которого были – ей неизвестны. Наконец она натолкнулась на Гайдна, разыскивавшего ее, и он сказал, что видел, как каноник направился к оранжерее. Они вместе бросились туда и вскоре увидели в сводчатой жасминной аллее почтенного хозяина: он шел им навстречу. Лицо его сияло весельем, как утро этого прекрасного осеннего дня. Взглянув на приветливого каноника, гулявшего в своем уютном стеганом ватном шлафроке по дорожкам, где его изящная нога мягко ступала по мелкому, пройденному граблями песку, Консуэло не сомневалась, что такое счастливое существо, с такой чистой совестью, столь удовлетворенное во всех своих желаниях, будет в восторге от возможности совершить доброе дело. Едва она заговорила, передавая просьбу бедной Кориллы, как появилась Бригита и перебила ее.
– Там у ворот, – начала старуха, – бродяга, певица из театра; выдает себя за знаменитость, а вид у нее и разговор распутной девки. Она уверяет, что сейчас родит, а кричит и бранится, как тридцать чертей вместе взятых. Хочет родить в вашем доме. Подумайте, подходящее ли это для вас дело?
У каноника вырвался жест отвращения, – очевидно, он собирался отказать.
– Господин каноник, – обратилась к нему Консуэло, – кто бы ни была эта женщина, она страдает, жизнь ее, быть может, в опасности, так же как и жизнь невинного создания, которого бог призывает в этот мир, – и религия повелевает вам принять его по-христиански и по-отечески. Не правда ли, вы не покинете несчастную, не допустите, чтобы она погибла, стеная, у вашей двери?
– А что, она замужняя? – холодно спросил каноник после минутного раздумья.
– Этого я не знаю; возможно. Но что до того? Господь посылает ей счастье быть матерью. Он один имеет право ее судить…
– Она сказала свое имя, господин каноник, – энергично вмешалась Бригита, – наверное, вы должны ее знать, вы же водитесь со всеми комедиантами Вены. Ее зовут Корилла.
– Корилла! – воскликнул каноник. – Она бывала в Вене, и я много о ней слышал; говорят, у нее прекрасный голос.
– Ну вот, ради ее голоса прикажите открыть ворота! Она лежит на песке, на самой дороге, – настаивала Консуэло.
– Но ведь это женщина легкого поведения, – возразил каноник. – Два года тому назад у нее была скандальная история в Вене.
– Помните, господин каноник, у вас есть немало завистников. Роди только в вашем доме погибшая женщина… в этом, поверьте, не усмотрят случайности, а дела милосердия и того меньше. Вам ведь известно, что у каноника Герберта есть виды на юбилярство и он уже отставил от должности одного молодого собрата под предлогом, будто тот небрежно относился к церковным службам ради дамы, которая всегда в эти часы у него исповедовалась. Господин каноник, такой бенефиции, как ваш, легче потерять, чем добыть.
Эти слова вдруг оказали решающее действие. Каноник воспринял их в святилище своего благоразумия, хотя притворился, что пропустил мимо ушей.
– В двухстах шагах отсюда есть постоялый двор, – проговорил он, – пусть эту даму отвезут туда. Она найдет там все, что ей надо, и ей будет там гораздо удобнее и приличнее, чем у холостяка. Ступайте, скажите ей это, Бригита, и, прошу вас, держите себя с ней вежливо, как можно вежливее. Укажите форейторам, где находится постоялый двор. А вы, дети мои, – обратился он к Консуэло и Иосифу, – пойдемте со мной разбирать фугу Баха, пока нам готовят завтрак.
– Господин каноник, – начала взволнованно Консуэло, – неужели вы покинете…
– Ах! – воскликнул огорченно каноник. – Зачахла самая красивая из моих волкамерии! Говорил же я садовнику, что он недостаточно часто ее поливает. Самое редкое, самое дивное растение моего сада! Это нечто роковое! Взгляните, Бригита! Позовите-ка садовника, я его проберу.
– Раньше всего я прогоню знаменитую Кориллу, – ответила, удаляясь, Бригита.
– И вы согласны с этим? Вы это приказываете, господин каноник? воскликнула с негодованием Консуэло.
– Не могу поступить иначе, – ответил он кротко, но спокойным тоном, говорившим о непоколебимой решимости, – и желаю, чтобы об этом больше не было речи. Идемте же, я вас жду, начнем музицировать!
– Никакой музыки здесь для нас не может быть! – возбужденно ответила Консуэло. – Вы бесчувственный человек и неспособны понять Баха. Пусть погибнут ваши цветы и ваши плоды! Пусть пропадут от мороза жасмин и ваши красивейшие деревья! Эта плодородная земля, приносящая вам все в таком изобилии, не должна была бы ничего родить, кроме терний, потому что вы бессердечны, вы похищаете дары неба и не умеете использовать их для гостеприимства!
В то время как Консуэло изливала свое возмущение, пораженный каноник озирался кругом, словно боясь, как бы проклятие небес, призываемое этой пылкой душой, не обрушилось на его драгоценные волкамерии и любимые анемоны. Высказав все, Консуэло бросилась к воротам, которые по-прежнему были на запоре, перелезла через них и последовала за каретой Кориллы, направлявшейся шагом к жалкому кабаку, без всякого основания награжденному каноником званием постоялого двора.
Глава 79
Иосиф Гайдн уже привык подчиняться внезапным решениям своего друга, но, более предусмотрительный и спокойный, чем Консуэло, он догнал ее лишь после того, как сбегал в дом за дорожной котомкой, нотами, а главное – за скрипкой, источником существования, утешительницей и веселой спутницей их путешествия.
Кориллу положили на скверную кровать в немецкой харчевне, такую короткую, что либо голова, либо ноги должны были висеть в воздухе. К несчастью, в этой жалкой лачуге не было женщин: хозяйка ушла на богомолье за шесть миль, а работница погнала корову на пастбище. Дома были старик и мальчик. Скорее испуганные, чем польщенные честью принимать у себя такую богатую путешественницу, они всецело предоставили свой домашний очаг в распоряжение приезжих, не думая о вознаграждении, которое могли за это получить. Старик был глух; пришлось ребенку отправиться за акушеркой в соседнюю деревню, отстоявшую чуть ли не на расстоянии мили; форейторы гораздо больше беспокоились о своих лошадях, которых нечем было накормить, чем о путешественнице. Предоставленная попечениям горничной, окончательно потерявшей голову, – она кричала почти так же громко, как ее госпожа, – роженица оглашала воздух стонами, напоминавшими скорее рычание львицы, чем вопли женщины.
Консуэло, охваченная ужасом и жалостью, решила не покидать несчастную.
– Иосиф, – сказала она своему товарищу, – вернись в приорию, хотя бы тебе и пришлось встретить там плохой прием: не следует быть гордым, когда просишь за других. Скажи канонику, что сюда нужно прислать белья, бульона, старого вина, матрацев, одеял – словом, все необходимое больному человеку. Поговори с ним кротко, но решительно и обещай, если понадобится, что мы придем к нему играть, лишь бы он оказал помощь этой женщине.
Иосиф отправился в приорию, а бедной Консуэло пришлось быть невольной свидетельницей отвратительной сцены, когда женщина без веры и сердца, богохульствуя и проклиная, переносит священные муки материнства. Целомудренная и благочестивая девушка содрогалась, видя эти муки, которых ничто не могло смягчить, ибо вместо святой радости и набожного упования сердце Кориллы было полно злобы и горечи. Она не переставая проклинала свою судьбу, путешествие, каноника с его экономкой и даже ребенка, которого производила на свет. Она была так груба со своей горничной, что у той все валилось из рук. Наконец, совсем выйдя из себя, Корилла крикнула ей:
– Ну, погоди, я так же буду за тобой ухаживать, когда придет твой черед! Ведь я прекрасно знаю, что ты тоже беременна, и отправлю тебя рожать в больницу. Прочь с глаз моих! Ты меня только беспокоишь и раздражаешь.
София, в ярости и отчаянии, со слезами выбежала из комнаты, а Консуэло, оставшись наедине с возлюбленной Андзолето и Дзустиньяни, старалась успокоить и облегчить ее страдания. Неистовствуя и испытывая адские муки, Корилла все же сохранила какое-то звериное мужество, дикую силу, в которых сказывалась вся нечестивость ее пылкой, здоровой натуры. Когда боли на минуту отпускали ее, она снова делалась бодрой и веселой.
– Черт возьми! – обратилась она вдруг к Консуэло, совершенно не узнавая ее, так как видела девушку только издали или на сцене в костюмах, совсем не похожих на тот, который был на ней теперь. – Вот так приключение! А многие не поверят мне, если я расскажу, что родила в кабаке с таким доктором, как ты. Ты похож на цыганенка со своей смуглой мордочкой и большущими черными глазами. Кто ты? Откуда ты взялся? Как ты здесь очутился? И почему ты меня обихаживаешь? Ах, нет, не отвечай мне, я все равно не услышу, уж слишком я страдаю! Ah misera me! Только бы не умереть! О нет, я не умру! Не хочу умирать! Цыганенок, ты ведь не бросишь меня? Не уходи! Не уходи! Не дай мне умереть! Слышишь?
И вновь возобновились крики, прерываемые новым богохульством.
– Проклятый ребенок! – говорила она. – Так и вырвала бы тебя из утробы и швырнула б подальше!
– Ох! Нет! Не говорите так! – воскликнула, вся похолодев от ужаса, Консуэло. – Вы будете матерью, будете счастливы, когда увидите своего ребенка, не пожалеете, что страдали.
– Я? – проговорила с циничным хладнокровием Корилла. – Ты воображаешь, что я буду любить этого ребенка? Ах! Как ты ошибаешься! Великое счастье быть матерью, нечего сказать! Как будто я не знаю, что это значит: страдать рожая, работать, чтобы кормить этих несчастных, не признаваемых отцами, видеть, как сами они страдают, не знать, что с ними делать, страдать, бросая их… ведь в конце-то концов все-таки их любишь… но этого я любить не буду. О! Клянусь богом! Я буду ненавидеть его, как ненавижу его отца!..
И Корилла, исступление которой, несмотря на внешнее хладнокровие и презрение, все возрастало, закричала в неистовой злобе, вызываемой у женщины жестокими страданиями:
– Ах! Проклятый! Да будь он трижды проклят, отец этого ребенка!
Она задыхалась, вопила, издавая нечленораздельные звуки, разорвала в клочки косынку, которая прикрывала ее грудь, клокотавшую от муки и злости; схватив за руку Консуэло, впившись в нее пальцами, судорожно сжатыми от боли, она не прокричала, а скорее прорычала:
– Да будь он проклят! Проклят! Проклят! Подлый, бесчестный Андзолето!
В эту минуту вернулась София и через четверть часа, умудрившись принять у своей госпожи ребенка, бросила на колени Консуэло первую попавшуюся тряпку из театрального гардероба, выхваченную из наспех открытого сундука. Это был бутафорский плащ из выцветшего атласа, отделанный мишурной бахромой. В эту импровизированную пеленку благородная, целомудренная невеста Альберта завернула дитя Андзолето и Кориллы.
– Ну, синьора, успокойтесь, – проговорила добрым, искренним голосом бедная горничная, – родили вы благополучно, и у вас хорошенькая крошечная дочка.
– Девочка или мальчик – мне все равно, но я больше не страдаю, – ответила Корилла, приподнимаясь на локте и даже не глядя на ребенка. – Подай мне большой стакан вина!
Иосиф как раз принес из приории вина, и притом самого лучшего. Каноник великодушно исполнил просьбу Консуэло, и вскоре у больной было в изобилии все, что нужно в таких случаях. Корилла подняла своей сильной рукой поданный ей серебряный кубок и осушила его с непринужденностью маркитантки; затем, бросившись на чудесные подушки каноника, заснула с глубокой беспечностью, присущей железному организму и ледяной душе. Пока она спала, ребенка как следует спеленали, а Консуэло сходила на соседний луг за овцой, которая и стала первой кормилицей новорожденной. Мать, проснувшись, приподнялась с помощью Софии, выпила стакан вина и на минуту призадумалась. Консуэло, держа на руках дитя, ждала пробуждения материнской нежности, но у Кориллы было на уме совсем иное. Взяв до мажор, она с серьезным видом пропела гамму в две октавы и захлопала в ладоши.
– Браво, Корилла! – воскликнула она. – Голос у тебя ничуть не пострадал, можешь рожать детей, сколько тебе заблагорассудится!
Затем она расхохоталась, поцеловала Софию и, сняв со своей руки бриллиантовое кольцо, надела ей на палец.
– Это чтоб утешить тебя за брань, – сказала она. – А где моя маленькая обезьянка? Ах! Бог мой! – воскликнула она, глядя на ребенка.
– Блондинка, на него похожа! Ну, тем хуже для него! Горе ему! Не распаковывайте столько сундуков, София! О чем вы думаете? Неужели вы вообразили, что я здесь останусь? Как бы не так! Вы дура и не знаете, что такое жизнь. Я намерена завтра же пуститься в путь. Ах, цыганенок, ты держишь ребенка совсем как женщина. Сколько тебе дать за заботы обо мне и за труды? Знаешь, София, мне никогда не служили лучше, никогда не ходили лучше за мной! Ты, значит, из Венеции, дружочек? Приходилось тебе слышать мое пение?
Консуэло ничего не ответила. Впрочем, и ответь она, ее все равно не стали бы слушать. Корилла внушала ей отвращение. Она передала ребенка только что возвратившейся служанке кабака, по виду очень славной женщине, затем кликнула Иосифа, и они вместе вернулись в приорию.
– Я не давал обещания канонику привести вас к нему, – сказал по дороге Иосиф. – Кажется, он сконфужен своим поведением, хотя вид у него был очень милостивый и веселый; при всем своем эгоизме он не злой человек, он так искренне радовался, посылая все нужное Корилле.
– На свете столько черствых и скверных людей, – ответила Консуэло, – что люди, слабые духом, внушают скорее жалость, чем отвращение. Я хочу загладить перед бедным каноником свою вину, ведь я так вспылила. Раз Корилла не умерла и, как говорится, мать и дитя чувствуют себя хорошо, а наш каноник способствовал этому сколько мог, не подвергая опасности свой драгоценный бенефиции, я хочу отблагодарить его. К тому же у меня есть свои причины остаться в приории до отъезда Кориллы. О них я скажу тебе завтра.
Бригита отправилась на соседнюю ферму, и Консуэло, приготовившаяся было бесстрашно выступить против этого цербера, очень обрадовалась, что их встретил ласковый, услужливый Андреас.
– Пожалуйте, пожалуйте, друзья мои! – воскликнул он, проводя их в покои своего хозяина. – Господин каноник в ужасно грустном настроении духа, он почти ничего не кушал за завтраком и три раза просыпался во время полуденного отдыха. Сегодня у него было два больших огорчения: погибла его лучшая волкамерия и он потерял надежду послушать музыку. К счастью, вы вернулись, и, значит, одним огорчением стало меньше.
– Над нами он насмехается или над своим хозяином? – спросила Консуэло Иосифа.
– И то и другое, – ответил Гайдн. – Только бы каноник не сердился на нас, мы тогда повеселимся на славу.
Каноник не только на них не сердился, а, наоборот, встретил их с распростертыми объятиями, настоял, чтобы они позавтракали, а потом вместе с ними засел за клавесин. Консуэло заставила его постичь дивные прелюдии великого Баха и восхититься ими, а чтобы окончательно привести его в хорошее расположение духа, пропела лучшие вещи своего репертуара, не стремясь изменить голос и не особенно беспокоясь о том, что он может догадаться о ее поле и возрасте. Каноник был склонен ни о чем не догадываться и вовсю наслаждался ее пением. Он действительно был страстным любителем музыки, и в его восторге было столько непосредственной искренности, что Консуэло невольно пришла в умиление.
– Ах! Дорогое дитя! Благородное дитя! Счастливое дитя! – восклицал растроганный каноник со слезами на глазах. – Ты превратил сегодняшний день в счастливейший день моей жизни! Но что будет со мной теперь? Нет! У меня не хватит сил перенести утрату такого наслаждения, и я зачахну от тоски. Больше я не смогу заниматься музыкой. В душе моей будет жить идеал, и меня загрызет тоска по нему. Я ничего уже теперь не буду любить, даже моих цветов…
– И будете очень неправы, господин каноник, – ответила Консуэло, ваши цветы поют лучше меня.
– Что ты говоришь? Мои цветы поют? Я никогда не слышал.
– Да потому, что вы их никогда не слушали. А я сегодня утром слушал их, постиг их тайну, уловил их мелодию.
– Странное ты дитя! Гениальное! – воскликнул каноник, отечески целомудренно лаская темные кудри Консуэло. – Ты одет бедняком, а достоин всяческого поклонения. Но скажи мне, кто ты? Где научился ты тому, что знаешь?
– Случай, природа, господин каноник.
– Ох! Ты обманываешь меня, – с лукавым видом сказал каноник, у которого всегда было наготове шутливое словцо. – Ты, наверно, сын какого-нибудь Кафарелли или Фаринелли! Но послушайте, дети мои, – внезапно оживляясь, самым серьезным тоном прибавил он, – я не хочу расставаться с вами. Я беру на себя заботу о вас, оставайтесь со мной. У меня есть состояние, я поделюсь им с вами. Я стану для вас тем, чем был Гравина для Метастазио. Это будет моим счастьем, моей славой. Свяжите свою судьбу с моею, для этого надо только, чтобы вас посвятили в младшие клирики. Я выхлопочу вам какие-нибудь хорошие бенефиции, а после моей смерти вам останутся от меня в наследство недурные сбереженьица, которые я вовсе не намерен оставлять этой злючке Бригите.
В то время как каноник говорил, вдруг вошла Бригита и услышала его последние слова.
– А я не намерена дольше служить вам, – визгливо закричала она, плача от ярости, – довольно я жертвовала своей молодостью и своей репутацией неблагодарному хозяину!
– Твоей репутацией? Твоей молодостью? – не смущаясь, насмешливо перебил ее каноник. – Ну, ты себе льстишь, милая старушка, твоя «молодость» оберегает твою репутацию!
– Насмехайтесь, насмехайтесь, – возразила она. – Но приготовьтесь распроститься со мной. Я сию же минуту покину дом, где не могу установить никакого порядка, никакой благопристойности. Хотела я помешать вам делать безрассудства, расточать ваше имущество, унижать ваш сан, да вижу, что все это ни к чему. Ваша бесхарактерность и несчастная звезда толкают вас к погибели, и первые попавшиеся вам под руку скоморохи так ловко кружат вам голову, что того гляди оберут вас. Давным-давно каноник Гербер зовет меня к себе служить и предлагает условия гораздо лучше ваших. Я устала от всего, что здесь вижу. Рассчитайте меня! Я больше ни одной ночи не проведу под вашей кровлей.
– Так вот до чего дошло дело, – спокойно проговорил каноник. – Ну, хорошо, Бригита, ты доставляешь мне большое удовольствие; смотри только, не передумай! Я никогда никого не выгонял, и мне кажется, служи у меня сам дьявол, я не выставил бы его за дверь, настолько я добродушен; но если бы дьявол покинул меня, я пожелал бы ему доброго пути и отслужил бы молебен после его ухода. Ступай же, укладывай свои вещи, Бригита; что до твоего расчета, то, милая моя, произведи его сама. Бери все, что пожелаешь, все, чем я владею, только бы ты поскорее убиралась отсюда!
– Ах, господин каноник, – проговорил Гайдн, взволнованный этой домашней сценой, – вы еще пожалеете о старой служанке, ведь она, по-видимому, очень привязана к вам…
– Она привязана к моему бенефицию, – ответил каноник, – а я буду жалеть только о ее кофе.
– Вы привыкнете обходиться без вкусного кофе, господин каноник, – твердо заявила строгая Консуэло, – и хорошо сделаете. А ты, Иосиф, молчи и ничего не говори в ее защиту. Я все ей скажу в лицо, потому что все это правда. Она злая и вредит своему хозяину. Сам он добрый человек, природа сотворила его благородным и великодушным, а из-за этой женщины он делается эгоистом. Она подавляет добрые порывы его души, и если он оставит ее у себя, то станет сам таким же черствым, таким же бесчеловечным, как она. Простите, господин каноник, что я так говорю с вами. Вы столько заставляли меня петь и привели меня своим воодушевлением в такое восторженное состояние, что я, быть может, немного сам не свой. Если я и чувствую какое-то опьянение, то это ваша вина. Но смею вас уверить, что человек, находящийся в таком состоянии, всегда говорит истину, ибо опьянение это благородно и будит в нас лучшие чувства. В такие минуты у нас что на сердце, то и на языке, и сейчас с вами говорит мое сердце. Когда же я приду в спокойное состояние духа, я буду более почтителен, но менее искренен. Поверьте, я не гонюсь за вашим состоянием, я вовсе не желаю его, не нуждаюсь в нем! Когда я захочу, у меня будет больше вашего, а жизнь артиста подвергнута стольким случайностям, что, пожалуй, вы еще меня переживете и, быть может, я впишу вас в свое завещание в благодарность за то, что вы хотели оставить в мою пользу свое. Завтра мы уходим и, должно быть, больше никогда с вами не увидимся, но мы уйдем с сердцем, переполненным радостью, уважением, почтением и благодарностью к вам, если вы уволите госпожу Бригиту, у которой я прошу извинения за мой образ мыслей.
Консуэло говорила с таким жаром, искренность и прямота так явно читались на ее лице, что слова ее поразили каноника, словно молния.
– Уходи, Бригита! – сказал он экономке с важным, решительным видом. – Истина говорит устами младенцев, а разум этого ребенка – могучая сила. Уходи, ибо сегодня утром ты заставила меня совершить дурной поступок и толкнула бы меня на подобные и в дальнейшем, потому что я слаб и подчас труслив. Уходи, ибо ты делаешь меня несчастным. Уходи, – прибавил он, улыбаясь, – ибо ты стала пережаривать мой кофе, а все сливки, в которые ты суешь свой нос, скисают.
Последний упрек оказался для Бригиты чувствительнее всех других, – уязвленная в самое больное место, гордая старуха лишилась языка. Она выпрямилась, кинула на каноника взгляд, исполненный сострадания, почти презрения, и удалилась с видом театральной королевы. Два часа спустя эта свергнутая королева покинула приорию, предварительно немножко пограбив ее. Каноник сделал вид, что ничего не заметил, и по блаженному выражению его лица Гайдн понял, что Консуэло оказала ему истинную услугу. Для того чтобы каноник не испытал ни малейшего сожаления, юная артистка сама приготовила ему за обедом кофе по венецианскому способу – как хорошо известно, лучшему в мире. Андреас тотчас же стал под ее руководством изучать это искусство, и каноник объявил, что в жизни своей не пробовал кофе вкуснее. После обеда снова занимались музыкой, послав предварительно справиться о здоровье Кориллы, которая, как доложили, уже сидела в кресле, присланном ей каноником. Чудесным вечером при луне они гуляли в саду. Каноник, опираясь на руку Консуэло, не переставал умолять ее принять священство и стать его приемным сыном.
– Берегитесь! – сказал ей Иосиф, когда они ушли к себе. – Этот добрый каноник не на шутку увлекается вами.
– В дороге ничем не надо смущаться, – отвечала она. – Я так же не стану священником, как не стала трубачом. Господин Мейер, граф Годиц и каноник – все они просчитались.
Глава 80
Консуэло, пожелав Иосифу покойной ночи, удалилась в свою комнату, не сговорившись с ним, как он предполагал, о том, чтобы уйти на заре. У нее были свои причины не спешить, и Гайдн ждал, что она сообщит их ему наедине; сам же он радовался возможности провести с ней еще несколько часов в этом красивом доме и пожить благодушной жизнью каноника, которая была ему по душе. Консуэло на следующее утро разрешила себе поспать дольше обычного и появилась только ко второму завтраку каноника. Старик имел обыкновение вставать рано и после легкой вкусной закуски прогуливался с требником в руках по своим садам и оранжереям, оглядывая растения, а потом шел немножко вздремнуть перед более плотным холодным завтраком.
– Наша путешественница чувствует себя хорошо, – объявил каноник своим юным гостям, как только они появились. – Я послал Андреаса приготовить ей завтрак. Она выразила большую признательность за наше внимание, и поскольку она собирается сегодня ехать в Вену (признаюсь, вопреки всякому благоразумию), то просит вас навестить ее, чтобы вознаградить за вашу сердечную заботу. Итак, дети мои, скорее завтракайте и отправляйтесь туда. Наверное, она готовит вам какой-нибудь хороший подарок.
– Мы будем завтракать столько времени, сколько вы пожелаете, господин каноник, – ответила Консуэло, – но к больной не пойдем: мы ей больше не нужны, а в подарках ее не нуждаемся.
– Удивительное дитя! – сказал восхищенный каноник. – Твое романтическое бескорыстие, твое восторженное великодушие до того покорили мое сердце, что я никогда, кажется, не в силах буду расстаться с тобой! Консуэло улыбнулась, и они сели за стол. Завтрак был превосходный и тянулся добрых два часа. Но десерт оказался таким, какого никак не ожидал каноник.
– Ваше преподобие, – доложил Андреас, появляясь в дверях, – пришла тетушка Берта из соседнего кабака и принесла вам от роженицы большую корзину.
– Это серебро, которое я ей посылал. Примите его, Андреас, это ваше дело. Значит, дама решительно уезжает?
– Она уже уехала, ваше преподобие.
– Уже! Да она сумасшедшая! Эта сумасбродка хочет убить себя!
– Нет, господин каноник, – сказала Консуэло, – она не хочет и не убьет себя.
– Ну, Андреас, что вы стоите с таким торжественным видом? – обратился каноник к лакею.
– Дело в том, ваше преподобие, что тетушка Берта не отдает мне корзину. Она говорит, что передаст ее только вам; ей надо что-то вам сказать. – Это щепетильность или жеманство со стороны доверенного лица. Впустите ее, и покончим с этим.
Старуху ввели. Сделав несколько глубоких реверансов, она поставила на стол большую корзину, прикрытую кисеей. Каноник повернулся к Берте, а Консуэло торопливо протянула к корзине руку. Немного приподняв кисею, Консуэло поспешно опустила ее и тихо сказала Иосифу:
– Вот чего я ожидала, вот для чего я осталась! О да! Я была уверена: Корилла должна была так поступить!
Иосиф, не успевший еще разглядеть, что было в корзине, с удивлением смотрел на свою спутницу.
– Итак, тетушка Берта, вы принесли мне вещи, которые я одолжил вашей постоялице? Прекрасно! Прекрасно! Я и не беспокоился о них, и мне незачем проверять, все ли цело.
– Ваше преподобие, – ответила старуха, – моя служанка все принесла, все передала вашим служителям, и все действительно в целости; на этот счет я вполне спокойна. Но меня заставили поклясться, что эту корзину я передам только вам в руки, а что в ней находится, вы знаете так же, как и я.
– Пусть меня повесят, если это мне известно, – проговорил каноник, небрежно протягивая руку к корзине, но рука его тотчас застыла, словно парализованная, а рот так и остался полуоткрытым от удивления, когда покрывало как бы само собой зашевелилось, сдвинулось и оттуда показалась крошечная детская ручонка, инстинктивно порывавшаяся схватить палец каноника.
– Да, ваше преподобие, – доверчиво, с довольным видом заговорила старуха, – вот она – цела и невредима, такая хорошенькая, веселенькая и так хочет жить!
Пораженный каноник совсем онемел. Старуха продолжала:
– Господи, ваше преподобие, да ведь вы же изволили просить у матери разрешения удочерить и воспитать младенца! Бедной даме не так-то легко было на это решиться, но мы сказали ей, что дитя попадает в хорошие руки, и она, поручив его провидению, просила нас отнести его вам. «Скажите, пожалуйста, почтенному канонику, этому святому человеку, – говорила она, садясь в экипаж, – что я не стану долго злоупотреблять его милосердным попечением. Скоро я приеду за своей дочуркой и расплачусь с ним за все, что он на нее потратит. Раз он во что бы то ни стало сам хочет найти ей хорошую кормилицу, передайте ему от меня этот кошелек с деньгами: я прошу разделить их между кормилицей и маленьким музыкантом, так чудесно ухаживавшим за мной вчера, если, конечно, он еще не ушел». Что касается меня, она хорошо мне заплатила, ваше преподобие, я ничего больше не прошу и вполне довольна.
– Ах, вы довольны! – воскликнул трагикомическим тоном каноник. – Ну что ж, я очень рад, но извольте унести обратно и кушелек и эту обезьянку. Тратьте деньги, воспитывайте ребенка, это меня нисколько не касается.
– Воспитывать ребенка? Вот уж нет! Я слишком стара, ваше преподобие, чтобы взять на себя заботу о новорожденной. Она кричит по целым ночам. И моему бедному старику, хоть он и глух, не очень-то было бы по вкусу такое соседство.
– А мне? По-вашему, я должен мириться с этим? Благодарю покорно! Ага!
Вы на это рассчитывали?
– Но раз ваше преподобие просили его у матери!
– Я? Просил? Откуда, черт побери, вы это взяли?
– Но раз ваше преподобие сегодня утром написали…
– Я писал? Где же мое письмо? Пожалуйста, пусть мне его покажут!
– Ну, я, конечно, не видала вашего письма, и притом у нас никто читать не умеет. Но господин Андреас приходил к родильнице с поклоном от вашего преподобия, и она нам сказала, будто он передал ей письмо. А мы, дураки, и поверили. Да кто бы мог не поверить?!
– Это гнусная ложь! Только беспутница может пойти на такие штуки! закричал каноник. – И вы – сообщники этой ведьмы. Нет! Нет! Забирайте эту мартышку, возвращайте ее матери, оставляйте у себя, делайте как знаете, я умываю руки. Если вы хотите вытянуть у меня денег, я готов их дать. Никогда не отказываю в милостыне ни авантюристам, ни плутам – это единственный способ избавиться от них. Но взять в свой дом ребенка – благодарю покорно! Убирайтесь к черту!
– Ну, что до этого, – возразила старуха очень решительно, – то я ни за что не возьмусь, не прогневайтесь, ваше преподобие. Я не соглашалась смотреть за ребенком. Знаю я, как кончаются такие истории. Вначале дают немножко золотых монет и обещают вам с три короба, а там – поминай как звали, и ребенок остается на вашей шее. И никогда из таких детей ничего путного не выходит: они лентяи и гордецы уже по самой своей природе. Не знаешь, что с ними и делать. Если это мальчики, они становятся грабителями, а девочки кончают еще хуже. Ой, нет! Нет! Ни я, ни мой старик не хотим брать этого ребенка. Нам сказали, что ваше преподобие просили его отдать вашему преподобию, – мы поверили, вот и все. Извольте получить деньги, и мы в расчете. А что мы ее сообщники, так уж простите, ваше преподобие, мы этих штук не знаем. Вы, верно, шутите, коли упрекаете нас в том, что мы вам его навязываем. Покорная слуга вашего преподобия! Ухожу домой. У нас сейчас паломники, возвращающиеся после исполнения обета, и они, ей-богу, умирают от жажды.
Старуха несколько раз поклонилась и уже направилась было к выходу, но потом вернулась и сказала:
– Совсем было и забыла: ребенок должен называться вроде бы Анджелой, но только по-итальянски. Ох, честное слово, не помню теперь, как это они мне сказали.
– Анджолина, Андзолета? – спросила Консуэло.
– Вот-вот, именно так, – подтвердила старуха и, еще раз поклонившись канонику, спокойно удалилась.
– Ну, как вам нравится эта выходка? – проговорил изумленный каноник, обращаясь к своим гостям.
– Я нахожу, что она достойна той, которая ее придумала, – ответила Консуэло, вынимая из корзины ребенка, начинавшего уже ворочаться, и осторожно заставляя его проглотить несколько ложечек теплого молока, оставшегося после завтрака в японской чашке каноника.
– Что же, эта Корилла какой-то дьявол? – спросил каноник. – Вы раньше знавали ее?
– Только по слухам, но теперь я знаком с нею прекрасно, так же как и вы, господин каноник.
– Знакомство, без которого я охотно обошелся бы. Но что нам делать с этим несчастным, брошенным ребенком? – прибавил он, с состраданием глядя на крошку.
– Отнесу-ка я его к вашей садовнице, – сказала Консуэло. – Вчера я видел, как она кормила грудью чудесного мальчугана месяцев пяти-шести.
– Ну, ступайте, – сказал каноник, – или лучше позовем ее сюда. Она нам укажет и кормилицу с какой-нибудь соседней фермы… только не в слишком близком соседстве от нас. Ведь один бог знает, какое зло может принести духовному лицу интерес к ребенку, подобным образом свалившемуся с облаков в его дом.
– На вашем месте, господин каноник, я был бы выше таких пустяков. Не стал бы я ни предвидеть нелепых клеветнических предположений, ни интересоваться ими. Я не слушал бы глупых сплетен, жил бы так, как будто их и не существует, и поступал бы всегда, не считаясь со злословием. Какой же толк от мудрой, достойной жизни, если она не обеспечивает спокойствия совести и не предоставляет свободы делать добрые дела? Подумайте, господин каноник, вам доверили ребенка. Если вдали от ваших глаз за ним будут плохо смотреть, если он захиреет, умрет, вы этого никогда себе не простите.
– Что ты там говоришь, будто ребенка мне доверили! Да разве я давал на это согласие? Разве каприз или плутовство людей могут налагать на нас подобные обязательства? Ты увлекаешься, дитя мое, и мелешь вздор.
– Нет, дорогой господин каноник, – возразила Консуэло, все более и более оживляясь, – не мелю я вздора. Злая мать, бросившая своего ребенка, не имеет на него никаких прав и не может ничего вам предписывать. Приказывать вам имеет право только тот, кто располагает судьбой рождающегося ребенка, перед кем вы вечно будете ответственны, а это бог. Да, бог возымел особое милосердие к невинному крошечному созданью, внушив его матери смелую мысль – доверить его вам. Это он, по странному стечению обстоятельств, привел в ваш дом, наперекор вашему желанию и вопреки всей вашей осторожности, это дитя и толкнул его в ваши объятия. Ах, господин каноник! Вспомните святого Викентия, подбиравшего на ступеньках домов несчастных, покинутых сирот, и не отталкивайте сироту, которую вам посылает провидение. Мне кажется, что, поступив иначе, вы навлечете на себя несчастье. И свет, даже в злобе своей обладающий каким-то инстинктом справедливости, пожалуй, стал бы говорить, – и этому бы поверили, – что у вас были причины удалить ребенка. Тогда как если вы оставите его у себя, никто не сможет допустить иных причин, кроме присущего вам милосердия и любви к ближнему.
– Ты не знаешь, что такое свет, – сказал, смягчаясь и начиная уже колебаться, каноник. – Ты – маленький дикарь по своему прямодушию и добродетели. В особенности ты не знаешь, что такое духовенство, а Бригита, злая Бригита, прекрасно отдавала себе отчет в своих словах, говоря вчера, что некоторые завидуют моему положению и добиваются, чтобы я его потерял. Я обязан своими бенефициями покровительству покойного императора Карла, который соблаговолил взять меня под свое крылышко и предоставил мне их. Императрица Мария-Терезия своим покровительством также способствовала тому, что я стал пенсионером раньше времени. Но то, что мы считаем дарованным нам церковью, никогда не бывает безусловно обеспечено за нами. Над нами, над монархами, благоприятствующими нам, всегда имеется еще властелин – церковь. Она по своей прихоти объявляет нас «правоспособными» даже тогда, когда мы еще ни на что не способны, и она же, когда ей нужно, признает нас «неправоспособными» даже после того, как мы оказали ей величайшие услуги. Глава епархии, то есть епископ со своим советом, стоит только рассердить их и восстановить против себя, могут обвинить нас, привлечь к своему суду, судить и лишить всего, ссылаясь на распутство, безнравственность или на то, что мы служим примером соблазна, – и все это с целью вырвать у нас те блага, которые даны были нам раньше, и вручить их новым любимцам. Небо свидетель, что жизнь моя так же чиста, как жизнь этого младенца, вчера родившегося! Не будь я во всех отношениях чрезвычайно осторожен с людьми, одна моя добродетель не смогла бы защитить меня от злобных наветов. Я не очень-то умею льстить прелатам: моя беспечность, а быть может, до некоторой степени и родовая гордость всегда тому препятствовали. Есть у меня и завистники в капитуле…
– Но ведь за вас великодушная Мария-Терезия, благородная женщина, нежная мать, – возразила Консуэло. – Будь она вашим судьей, вы пришли бы и сказали ей с правдивостью, присущей только правде: «Королева, я колебался одно мгновение между боязнью дать оружие в руки врагов и потребностью проявить наибольшую добродетель моего звания – любовь к ближнему; с одной стороны, я видел клевету, интриги, могущие погубить меня, с другой – несчастное, покинутое небом и людьми крошечное существо, которое могло найти убежище только в моем сострадательном сердце и чье будущее зависело лишь от моей заботливости. Я предпочел рискнуть своей репутацией, своим покоем и своим состоянием ради дела веры и милосердия». О! Я не сомневаюсь, что, скажи вы все это Марии-Терезии, всесильная Мария-Терезия дала бы вам вместо приории дворец и вместо канониката – епископат. Разве не осыпала она почестями и богатством аббата Метастазио за его стихи? Чего бы не сделала она за добродетель, если так вознаграждает талант! Нет, господин каноник, оставьте у себя в доме эту бедняжку Анджолину. Садовница ваша выкормит ее, а позже вы воспитаете ее в духе веры и добродетели. Мать воспитала бы дьявола для ада, а вы сделаете из нее ангела для рая!
– Ты вертишь мной как хочешь, – взволнованно проговорил растроганный каноник и покорно принял ребенка, которого его любимец положил ему на колени. – Ну, хорошо, завтра же утром окрестим Анджелу, ты будешь ее крестным… Не уйди отсюда Бригита, мы заставили бы ее быть твоей кумой и потешились бы над ее злобой. Позвони, пусть приведут кормилицу, и да свершится все по воле божьей. Что же касается кошелька, оставленного Кориллой (ого! пятьдесят венецианских цехинов)… нам он ни к чему. Я беру на себя все теперешние и будущие расходы на ребенка, если его не потребуют обратно. Возьми эти золотые: ты вполне их заслужил за свою удивительную доброту и великодушие.
– Золотые в уплату за доброе сердце! – закричала Консуэло, с отвращением отталкивая кошелек. – Да еще золотые Кориллы, полученные ценою лжи и, быть может, распутства! Ах, господин каноник, даже вид их мне омерзителен! Раздайте их бедным; это принесет счастье нашей бедняжке Анджеле.
Глава 81
Быть может впервые в жизни каноник плохо спал эту ночь. Он испытывал странное беспокойство и возбуждение. Голова его была полна аккордов мелодий и модуляций, поминутно обрывавшихся вместе с чутким сном; просыпаясь, он каждый раз стремился, помимо воли и даже с какой-то досадой, снова поймать эти звуки, снова связать их, но это ему не удавалось. Он запомнил наиболее яркие фразы, пропетые Консуэло, они звучали в его голове, отдавались в диафрагме; и вдруг на самом красивом месте музыкальная нить обрывалась, – он сто раз мысленно пытался ее восстановить и никак не мог припомнить ни единой ноты. Утомленный этим воображаемым пением, он тщетно силился избавиться от него, но оно все звучало в его ушах, и ему даже чудилось, будто в такт с ним колеблется и пламя камина на пурпуровом атласе постельных занавесок. Легкий треск горящих поленьев тоже как будто порывался повторять эти проклятые фразы, но конец их продолжал оставаться непроницаемой тайной для утомленного мозга каноника. Ему все казалось, что, вспомни он хоть один отрывок целиком, – и он избавится от навязчивых воспоминаний. Но уж так устроена музыкальная память: она мучает и донимает нас, пока мы не насытим ее тем, чего она жаждет.
Никогда музыка не производила такого сильного впечатления на каноника, хотя всю свою жизнь он был страстным ее любителем. Никогда ни один человеческий голос не волновал его душу так, как голос Консуэло. Никогда облик человека, его разговор и манеры не казались ему исполненными такого обаяния, какое исходило на протяжении этих полутора суток от лица, слов и осанки Консуэло. Догадывался каноник о том, что мнимый Бертони женщина или нет? И да – и нет. Как это объяснить? Надо сказать, что мысли пятидесятилетнего каноника были так же чисты, как его нравы, а нравы – целомудренны, как у юной девушки. В этом отношении наш каноник был святой человек. Таким был он всегда, и самое удивительное то, что, будучи незаконным сыном развратнейшего из всех известных истории королей, он почти без труда соблюдал обет целомудрия. Флегматичный от природы, – мы называем теперь такие натуры бесстрастными, – он был воспитан в соответствии с нормами поведения, предписанными каноникам, и так обожал благоденствие и спокойствие, так мало был приспособлен к тайной борьбе, на которую толкают грубые страсти и тщеславие духовных лиц, – короче говоря, так жаждал покоя и счастья, что его главным и единственным принципом в жизни было жертвовать всем ради спокойного пользования бенефицием: любовью, дружбой, честолюбием, энтузиазмом и, если понадобится, то и добродетелью. С ранних лет он приучил себя подавлять все чувства без усилий и почти без сожалений. Несмотря на столь отвратительный эгоизм, он оставался добрым, гуманным, сердечным и восторженным во многих отношениях, так как по природе был добр, а поступать вопреки положительным качествам своей натуры ему почти никогда не требовалось. Независимое положение всегда позволяло ему иметь друзей, быть – терпимым, любить искусство. Любовь ему была запрещена, и он убил в себе любовь, как самого опасного врага покоя и благополучия. Но ведь любовь божественна и, стало быть, бессмертна, – поэтому, когда нам кажется, что мы ее убили, мы на самом деле только заживо похоронили ее в своем сердце. Любовь может дремать там долгие годы в тиши до того дня, когда ей заблагорассудится проснуться. Консуэло появилась в осень жизни каноника, и его долгая душевная апатия сменилась томностью, нежной, глубокой и более устойчивой, чем можно было предполагать. Бесстрастное сердце каноника не умело трепетать и волноваться за любимое существо, но оно могло таять, как лед на солнце, быть преданным, покорным, забыть себя, познать то терпеливое самоотречение, какое мы с удивлением встречаем у эгоиста, когда любовь берет его приступом.
Итак, наш бедный каноник был влюблен. В пятьдесят лет он любил впервые и любил ту, которая никогда не могла полюбить его. Он слишком хорошо это знал и вот почему хотел себя убедить, против всякой очевидности, что его чувство не любовь, раз оно внушено не женщиной.
Относительно этого он был в полном заблуждении и по своей наивности принимал Консуэло за мальчика. В бытность свою каноником в венском соборе он в детской школе перевидал немало красавцев мальчиков. Не раз слышал он тонкие серебристые голоса, почти женские по своей чистоте и гибкости. Голос Бертони был в тысячу раз чище и гибче. «Но ведь это голос итальянский, – думалось канонику, – и к тому же Бертони – исключительная натура; он из тех скороспелых детей, у которых способности, дарование, талант граничат с чудом». И вот, страшно гордясь и восторгаясь тем, что на большой дороге нашел такое сокровище, каноник уже мечтал, как он оповестит об этом общество, как введет юношу в моду, поможет ему добыть и состояние и славу. Он был охвачен порывом отеческой любви и благожелательной гордости. И его совесть от этого отнюдь не должна была страдать, так как ему и в голову не приходила мысль о греховной, извращенной любви, подобно той, какую приписывали Гравине по отношению к Метастазио; каноник понятия не имел о такой любви, никогда не думал о ней, даже не верил в ее существование: его чистому и здравому уму все это казалось странными домыслами злоречивых людей.
Никто бы не поверил, что человек с таким насмешливым умом, большой балагур, столь проницательный и даже тонкий во всем, что касалось общественной жизни, мог быть до того детски чист душой. А между тем целый мир идей, влечений и чувств был ему совершенно незнаком.
Он заснул с радостным чувством, строя тысячи планов насчет своего юного любимца, мечтая проводить жизнь среди самых святых наслаждений музыкой и умиляясь при мысли, что будет развивать, немного умеряя, добродетели, сверкающие в этой великодушной, пылкой душе. Но, поминутно просыпаясь в каком-то странном волнении, преследуемый образом чудесного ребенка, то беспокоясь и боясь, как бы тот не захотел освободиться от его уже немного ревнивой любви, то нетерпеливо ожидая утра, чтобы серьезно повторить ему предложения, обещания и мольбы, которые мальчик, казалось, выслушивал смеясь, каноник, удивленный всем происходящим в нем, строил тысячу предположений, кроме единственного верного.
«Видно, самой природой мне предназначено было иметь много детей и страстно любить их, – говорил он себе в простоте душевной, – раз одна мысль об усыновлении приводит меня сейчас в столь возбужденное состояние. Но впервые в жизни я обнаруживаю в себе подобные чувства: в течение дня я прихожу в восторг от одного, чувствую симпатию к другому и жалость к третьему. Бертони! Беппо! Анджолина! Итак, я вдруг стал семейным человеком; а ведь я всегда жалел родителей, которым приходится столько беспокоиться о детях, и благодарил бога за то, что мой сан обязывает меня к одиночеству и покою. Уж не чудесная ли музыка, которою я сегодня так долго наслаждался, привела меня в неведомое до сих пор возбуждение? Нет, скорее это великолепный кофе по-венециански, я просто из жадности выпил целые две чашки… Все это так вскружило мне голову, что я в течение целого дня почти не вспоминал о своей волкамерии, высохшей по вине этого Пьера! I mio cor si divide… Ну вот, опять эта проклятая фраза преследует меня! Черт бы побрал мою память!.. Что сделать, чтобы заснуть!.. Четыре часа утра, неслыханное дело!.. Прямо заболеть можно!..»
Блестящая мысль пришла наконец на помощь добродушному канонику. Он встал, взял письменный прибор и решил поработать над своей знаменитой книгой, так давно задуманной и все еще не начатой. Для этого ему понадобился справочник канонического права. Не просмотрел он и двух страниц, как мысли его стали путаться, глаза смыкаться, книга тихонько сползла с перины на ковер, а свеча погасла от блаженного сонного вздоха, вырвавшегося из могучей груди благочестивого отца, и он заснул наконец сном праведника и проспал до десяти часов утра.
Но, увы! Каким горьким было его пробуждение, когда еще онемевшей от сна рукой он небрежно развернул записку, положенную Андреасом на ночной столик, рядом с чашкой шоколада.
«Мы уходим, достопочтенный господин каноник, – писал Бертони, – непреклонный долг призывает нас в Вену, а мы боялись, что не сможем устоять против Ваших великодушных настояний. Не сочтите нас неблагодарными, мы никогда не забудем ни Вашего гостеприимства, ни Вашего великого милосердия к брошенному ребенку. Мы скоро отблагодарим Вас за все это. Не пройдет и недели, как Вы нас увидите. Соблаговолите отложить до того времени крестины Анджелы и верьте в почтительную и нежную преданность смиренных детей, пользовавшихся Вашим покровительством.
Бертони, Беппо».
Каноник побледнел, вздохнул и позвонил.
– Они ушли? – спросил он Андреаса.
– До рассвета, ваше преподобие.
– А что они сказали уходя? Позавтракали они по крайней мере? Сказали, в какой день вернутся сюда?
– Никто не видел их, когда они уходили, ваше преподобие. Ушли, как пришли, – перелезши через ограду. Проснувшись, я нашел их комнаты пустыми; записка, которую вы держите в руках, лежала на столе, а все двери и калитки были так же заперты, как я их оставил вчера вечером. Но ни единой булавки они с собой не унесли, ни до единого плода не дотронулись, бедняжки…
– Еще бы! – воскликнул каноник; глаза его были полны слез.
Чтобы разогнать грусть каноника, Андреас попробовал было предложить ему составить меню обеда.
– Подай мне что хочешь, Андреас, – проговорил он душераздирающим голосом и со стоном снова упал на подушку.
Вечером того же дня Консуэло и Иосиф под покровом темноты вошли в Вену. Честный парикмахер Келлер, которого посвятили в тайну, принял их с распростертыми объятиями и приютил у себя благородную путешественницу, предоставив ей все, что мог. Консуэло была очень мила с невестой Иосифа, огорчаясь в глубине души тому, что у девушки нет ни красоты, ни грации. На следующее утро Келлер причесал растрепавшиеся кудри Консуэло, а его дочь помогла ей переодеться в женское платье и проводила до дома, где жил Порпора.
Глава 82
Радость Консуэло, которой, наконец, довелось обнять своего учителя и благодетеля, сменилась тягостным чувством, и скрыть его ей было нелегко. Еще года не прошло с тех пор, как она рассталась с Порпорой, однако этот год неопределенности, огорчений и печали оставил на озабоченном челе маэстро глубокие следы страданья и дряхлости. У него появилась болезненная полнота, развивающаяся у опустившихся людей от бездействия и упадка духа. В глазах еще светился прежний оживлявший их огонек, но краснота одутловатого лица свидетельствовала о попытках потопить в вине свои горести или с его помощью вернуть вдохновение, иссякшее от старости и разочарований. Несчастный композитор, направляясь в Вену, мечтал о новых успехах и благосостоянии, а его встретила холодная почтительность. Он был свидетелем того, как более счастливые соперники пользовались монаршей милостью и увлекали публику. Метастазио писал драмы и оратории для Кальдара, для Предиери, для Фукса, для Рейтера и для Гассе. И Метастазио, придворный поэт (poeta cesareo), модный писатель, новый Альбани, любимец муз и дам, прелестный, драгоценный бог гармонии, – словом, Метастазио, тот из поваров драматургии, чьи блюда были наиболее вкусны и легче всего переваривались, не написал ни одной пьесы для Порпоры и даже не пожелал дать ему каких-либо обещаний на этот счет. А между тем у маэстро, по-видимому, еще могли появиться новые идеи, и, несомненно, за ним оставались ученость, замечательное знание голосов, добрые неаполитанские традиции, строгий вкус, широкий стиль, смелые музыкальные речитативы, не имевшие себе равных по грандиозности и красоте. Но у него не было приверженной ему публики, и он тщетно добивался либретто. Он не умел ни льстить, ни интриговать. Своей суровой правдивостью он наживал себе врагов, а его тяжелый характер всех от него отталкивал.
Он внес раздражение даже в ласковую, отеческую встречу с Консуэло.
– А почему ты так поспешила покинуть Богемию? – спросил он, взволновано расцеловав ее. – Зачем ты явилась сюда, несчастное дитя? Здесь нет ни ушей, способных тебя слушать, ни сердец, способных тебя понять. Здесь нет для тебя места, дочь моя! Твоего старого учителя публика презирает, и если хочешь пользоваться успехом, ты последуй примеру других и притворись, будто вовсе не знаешь его или презираешь, подобно тем, кто обязан ему своим талантом, своим состоянием, своей славой.
– Как? Вы и во мне сомневаетесь? – воскликнула Консуэло, и глаза ее наполнились слезами. – Вы, значит, не верите ни в мою любовь к вам, ни в мою преданность и хотите излить на меня подозрительность и презрение, зароненные в вашу душу другими? О дорогой учитель! Вы увидите, что я не заслуживаю такого оскорбления. Вы увидите! Вот все, что я могу вам сказать.
Порпора нахмурил брови, повернулся к ней спиной, несколько раз прошелся по комнате, затем вернулся к своей ученице. Видя, что она плачет, и не зная, как и что сказать ей поласковей и понежнее, он взял из ее рук носовой платок и с отеческой бесцеремонностью стал вытирать ей глаза, приговаривая:
– Ну полно! Полно! Старик был бледен, и Консуэло заметила, как он с трудом подавил в своей широкой груди тяжкий вздох. Но он поборол волнение и, придвинув стул, сел подле нее.
– Ну, – начал он, – расскажи мне про свое пребывание в Богемии и объясни, почему ты так внезапно оттуда уехала. Говори же! – прибавил он несколько раздраженным тоном. – Разве мало найдется чего мне рассказать? Ты там скучала? Или Рудольштадты нехорошо обошлись с тобой? Впрочем, они тоже могли оскорбить тебя и извести. Богу известно, что это единственные люди во всей вселенной, в которых я еще верил, но богу также известно, что все люди способны на всякое зло.
– Не говорите так, друг мой, – остановила его Консуэло, – Рудольштадты – ангелы, и говорить о них я должна бы не иначе, как стоя на коленях, но я принуждена была покинуть их, принуждена была бежать, даже не предупредив их, не простившись с ними.
– Что это значит? Разве ты можешь в чем-нибудь упрекнуть себя по отношению к ним? Неужели мне придется краснеть за тебя и пожалеть, что я послал тебя к этим славным людям?
– О нет! Нет! Слава богу, маэстро, мне не в чем себя упрекнуть, и вам не придется за меня краснеть.
– Так в чем же дело? Консуэло знала, как необходимо быстро и коротко отвечать Порпоре, когда он желал познакомиться с каким-нибудь фактом или мыслью; в двух словах она сообщила, что граф Альберт предложил ей руку и сердце, а она не могла дать ответ, не посоветовавшись предварительно со своим приемным отцом.
Злобная и ироническая гримаса искривила лицо Порпоры.
– Граф Альберт! – воскликнул он. – Наследник Рудольштадтов, потомок богемских королей, владелец замка Ризенбург! И он хотел жениться на тебе, на цыганочке? На тебе, самой некрасивой из нашей школы, дочери неизвестного отца, на комедиантке без гроша и без ангажемента? На тебе, босиком просившей милостыню на перекрестках Венеции?
– На мне, на вашей ученице! На мне, вашей приемной дочери! Да, на мне, на Порпорине! – ответила Консуэло со спокойной и кроткой гордостью. – Ну, конечно, такая знаменитость, такая блестящая партия! Действительно, описывая тебя, я забыл сказать об этом, – прибавил с горечью маэстро. – Да, последняя и единственная ученица учителя без школы, будущая наследница его лохмотьев и его позора. Носительница имени, уже забытого людьми! Есть чем хвастаться и сводить с ума сыновей знатнейших семейств! – По-видимому, учитель, – сказала Консуэло с грустной и нежной улыбкой, – мы еще не так низко пали в глазах хороших людей, как вам хочется думать, ибо несомненно, что граф хочет на мне жениться, и я явилась сюда, чтобы с вашего разрешения дать ему свое согласие или при вашей поддержке отказать ему.
– Консуэло, – ответил Порпора холодным и строгим тоном, – я не люблю всех этих глупостей. Вы должны бы прекрасно знать, что я ненавижу романы пансионерок или приключения кокеток. Никогда не поверил бы я, что вы способны вбить себе в голову подобный вздор, и мне просто стыдно за вас. Возможно, что молодой граф Рудольштадт немного увлекся вами, а деревенская скука и восторг, вызванный вашим пением, и привели к тому, что он слегка приударил за вами, но откуда у вас взялась дерзость принять это всерьез и в ответ на это нелепое притворство разыгрывать роль принцессы в романе? Вы возбуждаете во мне жалость, а если старый граф, если канонисса, если баронесса Амелия знают о ваших притязаниях, то мне стыдно за вас, повторяю: я за вас краснею!
Консуэло знала, что не следует ни противоречить Порпоре, когда он вспылит, ни прерывать его во время наставлений. Она предоставила ему излить свое негодование, а когда он высказал все, что только мог придумать наиболее обидного и наиболее несправедливого, она рассказала ему правдиво и с полнейшей точностью обо всем, что произошло в замке Ризенбург между ней и графом Альбертом, графом Христианом, Амелией, канониссой и Андзолето. Порпора, дав волю своему раздражению и нападкам, умел также слушать и понимать и с самым серьезным вниманием отнесся к ее рассказу. А когда Консуэло кончила, он задал ей еще несколько вопросов, чтобы, ознакомившись с подробностями, вникнуть в интимную жизнь семьи и разобраться в чувствах каждого из ее членов. – В таком случае… – проговорил он наконец, – ты хорошо поступила, Консуэло. Ты вела себя умно, с достоинством, мужественно, как и следовало от тебя ожидать. Это хорошо. Небо покровительствовало тебе, и оно вознаградит тебя, избавив раз и навсегда от этого негодяя Андзолето. Что касается молодого графа, я запрещаю тебе думать о нем. Такая судьба не для тебя. Никогда граф Христиан не позволит тебе вернуться к артистической карьере, уж будь в этом уверена. Я лучше тебя знаю неукротимую дворянскую спесь. Если же ты на этот счет не заблуждаешься (что было бы и ребячливо и глупо), то я не думаю, чтобы ты хотя минуту колебалась в выборе между жизнью великих мира сего и жизнью людей искусства. Что ты об этом думаешь? Отвечай же! Черт возьми! Ты словно меня не слышишь!
– Прекрасно слышу, учитель, но вижу, что вы ровно ничего не поняли из того, что я вам рассказала.
– Как я ничего не понял? Что ж, по-твоему, я перестал теперь даже понимать? – И черные глазки маэстро снова злобно засверкали.
Консуэло, знавшая Порпору как свои пять пальцев, видела, что не надо сдаваться, если она хочет, чтобы ее выслушали.
– Нет, вы меня не поняли, – возразила она уверенным тоном, – вы, видимо, предполагаете во мне тщеславие, которого у меня нет. Я вовсе не завидую богатству великих мира сего, будьте в этом уверены, и никогда не говорите мне, дорогой учитель, что оно играет какую-либо роль в моих колебаниях. Я презираю преимущества, полученные не личными заслугами. Вы воспитали меня в таких принципах, и я не могла бы изменить им. Но в жизни все же есть «нечто», кроме денег и тщеславия, и это «нечто» настолько ценно, что может возместить и упоение славой и радости артистической жизни. Это – любовь такого человека, как Альберт, это – семейное счастье, семейные радости. Публика – властелин тиранический, капризный и неблагодарный. Благородный муж – друг, поддержка, второе «я». Полюби я Альберта так, как он меня любит, я перестала бы думать о славе и, вероятно, была бы более счастлива.
– Что за глупые речи! – воскликнул маэстро. – С ума вы сошли, что ли?
Да вы просто ударились в немецкую сентиментальность! Бог мой, до какого презрения к искусству вы дошли, графиня! Вы сами только сейчас говорили, что «ваш» Альберт, как вы позволяете себе его называть, внушает вам больше страха, чем влечения, и вы вся холодеете от ужаса подле него; кроме того, вы рассказали мне еще много другого, что я, с вашего позволения, прекрасно слышал и понял. А теперь, когда вы снова обрели свободу – это единственное благо артиста, единственное условие для его развития, вы являетесь ко мне и спрашиваете, не нужно ли вам повесить себе камень на шею, чтобы броситься на дно колодца, где обитает ваш возлюбленный ясновидец? Ну и прекрасно! Поступайте, как вам угодно, я больше не вмешиваюсь в ваши дела, и мне больше нечего вам сказать. Не стану я терять времени с особой, которая не знает сама, что она говорит и чего хочет! У вас нет здравого смысла. Вот и все. Слуга покорный.
Высказав это, Порпора уселся за клавесин и стал импровизировать, сильной, умелой рукой подбирая сложнейший аккомпанемент. Консуэло, отчаявшись на этот раз серьезно обсудить с ним интересующий ее вопрос, придумывала, как бы привести его хотя бы в более спокойное расположение духа. Ей это удалось, когда она начала петь национальные песни, выученные в Богемии; оригинальность мелодий привела в восторг старого маэстро. Потом она потихоньку уговорила Порпору показать ей свои последние произведения. Она пропела их с листа с таким совершенством, что маэстро снова стал восхищаться ею, снова почувствовал к ней нежность. Бедняга, возле него не было талантливых учеников, а к каждому новому лицу он относился с недоверием. Сколько же давно не испытанной радости доставило ему исполнение Консуэло, понявшей своей прекрасной душой его мысли и передавшей их своим красивым голосом! Он был до того растроган, прослушав, как его талантливая и всегда покорная Порпорина исполняет созданные им произведения именно так, как он их задумал, что даже заплакал радостными слезами и, прижимая ее к сердцу, воскликнул:
– О, ты первая певица в мире! Голос твой стал вдвое крепче и сильнее, и ты сделала такие успехи, словно я ежедневно в течение всего этого года занимался с тобой. Еще, еще, дочка, пропой мне эту тему. Ты мне даешь минуты давно не испытанного счастья!
Они скудно пообедали за маленьким столиком у окошка. Порпора был очень плохо устроен. Его комната, мрачная, темная, всегда в беспорядке, выходила на угол узкой и пустынной улицы. Консуэло, видя, что он пришел в хорошее расположение духа, решилась заговорить с ним об Иосифе Гайдне. Единственно, что она скрыла от учителя, это свое длинное пешее путешествие с молодым человеком и странные приключения, породившие между ними такую нежную, чистую дружбу. Она знала, что ее учитель, по своему обыкновению, отнесется недоброжелательно ко всякому желающему брать у него уроки, о ком отзовутся с похвалой. И потому она с самым равнодушным видом рассказала Порпоре, что, подъезжая к Вене, разговорилась в экипаже с одним бедным юношей и он с таким почтением и восторгом говорил о школе Порпоры, что она почти обещала ему замолвить о нем словечко перед самим маэстро.
– А кто этот молодой человек? – спросил Порпора. – К чему он готовит себя? Конечно, в артисты, раз он бедняк? Благодарю за таких клиентов! Больше я не намерен учить никого, кроме сынков аристократов. Эти по крайней мере платят, хоть и ничему не выучиваются, но зато гордятся нашими уроками, воображая, что выходят из наших рук с какими-то познаниями. А артисты все неблагодарные подлецы, предатели, лгуны… Лучше и не заикайся мне об этом. Не желаю, чтобы кто-либо из них переступил порог этой комнаты. А случись это, я моментально вышвырну его за окно! Консуэло пробовала было рассеять его предубеждение, но старик так упорно стоял на своем, что она отказалась от своего намерения и, высунувшись немного из окна в тот момент, когда учитель повернулся к ней спиной, сделала сначала один, а потом другой знак рукой. Иосиф, бродивший по улице в ожидании условленного сигнала, понял на основании первого знака, что надо отказаться от какой-либо надежды попасть в число учеников Порпоры; второй знак говорил о том, что ему не следовало появляться раньше, чем через полчаса.
Консуэло перевела разговор на другое, чтобы Порпора забыл об ее словах. Прошло полчаса, и Иосиф постучал в дверь. Консуэло пошла отпирать и, притворяясь, будто не знает Иосифа, вернулась доложить маэстро, что к нему явился наниматься слуга.
– Покажись-ка! – крикнул Порпора дрожавшему юноше. – Подойди сюда.
Кто тебе сказал, что я нуждаюсь в слуге? Никакого слуги мне не нужно.
– Если вы не нуждаетесь в слуге, – ответил Иосиф, совсем растерявшись, но стараясь, по совету Консуэло, держаться молодцом, – это крайне для меня прискорбно, сударь, ибо я очень нуждаюсь в хозяине.
– Можно подумать, что я один могу дать тебе заработок! – возразил Порпора. – Ну посмотри на мою квартиру и мебель – считаешь ли ты, что мне нужен лакей для уборки?
– Да, конечно, сударь, он очень был бы нужен вам, – ответил Гайдн, разыгрывая доверчивого простака, – ведь здесь ужасный беспорядок!
С этими словами он тут же принялся за дело и стал убирать комнату с такой аккуратностью и хладнокровием, что Порпора расхохотался. Иосиф все поставил на карту, ибо, не рассмеши он своим усердием хозяина, тот, пожалуй, заплатил бы ему палочными ударами.
– Вот чудак, хочет служить мне помимо моей воли! – проговорил Порпора, глядя на его старание. – Говорят тебе, идиот, у меня нет средств платить слуге. Ну что? Будешь еще продолжать усердствовать?
– За этим, сударь, дело не станет. Лишь бы вы мне давали свои обноски да ежедневно по куску хлеба. Вот мне и довольно. Я так беден, что почту себя счастливым, если мне не придется просить милостыню.
– Но почему же тебе не поступить в богатый дом?
– Немыслимо, сударь: находят, что я слишком мал ростом и слишком уродлив. К тому же я ничего не смыслю в музыке, а знаете, теперь все вельможи хотят, чтобы их лакеи умели немного играть на скрипке или флейте для домашнего обихода. Я же никогда не мог вбить себе в голову ни единой музыкальной ноты.
– Ага! Ага! Ты ничего не смыслишь в музыке? Ну, так мне именно такой человек и нужен. Если ты удовольствуешься пищей и моими обносками, я тебя беру. Вот и дочери моей тоже понадобится старательный малый для поручений. Посмотрим, на что ты годен. Умеешь чистить платье, мести пол, докладывать о посетителях и провожать их?
– Да, сударь, я все умею.
– Ну, хорошо, так начинай. Приготовь мне вот тот костюм, что лежит на кровати, так как я через час отправляюсь к посланнику. Консуэло, ты будешь меня сопровождать. Я хочу представить тебя синьору Корнеру, – ты его знаешь. Он только что вернулся с целебных вод со своей синьорой. У меня есть еще одна маленькая комнатка, я тебе ее уступаю; пойди туда, приоденься немного, пока я буду собираться.
Консуэло повиновалась, прошла через переднюю в предоставленную ей темную комнатку и облеклась в свое вечное черное платье с неизменной белой косынкой, прибывшее сюда на плечах Иосифа.
«Не очень-то роскошный туалет для посещения посольства, – подумала она, – но ведь в нем я дебютировала в Венеции, и, однако, это не помешало мне хорошо петь и иметь успех».
Переодевшись, она вышла в переднюю, где нашла Гайдна, с важностью завивавшего парик Порпоры, посаженный на палку. Взглянув друг на друга, оба чуть не прыснули.
– Как же это ты справляешься с таким великолепным париком? – спросила она тихо, чтобы не услышал Порпора, одевавшийся в соседней комнате.
– Ничего, – ответил Иосиф, – само собой выходит. Я часто видел, как это делает Келлер. А кроме того, сегодня он дал мне урок и еще поучит, чтобы я – и в завивке и в расчесывании волос достиг совершенства.
– Мужайся, бедный мой мальчик, – сказала Консуэло, пожимая ему руку, – учитель в конце концов смягчится. Дороги, ведущие к искусству, полны терний, но иногда удается срывать и прекрасные цветы.
– Спасибо за метафору, дорогая сестрица Консуэло. Будь уверена, я не паду духом, только бы ты, проходя мимо меня по лестнице или в кухне, бросала мне время от времени дружеское, подбадривающее словечко, и я все вынесу с радостью.
– А я помогу тебе выполнять твои обязанности, – сказала, улыбаясь, Консуэло. – Что же, ты думаешь, я не начинала, как ты? Девочкой я часто прислуживала Порпоре. Не раз я исполняла его поручения, взбивала для него шоколад, гладила брыжи. Вот для начала я поучу тебя, как надо чистить костюм, – я вижу, ты в этом ровно ничего не смыслишь: ломаешь пуговицы и мнешь отвороты.
Тут она взяла из его рук щетку и, действуя ею проворно и ловко, показала, как надо чистить. Но, услышав, что идет Порпора, она быстро передала Иосифу щетку и в присутствии хозяина важно проговорила:
– Ну же, мальчик, поторапливайтесь!
Глава 83
Не в венецианское посольство повел Порпора Консуэло, а к посланнику, вернее, в дом его возлюбленной. Вильгельмина была красивой женщиной, увлекавшейся музыкой и находившей больше всего удовольствия и удовлетворения своему тщеславию в том, чтобы собирать у себя интимный кружок артистов и дилетантов, не компрометируя при этом чрезмерной пышностью сан дипломата, знатного синьора Корнера. Появление Консуэло в первую минуту вызвало удивление, даже сомнение, но стоило присутствующим убедиться, что это действительно Zingarela, прошлогоднее чудо из Сан-Самуэле, как их сомнение тотчас сменилось радостными возгласами. Вильгельмина, знавшая Консуэло совсем ребенком, когда та приходила к ней с Порпорой, за которым следовала по ногам, словно маленькая собачка, неся его ноты, впоследствии очень охладела к девушке, видя, каким огромным успехом пользуется юная артистка в аристократичесясих гостиных и как забрасывают ее венками на сцене. И не потому, что возлюбленная Корнера была женщиной недоброй или снизошла до зависти к девушке, так долго слывшей уродом. Но Вильгельмина, как все выскочки, любила разыгрывать из себя знатную даму. Она пела у Порпоры самые прославленные арии; учитель считал ее только талантливой дилетанткой и разрешал исполнять все, что ей было угодно, в то время как бедная Консуэло корпела над пресловутым кусочком картона, заключавшим в себе весь метод пения знаменитого маэстро, на котором он по пять-шесть лет держал учеников, серьезно относившихся к занятиям. Итак, Вильгельмина не представляла себе, что можно питать к Консуэло иное чувство, кроме снисходительного участия. Угостив когда-то девочку конфетами или дав ей посмотреть книжку с картинками, чтобы та не скучала в ее передней, Вильгельмина теперь почитала себя одной из самых деятельных покровительниц юного таланта. И она находила очень странным и даже неприличным, что Консуэло, мгновенно поднявшись на вершину славы, не держала себя по отношению к ней смиренно, не заискивала и не была преисполнена благодарности. Она рассчитывала, что Консуэло мило и безвозмездно будет служить украшением ее маленьких собраний для избранных, распевая для нее и вместе с ней так часто и так долго, как ей заблагорассудится; Вильгельмина хотела представить девушку своим друзьям, намекнув на помощь, оказанную ею при первых шагах Консуэло, и на то, что та чуть ли не ей обязана своим пониманием музыки. Но все сложилось иначе: Порпоре куда больше хотелось сразу предоставить Консуэло достойное положение в артистическом мире, чем угождать своей покровительнице Вильгельмине, – он втихомолку подсмеивался над претензиями этой особы. Он запретил Консуэло принимать от госпожи посланницы «с левой руки» приглашения, сперва уж слишком бесцеремонные, затем слишком повелительные. Маэстро сумел найти тысячу причин, чтобы не водить ее туда, и Вильгельмина, проникнувшись величайшей неприязнью к начинающей певице, принялась даже распространять мнение, будто Консуэло при своей наружности никогда не сможет иметь бесспорного успеха; да и голос у нее, хоть и приятный в гостиной, недостаточно звучен для сцены, а как оперная певица она не оправдала надежд, возлагавшихся на нее с детства, и много еще других пакостей в подобном роде, известных во все времена и у всех народов. Но вскоре восторженные клики публики заглушили все эти нашептывания, и Вильгельмина, чванившаяся тем, что она такой тонкий ценитель музыки, такая просвещенная ученица Порпоры и такая великодушная женщина, не посмела продолжать тайную борьбу против самой блестящей ученицы маэстро, кумира публики. Она присоединила свой голос к голосу настоящих любителей музыки, восторгавшихся пением Консуэло, и если ей случалось порицать певицу за гордость и тщеславие, проявившиеся в том, что она не предоставила своего голоса в распоряжение «госпожи посланницы», то «госпожа посланница» позволяла себе шептать об этом на ухо лишь очень немногим. Теперь, когда она увидела Консуэло в скромном платьице прежних дней и когда Порпора официально представил ей свою ученицу, чего никогда раньше не делал, тщеславная и пустая Вильгельмина все простила и стала играть роль великодушной покровительницы. Целуя Консуэло в обе щеки, Вильгельмина подумала: «Должно быть, она потерпела крушение, сделала какое-нибудь безумство или, быть может, потеряла голос; давно что-то не было слышно о ней. Теперь она в нашей власти. Вот подходящий момент пожалеть ее, оказать поддержку, проверить ее дарование и извлечь из него пользу».
У Консуэло был кроткий, миролюбивый вид. Вильгельмина, не находя в ней больше того высокомерного удовлетворения, которое она приписывала ей в Венеции, почувствовала себя легко и рассыпалась в любезностях. Несколько итальянцев, друзей посланника, находившихся в салоне Вильгельмины, присоединились к ней, забрасывая Консуэло комплиментами и вопросами, которые она сумела ловко и шутливо обойти. Но вдруг ее лицо стало серьезным и на нем отразилось легкое волнение, когда на другом конце гостиной, среди группы немцев, с интересом рассматривавших ее, она увидела лицо, уже однажды смутившее ее в другом месте. То был незнакомец, друг каноника, который так упорно разглядывал и расспрашивал ее три дня тому назад у священника в деревне, где она вместе с Иосифом Гайдном пела обедню. Незнакомец и теперь всматривался в нее с необыкновенным любопытством, и легко можно было догадаться, что он справляется относительно нее у своих соседей. Озабоченность Консуэло не ускользнула от внимания Вильгельмины.
– Вы смотрите на господина Гольцбауэра, – сказала она. – Вы его знаете?
– Я его не знаю и не подозревала, что смотрю на него, – ответила девушка.
– Первый справа от стола, – сказала «посланница». – Теперь он директор придворного театра, а жена его – примадонна того же театра. Он злоупотребляет своим положением, угощая двор и венцев своими операми, которые, между нами говоря, никуда не годятся, – прибавила Вильгельмина совсем тихо. – Хотите, я вас с ним познакомлю? Он очень милый человек.
– Тысячу раз благодарю вас, синьора, – ответила Консуэло, – но я слишком мало значу здесь, чтоб быть представленной такой особе, и заранее уверена, что он не пригласит меня в свой театр.
– Почему же, дорогая моя? Разве ваш чудный голос, не имеющий равного в Италии, пострадал от пребывания в Богемии? Ведь говорят, что вы все время жили в Богемии, самой холодной и самой печальной стране на свете. Это очень вредно для легких, и я не удивлюсь, если вы на себе испытали последствия такого климата. Но это не беда, голос к вам вернется на нашем дивном венецианском солнце.
Вильгельмина что-то очень спешила определить состояние голоса Консуэло, но девушка воздержалась от опровержения ее мнения, тем более что собеседница, задав вопрос, сама же на него ответила. Консуэло нисколько не задело великодушное предположение «посланницы», – она мучилась тем, что может вызвать неприязнь Гольцбауэра за несколько резкую и искреннюю оценку его музыкальных произведений, вырвавшуюся у нее тогда за завтраком у священника. Придворный маэстро не преминет, конечно, отомстить ей, рассказав, в каком обществе и при каких обстоятельствах он ее встретил, и Консуэло боялась, как бы этот рассказ, дойдя до ушей Порпоры, не вооружил учителя против нее, а главное – против бедного Иосифа.
Все произошло иначе: Гольцбауэр не заикнулся о приключении по причине, о которой будет сказано впоследствии, и не только не проявил какой-либо враждебности к Консуэло, но подошел к ней и посмотрел на нее лукавым взглядом, в котором сквозило одно лишь доброжелательство. Консуэло притворилась, будто не понимает этого взгляда. Она боялась, как бы он не подумал, что она просит его сохранить тайну, и была настолько горда, что спокойно шла навстречу всем последствиям их знакомства, каковы бы они ни были.
Ее отвлекло от этого происшествия лицо старика с суровым и высокомерным выражением, который, однако, усиленно стремился завязать разговор с Порпорой, но тот, верный своему дурному настроению, едва отвечал, ежеминутно порываясь избавиться от собеседника под каким-нибудь предлогом.
– Это прославленный маэстро Буонончини, – пояснила Вильгельмина, которая была не прочь перечислить Консуэло всех знаменитостей, украшавших ее гостиную. – Он только что вернулся из Парижа, где в присутствии короля исполнял партию виолончели в мотете собственного сочинения. Как вам известно, он долго гремел в Лондоне и после упорной борьбы с Генделем, театр против театра, в конце концов одержал над ним победу в опере.
– Не говорите так, синьора, – с живостью воскликнул Порпора, который только что отделался от Буонончини и, подойдя к двум женщинам, слышал последние слова Вильгельмины. – Не произносите подобного богохульства! Никто не победил Генделя, никто не победит его! Я знаю моего Генделя, а вы еще не знаете его. Он первый среди нас, и я признаюсь в этом, хотя в дни безумной юности я тоже имел смелость бороться с ним. Я был побежден; так и должно было случиться, это справедливо. Буонончини, более счастливый, чем я, но не более скромный и не более знающий, восторжествовал в глазах дураков и благодаря ушам варваров. Не верьте же тем, кто вам говорит об этом триумфе. Он навеки сделает моего собрата Буонончини предметом насмешек, и Англия когда-нибудь будет краснеть за то, что предпочла его оперы операм такого гения, такого гиганта, как Гендель. Мода, fashion, – как там говорят, – дурной вкус, удачное местоположение театра, знакомства в театральном мире, интриги и больше всего талант чудесных певцов, исполнявших его произведения, – все это, по-видимому, взяло верх. Но зато в духовной музыке Гендель одержал над ним колоссальную победу… Что же касается господина Буонончини, его я не ставлю высоко. Не люблю я мошенников и открыто говорю, что успех своей оперы он так же «законно» украл, как и успех своей кантаты.
Порпора намекал на скандальный случай, взволновавший весь музыкальный мир. Буонончини, будучи в Англии, присвоил себе честь создания произведения, написанного Лотти за тридцать лет до этого, что последнему и удалось доказать самым блестящим образом после долгих споров с наглым маэстро. Вильгельмина пробовала было защищать Буонончини, но ее защита только обозлила Порпору.
– Я вам говорю и утверждаю, – воскликнул он, не думая о том, что его может услышать Буонончини, – что Гендель даже в оперных своих произведениях выше всех композиторов прошедшего и настоящего. Сейчас докажу вам это. Консуэло, иди к клавесину и спой нам арию, которую я тебе укажу.
– Я умираю от желания услышать дивную Порпорину, – сказала «посланница», – но умоляю вас, пусть она не исполняет в присутствии Буонончини и господина Гольцбауэра произведений Генделя – им не польстит такой выбор…
– Ну конечно, – прервал Порпора, – это их живое осуждение, это их смертный приговор!
– В таком случае, маэстро, предложите ей спеть что-нибудь из ваших произведений, – попросила Вильгельмина.
– Ну разумеется! Вы знаете, что это не возбудит ни в ком зависти! Но я хочу, чтоб она пропела именно Генделя. Я этого хочу!
– Учитель, не заставляйте меня сегодня петь, – стала упрашивать Консуэло. – Я ведь только что с дальней дороги…
– Конечно, это значило бы злоупотреблять любезностью вашей ученицы, и я отказываюсь от своей просьбы, – вставила хозяйка дома. – В присутствии находящихся здесь ценителей, в особенности господина Гольцбауэра, директора императорского театра, не надо ее компрометировать. Будьте осторожны!
– Компрометировать! Да что вы говорите! – резко оборвал ее Порпора, пожимая плечами. – Я слышал ее сегодня утром и знаю, рискует ли она скомпрометировать себя перед вашими немцами.
Этот спор, к счастью, был прерван появлением нового лица. Все поспешили приветствовать его, и Консуэло, видевшая и слышавшая в детстве в Венеции этого тщедушного, высокомерного и самодовольного человека с женственным лицом, хотя и нашла его постаревшим, увядшим, подурневшим, смешно завитым и одетым с безвкусием престарелого селадона, все-таки сейчас же узнала в нем несравненного, неподражаемого сопраниста Майорано, известного под именем Кафарелли, или, скорее, – Кафариэлло, как его звали везде, за исключением Франции.
Невозможно было найти хлыща более дерзкого, чем этот милейший Кафариэлло. Женщины избаловали его своим поклонением, а овации публики вскружили ему голову. В юности он был так красив, или, вернее, так мил, что дебютировал в Италии в женских ролях. Теперь, когда ему было под пятьдесят (а на вид казалось гораздо больше, как большинству сопранистов), трудно было без смеха представить себе его Дидоной или Галатеей; причудливость его облика дополняла манера корчить из себя храбреца и по всякому поводу возвышать голос, тонкий и нежный, природу которого трудно было изменить. Однако его жеманство и безграничное тщеславие имели и хорошую сторону. Кафариэлло слишком высоко ставил превосходство своего таланта, чтобы перед кем-либо рассыпаться в любезностях; он также слишком бережно хранил свое достоинство артиста и никогда не раболепствовал. Безрассудно смело держал он себя с знатнейшими особами, даже с монархами, и потому его не любили пошлые льстецы, видя в его дерзости укор себе. Настоящие ценители искусства прощали ему все, как гениальному виртуозу. Хотя его и упрекали во многих подлостях, однако вынуждены были признать, что в его артистической жизни бывали поступки и мужественные и великодушные. Невольно и неумышленно выказывал он пренебрежение и известного рода неблагодарность по отношению к Порпоре. Он хорошо помнил, что в течение восьми лет учился у него и был обязан ему всеми своими познаниями, но еще лучше помнил тот день, когда его учитель сказал ему: «Теперь я ничему уже не могу тебя научить! Va, figlio mio, tu sei il primo musico del mondo». И с этого дня Кафариэлло, который действительно был первым (после Фаринелли) певцом мира, перестал интересоваться всем, что не было им самим. «Раз я первый, – сказал он себе, – значит, я единственный. Мир создан для меня. Небо даровало таланты поэтам и композиторам только для того, чтоб пел Кафариэлло. Порпора первый учитель пения в мире только потому, что ему было суждено отшлифовать талант Кафариэлло. Теперь дело Порпоры кончено, его миссия завершена, и для славы, для счастья, для бессмертия Порпоры достаточно, чтобы Кафариэлло жил и пел».
Кафариэлло жил и пел, он был богат и знаменит, а Порпора был беден и покинут. Но Кафариэлло этим нисколько не тревожился и говорил себе, что он достаточно собрал золота и славы, и это вполне вознаграждает его учителя, давшего миру такое чудо.
Глава 84
Кафариэлло, входя в гостиную, сделал едва заметный общий поклон, но нежно и учтиво поцеловал руку Вильгельмины, после чего покровительственно-любезно поговорил со своим директором Гольцбауэром и с небрежной фамильярностью потряс руку своему учителю Порпоре. Колеблясь между негодованием, вызванным фамильярностью бывшего ученика, и необходимостью считаться с ним (ведь потребуй Кафариэлло поставить его оперу и возьми на себя главную роль, он мог поправить дела маэстро), Порпора принялся расточать ему похвалы и расспрашивать о его недавних победах в Париже, так тонко иронизируя при этом, что самодовольный певец не мог не поддаться обману.
– Франция! – воскликнул Кафариэлло. – Не говорите мне о Франции! Это страна мелкой музыки, мелких музыкантов, мелких любителей музыки и мелких вельмож. Представьте себе, этот мужлан Людовик Пятнадцатый, прослушав меня в нескольких концертах духовной музыки, вдруг передает мне через одного из своих знатнейших вельмож… догадайтесь что… Какую-то скверную табакерку!
– Но, конечно, золотую и с ценными бриллиантами? – заметил Порпора, нарочно вынимая свою табакерку из фигового дерева.
– Ну конечно, – сказал тенор. – Но подумайте, какая дерзость: без портрета! Преподнести мне простую табакерку, словно я нуждаюсь в коробке для нюхательного табака. Фи! Какое мещанство! Я просто был возмущен!
– И надеюсь, – сказал Порпора, набивая свой хитрый нос, – ты хорошенько проучил этого ничтожного короля?
– Не преминул, черт побери! «Сударь, – сказал я важному придворному и открыл перед его ослепленным взором ящик, – вот тридцать табакерок, самая плохая из них стоит в тридцать раз больше, чем та, которую вы мне подносите, и к тому же, как видите, другие монархи не погнушались почтить меня своими миниатюрами. Скажите королю, вашему повелителю, у Кафариэлло, слава богу, нет недостатка в табакерках».
– Клянусь Бахусом! До чего, должно быть, смутился король! – воскликнул Порпора.
– Подождите, это еще не все! Вельможа имел дерзость мне ответить, что среди иностранцев его величество дарует свой портрет только посланникам. – Этакий болван! Что ж ты ему на это ответил?
– Послушайте, сударь, – сказал я, – знайте, что из посланников всего мира не сделаешь одного Кафариэлло…
– Прекрасно! Чудесный ответ! О! Как я узнаю моего Кафариэлло. И ты так и не принял от него табакерки?
– Нет, черт возьми! – ответил Кафариэлло, рассеянно вынимая из кармана золотую табакерку, усыпанную бриллиантами.
– Не та ли это ненароком? – спросил Порпора, с равнодушным видом глядя на табакерку. – А скажи, видел ты там нашу юную саксонскую принцессу? Ту, которой я впервые поставил пальчики на клавесин в Дрездене, в те времена, когда ее мать, польская королева, оказывала мне честь своим покровительством. Это была милая маленькая принцесса.
– Мария-Жозефина?
– Да, жена наследного принца Франции.
– Видал ли я ее? Даже в интимном кругу. Это добрейшая особа. Ах! Какая прекрасная женщина! Мы с ней наилучшие друзья в мире, честное слово! Вот что она мне подарила. – И он показал на своем пальце кольцо с огромным бриллиантом.
– Говорят, она смеялась от души над тем, как ты ответил королю по поводу его подарка.
– Конечно, она нашла, что я прекрасно ответил и что король, ее свекор, поступил как последний сквалыга.
– В самом деле? Она тебе это сказала?
– Она на это намекнула, передавая мне паспорт, который заставила подписать самого короля.
Все слушавшие этот диалог отвернулись, посмеиваясь исподтишка. Всего час тому назад Буонончини, рассказывая о пребывании Кафариэлло во Франции, описывал эту его беседу с наследной принцессой, которая, передавая ему паспорт, украшенный штамповой подписью монарха, заметила, что он действителен только в течение десяти дней, а это было равносильно приказу покинуть Францию в самый короткий срок.
Тут Кафариэлло, боясь, по-видимому, дальнейших расспросов об этом происшествии, переменил разговор.
– Ну как, маэстро, – обратился он к Порпоре, – много было у тебя за последнее время в Венеции учеников, встречались ли среди них подающие надежды?
– Уж и не говори! – ответил Порпора. – После тебя небо было скупо, и школа моя бесплодна. Бог, сотворив человека, опочил. А Порпора, с тех пор как создал Кафариэлло, сложил руки и тоскует.
– Дорогой учитель, – продолжал Кафариэлло, в восторге от комплимента и принимая его за чистую монету. – Ты слишком снисходителен ко мне. Однако у тебя было несколько многообещающих учеников, когда я виделся с тобой в школе Мендиканти. Ты тогда уже выпустил Кориллу – ее, помнится, высоко оценила публика. Красивое существо, ей-богу!
– Красивое, и больше ничего.
– Правда? Больше ничего? – спросил Гольцбауэр, прислушивавшийся к разговору.
– Понятно, больше ничего, – авторитетным тоном повторил Порпора.
– Это полезно знать, – прошептал ему на ухо Гольцбауэр. – Она приехала сюда вчера вечером почти совсем больная, как мне передавали, и, однако, уже сегодня утром я получил от нее предложение взять ее на императорскую сцену.
– Это не то, что вам нужно, – проговорил Порпора. – Ваша жена поет… в десять раз лучше нее. – Он хотел было сказать «не так плохо», но сумел вовремя сдержаться.
– Благодарю вас за высокое мнение, – ответил директор.
– Неужели у вас не было других учеников, кроме толстой Кориллы? – вновь заговорил Кафариэлло. – Венеция, значит, иссякла? Мне хотелось бы побывать там будущей весной с Тези.
– За чем же дело стало?
– Тези увлечена Дрезденом. Но неужели я не найду в Венеции ни одной мяукающей кошки? Я не очень требователен, да и публика бывает снисходительна, когда на первых ролях такой певец, как я, способный «вынести» всю оперу на своих плечах. Красивый голос, гибкий и развитой – вот все, что мне надо для дуэтов. А кстати, учитель, что ты сделал из маленькой чернушки, которую я у тебя видел?
– Мало ли я учил чернушек!
– О! У той был чудесный голос, и, помнится, прослушав ее, я тебе сказал: «Этот маленький уродец далеко пойдет». Я даже тогда, забавы ради, пропел ей кое-что. Бедная девочка заплакала от восторга.
– Ага! Ага! – сказал Порпора, глядя на Консуэло, покрасневшую, как нос маэстро.
– Как ее звали, черт возьми? – проговорил Кафариэлло. – Странное имя… Ну, ты должен помнить, маэстро; она была уродлива, как смертный грех!
– То была я, – отозвалась поборовшая свое смущение Консуэло, с улыбкой подходя к ним и почтительно приветствуя Кафариэлло.
Такой пустяк не был способен привести Кафариэлло в смущение.
– Вы! – воскликнул он игриво, беря ее за руку. – Лжете, вы прехорошенькая девушка, а та, о которой я говорю…
– О! Конечно, то была я, – перебила Консуэло. Посмотрите на меня хорошенько. Вы должны меня узнать – это та же самая Консуэло.
– Консуэло! Да! Да! Дьявольски трудное имя. Но я вас совсем не узнаю и очень боюсь, что вас подменили. Дитя мое, если, приобретя красоту, вы потеряли голос и талант, так много обещавший, то было бы лучше для вас остаться дурнушкой.
– Я хочу, чтобы ты ее услышал, – сказал Порпора, горевший желанием показать свою ученицу Гольцбауэру.
И он потащил Консуэло к клавесину несколько против ее воли, так как она давно уже не выступала перед такими знатоками и вообще совсем не готовилась петь в тот вечер.
– Вы меня дурачите, – заявил Кафариэлло. – Это не та девушка, которую я видел в Венеции.
– Сейчас будешь сам судить, – ответил ему Порпора.
– Право, учитель, это жестоко: вы заставляете меня петь, когда у меня в горле еще сидит пыль от пятидесяти миль пути, – застенчиво протестовала Консуэло.
– Все равно пой! – отрезал маэстро.
– Не бойтесь меня, дитя мое, – обратился к ней Кафариэлло, – я умею быть снисходительным. Чтобы вы не трусили, я буду петь с вами, если желаете.
– При этом условии повинуюсь, – ответила она, – счастье, которое я испытаю, слыша вас, помешает мне думать о себе.
– Что бы нам спеть вместе? – спросил Кафариэлло Порпора. – Выбери нам дуэт.
– Сам выбирай, – ответил тот, – нет ничего, чего она не могла бы спеть с тобой.
– Ну, тогда что-нибудь твое, маэстро, мне хочется нынче порадовать тебя. И к тому же я знаю, у синьоры Вильгельмины имеются все твои произведения, переплетенные с восточной роскошью и украшенные позолотой.
– Да, – проворчал сквозь зубы Порпора. – Произведения мои одеты богаче меня.
Кафариэлло взял ноты, перелистал их и выбрал дуэт из «Эвмены» – оперы, написанной маэстро в Риме для Фаринелли. Он спел первое соло с благородством, совершенством, мастерством, которые мгновенно заставляли забыть все смешные стороны певца, поражали и приводили в восторг слушателей. Могучий талант этого необыкновенного человека влил новые силы в Консуэло и настолько вдохновил ее, что она в свою очередь пропела женское соло, как никогда не пела в жизни. Кафариэлло, не дожидаясь, пока она кончит, прервал ее пение бурными аплодисментами.
– Ah, сага! – восклицал он на разные лады. – Теперь-то я узнаю тебя! Это действительно то дивное дитя, на которое я обратил внимание тогда в Венеции. Но теперь, figlia mia, ты – чудо (un portento)! Это говорит тебе Кафариэлло!
Вильгельмина была несколько удивлена и немного смущена, увидев Консуэло еще на большей высоте, чем в Венеции. Несмотря на то, что выступление в ее венском салоне такого таланта было ей очень приятно, она не без огорчения и ужаса видела, что после столь виртуозного пения сама она уже не посмеет петь для своих завсегдатаев. Тем не менее «посланница» шумно выражала свой восторг. Гольцбауэр, продолжая ухмыляться втихомолку, но опасаясь, что в его кассе не хватит денег, чтобы оплатить такой большой талант, проявлял среди всех этих восхвалений дипломатическую сдержанность Буонончини заявил, что Консуэло выше и г-жи Гассе и г-жи Куццони. Посланник пришел в такой восторг, что Вильгельмина даже перепугалась, особенно когда увидела, что он снимает с пальца кольцо с большущим сапфиром и надевает его на палец Консуэло, которая не решалась ни принять его, ни отказать. Неистово стали требовать повторения дуэта, но дверь распахнулась, и лакей доложил о приезде графа Годица. Все поднялись под влиянием невольного почтения, которое вызывает не самый знаменитый, не самый достойный, а самый богатый человек.
«Вот незадача! – подумала Консуэло. – Нужно же было мне встретить здесь разом, и даже прежде чем я успела предупредить их, двух лиц, видевших меня во время путешествия с Иосифом! Они, без сомнения, составили себе ложное представление и о моей нравственности и о моих отношениях с ним. Но в любом случае, добрый и честный Иосиф, какая бы клевета ни опутала нашу дружбу, я никогда не откажусь от нее ни в сердце своем, ни на словах».
Граф Годиц, с головы до ног разукрашенный золотыми галунами и нашивками, подошел к Вильгельмине, и по тому, как он поцеловал руку содержанки, Консуэло поняла разницу между такой хозяйкой дома и гордыми патрицианками, встречавшимися ей в Венеции. С Вильгельминой были и милее, и любезнее, и веселее, но говорили быстрее, ступали менее тихо, сидели, скрестив ноги выше, грели спину у камина, – короче говоря, были иными, чем в светском обществе. Эта бесцеремонность казалась даже приятной, но в то же время в ней чувствовалось нечто оскорбительное, сразу бросившееся в глаза Консуэло, хотя это нечто, замаскированное светским обращением и вниманием, подобающим посланнику, и было почти неуловимо.
Граф Годиц выделялся своим уменьем тонко оттенять эту непринужденность, которая не только не оскорбляла Вильгельмину, а казалась ей доказательством особенного поклонения. Консуэло же было неприятно за эту бедную женщину, чье удовлетворенное мелкое тщеславие казалось ей жалким. Что касается ее самой, она нисколько не обижалась. Zingarella ни на что не претендовала, не требовала даже, чтобы на нее смотрели; и ей было совершенно безразлично, насколько низко ей поклонятся. «Я являюсь сюда как исполнительница, певица, – говорила она себе. – Главное, чтобы были довольны моим пением; я предпочитаю сидеть незамеченной в своем уголке; но как покраснела бы эта женщина, примешивающая тщеславие к своей любви (если только она примешивает немного любви к тщеславию), заметив, сколько презрения и иронии кроется под всеми этими любезностями и комплиментами».
Консуэло снова заставили петь, превозносили ее до небес, и она в тот вечер буквально делила лавры с Кафариэлло. Каждую минуту она ждала, что с ней заговорит граф Годиц и ей придется выдерживать огонь его насмешливых похвал. Но странная вещь: граф Годиц не подошел к клавесину, у которого она стояла отвернувшись, чтобы он не мог видеть ее лица. И когда он справлялся о ее имени и возрасте, казалось, он впервые слышит о ней. Причина заключалась в том, что он не получил неосторожной записки, которую Консуэло, возбужденная путевыми приключениями, послала ему с женой дезертира. К тому же он был очень близорук, и так как в то время еще не было принято лорнировать в гостиных, то он неясно различал бледное лицо певицы. Быть может, покажется странным, что, хвастаясь так своей меломанией, граф не полюбопытствовал посмотреть поближе на замечательную виртуозку. Но не надо забывать, что моравский вельможа любил только музыку, сочиненную им самим, любил только свою методу, только своих певцов. Большие таланты не внушали ему никакого интереса, никакой симпатии. Он их недолюбливал за их требовательность и претензии, и когда ему говорили, что Фаустина Бордони получает в Лондоне в год пятьдесят тысяч франков, а Фаринелли – сто пятьдесят тысяч, он пожимал плечами и уверял, что певицы в его росвальдском театре в Моравии, обучавшиеся у него, не уступают ни Фаринелли, ни Фаустине, ни синьору Кафариэлло, хотя стоят ему всего пятьсот франков. Важность Кафариэлло была ему особенно неприятна и невыносима потому, что в своем кругу господин граф Годиц отличался точно такими же странными и смешными повадками. Если хвастуны не нравятся скромным и разумным людям, они тем более непереносимы и отвратительны таким же хвастунам, как они сами. Всякий тщеславный человек ненавидит себе подобных и высмеивает порок, присущий ему самому. Слушая пение Кафариэлло, никто не думал ни о богатстве, ни о любви к музыке графа Годица. Пока Кафариэлло бахвалился, не оставалось места для бахвальства графа Годица, – короче говоря, они мешали друг другу. Ни один салон не был настолько обширен и ни один слушатель настолько внимателен, чтобы вместить и удовлетворить двух людей, терзаемых такой «жаждой апробации» (френологический стиль наших дней).
Была и третья причина, помешавшая графу Годицу вспомнить «своего Бертони» из Пассау: он почти не глядел на него в Пассау, и теперь ему было бы очень трудно узнать его в новом, преображенном виде. Пред ним тогда была девочка, «довольно хорошо сложенная», как принято было в то время говорить о сносной наружности; он услышал ее красивый, свежий, гибкий голос и почувствовал, что перед ним – смышленое существо, легко поддающееся обучению. Больше он ничего не почувствовал, не угадал, да больше ему ничего и не нужно было для его театра в Росвальде. Он был богат и привык покупать без особенного разбора и мелочного обсуждения все, что ему подходило. Он захотел купить талант и самою Консуэло, как мы покупаем ножик в Шательро и стеклянные изделия в Венеции. Торговая сделка не состоялась, и так как ни одной минуты он не был влюблен в нее, то ни минуты и не жалел об этом. Правда, он был несколько раздосадован при своем пробуждении в Пассау, но люди, много о себе мнящие, недолго страдают от подобной неудачи, они скоро о ней забывают: разве не им принадлежит весь мир, в особенности если они богаты? «Ну что ж, – сказал себе благородный граф, – одна неудача, а за ней сто удач».
Он пошептался с Вильгельминой во время исполнения Консуэло последней арии и, заметив, что Порпора кидает на него яростные взгляды, вскоре ушел, не получив никакого удовольствия в обществе этих педантичных и неотесанных музыкантов.
Глава 85
Первым побуждением Консуэло по возвращении в свою комнату было написать Альберту, но вскоре она обнаружила, что это не так легко сделать, как ей казалось. В первом же черновике она начала было ему описывать все приключения своего путешествия, но тотчас испугалась, что описание пережитых ею опасностей и испытаний слишком взволнует его. Она помнила, в какое безумное исступление пришел Альберт, когда она рассказала ему в подземелье о тех ужасах, которые пришлось ей пережить по дороге в замок. И Консуэло разорвала черновик. Она решила, что надо избавить эту глубокую душу, эту впечатлительную натуру от волнующих подробностей действительности, ограничившись одной преобладающей идеей, одним чувством, – написать несколько слов о любви и верности, в которой она ему поклялась. Но эти немногие слова следовало высказать очень твердо; малейшая неопределенность вызвала бы в нем невероятные страхи и муки. А как могла она утверждать, что в ней наконец пробудилась бесспорная любовь и неколебимая решимость – то есть то, в чем нуждался Альберт, чтобы существовать, поджидая ее. Искренность и честность Консуэло не допускали полуправды.
Строго вопрошая свое сердце и совесть, она убедилась, что одержала победу над любовью к Андзолето и потому сильна и спокойна духом. Она чувствовала полное равнодушие ко всякому мужчине, кроме Альберта, никто не внушал ей ни любви, ни восторженности, – но любовь и глубокую восторженность она неизменно питала к Альберту и когда была подле него. Мало было победить воспоминание об Андзолето, устранить самое его присутствие, чтобы в душе девушки загорелась пламенная страсть к молодому графу: она не могла без ужаса вспомнить о душевной болезни бедного Альберта, об удручающем величии замка Исполинов, об аристократических предубеждениях канониссы, об убийстве Зденко, о мрачной пещере скалы Ужаса – словом, о всей печальной и странной жизни в Чехии, казавшейся ей теперь сном. Подышав вольным воздухом бродячей жизни в Богемских горах и снова окунувшись в музыкальную стихию подле своего учителя, Консуэло вспоминала о Чехии не иначе как о страшном сновидении. Хотя она и не соглашалась с несуразными артистическими афоризмами Порпоры, но когда вернулась снова к жизни, так соответствующей ее воспитанию, дарованию, духовным запросам, ей показалось невозможным сделаться хозяйкой Ризенбурга.
Что же могла она сообщить Альберту? Что нового могла она обещать и подтвердить ему? Разве ею не владели та же нерешимость, тот же ужас, что и при бегстве из замка? Если она устремилась в Вену, а не в иное место, то только потому, что здесь ее ждало покровительство единственного законного авторитета, признаваемого ею в жизни. Порпора был ее благодетелем, ее отцом, ее поддержкой и учителем в самом святом смысле слова. Подле него она не чувствовала себя сиротой и не считала себя вправе распоряжаться собой только по велению своего сердца или рассудка. А Порпора осуждал, высмеивал и энергично отвергал мысль о браке, видя в нем убийство гениального таланта, принесение в жертву великого будущего ради романтической, утопической самоотверженности. В Ризенбурге тоже был старик, великодушный, благородный и нежный, который предлагал себя ей в отцы. Но разве меняют отца сообразно обстоятельствам? И раз Порпора говорил «нет», то разве могла Консуэло принять «да» графа Христиана?
Этого не могло, не должно было быть, и следовало ждать, что скажет Порпора, когда он лучше разберется в фактах и чувствах. Но что сказать несчастному Альберту сейчас, как поддержать в нем надежду, призвать к терпению, пока учитель либо подтвердит свое решение, либо изменит его? Поведать ему о первой вспышке негодования Порпоры – значило бы лишить Альберта всякого спокойствия; скрыть – равносильно обману, а этого она делать не хотела. Даже если бы жизнь этого благородного молодого человека зависела от лжи, то и тогда Консуэло не солгала бы. Есть люди, которых слишком уважают, чтобы обманывать хотя бы ради их спасения.
И вот она снова начала писать, но изорвала двадцать начатых писем, не доведя ни одного до конца. Как ни старалась она, на третьем же слове выходило так, что она или давала слишком смелые обещания, или, наоборот, высказывала сомнения, а это могло оказать на Альберта пагубное действие. Она легла в постель, страшно подавленная усталостью, грустью, беспокойством, и долго мучилась от холода и бессонницы, не в силах ни прийти к какому-либо решению, ни представить себе ясно свое будущее, свою судьбу. В конце концов она все-таки заснула и проснулась так поздно, что Порпора, всегда рано встававший, уже успел уйти по делам. Как и накануне, она застала Гайдна за чисткой платья своего нового хозяина и за уборкой.
– Наконец-то, моя спящая красавица! – воскликнул юноша, завидев друга. – Я умираю от скуки, тоски и, пожалуй, больше всего от страха, когда между мной и этим свирепым профессором нет вас, моего ангелахранителя. Мне все кажется, что учитель проникнет в мои намерения, раскроет заговор и упрячет меня в свой старый клавесин, чтобы я там задохнулся от гармонического удушья. У меня на голове волосы становятся дыбом от твоего Порпоры, и я никак не могу разубедить себя, что это не старый итальянский черт! Ведь уверяют же, что дьявол в тех краях гораздо злее и хитрее нашего.
– Успокойся, друг мой, – ответила Консуэло, – наш хозяин только несчастлив. Он незлой человек. Постараемся дать ему хотя бы немного счастья, и он на наших глазах смягчится и станет прежним. Я помню, каким сердечным и жизнерадостным он был в годы моего детства. Его остроты и шутки всеми повторялись, но ведь тогда у него был успех, были друзья, были надежды. Если бы ты знал его в то время, когда в театре Сан-Мозе шла его опера «Полифем»! Он брал меня с собой и ставил где-нибудь за кулисы, откуда я могла видеть только спины статистов и голову великана. Каким все это казалось мне и страшным и красивым из моего уголка! Сидя на корточках за картонной скалой или взобравшись на лестницу, с которой зажигают кинкеты, я едва дышала и невольно, подражая актерам, повторяла головой и руками все их жесты, все их движения. А когда маэстро вызывали и он в ответ на аплодисменты публики из партера по семь раз проходил перед занавесом вдоль рампы, учитель казался мне богом, до того в эти минуты он был прекрасен, горд и радостен. Увы! Порпора не так еще стар, а как он изменился, как удручен! Давай, Беппо, приниматься за работу; пусть, вернувшись, он застанет свою убогую квартиру более привлекательной. Начну с осмотра его тряпья, чтобы удостовериться, чего ему не хватает.
– Долго пришлось бы перечислять, чего ему не хватает, а что у него имеется – мигом увидишь, – ответил Иосиф. – Беднее и поношеннее его одежды разве только моя собственная.
– В таком случае я позабочусь и о твоей одежде; я твоя должница, Иосиф: всю дорогу ты и одевал и кормил меня. Но сперва подумаем о Порпоре. Открой мне шкаф. Как! Всего один-единственный костюм – тот, в котором он был вчера у посланника?
– Увы, да! Коричневый костюм со стальными пуговицами, к тому же не особенно новый. Другой костюм до того изношен и порван, что на него больно смотреть. Он надел его уходя. Что же касается шлафрока, сомневаюсь, чтобы он вообще когда-нибудь существовал: я его тщетно ищу вот уже целый час.
Консуэло и Иосиф стали всюду рыться и наконец убедились, что шлафрок действительно существовал лишь в их воображении, так же как и пальто и муфта. Сорочек оказалось всего три, причем и те изодранные, манжеты совсем развалились; и в таком же приблизительно состоянии было все остальное.
– Иосиф, – сказала Консуэло, – вот чудесное кольцо, мне его подарили вчера за мое пение. Я не хочу его продавать, чтобы не привлекать к себе внимания; люди, подарившие его мне, могли бы, пожалуй, усмотреть в этом алчность. Но я могу его заложить и получить под него нужные нам деньги. Келлер честен и умен, он может оценить это драгоценное кольцо и, наверное, знает ростовщика, который возьмет его в залог и даст за него порядочную сумму. Ступай же скорее и возвращайся.
– За этим дело не станет, – ответил Иосиф. – В доме Келлера живет еврей, нечто вроде ювелира. Он доверенное лицо многих знатных дам в подобных секретных делах, и через какой-нибудь час у вас будут деньги. Только слышите, Консуэло, мне лично ничего не надо. Вам самой необходимо приодеться. Завтра, а быть может, еще и сегодня вечером, вам придется появиться перед обществом, и, конечно, в платье, менее потертом, чем этот туалет, совершивший путешествие на моей спине.
– Наши счеты с тобой мы сведем позднее, и так, как я захочу, Беппо. Принимая от тебя услуги, я имею право требовать, чтобы ты не отказывался от моих. Ну, а теперь беги скорее к Келлеру!
Через час Гайдн действительно вернулся с Келлером и с тысячей пятьюстами флоринов. Консуэло объяснила Келлеру, что ей нужно; тот вышел и вскоре привел своего приятеля-портного, честного и проворного малого, который, сняв мерку с костюма Порпоры и других вещей его гардероба, пообещал в ближайшие дни доставить два новых костюма, хороший, стеганный на вате шлафрок и даже белье и другие необходимые принадлежности туалета, которые он взялся заказать «достойным похвалы» мастерицам.
– Теперь, – сказала Консуэло Келлеру, когда портной ушел, – я требую полнейшей тайны. Учитель мой столь же горд, сколь и беден, и, несомненно, выбросил бы за окно все мои жалкие дары, заподозри он только, что они идут от меня.
– Как же вы умудритесь, синьора, – заметил Иосиф, – заставить его облечься в новый костюм и покинуть старый так, чтобы он этого не заметил? – О! Я его прекрасно знаю и ручаюсь вам, что он ничего не заметит. Я уж сумею за это взяться.
– А теперь, синьора, не подумаете ли вы о себе? – снова заговорил Иосиф, который, за исключением тех минут, когда они оставались с глазу на глаз, усвоил хорошую привычку говорить с Консуэло очень церемонно, чтобы не создать ложного представления об их дружбе. – Вы почти ничего не привезли с собой из Чехии, к тому же ваши наряды сшиты не по здешней моде. – Я было совсем и забыла об этом важном деле. Милый господин Келлер, будьте моим советчиком и руководителем.
– Охотно! – ответил Келлер. – Я кое-что в этом смыслю, и если у вас не будет самого изысканного туалета, можете мне сказать, что я невежда и хвастун.
– Вполне полагаюсь на вас, милый Келлер; я хочу только предупредить вас, что люблю простоту, и вещи, бросающиеся в глаза, а также яркие цвета не идут ни к моей обычной бледности, ни к моим скромным вкусам.
– Вы меня обижаете, синьора, предполагая, что я нуждаюсь в таких указаниях. Разве ремесло мое не научило меня подбирать цвета к лицу, а в вашем лице разве я не вижу отражения вашего характера? Будьте покойны, вы останетесь довольны мною и вскоре сможете, если вам заблагорассудится, появиться при дворе, оставаясь по-прежнему и скромной и простой. Сделать человека красивее, не меняя его, – вот в чем искусство парикмахера и портного.
– Еще одно слово на ушко, дорогой господин Келлер, – проговорила Консуэло, отойдя с парикмахером подальше от Иосифа. – Прошу вас, оденьте во все новое с головы до ног и господина Гайдна, а на оставшиеся деньги преподнесите от моего имени вашей дочери красивое шелковое подвенечное платье. Надеюсь, что свадьба не за горами, ибо если я буду пользоваться здесь успехом, то смогу быть полезной нашему другу и помогу ему приобрести известность. У него талант, и большой талант, будьте в этом уверены.
– Так у него в самом деле талант, синьора? Счастлив слышать от вас. Я всегда это подозревал. Да что я говорю? Я был убежден в этом с самого первого дня, когда заметил его маленьким певчим в школе.
– Он благородный юноша, – продолжала Консуэло, – и вы будете вознаграждены его благодарностью и верностью за все, что для него сделали. Я ведь знаю, Келлер, вы тоже человек достойный, у вас благородное сердце… А теперь скажите нам, – прибавила она, приближаясь с Келлером к Иосифу, – сделали вы то, что было условлено между нами относительно покровителей Иосифа? Идея была ваша, вы привели ее в исполнение?
– Ну конечно, синьора! – ответил Келлер. – Для вашего покорного слуги сказать – это значит сделать. Отправившись сегодня утром к моим клиентам, я предупредил сначала господина венецианского посланника (я не имею чести лично причесывать его, но завиваю его секретаря), затем господина аббата Метастазио, которого брею каждое утро, и его воспитанницу, девицу Марианну Мартинец, чья прическа тоже не минует моих рук. Она, так же как и он, живет в моем доме… то есть я живу в их доме, – ну, да это, впрочем, все равно. Напоследок я проник еще к двум-трем особам, знающим Иосифа в лицо, он и с ними рискует встретиться у маэстро Порпоры. К другим, не моим клиентам, я являлся под каким-нибудь предлогом, например, говорил так: «Я слышал, баронесса, что вы посылали поискать у моих коллег настоящего медвежьего сала для волос, и поспешил принести вам великолепное сало, я за него ручаюсь. Предлагаю его знатным лицам бесплатно, как образец, с тем чтобы они стали моими клиентами, если только будут довольны этим снадобьем»; или в таком роде: «Вот молитвенник, найденный в прошлое воскресенье в соборе святого Стефана, а так как я обслуживаю собор (или, вернее, школу при соборе), то мне поручили спросить ваше сиятельство, не ваша ли это книга». То была старая, ничего не стоящая книга в кожаном переплете с вытисненным на нем гербом. Взял я ее на скамье каноника, зная прекрасно, что никто не станет ее разыскивать… Наконец, когда мне удавалось под тем или иным предлогом привлечь к себе внимание, я начинал болтать с развязностью и остроумием, которое прощают людям нашей профессии. «Мне, – говорил я, например, – много приходилось слышать о вашем сиятельстве от одного из моих друзей, искусного музыканта Иосифа Гайдна, вот почему я взял на себя смелость явиться в высокопочтенный дом вашего сиятельства». – «А, маленький Иосиф? – спрашивали меня. – Пленительный талант, юноша многообещающий». – «Да? В самом деле? – отзывался я в восторге от того, что мы перешли прямо к делу. – Так вас, ваше сиятельство, должно очень позабавить то, что с ним сейчас происходит, – удивительная вещь и небесполезная для него!» – «А что же с ним происходит? Я ничего не знаю». – «Да трудно придумать нечто более комичное и более интересное: он сделался лакеем». – «Как! Лакеем! Фи! Какое унижение! Какое несчастье для такого таланта! Он, значит, в ужасном положении? Надо ему помочь». – «Дело не в том, ваше сиятельство, – отвечал я, – на это заставила его решиться любовь к искусству. Он хотел во что бы то ни стало брать уроки у знаменитого маэстро Порпоры…» – «Ах, да! Понимаю: Порпора отказался выслушать его и допустить к себе. Гениальный человек, но очень капризный и угрюмый». – «Он великий человек, с великодушным сердцем, – отвечал я, согласно желанию синьоры Консуэло: ведь вы не хотите, чтобы во всей этой истории ваш учитель был предметом насмешек и порицания. – Будьте уверены, – прибавлял я, – он скоро раскусит способности юного Гайдна и позаботится о нем; но чтобы не рассердить старого меланхолика и пробраться к нему, не раздражая его, Иосиф не нашел ничего более остроумного, как поступить к нему в лакеи и притвориться, будто он ничего не смыслит в музыке». – «Идея трогательная, прелестная, – отвечали мне в полном умилении, – это героизм настоящего артиста. Однако он должен поторопиться и заслужить благосклонность Порпоры, прежде чем его узнают и скажут маэстро, что он уже замечательный артист, так как ведь молодого Гайдна любят и ему покровительствуют несколько лиц, как раз посещающих Порпору». – «Эти лица, – говорил я вкрадчивым тоном, – слишком добры, слишком великодушны, чтобы не сохранить маленькой тайны Иосифа, пока это необходимо; они притворятся, будто не знают его, и поддержат доверие к нему Порпоры». – «О! – восклицали в ответ на это. – Уж, конечно, не я предам славного, искусного музыканта Иосифа! Вы можете от моего имени заверить его в том, а я прикажу своим слугам ни в коем случае не проговориться в присутствии маэстро». Тут меня отпускали либо с подарком, либо с заказом на медвежье сало, а что касается господина секретаря посольства, он чрезвычайно заинтересовался этим приключением и обещал угостить им за завтраком самого господина посланника Корнера, который особенно расположен к Иосифу, дабы господин посланник был настороже с Порпорой. Моя дипломатическая миссия закончена. Вы довольны, синьора?
– Будь я королевой, я немедленно назначила бы вас посланником, – ответила Консуэло. – Но посмотрите в окно, вот идет хозяин. Бегите, милый Келлер, он не должен вас видеть.
– А зачем бежать, синьора? Я примусь за вашу прическу, и подумают, что вы послали своего лакея Иосифа за первым встречным парикмахером.
– Он во сто раз умнее нас с вами, – сказала Консуэло Иосифу и предоставила свои черные кудри ловким рукам Келлера, тогда как Иосиф, надев фартук, снова вооружился метелкой; тем временем Порпора тяжело поднимался по лестнице, напевая музыкальную фразу из своей будущей оперы.
Глава 86
Порпора по природе был очень рассеян; поцеловав в лоб свою приемную дочь, он даже не заметил причесывавшего ее Келлера и принялся искать в своих нотах фразу, не выходившую у него из головы. Только увидев бумаги, обыкновенно разбросанные по клавикордам в невообразимом беспорядке, а теперь сложенные в симметрические стопы, он вышел из своего озабоченного состояния и закричал:
– Несчастный дурак! Он позволил себе прикоснуться к моим рукописям.
Вот они, лакеи! Валят все в кучу и думают, что убирают. Очень нужно мне было брать лакея, честное слово! Начались мои мучения!
– Простите ему, маэстро, – вмешалась Консуэло, – ваши ноты были в таком хаотичном состоянии…
– Я прекрасно разбирался в этом хаосе. Мог встать среди ночи и впотьмах, ощупью найти любой отрывок из своей оперы. А теперь я ничего не знаю, я потерянный человек; месяц пройдет, прежде чем я что-либо смогу найти!
– Нет, маэстро, вы все сейчас же найдете. Это, кстати сказать, моя вина, и хотя страницы и не пронумерованы, мне кажется, что я положила каждый листок на свое место. Взгляните-ка! Я уверена, что вам удобнее будет читать по тетради, чем по всем этим отдельным листкам, которые порыв ветра может унести в окно.
– Порыв ветра! Не принимаешь ли ты мою комнату за Фузинские лагуны?
– Ну, если не порыв ветра, так взмах метелки или веника.
– А зачем было убирать и мести комнату? Я в ней живу две недели и никому не позволял сюда входить.
«Я-то прекрасно это заметил», – подумал про себя Иосиф.
– Ну, маэстро, вам придется разрешить мне изменить этот обычай. Вредно спать в комнате, которая не проветривается и не убирается ежедневно. Я берусь каждый день аккуратно восстанавливать беспорядок, который вам по душе, после того как Беппо подметет и уберет комнату.
– Беппо! Беппо! Что это такое? Я не знаю никакого Беппо!
– Беппо – это он, – сказала Консуэло, указывая на Иосифа. – У него такое неблагозвучное имя, что оно ежеминутно резало бы вам ухо. Я дала ему первое пришедшее мне в голову венецианское имя. Беппо – это хорошо, коротко и даже певуче.
– Как хочешь, – ответил уже мягче Порпора, перелистывая свою оперу, сшитую в одну тетрадь, и найдя ее в полном порядке.
– Согласитесь, маэстро, – сказала Консуэло, увидав, что он улыбается, – так ведь удобнее?
– А! Ты всегда права! – возразил маэстро. – Всю жизнь будешь упрямой.
– Вы завтракали, маэстро? – спросила Консуэло, освободившаяся наконец от Келлера.
– А сама ты завтракала? – ответил вопросом Порпора, нетерпеливо и вместе с тем заботливо.
– Я завтракала. А вы, маэстро?
– А этот мальчик, этот… Беппо, он ел что-нибудь?
– Он позавтракал. А вы, маэстро?
– Вы, значит, нашли здесь что перекусить. Я уже не помню, были ли у меня какие-нибудь припасы.
– Мы отлично позавтракали. А вы, маэстро?
– «А вы, маэстро!» «А вы, маэстро!» Да убирайся ты к черту с твоими вопросами! Какое тебе дело?
– Маэстро, ты не завтракал, – проговорила Консуэло, подчас позволявшая себе с венецианской фамильярностью говорить Порпоре «ты».
– Ах! Я вижу, что в мой дом вселился дьявол. Она не оставит меня в покое! Ну иди и спой мне эту фразу: внимательно, прошу тебя.
Консуэло подошла к клавесину и пропела требуемую фразу; Келлер, рьяный любитель музыки, стоял на другом конце комнаты, полуоткрыв рот, не выпуская из рук гребень. Маэстро, недовольный фразой, заставил Консуэло повторить ее раз тридцать, требуя, чтобы она делала ударение то на одних, то на других нотах, и все добиваясь какого-то оттенка с упорством, которое могло сравниться только с терпением и покорностью Консуэло. В это время Иосиф, по данному ею знаку, пошел за шоколадом, который она сама приготовила, пока Келлер ходил по ее поручениям. Беппо принес шоколад и, угадав, чего хотела Консуэло, тихонько поставил его на пюпитр, не привлекая внимания учителя; Порпора тотчас же машинально взял его, налил себе в чашку и выпил с большим аппетитом. Вторая чашка была принесена и выпита таким же образом, да еще с хлебом, намазанным маслом. Консуэло, любившая поддразнить учителя и заметившая, с каким удовольствием он уплетает завтрак, сказала ему:
– Я прекрасно знала, маэстро, что ты не завтракал.
– Правда, – ответил он спокойно. – Кажется, просто забыл. Со мной это часто случается, когда я сочиняю, и замечаю я это уже днем, почувствовав в желудке судороги и спазмы.
– И тогда ты пьешь водку, маэстро?
– Кто тебе сказал, дурочка?
– Я нашла бутылку.
– Какое тебе дело? Не запретишь же ты мне пить водку?
– Да, запрещу! Ты не пил в Венеции и хорошо себя чувствовал.
– Ты права, – с грустью произнес Порпора, – там мне казалось мне так ужасно; думалось, что здесь пойдет лучше. Между тем все здесь ухудшается – и положение мое, и здоровье, и образы… все… – И он закрыл лицо руками.
– Хочешь, я скажу, почему тебе так трудно здесь работать? – заговорила Консуэло, которой хотелось как-нибудь вывести учителя из подавленного состояния духа. – Да у тебя здесь нет твоего хорошего кофе повенециански, дающего столько сил и веселья. Ты возбуждаешь себя по способу немцев – пивом и настойками, а тебе это вредно.
– Еще раз ты права. Чудесный мой кофе по-венециански! О, это был неиссякаемый источник остроумных слов и великих идей! Гений и вдохновение живительной теплотой разливались по моим венам. Все, что пьешь здесь, либо наводит тоску, либо сводит с ума.
– Ну что ж, маэстро, пей свое кофе!
– Здесь? Кофе? Не хочу: с ним слишком много хлопот. Нужен камин, прислуга, посуда, которую моют, передвигают, бьют с резким грохотом, когда ты весь во власти гармонии. Нет, не надо. Уж лучше поставить бутылку на пол у своих ног; это и удобнее и скорее.
– Но бутылка тоже бьется. Я сегодня утром ее разбила, собираясь поставить в шкаф.
– Как! Ты разбила мою бутылку? Ах ты уродина! Не знаю, что меня останавливает, а то я охотно сломал бы палку о твою спину!
– Ну да! Вы это говорите уже целых пятнадцать лет, а пока ни разу не дали мне и щелчка, – я совсем не боюсь.
– Болтушка, будешь ты петь? Освободишь ты меня от этой проклятой фразы? Бьюсь об заклад, что до сих пор ты еще не знаешь ее, ты так рассеяна сегодня.
– Сейчас убедитесь, знаю я ее на память или нет, – сказала Консуэло, быстро захлопывая тетрадь.
И она спела фразу так, как сама понимала ее, то есть совсем иначе, чем Порпора. Хотя она угадала с первого раза, что он запутался в своих замыслах и, разрабатывая тему, извратил основную мысль, но, зная характер своего учителя, не позволила себе дать ему совет: из духа противоречия он отверг бы его. Консуэло, однако, была убеждена, что если пропеть фразу по-своему, как бы с ошибкой, это произведет на него впечатление. Не успел он прослушать ее, как вскочил со стула, хлопая в ладоши, и закричал:
– Вот оно! Вот оно! Вот то, чего я хотел и никак не мог добиться!
Как, черт возьми, тебе это пришло в голову?
– Разве это не то, что вы написали? Или это случайность? Да нет, это же ваша фраза.
– Нет! Твоя, плутовка! – воскликнул Порпора: он был сама искренность и, несмотря на свою болезненную, безмерную любовь к славе, никогда бы ничего не прикрасил из тщеславия. – Это ты ее нашла! Ну, повтори. Она прекрасна, и я воспользуюсь ею.
Девушка пропела фразу несколько раз, и Порпора записал ее под диктовку Консуэло. Тут он прижал ученицу к своему сердцу и воскликнул:
– Ты дьявол! Я всегда говорил, что ты дьявол!
– Добрый дьявол, поверьте мне, маэстро! – ответила, улыбаясь, Консуэло.
Порпора, в восторге от того, что после целого утра бесплодных волнений и мук музыкального творчества фраза наконец удалась, стал машинально шарить по полу, стараясь нащупать горлышко бутылки. Не найдя ее, он принялся искать на пюпитре и по рассеянности хлебнул из стоявшей там чашки. Это был чудесный кофе, искусно и терпеливо приготовленный для него Консуэло одновременно с шоколадом; Иосиф, по новому знаку своего друга, только что принес его совсем горячим.
– О, нектар богов! О, друг музыкантов! – воскликнул Порпора, наслаждаясь кофе. – Какой ангел, какая фея принесла тебя из Венеции под своим крылом?
– Дьявол! – ответила Консуэло.
– Ты ангел и фея, милое мое дитя, – ласково проговорил Порпора. – Я прекрасно вижу, что ты любишь меня, заботишься обо мне, хочешь сделать меня счастливым. Даже этот бедный мальчик и тот интересуется моей судьбой, – прибавил он, заметив Иосифа; юноша, стоя на пороге передней, смотрел на него влажными, блестящими глазами. – Ах, бедные мои дети, вы хотите скрасить такую жалкую жизнь! Безрассудные! Вы сами не знаете, что делаете! Я обречен на отчаяние, и несколько дней любви и благосостояния еще более заставят меня почувствовать ужас моей доли, когда эти чудные дни улетят.
– Я никогда не покину тебя, всегда буду твоей дочерью, всегда буду тебе служить! – воскликнула Консуэло, обнимая его за шею.
Порпора опустил свою плешивую голову на ноты и разрыдался. Консуэло и Иосиф тоже заплакали, а Келлер, из любви к музыке не хотевший уходить и, чтобы объяснить свое присутствие в передней, принявшийся приводить в порядок парик хозяина, увидев через полуоткрытую дверь эту раздирающую душу картину скорби маэстро, дочерней преданности Консуэло и захватившего Иосифа восторженного чувства к знаменитому старцу, выронил из рук гребень и, приняв в благоговейном умилении парик Порпоры за свой носовой платок, поднес его к глазам.
В продолжение нескольких дней Консуэло из-за простуды вынуждена была сидеть дома. Во все время своего длинного и полного приключений путешествия она не боялась перемены погоды, капризов осени, то знойной, то дождливой и холодной, в зависимости от местности, по которой они проходили. Легко одетая, в соломенной шляпе, не имея ни плаща, ни смены одежды, когда ей случалось попадать под дождь, она тем не менее ни разу даже не охрипла. Но едва она успела засесть в темную, сырую, плохо проветриваемую квартиру. Порпоры, как холод и недомогание ослабили ее энергию и повлияли на горло. Помеха эта очень раздражала Порпору. Он знал, что его ученице следовало торопиться, чтобы получить приглашение в итальянскую оперу, так как госпожа Тези, раньше стремившаяся ехать в Дрезден, теперь, казалось, начала колебаться, прельщенная настойчивыми просьбами Кафариэлло и блестящими предложениями Гольцбауэра, желавшего привлечь на императорскую сцену знаменитую певицу. С другой стороны, Корилла, лежа еще в постели из-за послеродовых осложнений, силилась с помощью друзей, найденных в Вене, склонить на свою сторону директора и ручалась, что в случае надобности сможет дебютировать уже через неделю. Порпора страстно желал, чтобы Консуэло получила приглашение и ради нее самой и ради успеха своей оперы, которую он надеялся провести на сцену вместе со своей ученицей.
Сама же Консуэло не знала, на что решиться. Взять на себя обязательство – значило отдалить минуту свидания с Альбертом, внести ужас и смятение в семью Рудольштадтов: те, конечно, не ожидали, что она снова появится на сцене. С их точки зрения это было бы равносильно отказу от чести войти в их семью, а для молодого графа это означало бы, что она предпочитает ему славу и свободу. С другой стороны, отказавшись от приглашения, она погубила бы последние надежды Порпоры, проявив, в свою очередь, такую неблагодарность, которая отравила бы ему жизнь, внесла бы в нее отчаяние, – словом, явилась бы для учителя ударом кинжала. Консуэло пугала необходимость сделать выбор: ведь любое решение наносило смертельный удар людям, дорогим ее сердцу; и ею овладевала мрачная тоска. Здоровый организм спас ее от серьезного недуга. Но в эти мучительные, страшные дни Консуэло, охваченная лихорадочной дрожью и тягостной слабостью, то сидя на корточках у жалкого огня, то бродя из одной комнаты в другую в хлопотах по хозяйству, жаждала тяжело заболеть, в надежде, что болезнь избавит ее от невыносимого положения.
Порпора, на время было просветлевший, снова стал мрачным, раздражительным, несправедливым, как только увидел, что Консуэло – источник его надежд, поддержка его мужества – вдруг впала в уныние и нерешительность. Вместо того чтобы поддержать, ободрить девушку своим вдохновением, лаской, он относился к ней с болезненным раздражением, и это окончательно привело в ужас Консуэло. Старик, то безвольный, то буйный, то ласковый, то гневный, был снедаем той самой ипохондрией, которой вскоре суждено было погубить Жан-Жака Руссо: он всюду видел врагов, преследователей, неблагодарных, не замечая, что его подозрительность, его вспыльчивость и несправедливость вызывают и отчасти объясняют плохое к нему отношение людей, которых он в этом обвинял. Оскорбленные им сперва принимали его за сумасшедшего, затем объясняли его поступки злостью и наконец решали, что надо избавиться от него, обезопасить себя или даже отомстить ему. Между низким раболепством и угрюмой мизантропией есть нечто среднее, чего Порпора не понимал, да так никогда и не понял.
Консуэло, сделав несколько напрасных попыток и убедившись, что маэстро менее чем когда-либо склонен благословить ее на любовь и брак, безропотно покорилась и уже не вызывала своего несчастного учителя на откровенные разговоры, которые только все более и более усиливали его предубеждение. Она перестала упоминать даже имя Альберта и готова была подписать всякий контракт, который будет угоден Порпоре. Оставаясь наедине с Иосифом, она открывала ему свою душу, и это приносило ей облегчение.
– Странная у меня судьба, – часто говорила она ему, – небо наделило меня талантом, душой, способной чувствовать искусство, потребностью к свободе, любовью к гордой, целомудренной независимости, но в то же время вместо холодного, свирепого эгоизма, который обеспечивает артистам силу, необходимую, чтобы пробить себе дорогу сквозь опасности и соблазны жизни, небесная воля вложила в мою грудь нежное, чувствительное сердце, бьющееся только для других, живущее только самопожертвованием. И вот под влиянием двух противоположных сил жизнь моя проходит втуне, и я никак не могу достичь цели. Если я рождена быть самоотверженной, пусть бог отнимет у меня склонность к поэзии, увлечение искусством и инстинкт свободы, превращающие мое самоотвержение в пытку, в муку. Если же я рождена для искусства, для свободы, пусть он вынет из моего сердца жалость, чувство дружбы, заботливость, страх перед страданиями, причиняемыми другим, – словом, все то, что будет отравлять успех и мешать моей карьере.
– Если бы мне было позволено дать тебе совет, моя бедная Консуэло, – отвечал Гайдн, – я сказал бы: «Слушайся голоса своего таланта и заглуши голос сердца». Но теперь я хорошо узнал тебя, ты не сможешь этого сделать.
– Нет, не смогу! И, кажется, никогда не смогу! Но подумай, как я несчастна! Подумай, какая у меня сложная, странная и злосчастная судьба. Даже став на путь самоотвержения, я так запуталась, меня настолько раздирают противоречия, что я не могу идти туда, куда влечет меня сердце, не разбив этого сердца, жаждущего творить добро и правою и левою рукой. Посвяти я себя одному, я покидаю и обрекаю на гибель другого. У меня любимый муж, но я не могу быть его женой, ибо этим я убью моего любимого отца; с другой стороны, исполняя дочерний долг, я убиваю своего супруга! В Писании сказано: «Остави отца своего и матерь свою и следуй за мужем…» Но на самом деле я и не жена и не дочь. Закон не высказался относительно меня, и общество не позаботилось о моей судьбе. Мое сердце само должно сделать выбор; однако в нем нет страстной любви, и при том положении, в каком я нахожусь, стремление к долгу и самопожертвованию не может руководить мною при выборе. Альберт и Порпора одинаково несчастны, обоим одинаково угрожает сумасшествие или смерть. Я одинаково необходима и тому и другому… Надо пожертвовать кем-либо из двух.
– А зачем? Выйди вы замуж за графа, почему бы Порпоре не жить подле вас? Таким образом вы бы вырвали его из лап нищеты, воскресили своими заботами и сразу проявили бы по отношению к обоим свое самопожертвование.
– О! Если бы это было возможным! Клянусь тебе, Иосиф, я отказалась бы и от искусства и от свободы! Но ты не знаешь Порпору, – он жаждет славы, а не благосостояния и беспечной жизни. Он живет в нищете, не замечая этого, страдает от нее, не зная, откуда идет это страдание. К тому же, постоянно мечтая о триумфах и поклонении, он не смог бы снизойти до того, чтобы примириться с чьим бы то ни было состраданием. Поверь мне, его бедственное положение в большей степени является следствием пренебрежения и гордости. Скажи он только слово, и у него найдутся друзья и с радостью придут к нему на помощь. Но дело не только в том, что он никогда не обращал внимания на то, полон или пуст его карман (ты прекрасно видел, что это относится и к его желудку), – он предпочел бы, запершись в комнате, лучше умереть с голоду, чем пойти за милостями в виде обеда к своему лучшему другу. Ему казалось бы унизительным для музыки, если бы кто-нибудь мог заподозрить, что он, Порпора, нуждается в чем-либо, кроме своей гениальности, клавесина и пера. Вот почему посланник и его возлюбленная, которые так любят и почитают маэстро, даже не подозревают об его нужде. Они знают, что старик живет в небольшой невзрачной комнате, но думают, будто он поклонник сумрака и беспорядка. Ведь он сам говорит им, что не смог бы сочинять в другой обстановке. Я же знаю нечто совсем иное. Я видела, как он в Венеции влезал на крыши, ища вдохновения в небесах и шуме моря. Его принимают в потертом костюме, облезлом парике, продырявленных башмаках и считают, что так и надо. «Он любит неряшливость, – говорят люди, – это слабость стариков и артистов. Его лохмотья ему милы, а в новых башмаках, пожалуй, он и ходить не сумел бы». Порпора это подтверждает. А я в свои детские годы видела его изысканно одетым, всегда надушенным, чисто выбритым, кокетливо потряхивающим над органом и клавесином кружевными манжетами. Но тогда он мог быть таким, никому не обязываясь. Так что Порпора никогда не согласился бы жить в праздности и безвестности где-то в Чехии, за счет своих друзей. Он не выжил бы и трех месяцев, не проклиная и не ругая всех, воображая, что существует заговор против его жизни и враги посадили его под замок, чтобы помешать ему издавать и ставить на театре свои произведения. Отряхнув прах от ног своих, он сбежал бы в одно прекрасное утро в свою мансарду, к своему изъеденному крысами клавесину, к своей пагубной бутылке и драгоценным манускриптам.
– А вы не предвидите возможности уговорить вашего графа Альберта переехать в Вену, в Венецию или в Дрезден, в Прагу – словом, в какой-нибудь музыкальный город? Ведь у вас будут огромные средства, и вы сможете поселиться где угодно, окружив себя музыкантами, заниматься искусством и предоставить тщеславию Порпоры свободу действий, не переставая заботиться о Нем. – Как можешь ты задавать мне подобный вопрос после того, как я рассказала тебе, какое здоровье и характер у Альберта? Разве может вращаться в толпе злых и глупых людей, именуемой светом, человек, которому тягостно видеть равнодушное лицо! А с какой иронией, с какой холодностью и презрением отнесся бы свет к этому безупречно нравственному фанатику, ничего не понимающему ни в его законах, ни в его нравах, ни в его привычках. Альберта столь же опасно подвергать таким испытаниям, как и стараться, чтобы он позабыл меня, хотя я и пытаюсь это сейчас сделать.
– Однако любая беда покажется ему менее страшной, чем разлука с вами, уверяю вас. Если Альберт вас любит по-настоящему, он все перенесет. А если он не любит так сильно, чтобы все вынести и на все согласиться, он вас забудет.
– Вот почему я жду и ничего не решаю. Подбадривай меня, Беппо, и не оставляй меня, – пусть будет хоть одна душа, которой я могла бы излить свое горе и которую я могла бы просить помочь мне обрести надежду.
– О сестрица! Будь спокойна! – воскликнул Иосиф. – Если мне дано принести тебе хоть маленькое облегчение, я безропотно буду терпеть все вспышки Порпоры; готов даже выносить его побои, если это может отвлечь его от желания мучить и огорчать тебя.
Разговаривая с Иосифом, Консуэло не переставала работать: готовила для всех обед, чинила тряпье Порпоры. Она добавила необходимую для маэстро мебель, приобретая незаметно одну вещь за другой. Прекрасное кресло, очень широкое и хорошо набитое волосом, заменило соломенный стул, на котором он давал отдых своим старческим, одряхлевшим костям. Сладко поспав в нем после обеда, он нахмурил брови и удивленно спросил, откуда взялось такое хорошее кресло.
– Хозяйка прислала его сюда; это старое кресло мешало ей, и я согласилась поставить его в угол, пока оно ей не понадобится.
Консуэло обновила также и тюфяки учителя, но он не сделал никаких замечаний относительно удобства кровати, сказав лишь, что последние ночи он стал гораздо лучше спать. Консуэло ответила, что это следует приписать кофе и воздержанию от водки. Однажды утром Порпора, надев превосходный шлафрок, с озабоченным видом спросил Иосифа, где он его разыскал. Иосиф, как было условленно с Консуэло, ответил, что, прибирая в старом сундуке, нашел на дне этот шлафрок.
– А я думал, что не привозил его сюда, – заметил Порпора. – Однако ж это тот самый, что был у меня в? Венеции, во всяком случае он того же цвета.
– А какой же еще? – вмешалась Консуэло, позаботившаяся о том, чтобы цвет нового шлафрока напоминал «покойный» венецианский.
– Но он мне казался более поношенным, – сказал маэстро, осматривая свои локти.
– Еще бы, – снова заговорила Консуэло, – я вставила новые рукава.
– А из чего же?
– Из подкладки.
– А! Женщины умеют из всего извлечь пользу…
Когда был принесен новый костюм и Порпора поносил его два дня, то, хотя костюм и был одного цвета со старым, маэстро удивился его свежести; особенно пуговицы, очень красивые, навели его на размышления.
– Это не мой костюм, – проворчал старик.
– Я велела Беппо отнести его в чистку: ты вчера вечером наделал на нем пятен. Его выутюжили, вот он и кажется более новым.
– Говорят тебе, это не мой костюм! – закричал Порпора, вспыхнув. Твой Беппо дурак! Мне подменили костюм.
– Его не могли подменить, я сделала на нем метку.
– А пуговицы? Не хочешь ли ты меня убедить, что и пуговицы те же?
– Я заменила их, сама пришила. Старые были совсем изношенные.
– Это твое воображение, они были еще очень хороши. Вот нелепость! Что я, селадон какой-нибудь, чтобы так рядиться и платить за пуговицы, наверное, не меньше двенадцати цехинов!
– Они и двенадцати флоринов не стоят, – возразила Консуэло, – я купила их по случаю.
– И это слишком много, – проворчал маэстро.
Вся одежда была подсунута маэстро таким же манером, при помощи ловких обманов, а Консуэло и Иосиф хохотали при этом, как дети. Несколько вещей проскользнуло незаметно благодаря озабоченности Порпоры; кружева и белье проникли тайком в его шкаф маленькими порциями, а когда он рассматривал их на себе с некоторым недоумением, Консуэло обыкновенно говорила, что это она так искусно все заштопала. Для большей правдоподобности она чинила у него на глазах кое-какое старье, а потом укладывала вместе с другими вещами.
– Ну вот что! – воскликнул однажды Порпора, вырывая у нее из рук жабо, которое она штопала, – броська эти пустяки! Артистка не должна погрязать в домашнем хозяйстве, и я не желаю видеть, как ты, согнувшись в три погибели, сидишь с иглой в руках. Сейчас же спрячь, иначе я швырну все это в печку. Не хочу также видеть, как ты стряпаешь у плиты и вдыхаешь дым. Ты что, хочешь потерять голос? Хочешь стать судомойкой? Хочешь, чтобы я проклял себя?
– Не проклинайте себя, – ответила Консуэло, – вещи ваши теперь в порядке, а голос мой восстановился.
– В добрый час! – ответил маэстро. – В таком случае ты завтра поешь у графини Годиц, вдовы маркграфа Байрейтского.
Глава 87
Маркграфиня Байрейтская, вдова маркграфа ГеоргаВильгельма, урожденная княгиня Саксен-Вейсенфельд, а во втором браке графиня Годиц, «была когда-то хороша, как ангел. Но с тех пор она очень изменилась, и надо было чрезвычайно внимательно всматриваться в ее лицо, чтобы найти следы былой прелести. Она отличалась высоким ростом и, по-видимому, обладала когда-то хорошей фигурой. Чтобы сохранить ее, она сделала несколько выкидышей, убив своих детей в зародыше. У нее было длинное лицо и длинный нос, который ее очень безобразил, – графиня его отморозила, и он приобрел весьма неприятный цвет, напоминающий бурак. Ее большие карие глаза с красивым разрезом были унылы и утратили прежнюю живость. За неимением бровей она носила накладные, очень густые и черные, как чернила. Рот большой, но приятный и красивой формы, зубы ровные, белые, точно слоновая кость; кожа на лице, хоть и гладкая, все же дряблая и серо-желтая. Вид у маркграфини был добродушный, но несколько жеманный. То была Лаиса своего века. Нравилась она только своей наружностью, ума же у нее не было и тени».
Если, дорогой читатель, вы найдете, что портрет сделан несколько жестоко и цинично, не пеняйте на меня. Он слово в слово написан собственной рукой принцессы, известной своими несчастьями, своими семейными добродетелями, своей гордостью и злостью, принцессой Вильгельминой Прусской, сестрой Фридриха Великого и женой наследного принца Байрейтского, племянника нашей графини Годиц. У принцессы был самый злой язык из всех когда-либо порожденных королевской кровью, но вообще ее портреты написаны мастерски, и, читая их, трудно им не верить.
Консуэло, причесанная Келлером и одетая благодаря его усердию и заботам с элегантной простотой, вошла с Порпорой в салон маркграфини, и оба уселись за клавесином, стоявшим в углу, чтобы не стеснять общество. Порпора оказался настолько пунктуален, что в салоне еще никого не было и лакеи зажигали последние свечи. Маэстро стал пробовать клавесин, но не успел он взять несколько аккордов, как в салоне появилась удивительно красивая дама и подошла к нему с приветливой грацией. Порпора поклонился ей с большим почтением и назвал ее принцессой, а Консуэло приняла ее за маркграфиню и, согласно обычаю, поцеловала ей руку. Холодная, бледная рука принцессы пожала руку девушки с сердечностью, редко встречаемой среди великих мира сего, и молодая дама сразу пленила сердце Консуэло. Принцесса казалась на вид лет тридцати. Фигура ее была изящна, но не совсем правильна; в ней замечалось даже некоторое искривление – по-видимому, следствие тяжких физических страданий. Она была очень хороша собою, но ее преждевременно поблекшее скорбное лицо было бледно до чрезвычайности. Туалет ее был очень изящен, но прост и до суровости благопристоен. Все ее прекрасное существо дышало добротой, грустью и робкой стыдливостью, а в голосе слышались кротость и нежность, тронувшие Консуэло. Прежде чем юная певица сообразила, что ошиблась, появилась настоящая маркграфиня. Ей было за пятьдесят, и если портрет, помещенный в начале этой главы и набросанный за десять лет до описываемых событий, был сильно преувеличен, то этого никак нельзя было сказать в то время, когда ее увидела Консуэло. Даже при большой доброжелательности трудно было поверить, что графиня Годиц слыла когда-то одной из красавиц Германии, хотя она и гримировалась и одевалась с умелым, очень изысканным кокетством. Со зрелым возрастом формы ее расплылись, но маркграфиня упорно не замечала этого и продолжала выставлять напоказ обнаженную грудь и плечи с гордостью, подобающей разве античной статуе. Голова ее была убрана цветами, бриллиантами и перьями, как у молодой женщины, а наряд сверкал драгоценными камнями.
– Мама, – проговорила принцесса, введшая в заблуждение Консуэло, – вот молодая особа, о которой нам говорил Порпора; она доставит нам удовольствие и Даст возможность послушать чудную музыку его новой оперы.
– Но это еще не основание для того, чтобы вы держали ее так за руку, – ответила маркграфиня, оглядывая Консуэло с головы до ног. – Ступайте, сударыня, и садитесь у клавесина! Рада вас видеть; вы нам споете, когда все общество будет в сборе. Маэстро Порпора, приветствую вас! Прошу меня извинить, если я не займусь вами: я только сейчас заметила, что в моем туалете кое-чего не хватает. Дочь моя, побеседуйте немного с маэстро Порпорой; это человек большого таланта, я его уважаю.
Проговорив это хриплым, словно у солдата, голосом, толстая маркграфиня тяжеловесно повернулась и удалилась в свои покои. Не успела она выйти, как ее дочь, принцесса, подошла к Консуэло и снова с чувствительной, трогательной благосклонностью взяла ее за руку, как бы желая показать, что она протестует против грубости матери. Затем она стала беседовать с Консуэло и Порпорой, простым и милым обхождением выказывая свой интерес к этой беседе. Консуэло тем более тронул этот ласковый прием, что при появлении некоторых лиц она заметила в обращении принцессы холодность и сдержанность, застенчивую и в то же время гордую, от которой она, очевидно, отрешилась исключительно для маэстро и его ученицы.
Когда салон был почти полон, вошел обедавший вне дома парадно одетый граф Годиц и, словно посторонний, подошел к своей благородной супруге, осведомился о ее здоровье и поцеловал у нее руку. Маркграфиня имела слабость считать себя особой нежного сложения. Она полулежала на кушетке, поминутно нюхая флакон с солями. Приветствовала и принимала гостей она с видом, казавшимся ей томным, а в сущности, пренебрежительным; короче говоря, она была настолько смешна, что Консуэло, сначала возмущенная ее грубостью, кончила тем, что в душе стала потешаться над нею и собиралась от души похохотать, описывая ее своему другу Беппо.
Принцесса подошла к клавесину и при каждом удобном случае, когда мать не глядела на нее, обращалась к Консуэло то с каким-нибудь замечанием, то с улыбкой. Благодаря этому Консуэло уловила сценку, раскрывшую ей тайну сокровенных семейных отношений. Граф Годиц подошел к падчерице, взял ее руку, поднес к губам и продержал так несколько секунд, очень выразительно при этом смотря на нее. Принцесса отдернула руку, сказав несколько холодных, учтивых слов. Граф пропустил их мимо ушей, но не спускал глаз с падчерицы.
– Ну что, мой прекрасный ангел, – проговорил он, – все так же грустна, все так же сурова, все так же недоступна? Можно подумать, что вы собираетесь идти в монастырь!
– Очень возможно, что там я и кончу свои дни, – вполголоса ответила принцесса. – Светское общество отнюдь не внушило мне большого влечения к его утехам.
– Общество боготворило бы вас, было бы у ваших ног, если бы только вы не стремились своей суровостью держать его на расстоянии. Что же касается монастыря – неужели в ваши годы и с вашей красотой вы могли бы примириться с его ужасами?
– В годы, когда я была веселее и красивее, чем ныне, – ответила она, – я выносила ужас более суровой неволи, разве вы забыли? Однако, граф, прекратите разговор со мной: мама смотрит на вас.
Граф немедля покинул свою падчерицу, подошел к Консуэло и с важностью поклонился ей; потом, сказав ей несколько слов о музыке вообще, он открыл ноты, положенные Порпорой на клавесин, и, притворившись, будто ищет какое-то место, по поводу которого хочет получить от нее объяснение, нагнулся над пюпитром и тихо проговорил:
– Вчера утром я видел дезертира, и жена его передала мне вашу записку. Я прошу красавицу Консуэло забыть некую встречу, а взамен ее молчания я забуду некоего Иосифа, только что замеченного мной в передней.
– Некий Иосиф – талантливейший артист; ему недолго еще оставаться в передней, – ответила Консуэло. – Он мой брат, мой товарищ, мой друг. Мне нечего краснеть за свои чувства к нему и нечего скрывать в этом отношении. Единственно, о чем я могу молить ваше сиятельство, это быть немного снисходительным к моему голосу и оказать небольшое покровительство Иосифу в будущих его музыкальных дебютах.
Замеченные Консуэло ревность и супружеское иго, довлевшие над графом, успокоили девушку относительно последствий приключения в Пассау.
– Моя поддержка Иосифу обеспечена, а вашим чудесным голосом вы уже привели меня в восторг. Но я льщу себя надеждой, что некая шутка с моей стороны никогда не была принята вами всерьез.
– Я не тщеславна, господин граф, а к тому же знаю, что женщине не следует хвалиться, когда она стала предметом подобной шутки.
– Оставим это, синьора, – сказал в заключение граф; вдовствующая маркграфиня не спускала с него глаз, и ему не терпелось переменить собеседницу, чтобы не возбудить подозрений супруги. – Надеюсь, что знаменитая Консуэло сумеет простить веселую шутку, допущенную мною в путешествии, а в будущем она может рассчитывать на уважение и преданность графа Годица.
Он положил ноты обратно на клавесин и направился, улыбаясь с приторной любезностью, навстречу особе, о которой доложили с большой торжественностью. В комнату вошел маленький человечек, которого можно было принять за переодетую женщину, до того он был румян, завит, разодет, мил и надушен. Именно о нем Мария-Терезия говорила, что хотела бы оправить его в перстень; о нем же она сказала, что сделала из него дипломата, не имея возможности сделать что-либо лучшее. То был всесильный первый министр Австрии, любимец и даже, как уверяли, возлюбленный императрицы, – короче говоря, не кто иной, как знаменитый Кауниц, государственный муж, который держал в своей белой руке, украшенной многоцветными перстнями, все хитроумные нити европейской политики.
Он, казалось, с серьезным видом выслушивал так называемых серьезных людей, подходивших к нему потолковать о серьезных делах. Но вдруг он прервал свою речь на полуслове.
– Кто это там у клавесина? – спросил он графа Годица. – Не та ли это девочка, о которой мне говорили, любимица Порпоры? Бедняга Порпора! Мне бы хотелось что-нибудь сделать для него, но он так требователен, так взбалмошен; все артисты или боятся, или ненавидят его. Когда заговоришь о нем, то словно показываешь голову Медузы. Одному он говорит, что тот поет фальшиво, другому – что его произведения никуда не годятся, третьему – что успехом он пользуется только благодаря интригам. И он хочет, чтобы с таким ехидным языком его слушали и отдавали справедливость его таланту! Черт возьми! Не в лесной же глуши мы живем! Откровенность у нас не в моде, и с правдой далеко не уедешь. А девочка эта совсем недурна, мне нравятся такие лица. Она совсем юная, не правда ли? Говорят, она пользовалась большим успехом в Венеции. Порпора должен привести ее завтра ко мне.
– Он хочет, чтобы вы дали ей возможность спеть в присутствии императрицы, – сказала принцесса, – и я надеюсь, вы не откажете ему в такой милости. Я лично тоже прошу вас об этом.
– Нет ничего легче, как устроить, чтобы ее послушала императрица, а раз ваше высочество желает, я постараюсь посодействовать ей. Но в театре есть некто более могущественный, чем императрица. Это госпожа Тези! И если бы даже императрица взяла эту девушку под свое покровительство, я сомневаюсь, чтобы условие было подписано без верховного одобрения Тези. – Говорят, вы ужасно балуете этих дам, господин граф, и если бы вы не были столь снисходительны, они не пользовались бы такой властью.
– Что поделаешь, принцесса! Каждый – хозяин в своем доме. Ее величество прекрасно понимает, что, вмешайся она в дела оперы со своими указами, там все пошло бы вкривь и вкось. А ее величество желает, чтобы опера была хороша и доставляла всем удовольствие; но возможно ли это, если у примадонны в день дебюта объявится насморк, а тенор, вместо того чтобы в сцене примирения броситься в объятия баса, даст ему пощечину! Довольно с нас и того, что мы ублажаем господина Кафариэлло. Мы счастливы с тех пор, как госпожа Тези и госпожа Гольцбауэр ладят между собой. Если нам бросят на театральные подмостки яблоко раздора, это окончательно смешает наши карты.
– Но третий женский голос совершенно необходим, – заметил венецианский посланник, горячо покровительствовавший Порпоре и его ученице, – и вот появляется дива…
– Если она дива, тем хуже для нее. Она возбудит зависть госпожи Тези, – ведь и та дива и желает быть единственной. Приведет она в бешенство и госпожу Гольцбауэр, также жаждущую быть дивой…
– Ну, ей-то далеко до этого, – вставил посланник.
– Но она очень хорошего происхождения. Это особа из знатной семьи, лукаво заметил г-н Кауниц.
– Во всяком случае она не в состоянии взяться сразу за две роли. Так что ей придется предоставить какому-нибудь меццо-сопрано исполнять в операх ее партии.
– У нас есть некая Корилла, предлагающая свои услуги, красивейшее существо в мире.
– Ваше сиятельство уже видели ее?
– В первый же день ее приезда. Но слышать ее не слышал: она была больна.
– Вы сейчас услышите ученицу Порпоры и, не задумываясь, отдадите ей предпочтение.
– Очень возможно. И признаюсь даже, что ее лицо менее красивое, чем у той, мне кажется более приятным. У нее очень кроткий и приличный вид. Но мое предпочтение ничего не даст бедняжке! Ей надо понравиться госпоже Тези, не раздражая в то же время госпожу Гольцбауэр, а до сих пор, несмотря на нежнейшую дружбу этих двух дам, все, что одобряла одна, энергично отвергала другая.
– Да, трудное решение! Тяжкая задача! – проговорила несколько иронически принцесса, видя, какое значение придают два государственных мужа закулисным интригам. – Наша маленькая любимица против госпожи Кориллы. Бьюсь об заклад, что господин Кафариэлло положит свою шпагу на одну из чашек весов. Когда Консуэло спела, все в один голос заявили, что со времен г-жи Гассе не слыхали ничего подобного, а г-н фон Кауниц, подойдя к ней, торжественно произнес:
– Сударыня, вы поете лучше госпожи Тези. Но да будет это сказано вам всеми нами по секрету, ибо, если подобное мнение выйдет за пределы этого дома, вы пропали: вам в этом сезоне не дебютировать у нас. Будьте же осторожны, очень осторожны, – прибавил он, понижая голос и усаживаясь подле нее. – Придется вам преодолеть большие препятствия, и победительницей вы можете стать, только проявив много ловкости.
Тут великий Кауниц, входя во все подробности театральных интриг и вводя Консуэло до мелочей во все треволнения труппы, прочел ей целый трактат дипломатической науки в применении к закулисному миру.
Консуэло слушала его, широко открыв от удивления свои большие глаза, и так как в течение своей речи он раз двадцать повторил «моя последняя опера», «опера, поставленная мной месяц тому назад», то она вообразила, что, верно, ослышалась, когда о нем докладывали, и лицо, столь посвященное в перипетии театральной карьеры, должно быть, директор оперного театра или модный маэстро. Благодаря этому она почувствовала себя непринужденно и стала говорить с ним, как с человеком своей профессии. Непринужденность придала ей больше наивности и хорошего расположения духа, чем дозволило бы почтение, подобающее имени всесильного первого министра. Г-н фон Кауниц нашел ее очаровательной. В течение целого часа он занимался исключительно ею. Маркграфиня была в большом негодовании от подобного нарушения приличий. Она ненавидела вольность больших дворов, привыкнув к церемонной торжественности малых. Но изображать маркграфиню у нее больше не было никакой возможности: она перестала ею быть. Императрица допускала ее к себе и даже обходилась с ней довольно благосклонно, оттого что маркграфиня отреклась от лютеранства и перешла в католичество. Такой лицемерный поступок при австрийском дворе извинял всякий неравный брак, даже всякое преступление. В этом отношении Мария-Терезия следовала примеру отца и матери, принимавших всех, кто, желая избежать преследования и глумления в протестантской Германии, переходил в лоно римской церкви. Но хоть маркграфиня и стала католичкой, она ничего не значила в Вене, а фон Кауниц был все.
Как только Консуэло пропела третью арию, Порпора, хорошо знакомый с этикетом, сделал ей знак, свернул ноты и вышел вместе с ней через маленькую боковую дверь, не обеспокоив своим уходом благородных особ, соблаговоливших внимать ее божественному пению.
– Все идет как по маслу, – проговорил маэстро, потирая руки, когда они очутились на улице в сопровождении Иосифа, несшего факел, – Кауниц, старый дурак, знает толк в музыке; благодаря ему ты далеко пойдешь!
– А кто он такой, этот Кауниц? Я его не видела, – сказала Консуэло.
– Как не видела, путаная голова? Да ведь он с тобой говорил больше часа.
– Не тот ли маленький человечек в розовом жилете с серебром, наболтавший мне столько сплетен, что мне казалось, будто я слушаю старую билетершу?
– Он самый. Что же тут удивительного?
– А я нахожу это очень удивительным, – ответила Консуэло, – у меня было совсем иное представление о государственных людях.
– Потому что ты не видишь, как движется государственная машина, а если бы ты видела, то удивилась бы, как могут государственные люди быть чем-либо иным, кроме старых сплетниц. Ну, не будем больше об этом говорить – займемся лучше нашим ремеслом на этом маскараде шутов. – Увы, маэстро, – задумчиво промолвила девушка, пересекая большую площадь у вала и направляясь к своему убогому жилищу, – я как раз спрашиваю себя: во что обращается наше ремесло среди этих равнодушных и лживых масок?
– А во что ты хочешь, чтобы оно обратилось? – возразил Порпора своим резким, отрывистым голосом. – Оно не может обратиться ни в то, ни в иное: при любых условиях, счастливых или тяжелых, торжествующее или презираемое, оно всегда остается самим собою – самым прекрасным, самым благородным ремеслом на земном шаре.
– О да! – сказала Консуэло, беря учителя под руку и замедляя его обычно торопливый шаг. – Я понимаю, что величие и достоинство нашего искусства не могут быть ни унижены, ни возвышены из-за легкомысленных или безвкусных капризов, которые управляют миром; но почему позволяем мы унижать свою личность, почему подвергаем себя презрению профанов или их поощрению, порой еще более унизительному? Раз искусство священно, не священны ли и мы, его жрецы и левиты? Почему не живем мы в своих мансардах, радуясь, что понимаем и умеем чувствовать музыку, зачем нужно бывать в их салонах, где нас слушают, перешептываясь, где нам аплодируют, думая о другом, и где стыдятся признать нас хоть на минуту людьми, после того как мы перестали фиглярничать, точно скоморохи?
– Эх! Эх! – проговорил Порпора, останавливаясь и стуча палкой по мостовой. – Что за глупое тщеславие, что за ложные идеи бродят нынче у тебя в голове! Что мы такое и зачем нам быть чем-либо иным, а не скоморохами? Они так зовут нас из презрения. А не все ли равно? Ведь мы скоморохи по склонности, по призванию, по воле неба, – точно так же, как они вельможи по прихоти случая, по принуждению или по выбору дураков! Ну да! Скоморохи! А это не каждому дано! Ну-ка, пусть попробуют: посмотрим, как они за это возьмутся, эти пигмеи, воображающие себя невесть чем! Пусть-ка маркграфиня Байрейтская облечется в плащ трагической актрисы, обует свои уродливые толстые ножищи в котурны и сделает два-три шага на сцене, – воображаю, что за странную принцессу увидим мы пред собой! А что, ты думаешь, она делала при своем маленьком дворе в Эрлангене в те времена, когда воображала, будто царствует там? Она изображала королеву и лезла из кожи вон, чтобы играть роль, которая была ей не по силам. Рождена она маркитанткой, а по странной случайности судьба сделала из нее высочество. И что же? Она заслужила тысячу свистков, изображая высочество навыворот. А тебя, глупое дитя, бог сотворил королевой! Он возложил на твое чело венец красоты, разума и силы. Очутись ты среди народа свободного, разумного, чуткого (предположим, что такой существует) – и ты королева, ибо тебе стоит лишь появиться и спеть, чтобы доказать, что ты королева милостью божьей. Но все это не так. Мир устроен иначе. Он таков, каков есть; что с этим поделаешь? Знай: им управляют каприз, заблуждение и безумие. Разве мы можем это изменить? Большинство повелителей безобразно, бесчестно, глупо и невежественно. Вот и нужно либо покончить с собой, либо приспособиться к такому положению вещей. Не имея возможности быть монархами, мы становимся актерами и – царствуем! Мы передаем язык небес, недоступный простым смертным, мы облекаемся в одежды царей и великих людей, выходим на подмостки, восседаем на бутафорском троне, разыгрываем комедию. Мы скоморохи! Клянусь богом, свет все видит и ничего не смыслит. Он не замечает, что мы настоящие владыки земли и только наше царство истинно, в то время как их царство, их могущество, их деятельность, их величие – пародия, над которой смеются ангелы на небе, а народы ненавидят и втихомолку проклинают. Самые могущественные монархи приходят смотреть на нас, учиться в нашей школе и, восхищаясь нами в душе, как образцом истинного величия, стараются подражать нам, когда появляются потом перед своими подданными. Да, мир выворочен наизнанку; это прекрасно чувствуют те, кто им повелевают, и если они не вполне отдают себе в этом отчет, если они в этом не признаются, то нетрудно заметить по их презрению к нам и нашему ремеслу, что они чувствуют инстинктивную зависть к нашему действительному превосходству. О! Когда я бываю в театре, мне все становится ясно! Музыка открывает мне глаза, и я вижу за рампой настоящий двор, настоящих героев, великие порывы, в то время как истинные скоморохи и жалкие комедианты с важностью восседают в ложах на бархатных креслах. Свет – комедия, вот что несомненно; и вот почему я говорил тебе сию минуту: благородная дочь моя, пройдем с достоинством через этот жалкий маскарад, именуемый светом… Черт побери этого дурака! – закричал маэстро, отталкивая Иосифа, который, страстно желая услышать восторженную речь учителя, незаметно приблизился и толкнул его локтем.
– Он наступает мне на ноги, заливает меня смолой своего факела! Пожалуй, подумаешь, что он понимает, о чем мы говорим, и хочет почтить нас своим одобрением!
– Иди справа от меня, Беппо, – сказала девушка, делая Гайдну знак. Ты своей неловкостью выводишь из себя маэстро. – И, обращаясь к Порпоре, продолжала: – Все, что вы говорите, друг мой, – благородный бред. Это ничего не поясняет мне, а опьянение гордостью не облегчает даже самой маленькой сердечной раны. Меня мало трогает, что, родившись королевой, я не царствую. Чем больше я вижу великих мира сего, тем больше внушают они мне сожаления.
– Ну, не то ли я тебе говорил?
– Да, но не об этом я вас спрашивала. Они жаждут что-то изображать собой и властвовать. В этом их безумие и их ничтожество. Но раз мы выше, лучше и умнее их, зачем же противопоставляем мы свою гордость их гордости, свою царственность их царственности? Если мы обладаем достоинствами более значительными, если владеем сокровищами более завидными и более драгоценными, к чему ведем мы с ними эту жалкую борьбу, ставя нашу доблесть и наши силы в зависимость от их капризов, зачем низводим себя до их уровня?
– Этого требуют достоинство, святость искусства, – воскликнул маэстро, – они превратили подмостки, именуемые миром, в поле сражения, а нашу жизнь – в мученичество. И вот мы должны сражаться, должны проливать кровь из всех наших пор, чтоб доказать им, умирая в муках, изнемогая от их свистков и презрения, что мы – боги или по меньшей мере законные короли, а они – подлые смертные, наглые и низкие узурпаторы!
– О маэстро, как вы их ненавидите! – воскликнула удивленная Консуэло, дрожа от ужаса. – А между тем вы склоняетесь перед ними, льстите им, щадите их и удаляетесь из салона через маленькую боковую дверь, почтительно подав им два или три блюда вашей гениальности.
– Да, да, – ответил маэстро, потирая руки с горьким смехом, – я насмехаюсь над ними, раскланиваюсь перед их бриллиантами и орденами, подавляю их двумя или тремя своими аккордами и поворачиваю им спину в восторге, что могу уйти, спеша избавиться от их глупых физиономий.
– Итак, – снова заговорила Консуэло, – значит, апостольская миссия искусства – битва?
– Да, битва: слава храброму!
– Насмешка над дураками?
– Да, насмешка: слава умному человеку, умеющему сделать ее кровавой!
– Средоточие гнева, непрерывная злоба?
– Да, и гнев и злоба: слава энергичному человеку, который поддерживает их в себе непрестанно и никогда не прощает!
– И ничего больше?
– Ничего больше в этой жизни! Слава для истинного гения приходит только после смерти.
– Ничего больше в этой жизни? Уверен ли ты в этом, маэстро?
– Я уже сказал тебе!
– В таком случае это очень мало, – вздохнув, промолвила Консуэло и подняла глаза к звездам, блестевшим в чистом голубом небе.
– Как очень мало? Ты смеешь говорить, жалкая душа, что этого мало? – закричал Порпора, снова останавливаясь и с силой тряся руку ученицы, в то время как Иосиф от страха выронил факел.
– Да, мало, – спокойно и твердо ответила Консуэло, – я уже говорила вам то же самое в Венеции при очень для меня тяжелых и решающих для моей жизни обстоятельствах. С тех пор я не переменила мнения. Мое сердце не создано для борьбы, оно не может вынести тяжесть ненависти и гнева. В душе моей нет уголка, где могли бы приютиться злопамятство и месть. Прочь, злобные страсти! Подальше от меня, пламенные волнения! Если я могу добиться славы и гениальности, только отдав свою душу, то прощайте навсегда, гениальность и слава! Венчайте лаврами другие головы, воспламеняйте другие сердца! От меня вы не получите даже сожаления!
Иосиф, ожидая, что Порпора разразится, как всегда, когда ему долго противоречили, ужасной и в то же время комичной вспышкой гнева, уже схватил Консуэло за руку, чтобы отдернуть ее от учителя и предохранить от одного из тех яростных жестов, какими тот часто грозил ей, но которые, правда, никогда ничем не кончались… кроме улыбки или слез. Однако и этот шквал пронесся, подобно другим. Порпора топнул ногой, глухо прорычал, как старый лев в клетке, сжал кулаки, в запальчивости подняв их к небу, потом сейчас же опустил руки, тяжело вздохнул, склонил голову на грудь и зашагал по направлению к дому, упорно храня молчание. Отважное спокойствие Консуэло, ее стойкое прямодушие невольно внушили ему уважение. Он, быть может, с горечью задумывался над своим поведением, но не хотел сознаться: слишком он был стар, слишком была уязвлена, ожесточена его артистическая гордость, чтобы он мог стать другим. И только когда Консуэло поцеловала его, пожелав покойной ночи, он с глубокой грустью посмотрел на нее и проговорил упавшим голосом:
– Итак, все кончено! Ты больше не артистка, потому что маркграфиня Байрейтская – старая негодяйка, а министр Кауниц – старая сплетница!
– Нет, маэстро, я этого вовсе не говорила, – ответила, смеясь, Консуэло, – я сумею весело отнестись к грубым и смешным сторонам света; для этого мне не надо ни досады, ни ненависти, довольно моей чистой совести и хорошего расположения духа. И теперь и всегда я буду артисткой. Я вижу другую цель, другое назначение искусства, чем соревнование в гордости и месть за унижение. У меня иная побудительная причина, и она меня поддержит.
– Но какая же, какая? – закричал Порпора, ставя на стол в передней подсвечник, поданный Иосифом. – Я хочу знать: какая?
– Моя побудительная причина – заставить людей понять искусство, полюбить его, не возбуждая страха и ненависти к личности артиста.
Порпора, пожал плечами.
– Юношеские мечты, они были знакомы и мне! – проговорил старик.
– Ну, если это мечта, – возразила Консуэло, – то торжество гордости также мечта, и из двух я предпочитаю свою. Затем у меня есть еще вторая побудительная причина – желание слушаться тебя, угождать тебе.
– Ничему, ничему не верю! – закричал Порпора, беря сердито подсвечник и поворачиваясь к девушке спиной; но уже взявшись за ручку своей двери, он вернулся и поцеловал Консуэло, которая, улыбаясь, ожидала этого.
В кухне, примыкавшей к комнате Консуэло, была маленькая лестница, ступеньки ее вели на крышу к крошечной терраске в шесть квадратных футов. Тут Консуэло, выстирав жабо и манжеты Порпоры, обычно сушила их. Сюда же она взбиралась иногда вечером поболтать с Иосифом, когда учитель рано засыпал, а ей еще не хотелось спать. Не имея возможности заниматься в своей комнате, слишком низкой и тесной, чтобы поставить в ней стол, и боясь, расположившись в передней, разбудить своего старого друга, она взбиралась на терраску помечтать в одиночестве, глядя на звезды, или поведать своему товарищу» такому же самоотверженному и покорному рабу, как она сама, о маленьких происшествиях дня. В тот вечер им было о чем рассказать друг другу. Консуэло закуталась в плащ, накинула на голову капюшон, чтобы не простудить гордо, и поднялась к Беппо, ожидавшему ее с великим нетерпением. Их ночные беседы на крыше напоминали ей разговоры с Андзолето в детстве. Правда, луна была не такая, как в Венеции, не было и живописных венецианских крыш, ночей, пылающих любовью и надеждой; то была немецкая ночь, мечтательная, холодная немецкая луна – туманная, суровая, – словом, здесь была нежная и благодетельная дружба без опасностей и трепета страсти.
Когда Консуэло рассказала все, что ее заинтересовало, оскорбило и позабавило у маркграфини, наступил черед говорить Иосифу.
– Ты из придворных тайн видела только конверты и печати с гербами, – начал он, – но так как лакеи имеют обыкновение читать письма своих господ, то в передней я узнал содержание жизни великих мира сего. Не стоит тебе передавать и половины злословия, излитого на вдовствующую маркграфиню. Ты содрогнулась бы от ужаса и отвращения. Ах! Если бы светские люди знали, как о них отзываются лакеи! Если бы в этих великолепных салонах, где они важно, с таким достоинством восседают, они услышали, что говорится за стеной об их нравах, об их душевных свойствах! Когда Порпора только что на валу развивал перед нами свою теорию борьбы и ненависти против великих мира сего, он был не совсем на высоте. Горести помутили его рассудок. Ах! Как ты права: он действительно унижает свое достоинство, ставя себя на одну доску с этими вельможами и воображая, что подавляет их своим презрением! Да, маэстро не слышал злословия лакеев в передней, а не то он понял бы, что личная гордость и презрение к другим, прикрытые внешним почтением и покорностью, свойственны душам низким и развращенным. Но Порпора был очень хорош, очень своеобразен, очень мужествен, когда, стуча палкой по мостовой, кричал: «Мужество! Ненависть! Бичующая ирония! Вечное мщение!» Твоя же мудрость была прекраснее его бреда, и она тем более поразила меня, что я только что перед тем слышал, как лакеи – угнетенные, развращенные, робкие рабы – тоже жужжали мне в уши с глубокой ненавистью: «Мщение, хитрость, вероломство, вечная злоба, вечная ненависть – вот чего достигают наши хозяева, которые мнят, будто они выше нас, разоблачающих их мерзости!» Я никогда не был лакеем, Консуэло, но раз став им (подобно тому, как ты стала мальчиком во время нашего путешествия), я, как видишь, поразмыслил над обязанностями, каких требует мое теперешнее положение.
– И хорошо поступил, Беппо, – ответила Порпорина. – Жизнь – большая загадка, и не надо пропускать ни одного мельчайшего факта, не объяснив себе его и не поняв. Так познается жизнь. А скажи мне, узнал ли ты что-нибудь относительно принцессы, дочери маркграфини, единственной среди всех этих жеманных, накрашенных и легкомысленных особ, которая показалась мне естественной, доброй и серьезной?
– Слыхал ли я о ней? Конечно! И не только сегодня вечером, но и раньше, много раз от Келлера, который причесывает экономку принцессы и знает много кое-чего об ее хозяйке. То, что я тебе расскажу, не сплетни передней, не лакейское злословие – это истинная, всем известная, но страшная история; хватит ли у тебя мужества ее выслушать?
– Да, меня интересует эта женщина, она носит на челе печать злого рока. Я услышала из ее уст несколько слов, из которых заключила, что она жертва людской несправедливости.
– Лучше скажи: жертва подлости и ужасающей извращенности! Принцесса Кульмбахская (это ее титул) была воспитана в Дрездене своей теткой, польской королевой; там Порпора с ней познакомился и, кажется, даже давал ей уроки, так же как и ее двоюродной сестре, великой дофине Франции. Юная принцесса Кульмбахская была красива и умна. Воспитанная строгой королевой вдали от распутной матери, она, казалось, должна была всю свою жизнь прожить счастливой, уважаемой женщиной. Но вдовствующая маркграфиня, ныне графиня Годиц, не пожелала этого. Она вызвала дочь к себе и вздумала сватать ее то за одного родственника, тоже маркграфа Байрейтского, то за другого – принца Кульмбахского, ибо это княжество – Байрейт-Кульмбах – насчитывает больше принцев и маркграфов, чем подвластных деревень и замков. Но сватовство было только притворством. Красота и целомудрие принцессы возбудили в ее матери ужасную зависть. Ей хотелось унизить дочь, отнять у нее любовь и уважение отца, Георга-Вильгельма (третьего маркграфа), – не моя уж вина, если их так много в этой истории. Однако среди всех этих маркграфов для принцессы Кульмбахской не нашлось ни одного. Тогда мать обещала одному придворному своего мужа, Вобсеру, четыре тысячи дукатов в награду за то, что он обесчестит ее дочь, и сама ввела этого негодяя ночью в комнату принцессы. Слуги были предупреждены и подкуплены, дворец оказался глух к воплям девушки, мать держала дверь… Консуэло, ты содрогаешься, а между тем это еще не все. Принцесса Кульмбахская родила близнецов. Маркграфиня взяла их на руки, показала своему супругу и пронесла по всему дворцу, крича: «Смотрите все, эта развратница произвела на свет вот этих детей!» Во время этой ужасной сцены близнецы погибли почти на руках маркграфини. Вобсер имел неосторожность написать маркграфу, требуя от него четыре тысячи дукатов, обещанных ему маркграфиней. Он ведь заработал их, обесчестив принцессу! Несчастный отец, уже и так наполовину идиот, тут окончательно превратился в слабоумного и вскоре после этой катастрофы умер от ужаса и горя. Вобсеру пригрозили другие члены семьи, и он сбежал. Польская королева приказала заключить принцессу Кульмбахскую в Плассенбургскую крепость. Едва оправившись после родов, она была туда водворена, провела в суровом заключении несколько лет и поныне оставалась бы в заточении, если бы католические священники, пробравшись в тюрьму, не обещали ей покровительства императрицы Амелии при условии отречения принцессы от лютеранства. Жажда вернуть себе свободу заставила принцессу уступить их увещеваниям. Но полную свободу она получила только после смерти польской королевы. Своей независимостью она прежде всего воспользовалась для того, чтоб вернуться к вере своих отцов. Молодая маркграфиня Байрейтская, Вильгельмина Прусская, оказала ей радушный прием при своем маленьком дворе. Здесь принцесса благодаря своим добродетелям, кротости и уму заслужила всеобщее уважение. Душа ее разбита, но все еще прекрасна. Несмотря на то, что принцесса, как лютеранка, не пользуется благосклонностью венского двора, никто не смеет издеваться над ее несчастьем. Никто, даже лакеи, не решается злословить о ней. Здесь она проездом по какому-то делу, постоянная же ее резиденция – Байрейт.
– Вот почему, – заметила Консуэло, – она столько говорила мне об этом городе и так уговаривала поехать туда. О! Какая история, Иосиф! И что за женщина графиня Годиц! Никогда, никогда больше Порпора не затащит меня к ней, никогда больше не буду я для нее петь!
– Тем не менее там можно встретить самых непорочных, самых уважаемых придворных дам. Так уж, говорят, повелось в мире. Имя и богатство все покрывают, лишь бы вы посещали церковь, и к вам отнесутся здесь с величайшей терпимостью.
– Очевидно, венский двор крайне лицемерен, – проговорила Консуэло.
– Между нами будь сказано, боюсь, что наша великая Мария-Терезия тоже немного лицемерна, – понижая голос, ответил Иосиф.
Глава 88
Несколько дней спустя, после того как Порпора много хлопотал, много интриговал на свой лад, то есть угрожал, бранился или рассыпал налево и направо насмешки, маэстро Рейтер (бывший учитель и враг юного Гайдна) провел Консуэло в императорскую капеллу, где в присутствии Марии-Терезии певица спела партию Юдифи в оратории «Освобожденная Бетулия» (стихи Метастазио, а музыка того же Рейтера). Консуэло была восхитительна, и Мария-Терезия соблаговолила остаться ею довольной. По окончании духовного концерта Консуэло была приглашена вместе с другими певцами (Кафариэлло в том числе) в одну из зал дворца к столу с угощением, за которым председательствовал Рейтер. Едва уселась она между маэстро и Порпорой, как внезапный и вместе с тем торжественный шум заставил вздрогнуть всех гостей, исключая Консуэло и Кафариэлло, увлеченных спором о темпе одного исполненного хора.
– Решить этот вопрос сможет только сам маэстро, – сказала Консуэло, оборачиваясь к Рейтеру.
Но она не нашла ни Рейтера справа от себя, ни Порпоры слева: все встали из-за стола и торжественно вытянулись в ряд. Консуэло очутилась лицом к лицу с очаровательной женщиной лет тридцати, одетой в черное, как требовал этикет при посещении церкви, и окруженной семью детьми, из которых одного она держала за руку. «То был наследник престола, юный цесаревич Иосиф II, а прелестная женщина с легкой походкой, любезным и умным выражением свежего, энергичного лица была Мария-Терезия.
– Ессо la Giuditta? – спросила императрица, обращаясь к Рейтеру.
– Я очень довольна вами, дитя мое, – прибавила она, осматривая Консуэло с головы до ног. – Вы доставили мне истинное удовольствие, я никогда так живо не чувствовала всей величавости стихов нашего дивного поэта, как в ваших гармонических устах. У вас прекрасное произношение, а это я ценю выше всего. Сколько вам лет? Вы ведь венецианка, не правда ли? Ученица знаменитого Порпоры, которого я с удовольствием здесь вижу? Вы хотите поступить на императорскую сцену? Вы созданы, чтобы на ней блистать, и господин фон Кауниц покровительствует вам.
Закидав Консуэло всеми этими вопросами, не ожидая ее ответов и поочередно глядя то на Метастазио, то на Кауница, сопровождавших императрицу, Мария-Терезия сделала знак одному из своих камергеров, и тот преподнес Консуэло довольно ценный браслет. Прежде чем она сообразила поблагодарить императрицу, та, с царственным величием мелькнув, как метеор, перед взором юной певицы, была уже на другом конце зала. Она удалялась со своим царственным выводком принцев и эрцгерцогинь, даря благосклонными и милостивыми словами каждого из музыкантов, попадавшихся ей на пути, и оставляя позади себя словно сверкающий след во всех этих взорах, ослепленных ее славой и могуществом.
Один лишь Кафариэлло сохранил или сделал вид, что сохраняет хладнокровие. Он возобновил спор на том же месте, где его прервал. А Консуэло положила браслет в карман, даже не подумав поглядеть на него, и продолжала как ни в чем не бывало отстаивать свое мнение, к великому удивлению и возмущению других музыкантов, очарованных появлением императрицы и не представлявших себе, как можно в тот день думать о чем-либо ином. Излишне говорить, что только Порпора всей душой – и инстинктивно и принципиально – составлял исключение в этом хоре неистового низкопоклонства. Он умел, не роняя достоинства, склоняться перед монархами, но в глубине души насмехался над рабами, презирал их. Когда Кафариэлло спросил Рейтера, каков должен быть темп хора, о котором у них с Консуэло шел спор, тот с лицемерным видом поджал губы и только после повторных вопросов холодно ответил:
– Признаюсь, сударь, я не слышал вашего разговора. Когда я вижу Марию-Терезию, я забываю весь мир и долго после того, как она исчезнет, пребываю в таком волнении, что не в силах думать о самом себе.
– По-видимому, та исключительная честь, которую синьора только что снискала для нас, не вскружила ей голову, – вставил находившийся здесь г-н Гольцбауэр, пресмыкавшийся перед императрицей несколько сдержаннее, чем Рейтер. – Для вас, синьора, совершенно естественно говорить с коронованными особами. Можно подумать, что вы ничего иного не делали всю свою жизнь.
– Я никогда не говорила ни с одной коронованной особой, – спокойно ответила Консуэло, не улавливая в словах Гольцбауэра злой насмешки, – и ее величество не оказала мне этого благодеяния: задавая мне вопросы, императрица, казалось, лишила меня чести отвечать ей, быть может для того, чтобы избавить меня от волнения.
– А тебе, по-видимому, хотелось поговорить с императрицей? – насмешливо бросил Порпора.
– Никогда к этому не стремилась, – наивно ответила Консуэло.
– Очевидно, у синьоры больше беспечности, чем честолюбия, – заметил Рейтер с ледяным презрением.
– Маэстро Рейтер, – доверчиво и наивно обратилась к нему Консуэло, вам, может быть, не понравилось, как я спела вашу вещь?
Рейтер признался, что никогда никто лучше не исполнял ее даже в царствование «августейшего и незабвенного Карла VI».
– В таком случае, – сказала Консуэло, – не упрекайте меня в беспечности. Я стремлюсь к тому, чтобы угождать своим повелителям, стремлюсь к тому, чтобы хорошо выполнять свое дело. Какие же еще стремления могут быть у меня? Всякое иное было бы и смешным и неуместным с моей стороны. – Вы слишком скромны, синьора, – возразил Гольцбауэр, – нет границ стремлениям человека, обладающего таким талантом, как ваш.
– Принимаю ваши слова за изысканный комплимент, – ответила Консуэло, – но я поверю, что немного угодила вам, только в тот день, когда вы пригласите меня на императорскую сцену.
Гольцбауэр, попав впросак, несмотря на свою осторожность, закашлялся, чтобы иметь возможность не отвечать, и вышел из положения, любезно и почтительно склонив голову. Потом, возвращаясь к первоначальному разговору, сказал:
– Вы в самом деле обладаете беспримерными спокойствием и бескорыстием. До сих пор вы даже не взглянули на браслет, подаренный вам ее величеством!
– Ах, правда! – согласилась Консуэло, вынимая браслет из кармана и передавая его соседям, которым было любопытно поглядеть на него и оценить.
«Будет на что купить дрова для учителя, если эту зиму не получу ангажемента, – подумала Консуэло, – самая маленькая пенсия была бы нам гораздо нужнее всяких украшений и безделушек».
– Ее величество божественно прекрасна! – проговорил Рейтер, с умилением вздыхая и искоса сурово поглядывая на Консуэло.
– Да, она мне показалась очень красивой, – ответила девушка, совершенно не понимая, почему Порпора толкает ее локтем.
– Показалась! – повторил Рейтер. – Как вы требовательны!
– Я едва имела время ее рассмотреть. Она прошла так быстро.
– Но ее ослепительный ум! Эта гениальность, проявляющаяся в каждом слове, которое слетает с ее уст!
– Я не успела расслышать, что она говорит: это было так мимолетно!
– Значит, вы из стали или из алмаза, синьора! Уж не знаю, что нужно для того, чтоб вы взволновались.
– Я была очень взволнована, исполняя партию вашей Юдифи, – ответила Консуэло, умевшая порой быть лукавой и начинавшая понимать, как недоброжелательно относятся к ней венские маэстро.
– Эта девушка, при всей своей наивности, вовсе не глупа, – шепотом сказал Гольцбауэр маэстро Рейтеру.
– Школа Порпоры, – ответил тот, – презрение и насмешка.
– Если не принять мер, то старинный речитатив и выдержанный стиль osservato заполонят нас еще больше прежнего, – продолжал Гольцбауэр, – но будьте покойны, у меня есть средства помешать этому «порпорианству» повысить голос.
Когда все встали из-за стола, Кафариэлло сказал на ухо Консуэло:
– Видишь ли, дитя мое, все эти люди – сущие мерзавцы. Тебе трудно будет здесь что-либо сделать. Они все против тебя, а если бы только посмели, то были бы и против меня.
– Что же мы им сделали? – спросила с удивлением Консуэло.
– Мы – ученики самого великого учителя в мире. Они и их креатуры наши естественные враги. Они восстановят против тебя Марию-Терезию, и все, что ты говорила, будет ей передано со злобными добавлениями. Ей будет доложено, что ты не считаешь ее красавицей, а подарок ее нашла мизерным. Я хорошо знаю все их происки. Однако мужайся! Я буду защищать тебя от всех и против всех и полагаю, что мнение Кафариэлло в музыкальном мире стоит, конечно, мнения Марии-Терезии.
«Я попала в довольно скверное положение: с одной стороны – злоба, с другой – безумие», – подумала, уходя, Консуэло. В глубине же души воскликнула, обращаясь к учителю и к жениху: «О Порпора! Я сделаю все возможное, чтобы вернуться на сцену. О Альберт, я надеюсь, что мне это не удастся!»
Весь следующий день маэстро Порпора был занят в городе делами; находя, что его ученица немного бледна, он посоветовал ей поехать за город на прогулку с женой Келлера, предлагавшей Консуэло присоединиться к ней, когда только она пожелает.
Не успел маэстро выйти за дверь, как девушка обратилась к Иосифу:
– Беппо, ступай поскорее найми экипаж: поедем проведать Анджелу и поблагодарить каноника. Мы обещали сделать это раньше, но моя простуда послужит извинением.
– А в каком костюме явитесь вы к канонику? – спросил Беппо.
– Вот в этом самом, – ответила она, – нужно же, чтобы он знал, кто я, и примирился с моим естественным состоянием.
– Чудесный каноник! Я очень рад, что снова его увижу.
– Я тоже.
– Бедный, славный каноник! Мне грустно подумать…
– О чем?
– О том, что он совсем потеряет голову.
– Почему? Разве я богиня? А я и не знал.
– Вспомните, Консуэло, он ведь уже на три четверти был без ума от вас, когда мы расстались с ним.
– А я тебе говорю: как только он узнает, что я женщина, и увидит меня такой, как я есть, он сразу возьмет себя в руки и станет тем, чем сотворил его господь, – благоразумным человеком.
– Правда, одежда кое-что значит. Когда вы снова превратились здесь в барышню, после того как я за две недели привык обращаться с тобой как с мальчиком… я почувствовал какой-то страх, какую-то неловкость, в которой не могу сам разобраться. И, конечно, во время путешествия… если бы мне было позволено влюбиться в вас… Но сейчас ты скажешь, что я несу вздор…
– Конечно, Иосиф, ты несешь вздор, да к тому же еще теряешь время на болтовню. Ведь нам надо проехать десять миль, чтобы добраться до приории и вернуться оттуда. Теперь восемь часов утра, а мы должны быть дома в семь вечера, к ужину учителя.
Три часа спустя Беппо и его спутница сошли у ворот приории. День был чудесный. Каноник меланхолически созерцал свои цветы. Увидев Иосифа, он радостно вскрикнул и бросился ему навстречу, но вдруг остолбенел, узнав своего дорогого Бертони в женском платье.
– Бертони, мое любимое дитя, – воскликнул он с целомудренной наивностью, – что значит это переодевание? И почему ты являешься ко мне в таком наряде? Ведь теперь же не масленица…
– Уважаемый друг, ваше преподобие, простите меня, – ответила Консуэло, целуя ему руку, – я вас обманула. Никогда не была я мальчиком. Бертони никогда не существовал, а когда я имела счастье познакомиться с вами, вот тогда действительно я была переодета.
– Мы полагали, – заговорил Иосиф, боявшийся, чтобы изумление каноника не сменилось неудовольствием, – что вы, господин каноник, не были введены в заблуждение нашим невинным обманом. Эта хитрость была придумана отнюдь не для того, чтобы провести вас, – то была необходимость, вызванная обстоятельствами; и мы всегда думали, что вы, господин каноник, великодушно и деликатно закрывали на это глаза.
– Вы так думали? – смущенно и со страхом спросил каноник. – А вы, Бертони… то есть я хочу сказать – сударыня, вы также это думали?
– Нет, господин каноник, – ответила Консуэло, – ни одной минуты я этого не думала. Я прекрасно видела, что ваше преподобие нисколько не подозревает истины.
– Вы воздаете мне справедливость, – сказал каноник голосом несколько строгим и вместе с тем глубоко печальным. – Я не умею идти на сделки со своей совестью, и, угадай я, что вы женщина, никогда не стал бы так настаивать, чтобы вы у меня остались. Действительно, в соседней деревне и даже между моими слугами ходили смутные слухи, подозрения, но они вызывали у меня только улыбку, до того упорно я заблуждался на ваш счет. Говорили, будто один из маленьких музыкантов, певших в храмовый праздник, – переодетая женщина. А потом уверяли, что это просто злобная выдумка сапожника Готлиба, желавшего испугать и огорчить священника. Да, наконец, я сам с уверенностью опровергал этот слух. Как видите, я совершенно поддался обману, трудно было бы более удачно провести человека.
– В этом моя большая вина, но обмана никакого не было, господин каноник, – твердо, с полным достоинством ответила Консуэло. – Не думаю, чтобы я хоть на минуту уклонилась от должного к вам уважения и приличий, каких требует от меня порядочность. После долгого пути пешком я очутилась ночью на дороге, без крова, изнемогая от жажды и усталости. Вы не отказали бы в гостеприимстве нищей. Мне вы оказали его во имя музыки, и я музыкой уплатила свой долг. Если я не ушла от вас на следующий же день, то это произошло благодаря непредвиденным обстоятельствам, заставившим меня выполнить долг, который я считала выше всякого другого. Мой враг, моя соперница, моя преследовательница упала словно с облаков у вашей двери. Она оказалась в беспомощном положении, о ней некому было позаботиться, и потому она имела право на мое участие. Вы помните остальное, ваше преподобие, и прекрасно знаете, что если я воспользовалась вашим доброжелательством, то не для себя. И вы, надеюсь, не забыли, что я удалилась тотчас же, как выполнила свой долг. А если сегодня я вернулась, чтобы лично поблагодарить вас за милости, которыми вы осыпали меня, то к этому побудила меня честность, обязывавшая вывести вас из заблуждения и объясниться с вами, ибо это необходимо и для вашего и для моего достоинства.
– Все это очень таинственно и совершенно необычайно, – произнес наполовину побежденный каноник, – вы говорите, что несчастная, ребенка которой я усыновил, была вашим врагом, вашей соперницей… А кто вы сами, Бертони, – простите, это имя все вертится у меня на языке, – скажите, как отныне я должен звать вас?
– Меня зовут Порпорина, – ответила Консуэло, – я ученица Порпоры, певица. Из театра.
– А! Прекрасно! – сказал каноник с глубоким вздохом. – Я должен был сам об этом догадаться по тому, как вы сыграли свою роль. Что же до вашего дивного музыкального таланта, мне не приходится больше ему удивляться. Вы прошли хорошую школу. Могу ли я задать вам вопрос: господин Беппо – ваш брат… или ваш муж?
– Ни то, ни другое: он мой брат по духу, и только брат, господин каноник. Поверьте, не будь я так же целомудренна душой, как ваше преподобие, я не осквернила бы своим присутствием святости вашего жилища.
Надо сказать правду, голос у Консуэло был неотразимо привлекателен, и каноник поддался его очарованию, как всегда поддаются искренности чистые, правдивые сердца. Он почувствовал, как с души его словно скатился тяжелый камень, и, медленно прогуливаясь со своими юными друзьями, кротко попросил Консуэло рассказать ему о себе, не в силах бороться с возродившимся расположением к обоим музыкантам. Она вкратце рассказала ему, не называя имен, о главных обстоятельствах своей жизни: о помолвке с Андзолето у постели умирающей матери, об измене жениха, о ненависти Кориллы, об оскорбительных замыслах Дзустиньяни, о советах Порпоры, об отъезде из Венеции, о привязанности к ней Альберта, о предложении семьи Рудольштадт, о собственной своей нерешительности и сомнениях, о бегстве из замка Исполинов, о встрече с Иосифом Гайдном, об их путешествии, о своем ужасе и сочувствии у одра больной Кориллы, о своей благодарности за покровительство, оказанное каноником ребенку Андзолето, наконец о приезде в Вену и даже о встрече накануне с Марией-Терезией.
Иосиф до этого не знал всей истории Консуэло. Она никогда не говорила ему об Андзолето, и то немногое, что она сказала о своей бывшей любви к этому негодяю, не особенно задело его за живое, но ее великодушие по отношению к Корилле и забота о ребенке произвели на него такое сильное впечатление, что он отвернулся, скрывая слезы. Каноник также не мог не прослезиться. Рассказ Консуэло, сжатый и искренний, произвел на него такое впечатление, словно он прочел прекрасный роман; вообще же он никогда не читал ни одного романа. Первый раз в жизни он услышал подлинную драму, приобщившую его к бурным людским переживаниям. Чтобы внимательно слушать Консуэло, каноник сел на скамейку и, когда она кончила, воскликнул:
– Если все рассказанное вами – истина, а я думаю и, как мне кажется, чувствую это в своем сердце по воле всевышнего, то вы святая… святая Цецилия, вернувшаяся на землю! Откровенно признаюсь вам: у меня никогда не было предрассудков по отношению к театру, – прибавил он после минутного молчания и раздумья, – и вы убеждаете меня в том, что и там можно спастись, как в любом другом месте. Несомненно, если вы останетесь такой же целомудренной и великодушной, как были до сих пор, то, дорогой мой Бертони, заслужите царства божия! Говорю вам то, что думаю, дорогая моя Порпорина!
– Теперь, ваше преподобие, – сказала, вставая, Консуэло, – прежде чем я прощусь с вами, расскажите мне о маленькой Анджеле.
– Анджела здорова и отлично себя чувствует, – ответил каноник. – Моя садовница чрезвычайно заботится о девочке, и я постоянно вижу, как она гуляет с ней в цветнике. Девочка вырастет среди цветов, сама как цветок, на моих глазах, а когда наступит время позаботиться о воспитании ее души в христианском духе, я дам ей образование. Положитесь на меня, дети мои. То, что мною было обещано перед лицом всевышнего, будет свято выполнено. По-видимому, ее мать не станет оспаривать у меня этих забот, ибо, живя в Вене, она ни разу даже не справилась о своей дочери.
– Она могла это сделать и окольным путем, без вашего ведома, – заметила Консуэло. – Я не могу допустить, чтобы мать была до такой степени равнодушна. Но Корилла домогается приглашения на императорскую сцену. Она знает, что ее величество очень строга и не оказывает покровительства людям с запятнанной репутацией. И вот она старается скрыть свои грехи хотя бы до подписания контракта. Будем же хранить ее тайну!
– Но ведь Корилла ваша соперница! – воскликнул Иосиф. – И говорят, она восторжествует над вами благодаря своим интригам и уже распускает по городу слух, будто вы любовница графа Дзустиньяни. Об этом шла речь в посольстве; как рассказывал мне Келлер… Там негодовали на эту клевету, но боялись, что Корилла сумеет убедить Кауница, который охотно слушает скабрезные сплетни и не перестает восторгаться красотой Кориллы.
– И она говорила такие вещи! – вырвалось у Консуэло, покрасневшей от негодования. Потом, успокоившись, она прибавила: – Так должно было быть, этого следовало ожидать…
– Но ведь стоит сказать одно слово, чтобы рассеять эту клевету, возразил Иосиф. – И это слово будет сказано мной. Я скажу, что…
– Ты ничего не скажешь, Беппо: это и подло и бесчеловечно. Вы также ничего не станете говорить, господин каноник, и, даже явись подобное желание у меня, вы, конечно, удержите меня от этого. Не правда ли?
– Истинно христианская душа! – воскликнул каноник. – Но подумайте сами, это не может очень долго оставаться в тайне. Достаточно кому-нибудь из слуг или крестьян, знающих об этой истории, пустить слушок, и через какие-нибудь две недели станет известно, что целомудренная Корилла произвела на свет незаконного ребенка и в довершение всего еще бросила его. – Не позже двух недель я или Корилла подпишем контракт. Я не хотела бы одержать победу с помощью мести. До тех пор, Беппо, ни слова, или я лишаю тебя моего уважения и дружбы. А теперь прощайте, господин каноник. Скажите, что простили меня, протяните мне еще раз по-отечески руку, и я удалюсь, прежде чем ваши слуги узнают меня в таком виде.
– Пусть мои слуги говорят, что им угодно, а бенефиции пусть провалится к черту, если так угодно небу! Я получил недавно наследство, дающее мне мужество пренебрегать громами епархиального епископа. Дети мои, не принимайте меня за святого! Я устал повиноваться и принуждать себя. Хочу жить честно, но без всяких дурацких страхов. С тех пор как подле меня нет призрака Бригиты, а особенно с тех пор, как я обладаю независимым состоянием, я чувствую себя храбрым, как лев. Ну, идемте теперь со мной завтракать, а там окрестим Анджелу и займемся музыкой до обеда.
И он потащил их к себе в приорию.
– Эй, Андреас! Иосиф! – крикнул он, входя в дом. – Идите поглядите на синьора Бертони, превратившегося в даму. Что, не ожидали, не правда ли? И я также. Ну, скорее удивляйтесь вместе со мной и живо накрывайте на стол!
Завтрак был превосходен, и наши юнцы убедились, что если в образе мыслей каноника и произошли большие перемены, то это совершенно не коснулось его привычки хорошо покушать. Затем в монастырскую часовню принесли ребенка. Каноник сбросил свой стеганный на вате шлафрок, облачился в рясу и стихарь и совершил обряд крещения. Консуэло и Иосиф были восприемниками и за девочкой утвердили имя Анджелы. Остаток дня был посвящен музыке, а затем настало время распрощаться. Каноника очень огорчил отказ его друзей пообедать с ним. Но он в конце концов согласился с их доводами и утешил себя мыслью, что увидит их в Вене, куда вскоре собирался переехать на зиму.
Пока запрягали лошадей, он повел их в оранжерею полюбоваться новыми растениями, которыми он обогатил свою коллекцию. Надвигались сумерки; каноник, у которого было очень тонкое обоняние, не пройдя и нескольких шагов под стеклянной крышей своего прозрачного дворца, воскликнул:
– Я чувствую какое-то необычайное благоухание. Не зацвел ли уж ванилевый шпажник? Нет, это не его аромат. А стрелица совсем не пахнет… У цикламенов запах менее чистый, менее острый. Что же здесь творится? Не погибни, увы, моя волкамерия, я сказал бы, что вдыхаю ее благоухание. Бедное растение! Уж лучше не думать о Нем. Вдруг каноник вскрикнул от удивления и восторга: он увидел перед собой в ящике самую красивую волкамерию из всех когда-либо виденных им в жизни, покрытую гроздьями белых с розовым маленьких роз, нежный аромат которых наполнял всю оранжерею и заглушал другие запахи, несшиеся со всех сторон.
– Что за чудо? Откуда это предвкушение рая? Этот цветок из сада Беатриче? – воскликнул он в поэтическом восторге.
– Мы со всевозможными предосторожностями привезли волкамерию с собой в экипаже, – ответила Консуэло, – позвольте вам преподнести ее как искупление за ужасное проклятие, сорвавшееся однажды с моих уст, в чем я буду раскаиваться всю жизнь.
– О дорогая дочь моя! Что за дар! И с какой деликатностью он поднесен! – проговорил растроганный каноник. – О бесценная волкамерия, ты получишь особенное имя» как у меня в обычае давать великолепным экземплярам моей коллекции: ты будешь называться Бертони, чтоб освятить память существа, уже не существующего, которое я полюбил с нежностью отца.
– Дорогой мой отец, – сказала Консуэло, пожимая ему руку, – вы должны привыкнуть любить своих дочерей так же, как и сыновей. Анджела не мальчик…
– И Порпорина также моя дочь, – сказал каноник, – да, моя дочь! Да! Да! Моя дочь! – повторял он, попеременно глядя то на Консуэло, то на волкамерию Бертони полными слез глазами.
В шесть часов Иосиф и Консуэло были уже дома. Экипаж они оставили при въезде в предместье, и ничто не выдало их невинного приключения. Порпора только удивился, почему у Консуэло не разыгрался аппетит после прогулки по прекрасным лугам, окружающим столицу империи. Завтрак каноника был так вкусен, что Консуэло наелась в тот день досыта, а свежий воздух и движение дали ей прекрасный сон, и на другой день она почувствовала себя и в голосе и такой бодрой, какой ни разу еще не была в Вене.
Глава 89
Неуверенность в будущем, а быть может, желание оправдать или объяснить то, что творится в ее сердце, побудили наконец Консуэло написать графу Христиану и разъяснить ему свои отношения с Порпорой, сообщить об усилиях маэстро, стремящегося вернуть ее на сцену, и о своей надежде, что его хлопоты ни к чему не приведут. Она откровенно рассказала старому графу, сколь многим обязана своему учителю, как должна быть ему предана и покорна. Затем, делясь своим беспокойством относительно Альберта, она настоятельно просила научить ее, что написать молодому графу, чтобы успокоить его и не лишить надежды. Письмо заканчивалось так: «Я просила Вас, граф, дать мне время проверить себя и принять решение. Так вот, я решила сдержать свое слово: клянусь перед богом, что у меня хватит силы воли замкнуть свое сердце и разум для всякой вредной фантазии или новой любви. А между тем, если я вернусь на сцену, я как будто нарушу данное мной обещание, откажусь от самой надежды его выполнить. Судите же меня или скорее судьбу, мной управляющую, и долг, мной руководящий. Уклониться – значит совершить преступление. Я жду от Вас совета более мудрого, чем мое собственное разумение; едва ли оно будет противоречить моей совести».
Запечатав письмо, Консуэло поручила Иосифу отправить его; у нее стало легче на душе, как это бывает всегда, когда человек, оказавшийся в тяжелом положении, находит способ выиграть время и отдалить решительную минуту. И она собралась нанести вместе с Порпорой визит очень известному и весьма восхваляемому придворному поэту, господину аббату Метастазио; этому визиту ее учитель придавал огромное значение.
Знаменитому аббату было тогда около пятидесяти лет. Он был очень красив собой, обходителен, чудесный собеседник, и Консуэло, наверное, почувствовала бы к нему расположение, если бы перед тем как они направились к дому, где в разных этажах обитали придворный поэт и парикмахер Келлер, не произошел у нее с Порпорой следующий разговор.
– Консуэло, – начал маэстро, – сейчас ты увидишь совершенно здорового человека с живыми черными глазами, румяного, с розовыми, всегда улыбающимися губами; но ему во что бы то ни стало хочется слыть человеком, которого гложет изнурительная, тяжелая и опасная болезнь; он ест, спит, работает и толстеет, как всякий другой, а уверяет, будто у него бессонница, отсутствие аппетита, угнетенное состояние духа, упадок сил. Смотри же не попади впросак и, когда он начнет при тебе жаловаться на свои недуги, не вздумай говорить ему, что он не похож на больного, очень хорошо выглядит или что-нибудь в этом роде, ибо он жаждет, чтобы его жалели, беспокоились о нем и заранее оплакивали. Упаси тебя бог также заговорить с ним о смерти или о ком-нибудь умершем: он боится смерти и не хочет умирать. Но вместе с тем не сделай глупости и не скажи ему уходя: «Надеюсь, что ваше драгоценное здоровье скоро поправится», – так как он желает, чтобы его считали умирающим, и будь он в состоянии уверить, что уже мертв, он был бы в восторге, при условии, однако, что сам этому не будет верить.
– Вот уж глупейшая мания у великого человека, – заметила Консуэло.
– Но о чем же с ним говорить, если нельзя заикнуться ни о выздоровлении, ни о смерти?
– Говорить надо о его болезни, задавать ему тысячу вопросов, выслушивать все подробности о его недомогании, о переносимых муках, а в заключение сказать, что он недостаточно заботится о своей особе, не думает о себе, не щадит себя, слишком много работает. Таким способом мы заслужим его расположение.
– Однако ведь мы идем к нему с просьбой написать либретто, которое вы переложите на музыку, а я буду исполнять, не так ли? Как же мы можем советовать ему не писать и в то же время упрашивать как можно скорее написать для нас поэму?
– Все устроится само собой во время разговора. Надо только уметь кстати ввернуть словечко.
Маэстро хотел, чтобы его ученица понравилась поэту, но по присущей ему язвительности, как всегда, не мог удержаться и допустил ошибку, высмеяв Метастазио: у Консуэло сразу пробудилось предубеждение к аббату и то внутреннее презрение, которое отнюдь не вызывает расположения у людей, жаждущих, чтобы им льстили и поклонялись. Неспособная к лести и притворству, она положительно страдала, заметив, как Порпора потворствует слабостям поэта и в то же время жестоко издевается над ним, делая вид, будто благоговейно сочувствует его воображаемым недугам. Не раз она краснела и хранила тягостное молчание, несмотря на знаки учителя, призывавшего ученицу вторить ему.
Консуэло начинала уже приобретать известность в Вене. Она выступила в нескольких салонах, а предположение, что ее могут пригласить на императорскую сцену, несколько волновало музыкальный мир. Метастазио был всемогущ. Стоило Консуэло завоевать расположение поэта, вовремя польстить его самолюбию, и он мог поручить Порпоре переложить на музыку свое либретто «Attilio Regolo», написанное за несколько лет до этого. Итак, крайне необходимо было, чтобы ученица порадела за своего учителя, ибо сам учитель совсем был не по вкусу придворному поэту.
Метастазио был итальянцем, а итальянцы редко ошибаются относительно друг друга. Он в достаточной мере обладал чуткостью и проницательностью, отлично знал, что Порпора очень умеренный поклонник его драматического таланта и не раз сурово отзывался (основательно или нет) о его трусости, эгоизме и притворной чувствительности. Ледяную сдержанность Консуэло и отсутствие интереса к его болезни поэт истолковал по-своему, истинной же причины неприятного ощущения, вызванного почтительной жалостью, он не угадал. Он усмотрел в этом нечто почти оскорбительное для себя и, не будь он рабом вежливости и обходительности, наотрез отказался бы выслушать ее пение. Однако, поломавшись, – ссылаясь на возбужденное состояние своих нервов и боязнь чересчур взволноваться, – он все же согласился прослушать певицу. Метастазио слышал уже Консуэло, когда та исполняла ораторию «Юдифь», но надо было дать ему представление о ней и как об оперной певице. Поэтому-то Порпора и настаивал на ее пении.
– Но как же быть, как петь, когда приходится опасаться, как бы музыка не взволновала его? – прошептала ему Консуэло.
– Наоборот, надо взволновать его, – также шепотом ответил маэстро.
– Он очень рад, когда его выводят из апатии, так как после сильных переживаний на него находит поэтическое вдохновение.
Консуэло спела арию из «Ахилла на Скиросе», лучшего драматического произведения Метастазио, положенного на музыку Кальдара в 1736 году и поставленного на сцене во время свадебных торжеств Марии-Терезии. Метастазио был так же поражен ее голосом и умением петь, как и в первый раз, когда услышал ее, но он решил замкнуться в натянуто-холодном молчании, как это сделала она, когда он говорил о своих недугах. Однако это ему не удалось, ибо, вопреки всему, достойный поэт был истинным художником, а прекрасное исполнение Консуэло задело самые чувствительные струны его сердца, пробудило воспоминания о больших триумфах, и здесь уже не было места неприязни.
Аббат Метастазио пробовал было бороться с всемогущими чарами искусства. Он кашлял, ерзал в кресле, как человек, отвлекаемый болями, но тут ему, видимо, пришло на память нечто более волнующее, чем воспоминания о славе, и он разрыдался, закрыв платком лицо. Порпора, сидя за креслом Метастазио, делал знаки Консуэло не щадить его чувствительности и с лукавым видом потирал руки.
Слезы, обильные и искренние, вдруг примирили девушку с малодушным аббатом. Едва окончив арию, она подошла к нему, поцеловала его руку и проговорила с искренней сердечностью:
– Ах, сударь, как я была бы горда и счастлива, что мое пение так растрогало вас, если бы меня не мучила совесть. Я боюсь, что повредила вам, и это отравляет мое счастье!
– О! Дорогое дитя мое! – воскликнул совершенно покоренный аббат. – Вы не представляете, не можете себе представить, какое благо вы доставили мне и какое причинили зло! Никогда до сих пор я не слышал женского голоса, до того похожего на голос моей Марианны. А вы так напомнили мне ее манеру петь, ее экспрессию, что мне казалось, будто я слышу ее самое. Ах! Вы разбили мое сердце!
И он снова зарыдал.
– Их милость говорит о прославленной певице, которая всегда должна служить для тебя образцом, – о знаменитой, несравненной Марианне Булгарини, – пояснил своей ученице Порпора.
– О, Romanina! – воскликнула Консуэло. – Я слышала ее ребенком в Венеции. Это было моим первым впечатлением в жизни, и я этого никогда не забуду!
– Вижу, что вы слышали ее и в вас живет неизгладимая память о ней, проговорил Метастазио. – Ах, дитя! Подражайте ей во всем – ее игре, ее пению, ее доброте, ее благородству, ее силе духа, ее самоотверженности! О, как она была хороша в роли божественной Венеры в первой опере, написанной мною в Риме! Ей я обязан своим первым триумфом.
– А она обязана вашей милости своими наибольшими успехами, – заметил Порпора.
– Это правда, мы содействовали успеху друг друга. Но я никогда не мог вполне расквитаться с ней. Никогда столько любви, столько героической самоотверженности и нежной заботливости не обитало в душе смертной! Ангел моей жизни, я буду вечно оплакивать тебя и вечно жаждать, чтобы мы соединились! туг аббат снова залился слезами. Консуэло была чрезвычайно взволнована. Порпора делал вид, что он также растроган, но, вопреки его желанию, лицо его выражало иронию и презрение. От Консуэло не ускользнуло это, и она собиралась упрекнуть его в недоверии или черствости. Что касается Метастазио, он заметил лишь тот эффект, который стремился вызвать – трогательное восхищение Консуэло. Он был поэтом до мозга костей – то есть охотнее проливал слезы на людях, чем наедине в своей комнате, и никогда так сильно не чувствовал своих привязанностей и горестей, как в те моменты, когда красноречиво говорил о них. Охваченный воспоминаниями, он рассказал Консуэло о той поре своей юности, когда Romanina играла такую большую роль в его жизни, рассказал, сколько услуг оказывала ему благородная подруга, с каким поистине дочерним вниманием относилась к его престарелым родителям, поведал о чисто материнской жертве, которую она принесла, расставаясь с ним и отправляя его в Вену искать счастья. Дойдя до сцены прощания, он передал в самых изысканных и трогательных выражениях, как его Марианна, с истерзанным сердцем, подавив рыдания, убеждала покинуть ее и думать только о самом себе.
– О! Если бы Марианна могла угадать, какое будущее ждало меня вдали от нее, если бы она могла предвидеть все муки, всю борьбу, весь ужас томления, все превратности судьбы, наконец страшную болезнь – все, что должно было выпасть здесь на мою долю, она отказалась бы и за себя и за меня от такой ужасной жертвы! – воскликнул аббат. – Увы! Я был далек от мысли, что то было прощание перед вечной разлукой и что нам не суждено больше встретиться на земле!
– Как? Вы больше не виделись? – спросила Консуэло с глазами, полными слез, ибо речь Метастазио необыкновенно покоряла слушателей. – Она так и не приехала в Вену?
– Так никогда и не приехала! – ответил Метастазио с подавленным видом.
– Неужели у нее не хватило мужества навестить вас здесь после такого самопожертвования? – снова воскликнула Консуэло, на которую Порпора тщетно кидал свирепые взгляды.
Метастазио ничего не ответил; казалось, он был погружен в свои думы. – Но она ведь может еще приехать сюда? – продолжала простодушно Консуэло. – И она, конечно, приедет. Это счастливое событие вернет вам здоровье.
Аббат побледнел, и на лице его изобразился ужас. Маэстро изо всех сил стал кашлять, и Консуэло вдруг вспомнила, что Romanina умерла больше десяти лет назад, тут она поняла, какую сделала огромную оплошность, напомнив о смерти этому другу, жаждущему, по его словам, только одного – соединиться в могиле со своей возлюбленной. Она закусила губы и почти тотчас же удалилась вместе со своим учителем, который, по обыкновению, вынес из своего посещения только неопределенные обещания да массу любезностей.
– Что ты наделала, дурочка! – напал он на Консуэло, как только они вышли.
– Большую глупость, сама вижу. Я совсем позабыла, что Romanina давно умерла. Но неужели вы думаете, учитель, что человек, который так любит и убивается, дорожит жизнью? Мне скорее думается, что горе о потере любимой – единственная причина его болезни, и если некий суеверный ужас и заставляет его бояться смертного часа, он все же искренне утомлен жизнью.
– Дитя, – сказал Порпора, – жить никогда не надоедает, когда ты богат, в чести, обласкан и здоров. Если же у человека за всю жизнь не было никогда иных забот и иной страсти, как пользоваться этими благами, то, проклиная свое существование, он лжет и разыгрывает комедию.
– Не говорите, что у него не было других страстей. Он любил Марианну, и я понимаю, почему он назвал этим дорогим именем свою крестницу и племянницу Марианну Мартиец…
Консуэло чуть не прибавила: «ученицу Иосифа», но вдруг спохватилась. – Договаривай, – сказал Порпора, – свою крестницу, племянницу или свою дочь.
– Ходит такая молва, но что мне до этого?
– По крайней мере это доказало бы, что милый аббат, расставшись со своей возлюбленной, довольно скоро утешился. Но когда ты его спросила (да просветит господь твой разум!), почему его дорогая Марианна не явилась к нему сюда, он ничего тебе не ответил. Так вот я отвечу за него. Romanina действительно оказала ему величайшие услуги, какие только мужчина может принять от женщины. Она его хорошо кормила, давала ему приют, одевала, помогала, поддерживала при всяких обстоятельствах. С ее помощью он получил звание poete cesareo. Она была служанкой, другом, сиделкой, благодетельницей его престарелых родителей. Все это безусловно верно. У Марианны было великодушное сердце. Я ее хорошо знал. Но верно также и то, что она страстно желала соединиться с ним, поступив на императорскую сцену. А еще вернее, что господин аббат не только не похлопотал о ней, а так и не допустил до этого. Правда, между ними существовала самая нежная в мире переписка. Не сомневаюсь, что послания поэта были шедеврами. Они будут напечатаны, и он это прекрасно знал. Но, уверяя свою diletissima amica, что он горит желанием соединиться с ней и неустанно работать над осуществлением их мечты, хитрая лиса устраивал дело таким образом, чтобы злополучная певица не застигла его врасплох с его прославленной и доходной любовью – третьей Марианной (ибо это имя было счастливой звездой его жизни) – высокородной и всемогущей графиней д\'Алтан, фавориткой последнего императора. Говорят даже, что их любовь завершилась тайным браком. Вот почему я нахожу неуместными его вопли о бедной Romanina, которой он предоставил умирать с горя, в то время как сам сочинял мадригалы в объятиях придворных дам.
– Вы все истолковываете и излагаете с жестоким цинизмом, дорогой учитель, – сказала опечаленная Консуэло.
– Говорю, как всегда, ничего не выдумывая. Я только повторяю общее мнение. Поверь, не все комедианты попадают на сцену. Это старинная поговорка.
– Общественное мнение не всегда наиболее верное и никогда не бывает самым милосердным. Да, маэстро, я не могу поверить, чтобы человек с таким именем и талантом был только комедиантом. Я видела его неподдельные слезы, и если даже он может упрекнуть себя в том, что слишком скоро забыл свою первую Марианну, то его раскаяние только лишний раз подтвердило искренность его теперешних сожалений. Во всем этом я предпочитаю видеть скорее слабость, чем низость. Его сделали аббатом. Его осыпали милостями. Двор отличался набожностью. Его связь с актрисой произвела бы большой скандал. Он вовсе не хотел изменять Булгарини, обманывать ее, а боялся, колебался, стремился выиграть время… тут она умерла…
– А он возблагодарил провидение, – добавил безжалостный маэстро. – Теперь же наша императрица шлет ему ящички и кольца, украшенные его вензелем из бриллиантов, ручки для перьев из ляпис-лазури с лавровыми листочками из бриллиантов, массивные золотые вазы с испанским табаком, печатки из крупного цельного бриллианта, и все это так ярко сверкает, что глаза поэта не перестают слезиться…
– Да разве это может утешить его? Ведь он разбил сердце Булгарини.
– Весьма возможно, что нет. Но желание добиться всего этого побудило его поступить так. Жалкое тщеславие! Мне трудно было удержаться от смеха, когда он показывал нам свой золотой подсвечник с золотым колпачком, на котором по повелению императрицы было выгравировано:
«Perche possa risparmiare i suoi occhi».
Действительно, как трогательно! Потому-то бедняга и восклицал так высокопарно: «Affettuosa espressione valutabile piu assai dell\'oro!» – Ox, несчастный человек! – со вздохом произнесла Консуэло.
Она вернулась домой в очень печальном настроении и с ужасом невольно сопоставила поведение Метастазио по отношению к Марианне со своим собственным по отношению к Альберту.
«Ждать и, не дождавшись, умереть – неужели это судьба людей, испытывающих страстную любовь? Заставлять ждать и убивать – неужели это удел тех, кто гонится за призраком славы?» – говорила она себе.
– О чем ты так задумалась? – спросил ее маэстро. – Мне кажется, все идет хорошо и, несмотря на твою оплошность, ты покорила Метастазио.
– Не велика победа над слабой душой, – ответила она, – и мне кажется, что тот, у кого не хватило мужества устроить на императорскую сцену Марианну, вряд ли найдет его для меня.
– Метастазио в вопросах искусства теперь руководит императрицей.
– Метастазио в вопросах искусства посоветует императрице только то, что, видимо, будет угодно ей; и сколько бы ни говорили о фаворитах и советниках ее величества… я видела лицо императрицы и говорю вам, маэстро, что Мария-Терезия слишком большой политик, чтобы иметь любовников, и слишком властная натура для того, чтобы иметь друзей.
– Ну, тогда надо завоевать самое императрицу, – озабоченно проговорил Порпора. – Тебе надо как-нибудь утром спеть в ее покоях и добиться разговора с ней. Уверяют, что она любит людей только добродетельных. Если Мария-Терезия действительно обладает тем орлиным взором, какой ей приписывают, она поймет, какова ты, и окажет тебе предпочтение. Я пущу в ход все, для того чтобы она увидела тебя с глазу на глаз.
Глава 90
Однажды утром Иосиф натирал полы в передней Порпоры; он совершенно упустил из виду, что перегородка тонка, а сон маэстро чуток, и машинально стал напевать вполголоса какую-то музыкальную фразу, пришедшую ему в голову, сопровождая пение ритмическим движением щетки. Порпора, недовольный, что его разбудили раньше времени, нервно заворочался в кровати, пытаясь снова заснуть, однако, преследуемый звуком красивого свежего голоса, поющего верно и легко грациозную, прекрасно отделанную музыкальную фразу, маэстро накинул шлафрок и, очарованный мелодией и в то же время немножко сердясь на артиста, не дождавшегося его пробуждения и бесцеремонно явившегося к нему сочинять свои арии, встал и поглядел в замочную скважину. Каково же было его удивление: пел Беппо, пел и мечтал, следуя за своей музыкальной идеей и продолжая с озабоченным видом уборку комнаты.
– Что ты там поешь? – громовым голосом обратился к юноше маэстро, внезапно открывая дверь.
Иосиф растерялся, словно человек, вдруг разбуженный от сна, чуть было не бросил щетку с метелкой и не выбежал со всех ног из дома. Хотя Гайдн давно уже потерял надежду стать учеником Порпоры, он все-таки считал за счастье слушать, как Консуэло занимается с маэстро, и пользоваться втихомолку, в отсутствие учителя, уроками своего великодушного друга. Поэтому он ни за что на свете не хотел быть выгнанным и поспешил солгать, чтобы рассеять подозрения.
– Что я пою? – повторил он смущенно. – Да я сам не знаю, маэстро.
– Разве поют то, чего не знают? Ты лжешь!
– Уверяю вас, маэстро, право не знаю! Вы так меня напугали, что я уже забыл. Конечно, я страшно виноват: не следовало петь подле вашей комнаты. Очень уж я рассеян; мне показалось, что я где-то далеко отсюда и в полном одиночестве! Тогда я сказал себе: теперь ты можешь петь, никого нет, кто бы тебе сказал: «Замолчи, невежда: поешь фальшиво. Замолчи, скотина: ты так и не мог научиться музыке».
– Кто сказал тебе, что ты поешь фальшиво?
– Да все говорили.
– А я говорю тебе, – закричал строгим голосом маэстро, – что ты поешь не фальшиво. Кто же пробовал учить тебя музыке?
– Ну… например, маэстро Рейтер, которого бреет мой друг Келлер; и Рейтер прогнал меня с урока, говоря, что как я есть осел, так им и останусь.
Иосифу достаточно хорошо были известны антипатии маэстро, чтобы знать, какого невысокого мнения тот был о Рейтере; он даже рассчитывал войти в милость к Порпоре, если Рейтер дурно отзовется при нем о своем бывшем ученике. Но Рейтер во время своих редких посещений этого дома, встречая Иосифа в прихожей, даже не снисходил до простого кивка.
– Маэстро Рейтер сам осел, – сквозь зубы пробормотал Порпора. – Но дело не в этом, – добавил он уже громко, – я хочу знать, откуда ты выудил свою музыкальную фразу.
И маэстро пропел мелодию, которую по рассеянности Иосиф заставил его прослушать десять раз подряд.
– Ах, эту! – протянул Гайдн: ему показалось, что маэстро уже несколько лучше настроен, хоть он и боялся еще верить этому. – Я слышал, как ее пела синьора.
– Консуэло? Моя дочь? А я этого не знаю. Ах! Так ты, значит, подслушиваешь у дверей?
– О нет, сударь! Но музыка разносится из комнаты в комнату и доходит до кухни – невольно слышишь…
– Мне не нравится прислуга с такой памятью, прислуга, которая будет распевать на улице наши не изданные еще произведения. Сегодня же уложишь свои вещи и вечером отправишься искать себе место.
Приговор маэстро как громом поразил бедного Иосифа, и он, заплакав, пошел на кухню. Скоро к нему явилась Консуэло и, выслушав рассказ о его злоключениях, успокоила его и обещала все уладить.
– Как, маэстро? – обратилась она к Порпоре, подавая ему кофе. – Ты собираешься выгнать бедного мальчика, трудолюбивого и добросовестного, только за то, что ему в первый раз в жизни удалось спеть не сфальшивив? – Говорю тебе, что этот малый интриган и наглый лгун. Его подослал ко мне какой-нибудь недруг, дабы выведать мои еще не изданные произведения и присвоить их себе раньше, чем они увидят свет. Ручаюсь, что этот плут знает уже наизусть мою новую оперу и за моей спиной переписывает мои рукописи. Сколько раз предавали меня подобным образом! Сколько своих замыслов находил я в красивых операх, привлекавших всю Венецию, в то время как слушатели мои зевали, говоря: «Этот старый пустомеля Порпора потчует нас новинками, затасканными на всех перекрестках». И вот дуралей себя выдал: сегодня утром он спел отрывок, который может исходить только от господина Гассе. Его я хорошо запомнил, запишу и из мести помещу в свою новую оперу, чтобы отплатить Гассе за шутки, которые он не раз проделывал со мной.
– Берегитесь, маэстро, фраза эта, может быть, уже напечатана. Вы ведь не знаете на память всех современных произведений.
– Но я слышал их и говорю тебе, что эта фраза слишком выдающаяся, я не мог не обратить на нее внимания.
– В таком случае, маэстро, большое спасибо. Горжусь похвалой: фраза эта моя!
Консуэло лгала: музыкальная фраза, о которой шла речь, только этим утром родилась в голове Гайдна, но Консуэло приготовилась и уже успела выучить мелодию наизусть, чтобы не попасть впросак перед недоверчивым, пытливым учителем. Порпора не преминул попросить ее спеть злополучную фразу. Консуэло тотчас же исполнила ее и заявила, что накануне, желая угодить Метастазио, попробовала положить на музыку первые строфы его красивой пасторали:
Gia riede la primavera
Col suo fiorito aspetto;
Gia il grato zeffiretto
Scherza fra 1\'erbe e i fior.
Tornan le frondi algli alberi
L\'herbette al prato tornano.
Sol non ritorna a me
La pace del mio cor [20]
– Много раз повторяла я свою первую фразу, – прибавила она, – когда услышала, как маэстро Беппо, словно настоящая канарейка, распевает в передней эту самую фразу вкривь и вкось. Это вывело меня из терпения, и я попросила его замолчать. Но через час он опять принялся твердить мою мелодию на лестнице в таком искаженном виде, что отбил у меня всякую охоту продолжать свое сочинительство.
– А почему он так хорошо поет ее сегодня? Что же случилось с ним во время сна?
– Сейчас объясню, учитель: я обратила внимание, что у малого красивый и даже верный голос, а поет он фальшиво благодаря недостатку слуха, развития и памяти. И вот я, забавы ради, занялась постановкой его голоса: заставила его петь гаммы по твоему методу, чтобы убедиться, выйдет ли из него какой-нибудь толк даже при недостатке музыкальности.
– Толк должен выйти при любой музыкальности! – воскликнул Порпора. Не существует фальшивых голосов, и никогда слух, упражняемый…
– Это самое и я думала, – прервала его Консуэло, стремившаяся как можно скорее прийти к намеченной цели, – так оно и вышло. Мне удалось, при помощи системы твоего первого урока, внушить этому дуралею то, что во всю жизнь он не мог даже заподозрить, учась у Рейтера и у всех этих немцев. После этого я пропела ему мелодию, и она впервые дошла до его слуха по-настоящему. Тут он и сам немедленно пропел ее и так поразился, пришел в такой восторг, что, пожалуй, всю ночь потом не сомкнул глаз. Это явилось для него просто откровением. «О, синьора! – говорил он мне. – Если бы меня так учили, я, пожалуй, смог бы научиться, как и всякий другой, но признаюсь, я никогда и ничего не в состоянии был понять из того, чему обучали меня в певческой школе святого Стефана».
– Так он действительно был в певческой школе?
– Его оттуда с позором выгнали; тебе стоит только спросить о нем у маэстро Рейтера, и тот тебе скажет, что это прощелыга, лишенный каких бы то ни было музыкальных способностей, из которого ровно ничего нельзя сделать.
– Ну, ты, иди-ка сюда! – закричал Порпора Иосифу, проливавшему за дверью горькие слезы. – Стань подле меня, я хочу убедиться, понял ли ты вчерашний Урок.
Тут лукавый маэстро принялся объяснять Иосифу основы музыки многословно, педантично и запутанно, – словом, по тому способу, который Порпора в насмешку приписывал немецким маэстро.
Если бы Иосиф, знавший слишком много, чтобы не понять этих основных начал, несмотря на все старания маэстро сделать их неясными, обнаружил свою смышленость, все бы пропало. Но юноша был достаточно хитер и не попал в ловушку: он выказал явную тупость, которая в конце концов успокоила старика.
– Я вижу, что ты очень недалек, – сказал он, вставая и продолжая притворяться, что, однако, не ввело в заблуждение ни Консуэло, ни Иосифа. – Берись за свою метлу и старайся больше не петь, если хочешь оставаться у меня в услужении.
Но прошло два часа, и Порпора не удержался: его снова захватила любовь к делу, которым он занимался столько лет, не имея соперников: в маэстро заговорил преподаватель пения, и он позвал Иосифа, чтобы заняться с ним. Старик изложил ему те же основы, но на этот раз с той ясностью, с той могучей глубиной логики, которая все проясняет, все ставит на место, – словом, с той невероятной простотой, на какую способен только гений. На этот раз Гайдн догадался, что может уже проявить понятливость, а Порпора был в восторге от своего успеха. Хотя маэстро преподал ему то, что он долго изучал и знал в совершенстве, урок представлял для Иосифа огромный интерес и принес ему несомненную пользу: он постиг, как надо преподавать. В часы, когда Порпора не нуждался в его услугах, Иосиф, стремясь не потерять своей скудной клиентуры, давал несколько уроков в городе; он решил тотчас же применить полученные указания.
– В добрый час, господин профессор, – сказал он Порпоре в конце урока, продолжая притворяться простачком, – я предпочитаю вот такую музыку той, и мне кажется, что я смогу выучиться ей. Ну, а то, о чем вы говорили сегодня утром, так непонятно, что я согласился бы скорее вернуться в певческую школу, чем ломать себе голову над этой музыкой.
– А между тем тебя именно этому и обучали в певческой школе. Да разве есть две музыки, олух? Музыка едина, как един господь бог!
– Ох! Прошу извинения, сударь! Есть музыка маэстро Рейтера – она надоедает мне, а вот ваша совсем наоборот.
– Много чести для меня, господин Беппо, – смеясь, сказал Порпора (комплимент пришелся ему по вкусу).
Начиная с этого дня Гайдн стал брать у Порпоры уроки, и вскоре они приступили к изучению итальянской школы и основ лирической композиции, чего так жаждал достойный юноша и к чему так мужественно стремился. Он делал такие быстрые успехи, что маэстро одновременно был очарован, удивлен, а подчас даже испуган. Когда Консуэло замечала, что у маэстро могут пробудиться прежние подозрения, она учила своего друга, как надо вести себя, чтобы их рассеять. Немного непонятливости и притворная рассеянность были порой необходимы, – тогда гениальность и страсть к преподаванию пробуждались в Порпоре, как случается всегда с высокоодаренными людьми: препятствия и борьба делают их более энергичными и сильными.
Часто Иосифу приходилось притворяться вялым или упрямым; разыгрывая роль лентяя, он легче добивался драгоценных уроков, при одной мысли лишиться которых приходил в отчаяние. Удовольствие перечить и потребность подчинять себе подзадоривали сварливую, воинственную душу старого профессора, и никогда Беппо не получал таких познаний, как в те минуты, когда он почти вырывал их у раздраженного и иронически настроенного маэстро вместе с четкими, красноречивыми и пылкими выводами.
В то время как дом Порпоры был ареной таких, казалось, пустячных происшествий, следствия которых, однако, сыграли огромную роль в истории искусства, ибо гений одного из самых плодовитых и знаменитых композиторов прошлого века получил здесь свое развитие и свою санкцию, вне дома Порпоры совершались события, имевшие более непосредственное влияние на жизнь Консуэло. Корилла, весьма деятельная в борьбе за собственные интересы, умелая, а потому и способная выйти победительницей, день ото дня отвоевывала позиции и, уже совсем оправившись после родов, вела переговоры о своем поступлении на императорскую сцену. Искусная певица, но посредственная в музыкальном отношении артистка, она гораздо больше, чем Консуэло, нравилась директору и его жене. Оба прекрасно понимали, что ученая Порпорина отнесется свысока, хотя и не выкажет этого, как к операм маэстро Гольцбауэра, так и к таланту его супруги. Они также хорошо знали, что крупные таланты, выступая с плохими партнерами в ничтожных произведениях, не соответствующих их вкусам и насилующих их совесть, не всегда умеют передать тот рутинный подъем, тот наивный жар, какие развязно вносят посредственности в исполнение самых низкопробных опер, кажущихся тягостной какофонией – так они плохо разучены и плохо поняты их партнерами.
И даже когда, проявив чудеса воли и таланта, они высоко поднимаются и над своей ролью и над своим окружением, это завистливое окружение не чувствует к ним благодарности. Композитор, догадываясь об их душевных муках, дрожит и боится, как бы искусственное воодушевление вдруг не остыло и не подорвало его успеха. Даже удивленная публика испытывает безотчетное смущение, угадывает чудовищную аномалию, сочувствует гениальному актеру, порабощенному вульгарной идеей, рвущемуся из тесных оков, в которые он позволил заковать себя, и, чуть не вздыхая, аплодирует его мужественным усилиям. Г-н Гольцбауэр прекрасно отдавал себе отчет в том, как мало Консуэло ценила его музыкальные произведения. К несчастью, она однажды сама сообщила ему об этом. Переодетая мальчиком, считая, что имеет дело с одним из тех лиц, которых встречаешь во время путешествия в первый и последний раз, она высказалась откровенно и никак не предполагала, что вскоре ее судьба артистки будет в руках незнакомца, друга каноника. Гольцбауэр не забыл этого и, оскорбленный до глубины души, спокойный, сдержанный, вежливый, поклялся закрыть ей путь к артистическому поприщу, но так как ему не хотелось, чтобы Порпора, его ученица и те, кого он называл их партией, могли обвинить его в мелочной мстительности и низкой обидчивости, он только своей жене рассказал о встрече с Консуэло и о разговоре за завтраком в доме священника. Эта встреча, казалось, не оставила никакого следа в памяти господина директора, по-видимому он забыл даже физиономию маленького Бертони и совершенно не подозревал, что этот странствующий певец и Порпорина могли быть одним и тем же лицом.
Консуэло терялась в догадках об отношении к ней Гольцбауэра.
– Очевидно, костюм и прическа совсем изменили мое лицо во время нашего путешествия, – делилась она своими мыслями с Беппо, оставшись с ним наедине, – раз этот человек, так приглядывавшийся ко мне своими ясными, проницательными глазами, совершенно не узнает меня здесь.
– Граф Годиц также не узнал вас, увидя в первый раз у посланника, заметил Иосиф, – и, быть может, не получи он вашей записки, так бы никогда и не признал вас.
– Прекрасно! Но у графа Годица привычка смотреть на людей каким-то поверхностным, небрежно-гордым взглядом, поэтому он, в сущности, никого не видит. Я уверена, что тогда, в Пассау, он так бы и не догадался, что я женщина, не сообщи ему этого барон Тренк. Гольцбауэр же, как только увидел меня здесь и вообще каждый раз, как мы встречаемся, глядит на меня с таким вниманием и любопытством – совсем как тогда, в доме священника. Спрашивается, почему он великодушно сохраняет в тайне мое сумасбродное приключение, которое могло бы повредить моей репутации, перетолкуй он его в дурную сторону, и даже могло поссорить меня с учителем, считающим, что я прибыла в Вену без всяких потрясений, препятствий и романтических происшествий? А в то же время этот самый Гольцбауэр втихомолку поносит и мой голос и мою манеру петь, вообще всячески злословит на мой счет, чтобы только не приглашать меня на императорскую сцену. Он ненавидит и хочет отстранить меня, но, имея в руках самое мощное против меня орудие, почему-то не пускает его в ход. Я просто теряюсь в догадках! Разгадка скоро была обнаружена Консуэло. Но раньше, чем читать о дальнейших ее приключениях, надо припомнить, что многочисленная и сильная партия работала против нее. Корилла была красива и доступна, и могущественный министр Кауниц часто навещал ее; он любил вмешиваться в закулисные интриги, а Мария-Терезия, отдыхая от государственных дел, забавлялась его болтовней на эту тему и, в душе смеясь над маленькими слабостями великого человека, сама находила удовольствие в театральных сплетнях: они напоминали ей в миниатюре, но с откровенным бесстыдством, то, что представляли в ту эпоху три самых влиятельных двора Европы, управляемые интригами женщин, – ее собственный двор, двор русской царицы и двор г-жи Помпадур.
Глава 91
Известно, что Мария-Терезия давала аудиенцию раз в неделю каждому, желающему с ней говорить. Этот лицемерно-отеческий обычай еще и поныне сохранился при австрийском дворе, а сын Марии-Терезии, Иосиф II, свято придерживался его. Помимо того, Мария-Терезия очень легко давала особые аудиенции лицам, желавшим поступить к ней на службу, да и вообще никогда не бывало государыни, к которой было бы легче проникнуть.
Порпора получил наконец аудиенцию. Он рассчитывал, что императрица, увидев открытое лицо Консуэло, быть может, проникнется особым расположением к ней. По крайней мере маэстро надеялся на это. Зная, как требовательна императрица в отношении нравственности и благопристойности, он говорил себе, что Мария-Терезия, без сомнения, будет поражена скромностью и непорочностью, которыми дышало все существо его ученицы.
Их ввели в одну из маленьких гостиных дворца, куда был перенесен клавесин; через полчаса вошла императрица. Она принимала высокопоставленных особ и была еще в парадном туалете – такой, какой ее изображают на золотых цехинах; в парчовом платье, в императорской мантии, с короной на голове и с маленькой венгерской саблей сбоку. Императрица была действительно красива в таком виде, но отнюдь не величественна и не идеально царственна, как описывали ее придворные, а свежа, весела, с открытым счастливым лицом, с доверчивым смелым взглядом. То был и вправду «король» Мария-Терезия, которую венгерские магнаты в порыве энтузиазма возвели на престол с саблей в руке; но на первый взгляд это был скорее добрый, чем великий король. В ней не было кокетства, и простота ее обращения говорила о ясности души, лишенной женского коварства. Когда она пристально смотрела на кого-нибудь, особенно когда с настойчивостью допрашивала, можно было уловить в этом смеющемся приветливом лице лукавство и даже холодную хитрость. Но хитрость была мужская, если хотите, императорская, без желания поддеть.
– Вы мне дадите сейчас послушать вашу ученицу, – сказала она Порпоре, – я уже осведомлена, что у нее большие познания, великолепный голос, и я не забыла, какое удовольствие она доставила мне при исполнении оратории «Освобожденная Бетулия». Но предварительно я хочу поговорить с ней наедине. Мне надо спросить ее кое о чем, и так как, я думаю, она будет чистосердечна, я надеюсь, что смогу оказать ей покровительство, которого она у меня просит.
Порпора поспешно вышел, прочитав в глазах ее величества желание остаться совсем наедине с Консуэло. Он удалился в соседнюю галерею, где ужасно продрог, ибо двор, разоренный расходами на войну, соблюдал чрезвычайную экономию, а характер Марии-Терезии еще этому способствовал.
Очутившись с глазу на глаз с дочерью и матерью императоров, героиней Германии и самой великой женщиной Европы того времени, Консуэло, однако, не почувствовала ни робости, ни смущения. Беспечность ли артистки делала ее равнодушной к воинственному великолепию, блиставшему вокруг Марии-Терезии и отражавшемуся на самом ее туалете, или благородство и искренность души придавали ей моральную силу, только Консуэло ждала спокойно, без всякого волнения, пока ее величеству угодно будет обратиться к ней с вопросом.
Императрица опустилась на диван, слегка поправила усыпанную драгоценными камнями перевязь, которая давила на ее белое круглое плечо и врезалась ей в кожу, и начала так:
– Повторяю, дитя мое, я очень высокого мнения о твоем таланте и не сомневаюсь в том, что ты прекрасно училась и много знаешь в своем деле, но как тебе, наверное, известно, в моих глазах талант не имеет значения без хорошего поведения, и я ценю чистую, благочестивую душу выше гениальности.
Консуэло стоя почтительно выслушала это вступление, однако оно нисколько не поощрило ее воздать хвалу самой себе, а так как она вообще питала смертельное отвращение к хвастовству своими добродетелями, которым следовала не задумываясь, она молча ждала, чтобы императрица спросила ее более определенно о ее принципах и намерениях. А между тем тут-то ей и представлялся удобный случай обратиться к монархине с ловко составленным мадригалом о своем ангельском благочестии, о своих высоких добродетелях и о невозможности плохо вести себя, имея перед глазами такой образец, как сама императрица. Бедной Консуэло даже и в голову не пришло воспользоваться таким моментом. Чуткие души боятся оскорбить великого человека банальной похвалой. Но хотя монархи и не заблуждаются относительно природы расточаемой им грубой лести, тем не менее они привыкли упиваться ею, – она является частью этикета, выражением глубокого почитания их величия. Марию-Терезию удивило молчание молодой девушки, и она снова заговорила, уже менее ласково и не таким ободряющим тоном:
– Насколько мне известно, моя милая девочка, вы особа довольно легкого поведения и живете в недозволенной близости с молодым человеком вашей профессии, – позабыла его имя, – хоть вы и не замужем.
– Могу ответить вашему величеству только одно, – промолвила наконец Консуэло, взволнованная несправедливостью этого грубого обвинения, – я не помню, чтобы сделала в своей жизни что-либо такое, что помешало бы мне выдержать взгляд вашего величества с искренней гордостью и благодарной радостью.
Марию-Терезию поразило выражение достоинства и силы, появившееся в тот момент на лице Консуэло. Пять-шесть лет назад императрица, несомненно, отнеслась бы к этому сочувственно, но теперь Мария-Терезия была уже королевой до мозга костей, и сознание своего могущества приучило ее к какому-то упоению властью, когда хочется, чтобы все пред тобой гнулось и ломалось. Мария-Терезия желала быть и как государыня и как женщина единственным сильным существом в своем государстве. И поэтому ей показались оскорбительными и гордая улыбка и смелый взгляд юной девушки, ничтожного червяка. Она собиралась было позабавиться Консуэло как рабыней, из любопытства заставив ее рассказать о себе.
– Я спросила вас, сударыня, как имя молодого человека, живущего с вами у маэстро Порпоры, а вы мне не ответили, – снова проговорила императрица ледяным тоном.
– Его зовут Иосиф Гайдн, – не смущаясь, проговорила Консуэло.
– Итак, из любви к вам он поступил в услужение к маэстро Порпоре в качестве лакея, причем маэстро Порпора не подозревает действительных побуждений молодого человека, а вы, зная их, поощряете его.
– Меня оклеветали перед вашим величеством: этот молодой человек никогда не был влюблен в меня (Консуэло была уверена, что говорит правду), я даже знаю, что он любит другую. А если мы и обманываем немного моего почтенного учителя, то вызывается это причинами невинными и, быть может, весьма уважительными. Только любовь к искусству могла заставить Иосифа Гайдна поступить в услужение к Порпоре, и коль скоро ваше величество удостаивает взвешивать поступки своих самых незначительных подданных, а я считаю невозможным что-либо скрыть от вашей всевидящей справедливости, то уверена, что вы, ваше величество, оцените мою искренность, как только пожелаете снизойти до рассмотрения моего дела.
Мария-Терезия была слишком проницательна, чтобы не почувствовать правду. Она еще не утратила идеализма, присущего юности, хотя уже скатывалась по роковому пути неограниченной власти, гасящей мало-помалу веру в самых великодушных сердцах.
– Вы кажетесь мне правдивой и целомудренной, дитя, но я замечаю в вас большую гордость и недоверие к моему материнскому сердцу. И я боюсь, что ничего не смогу для вас сделать.
– Если я имею дело с материнским сердцем Марии-Терезии, – ответила Консуэло, растроганная словами императрицы (их банального оттенка бедняжка, увы, не поняла), – то я готова стать пред этим сердцем на колени и молить его, но если это…
– Продолжайте, дитя мое, – промолвила Мария-Терезия, которой почему-то безотчетно хотелось, чтобы это оригинальное создание упало перед ней на колени, – выскажите до конца свою мысль.
– Если же я имею дело с правосудием вашего императорского величества, то, сознавая себя столь же невинной, как чистое дыхание, не способное заразить воздух, которым дышат сами боги, я чувствую в себе всю гордость, необходимую, чтобы быть достойной вашего покровительства.
– Порпорина, – проговорила императрица, – вы умная девушка, и ваша оригинальность, оскорбительная для любой иной женщины, мне по душе. Я уже сказала вам, что считаю вас искренней и тем не менее знаю, что у вас есть в чем исповедаться передо мной. Почему вы колеблетесь? Хотя ваши отношения и чисты – я не хочу в этом сомневаться, – но вы любите Иосифа Гайдна. Ведь ради того, чтобы чаще видеться с ним, – допустим, даже ради заботы об его музыкальных успехах у Порпоры, – вы отважно рискуете самым священным, самым важным в нашей женской доле – своей репутацией. Но, быть может, вы боитесь, что ваш учитель, ваш приемный отец не согласится на ваш брак с бедным, неизвестным музыкантом? Быть может, – хочу верить всему, что вы говорили, – молодой человек любит другую и вы с присущей вам гордостью скрываете свою любовь и великодушно жертвуете своей репутацией, не извлекая из этого самопожертвования никакого личного удовлетворения? Так вот, милая девочка, будь я на вашем месте, представься мне случай, как вам сейчас, – случай, какой, быть может, никогда не повторится, – я открыла бы сердце своей государыне и сказала бы ей: «Вы все можете и хотите мне добра, вам вручаю я свою судьбу; уничтожьте все препятствия. Одним своим словом вы можете изменить намерения и моего опекуна и моего возлюбленного. Вы можете осчастливить меня, вернуть мне всеобщее уважение и поставить меня в такие условия, что я посмею надеяться поступить на императорскую сцену». Вот какое доверие вы должны были бы питать к материнской заботливости Марии-Терезии, и мне прискорбно, что вы этого не поняли.
«Я прекрасно понимаю, великая государыня, – думала про себя Консуэло, – что по какому-то странному капризу избалованного ребенка-деспота тебе хочется, чтобы Zingarella обняла твои колени, ибо тебе кажется, что ее колени не хотят сгибаться перед тобой; а это для тебя случай небывалый. Но ты не дождешься этой забавы, разве только докажешь мне, что заслуживаешь моего уважения».
Все это и многое другое промелькнуло в ее голове, пока Мария-Терезия читала ей наставления. Консуэло сознавала, что играет судьбой Порпоры, зависящей от фантазии императрицы, а будущность учителя стоит того, чтобы немного смириться. Но ей не хотелось смиряться понапрасну. Ей не хотелось разыгрывать комедию с коронованной особой, которая, конечно, умела это делать не хуже ее самой. Она ждала, чтобы Мария-Терезия показала себя действительно великой, и тогда готова была искренне преклониться перед нею.
Когда императрица кончила свое поучение, Консуэло сказала:
– Я отвечу на все, что ваше величество соблаговолило мне высказать, если вашему величеству угодно будет мне приказать.
– Да, говорите, говорите же, – настаивала императрица, раздосадованная самообладанием девушки.
– Итак, ваше величество, в первый раз в своей жизни я слышу из ваших царственных уст, что моя репутация пострадала из-за присутствия Иосифа Гайдна в доме моего учителя. Я считала себя слишком незаметной, чтобы стать предметом обсуждения общества, а если бы мне сказали, когда я отправлялась во дворец, что сама императрица заинтересовалась моей особой и не одобряет моего образа жизни, я подумала бы, что мне это приснилось. Мария-Терезия прервала ее. В словах Консуэло ей почудилась ирония.
– Вы не должны удивляться, – проговорила она несколько напыщенно, что я вхожу во все малейшие подробности жизни людей, за которых отвечаю перед богом.
– Как не удивляться тому, что вызывает восхищение! – ловко ответила Консуэло. – Возвышенные поступки велики своей простотой, но они так редки, что, столкнувшись с ними впервые, невольно поражаешься.
– Вам надо понять, – продолжала императрица, – почему я особенно интересуюсь вами, как и всеми артистами, которыми люблю украшать свой двор. Театр во всех других странах – школа соблазна, очаг всяких мерзостей. Я имею притязание, несомненно похвальное, хоть, возможно, и невыполнимое, обелить перед людьми и нравственно очистить перед богом сословие актеров, предмет слепого презрения и даже церковного отлучения у многих народов. В то время как во Франции церковь закрывает перед ними двери, я хочу, чтобы здесь церковь приняла их в свое лоно. Я допускала в свою Итальянскую оперу, в Театр французской комедии, в Национальный театр лишь людей испытанной нравственности или лиц, твердо решивших изменить свое поведение. Надо вам сказать, что я женю своих артистов и даже бываю восприемницей их крошек при крещении, твердо решив всевозможными милостями поощрять законное рождение детей и супружескую верность. «Жаль, мы этого не знали, – подумала Консуэло, – а то попросили бы ее величество быть крестной матерью Анджелы вместо меня».
– Ваше величество сеет, чтобы собрать урожай, – сказала она вслух.
– Будь я грешна, я почитала бы за счастье приобрести в лице вашего величества исповедника такого же милосердного, как сам господь бог. Но…
– Продолжайте, продолжайте, – высокомерно проговорила Мария-Терезия.
– Я хотела сказать, – снова заговорила Консуэло, – что не проявила никакой особенной самоотверженности по отношению к Иосифу, ибо не имела понятия об обвинениях, возводимых на меня из-за его пребывания в том доме, где я живу.
– Понимаю, – сказала императрица, – вы все отрицаете!
– Как могу я сознаться в том, чего нет, – ответила Консуэло, – я совсем не влюблена в ученика Порпоры и не имею ни малейшего желания выйти за него замуж.
«А будь это иначе, – подумала она про себя, – я не хотела бы получить его сердце по императорскому указу».
– Итак, вы не хотите выходить замуж? – спросила императрица, поднимаясь. – Тогда заявляю вам, что положение незамужней не дает всех желательных для меня гарантий чести. К тому же молодой особе не приличествует появляться в некоторых ролях и изображать страсти, не имея санкции брака и покровительства мужа. От вас зависело снискать мое расположение и добиться того, чтобы я предпочла вас вашей сопернице – госпоже Корилле; хотя мне и говорили о ней много хорошего, но ее итальянское произношение гораздо хуже вашего. Однако госпожа Корилла замужем и имеет ребенка, а это создает ей условия, более заслуживающие моего одобрения, чем те, в которых вы упорно желаете оставаться.
– Замужем? – невольно прошептала сквозь зубы бедная Консуэло; она была потрясена тем, какую добродетельную особу добродетельнейшая и проницательнейшая императрица предпочла ей.
– Да, замужем, – ответила императрица повелительным тоном, уловив в голосе Консуэло сомнение насчет ее избранницы. – Она недавно произвела на свет ребенка, которого препоручила почетному и ревностному служителю церкви, господину канонику, дабы он воспитал дитя в христианском духе. И, без всякого сомнения, это достойное лицо не взяло бы на себя такой тяжелой обязанности, не заслуживай мать ребенка его полного уважения.
– Я также в этом нисколько не сомневаюсь, – ответила девушка. Последние слова императрицы особенно возмутили Консуэло, но она утешалась хоть тем, что каноник заслужил одобрение, а не порицание за усыновление ребенка, к которому она сама его понудила.
«Вот как пишется история и как все доходит до королей! – сказала она себе, когда императрица с величественным видом вышла из гостиной, слегка кивнув ей головой на прощанье. – Что ж, – утешала она себя, – даже в самом плохом есть что-то хорошее, а заблуждения людей подчас дают хорошие результаты. У каноника не отнимут его прекрасной приории, не лишат Анджелу ее доброго каноника, Корилла исправится, раз за это дело берется императрица, – а я все-таки не стала на колени перед женщиной, которая вовсе не лучше меня!»
– Ну что? – закричал сдавленным голосом Порпора, ждавший ее в галерее, дрожа от холода и в волнении нервно потирая руки. – Надеюсь, мы победили?
– Напротив, дорогой учитель, мы с вами потерпели поражение, – ответила Консуэло.
– С каким спокойствием ты это говоришь, черт тебя побери!
– Здесь не нужно так говорить, маэстро. Черт не в милости при дворе!
Когда переступим порог последней двери дворца, я все расскажу вам.
– Ну что? – нетерпеливо спросил Порпора, когда они были уже на валу.
– Помните, как мы с вами выразились относительно великого министра Кауница, выйдя от маркграфини?
– Мы тогда решили, что это старая сплетница. И что же? Он вам навредил?
– Вне всякого сомнения. А теперь, скажу я вам, ее величество императрица австрийская и королева венгерская – такая же сплетница.
Глава 92
Консуэло рассказала Порпоре только то, что ему надлежало знать, не распространяясь о причинах, навлекших на нашу героиню немилость Марии-Терезии. Остальное огорчило бы маэстро, обеспокоило бы и, пожалуй, вооружило бы против Гайдна, ничего при этом не исправив. Не хотела Консуэло также говорить и своему юному другу о том, о чем умолчала перед Порпорой. Она не без основания пренебрегла теми неопределенными обвинениями, которые, видимо, были переданы императрице двумя-тремя недоброжелателями и не получили в обществе никакого отклика. Корнеру же Консуэло нашла нужным все рассказать. Он посмотрел на дело так же, как она, и, чтобы злоба не могла взрастить эти семена клеветы, принял очень разумные и великодушные меры: посланник уговорил Порпору переехать вместе с Консуэло в его дворец, а Гайдн поступил на службу в посольство в качестве одного из секретарей. Таким образом старый маэстро избавлялся от нужды, Иосиф продолжал оказывать ему кое-какие личные услуги, что давало ему возможность часто видеться с учителем и брать у него уроки, а Консуэло была ограждена от злобных обвинений.
Несмотря на эти предосторожности, не Консуэло, а Корилла была приглашена на императорскую сцену. Консуэло не сумела понравиться Марии-Терезии. Великая королева, забавляясь закулисными интригами, о которых ей рассказывали Кауниц и Метастазио, изощряясь в изящном остроумии, желала играть роль олицетворенного венценосного провидения для своих актеров, а те разыгрывали перед нею кающихся грешников и демонов, обращенных на путь истинный. Само собой разумеется, что в числе этих лицемеров, получавших за свое мнимое благочестие маленькие пенсии и мелкие подачки, не было ни Кафариэлло, ни Фаринелли, ни Тези, ни г-жи Гассе, короче говоря – никого из великих виртуозов, которыми поочередно наслаждалась Вена: этим многое прощалось за их талант и известность. Второстепенных же мест в театрах обыкновенно добивались люди, старавшиеся подладиться под ханжеские и назидательные прихоти императрицы. И ее величество, вносившая во все дух политической интриги, поднимала дипломатическую суетню по поводу брака и обращения кого-либо из них. Из «Мемуаров» Фавара (интереснейшего романа, действительно разыгравшегося за кулисами) видно, насколько трудно было посылать в Вену певцов и оперных актрис, поставка которых была поручена автору. Их хотели заполучить по дешевой цене и требовали к тому же, чтобы они были целомудренны, как весталки. Мне кажется, этому привилегированному остроумному поставщику Марии-Терезии после усердных поисков так-таки и не удалось найти в Париже ни одной подходящей кандидатки; правда, это делает больше чести искренности, чем добродетели наших «оперных девиц», как их тогда называли.
Итак, Марии-Терезии хотелось, чтобы развлечения в ее империи носили поучительный характер, достойный ее добродетельного величия. Монархи всегда играют комедию, а великие монархи, быть может, больше чем другие. Порпора это беспрестанно утверждал, и он не ошибался. Великая императрица, ярая католичка, примерная мать, без всякого отвращения разговаривала с проституткой, наставляла ее, вызывала на необычайные признания, и все это ради того, чтобы привести кающуюся Магдалину к стопам Спасителя. Личная шкатулка ее величества – посредница между грехом и раскаянием – была в руках императрицы верным и чудодейственным средством для спасения многих заблудших душ. И Корилла, плачущая и поверженная к ее ногам, если не фактически (я сомневаюсь, чтобы она могла переломить свою необузданную натуру для такой комедии), то в докладах императрице г-на Кауница, ручавшегося за эту новоиспеченную добродетель, должна была неминуемо взять верх над такой решительной, гордой и мужественной девушкой, как непорочная Консуэло. Мария-Терезия ценила в своих театральных любимцах лишь ту добродетель, творцом которой считала одну себя. Добродетель же, развивавшаяся или сохранившаяся сама по себе, мало ее интересовала. Императрица не верила в нее, хотя ее собственная добродетель и должна была пробуждать в ней такую веру. Наконец, манера Консуэло держать себя задела ее: императрица сочла ее вольнодумкой и резонеркой. Zingarella проявила слишком много самонадеянности и заносчивости, претендуя на уважение и признание ее нравственности без вмешательства императрицы. Когда Кауниц, притворявшийся беспристрастным, но в то же время вредивший Консуэло в пользу Кориллы, спросил ее величество, соблаговолила ли она принять просьбу «этой девочки», Мария-Терезия ответила: «Мне не понравились ее убеждения. Больше не говорите мне о ней». И этим все было сказано. Голос, лицо, само имя Порпорины были совершенно забыты.
С первого же слова Порпора ясно понял причину немилости, в которую впал. Консуэло была вынуждена ему сказать, что императрица считает невозможным ее поступление на императорскую сцену из-за того, что она незамужняя.
– А Корилла? – воскликнул Порпора, узнав о ее принятии на сцену. Разве императрица уже успела выдать ее замуж?
– Насколько я могла понять или догадаться из слов ее величества, Корилла слывет здесь вдовой.
– О да, конечно, трижды вдова! Десять раз! Сто раз вдова! – воскликнул Порпора с горьким смехом. – Но что скажут, когда узнают правду и будут свидетелями новых бесчисленных случаев ее вдовства? А ребенок, которого, как я слышал, она оставила под Веной у одного каноника? Она хотела приписать младенца графу Дзустиньяни, а тот посоветовал ей препоручить его отеческим ласкам Андзолето! Ну и потешится она с товарищами, рассказывая им об этом с присущим ей цинизмом, и нахохочется в тиши своей спальни над тем, как ловко провела императрицу!
– Но если императрица узнает правду?
– Императрица не узнает. Монархи, кажется мне, окружены ушами, которые служат как бы преддверием к их собственным ушам. Многое не доходит до императорского слуха, в их святилище проникает лишь то, что эти стражи пожелают пропустить. К тому же, – добавил Порпора, – у нее всегда останется в запасе покаяние, а господину Кауницу будет поручено следить за выполнением наложенной на нее эпитимии.
Бедный маэстро изливал свою желчь в этих язвительных шутках, но был глубоко опечален. Он терял надежду на постановку своей новой оперы, тем более что либретто к ней писал не Метастазио, этот присяжный пиит придворной поэзии. Порпора, видно, догадывался, что Консуэло не проявила достаточной ловкости, не сумела заслужить милости императрицы, и высказал ей по этому поводу свое неудовольствие. К довершению несчастья, заметив однажды, как восторгается и гордится Порпора быстрыми успехами, достигнутыми под его руководством Иосифом Гайдном, венецианский посланник имел неосторожность открыть маэстро правду относительно юноши и показать первые прелестные опыты музыкального творчества его ученика, начинавшие ходить по рукам и обратившие уже на себя внимание любителей музыки. Тут маэстро раскричался, что его обманули, и пришел в неистовую ярость. К счастью, он не обвинил Консуэло в соучастии в этой хитрости, а г-н Корнер, видя, какую вызвал бурю, поспешил искусной ложью пресечь в старике всякое подозрение на этот счет. Но он не мог помешать изгнанию Иосифа на несколько дней из комнаты учителя, и понадобилось все влияние Корнера, обусловленное его покровительством старику и оказанными им услугами, чтобы маэстро смилостивился над юношей. Однако Порпора долго не мог забыть обмана и, говорят, находил удовольствие в том, что заставлял Иосифа оплачивать уроки унизительной лакейской службой, в данном случае совершенно ненужной, раз к его услугам были посольские лакеи. Гайдн не унывал и кротостью, терпением и преданностью в конце концов обезоружил своего сурового учителя; всегда прилежный и внимательный на уроках, Иосиф получил от него все, что хотел и мог воспринять, к тому же и Консуэло постоянно подбадривала и наставляла юношу.
Но гениальный Гайдн мечтал об иных музыкальных путях, чем те, по каким шли его предшественники композиторы; будущий отец симфонии поверял Консуэло свои мечты об инструментальной партитуре огромных масштабов. Эти масштабы, кажущиеся нам теперь такими естественными, несложными и скромными, сто лет тому назад могли почитаться утопией безумца или же началом новой эры, возвещенной гением. Иосиф еще сомневался в себе и не без ужаса делился потихоньку с Консуэло своими честолюбивыми замыслами. Сначала они немного пугали и Консуэло. До сих пор инструментовка играла второстепенную роль и, отделенная от человеческого голоса, отличалась простотою приемов. Однако в юном товарище певицы было столько спокойствия, столько неизменной мягкости, в его убеждениях чувствовалась такая подлинная скромность и такое безусловно добросовестное стремление к истине, что Консуэло не могла считать его самонадеянным, верила в его мудрость и решила поддерживать в его начинаниях.
Именно в ту пору Гайдн написал серенаду для трех инструментов и с двумя своими друзьями исполнял ее под окнами «любителей», желая заинтересовать их своими произведениями. Начал он с Порпоры, старый маэстро, не зная ни имени автора, ни исполнителей, подошел к окну, с удовольствием слушал и бурно аплодировал. На этот раз посланник, посвященный в тайну и также слушавший серенаду, оказался осторожнее и не выдал молодого композитора. Порпора не желал, чтобы ученики, бравшие у него уроки пения, отвлекались чем-либо иным.
В это же самое время Порпора получил письмо от своего ученика, великолепного контральтиста Уберто, носившего имя Порпорино и состоявшего на службе у Фридриха Великого. Этот знаменитый артист не был, как другие ученики профессора, чрезмерно ослеплен собственным успехом и не забыл, чем обязан своему учителю. Порпорино никогда не стремился изменить то, что приобрел, – манеру петь звучно и свободно, без фиоритур, придерживаясь разумных традиций маэстро, – и это неизменно обеспечивало ему успех. Особенно хорошо удавались ему адажио. Порпора питал к своему бывшему ученику слабость, которую ему с трудом удавалось скрывать перед фанатическими поклонниками Фаринелли и Кафариэлло. Маэстро соглашался, что искусство, блеск и гибкость голоса этих великих виртуозов изумительны и сразу возбуждают большой восторг у слушателей, падких на все необыкновенное. Но под сурдинку он говорил, что его Порпорино ни за что не станет потворствовать дурным вкусам и хотя поет всегда одним и тем же способом, но голос его не может надоесть. И, по-видимому, в Пруссии пение Порпорино действительно вызывало непреходящий восторг, ибо он блистал там в течение всей своей музыкальной карьеры и умер в преклонных годах, прожив в этой стране более сорока лет.
В своем письме Уберто сообщал, что произведения Порпоры пользуются большим успехом в Берлине, и если бы учитель захотел приехать к нему, его новые оперы будут приняты и поставлены на тамошней сцене, – он в этом уверен. Он очень убеждал Порпору покинуть Вену, где артисты обречены на постоянные интриги разных партий; в то же время он просил «завербовать» для прусского двора выдающуюся певицу, которая смогла бы вместе с ним исполнять оперы маэстро. Порпорино с большой похвалой отзывался о просвещенном вкусе своего короля и о почетном покровительстве, какое тот оказывает музыкантам. «Если этот план Вам улыбается, – писал он в конце письма, – скорее отвечайте мне и сообщите свои условия. Ручаюсь, что через три месяца я доставлю Вам службу, которая даст Вам наконец спокойное существование. Что касается славы, дорогой учитель, то достаточно нам будет спеть написанное Вами так, чтобы Вас оценили, и, надеюсь, слух об этом дойдет до Дрездена».
Последняя фраза заставила Порпору навострить уши, как старую боевую лошадь: то был намек на успех Гассе и его певцов при саксонском дворе. Мысль добиться такой же славы, как у его соперника на севере Германии, улыбалась маэстро, к тому же в данную минуту он питал жгучую злобу к Вене, венцам и их двору, – поэтому без всяких колебаний он ответил Порпорино, уполномочивая его на хлопоты в Берлине. Он сообщил ему свои условия, стараясь быть как можно скромнее, дабы не потерпеть неудачи. О Порпорине маэстро отозвался в письме с самой большой похвалой и подчеркнул, что она не только по имени, но и по образованию, и по таланту, и по сердцу может считаться истинной сестрой Порпорино. Ангажемент ей он просил устроить на наилучших условиях. Все было сделано без ведома Консуэло, – она узнала об этом уже после того, как маэстро отправил письмо. Само слово «Пруссия» напугало бедную девушку, а имя великого Фридриха привело в содрогание. Со времени приключения с дезертиром Консуэло представляла себе этого столь прославленного монарха не иначе как в образе людоеда и вампира. Порпора очень бранил ее: она проявила, по его мнению, слишком мало радости, узнав о возможности нового ангажемента, а так как Консуэло не могла рассказать об истории Карла и о подвигах господина Мейера, то, опустив голову, предоставила учителю журить ее. Однако, подумав, она нашла в новом проекте некоторое облегчение: благодаря ему откладывалось ее возвращение на сцену, так как дело могло еще провалиться, да и Порпорино требовалось по крайней мере три месяца на устройство его. До тех пор она могла мечтать о любви графа Альберта и разобраться в своих чувствах к нему, могла честно и искренне выполнить взятое на себя обязательство – обдумать тщательно и без принуждения, хочет ли она выходить за него замуж, или считает брак с ним невозможным. Консуэло решила, прежде чем сообщать что-либо хозяевам замка Великанов, обождать ответа графа Христиана на свое первое письмо. Но ответа все не было, и Консуэло начала думать, что старый Рудольштадт поставил крест на этом неравном браке и постарался уговорить Альберта отказаться от него, как вдруг Келлер передал ей украдкой короткое письмецо такого содержания:
«Вы обещали мне писать и сделали это косвенно, сообщив моему отцу о своем затруднительном положении. Вижу, что над Вами тяготеет иго, но я счел бы преступным для себя избавить Вас от него; по-видимому, добрый мой отец боится для меня последствий Вашего подчинения Порпоре. Но раз Вы пишете моему отцу, с каким сожалением и ужасом относитесь к принуждению принять то или иное решение, – я ничего теперь не боюсь: это доказывает, что Вам не легко произнести приговор, который обрек бы меня на вечное отчаяние. Да, Вы сдержите слово и попробуете полюбить меня! Не все ли мне равно, где Вы и чем заняты, какое положение создает Вам в обществе призрачная слава, не все ли равно, как долго и в силу каких препятствий я буду вдали от Вас, если в сердце моем живет надежда и Вы позволяете мне надеяться! Несомненно, я очень страдаю, но я в состоянии еще больше страдать, не падая духом, пока Вы не погасили во мне искры надежды.
Я жду и умею ждать! Не бойтесь напугать меня, замедлив с ответом. Не пишите мне под влиянием страха или жалости – я не хочу ничем быть им обязан. Взвесьте мою судьбу в своем сердце и мою душу в своей душе, а когда настанет время и Вы будете уверены в себе, будь то в келье монахини или на подмостках театра, если Вы велите мне никогда не беспокоить Вас или явиться к Вам… я, по Вашему желанию, буду у Ваших ног или замолчу навсегда.
Альберт».
– Благородный Альберт! – воскликнула Консуэло, целуя письмо. – Чувствую, что люблю тебя, да и невозможно было бы не любить! И без колебаний сознаюсь тебе в этом. Своим обещанием я вознагражу постоянство и самоотверженность твоей любви.
Она тут же принялась было за письмо, но, услышав голос Порпоры, поспешно спрятала на груди и письмо Альберта и начатый ему ответ. В течение всего дня она не смогла выбрать ни одной свободной минуты, ни одного укромного местечка. Казалось, угрюмый старик догадался об ее желании остаться наедине и задался целью помешать ей. Когда наступила ночь, Консуэло немного успокоилась и поняла, что такое важное решение требовало более продолжительной проверки своих чувств. Не следовало подавать Альберту надежды, которая могла и не осуществиться. Сотню раз перечла она письмо молодого графа и увидала, что он равно боится как горестного отказа, так и поспешного обещания. Консуэло решила обдумать ответ в течение нескольких дней. Казалось, сам Альберт этого требовал.
Жизнь Консуэло в то время в посольстве протекала очень спокойно и размеренно. Чтобы не давать повода злобным наветам, Корнер с присущей ему деликатностью никогда не появлялся в ее комнате и никогда не приглашал ее, даже вместе с Порпорой, к себе. Встречался он с нею только у Вильгельмины, где Консуэло охотно пела в интимном кругу и где посланник мог говорить с нею, не компрометируя ее. Иосиф также был принят в салоне Вильгельмины в качестве музыканта. Кафариэлло бывал там часто, граф Годиц иногда, а аббат Метастазио изредка. Все трое очень скорбели о неудаче Консуэло, но ни один не имел ни мужества, ни настойчивости отстоять ее. Порпора возмущался и с трудом скрывал это. Консуэло старалась смягчить его и убедить относиться снисходительно к людским недостаткам и слабостям. Она побуждала его работать, и благодаря ей в душе маэстро время от времени мерцали проблески надежды и энтузиазма. Девушка поддерживала в нем раздражение против светского общества, и он не стал возить ее туда петь. Она радовалась, что о ней забыли великие мира сего, вызывавшие в ней ужас и отвращение, серьезно занималась, предавалась сладким мечтам и ухаживала за своим старым учителем, а ее дружба с Гайдном приобрела теперь спокойный, безмятежный характер. И если природа не создала ее для жизни тихой и уравновешенной, говорила себе ежедневно Консуэло, то еще меньше она была приспособлена для волнений, порождаемых тщеславием, и для деятельности, основанной на честолюбии. Правда, она мечтала раньше и теперь продолжала мечтать о жизни более кипучей, о радостях любви более пылких, о более широком умственном кругозоре. Но мир искусства, рисовавшийся ее воображению таким чистым, таким открытым и благородным, оказался до того омерзительным, что она предпочла жизнь безвестную и замкнутую, теплые дружеские отношения и работу в одиночестве. Консуэло не приходилось вновь обдумывать предложение Рудольштадтов. Их великодушие, нерушимая любовь сына, снисходительное чувство отца не вызывали никаких сомнений. Ей не нужно было обращаться ни к своему уму, ни к совести – они говорили в пользу Альберта. На этот раз без всяких усилий она восторжествовала над воспоминаниями об Андзолето. Победа над любовью дает силы для других побед, и Консуэло не боялась больше соблазна, ей не опасны были никакие чары. И все же страсть к Альберту не разгоралась в ее душе с достаточным пылом. В глубине ее сердца жило в таинственном спокойствии представление о совершенной любви, и надо было еще и еще вопрошать его… Сидя у окна, простодушная девушка часто смотрела на проходящих мимо городских молодых людей – молодцеватых студентов, благородных вельмож, меланхолических артистов, гордых всадников, – и всех подвергала она целомудренному и по-детски серьезному разбору. «Посмотрим, – говорила она себе, – насколько своенравно и легкомысленно мое сердце. Способна ли я влюбиться вдруг, безумно и неудержимо, с первого взгляда, как многие из моих школьных подруг, хваставшие этим или исповедовавшиеся друг перед другом в моем присутствии? Неужели правда, что любовь – волшебная молния, поражающая наше существо, неужели она отрывает нас от спокойного неведения или от привязанностей, в которых мы поклялись? Способен ли взгляд хоть одного из этих мужчин, иногда поднимающих свои взоры к моему окну, взволновать и очаровать меня? Вот хотя бы этот рослый человек с горделивой походкой, неужели он благороднее и красивее Альберта? А тот, другой, с красивыми волосами, в изящном костюме, разве заслоняет во мне образ моего жениха? Наконец, хотела бы я оказаться на месте вон той разодетой дамы, едущей в своей коляске вместе с надменным господином, который держит ее веер и подает ей перчатки? Разве что-либо вызывает во мне дрожь, краску, трепет или мечты? Нет!.. Право же, нет! Говори, мое сердце, выскажись, – вопрошаю тебя и даю тебе свободу. Увы! Я едва знаю тебя. С минуты рождения у меня было так мало времени заняться тобой. Я не приучила тебя к искушению, предоставляла свою жизнь твоей власти, не разбирая, насколько благоразумны твои порывы. Тебя разбили, мое бедное сердце, а теперь, когда сознание одержало победу над тобой, ты не смеешь жить, ты не умеешь ответить. Говори же, проснись и выбирай! А, ты все остаешься спокойным и ничего не хочешь? – Нет, ничего! – Тебе больше не нужен Андзолето? – Нет, не нужен! – Тогда, значит, ты призываешь Альберта? Мне кажется, ты говоришь «да»!» И Консуэло ежедневно отходила от окна, бодро улыбаясь, с кротким и мягким блеском в глазах.
Спустя месяц, чувствуя себя совершенно спокойной, она ответила Альберту не спеша, чуть ли не щупая пульс при написании каждой буквы:
«Я люблю только Вас и почти уверена, что Вас люблю. Дайте мне помечтать о возможности нашего брака. Мечтайте и Вы о нем. Найдемте вместе способ не огорчать ни Вашего отца, ни моего учителя и будем счастливы, не становясь эгоистами».
К этой записке она присоединила коротенькое письмо графу Христиану, где рассказала ему, какую ведет спокойную жизнь, и сообщала о передышке, создавшейся вследствие новых планов Порпоры. Она просила старого графа найти способ обезоружить маэстро и сообщить ей об этом через месяц. Таким образом, до выяснения дела, затеянного в Берлине, ей остается еще целый месяц, чтобы подготовить Порпору.
Консуэло, запечатав оба письма, положила их на стол и заснула. Чудесный покой снизошел на ее душу, давно она не спала таким крепким, безмятежным сном. Проснулась она поздно и поспешила встать, чтобы повидаться с Келлером, обещавшим прийти в восемь часов за письмом. А было уже девять. Консуэло принялась поспешно одеваться и вдруг с ужасом увидела, что письма на том месте, куда она его положила, нет. Всюду искала она его и не находила; наконец вышла посмотреть, не ждет ли ее Келлер в передней, но ни Келлера, ни Иосифа там не было. Возвращаясь к себе, чтобы снова приняться за поиски письма, она увидела приближавшегося Порпору, который строго смотрел на нее.
– Что ты ищешь? – спросил он.
– Я потеряла листок.
– Ты лжешь: ты ищешь письмо.
– Маэстро…
– Замолчи, Консуэло! Ты еще не умеешь лгать, не учись этому.
– Маэстро, что ты сделал с письмом?
– Я передал его Келлеру.
– А почему?.. Почему ты его передал Келлеру?
– Да потому что он за ним пришел. Ведь ты ему приказала вчера. Не умеешь ты притворяться, Консуэло, или у меня тоньше слух, чем ты думаешь.
– Скажи наконец, что ты сделал с моим письмом? – решительным тоном спросила Консуэло.
– Я же тебе сказал. Почему ты меня еще об этом спрашиваешь? Я нашел очень неприличным, что молодая и порядочная девушка, какой, я предполагаю, ты рассчитываешь всегда оставаться, тайно передает письма своему парикмахеру. А чтобы этот человек не мог дурно подумать о тебе, я со спокойным видом отдал ему письмо, поручив от твоего имени его отправить. По крайней мере он не подумает, что ты скрываешь от своего приемного отца какую-то преступную тайну.
– Ты прав, маэстро, ты хорошо поступил… прости меня!
– Прощаю. Не будем больше об этом говорить.
– И… ты прочел мое письмо? – прибавила Консуэло ласково и боязливо.
– За кого ты меня принимаешь? – грозно воскликнул Порпора.
– Прости меня за все, – проговорила Консуэло, становясь перед ним на колени и порываясь взять его руку, – позволь открыть тебе мою душу…
– Ни слова больше!.. – вскричал маэстро, отталкивая ее, и прошел к себе в комнату, с шумом захлопнув за собой дверь.
Консуэло надеялась, что после этой гневной вспышки ей удастся его успокоить и решительно объясниться с ним. Она чувствовала себя не в силах высказаться до конца и добиться благоприятного результата, но Порпора отказался от всяких объяснений, и его суровость была непоколебима и тверда. В остальном же он относился к ней по-прежнему дружески и с этого дня стал даже как бы веселее и добрее душой. Консуэло увидала в этом хорошее предзнаменование и с упованием ждала письма из Ризенбурга.
Порпора не солгал: он сжег письма Консуэло, не прочитав их, но сохранил конверт и вложил в него свое письмо к Христиану. Он думал этим смелым поступком спасти свою ученицу и избавить старика Рудольштадта от жертвы, превышающей его силы. Он считал, что исполнил по отношению к нему долг верного друга, а по отношению к Консуэло – долг энергичного и разумного отца. Маэстро не предвидел, что мог нанести смертельный удар графу Альберту. Едва зная его, он полагал, что Консуэло все преувеличивает и молодой человек не так уж влюблен и не так болен, как она воображала. Наконец, как все старики, он считал, что любовь не вечна, а горе никого не убивает.
Глава 93
В ожидании ответа, которому не суждено было прийти, раз Порпора сжег ее письма, Консуэло продолжала вести спокойный, полный труда образ жизни. Ее появление в доме Вильгельмины привлекло туда несколько выдающихся лиц, и ей доставляло большое удовольствие с ними встречаться. В числе их был барон Тренк, внушавший ей истинное расположение. Он был настолько деликатен, что при первой встрече отнесся к ней не как к старой знакомой, а после того, как она спела, просил быть представленным ей в качестве почитателя, глубоко тронутого ее пением. Когда Консуэло увидала красивого, великодушного молодого человека, спасшего ее так мужественно от г-на Мейера и его шайки, первым ее побуждением было протянуть ему руку. Барон, не желавший, чтобы она из чувства признательности поступила неосторожно, поспешил почтительно поддержать Консуэло, как бы для того, чтобы проводить на место, и тут в знак благодарности слегка пожал ей руку. Потом она узнала от Иосифа, у которого барон Тренк брал уроки музыки, что он всегда с интересом справлялся и с восторгом говорил о ней, но из чувства необычайной деликатности никогда не спрашивал, чем вызвано было ее переодевание, почему предприняли они такое полное приключений путешествие, каковы были их отношения друг к другу во время этого странствования и в настоящее время.
– Не знаю, что он об этом думает, – добавил Иосиф, – но, уверяю тебя, ни об одной женщине он не говорит с большим почтением и уважением, чем о тебе.
– В таком случае, друг, я разрешаю тебе, если хочешь, рассказать ему всю нашу историю, а так же и мою, не называя фамилии Рудольштадт. Мне нужно безусловное доверие и уважение человека, которому мы обязаны жизнью и который так благородно во всех отношениях вел себя со мной. Несколько недель спустя, едва успев выполнить свою миссию, г-н фон Тренк был внезапно отозван Фридрихом и однажды утром явился в посольство, чтобы наскоро проститься с г-ном Корнером. Консуэло, спускаясь по лестнице, встретилась с ним в галерее. Так как они были одни, он подошел к ней, взял ее руку и нежно поцеловал.
– Позвольте мне, – сказал он, – в первый и, быть может, в последний раз высказать вам чувства, переполняющие мое сердце. Мне не нужно было слышать от Беппо вашей истории, чтобы проникнуться уважением к вам. Есть лица, в которых не ошибаешься и с первого же взгляда угадываешь большой ум и великое сердце. Знай я тогда, в Пассау, что наш милый Иосиф так беспечен, я защитил бы вас от легкомысленных поползновений графа Годица; я их предвидел и сделал все возможное, но не мог внушить ему, что он метит впустую и только поставит себя в смешное положение. Впрочем, добряк Годиц сам рассказал мне, как вы над ним посмеялись; он бесконечно благодарен вам за то, что вы сохранили все в тайне. Я же никогда не забуду о романтическом приключении, которое дало мне счастье узнать вас, и если бы мне пришлось даже заплатить за это своим состоянием и своей будущностью, я все-таки буду считать тот день одним из лучших в своей жизни. – Неужели вы думаете, господин барон, что это приключение может иметь какие-то последствия?
– Надеюсь, что нет, но при прусском дворе все возможно.
– Вы внушаете мне большой страх к Пруссии, а между тем, знаете, господин барон, возможно, что в недалеком будущем мы с вами там встретимся. Идут переговоры о приглашении меня в Берлин.
– В самом деле? – воскликнул Тренк, и лицо его вдруг просияло. – Ну, дай бог, чтобы этот проект осуществился. В Берлине я смогу быть вам полезен, и вы должны рассчитывать на меня как на брата. Да, я люблю вас как брат, Консуэло! И, будь я свободен, я, быть может, не смог бы побороть в себе чувства более пылкого… Но вы также не свободны, и узы священные, вечные… не позволяют мне завидовать счастливцу, добивающемуся вашей руки. Кто бы он ни был, сударыня, знайте – он найдет во мне друга, если пожелает, и защитника против предрассудков общества, как только это ему понадобится… Увы! И передо мной, Консуэло, стоит ужасная преграда, отделяющая предмет моей любви от меня. Но тот, кто любит вас, – мужчина, и он может свалить преграду, в то время как любимая мною женщина, стоящая выше меня по положению, не обладает ни властью, ни правом, ни силой, ни возможностью помочь мне в разрушении этой преграды.
– Стало быть, я ничего не смогу сделать ни для нее, ни для вас? сказала Консуэло, впервые сожалея о бессилии своего скромного положения. – Кто знает! – с жаром воскликнул барон. – Возможно, вы будете в состоянии сделать больше, чем думаете, если не для нашего союза, то хотя бы для облегчения тяжести нашей разлуки. Хватит ли, однако, у вас мужества пренебречь некоторой опасностью ради нас?
– О! Я сделаю это с радостью! Ведь и вы подвергали опасности свою жизнь, чтобы спасти меня!
– Прекрасно! Я буду на вас рассчитывать! Не забывайте своего обещания, Консуэло! Быть может, я неожиданно напомню вам о нем…
– В какую бы минуту моей жизни это ни случилось, я никогда не забуду своего обещания, – ответила она, протягивая ему руку.
– Тогда дайте мне какую-нибудь малоценную вещицу, которую я мог бы вам послать в случае надобности, ибо мне предстоит серьезная борьба, – я это чувствую, и обстоятельства могут так сложиться, что моя подпись и даже печать способны будут скомпрометировать и ее и вас.
– Хотите взять ноты, которые я как раз несу знакомым по поручению моего учителя? Им я достану другие, а на этих сделаю знак, чтобы признать их, когда понадобится.
– Почему бы и нет? Ноты действительно можно скорее всего послать, не возбуждая подозрений. И на случай, если придется воспользоваться ими несколько раз, я разорву их на отдельные листы. А вы на каждом из них сделайте значок.
Консуэло, прислонившись к перилам лестницы, написала на каждом листке имя Бертони. Барон свернул их в трубочку и унес, поклявшись нашей героине в вечной дружбе.
Как раз в ту пору г-жа Тези захворала, и это грозило приостановкой спектаклей на императорской сцене, так как она исполняла главные роли. В крайнем случае ее могла заменить Корилла. Она пользовалась немалым успехом и при дворе и в городе, ее красота и вызывающее кокетство кружили головы добродушным немецким вельможам, и никто не думал предъявлять большие требования к ее немного хриплому голосу и несколько истеричной игре. Все казалось великолепным у такой красавицы – ее белоснежные плечи как бы выводили чудесные рулады, ее круглые обольстительные руки пели всегда верно, ее великолепные позы преодолевали самые смелые трели. Несмотря на музыкальный пуризм, которым здесь так кичились, многие, как и в Венеции, подпадали под очарование томных очей, и госпожа Корилла сумела в своем будуаре обработать несколько умных голов, сделавшихся восторженными поклонниками ее предстоящих выступлений.
Итак, она смело взялась временно заменить г-жу Тези, но затруднение заключалось в том, что надо было найти заместительницу для нее самой. О пискливом голосе г-жи Гольцбауэр нечего было и думать. Приходилось допустить появление Консуэло или довольствоваться кем попало. Порпора суетился как дьявол. Метастазио, выражая величайшее недовольство ломбардским произношением Кориллы и негодуя на то, что она, вопреки смыслу и действию оперы, всеми силами старалась затирать другие роли, не скрывал своего отвращения к ней и симпатию к добросовестной и умной Порпорине. Кафариэлло, ухаживавший за г-жой Тези (уже от всей души ненавидевший Кориллу за то, что она осмелилась оспаривать у нее «эффектные выходы» и первенство красоты), смело высказался за приглашение Консуэло. А Гольцбауэр, ревниво оберегавший честь своего театра, но в то же время боявшийся влияния, которое Порпора, попав за кулисы, несомненно сумеет приобрести, просто терял голову.
Скромное поведение Консуэло привлекло к ней столько приверженцев, что трудно было уже дольше вводить в заблуждение императрицу. Благодаря всему этому Консуэло получила приглашение. Ей, однако, были предложены жалкие условия, в надежде, что она откажется. Порпора сразу на них согласился, по обыкновению не переговорив со своей ученицей. В одно прекрасное утро Консуэло узнала, что ангажирована на шесть спектаклей. Не имея возможности избавиться от этого и не понимая в то же время, почему после полуторамесячного ожидания она не получает никаких вестей от Рудольштадтов, Консуэло по настоянию Порпоры, вынуждена была отправиться на репетицию «Антигона» Метастазио (музыка Гассе).
Консуэло уже прошла свою роль с Порпорой. Конечно, для маэстро было мукой изучать с нею произведение соперника, самого неблагодарного из всех учеников, врага, которого он теперь особенно ненавидел. Но, не говоря о том, что через все это надо было пройти, чтобы раскрыть двери своим собственным произведениям, Порпора был слишком добросовестным преподавателем, обладал слишком честной душой артиста, чтобы не вложить в это изучение всего своего знания и усердия. Консуэло всеми силами помогала ему, и это одновременно и восхищало его и приводило в отчаяние. Вопреки своему желанию, бедная девушка была в восторге от Гассе, и душа ее испытывала больший подъем от нежных и страстных мелодий Sassone, чем от величественных и подчас немного холодных и сухих произведений своего учителя. Привыкнув при изучении с ним других композиторов свободно отдаваться своему восторгу, она на этот раз была принуждена сдерживаться, видя, как он бывает грустен и удручен после этих занятий.
Когда Консуэло вышла на сцену репетировать с Кафариэлло и Кориллой, она была так взволнована, хотя и знала прекрасно свою партию, что ей стоило большого труда приступить к сцене Исмены с Береникой, начинавшейся словами: No, tutto, о Berenice, Tu non apri il tuo cor… Корилла ответила следующей фразой:
… Е ti par poco, Quel che sai de\'miei casi? На этом месте Кориллу прервал громкий хохот Кафариэлло, и она, повернувшись и яростно глядя на него, спросила:
– Что вы находите тут смешного?
– Ты так чудесно это сказала, моя толстая Береника! – ответил, еще громче смеясь, Кафариэлло. – Трудно было сказать искреннее.
– Это слова так забавляют вас? – спросил Гольцбауэр, который был не прочь передать Метастазио, как сопраниста потешается над его стихами.
– Слова-то прекрасны, – сухо ответил Кафариэлло, хорошо знавший, с кем имеет дело, – но они здесь так кстати, что я не мог удержаться от смеха.
И он, надрываясь от хохота, повторил, обращаясь к Порпоре:
… Е ti par poco, Quel che sai de tanti casi? Корилла понимала, какая кровная обида заключается в намеках на ее поведение; дрожа от ярости, ненависти и страха, она чуть не бросилась на Консуэло и готова была ее искалечить, но у юной певицы был такой кроткий и спокойный вид, что она не посмела ее тронуть. К тому же слабый свет, проникавший на сцену, упал на лицо ее соперницы, и Корилла остановилась пораженная: какие-то смутные воспоминания зашевелились в ее мозгу, какой-то странный ужас охватил ее. В Венеции она никогда не видела Консуэло ни вблизи, ни днем. Во время родовых мук она едва могла рассмотреть лицо цыганенка Бертони, суетившегося вокруг нее, да так и не поняла, почему он столь трогательно заботится о ней. Она попыталась было припомнить все происшедшее, но так как ей это не удавалось, то в течение всей репетиции она испытывала беспокойное и неприятное ощущение. Совершенство, с каким Консуэло провела свою партию, немало способствовало ее дурному настроению, а присутствие Порпоры, ее бывшего учителя, слушавшего ее, как строгий судья, молча и почти презрительно, превратило для нее репетицию в настоящую пытку. Г-н Гольцбауэр был не менее уязвлен, когда маэстро стал критиковать его темп, а верить ему поневоле приходилось, так как Порпора однажды присутствовал на репетиции, которой дирижировал сам Гассе во время первой постановки своей оперы в Дрездене. Нужда в добром совете заставила Гольцбауэра смириться и скрыть досаду. Маэстро провел всю репетицию, давал указания каждому артисту, сделал замечание даже самому Кафариэлло, а тот, желая поднять престиж Порпоры перед другими, притворился, будто с почтением слушает его. Кафариэлло стремился унизить в тот день дерзкую соперницу г-жи Тези и готов был на все, даже играть роль покорного и скромного ученика. Ведь и у актеров, и у дипломатов, и на сцене, и в кабинете монархов самыми лучшими и самыми некрасивыми делами движут скрытые пружины, а подоплека этих дел самая мелочная и пустая.
Вернувшись после репетиции домой, Консуэло застала Иосифа в радостном настроении, которого он, однако, пытался не показывать. Когда им удалось поговорить наедине, она узнала, что старый каноник переехал в Вену, и первой его мыслью было вызвать своего милого Беппо; угощая юношу прекрасным завтраком, каноник буквально закидал его вопросами, с нежностью справляясь о дорогом его сердцу Бертони. Они уже сговорились, каким образом завязать знакомство с Порпорой, чтобы иметь возможность видеться по-семейному, честно и открыто. На следующий же день каноник представился Порпоре как покровитель Иосифа Гайдна и как ярый поклонник самого маэстро, явившийся поблагодарить за уроки, которые маэстро соблаговолил давать его юному другу. Консуэло сделала вид, будто встречает его впервые, а вечером маэстро с обоими учениками уже дружески обедал у каноника. Только стоицизм, – а в те времена даже самые крупные музыканты не могли им похвастаться, – мог помешать Порпоре сразу проникнуться симпатией к доброму канонику, угощавшему таким прекрасным обедом и так высоко ценившему его произведения. После обеда занялись музыкой. Затем они стали видеться почти ежедневно.
Это успокаивающе действовало на Консуэло, начинавшую уже волноваться по поводу молчания Альберта. Каноник был человеком нрава веселого, непорочным и в то же время свободомыслящим, превосходным во многих отношениях, справедливым и притом просвещенным в разных областях. Словом, это был прекрасный друг и чрезвычайно милый собеседник. Его общество оживляло и подбадривало маэстро, тот воспрянул духом, а следовательно, и у Консуэло стало легче на душе.
Однажды, когда не было репетиций (за два дня до представления «Антигона»), Порпора отправился за город с одним из своих коллег, а каноник предложил Иосифу и Консуэло нагрянуть всем вместе в приорию, чтобы захватить врасплох оставленных там слуг и, свалившись к ним как снег на голову, самим убедиться, хорошо ли ухаживает садовница за Анджелой и не обходится ли садовник небрежно с волкамерией. Молодые люди охотно согласились присоединиться к этой увеселительной прогулке. Экипаж каноника нагрузили пирожками и бутылками (нельзя же проехать четыре мили, не нагуляв аппетита) и, сделав небольшой крюк, подъехали к приории. На некотором расстоянии от нее они оставили экипаж и пошли пешком, так как хотели явиться возможно неожиданнее.
Волкамерия чувствовала себя превосходно: она находилась в тепле, и корни ее были свежи. С наступлением холодов она перестала цвести, но ее красивые листья, нимало не тронутые увяданием, мягко ниспадали на обнаженный ствол. Оранжерея содержалась в полном порядке, голубые хризантемы, не боясь зимы, казалось, смеялись за стеклянными перегородками. И Анджела, прильнув к груди кормилицы, начинала уже смеяться, когда с нею заигрывали. Каноник очень разумно запретил злоупотреблять этим, так как насильственный смех развивает у таких малюток совершенно ненужную нервозность.
Сидели они, непринужденно болтая, в хорошеньком домике садовника. Каноник, закутавшись в меховую шубу, грел ноги у очага, где пылали сухие корни и сосновые шишки. Иосиф играл с прелестными детьми красивой садовницы, а Консуэло, сидя посреди комнаты с маленькой Анджелой на руках, смотрела на нее со смешанным чувством нежности и скорби: ей казалось, что этот ребенок принадлежит ей больше, чем кому бы то ни было, и таинственный рок связывает его судьбу с ее собственной. Вдруг дверь отворилась, и перед ней, словно видение, вызванное ее грустными мечтами, предстала Корилла.
Впервые после родов Корилла почувствовала если не прилив материнской любви, то все-таки нечто вроде угрызений совести и украдкой явилась проведать своего ребенка. Она знала, что каноник живет в Вене. Приехав вслед за ним через полчаса, Корилла не наткнулась на его экипаж близ приории, так как каноник сошел не у самых ворот. Никого не встретив, она с опаской пробралась садами до домика, где, по ее сведениям, жила у своей кормилицы Анджела, ибо Корилла все-таки навела кое-какие справки на этот счет. Актриса очень потешалась над замешательством и христианским смирением каноника, но была в полном неведении относительно участия в этом приключении Консуэло, – поэтому она с удивлением, к которому примешались ужас и смятение, увидела свою соперницу. Не зная и не смея догадываться, какое дитя та укачивает, она чуть было не обратилась в бегство. Консуэло, инстинктивно прижавшая ребенка к груди, точно куропатка, прячущая птенца под крыло при приближении коршуна, Консуэло, служившая в том же театре и способная на следующий день представить всю эту комедию совсем не в том виде, в каком изображала ее Корилла, наконец Консуэло, смотревшая на нее с омерзением, потрясла ее своим присутствием так, что Корилла, словно прикованная, остановилась посреди комнаты. Однако Корилла была слишком опытной актрисой, – она быстро пришла в себя и обрела дар слова. Ее тактика заключалась в том, чтобы, оскорбляя других, самой избежать унижения. И тут же, входя в роль, она наглым, резким тоном обратилась к Консуэло на венецианском наречии:
– Черт возьми! Бедная Zingarella! Что ж, этот дом – приют подкидышей, что ли? Ты явилась сюда, чтоб взять или оставить своего детеныша? Видно, у нас с тобой одно счастье, одна удача. Без сомнения, у наших детей и отец один и тот же, ведь наши с тобой приключения начались в Венеции одновременно. И я убедилась, сокрушаясь за тебя, что красавец Андзолето бросил труппу в прошлом сезоне, плюнув на ангажемент, вовсе не для того, чтобы погнаться за тобой, как все думали.
– Сударыня, – ответила Консуэло, бледная, но спокойная, – имей я несчастье быть в таких же близких отношениях с Андзолето, как вы, и вследствие этого счастье стать матерью (так как это всегда счастье для женщины, умеющей чувствовать), дитя мое не было бы здесь.
– А! Понимаю! – продолжала та с мрачным огнем в глазах. – Он был бы воспитан в вилле Дзустиньяни. У тебя нашлось бы ума, у меня его, к сожалению, не хватило: ты уверила бы милого графа, что его честь требует признания ребенка. Но ты не имела несчастья, как уверяешь, быть любовницей Андзолето, а Дзустиньяни был настолько счастлив, что не оставил тебе доказательств своей любви. Говорят, Иосиф Гайдн, ученик твоего учителя, утешил тебя во всех твоих злоключениях, и, без сомнения, дитя, которое ты укачиваешь…
– Ваше, сударыня! – воскликнул Иосиф, прекрасно понимавший теперь венецианское наречие, становясь между Консуэло и Кориллой; один вид его заставил отступить наглую женщину. – Вам это свидетельствует Иосиф Гайдн; к вашему сведению, он присутствовал, когда вы производили на свет этого ребенка.
Лицо Иосифа, не встречавшегося с ней с того злосчастного дня, вдруг воскресило в ее памяти все обстоятельства, которые она тщетно силилась припомнить, и в цыганенке Бертони она увидела черты цыганочки Консуэло. У нее невольно вырвался возглас удивления, и с минуту в душе ее шла борьба между стыдом и досадой. Но вскоре цинизм взял свое, и из ее уст снова посыпались оскорбления.
– По правде сказать, дети мои, я вас не узнала! – воскликнула она неприятно елейным тоном. – Оба вы были очень милы, когда я встретила вас в разгаре ваших приключений, а переодетая Консуэло была действительно красивым мальчиком. Так, значит, здесь, в этом святом доме, провела она благочестиво в обществе толстого каноника и молоденького Иосифа целый год, убежав из Венеции? Ну, Zingarella, не беспокойся, дитя мое! У каждой из нас своя тайна, и императрица, желающая все знать, ничего не узнает ни об одной из нас!
– Предположим даже, Корилла, что у меня есть тайна, – холодно проговорила Консуэло, – но она в ваших руках только с сегодняшнего дня, а я владела вашей в тот день, когда в течение часа говорила с императрицей за три дня до подписания вами ангажемента.
– И ты дурно говорила обо мне? – закричала Корилла, краснея от злости.
– Скажи я ей то, что знаю о вас, вы не были бы приглашены, а раз вы получили ангажемент, то, очевидно, я не захотела воспользоваться случаем.
– Почему же ты этого не сделала? Уж очень ты глупа, должно быть! – воскликнула Корилла, чистосердечно расписываясь в своей невероятной испорченности.
Консуэло и Иосиф, переглянувшись, не могли не улыбнуться друг другу. Улыбка Иосифа была исполнена презрения к Корилле, но ангельская улыбка Консуэло возносилась к небу.
– Да, сударыня, – ответила она, подавляя Кориллу своей кротостью, – я именно такая, как вы сказали, и считаю это благом для себя.
– Не такое уж это благо, бедняжка, раз я приглашена на сцену, а ты нет! – возразила взволнованная и несколько озадаченная Корилла. – Мне говорили в Венеции, что у тебя не хватает ума и ты плохо ведешь свои дела! Это единственно верное из всего, что рассказывал о тебе Андзолето. Но что поделаешь! Не моя вина, что у тебя такой характер… На твоем месте я сказала бы все, что знала о Корилле, а себя выставила бы целомудренной, святой… Императрица поверила бы: ее нетрудно убедить… я бы вытеснила всех своих соперниц. Ты же этого не сделала!.. Это просто смешно, и мне жаль тебя, ты не умеешь устраиваться.
На этот раз презрение взяло верх над негодованием. Консуэло и Иосиф разразились смехом, а Корилла, почувствовав в своей сопернице то, что ей показалось бессилием, потеряла свою задорную язвительность, которою вооружилась было на первых порах. Она придвинула стул к очагу и собралась продолжать разговор, намереваясь выведать сильные и слабые стороны своих противников. В этот момент она очутилась лицом к лицу с каноником, которого она до сих пор не видела, так как благочестивый отец, руководясь инстинктивной осторожностью духовного отца, сделал знак дебелой кормилице и ее двум детям заслонить его, пока он не разберется в происходящем.
Глава 94
После грязного намека на отношения Консуэло и толстого каноника, который несколько минут назад Корилла высказала, ей показалось теперь, что перед нею – голова Медузы. Но она успокоилась, вспомнив, что говорила на венецианском наречии, и поздоровалась с каноником на немецком языке с той смесью смущения и наглости, какими отличаются взгляд и лицо женщины легкого поведения. Каноник, обычно такой вежливый и любезный, тут, однако, не только не встал, но даже не ответил на ее поклон. Корилла, расспрашивавшая о нем в Вене, слышала от всех, что он чрезвычайно хорошо воспитан, большой любитель музыки, человек, не способный педантично читать наставления женщине, особенно певице, и все собиралась повидаться с ним и пустить в ход свои чары, чтобы помешать ему дурно говорить о ней. Но если в подобных делах она обладала сметливостью, которой не хватало Консуэло, то вместе с тем ей присущи были и беспечность и безалаберность, граничащие с распущенностью, ленью и даже, хотя это может показаться здесь неуместным, нечистоплотностью. У грубых натур все эти слабости цепляются одна за другую. Расхлябанность души и тела парализует склонность к интригам. У Кориллы, по природе своей способной на вероломство, редко хватало энергии довести интригу до конца. Она откладывала со дня на день посещение каноника, и теперь, когда он оказался таким холодным и строгим, видимо смутилась.
И вот, стремясь смелой выходкой поправить дело, она обратилась к Консуэло, продолжавшей держать на руках Анджелу:
– Послушай, почему ты не дашь мне поцеловать мою дочку и положить ее у ног господина каноника, чтобы…
– Госпожа Корилла, – прервал ее каноник тем сухим, насмешливо-холодным тоном, каким он обыкновенно прежде говорил «госпожа Бригита», – будьте добры, оставьте этого ребенка в покое. – И с большой изысканностью, хотя и немного медленно, он продолжал по-итальянски, не снимая шапочки, надвинутой на уши: – Вот четверть часа, как я вас слушаю, и хотя не очень знаком с вашим провинциальным наречием, все же понял достаточно, и скажу вам, что вы самая наглая негодяйка, какую я встречал в жизни. Но все-таки я думаю, что вы скорее глупы, чем злы, и более подлы, чем опасны. Вы ничего не смыслите в прекрасном, и было бы потерей времени заставить вас понять его. Одно могу вам сказать: говоря с этой девушкой, этой девственницей, этой святой, как вы сейчас в насмешку назвали ее, вы оскверняете ее! Не говорите же с ней! Что касается ребенка, рожденного вами, вы, прикасаясь к нему, бесчестите его. Не прикасайтесь же! Ребенок – священное существо. Консуэло это сказала, и я понял ее. Только по ходатайству и благодаря уговорам этой самой Консуэло я дерзнул взять на свое попечение вашу дочь, не испугавшись того, что в один прекрасный день ее скверные инстинкты, которые она рискует унаследовать от вас, заставят меня раскаяться в этом. Мы сказали себе, что милость божья дает возможность всякому существу знать и творить добро, и мы обещали себе преподать ей добро и помочь ей творить его легко и радостно. Останься ребенок у вас, все было бы совсем иначе. Будьте же добры с сегодняшнего дня не считать Анджелу своей дочерью. Вы покинули ее, уступили, отдали, – она больше вам не принадлежит. Вы передали известную сумму денег – как плату за ее воспитание…
Он сделал знак кормилице, и та, предупрежденная им за несколько минут до того, вынула из шкафа перевязанный и запечатанный мешочек, тот самый, который прислала Корилла канонику вместе с дочерью и который никогда не был открыт. Каноник взял его и, бросив к ногам Кориллы, прибавил:
– Нам с ним нечего делать, он нам совсем не нужен. А теперь я прошу вас оставить мой дом и никогда, ни под каким предлогом здесь не появляться. С этим условием, а также при обещании, что вы никогда не позволите себе открыть рта относительно обстоятельств, заставивших нас войти в сношения с вами, мы, со своей стороны, обещаем вам абсолютное молчание по поводу всего, что вас касается. В противном случае, предупреждаю вас, у меня больше средств, чем вы думаете, довести всю правду до сведения ее императорского величества, и тогда очень возможно, что ваши лавровые венки и восторженные овации ваших театральных поклонников сменятся на несколько лет монастырем для кающихся грешниц.
Сказав это, каноник встал, сделал знак кормилице взять на руки ребенка, а Консуэло с Иосифом – удалиться в глубь комнаты. Затем он указал Корилле пальцем на дверь, и та в ужасе, бледная и дрожащая, вышла словно помешанная, не зная, куда идет, и не понимая, что вокруг нее происходит. Каноник, изгоняя ее чуть ли не с проклятием, был охвачен негодованием честного человека, и это придавало его словам необычайную силу. Консуэло и Иосиф ни разу не видели его таким. Привычка считать себя авторитетом, никогда не покидающая священника, и манера держаться по-королевски повелительно, в известной мере унаследованная им и выдававшая в нем в эту минуту побочного сына Августа II, сообщали канонику, – о чем он, быть может, даже и не подозревал, – какое-то непередаваемое величие. Корилла, не привыкшая к тому, чтобы мужчина с подобным спокойствием говорил ей суровую правду, почувствовала такой страх, какого не внушал ей еще ни один взбешенный любовник своими оскорблениями, полными мести и презрения. Суеверная итальянка, она и в самом деле испугалась этого духовного лица и его анафемы; как безумная пустилась она бежать через сад, а каноник, утомленный усилием, столь несвойственным его веселому и доброму нраву, опустился на стул, бледный, едва дыша.
Бросившись ему на помощь, Консуэло невольно продолжала следить взглядом за злосчастной Кориллой, удалявшейся поспешной, неверной походкой. Она видела, как Корилла в конце аллеи споткнулась и упала на траву, то ли оступившись, то ли оттого, что не имела уже сил держаться на ногах. Добрая девушка считала, что актриса получила более суровый урок, чем у нее самой хватило бы сил ей дать; оставив каноника на попечении Иосифа, Консуэло побежала к своей сопернице, бившейся в жестоком нервном припадке. Не в силах успокоить Кориллу и не смея привести ее обратно в приорию, она старалась удержать ее, чтобы та не каталась по земле и не обдирала себе руки о песок. Несколько минут Корилла была как сумасшедшая. Но когда она увидела, кто оказывает ей помощь и старается ее утешить, она вдруг успокоилась и только мертвенно побледнела. Сжав губы, устремив в землю потухший взор, она хранила упорное молчание. Однако она позволила проводить себя до экипажа, ждавшего ее у ворот, и, не проронив ни единого слова, села в него, поддерживаемая своей соперницей.
– Вы очень плохо себя чувствуете? – спросила Консуэло, испуганная ее ужасным видом. – Дайте я провожу вас часть пути, потом вернусь обратно пешком.
Вместо всякого ответа Корилла грубо оттолкнула девушку, потом секунду как-то загадочно смотрела на нее и, вдруг зарыдав, закрыла лицо рукой, а другой махнула кучеру, чтобы он ехал; сама же, не желая видеть своего великодушного врага, спустила штору.
На следующий день, к началу последней репетиции «Антигона», Консуэло была на своем посту и ожидала Кориллу. Примадонна приказала передать через своего слугу, что опоздает на полчаса. Кафариэлло послал ее ко всем чертям и, объявив, что не намерен зависеть от такой дуры и не станет ее ждать, притворился, будто собирается уйти. Г-жа Тези, бледная и больная, пожелала присутствовать на репетиции, чтобы позабавиться над Кориллой. Она велела принести себе диван и улеглась на него за первой кулисой, изображавшей подобранный занавес, что на театральном жаргоне зовется «плащом арлекина». Тези стала успокаивать своего друга и сама решила упорно ждать Кориллу, уверенная, что та медлит, желая избежать ее критики. Наконец появилась Корилла, более бледная и изможденная, чем даже г-жа Тези, и та, увидев ее в таком состоянии, порозовела и приободрилась. Вместо того чтобы, как обычно, сбросить с себя накидку и шляпу с величественной развязностью, Корилла в изнеможении опустилась на деревянный позолоченный трон, забытый в глубине сцены, и угасающим голосом обратилась к Гольцбауэру:
– Господин директор, заявляю вам, что я страшно больна, совсем без голоса и провела ужасную ночь…
– С кем? – томно спросила Тези у Кафариэлло.
– И поэтому, – продолжала Корилла, – я совершенно не в состоянии репетировать сегодня и петь завтра, разве только снова возьму роль Исмены, а роль Береники вы дадите другой.
– Да думаете ли вы о том, что говорите, сударыня? – воскликнул Гольцбауэр, словно громом пораженный. – Можно ли накануне спектакля, назначенного самим двором на определенный час, представлять какие-либо отговорки? Это немыслимо, и я ни в коем случае не могу на это согласиться.
– А все-таки вам придется с этим согласиться, – возразила Корилла уже своим обычным, далеко не кротким голосом. – Я приглашена на вторые роли, и в моем контракте нет пункта, обязывающего меня исполнять первые. Только любезность заставила меня заменить госпожу Тези, чтобы не прерывать развлечений двора. Я слишком плохо себя чувствую и не могу сдержать свое обещание, а насильно петь вы меня не заставите.
– Милая моя, тебя заставят петь приказом, – вмешался Кафариэлло, – и ты споешь плохо, как мы и предвидели. Это небольшое несчастье прибавится ко всем тем, которые тебе привелось по своему желанию переносить в жизни. Но раскаиваться поздно. Надо было думать раньше. Слишком ты понадеялась на свои силы. Ты провалишься; но нам-то всем какое до этого дело! Я спою так, что забудут о самом существовании роли Береники. Порпорина также своей маленькой ролью Исмены вознаградит публику, и все будут довольны, за исключением тебя. Это послужит тебе уроком, которым ты, не знаю уж, воспользуешься или не воспользуешься в следующий раз.
– Вы очень ошибаетесь насчет причины моего отказа, – уверенным тоном ответила Корилла. – Не будь я больна, вероятно, я спела бы свою партию не хуже кого угодно. Но так как я не в состоянии петь, то споет ее некто, способный петь гораздо лучше, чем кто-либо из выступавших до сих пор в Вене, и это произойдет не позже завтрашнего дня. Таким образом, спектакль состоится в свое время, а я с удовольствием снова буду исполнять партию Исмены: она меня не утомляет.
– Вы, стало быть, рассчитываете, – сказал удивленный Гольцбауэр, что госпожа Тези настолько поправится к завтрашнему дню, что будет в состоянии спеть свою партию?
– Я прекрасно знаю, что госпожа Тези еще долго не сможет петь, – проговорила Корилла так громко, что с трона, где она восседала, ее могла слышать Тези, возлежавшая на диване в десяти шагах от нее. – Смотрите, как она изменилась: на нее просто страшно смотреть! Но я сказала, что у вас есть великолепная Береника, несравненная, превосходящая всех нас. Вот она! – прибавила Корилла, поднимаясь, и, взяв за руку Консуэло, вывела ее на самую середину встревоженной взволнованной группы, образовавшейся вокруг певицы.
– Я? – воскликнула Консуэло, которой казалось, что она видит сон.
– Ты! – закричала Корилла, судорожным движением толкая ее к трону.
– Вот ты и царица, Порпорина! Вот ты и на первом месте! И я возвожу тебя на него. Я! Это был мой долг по отношению к тебе. Помни это!
Гольцбауэр, в полном отчаянии, рискуя не выполнить своей обязанности и, быть может, даже лишиться места директора, не мог отвергнуть эту неожиданную помощь. Он прекрасно видел по тому, как Консуэло провела роль Исмены, что она будет на высоте и в партии Береники. Несмотря на отвращение к Консуэло и к Порпоре, в данную минуту он мог бояться только одного: что юная певица не согласится взять на себя эту роль.
И она действительно очень настойчиво от нее отказывалась. Дружески пожимая руку Кориллы, она шепотом умоляла актрису не приносить ей жертвы, так мало нужной ее самолюбию, но являвшейся, с точки зрения ее соперницы, самым ужасным из всех искуплений, самым страшным самоунижением, к какому та могла себя принудить. Корилла осталась непреклонной в своем решении.
Госпожа Тези, испуганная грозящим ей серьезным соперничеством, очень хотела попробовать голос и снова взяться за свою роль, хотя бы даже с риском для жизни, ибо она была не на шутку больна, но не решилась на это: тогда на императорской сцене не разрешались капризы, с которыми теперь так терпеливо мирится добродушный владыка нашего времени – публика. Двор ожидал увидеть нечто новое в роли Береники: ему об этом было доложено, и императрица на это рассчитывала.
– Ну, соглашайся! – сказал Кафариэлло Порпорине. – Это первый умный поступок Кориллы за всю ее жизнь; воспользуемся же им!
– Но я роли не знаю, я не проходила ее, – говорила Консуэло, – не смогу же я выучить ее к завтрашнему дню.
– Ты слышала ее, следовательно, знаешь и завтра споешь, – проговорил, наконец, громовым голосом Порпора. – Ну, нечего гримасничать, и пусть эти споры прекратятся! Больше часа мы потеряли на болтовню. Господин дирижер, прикажите скрипкам начинать. А ты, Береника, марш на сцену! Не нужно нот, долой ноты! Кто был на трех репетициях, должен знать все роли на память. Говорю тебе: роль ты знаешь.
No, tutto, о Berenice, Tu non apri il tuo cor… пела Корилла, снова став Исменой.
«А теперь, – подумала эта женщина, судившая о тщеславии Консуэло по своему собственному, – она и думать забудет о моих делишках».
Консуэло, чья феноменальная память и необычайная легкость усвоения были прекрасно известны Порпоре, действительно спела свою партию без единой запинки в мелодии или в тексте. Г-жа Тези была так поражена ее игрой и пением, что почувствовала себя гораздо хуже и после первого же действия приказала отвезти себя домой.
На следующий день Консуэло нужно было к пяти часам приготовить себе костюм, пройти наиболее серьезные места своей роли и вообще внимательно повторить всю партию. Успех она имела такой, что императрица, выходя из театра, сказала:
– Что за чудесная девушка! Надо непременно выдать ее замуж; я позабочусь об этом.
Со следующего же дня начали репетировать «Зенобию» на текст Метастазио и музыку Предиери. Корилла опять настояла на том, чтобы Консуэло исполняла главную роль. Вторую роль на этот раз взяла на себя г-жа Гольцбауэр, и так как она была музыкальнее Кориллы, то оперу разучили лучше, чем первую. Метастазио был в восторге, видя, что его лира, заброшенная и забытая во время войны, снова входит в милость при дворе и производит фурор в Вене. Он почти перестал думать о своих хворях и, побуждаемый благосклонностью Марии-Терезии и своим долгом писателя творить новые лирические драмы, готовился, изучая греческие трагедии и латинских классиков, к созданию одного из тех шедевров, которые итальянцы в Вене, а немцы в Италии бесцеремонно ставили выше трагедий Корнеля, Расина, Шекспира, Кальдерона, – словом, говоря откровенно и без ложного стыда, – превыше всего.
Но мы не станем больше злоупотреблять в нашем рассказе – и без того достаточно длинном и перегруженном подробностями – давно уже истощившимся, быть может, терпением читателя и делиться с ним своими мыслями относительно гениальности Метастазио. Читателю это мало интересно. Мы только сообщим ему, что Консуэло втихомолку говорила по этому поводу Иосифу:
– Милый мой Беппо, ты не можешь себе представить, до чего мне трудно играть эти роли, считающиеся такими возвышенными, такими трогательными! Правда, рифмы хороши и петь их легко, но что касается персонажей, произносящих все это, то не знаешь, где взять, уж не говорю, подъема, а просто сил удержаться от смеха, изображая их. До чего же нелепо получается, когда, следуя традиции, мы пытаемся передать античный мир средствами современности: выводятся на сцену интриги, страсти, понятия о нравственности, которые, пожалуй, были бы очень уместны в мемуарах маркграфини Байрейтской, барона Тренка, принцессы Кульмбахской, но в устах Радамиста, Береники или Арсинои являются просто нелепой бессмыслицей. Когда, поправляясь после болезни, я жила в замке Великанов, граф Альберт часто читал мне вслух, чтобы усыпить меня, но я не спала и слушала затаив дыхание. Читал он греческие трагедии Софокла, Эсхила и Эврипида, читал их по-испански, медленно, но ясно, без запинки, несмотря на то, что тут же переводил их с греческого текста. Он так хорошо знает древние и новые языки, что казалось, будто он читает чудесно сделанный перевод. По его словам, он стремился переводить как можно ближе к подлиннику, чтобы в его добросовестной передаче я могла постичь гениальные произведения греков во всей их простоте. Боже! Какое величие! Какие картины! Сколько поэзии! Какое чувство меры! Какого исполинского размаха люди! Какие характеры, целомудренные и могучие! Какие сильные ситуации! Какие глубокие, истинные горести! Какие душераздирающие и страшные картины проходили перед моими глазами! Еще слабая, возбужденная сильными переживаниями, вызвавшими мою болезнь, я была так взволнована его чтением, что воображала себя то Антигоной, то Клитемнестрой, то Медеей, то Электрой, воображала, что переживаю эти кровавые мстительные драмы не на сцене, при свете рампы, а в ужасающем одиночестве, у входа в зияющие пещеры или при слабом свете жертвенников, среди колоннад античных храмов, где оплакивали мертвых, составляя заговоры против живых. Я слышала жалобные хоры троянок и пленниц Дардании. Эвмениды плясали вокруг меня… что за странный ритм! Какие адские песнопения! Воспоминание об этих плясках еще и теперь вызывает у меня дрожь и наслаждение. Никогда, осуществляя свои мечты, я не буду переживать на сцене тех волнений, не почувствую в себе той мощи, какие бушевали тогда в моем сердце и в моем сознании. Тогда впервые почувствовала я себя трагической актрисой и в голове моей сложились образы, которых не дал мне ни один художник. Тогда я поняла, что такое драма, трагические эффекты, поэзия театра. В то время как Альберт читал, я мысленно импровизировала мелодии и воображала, что произношу все мною слышанное под аккомпанемент. Я несколько раз ловила себя на том, что принимала позы и выражение лица героинь, чьи слова произносил Альберт, и часто, бывало, он останавливался в испуге, думая, что видит перед собой Андромаху или Ариадну. О, поверь, я большему научилась и больше постигла за месяц этого чтения, чем постигну за всю свою жизнь, вызубривая драмы господина Метастазио. И если бы музыка, написанная композиторами, не была преисполнена чувства правды, которое отсутствует в действии, мне кажется, я изнемогла бы от отвращения, изображая великую герцогиню Зенобию, беседующую с ландграфиней Аглаей, и слушая, как фельдмаршал Радамист ссорится с венгерским корнетом Зопиром. О, как все это фальшиво, чудовищно фальшиво, милый мой Беппо! Фальшиво, как наши костюмы, фальшиво, как белокурый парик Кафариэлло в роли Тиридата, фальшиво, как пеньюар а ля Помпадур на госпоже Гольцбауэр в роли армянской пастушки, как облаченные в розовое трико икры царевича Деметрия, как декорации, которые мы видим вблизи и которые похожи на пейзажи Азии не больше, чем аббат Метастазио на старца Гомера.
– Теперь я понимаю, – отвечал Гайдн, – почему сочинение ораторий навевает на меня больше вдохновения и надежды на успех, чем создание оперы, хотя я и чувствую потребность писать для театра, если вообще решусь когда-нибудь на это. Мне кажется, что композитор может развернуться во всем блеске своего таланта и увлечь воображение слушателей в высшие сферы музыки только в симфонии, где ему не мешают дешевые и обманчивые эффекты сцены, где душа говорит с душой и музыкальные образы воспринимаются не зрительно, а слухом.
Беседуя так в ожидании, пока все соберутся на репетицию, Иосиф и Консуэло ходили рядышком вдоль большой декорации заднего плана, изображавшей в тот вечер реку Араке; на самом деле то был огромный кусок полотна синего цвета, натянутый между двумя другими большими полотнами, размалеванными желтыми пятнами и представлявшими собой якобы Кавказские горы. Известно, что эти декорации заднего плана, приготовленные для спектакля, помещаются друг за другом таким образом, чтобы по мере надобности их можно было поднять с помощью блока. В проходах, отделяющих их одну от другой, во время представления снуют актеры, дремлют или обмениваются понюшками табаку статисты, сидя или лежа в пыли, под медленно стекающими из плохо заправленных кенкеток каплями деревянного масла. Днем по этим темным, узким проходам прогуливаются актеры, повторяя роли или разговаривая друг с другом о своих делах. Подчас они подслушивают чужие секреты, перехватывают сложные интриги, пользуясь тем, что говорящие не видят их из-за какого-нибудь морского залива или городской площади. По счастью, Метастазио не стоял на другом берегу Аракса в то время, когда неопытная Консуэло изливала Гайдну свое негодование артистки.
Репетиция началась. Это была вторая репетиция «Зенобии», и она шла так хорошо, что оркестранты даже аплодировали, ударяя, как обычно, смычками по своим скрипкам. Музыка Предиери была очаровательна, и Порпора дирижировал с гораздо большим подъемом, чем оперой Гассе. Роль Тиридата была одной из коронных ролей Кафариэлло, и он не находил ничего предосудительного в том, что, нарядив его в одежду сурового парфянского воина, его заставили ворковать, как Селадон, и говорить, как Клитандр. Консуэло хотя и чувствовала, что ее роль фальшива и напыщенна для античной героини, но по крайней мере самый характер изображаемого ею персонажа был ей по душе. Она даже находила в переживаниях своей героини сходство с душевным состоянием, которое испытала сама, когда очутилась между Альбертом и Андзолето. И, позабыв о необходимости передавать то, что мы называем теперь «местным колоритом», Консуэло жила только общечеловеческими чувствами и превзошла самое себя в арии, столь созвучной ее личным переживаниям:
Voi leggete in ogni core;
Voi sapete, о giusti Dei,
Se son puri i vod miei,
Se innocente е la pieta [21]
В это мгновение ее охватил настоящий душевный трепет, и она сознавала, что триумф ею заслужен. Она уже не нуждалась в поощрении Кафариэлло, а певец, над которым на этот раз не тяготело присутствие Тези, искренне восхищался Консуэло; теперь она была уверена в себе, уверена, что произвела неотразимое впечатление на публику своим исполнением и что способна произвести такое впечатление при любых обстоятельствах и при любых слушателях. Она совершенно примирилась со своей ролью, с оперой, с товарищами, с самой собой – одним словом, примирилась с театром. И, несмотря на то, что за час до этого проклинала свое положение, она почувствовала такое глубокое, такое внезапное и могучее вдохновение, что только артист в состоянии понять, сколько веков труда, разочарований и страданий может оно искупить в один миг.
Глава 95
В качестве ученика, да к тому же полуслуги Порпоры, Гайдн, жаждавший слушать музыку и изучать самую технику композиции опер, получил позволение бывать за кулисами, когда пела Консуэло. Уже два дня он замечал, что Порпора, сначала недоброжелательно относившийся к его присутствию в театре, теперь разрешал ему с добродушным видом находиться там, даже прежде, чем он успевал раскрыть рот и попросить об этом. Дело в том, что в голове профессора возникла новая идея. Мария-Терезия, разговаривая о музыке с венецианским посланником, снова вернулась к своей матримониальной мании, как выражалась Консуэло. Ее величество сказала, что ей было бы очень приятно, если бы талантливая артистка обосновалась в Вене, выйдя замуж за молодого музыканта, ученика Порпоры. Сведения о Гайдне она почерпнула от того же посланника; и так как Корнер очень хвалил юношу, говоря, что у него громадные музыкальные способности, а главное – что он усердный католик, ее величество поручила своему собеседнику устроить этот брак, обещая прилично обеспечить юную пару. Мысль эта улыбалась г-ну Корнеру: он нежно любил Иосифа и уже давал ему ежемесячно семьдесят два франка, чтобы юный музыкант мог спокойно продолжать занятия. Корнер горячо ратовал за него перед Порпорой, и старик, боясь, как бы Консуэло не настояла на своем – не оставила бы сцену, выйдя замуж за дворянина, – наконец после долгих колебаний и упорного сопротивления дал себя убедить (ибо, конечно, маэстро предпочел бы, чтобы его ученица жила, не зная ни брака, ни любви). Желая во что бы то ни стало добиться своей цели, посланник решил показать Порпоре произведения Гайдна и открыл ему, что серенада для трио, понравившаяся маэстро, сочинена Беппо. Порпора признал, что это произведение говорит о большом таланте, что он мог бы дать юному композитору хорошее направление, а также помочь ему писать для голоса и что, наконец, будущность певицы, вышедшей замуж за композитора, имеет все основания сложиться весьма удачно. Чрезвычайная молодость этой пары и скудные средства вынудят их работать, не питая при этом никаких тщеславных надежд, и таким образом Консуэло будет прикована к театру. И маэстро сдался. Он, как и Консуэло, не получал ответа из замка Великанов. Он боялся, что это молчание как-нибудь помешает его планам, а также опасался какой-либо выходки молодого графа. «Если бы мне удалось даже не выдать замуж, а только обручить ее с другим, – думалось старику, – тогда уже нечего было бы бояться».
Труднее всего было уговорить Консуэло. Убеждать ее – значило бы внушить ей мысль о сопротивлении. Неаполитанская хитрость подсказала маэстро, что сила обстоятельств должна незаметно изменить образ мыслей девушки. Она питала дружбу к Беппо, тогда как Беппо, хотя и победил любовь в своем сердце, относился к Консуэло так пылко, проявлял столько восхищения и преданности, что Порпора легко мог допустить страстную влюбленность юноши. Маэстро решил не вмешиваться в отношения Иосифа с Консуэло, дать юноше возможность добиться взаимности и, сообщив ему в удачный момент планы императрицы и свое собственное согласие, придать смелости его красноречию и жара его убеждениям. Словом, он вдруг перестал грубо обращаться с ним, унижать его и предоставил юным друзьям полную свободу, льстя себя надеждой, что таким образом дела пойдут скорее, чем если бы он вмешался открыто.
Почти не сомневаясь в успехе своей затеи, Порпора сделал большую ошибку: он подверг репутацию Консуэло злословию. Стоило только два раза кряду увидеть за кулисами подле нее Иосифа, чтобы весь театральный люд заговорил о ее нежных отношениях с молодым человеком; бедная Консуэло, доверчивая и неосторожная, как все правдивые и целомудренные души, не предвидела опасности и не подумала оберегать себя. И вот со дня репетиции «Зенобии» все насторожились, развязались языки. За каждой кулисой, за каждой декорацией актеры, хористы и всякого рода служащие обменивались злостными или игривыми, порицающими или благожелательными замечаниями о неприличии зарождающейся интриги или о целомудрии счастливой помолвки.
Консуэло вся ушла в свою роль, в свои артистические переживания и ничего не видела, не слышала, не предчувствовала. Мечтательный Иосиф, всецело поглощенный оперой, репетировавшейся на сцене, и той, которую он вынашивал в своей музыкальной душе, иногда, правда, и слышал какие-то мельком брошенные слова, но не понимал их, ибо был слишком далек от каких бы то ни было надежд. Когда к нему мимоходом долетал двусмысленный намек или язвительное замечание, он поднимал голову и оглядывался кругом, ища, к кому это относится, и, не находя никого, глубоко равнодушный к подобного рода злословию, снова погружался в свои думы.
В антрактах оперы часто ставилась какая-нибудь интермедия-буфф, а в тот день репетировали «Антрепренера с Канарских островов» – сценки Метастазио, очень веселые и забавные. Корилла, исполняя в них роль примадонны, требовательной, властной и взбалмошной, была замечательно естественна, и успех, которым она обыкновенно пользовалась в этой остроумной безделке, несколько утешал ее в том, что она пожертвовала большой ролью Зенобии.
Когда репетировали последнюю часть интермедии, Консуэло, ожидая, пока приступят к третьему акту, вся во власти бурных переживаний своей роли, зашла в глубь сцены и очутилась между двух декораций – страшной долиной, «изрезанной горами и пропастями», фигурировавшей в первом акте, и прекрасной рекой Араксом, «окаймленной радующими взор холмами», которая должна была появиться в третьем акте, чтобы дать отдых глазам «чувствительного» зрителя. Консуэло быстро прохаживалась взад и вперед, когда к ней подошел Иосиф и подал веер, оставленный ею на суфлерской будке; она тут же с удовольствием стала им обмахиваться. Влечение сердца, равно как и преднамеренное подстрекательство Порпоры невольно побуждали Иосифа разыскивать свою подругу; Консуэло же, привыкшая относиться к нему с доверием и изливать ему свою душу, неизменно с радостью встречала его. И вот эту взаимную симпатию, которой не стыдились бы и ангелы на небесах, судьба решила превратить в источник бедствий… Мы знаем, что читательницы романов любопытны, спешат узнать самое волнующее и требуют от нас только сердечных перипетий, – умоляем их немного потерпеть.
– Ну, друг мой, – сказал Иосиф, улыбаясь и подавая руку Консуэло, мне кажется, ты уже не так недовольна драмой нашего знаменитого аббата и нашла в мелодии молитвы то открытое окно, через которое гениальный дух, владеющий тобой, вырвался наконец на простор!
– Ты, значит, находишь, что я молитву спела хорошо?
– Разве ты не видишь, как у меня покраснели глаза?
– Ах да! Ты плакал! Это хорошо! Прекрасно! Очень рада, что заставила тебя плакать.
– Точно это впервые. Но, милая Консуэло, ты становишься именно такой актрисой, какой Порпора хочет тебя видеть. Тебя охватила лихорадка успеха. Когда, бывало, ты пела, шагая по тропинкам Богемского Леса, ты видела мои слезы и сама плакала, умиленная красотой своего пения. Теперь другое дело: ты смеешься от счастья и трепещешь от гордости, видя вызываемые тобой слезы. Ну, мужайся, Консуэло! Ты теперь prima donna в полном смысле этого слова!
– Не говори мне этого, друг мой, я никогда не буду такой, как она… – и Консуэло указала жестом на Кориллу, певшую на сцене по ту сторону декорации.
– Не пойми меня дурно, – возразил Иосиф, – я хочу сказать, что тобой овладел бог вдохновения. Напрасно твой холодный рассудок, твоя суровая философия и воспоминание о замке Великанов боролись с духом Пифона. Он проник в тебя и полонил. Признайся, ведь ты задыхаешься от удовольствия. Твоя рука дрожит в моей, твое лицо возбуждено, и я никогда еще не видал у тебя такого взгляда, как в эту минуту. Нет! Когда граф Альберт читал тебе греческие трагедии, ты не была так взволнована, преисполнена такого вдохновения, как сейчас!
– Боже, какую ты причиняешь мне боль! – воскликнула Консуэло, вдруг бледнея и вырывая свою руку из рук Иосифа. – Зачем ты произносишь здесь его имя? Имя это священно и не должно раздаваться в этом храме безумия. Это грозное имя ужасно, как удар грома, оно уносит в ночную тьму все иллюзии и все призраки золотых снов!
– Так вот, Консуэло, сказать тебе? – снова заговорил Иосиф после минутного молчания. – Никогда ты не решишься выйти замуж за этого человека.
– Замолчи! Замолчи! Я обещала ему!..
– Если же ты сдержишь обещание, ты никогда не будешь счастлива с ним. Покинуть театр? Отказаться от артистической карьеры? Упустила момент! Ты только что вкусила такую радость, что воспоминание о ней способно отравить всю твою жизнь.
– Ты меня пугаешь, Беппо. Почему именно сегодня ты говоришь мне подобные вещи?
– Не знаю, я говорю словно помимо своей воли. Твое возбужденное состояние действует на мой мозг, и мне кажется, что, вернувшись домой, я напишу нечто великое. Пусть даже не великое, все равно! Но в эти минуты я чувствую себя гениальным…
– Как ты весел и спокоен, а я от твоих слов, опьяненная гордостью и счастьем, испытываю острую муку, и мне одновременно хочется и смеяться и плакать.
– Ты страдаешь, в этом я уверен, ты и должна страдать. В тот момент, когда проявляется твоя сила, мрачные мысли охватывают и леденят тебя.
– Да, правда. Что же это значит?
– Это значит, что ты артистка, а взяла на себя какой-то долг, жестокое обязательство, противное богу и тебе самой, – отказаться от искусства!
– Вчера еще мне казалось, что это не так, а сегодня я согласна с тобой. Но у меня расстроены нервы, такие волнения ужасны и гибельны. Я всегда отрицала влияние нервов и их власть, всегда выходила на сцену, сохраняя спокойствие, внимание и скромность. Сегодня я собой не владею, и если бы в эту минуту мне надо было играть, я была бы способна и на гениальные безумства и на жалкие сумасбродства. Узда моей воли вырывается из моих рук. Надеюсь, завтра я буду иною, ведь это волнение имеет что-то общее с бредом и агонией.
– Бедный друг, боюсь, что отныне всегда будет так, или, вернее, надеюсь на это, ибо ты будешь действительно великой только в огне такого волнения. Я слышал от всех музыкантов, от всех актеров, с которыми мне приходилось встречаться, что без этого бредового состояния или этого смятения они ни на что не способны, и вместо того чтобы с годами успокоиться, привыкнуть, они при каждом проявлении своей гениальности делаются все более и более впечатлительными, все более и более возбужденными.
– Это великая тайна, – проговорила, вздыхая, Консуэло. – Не думаю, чтобы тщеславие, зависть, низкая жажда успеха могли овладеть мной так внезапно и в один день перевернуть все во мне вверх дном. Нет, уверяю тебя, когда я пела молитву Зенобии и дуэт с Тиридатом, где страсть и мощь Кафариэлло захватывали меня, как ураган, я забыла и о публике, и о соперниках, и о себе самой – я была Зенобией, я думала о бессмертных богах Олимпа с чисто христианским жаром и пылала любовью к этому самому добряку Кафариэлло, на которого, после того как опустится занавес, я не могу смотреть без смеха. Все это очень странно, и я начинаю думать, что драматическое искусство – вечная ложь, и бог в наказание присылает на нас безумие, побуждающее верить в искусство и считать, что мы делаем высокое дело, вызывая иллюзии и в других. Нет, непозволительно человеку злоупотреблять всеми страстями и волнениями действительной жизни, превращая их в игру! Богу угодно, чтобы мы сохраняли нашу душу здоровой и сильной для настоящей любви, для полезных дел, а когда мы ложно понимаем его волю, он карает нас безумием.
– Бог! Бог! Воля божья! Вот где тайна, Консуэло! Кто может постичь его намерения относительно нас? Разве вложил бы он в нас с колыбели потребность, непреодолимое влечение к определенному искусству, если бы запрещал нам служить тому, к чему мы призваны? Почему с детства не любил я играть со своими сверстниками? Почему, как только был предоставлен самому себе, я стал заниматься музыкой с такой страстью, что ничто не могло меня оторвать от нее, с такой усидчивостью, какая убила бы другого ребенка моих лет? Отдых меня утомлял, труд вливал в меня жизненные силы. То же было и с тобой, Консуэло. Ты мне сто раз говорила об этом; когда один из нас передавал другому историю своей жизни, казалось, что он слышит рассказ о себе самом. Поверь, во всем рука божья, и всякая сила, всякое призвание к чему-либо есть воля господа, даже если нам неясна его цель. Ты родилась артисткой; кто помешает тебе – убьет тебя или сделает жизнь твою хуже смерти.
– Ах, Беппо! – воскликнула Консуэло, смущенная и почти растерянная. Я знаю, что бы ты сделал, будь ты действительно моим другом!
– Что же я должен был бы сделать, дорогая Консуэло? Разве моя жизнь не принадлежит тебе?
– Ты должен был бы убить меня завтра же, как только опустится занавес, и я в первый и последний раз в своей жизни проявлю себя истинной и вдохновенной артисткой!
– Ах! Я предпочел бы убить твоего графа Альберта или себя, – с грустной улыбкой промолвил Иосиф.
В эту минуту Консуэло подняла глаза на стоявшие перед нею кулисы и окинула их озабоченно-печальным взглядом. Внутренность театра днем настолько не похожа на ту, какою она кажется издали при вечернем освещении, что тот, кто не видел ее, даже не может себе этого представить. Нет ничего грустнее, мрачнее и страшнее этого пустынного зала, погруженного во мрак и тишину. Появись в одной из театральных лож, закрытых, словно могилы, какая-нибудь человеческая фигура, она показалась бы привидением, и самый бесстрашный актер попятился бы от ужаса. Слабый, тусклый свет, падающий сверху из слуховых окон в глубине сцены, косо стелется по лесам, сероватым лохмотьям, пыльным подмосткам. На сцене глаз, лишенный перспективы, не может привыкнуть к тесноте помещения, где должно действовать столько людей, столько страстей, изображая величественные движения, внушительные массовые сборища, необузданные порывы; такими они будут казаться зрителям, а на самом деле они заучены, точно размерены, чтобы не запутаться, не смешаться, не наткнуться на декорации. Но если сцена кажется маленькой и жалкой, то, наоборот, высота помещения, отведенного для стольких декораций и машин, кажется громадной, когда она освобождена от всех этих полотен, изображающих облака, архитектурные карнизы или зеленые ветви, скрывающие от зрителя подлинную высоту помещения. Эта высота, действительно несоразмерная, заключает в себе нечто суровое, и если, попав на сцену, нам кажется, что мы в темнице, то, глядя наверх, мы думаем, будто очутились в готическом храме, но в храме разрушенном или недостроенном – так все там тускло, бесформенно, причудливо, нескладно… Лестницы, необходимые механику, висят без всякой симметрии, переплетаясь по прихоти случая и протягиваясь без видимой причины к другим лестницам, которых не различишь среди всяких бесцветных мелочей. Груды досок, неизвестного назначения декорации, с изнанки кажущиеся бессмысленно размалеванными, веревки, свитые точно иероглифы, обломки, которым названия не подберешь, блоки и колеса, словно предназначенные для каких-то неведомых пыток, – все вместе взятое напоминает сны, которые снятся перед пробуждением, когда видишь какие-то несуразности и делаешь напряженные усилия понять, где находишься. Все туманно, все расплывчато, все, кажется, готово рассеяться. Вот виден человек, спокойно работающий на балках, и кажется, что он повис на паутине. Его можно принять и за моряка, карабкающегося по снастям корабля, и за гигантскую крысу, подтачивающую и грызущую прогнившие срубы. Слышны слова, доносящиеся неизвестно откуда. Они произносятся в восьмидесяти футах над вами, и необычная звучность эха, притаившегося во всех углах этого фантастического купола, доносит их до вашего уха отчетливо или неясно, смотря по тому, сделаете ли вы шаг вперед или шаг в сторону, отчего меняются акустические условия. Ужасающий шум, за которым следует продолжительный свист, внезапно потрясает подмостки. Что это? Рушатся своды? Трещит и падает хрупкий балкон, погребая под своими обломками бедных рабочих? Нет, это чихнул пожарный или кошка бросилась в погоню за добычей через пропасти этого висячего лабиринта. Пока вы не привыкнете ко всем этим предметам и ко всем этим шумам, вам страшно: вы не знаете, в чем дело, не знаете, против каких невероятных призраков вам нужно вооружиться самообладанием. Вы ничего не понимаете, а то, чего нельзя распознать глазом или сознанием, то, что неопределенно и неизвестно, приводит в смятение логику чувств. Попав в первый раз в подобный хаос, благоразумнее всего представить себе, что вас ожидает какой-то безумный шабаш в таинственной лаборатории алхимика Почти невозможно передать словами тайны, которые художник наглядно живописует своею кистью и представляет нашему взору. Созерцая картины внутренней жизни в созданиях Рембрандта, Тенирса, Герарда Доу, самый заурядный зритель вспомнит и сам какую-нибудь картину из действительной жизни, никогда, однако, не производившую на него поэтического впечатления. Для того чтобы воспринять поэтически эту реальность и мысленно превратить ее в картину Рембрандта, надо обладать тем даром чувства живописного, которое свойственно лишь немногим человеческим организмам. Но чтобы словесным описанием создать эту картину в чужом воображении, нужно обладать такою силой таланта, что, должно признаться, я поддаюсь в данном случае своей фантазии без всякой надежды на успех. Даже гению, одаренному такой силой и притом высказывающемуся в стихах (попытка еще более удивительная), это не всегда удается. Я сомневаюсь, чтобы в наш век какой-либо писатель-художник мог достичь хотя бы приблизительно таких результатов. Перечитайте стихотворение под названием «Индийские колодцы» – это гениальное произведение или плод разыгравшейся фантазии, в зависимости от того, связывают ли вас с поэтом узы симпатии или нет. Что касается меня, то при первом чтении оно меня возмутило. Беспорядочность и разгул фантазии в описании претили мне. Но после прочтения в мозгу моем упорно держались картины этих колодцев, подземелий, лестниц и пропастей, куда меня завел поэт. Все это продолжало грезиться мне и во сне и наяву: не было сил вырваться оттуда, словно я был заживо погребен. Я испытывал такое угнетение, что мне страшно было перечитать эти стихи – из боязни обнаружить небезупречного писателя в столь великом живописце и поэте. Между тем в моей памяти долго сохранялись последние восемь строф, которые во все времена и для всякого вкуса будут иметь глубокий, возвышенный и безупречный смысл, независимо от того, будем ли мы воспринимать их сердцем, слухом или умом. (Прим. автора.).
Взгляд Консуэло рассеянно бродил по странному сооружению, и впервые в этом беспорядке она обнаружила поэзию. В обоих концах прохода, образованного задними декорациями, помещались глубокие черные кулисы, где от времени до времени, словно тени, проскальзывали какие-то человеческие фигуры. Вдруг она увидела, что одна из этих фигур остановилась, словно в ожидании, и, как ей показалось, поманила ее.
– Это Порпора? – спросила она Иосифа.
– Нет, – ответил тот, – это, наверно, кто-нибудь пришел предупредить тебя, что начинают репетировать третий акт.
Консуэло прибавила шагу, направляясь к человеку, чье лицо она не могла разглядеть, так как он отступил к стене. Но когда она была в трех шагах от него и собиралась было обратиться к нему с вопросом, он быстро проскользнул мимо соседних кулис в глубь сцены, за задние декорации.
– Кто-то, по-видимому, следил за нами, – сказал Иосиф.
– И, по-видимому, сбежал, – добавила Консуэло, пораженная поспешностью, с какою этот человек скрылся. – Не знаю почему, но он испугал меня.
Консуэло вернулась на сцену и прорепетировала последний акт; к концу ее снова охватило прежнее восторженное вдохновение. Уже собравшись уходить, она захотела надеть накидку, но, ослепленная внезапным потоком света, – над ее головой внезапно открыли слуховое окно, и косой луч заходящего солнца упал прямо перед нею, – не смогла сразу найти накидку. Из-за внезапного перехода от окружавшего ее мрака к свету она в первую минуту ничего не видела и два-три шага сделала наугад, как вдруг очутилась возле того самого человека в черном плаще, который напугал ее за кулисами. Видела она его неясно, но ей показалось, что она узнает его. С криком бросилась она к нему, но он уже исчез, и она напрасно искала его глазами.
– Что с тобой? – спросил Иосиф, подавая ей накидку. – Ты наткнулась на какую-нибудь декорацию?
Ушиблась?
– Нет, – ответила она, – я видела графа Альберта.
– Графа Альберта? Здесь? Ты в этом уверена? Возможно ли?
– Это возможно! Это несомненно! – воскликнула Консуэло, увлекая его за собой.
И она осмотрела все кулисы, обежав их бегом и не пропустив ни единого уголка. Иосиф помогал ей в поисках, уверенный, однако, что она ошиблась. А в это время Порпора с нетерпением звал ее, чтобы отвезти домой. Консуэло не нашла никого, кто хоть сколько-нибудь напоминал бы Альберта. Когда же, выйдя наконец из театра со своим учителем, она увидела всех, кто одновременно с нею был на сцене, то заметила несколько плащей, довольно похожих на тот, который поразил ее.
– Все равно, – шепотом сказала она Иосифу, указавшему ей на это, – я его видела, он был здесь.
– Просто у тебя была галлюцинация, – возразил Иосиф. – Будь то на самом деле граф Альберт, он заговорил бы с тобой, а ты уверяешь, что этот человек два раза убегал при твоем приближении.
– Я не говорю, что это действительно он, но я его видела и теперь думаю, как ты, – то было видение. Должно быть, с ним случилось какое-нибудь несчастье. О! Как бы мне хотелось сейчас же уехать, бежать в Богемию! Я уверена, что он в опасности, он зовет меня, он меня ждет!
– Вижу, бедная моя Консуэло, что, помимо всего прочего, он еще наградил тебя своим безумием. Твое возбужденное состояние во время репетиции предрасположило тебя к таким видениям. Опомнись, умоляю тебя, и будь уверена: если граф Альберт в Вене, он еще сегодня, живехонький, прибежит к тебе.
Надежда ободрила Консуэло. Она ускорила шаг, увлекая за собой Беппо и оставив позади старого Порпору; маэстро на этот раз ничего не имел против того, что она забыла о нем и занялась разговором с юношей. Но Консуэло так же мало думала об Иосифе, как и о маэстро. Она бежала, вся запыхавшись, добралась до дома, тотчас же поднялась в свою комнату и никого не нашла. Иосиф справился у прислуги, не спрашивал ли кто Консуэло в ее отсутствие. Никого не было и никто не пришел: Консуэло напрасно прождала целый день. Вечером и до самой поздней ночи она разглядывала всех запоздалых прохожих, проходивших по улице. Ей все казалось, что кто-то направляется к ее двери и останавливается. Но все проходили мимо, один распевая, другой по-стариковски кашляя, и терялись во мраке.
Консуэло легла спать, убежденная в том, что ей просто привиделось. На следующее утро, успокоившись, она призналась Иосифу, что в сущности не рассмотрела ни одной черты лица человека, о котором шла речь. Общее впечатление от фигуры, покрой плаща и манера его носить, бледность, чернота на подбородке – это могло быть и бородой и падавшей от шляпы тенью, сгущенной благодаря странному освещению театра, – все это смутно напоминало Альберта, и Консуэло, обладавшая пылким воображением, убедила себя, будто видела молодого графа.
– Если бы мужчина, какого ты мне не раз описывала, очутился в театре, – сказал Иосиф, – его небрежная одежда, длинная борода, черные волосы не могли бы не привлечь внимания повсюду снующих людей. А я всех расспрашивал, не исключая и швейцаров театра, которые не пропускают за кулисы ни единого человека, не известного им лично или не имеющего на это разрешения. Но никто в тот вечер не видел за кулисами никого постороннего.
– Ну, тогда мне, очевидно, показалось. Я была взволнована, вне себя, думала об Альберте и ясно себе его представила. Кто-то появился передо мной, и я вообразила, будто это Альберт. Неужели моя голова так ослабела? Несомненно, крик вырвался у меня из глубины сердца, и со мной произошло нечто весьма необычайное и очень нелепое.
– Забудь об этом, – посоветовал Иосиф, – не утомляй себя пустыми мечтами. Повторяй свою роль и думай о завтрашнем дне.
Глава 96
Днем Консуэло увидела из своих окон весьма необычную группу людей, направлявшихся к площади. То были коренастые, здоровенные, загорелые люди, с длинными усами, с голыми ногами, обутыми в подобие античных котурн с перекрещивающимися ремнями, в остроконечных шапках, с четырьмя пистолетами за поясом, с обнаженными руками и шеей, с длинным албанским карабином в руках; на них были накинуты широкие красные плащи.
– Это что, маскарад? – спросила Консуэло навестившего ее каноника. Но у нас ведь не масленица, насколько мне известно.
– Насмотритесь на них хорошенько, – ответил каноник, – ибо нам с вами не скоро придется увидеть их снова, если богу будет угодно продлить царствование Марии-Терезии. Поглядите, с каким любопытством, хотя и не без примеси отвращения и страха, рассматривает их народ. Вена видела, как они стекались сюда в тяжкие и горестные для нее дни, и тогда она встречала их более радостно, чем сегодня; теперь она смущена и пристыжена тем, что обязана им своим спасением.
– Это не те ли словенские разбойники, о которых мне так много рассказывали в Богемии, где они натворили столько бед? – спросила Консуэло.
– Да, они самые, – ответил каноник, – это остатки тех шаек рабов и кроатских разбойников, которых знаменитый барон Франц фон Тренк, двоюродный брат вашего друга, барона Фридриха фон Тренка, освободил, или, скорее, поработил с невероятной смелостью и ловкостью, дабы создать из них регулярные войска МарииТерезии. Смотрите, вот он, этот наводящий ужас герой, этот Тренк – Опаленная Пасть, как прозвали его наши солдаты, знаменитый партизан, самый хитрый, самый предприимчивый, самый необходимый в печальные годы войны, величайший хвастун и величайший хищник своего века, – но в то же время самый смелый, самый сильный, самый энергичный, самый сказочно отважный человек новейших времен! Это он, Тренк-грабитель, дикий пастырь кровожадной стаи голодных волков. Франц фон Тренк, почти шести футов роста, был еще выше, чем его прусский кузен. Ярко-красный плащ, застегнутый у шеи рубиновым аграфом, распахиваясь, обнаруживал у него за поясом целый музей турецкого оружия, усыпанного драгоценными камнями. Пистолеты, кривые сабли, кортики – все было тут, чтобы придать ему вид самого ловкого и решительного убийцы. Вместо султана на его шапке красовалось как бы древко маленькой косы и на нем – четыре отточенных лезвия, спускавшиеся почти до лба. Он был страшен. Взрыв бочонка с порохом изуродовал его лицо, придав ему нечто дьявольское. «Нельзя смотреть на него без содрогания», – гласят все мемуары того времени.
– Так вот это чудовище, этот враг человечества! – проговорила Консуэло, с ужасом отводя в сторону глаза. – Богемия долго будет помнить его поход: сожженные, разрушенные города, замученные старики и дети, опозоренные женщины, истощенные контрибуциями деревни, опустошенные поля, уведенные или истребленные стада, повсюду разорение, отчаяние, убийство и пожар… Бедная Богемия! Вечное поле брани, театр самых разных трагедий!
– Да, бедная Богемия! Жертва всяких неистовств, арена всяких битв, – добавил каноник. – Франц фон Тренк возобновил в ней свирепые насилия времен Яна Жижки. Непобедимый, как и Жижка, он никому не давал пощады. И страх перед его именем был так велик, что его авангарды брали приступом города в то время, когда он сам находился еще в четырех милях от них, в схватке с другими врагами. Про него можно сказать, как говорили про Атиллу: «Трава уж никогда не вырастает там, где ступил его конь». Побежденные будут проклинать его до четвертого поколения. Франц фон Тренк скрылся вдали, но долго еще Консуэло и каноник видели, как его кроатские гусарывеликаны проходили мимо их окон, ведя под уздцы его великолепных коней в богатых попонах.
– То, что вы видите, может дать вам лишь некоторое представление о его богатстве, – заметил каноник. – Мулы, телеги, нагруженные оружием, картинами, драгоценными камнями, слитками золота и серебра, беспрестанно тянутся по дорогам, ведущим к его имениям в Славонии. Там прячет он сокровища, которых хватило бы на выкуп трех королей. Ест он на золотой посуде, похищенной им у прусского короля в Заарау, причем он едва не похитил и самого короля. Одни уверяют, что он опоздал на четверть часа, а другие – что король был в его руках и дорого заплатил за свою свободу. Подождем! Быть может, Тренк-грабитель уже не долго будет пользоваться такой славой и таким богатством. Говорят, ему грозит уголовный процесс, самые ужасные обвинения тяготеют над его головой, а императрица смертельно боится его; и говорят также, что те из его кроатов, которые не удосужились, как это принято, выйти в отставку, будут зачислены в регулярные войска и зажаты в кулак на прусский манер. Что касается его самого… я довольно печального мнения об ожидающем его при дворе приеме и наградах.
– Ведь пандуры, говорят, спасли австрийскую корону?
– Несомненно. От границ Турции до границ Франции они навели ужас, взяли приступом наиболее упорно защищавшиеся крепости, выиграли самые отчаянные битвы. Всегда первые в атаке, первые у укрепленных мостов, первые у брешей крепостей, они приводили в восхищение наших самых крупных генералов, а врагов обращали в бегство. Французы всюду отступали перед ними, да и сам великий Фридрих, говорят, побледнел, как простой смертный, от их воинственных криков. Нет таких быстрых рек, непроходимых лесов, тинистых болот, отвесных скал, того града пуль и моря пламени, которых не преодолели бы они во всякие часы ночи, в самые суровые времена года. Да! Поистине, скорее они спасли корону Марии-Терезии, чем старая военная тактика всех наших генералов и все хитрости наших дипломатов. – В таком случае их преступления останутся безнаказанными и их грабежи будут санкционированы.
– Наоборот, возможно, они будут чрезмерно наказаны.
– Трудно отделаться от людей, оказавших подобные услуги.
– Простите, – ядовито заметил каноник, – когда больше в них не нуждаются…
– Но разве им не было дозволено производить любые насилия как во владениях империи, так и во владениях союзников?
– Конечно, им все было дозволено, поскольку они были необходимы.
– А теперь?
– А теперь, когда в них нет больше необходимости, им ставят в вину то, что раньше было дозволено.
– А где душевное величие Марии-Терезии?
– Они оскверняли храмы!
– Понимаю, господин каноник: Тренк погиб!
– Тес! Об этом можно говорить только шепотом.
– Видела пандуров? – громко спросил запыхавшийся Иосиф, входя в комнату.
– Без особенного удовольствия, – ответила Консуэло.
– Ну, а ты их не узнала?
– Да я вижу их впервые.
– Нет, Консуэло, не в первый раз ты их видишь. Мы уже встречали их в Богемском Лесу.
– Слава богу, насколько помнится, ни одного из них я не встречала.
– Значит, ты забыла сарай, где мы провели ночь на сене и вдруг заметили человек десять-двенадцать, спавших вокруг нас?
Тут Консуэло вспомнила ночь, проведенную в сарае, и встречу с этими свирепыми людьми, которых она тогда, так же как Иосиф, приняла за контрабандистов. Но иные волнения, которых она не разделяла и о которых даже не догадывалась, запечатлели в памяти Иосифа все обстоятельства той грозовой ночи.
– Так вот, эти мнимые контрабандисты, не заметившие нашего присутствия и покинувшие сарай до рассвета со своими мешками и тяжелыми узлами, и были пандуры, – сказал Иосиф. – У них было такое же оружие, такие же лица, усы и плащи, какие я только что видел; провидение без нашего ведома спасло нас от самой страшной встречи, какая только могла произойти у нас в пути.
– Вне всякого сомнения, – сказал каноник, которому Иосиф не раз рассказывал подробности их путешествия, – эти достойные малые, набив себе карманы, своевольно освободились от службы, как это у них в обычае, и направлялись к границе, предпочитая сделать крюк, чем идти с добычей по имперским владениям, где они всегда рискуют попасться. Но будьте уверены, что не всем им удается благополучно добраться до границы. В продолжение всего пути они не перестают грабить и убивать друг друга, и только сильнейшие из них, нагрузившись добычей товарищей, достигают своих лесов и пещер.
Приближался час представления. Это отвлекло Консуэло от мрачных воспоминаний о пандурах Тренка, и она отправилась в театр. Собственной уборной для одевания у нее не было, – до сих пор г-жа Тези уступала ей свою. Но на этот раз, обозленная успехами Консуэло и уже ставшая ее заклятым врагом, Тези унесла с собой ключ, и примадонна этого вечера была в большом затруднении, не зная, где приютиться. Такие маленькие козни в большом ходу в театре, они раздражают и приводят в волнение соперницу, которой хотят насолить. Она теряет время на розыски уборной, боится не найти ее, – а время идет, и товарищи бросают ей на ходу: «Как! Еще не одета? Сейчас начинают!» Наконец, после бесконечных просьб и бесконечных усилий, раздражении и угроз, она добивается, чтобы открыли какую-нибудь уборную, где нет даже самого необходимого. Хотя костюмерше и заплачено, но костюм или не готов, или плохо сидит. Горничные, помогающие одеваться, к услугам всякой другой, кроме жертвы, обреченной на это маленькое истязание. Колокольчик звенит, бутафор визгливым голосом кричит по коридорам: «Синьоры, синьорины, сейчас начинают!» – страшные слова, которые дебютантка не может слышать без содрогания. Актриса не готова, она торопится, у нее лопаются шнурки, она рвет рукава, криво надевает мантилью, а диадема ее упадет при первом шаге, сделанном на сцене. Вся трепещущая, негодующая, изнервничавшаяся, почти в слезах, она должна появиться с небесной улыбкой на устах. Голос ее должен звучать чисто, громко, уверенно, а тут сжимается горло и сердце готово разорваться… О! Все эти цветы, дождем сыплющиеся на сцену в минуту триумфа, заключают в себе тысячи шипов!
К счастью, Консуэло встретила Кориллу, и та, взяв ее за руку, сказала:
– Идем в мою уборную. Тези надеялась проделать с тобой ту же штуку, какую на первых порах выкинула со мной. Но я помогу тебе хотя бы для того, чтобы ее взбесить. По крайней мере отомщу ей. А ты, Порпорина, ты так идешь в гору, что я рискую оказаться побежденной всюду, где буду иметь несчастье встретиться с тобой. Ты тогда, конечно, забудешь, как я веду себя теперь, а будешь помнить лишь то зло, которое я тебе сделала. – Зло? Да какое же зло вы мне сделали, Корилла? – переспросила Консуэло, входя в уборную своей соперницы и начиная одеваться за ширмой, в то время как немецкие горничные хлопотали вокруг обеих артисток, которые без опаски могли говорить между собой по-венециански. – Право, уж не знаю, какое зло вы мне сделали, что-то не помню.
– Уже одно то, что ты говоришь мне «вы», словно презирающая меня герцогиня, доказывает твою злобу.
– Да я, право, не припомню, какие ты мне причиняла неприятности, – проговорила Консуэло, пересиливая отвращение, вызванное дружественным обращением к женщине, так мало имевшей с ней общего.
– И ты говоришь правду? – спросила Корилла. – Неужели ты до такой степени забыла бедного Дзото?
– Я была свободна и вольна его забыть, – ответила Консуэло, подвязывая к ноге королевский котурн с мужеством и присутствием духа, которые дает подчас увлечение любимым делом, и, решив попробовать голос, вывела блестящую руладу.
Корилла, желая не отставать от нее, ответила другой руладой, но, вдруг оборвав ее, бросила горничной:
– Да не затягивайте же меня так, черт возьми! Уж не думаете ли вы, что одеваете нюрнбергскую куклу? Эти немки, – продолжала она по-венециански, – совсем не знают, что такое плечи. Позволь им только, они сделают тебя квадратной, как их вдовствующие герцогини. Порпорина, не давай закутывать себя до ушей, как в прошлый раз, – это было просто нелепо.
– Ах, моя милая, таков приказ императрицы. Он известен этим девицам, и из-за таких пустяков я не хочу бунтовать.
– Пустяки! Это наши-то плечи? Хороши пустяки!
– Я не говорю о тебе, ты сложена лучше всех женщин на свете, а я…
– Лицемерка! – вздыхая, проговорила Корилла. – Ты на десять лет моложе меня, и скоро мои плечи будут держаться только былой славой.
– Это ты лицемерка, – возразила Консуэло; ей ужасно надоел этот разговор. И, чтобы прервать его, она, причесываясь, стала петь гаммы и рулады.
– Замолчи! – остановила Корилла певицу, невольно прислушиваясь к ее пению. – Ты вонзаешь мне в горло тысячу кинжалов… Ах! Я охотно уступила бы тебе всех своих возлюбленных, так как уверена, что найду других, но с твоим голосом и твоей манерой петь я никогда не смогу соперничать. Замолчи, а то меня разбирает желание задушить тебя!
Консуэло, прекрасно видя, что Корилла шутит только наполовину и под ее насмешливой лестью скрывается настоящая мука, умолкла, но минуту спустя Корилла снова заговорила:
– Как ты выводишь эту руладу?
– Ты хочешь спеть так же? Я тебе уступаю, – ответила Консуэло, смеясь с присущим ей поразительным добродушием, – давай я тебя научу. Введи ее куда-нибудь в свою партию, а я изобрету для себя какую-нибудь другую руладу.
– И та будет еще более блестяща. Ничего я от этого не выиграю.
– Ну, так я никакой рулады не буду делать, тем более что Порпора против этого, и сегодня я получу от него одним упреком меньше. Возьми! Вот моя рулада! – И, вынув из кармана сложенный лоскуток бумаги, на котором была написана музыкальная фраза, она передала его поверх ширмы Корилле; певица тут же принялась разучивать руладу. Консуэло ей помогла, пропев несколько раз, и наконец обучила актрису. Одевание шло своим чередом.
Но прежде чем Консуэло накинула на себя платье, Корилла стремительно отодвинула ширму и бросилась ее целовать за то, что она пожертвовала своей руладой. Этот порыв благодарности был не совсем искренен. К нему примешивалось вероломное желание увидеть фигуру своей соперницы в корсете, чтобы обнаружить какой-нибудь скрытый недостаток. Консуэло не носила корсета. Ее стан, гибкий, как тростник, и девственные благородные формы не нуждались в помощи искусной корсетницы. Она поняла намерение Кориллы и улыбнулась.
«Можешь сколько угодно рассматривать меня, можешь проникать в мое сердце, – подумала она, – ничего фальшивого ты там не найдешь».
– Значит, ты совсем больше не любишь Андзолето, Zingarella? – спросила Корилла, невольно снова принимая суровый тон и враждебный вид.
– Совсем больше не люблю, – ответила, смеясь, Консуэло.
– А он очень любил тебя?
– Совсем не любил, – снова проговорила Консуэло, так же уверенно, с тем же прочувствованным, искренним прямодушием.
– Он так и говорил мне! – воскликнула Корилла, глядя на нее своими голубыми глазами, ясными и горящими, и надеясь уловить сожаление и растравить старую рану соперницы.
Консуэло не могла похвастать лукавством, но она принадлежала к числу тех прямодушных натур, которые обладают особым складом в борьбе против коварных замыслов. Она почувствовала удар и выстояла. Андзолето она больше не любила, а муки самолюбия были ей незнакомы, и она предоставила торжествовать тщеславной Корилле.
– Андзолето сказал тебе правду, – ответила она, – он не любил меня.
– А ты, стало быть, тоже никогда его не любила? – допрашивала Корилла, скорей удивленная, чем обрадованная таким признанием.
Консуэло почувствовала, что ей не следует быть откровенной наполовину. Корилла стремилась добиться правды, надо было ее удовлетворить, и Консуэло ответила:
– Я очень его любила.
– И ты так просто признаешься в этом? Значит, у тебя нет гордости, бедняжка!
– У меня хватило ее, чтобы излечиться.
– То есть ты хочешь сказать, что у тебя хватило твердости духа, чтобы утешиться с другим. Скажи мне, с кем, Порпорина? Не может же это быть Гайдн, у которого нет ни гроша за душой!
– Это не было бы помехой. Но так, как предполагаешь ты, я ни с кем не утешилась.
– Ах, знаю. Я и забыла, что ты претендуешь…
Только не говори подобных вещей здесь, моя милая, а то ты станешь посмешищем!
– Да я и не стану говорить, если меня не спросят, а спрашивать себя я не каждому позволю. Эту вольность я допустила с тобой, Корилла, но если ты не враг мне, то не злоупотребляй этим.
– Вы притворщица! – закричала Корилла. – Вы очень умны, хотя и разыгрываете наивную. Настолько умны, что я почти готова была поверить, будто вы так же невинны, как я была в двенадцать лет. Однако ж это невозможно! Ах, как ты ловка, Zingarella! Ты сможешь уверить мужчин во всем, в чем захочешь.
– Я и не стану ни в чем их уверять, ибо не позволю им вмешиваться в мои дела настолько, чтобы меня расспрашивать.
– Это умнее всего: люди всегда злоупотребляют нашей откровенностью и, едва успев вырвать у нас признание, унижают нас своими упреками. Вижу, что ты знаешь, как себя вести. Хорошо делаешь, не желая внушать страстей, – таким образом избежишь и хлопот и бурь, будешь действовать свободно, никого не обманывая. Играя в открытую, ты скорей найдешь любовников, скорей разбогатеешь. Но для этого нужно больше мужества, чем есть у меня. Нужно, чтобы тебе никто не нравился и чтобы тебе не хотелось быть любимой, так как наслаждаешься сладостью любви, только прибегая к предосторожностям и лжи. Восхищаюсь тобой, Zingarella! Чувствую к тебе огромное уважение, ибо, несмотря на свою юность, ты побеждаешь любовь, – так как нет ничего более пагубного, чем любовь, для нашего спокойствия, голоса, для долговечности нашей красоты, нашего состояния, наших успехов, не правда ли? О да, я знаю это по опыту! Если бы я всегда могла довольствоваться холодным ухаживанием, то не перенесла бы столько страданий, не потеряла бы двух тысяч цехинов и двух верхних нот. Признаюсь тебе смиренно: я – бедное существо, несчастное от рождения. Всякий раз, когда дела мои были в самом блестящем состоянии, я делала какую-нибудь глупость и все портила. Мною овладевала безумная страсть к какому-нибудь бедняку – и тут уж прощай все блага! Было время, когда я могла выйти замуж за Дзустиньяни, – да, я могла это сделать. Он обожал меня, а я его не выносила; участь его была в моих руках. Мне понравился этот подлый Андзолето… и я потеряла свое положение. Послушай, ты будешь давать мне советы, будешь мне другом, не правда ли? Удерживай меня от увлечений, от легкомысленных поступков! И для начала… надо тебе признаться, что вот уже неделя, как я влюблена в человека, который заметно теряет благоволение двора и в ближайшее время будет более опасен, чем полезен. Человек этот миллионер, но может быть разорен по мановению руки. Да, я хочу развязаться с ним, прежде чем он потащит меня за собой в пропасть… Ну вот, дьявол хочет изобличить меня во лжи! Я слышу, он идет сюда, и уже огонь ревности запылал на моем лице. Хорошенько задвинь ширму, Порпорина, и не шевелись: я не хочу, чтобы он видел тебя.
Консуэло поспешила тщательно задвинуть ширму. Ей не надо было просьбы Кориллы, она и так не пожелала бы попасться на глаза ее любовникам. Мужской голос, довольно звучный, хотя и лишенный свежести, без малейшей фальши напевал в коридоре. Для виду постучали, но вошли, не дожидаясь разрешения.
«Ужасное ремесло! – подумала Консуэло. – Нет, я не позволю себе увлечься опьянениями сцены: слишком уж гнусна ее закулисная сторона».
Она забилась в угол, униженная тем, что попала в такое общество и впервые погрузилась в бездну разврата, о которой до сих пор не имела понятия; она вознегодовала и ужаснулась тому, как ее поняла Корилла.
Глава 97
Заканчивая наспех одеваться из боязни быть застигнутой врасплох, Консуэло услышала такой диалог на итальянском языке:
– Что вам тут нужно? Я ведь не разрешила вам входить в мою уборную. Императрица нам запретила под страхом самых строгих взысканий принимать в уборных мужчин, кроме товарищей, и то когда в этом является неотложная необходимость по театральным делам. Видите, чему вы подвергаете меня! Не понимаю, почему так плохо поставлен надзор за уборными!
– Запретов не существует для людей, которые щедро платят, моя красавица. Только трусы встречают на своем пути отпор или доносы. Ну, принимайте меня получше или, черт побери, вы больше меня не увидите.
– Это самое большое удовольствие, какое вы можете мне доставить. Уходите! Ну, что же вы не уходите?
– Ты, по-видимому, так искренне этого желаешь, что я останусь, чтобы тебя взбесить.
– Предупреждаю, что сейчас вызову режиссера, и он избавит меня от вас.
– Пусть явится, если ему надоела жизнь. Ничего не имею против. – С ума вы, что ли, сошли? Говорят вам, что вы меня компрометируете, заставляете нарушить правило, недавно введенное приказом ее величества, подвергаете риску большого штрафа, быть может даже увольнения.
– Штраф я берусь уплатить твоему директору палочными ударами. Что же касается твоего увольнения, лучшего я и не желаю – сейчас же увезу тебя в свои поместья, и мы с тобой превесело заживем там.
– Поехать с таким грубияном? Никогда! Ну, выйдем вместе, раз вы упорно не желаете оставить меня одну.
– Одну! Одну! Прелесть моя! Вот в этом-то я и хочу убедиться раньше, чем вас покинуть. Вот ширма, по-моему занимающая слишком много места в такой комнатушке. Мне кажется, отшвырни я ее добрым пинком к стене, я оказал бы вам услугу.
– Погодите, сударь, погодите: там одевается дама. Вы хотите убить или ранить женщину, этакий разбойник!
– Женщина! Ну, это другое дело, но я хочу взглянуть, нет ли у нее шпаги!
Ширма заколебалась…
Консуэло, уже совершенно одетая, набросила на плечи плащ и, в то время как открывали первую створку ширмы, попыталась толкнуть последнюю и проскользнуть в дверь, находившуюся от нее в двух шагах. Но Корилла, угадавшая намерение девушки, остановила ее, сказав:
– Останься, Порпорина: не найди он тебя здесь, он был бы способен вообразить, что здесь был мужчина, и убил бы меня.
Перепуганная Консуэло решила было показаться, но Корилла, уцепившись за ширму, помешала ей. Быть может, она надеялась, возбудив ревность своего возлюбленного, так воспламенить его страсть, чтобы он не обратил внимания на трогательную прелесть ее соперницы.
– Если там дама, – заявил он, смеясь, – пусть она мне ответит. Сударыня, вы одеты? Можно засвидетельствовать вам свое почтение?
– Сударь, – ответила Консуэло, заметив, что Корилла делает ей знаки, – соблаговолите приберечь изъявления своего почтения для другой, а меня избавьте от них. Я не могу показаться вам.
– Значит, это наилучший момент на вас поглядеть, – проговорил возлюбленный Кориллы, делая вид, что намеревается раздвинуть ширму.
– Подумайте, прежде чем действовать! – принужденно смеясь, остановила его Корилла. – Как бы вместо полураздетой пастушки вы не наткнулись на почтенную дуэнью!
– А, черт побери!.. Да нет же! Ее голос слишком свеж, ей никак не больше двадцати лет, а будь она некрасива, ты бы показала мне ее!
Ширма была очень высока, и, несмотря на свой огромный рост, возлюбленный Кориллы не мог заглянуть поверх, разве только сбросив со стульев туалеты актрисы. Притом с того момента, как его перестала беспокоить мысль о присутствии за ширмой мужчины, он находил игру забавной.
– Сударыня! – воскликнул он. – Если вы стары и уродливы, молчите, и я пощажу ваше убежище, но если, черт возьми, вы молоды и красивы, не давайте Корилле себя оклеветать. Скажите только слово, и я войду, хотя бы мне пришлось применить силу.
Консуэло ничего не ответила.
– Нет, ей-богу, я не позволю водить себя за нос! – закричал любопытный посетитель после минутного ожидания. – Будь вы стары или плохо сложены, вы бы так спокойно не признались в этом; но, видно, вы прекрасны как ангел, поэтому и смеетесь над моими сомнениями. Так или иначе, я должен вас увидеть, ибо вы либо чудо красоты, способное внушить страх самой красавице Корилле, либо настолько умны, что сознаете свое безобразие, и я рад буду встретить первый раз в жизни некрасивую женщину без претензий.
Он схватил руку Кориллы всего двумя пальцами и согнул ее, как соломинку. Она громко вскрикнула, притворяясь, будто он причинил ей невероятную боль. Но он не обратил на это ни малейшего внимания, и, когда ширма открылась, перед глазами Консуэло предстала ужасная физиономия барона Франца фон Теренка. Богатейший и изысканнейший штатский костюм заменил его дикое одеяние воина, но по гигантскому росту и большим черно-багровым пятнам, испещрявшим его смуглое лицо, трудно было тотчас же не узнать неустрашимого и безжалостного предводителя пандуров. Консуэло невольно вскрикнула от ужаса и, бледнея, опустилась на стул. – Не бойтесь меня, сударыня, – проговорил барон, опускаясь на одно колено, – простите мою смелость, в которой я должен был бы раскаяться, но, увидев вас, я не в силах это сделать. Позвольте мне верить, что только из жалости ко мне вы отказывались показаться, прекрасно зная, что, увидев вас, я не могу не влюбиться. Не огорчайте меня мыслью, что я страшен вам. Я в достаточной мере уродлив, сам это сознаю. Но если война превратила довольно красивого молодого человека в чудовище, – поверьте, это еще не значит, что она сделала его злым.
– Злым? Да, это, конечно, было бы невозможно! – ответила Консуэло, поворачиваясь к нему спиной.
– Как видно, – ответил барон, – вы дитя довольно дикое, а ваша кормилица, наверно, изобразила вам меня в своих россказнях вампиром, как это делают здесь все старухи. Но молодые ко мне более справедливы: они знают, что если я и суров с врагами родины, то дамам легко меня приручить, когда они берут на себя этот труд.
И, наклонившись к Консуэло, которая притворилась, будто смотрится в зеркало, он метнул ее изображению сладострастный и в то же время свирепый взгляд, грубому очарованию которого поддалась Корилла. Консуэло увидела, что только рассердившись сможет избавиться от него.
– Господин барон, – сказала она, – не страх внушаете вы мне, а отвращение, омерзение. Вы любите убивать – я не боюсь смерти; но я ненавижу кровожадных людей, а вас я знаю. Я только что приехала из Богемии, где видела следы вашего пребывания…
Барон изменился в лице и проговорил, пожимая плечами и оборачиваясь к Корилле:
– Что еще за чертовка? Баронесса Лесток, стрелявшая в меня в упор из пистолета, и та казалась не такой разъяренной. Не задавил ли я по неосторожности, несясь галопом, ее любовника у какого-нибудь куста? Ну, красотка моя, успокойтесь – я пошутил с вами. Если вы такого несговорчивого нрава, откланиваюсь. Впрочем, я заслужил это, на минуту отвлекшись от моей божественной Кориллы.
– Ваша божественная Корилла, – ответила та, – очень мало заботится о том, внимательны вы или нет, и просит вас удалиться: сейчас будет делать обход директор, и если вы не желаете вызвать скандал.
– Ухожу, – сказал барон, – я не хочу огорчать тебя и лишать публику удовольствия, так как ты потеряешь чистоту голоса, если начнешь плакать. После спектакля буду ждать тебя в своем экипаже у выхода из театра. Решено, не так ли?
И он, насильно расцеловав ее в присутствии Консуэло, вышел. Корилла тут же бросилась на шею к товарке и стала благодарить за то, что она так решительно отвергла пошлые любезности барона. Консуэло отвернула голову, – красавица Корилла, оскверненная поцелуями этого человека, внушала ей почти такое же отвращение, как он сам.
– Как можете вы ревновать такое отталкивающее существо? – сказала она ей.
– Ты в этом ничего не смыслишь, Zingarella, – ответила, улыбаясь, Корилла. – Барон нравится женщинам более высокопоставленным и якобы более добродетельным, чем мы с тобой. Сложен он превосходно, а в лице его, хотя и попорченном шрамами, есть нечто притягательное, против чего ты не устояла бы, вздумай он убедить тебя, что красив. – Ах, Корилла! Не лицо Тренка главным образом меня отталкивает. Душа его еще более отвратительна! Ты, стало быть, не знаешь, что у него сердце тигра…
– Это-то и вскружило мне голову! – беззастенчиво ответила Корилла.
– Выслушивать комплименты всяких изнеженных пошляков – подумаешь, великая радость! А вот укротить тигра, повелевать львом лесов, водить его на поводу, заставлять вздыхать, плакать, рычать и дрожать того, чей взгляд обращает в бегство войска и чей удар сабли сносит голову быка с такой легкостью, словно это цветок мака, – удовольствие более острое, чем все испытанное мною до сих пор! У Андзолето было нечто в этом роде: я любила его за злость; но барон злее. Тот был способен избить свою любовницу, а этот в состоянии ее убить. О! Я предпочитаю его!
– Бедная Корилла! – промолвила Консуэло, бросая на нее взгляд, полный сожаления.
– Ты жалеешь меня за то, что я люблю его, и ты права, но у тебя больше оснований завидовать этой любви. А впрочем, лучше питать ко мне сожаление, чем отбивать у меня Тренка.
– О, будь покойна! – воскликнула Консуэло.
– Синьора, начинают! – крикнул бутафор у дверей.
– Начинаем! – прокричал громкий голос на верхнем этаже, где были уборные хористок.
– Начинаем! – повторил другой, мрачный и глухой, голос внизу лестницы, ведущей в глубь театра. И последние слоги, передаваясь слабым эхом от кулисы к кулисе, достигли, замирая, будки суфлера, который стукнул три раза об пол, чтобы предупредить дирижера оркестра; тот, в свою очередь ударил смычком по пульту, и после мгновенного затишья раздались гармоничные звуки увертюры; в ложах и партере все умолкло.
С первого же акта «Зенобии» Консуэло ожидал тот полнейший, неотразимый успех, который Гайдн предсказывал ей накануне. Самые великие таланты не всякий день выступают на сцене с одинаковым блеском. Даже допустив, что силы их ни на минуту не ослабевают, не все роли, не все ситуации одинаково способствуют проявлению их блестящих способностей. Впервые Консуэло встретилась с образом, где могла быть сама собой и могла проявить всю чистоту своей души, всю силу, нежность и неиспорченность, не прибегая к помощи искусства и внимательного изучения роли, чтобы отождествиться с чуждой ей личностью. Она могла забыть этот ужасный труд, отдаться переживаниям минуты, вдохновляться патетическими и глубокими порывами, которые сообщались ей сочувственно настроенной и наэлектризованной публикой. В этом она нашла столь же неизъяснимое удовольствие, какое уже испытала, – правда, в меньшей степени, – на репетиции, о чем она чистосердечно призналась тогда Иосифу. И теперь не овации публики опьянили ее радостью, а счастье, что она сумела проявить себя, победоносная уверенность в том, что она достигла совершенства в своем искусстве. До сих пор Консуэло всегда с беспокойством спрашивала себя, не могла ли она при своем даровании лучше исполнить ту или иную роль. На этот раз она почувствовала, что проявила всю свою мощь, и, почти равнодушная к восторженным крикам толпы, в глубине души аплодировала самой себе.
После первого акта она осталась за кулисами, прослушала интермедию и подбодрила искренними похвалами Кориллу; актриса действительно была прелестна в своей роли. Но после второго акта Консуэло почувствовала, что ей нужен минутный отдых, и поднялась в уборную. Порпора был занят в другом месте и не пошел за нею, а Иосиф, внезапно приглашенный благодаря тайному покровительству императрицы исполнять партию скрипки в оркестре, понятно, остался на своем месте.
Итак, Консуэло вошла одна в уборную Кориллы, от которой та передала ей ключ, выпила стакан воды и на минуту бросилась было на диван. Но вдруг воспоминание о пандуре Тренке почему-то встревожило ее, и, подбежав к двери, она заперла ее на ключ. Однако, казалось, не было никаких оснований беспокоиться о том, что он явится сюда. Перед поднятием занавеса он направился в зрительный зал, и Консуэло даже видела его на балконе среди своих самых восторженных поклонников. Тренк страстно любил музыку. Он родился и получил воспитание в Италии, говорил по-итальянски так же мелодично, как истый итальянец, недурно пел и, «родись он в иных условиях, мог бы сделать карьеру на сцене», как утверждают его биографы. Каков же был ужас Консуэло, когда, возвращаясь к дивану, она увидела, что злополучная ширма задвигалась, приоткрылась и из-за нее показался проклятый пандур!
Она бросилась к двери, но Тренк опередил ее и, прислонившись спиной к замку, проговорил с отвратительной улыбкой:
– Успокойтесь, моя прелесть! Раз вы пользуетесь уборной совместно с Кориллой, вам следует привыкнуть к встречам с любовником этой красотки; ведь вы не могли не знать, что второй ключ находится у него в кармане. Вы угодили в самое логовище льва… О! Не вздумайте только кричать! Никто не явится. Всем известно, что Тренк – человек хладнокровный, что у него сильный кулак и он мало ценит жизнь дураков. Если ему беспрепятственно, вопреки императорскому запрету, позволяют входить сюда, то ясно, что между всеми вашими фиглярами нет ни одного смельчака, который решился бы взглянуть ему прямо в глаза. Ну, чего вы бледнеете и дрожите? Неужели вы так мало уверены в себе, что не в состоянии выслушать трех слов, не потеряв головы? Или вы считаете меня человеком, способным изнасиловать, оскорбить вас? Вы наслушались бабьих сплетен, дитя мое! Тренк не такой уж злой, как о нем говорят, и именно чтобы убедить вас в этом, он и хочет минутку побеседовать с вами.
– Сударь, я не стану слушать – вас, прежде чем вы не откроете дверь, – ответила, набравшись решимости, Консуэло. – Только при этом условии я разрешу вам говорить со мной. Если же вы будете продолжать держать меня взаперти, я решу, что этот мужественный и сильный человек не уверен в себе и боится встречи с моими товарищами-фиглярами.
– А, вы правы, – сказал Тренк, открывая настежь дверь. – Если вы не боитесь схватить насморк, я предпочитаю дышать чистым воздухом, чем задыхаться в мускусе, которым Корилла пропитала всю эту комнатушку. Вы даже оказываете мне услугу.
Сказав это, он вернулся к Консуэло и, схватив ее за руки, принудил сесть на диван, а сам стал перед ней на колени, не выпуская ее рук, которых она не могла бы высвободить, не вступив с ним в борьбу, бессмысленную и пожалуй, даже опасную для ее чести. Барон, казалось, ждал и как бы вызывал сопротивление, которое разбудило бы в нем необузданные инстинкты и заставило бы его забыть всякую деликатность, всякую почтительность. Консуэло это поняла и безропотно покорилась необходимости войти в такую постыдную, двусмысленную сделку. По ее смуглой, бескровной щеке скатилась слеза, которую она не могла удержать. Барон увидел ее, но она не смягчила, не обезоружила его – напротив, жгучая радость блеснула из-под его кровавых век, вывороченных и оголенных ожогом.
– Вы очень несправедливы ко мне, – заговорил он ласкающим, нежным голосом, в котором чувствовалась лицемерная радость. – Вы ненавидите меня и не хотите выслушать мои оправдания, хотя совсем меня не знаете. А я не стану, как дурак, мириться с вашим отвращением. Час тому назад мне было безразлично, но с тех пор, как я слышал божественную Порпорину, с тех пор, как я ее обожаю, я чувствую, что надо жить для нее или умереть от ее руки!
– Избавьте меня от этой смешной комедии… – проговорила с негодованием Консуэло.
– Комедии? – прервал ее барон. – Постойте, – сказал он, вытаскивая из кармана пистолет, который тут же зарядил и подал ей, вы будете держать это оружие в своей прелестной ручке, и если я невольно оскорблю вас хоть словом, если по-прежнему буду ненавистен вам – убейте меня, коли вам это заблагорассудится. А другую ручку я решил не выпускать до тех пор, пока вы не позволите мне поцеловать ее. Но этой милостью я хочу быть обязанным только вашей доброте, я буду молить вас о ней и терпеливо ждать под дулом смертоносного оружия, которое вы можете обратить против меня, когда моя настойчивость станет вам невыносима.
Тут Тренк действительно вложил в правую руку Консуэло пистолет, а левую удержал силой, продолжая стоять перед нею на коленях с неподражаемой фатовской самонадеянностью.
Консуэло почувствовала себя очень сильной и, держа пистолет так, чтобы его можно было употребить в дело при малейшей опасности, улыбаясь, сказала:
– Можете говорить, я вас слушаю.
В то время, как она произносила эти слова, ей показалось, что в коридоре раздались шаги и даже чья-то тень мелькнула в дверях. Но тень тотчас же исчезла, потому ли, что пришелец удалился, или потому, что вообще все это было плодом воображения. Теперь, когда Консуэло угрожала только огласка, появление всякого лица, и безразличного и могущего оказать помощь, было скорее страшно, чем желательно. Если она будет молчать, барона, застигнутого на коленях перед нею в комнате с открытой дверью, неминуемо примут за явно преуспевшего ее поклонника, а если она закричит, будет звать на помощь, барон, несомненно, убьет первого, кто покажется. С полсотни подобных случаев украшало путь его частной жизни, и жертвы его страстей не слыли от этого ни менее порядочными, ни менее поруганными. Имея это в виду, Консуэло оставалось только желать, чтобы объяснение скорее кончилось, и надеяться своим личным мужеством вразумляюще подействовать на Тренка, не прибегая к помощи свидетелей, которые могли бы по-своему комментировать и истолковывать эту странную сцену.
Тренк угадал отчасти ее мысль и слегка прикрыл дверь.
– Право, сударыня, – сказал он, возвращаясь к ней, – было бы безумием подвергать себя злословию проходящих; спор должен кончиться у нас с глазу на глаз. Выслушайте же меня. Вы боитесь и вам мешает дружба с Кориллой, это мне понятно. Честь ваша, ваша незапятнанная репутация мне дороже этих драгоценных минут, когда я без свидетелей любуюсь вами. Я прекрасно знаю, что эта пантера, в которую я был влюблен еще час тому назад, обвинила бы вас в предательстве, застань она меня здесь у ваших ног. Но она не получит этого удовольствия. Я высчитал время. Ей еще минут десять придется развлекать публику своим кривлянием, и я успею сказать вам, что если любил ее, то забыл уже об этом, как о первом сорванном мною яблоке. Не бойтесь отнять у нее сердце, которое больше не принадлежит ей и откуда отныне ничто не может изгнать ваш образ. Вы одна, сударыня, властны надо мной, вы одна можете располагать моей жизнью. Что же заставляет вас колебаться? У вас, говорят, есть любовник, – одним щелчком я избавлю вас от него! Вы под постоянным надзором старого опекуна, злого и ревнивого, – я увезу вас из-под самого его носа! Вы подвергаетесь в театре тысячам интриг. Правда, публика вас обожает, но публика неблагодарна и изменит вам в первый же день, когда вы охрипнете. Я несметно богат и в состоянии сделать вас принцессой, чуть ли не королевой – в стране дикой, но где я могу в мгновение ока воздвигнуть вам дворцы и театры, более грандиозные и красивые, чем дворцы венского двора. Если вы нуждаетесь в публике, я одним мановением вызову ее из-под земли, притом преданную, покорную, верную, не чета венской. Я некрасив – знаю; но шрамы, украшающие мое лицо, более почтенны и славны, чем белила и румяна, покрывающие бледные лица ваших скоморохов. Я суров с моими рабами, неумолим по отношению к врагам, но кроток со своими хорошими слугами, и те, кого я люблю, наслаждаются радостью, славой, богатством. Наконец, я бываю подчас свиреп, вам сказали правду: не может человек, столь храбрый и сильный, не пользоваться своим могуществом, когда месть и гордость призывают его к этому. Но женщина чистая, застенчивая, кроткая и прелестная, как вы, может обуздать мою силу, сковать мою волю и держать меня под башмаком, точно ребенка. Попробуйте: доверьтесь мне на какое-то время тайком от всех, а когда узнаете меня, вы увидите, что можете вручить мне заботу о своем будущем и последовать за мной в Славонию. Вы улыбаетесь, название этого края созвучно со словом раб. Так вот, божественная Порпорина, я буду твоим рабом! Взгляни на меня и привыкни к моему безобразию, которое твоя любовь могла бы украсить! Скажи только слово, и ты увидишь, что красные глаза Тренка-австрийца могут проливать радостные слезы, слезы умиления, так же как и красивые глаза Тренка-пруссака, моего дорогого кузена, которого я люблю, хотя мы и дрались с ним во враждебных лагерях и хотя ты, как уверяют, была неравнодушна к нему. Но тот Тренк – ребенок, а я – пусть еще молод (мне только тридцать четыре года, хотя лицо мое, опаленное порохом, и кажется вдвое старше) – однако уже пережил возраст капризов и могу дать тебе долгие годы счастья. Говори, говори же, скажи «да», и ты увидишь, что любовь может преобразить меня и превратить Тренка с обожженной пастью в светозарного Юпитера! Ты не отвечаешь мне, трогательное целомудрие удерживает тебя, не правда ли? Ну, хорошо! Не говори ни слова, дай мне только поцеловать твою руку, и я уйду с душой, полной веры и счастья. Видишь, я не такой грубиян, не такой тигр, каким меня изобразили тебе. Я прошу у тебя только невинной милости и молю тебя о ней на коленях, а ведь я мог бы одним дуновением сокрушить тебя и, несмотря на твою ненависть, испытать счастье, которому позавидовали бы сами боги!
Консуэло с удивлением рассматривала этого страшного человека, так увлекавшего женщин. Она старалась постигнуть чары, которые в самом деле, несмотря на его безобразие, могли действовать неотразимо, будь это лицо хорошего человека, воодушевленного движениями сердца; но то было безобразие отчаянного сластолюбца, а страсть его – только донкихотство дерзкого, самонадеянного фанфарона.
– Вы все сказали, господин барон? – спокойно спросила Консуэло.
Но она тут же покраснела и побледнела, когда славонский деспот бросил ей на колени целую пригоршню крупных бриллиантов, огромных жемчужин и очень ценных рубинов. Она быстро поднялась, сбросив на пол все эти драгоценности, которые должны были достаться Корилле.
– Тренк! – воскликнула она, охваченная сильнейшим негодованием и презрением. – При всей твоей храбрости ты последний трус: сражался ты только с ягнятами и ланями, которых безжалостно истреблял. Выступи против тебя настоящий мужчина, ты убежал бы, как лютый, но трусливый волк. Твои славные шрамы, я знаю, получены тобой в подвале, где ты среди трупов искал золота побежденных. Твои дворцы и твое маленькое царство – кровь благородного народа, и только деспотизм навязывает тебя ему в качестве соотечественника; это – гроши, вырванные у вдов и сирот, золото предательства, грабеж церквей, где ты, притворяясь, падаешь ниц и творишь молитву (ведь к довершению всех своих великих достоинств ты еще и ханжа!). Твоего двоюродного брата Тренка-пруссака, так нежно тобою любимого, ты предал и собирался умертвить. Женщин, которых ты прославил и осчастливил, ты изнасиловал, предварительно убив их мужей и отцов. Твоя только что сымпровизированная нежность ко мне не что иное, как каприз пресыщенного развратника. Рыцарское изъявление покорности, которое ты проявил, отдавая свою жизнь в мои руки, – это тщеславие глупца, воображающего себя неотразимым, а та пустая милость, о которой ты просишь, была бы для меня пятном, которое можно смыть только самоубийством. Вот мое последнее слово, пандур с обожженной пастью! Прочь с моих глаз! Беги, ибо если ты не освободишь моей руки, которую уже четверть часа леденишь в своей, я очищу землю от негодяя, размозжив тебе голову!
– И это твое последнее слово, исчадие ада? – воскликнул Тренк. – Ну, хорошо же! Горе тебе! Пистолет, который я гнушаюсь выбить из твоей дрожащей руки, заряжен только порохом. Одним маленьким ожогом больше или меньше – что за важность! Этим не запугаешь человека, закаленного в огне. Стреляй, наделай шума! Мне только того и нужно. Я буду рад найти свидетелей своей победы, так как теперь уже ничто не сможет избавить тебя от моих объятий: своим безумием ты зажгла во мне огонь страсти, который могла бы сдержать, будь ты немного поосторожней.
Говоря так, Тренк схватил в свои объятия Консуэло, но в то же мгновение дверь отворилась, и человек, чье лицо было закрыто черным крепом, опустил руку на пандура, который сразу согнулся и зашатался как тростник в бурю, и с силой бросил его на пол. Это было делом нескольких секунд. Ошеломленный в первое мгновение, Тренк поднялся и, дико вращая глазами, с пеной у рта, выхватил шпагу и бросился на своего врага, который направлялся к двери, по-видимому чтобы исчезнуть. Консуэло также устремилась к выходу. Ей показалось, что по росту и силе руки этот замаскированный человек не кто иной, как граф Альберт. Она увидела его в конце коридора, где очень крутая витая лестница вела на улицу. Тут он остановился, подождал Тренка, быстро нагнулся – так, что шпага барона царапнула стену, и, схватив его в охапку, бросил через плечо вниз по лестнице, головой вперед. Консуэло слышала, как великан покатился, и с криком: «Альберт!» – кинулась было вслед за своим избавителем. Но он исчез раньше, чем у нее хватило сил сделать три шага. Страшная тишина воцарилась на лестнице.
– Синьора, через пять минут начинают, – отеческим тоном обратился к ней бутафор, вынырнув из театрального люка, выходившего на ту же площадку. – Каким образом эта дверь оказалась открытой? – прибавил он, глядя на дверь лестницы, с которой был сброшен Тренк. – Право, ваша милость рисковали схватить насморк в коридоре.
Он закрыл и запер дверь на ключ, как полагалось, а Консуэло ни жива ни мертва вернулась в уборную, выбросила за окно пистолет, валявшийся под диваном, засунула ногой под мебель драгоценности Тренка, сверкавшие на ковре, и отправилась на сцену, где наткнулась на Кориллу, еще красную и запыхавшуюся от бесконечных выходов на аплодисменты, только что доставшиеся на ее долю после интермедии.
Глава 98
Несмотря на страшное волнение, Консуэло и в третьем акте превзошла себя. Она не ожидала такого успеха, не рассчитывала больше на него, выйдя на сцену с отчаянной решимостью провалиться с честью, считая, что во время своей мужественной борьбы лишилась вдруг и голоса и сноровки. Это ее не пугало: что значили даже тысячи свистков по сравнению с опасностью и позором, от которых она только что избавилась благодаря какому-то чудесному вмешательству. За этим чудом последовало другое. Добрый гений Консуэло, казалось, покровительствовал ей: голос ее звучал как никогда, пела она с еще большим мастерством и играла с большим подъемом и страстью, чем когда-либо. Все ее существо было до крайности возбуждено, и ей казалось, что вот-вот в ней что-то порвется, как чересчур натянутая струна. И это лихорадочное возбуждение уносило ее в волшебный мир: она делала все точно во сне, и ее даже удивляло, что она находила в себе для этого реальные силы.
Впрочем, радостная мысль поддерживала ее всякий раз, когда она боялась ослабеть. У нее теперь не было сомнений, что Альберт здесь. Он в Вене. По крайней мере со вчерашнего дня. Он наблюдает за нею, следит за всеми ее движениями, оберегает ее, иначе кому же приписать нежданную помощь, только что ей оказанную, и ту почти сверхъестественную силу, которой должен был обладать человек, чтобы победить Франца фон Тренка, славонского геркулеса? И если в силу одной из тех странностей, которых так много в характере молодого графа, он не хочет говорить с нею и как будто старается быть ею не замеченным, тем не менее он явно по-прежнему страстно любит ее, раз оберегает так заботливо и защищает с такой энергией.
«Ну, хорошо, – блеснула в голове Консуэло мысль, – если господу угодно, чтобы силы мне не изменили, пусть Альберт видит меня на высоте в моей роли и пусть из того уголка зала, откуда он, без сомнения, в эту минуту следит за мной, насладится моей победой, одержанной отнюдь не интригами или шарлатанством».
Не забывая о своей роли, она искала его глазами, но нигде не могла найти; она продолжала свои поиски и когда отступила за кулисы, но так же безуспешно. «Где бы он мог быть? – ломала она себе голову. – Где он спрятался? Быть может, он убил пандура наповал, сбросив его с лестницы? И принужден теперь скрываться от преследований? Попросит ли он убежища у Порпоры? Встретит ли она его на этот раз, вернувшись в посольство?»
Все недоумения исчезали, как только она снова появлялась на сцене: словно по волшебству, забывала она обстоятельства своей действительной жизни, и ее охватывало лишь чувство какого-то смутного ожидания, восторга, страха, благодарности, надежды… И все это было в ее роли и выливалось в чудесных звуках, полных нежности и правды.
По окончании спектакля ее стали без конца вызывать, и императрица первая бросила ей из своей ложи букет, к которому был прикреплен ценный подарок. Двор и венцы последовали примеру своей государыни, засыпав певицу цветами. Консуэло увидела, как среди всех этих благоухающих эмблем восторга к ее ногам упала зеленая ветка, невольно привлекшая ее внимание. Как только занавес опустился в последний раз, она ее подняла. То была кипарисовая ветка. Тут она забыла обо всех победных венках и стала искать объяснения этого знака скорби и ужаса, этой погребальной эмблемы, быть может выражавшей последнее прости. Смертельный холод сменил в ней лихорадочное волнение, непреодолимый ужас застлал ей, как облаком, глаза. Ноги Консуэло подкосились, и ее почти без чувств отнесли в карету венецианского посланника, где Порпора тщетно старался добиться от нее хотя бы одного слова. Губы ее похолодели, а безжизненная рука держала под плащом кипарисовую ветку, точно принесенную к ней ветром смерти. Спускаясь по театральной лестнице, она не заметила кровавых следов, да и мало кто обратил на них внимание в сутолоке разъезда.
В то время как Консуэло возвращалась в посольство, погруженная в свои мрачные думы, довольно печальная сцена происходила в артистической при закрытых дверях. Незадолго до окончания спектакля служащие театра, раскрывая все двери, наткнулись на окровавленного барона фон Тренка, лежавшего без чувств у подножия лестницы. Его перенесли в одну из зал, предоставленных артистам, и, во избежание огласки и смятения, потихоньку предупредили директора, театрального доктора и полицию, чтобы те явились констатировать свершившийся факт. Таким образом, и труппа и публика покинули зрительный зал и театр, не узнав о происшествии, и только кое-кто из служителей искусства, государственные чиновники и несколько сострадательных свидетелей постарались оказать помощь пандуру и добиться от него объяснений.
Корилла, ожидавшая карету любовника и уже несколько раз посылавшая на розыски свою горничную, наконец потеряла терпение и решила пойти сама, рискуя отправиться домой пешком. Она встретила г-на Гольцбауэра, и тот, зная об ее отношениях с Тренком, повел ее в фойе, где она увидела своего любовника с проломленным черепом и со столькими ушибами на теле, что он не мог пошевельнуться. Корилла огласила все помещение воплями и стенаниями. Гольцбауэр удалил лишних свидетелей и велел закрыть двери. Примадонна на все вопросы не могла ни сказать что-либо, ни сделать какие-то предположения, которые могли бы помочь выяснению дела. Наконец Тренк, придя немного в себя, признался, что, проникнув без разрешения за кулисы театра, чтобы поглядеть поближе на танцовщиц, спешил уйти оттуда до окончания спектакля, но, не зная всех переходов этого лабиринта, оступился на первой же ступеньке проклятой лестницы, неожиданно упал и скатился до самого низа. Этим объяснением удовлетворились и отнесли Тренка домой, где Корилла так ревностно за ним ухаживала, что даже лишилась из-за этого благосклонности графа Кауница, а впоследствии и благоволения ее величества. Но она отважно пожертвовала всем этим, и Тренк, чей железный организм выносил и более жестокие испытания, отделался недельным недомоганием и лишним шрамом на голове. Он не заикнулся ни перед кем о своем злоключении и только дал себе слово, что Консуэло дорого заплатит за него. Он и осуществил бы это, конечно, самым жестоким образом, если бы приказ об аресте не вырвал его из объятий Кориллы и не бросил, едва оправившегося от падения и еще дрожавшего от лихорадки, в военную тюрьму.
То, что глухая народная молва довела до ушей каноника, начало оправдываться. Богатства пандура возбудили во влиятельных людях и ловкачах жгучую, неутолимую алчность, и он пал жертвой этой алчности. Обвиненный во всевозможных преступлениях, и совершенных им и навязанных ему людьми, заинтересованными в его гибели, он начал испытывать на себе всякие проволочки, притеснения, наглые нарушения закона, утонченные несправедливости долгого и скандального процесса. Скупой, несмотря на свое тщеславие, и гордый, невзирая на свои пороки, он не пожелал ни платить за усердие своих покровителей, ни подкупить совесть своих судей. Мы оставим барона на время в темнице, где после какой-то буйной выходки он, к великому своему негодованию, оказался прикованным за ногу. Стыд и позор! Именно за ту самую ногу, в которую попал осколок бомбы, взорвавшейся во время одного из самых его доблестных боевых подвигов. У него тогда выскоблили пораженную гангреной кость, и, едва оправившись, он снова был на коне, дабы с геройской выдержкой продолжать службу. И вот на этот ужасный шрам наложили железное кольцо с тяжелой цепью. Рана раскрылась, и он выносил новые муки уже не за службу Марии-Терезии, а за то, что слишком хорошо служил ей когда-то. Великая государыня не имела ничего против Тренка, подавлявшего и раздиравшего злополучную и опасную Богемию, едва ли могущую, вследствие национальной розни, быть оплотом против врагов; «король» Мария-Терезия, не нуждаясь больше ни в преступлениях Тренка, ни в жестокостях пандуров для того, чтобы прочно сидеть на престоле, начинала находить их поступки чудовищными, непростительными и даже делала вид, что никогда не знала об их варварствах, – совсем как великий Фридрих, притворявшийся, будто не имеет понятия об утонченных жестокостях, тяжелейших цепях и пытках голодом, которыми несколько позже терзали другого барона фон Тренка, его красавца пажа, блестящего ординарца, спасителя и друга нашей Консуэло. Льстецы, донесшие до нас слух об этих возмутительных происшествиях, приписывали всю их гнусность мелкому офицерству и темному чиновничеству, чтобы смыть пятно с памяти монархов. Но монархи эти, якобы так плохо осведомленные о злоупотреблениях в своих тюрьмах, на самом деле настолько хорошо знали о всем происходящем там, что, например, Фридрих Великий собственноручно сделал рисунок цепей, которые Тренк-пруссак целых девять лет влачил в своем магдебургском склепе. И хотя Мария-Терезия прямо и не приказывала заковать искалеченную ногу Тренка-австрийца, своего доблестного пандура, однако она всегда оставалась глуха и к его жалобам и к его оправданиям. К тому же при постыдном дележе богатств Тренка, учиненном ее приближенными, она сумела выделить себе львиную долю и отказать в правосудии его наследникам.
Вернемся же к Консуэло, ибо долг романиста обязывает нас лишь бегло касаться деталей, принадлежащих истории. Однако нам кажется невозможным совершенно исключить приключения нашей героини из событий, происходивших в ее время и на ее глазах. Узнав о несчастии пандура, Консуэло не вспоминала больше о нанесенных ей оскорблениях и, глубоко возмущенная несправедливостью по отношению к нему, помогла Корилле снабдить его деньгами в момент, когда ему было отказано в средствах, которые смогли бы смягчить суровость его заточения. Корилла, умевшая тратить деньги гораздо быстрее, чем добывать их, как раз была без гроша в тот день, когда посланный ее любовника тайно явился просить у нее нужную сумму. Консуэло была единственным лицом, к помощи которого эта женщина из инстинктивного чувства доверия и уважения решилась прибегнуть. Консуэло тотчас же продала подарок, брошенный ей императрицей на сцену по окончании «Зенобии», и передала Корилле деньги, похвалив ее при этом за то, что она не оставляет в горе несчастного Тренка. Мужество, с каким Корилла служила своему любовнику до тех пор, пока это было возможно (на этой почве она сошлась даже с баронессой, его главной любовницей, к которой страшно ревновала), внушили Консуэло какое-то уважение к этому испорченному, но не окончательно развращенному созданию, сохранившему еще добрые побуждения сердца и бескорыстные порывы великодушия.
– Падем ниц перед промыслом божьим, – говорила она Иосифу, подчас упрекавшему ее за близость с Кориллой. – Человеческая душа даже в заблуждении сохраняет нечто благостное и великое, к чему чувствуешь уважение и в чем находишь с радостью те священные следы, которые являются как бы печатью божьей десницы. Там, где можно пожалеть, найдется что и простить, а где есть что простить, будь уверен, добрый мой Иосиф, там есть и что полюбить. Бедная Корилла в сущности животное, но иногда поступает как ангел. Видишь ли, я чувствую, что если останусь артисткой, то должна привыкнуть без ужаса и гнева смотреть на все эти печальные мерзости, среди которых протекает жизнь погибших женщин; ведь и они, эти падшие, колеблются между жаждой добра и влечением ко злу, между опьянением и раскаянием. И даже, признаюсь, мне кажется, что роль сестры милосердия полезнее для моей добродетели, чем жизнь более чистая, чем более льстящие честолюбию знакомства, чем благодушное существование людей сильных, счастливых, уважаемых. Чувствую, что сердце мое создано наподобие рая доброго Иисуса, где больше радости, больше привета дается одному обращенному грешнику, чем тысяче торжествующих праведников. Мое призвание жалеть, помогать, утешать, сочувствовать. Имя, данное мне матерью при крещении, налагает на меня этот долг. У меня, Беппо, ведь нет другого имени. Общество не дало мне право с гордостью носить фамильное имя, и если, по мнению света, я унижаю себя, отыскивая крупинки чистого золота среди грязи чужих дурных нравов, то ведь я совершенно не обязана отдавать ему в чем-либо отчет. Я только Консуэло – ничего больше. И этого достаточно для дочери Розамунды, ибо Розамунда была бедной женщиной, и о ней отзывались еще хуже, чем о Корилле, а я должна была и могла ее любить, какой бы она ни была. Ее не почитали, как Марию-Терезию, но она не приказала бы приковать за ногу Тренка, чтобы умертвить его в муках, а самой завладеть его деньгами. Корилла также не сделала бы этого, однако, вместо того чтобы драться за нее, этот самый Тренк, которому она помогает в несчастье, частенько бивал ее. Иосиф! Иосиф! Господь своим величием превосходит всех наших монархов; и раз Мария-Магдалина восседает на почетном месте, рядом с непорочной девой, то, пожалуй, и Корилла при том дворе будет иметь преимущество перед Марией-Терезией. А о себе скажу: если бы мне пришлось в дни, которые мне еще предстоит провести на земле, сидеть на пиру праведников, среди нравственного благоденствия, то я считала бы, что сбилась с пути спасения. О, благородный Альберт смотрел на это так же, как я, и, конечно, не стал бы порицать меня за мое хорошее отношение к Корилле.
Консуэло говорила все это своему другу Беппо через две недели после первого представления «Зенобии» и происшествия с бароном фон Тренком. Шесть представлений, на которые ее пригласили, были уже закончены. Г-жа Тези снова появилась в театре. Императрица при посредстве посланника Корнера потихоньку обрабатывала Порпору и продолжала ставить брак Консуэло с Гайдном условием ее поступления на императорскую сцену по окончании ангажемента Тези. Иосиф ничего не знал об этом. Консуэло ничего не предчувствовала. Она думала только об Альберте, который больше не появлялся и не давал о себе знать. В голове у нее бродило множество предположений, множество противоположных решений. Девушка даже прихворнула от пережитого нервного потрясения и всех этих колебаний. Она не покидала своей комнаты с тех пор, как покончила с театром, и без конца смотрела на кипарисовую ветку, сорванную, как ей казалось, с одной из могил в гроте Шрекенштейна.
Беппо, единственный друг, которому она могла раскрыть свое сердце, сначала хотел было разубедить ее в том, что Альберт приезжал в Вену. Но когда она показала ему кипарисовую ветку, он глубоко задумался над этой тайной и в конце концов сам уверовал в то, что молодой граф принимал участие в приключении Тренка.
– Послушай, – сказал он, – мне кажется, я понял, что происходит. Действительно, Альберт приезжал в Вену. Он тебя видел, слышал, наблюдал за всеми твоими поступками, следовал за тобой по пятам. В тот день, когда мы с тобой беседовали на сцене у декорации, изображающей реку Араке, он мог быть по ту сторону декорации и слышать, как я сожалел, что тебя похищают с подмостков на пороге славы. У тебя самой при этом вырвались какие-то восклицания. Из них он мог заключить, что ты предпочитаешь блеск карьеры печальной торжественности его любви. На следующий день он видел, как ты вошла в уборную Кориллы, и раз он все время наблюдал за тобой, то он мог заметить, как туда же за несколько минут перед этим вошел пандур. Он так долго не являлся к тебе на помощь потому, что считал твой приход добровольным, и только поддавшись искушению подслушать у двери, понял, как необходимо его вмешательство.
– Прекрасно! Но почему действовать так таинственно, почему скрывать под крепом свое лицо? – промолвила Консуэло.
– Ты знаешь, как подозрительна венская полиция. Быть может, его оговорили при дворе или у него были политические причины, чтобы прятаться; возможно, что лицо его было знакомо Тренку. Кто знает, не видал ли граф Альберт его в Чехии во время последних войн, не бросал ли ему вызова, не грозил ли, не заставил ли его выпустить из рук какого-нибудь захваченного им неповинного человека? Граф Альберт мог тайно совершать в своей стране великие подвиги храбрости и человеколюбия, в то время как его считали спящим в пещере Шрекенштейна. И если он совершал эти подвиги, разумеется, он не стал бы рассказывать о них тебе. Ты же сама не раз отзывалась о нем как о самом смиренном, самом скромном из людей. И он поступил мудро, закрыв лицо, в то время как расправлялся с пандуром, ибо если сегодня императрица наказывает пандура за то, что он опустошил ее дорогую Чехию, то, поверь, это вовсе не значит, что она будет склонна оставить безнаказанным открытое сопротивление, оказанное ее пандуру в прошлом со стороны богемца.
– Ты совершенно прав, Иосиф, и твои слова наводят меня на размышления. Многое теперь начинает меня страшно беспокоить. Альберта могли узнать, арестовать, и это так же осталось бы неизвестным публике, как падение с лестницы Тренка. Увы! Быть может, он в эту минуту в тюрьме Арсенала, рядом с темницей Тренка. И горе это он терпит из-за меня!
– Успокойся, я этого не думаю. Граф Альберт, должно быть, сейчас же покинул Вену, и ты вскоре получишь от него письмо из Ризенбурга.
– У тебя такое предчувствие, Иосиф?
– Да, я предчувствую это. Но, если уж хочешь знать все, что я думаю, так, мне кажется, письмо это будет совсем иным, чем ты ожидаешь. Я убежден, что он не будет больше настаивать на великодушной дружеской жертве, которую ты собиралась принести ради него, покинув артистическую карьеру, отказался от мысли жениться на тебе и скоро вернет тебе свободу. Если он так умен, благороден, справедлив, как ты говоришь, он должен посовеститься вырвать тебя из театра, который ты страстно любишь. Не отрицай, я ведь прекрасно это видел, и он, слушая «Зенобию», должен был понять это не хуже меня. Итак, он откажется от жертвы, превышающей твои силы, – я перестал бы его уважать, поступи он иначе.
– Но перечти же его последнюю записку. Вот она, Иосиф. Ведь он говорит в ней, что будет так же любить меня на сцене, как и в свете или в монастыре. Разве он не мог допустить мысли – женившись, предоставить мне свободу?
– Говорить и делать, думать и жить – не одно и то же. В страстных мечтаниях все кажется возможным, но когда действительность вдруг предстает перед глазами, мы с ужасом возвращаемся к прежним взглядам. Никогда не поверю, чтобы какой-нибудь знатный человек мог без отвращения видеть, как его супруга переносит капризы и оскорбления публики. Попав – конечно, впервые в своей жизни – за кулисы, граф увидел в поведении Тренка по отношению к тебе печальный пример бед и опасностей, ожидающих тебя на театральном поприще. И он должен был уйти в отчаянии, но, правда, излечившись от своей страсти и отрешившись от пустых мечтаний. Прости, что я так говорю с тобой, сестрица Консуэло. Это мой долг, ибо разрыв с графом Альбертом – твое счастье. Ты почувствуешь это позднее, хотя сейчас глаза твои и полны слез. Будь справедлива к своему жениху и не обижайся переменой, происшедшей в нем. Когда он говорил тебе, что не питает отвращения к театру, он идеализировал его, и все это рухнуло при первом же испытании. Он понял тогда, что либо сделает тебя несчастной, вырвав из театра, либо, следуя за тобой туда, отравит собственное существование.
– Ты прав, Иосиф. В твоих словах – истина, я это чувствую; но дай мне поплакать. Сердце сжимается у меня вовсе не от обиды, что меня покинули и гнушаются мной, а от утраченной веры в любовь, в ее могущество, которые я идеализировала так же, как граф Альберт идеализировал мою театральную жизнь. Теперь он осознал, что, избрав такой путь, я не могу быть достойна его, по крайней мере в глазах света. А я должна признать, что любовь не настолько сильна, чтобы победить все препятствия, отречься от всех предрассудков. – Будь справедлива, Консуэло, и не требуй большего, чем сама могла бы дать. Ты его не настолько любила, чтобы без колебаний и печали отречься от своего искусства, – не ставь же в вину графу Альберту, что он не смог порвать со светским обществом без ужаса и душевной муки.
– Но как бы втайне я ни печалилась (теперь могу уже сознаться в этом), я решилась всем ему пожертвовать, а он наоборот…
– Подумай, ведь страсть пылала в нем, а не в тебе. Он молил, а ты соглашалась, насилуя себя. Он прекрасно видел жертву с твоей стороны и почувствовал, что не только имеет право, но обязан избавить тебя от любви, которой ты не вызывала и в которой душа твоя не нуждается.
Разумный довод Иосифа убедил Консуэло в мудрости и великодушии Альберта. Она боялась, предаваясь горестным чувствам, страдать от уязвленного самолюбия; итак, она согласилась с объяснениями Гайдна, покорилась и успокоилась. Но по странности, так свойственной человеческому сердцу, едва обретя свободу следовать своему влечению к театру безраздельно и без угрызений совести, она испугалась одиночества, разврата и ужаснулась открывающегося перед нею будущего, полного тяжелой борьбы. Подмостки – это костер. Актер на сцене приходит в такое возбужденное состояние, что все жизненные волнения по сравнению с этим кажутся холодными и бледными. Но когда, разбитый усталостью, он сходит с подмостков, то со страхом думает, как он прошел через это огненное испытание, и к желанию снова вернуться на сцену примешивается ужас. Мне кажется, что акробат является типичным представителем этой тяжелой, исполненной горения и опасностей жизни. Он испытывает нервное, страшное удовольствие на веревках и лестницах, где совершает чудеса, превосходящие человеческие силы. Но, спустившись с них победителем, он едва не лишается чувств при одной мысли, что ему надо снова взобраться на них, снова видеть перед собой смерть и торжество – этот двуликий призрак, непрестанно парящий над его головой.
Замок Ризенбург и даже Шрекенштейн, этот кошмар ее многих ночей, показались Консуэло сквозь завесу свершившегося изгнания потерянным раем, обителью покоя и чистоты, которые до конца дней будут жить в ее памяти как нечто величественное и достойное почитания.
Она прикрепила кипарисовую ветку – последнее воспоминание, последний дар пещеры гуситов – к распятию, принадлежавшему ее матери, и таким образом, соединив две эмблемы – католичества и ереси, она мысленно вознеслась к религии единой, вечной и абсолютной. В ней почерпнула она чувство покорности пред своими собственными страданиями и веру в промысл божий, руководящий Альбертом и всеми людьми, добрыми и злыми, среди которых ей отныне придется идти одной, без наставника в жизни.
Глава 99
Однажды утром Порпора позвал Консуэло в свою комнату раньше обычного. Вид у него был сияющий, он держал в одной руке объемистое письмо, в другой – очки. Консуэло затрепетала, задрожала всем телом, вообразив, что это наконец ответ из Ризенбурга. Но вскоре она поняла, что ошиблась. Письмо было от Уберто-Порпорино. Знаменитый певец сообщал своему учителю, что все условия ангажемента Консуэло приняты и он посылает ему подписанный бароном фон Пельницем, директором берлинского королевского театра, контракт, на котором не хватает только подписи Консуэло и самого маэстро. К документу было приложено очень дружеское и очень почтительное письмо барона, в котором тот предлагал Порпоре принять участие в конкурсе на должность дирижера капеллы прусского короля, представив вместе с тем для просмотра и испытания все свои новые оперы и фуги, какие пожелает привезти. Порпорино выражал радость, что скоро будет петь с партнершей по сердцу, «сестрой по Порпоре», и горячо упрашивал учителя бросить Вену и приехать в прелестный Сан-Суси, местопребывание Фридриха Великого.
Письмо это чрезвычайно обрадовало Порпору, но вместе с тем вызвало в нем колебания. Ему казалось, что судьба наконец начинает улыбаться ему и милость обоих монархов (в то время столь необходимая для карьеры артиста) сулит ему благоприятные перспективы. Фридрих призывал его в Берлин. Мария-Терезия открывала ему заманчивые перспективы в Вене. В обоих случаях Консуэло предстояло быть орудием его славы: в Берлине – выдвигая на сцену его произведения, в Вене – выйдя замуж за Иосифа Гайдна.
Итак, настала минута вручить свою судьбу в руки приемной дочери. Он предложил ей на выбор – замужество или отъезд. Обстоятельства изменились, и он далеко не так горячо предлагал ей руку и сердце Беппо, как сделал бы это еще накануне. Ему надоела Вена, а мысль, что его будут ценить и чествовать во враждебном лагере, улыбалась ему как маленькая месть, причем он преувеличивал впечатление, какое все это могло произвести на австрийский двор. Наконец Консуэло перестала с некоторых пор говорить с ним об Альберте, словно отказавшись от него, а Порпора предпочитал, чтобы она вовсе не выходила замуж.
Консуэло тотчас же положила конец его колебаниям, объявив, что никогда не выйдет замуж за Иосифа Гайдна по многим причинам, и прежде всего потому, что сам он никогда и не думал на ней жениться, так как помолвлен с дочерью своего благодетеля, Анной Келлер.
– В таком случае, – сказал Порпора, – нечего и раздумывать. Вот твой контракт. Подпиши его, и будем собираться в путь-дорогу, ибо здесь нам надеяться не на что, раз ты не подчиняешься матримониомании императрицы. Ведь покровительство ее можно было получить только такой ценой, а после решительного отказа мы станем для нее хуже дьяволов. – Дорогой учитель, – ответила Консуэло с твердостью, какой еще никогда не проявляла по отношению к нему, – я готова повиноваться вам, как только совесть моя успокоится по поводу одного вопроса. Обязательства любви и глубокого уважения связывают меня с Рудольштадтом. Не скрою от вас, что, невзирая на ваше недоверие, упреки и насмешки, все три месяца, которые мы с вами провели здесь, я упорно не связывала себя никакими контрактами, могущими служить помехой этому браку. Но после решительного письма, написанного мною полтора месяца тому назад, – оно прошло через ваши руки, – что-то произошло и, как я полагаю, побудило семью Рудольштадтов отказаться от меня. Каждый новый день убеждает меня, что данное мною слово возвращено мне и я свободна всецело посвятить вам и свои заботы и свой труд. Как видите, я иду на это без сожалений и колебаний. Однако после написанного мною письма совесть моя не может быть спокойна, пока я не получу на него ответа. Жду я его каждый день, и в ближайшее время ответ должен прийти. Позвольте мне подписать ангажемент с Берлином только по получении…
– Эх! Бедное дитя мое, – прервал ее Порпора, с первых же слов своей ученицы понявший, что ей следует отвечать, – долго пришлось бы тебе его ждать. Ответ прислан мне уже месяц тому назад…
– И вы мне его не показали! – воскликнула Консуэло. – И вы оставляли меня в такой неизвестности! Учитель! Ты очень странный человек! Какое же может быть у меня доверие к тебе, если ты так обманываешь меня?
– Чем же я обманул тебя? Письмо адресовано мне, и в нем было приказано показать его тебе только тогда, когда я увижу, что ты излечилась от своей безумной любви и способна внимать благоразумию и благопристойности.
– Именно в таких выражениях оно и составлено? – спросила, краснея, Консуэло. – Невозможно, чтобы граф Христиан или граф Альберт могли так назвать мою дружбу, столь спокойную, скромную и гордую!
– Слова тут ни при чем, – сказал Порпора, – светские люди всегда выражаются изысканно, уж мы сами должны понимать их. Старый граф ни в какой мере не желал иметь невестку из актрис, и, узнав, что ты появилась здесь на подмостках, он заставил сына отказаться от такого унизительного брака. Альберт образумился, и тебе возвращают слово. С удовольствием вижу, что тебя это не огорчает. Все, стало быть, к лучшему. Едем в Пруссию.
– Маэстро, покажите мне письмо, и я тотчас же подпишу контракт.
– Ах да! Письмо, письмо! Но зачем оно тебе? Ты только огорчишься. Есть безумства, которые надо прощать и другим и себе самой. Забудь – и все.
– Нельзя забыть одним усилием воли, – возразила Консуэло, – размышление помогает нам, причины многое разъясняют. Если Рудольштадты отталкивают меня с презрением, я скоро утешусь. Если же мне возвратили свободу, уважая меня и любя, я утешусь иначе, и мне будет легче. Покажите письмо. Чего вам опасаться, раз и в том и в другом случае я вас послушаю?
– Ну хорошо! Я тебе его покажу, – проговорил хитрый профессор, открывая свою конторку и делая вид, будто ищет письмо.
Он открыл все ящики, перерыл все свои бумаги и, конечно, не нашел там никакого письма, так как никакого письма не получал. Он даже притворился, будто раздражен, не находя его. Консуэло же на самом деле потеряла терпение и принялась за поиски; маэстро предоставил ей заниматься этим. Она перевернула вверх дном все ящики, пересмотрела все бумаги, но найти письмо оказалось невозможным. Порпора сделал вид, что припоминает содержание письма, и сымпровизировал версию, очень вежливую и решительную. Консуэло никак не могла заподозрить своего учителя в таком систематическом притворстве. Будем думать, к чести старого профессора, что в данном случае он был не особенно находчив, но и не много надо было, чтобы убедить такое искреннее существо, как Консуэло. В конце концов она решила, что Порпора в минуту рассеянности раскурил этим письмом трубку. Выйдя затем в свою комнату, чтобы помолиться и поклясться над кипарисовой веткой, «несмотря ни на что», в вечной дружбе к графу Альберту, она спокойно вернулась и подписала двухмесячный контракт с берлинским театром, срок которого наступал в конце месяца. Времени было более чем достаточно для приготовлений к отъезду и для самого путешествия. Когда Порпора увидел на документе подпись, он расцеловал свою ученицу и торжественно провозгласил ее артисткой.
– Это день твоей конфирмации, – сказал он, – и если бы в моей власти было заставлять давать обеты, я внушил бы тебе отказаться навсегда от любви и брака, ибо ты теперь жрица бога гармонии. Музы – девственницы, и та, которая посвящает себя Аполлону, должна была бы нести обет весталок…
– Мне не следует давать обет безбрачия, – ответила Консуэло, – хотя в данную минуту, мне кажется, для меня ничего не было бы легче, как дать этот обет и сдержать его; но взгляды мои могут перемениться, и тогда мне пришлось бы раскаяться в решении, которого я не смогла бы уже нарушить. – Ты, стало быть, раба своего слова? Да, ты, кажется, отличаешься в этом отношении от остального рода человеческого, и если бы в жизни тебе пришлось дать торжественное обещание, ты бы его выполнила.
– Маэстро, мне думается, что я уже это доказала, так как с тех пор, как существую, я всегда находилась во власти какого-нибудь обета. Мать научила меня этому роду религии и подавала мне пример, сама фанатически соблюдая данные обеты. Когда мы с ней путешествовали, она, приближаясь к какому-нибудь большому городу, обыкновенно говорила: «Консуэлита, будь свидетельницей: если дела мои здесь будут удачны, я даю обет пойти босиком в часовню, пользующуюся славой наибольшей святости в этом крае, и молиться там в течение двух часов». И вот, когда дела бедняжки бывали (по ее мнению) хороши, то есть ей удавалось заработать своим пением несколько талеров, мы всегда совершали паломничество, какова бы ни была погода, как бы далеко ни находилась почитаемая часовня. То было благочестие ни особенно просвещенное, ни особенно возвышенное, но на эти обеты я смотрела как на нечто священное. И когда моя мать на смертном одре взяла с меня слово, что я не буду принадлежать Андзолето иначе, как повенчавшись с ним, она знала, что может умереть спокойно, веря моему обету. Позднее я дала обещание графу Альберту не думать ни о ком другом, кроме него, и всеми силами души стараться полюбить его так, как он хотел. Я не изменила своему слову и, не освободи он меня сейчас от него, могла бы остаться ему верна на всю жизнь.
– Оставь ты своего графа Альберта, о нем больше нечего думать, и, если уж тебе надо быть всегда во власти какого-нибудь обета, скажи, каким ты свяжешь себя по отношению ко мне?
– О учитель! Доверься моему благоразумию, моим нравственным устоям и моей преданности тебе. Не требуй от меня клятв, ведь этим налагаешь на себя страшное ярмо. Страх нарушить обет отравляет радость хороших побуждений и добрых дел.
– Я не понимаю таких отговорок, – возразил Порпора полу строгим, полушутливым тоном, – ты давала обеты всем, кроме меня. Не будем касаться того, которого потребовала от тебя мать. Он принес тебе счастье, бедное дитя мое. Не будь его, ты, пожалуй, попалась бы в сети этого негодяя Андзолето. Но поскольку ты могла без любви, а только по доброте сердечной надавать потом таких серьезных обещаний этому Рудольштадту, совершенно для тебя постороннему человеку, было бы очень дурно с твоей стороны, если бы в такой день, как сегодня – день счастливый и достопамятный, когда тебе возвращена свобода и ты обручилась с богом искусства, – ты не захотела дать самого маленького обета своему старому профессору и лучшему другу.
– О да! Лучший друг мой, благодетель, опора моя, отец! – воскликнула Консуэло, порывисто бросаясь в объятия Порпоры, который был так скуп на ласковые слова, что только два-три раза в жизни открыто высказал ей свою отеческую любовь. – Я могу без страха и колебаний дать вам обет посвятить себя вашему счастью и славе до последнего моего вздоха!
– Мое счастье – это слава, Консуэло. Ты же знаешь, – проговорил Порпора, прижимая ее к своему сердцу. – Другого я себе не представляю. Ведь я не похож на тех старых немецких мещан, чье счастье заключается лишь в том, чтобы иметь при себе внучку для набивания их трубок и приготовления им сладких пирожков. Мне, слава богу, не нужно ни туфель, ни лечебных настоек. Когда мне понадобится только это, я не позволю тебе посвящать мне свое время, да и теперь ты слишком усердно ухаживаешь за мной. Нет, ты прекрасно знаешь, не такая преданность мне нужна: я требую, чтобы ты была настоящей, великой артисткой. Обещаешь ли ты мне это? Обещаешь ли побеждать в себе лень, нерешительность, отвращение, какие чувствовала вначале? Обещаешь отклонять любезности и комплименты кавалеров, которые гоняются за актрисами – одни потому, что льстят себя надеждой обратить их в хороших хозяек, а, заметив в них противоположные наклонности, без церемонии их бросают; другие – потому, что разорены, но за удовольствие иметь карету и хороший стол готовы пожертвовать кастовыми предрассудками и живут за счет своих дражайших половин, путем бесчестия добывающих средства к жизни? И еще, обещаешь ли, что не дашь вскружить себе голову какому-нибудь теноришке с сочным голосом и курчавыми волосами, вроде негодяя Андзолето, который может гордиться только своими икрами и чей успех объясняется наглостью?
– Обещаю, даю вам торжественную клятву! – ответила Консуэло, добродушно смеясь над поучениями Порпоры, всегда помимо его воли, немного язвительными, но к которым она давно привыкла. – И даже больше, – прибавила она, снова становясь серьезной, – клянусь, что, пока я живу, вам никогда не придется пожаловаться на мою неблагодарность!
– О, столько я не прошу, – ответил с горечью маэстро, – это не под силу человеческой природе. Когда ты станешь певицей, известной всем народам Европы, в тебе проснутся тщеславие, честолюбие, жажда любви – все, от чего не смог предохранить себя ни один великий артист. Ты захочешь добиться успеха любой ценой. Ты не станешь добиваться его терпеливо или рисковать им ради дружбы или культа истинной красоты. Ты подчинишься игу моды, как все. В каждом городе будешь петь то, что больше всего нравится, не обращая внимания на дурной вкус публики и двора. Короче говоря, ты сделаешь себе карьеру и, несмотря на все, будешь великой, ибо нет иного способа быть великой для толпы. Только бы ты не забывала, когда тебе придется предстать перед судом небольшого кружка стариков вроде меня, что надо хорошо петь и выбирать достойные произведения! Только бы перед великим Генделем и старым Бахом ты сделала честь и методу Порпоры и себе самой – вот все, о чем я прошу тебя, вот все, на что надеюсь! Ты видишь, я не такой отец-эгоист, каким, без сомнения, некоторые из твоих поклонников меня считают. Я не требую от тебя ничего, что не послужило бы для твоего же успеха и твоей же славы.
– А я совершенно не забочусь о своей выгоде, – ответила растроганная и опечаленная Консуэло. – Успех может невольно опьянить меня, но я не в состоянии хладнокровно думать о том, чтобы всю свою жизнь поставить в зависимость от успеха, – ведь в таком случае я как бы своими руками стала увенчивать бы себя лаврами. Я хочу славы для вас, учитель мой! Вопреки вашему недоверию, я хочу вам показать, что только для вас Консуэло работает и разъезжает. И чтобы сейчас же убедить вас в том, что вы ее оклеветали, она клянется вам, раз вы верите ее клятвам, доказать все, что сейчас говорила!
– А чем же ты поклянешься мне? – спросил Порпора с нежной улыбкой, в которой все-таки проглядывало еще недоверие.
– Седыми волосами священной головы Порпоры! – ответила Консуэло, обнимая и благоговейно целуя учителя в лоб.
Беседа их была прервана появлением графа Годица, о котором доложил громадный гайдук. Лакей, испрашивая для своего барина позволение засвидетельствовать почтение маэстро Порпоре и его воспитаннице, смотрел на Консуэло с таким вниманием, недоумением и замешательством, что даже удивил ее. Однако ей не удалось припомнить, где она видела это добродушное, несколько странное лицо. Граф был принят и изложил свою просьбу в самых изысканных выражениях. Он едет в свое имение Росвальд в Моравии и, стремясь сделать приятное своей супруге маркграфине, готовит к ее приезду сюрприз в виде великолепного празднества. Ввиду этого он предлагает Консуэло спеть три вечера подряд в Росвальде и просит также, чтобы Порпора согласился сопровождать ее и помог ему в устройстве концертов, спектаклей и серенад, которыми он собирается угощать маркграфиню.
Маэстро сослался на только что подписанный контракт и обязательство быть в назначенный день в Берлине. Граф пожелал взглянуть на контракт, а так как он всегда прекрасно относился к Порпоре, то старик охотно доставил ему это маленькое удовольствие и посвятил во все подробности, предоставив Годицу обсуждать условия контракта, разыгрывать роль знатока, давать советы. После этого граф стал настаивать на своей просьбе, уверяя, что времени имеется больше, чем надо, чтобы, исполнив ее, попасть к сроку в Берлин.
– Вы можете покончить со своими приготовлениями в три дня, – заявил он, – и отправиться в Берлин через Моравию.
Правда, это было не совсем по пути, но, вместо того чтобы медленно двигаться через Чехию, страну мало благоустроенную и разоренную недавней войной, маэстро со своей ученицей могли очень скоро и удобно доехать до Росвальда в экипаже, который граф отдавал в их распоряжение, обещая позаботиться и о подставах, причем брал на себя все дорожные хлопоты и издержки. Граф предложил им таким же образом перевезти их из Росвальда в Пардубиц, если бы они пожелали спуститься по Эльбе до Дрездена, или в Хрудим – если бы они решили ехать через Прагу. Все, что он предлагал, действительно сокращало время их путешествия, а довольно кругленькая сумма, которую он к этому добавил, давала им возможность остальную часть пути проделать в лучших условиях. И Порпора согласился, несмотря на слегка недовольную мину Консуэло, хотевшую отклонить предложение. Сделка состоялась, и отъезд был назначен на последний день недели.
Когда Годиц, почтительно поцеловав руку Консуэло, оставил их вдвоем, она стала упрекать маэстро в том, что он так скоро позволил себя уговорить. Хотя ей нечего было опасаться дерзких выходок графа, она продолжала относиться к нему неприязненно и отправлялась в его поместье без всякого удовольствия. Ей не хотелось рассказывать Порпоре о приключении в Пассау, но она напомнила ему его собственные насмешки над музыкальным творчеством графа.
– Разве вы не видите, – сказала она, – что я буду обречена исполнять его музыкальные творения, а вам придется с серьезным видом дирижировать кантатами и, пожалуй, даже целыми операми его изделия? Так-то вы заставляете меня держать обет верности культу прекрасного!
– Полно тебе! – смеясь, ответил Порпора. – Я вовсе не стану проделывать это так серьезно, как ты думаешь; наоборот, я предвкушаю удовольствие хорошенько потешиться, и так, что патриций-маэстро ровно ничего не заподозрит. Проделать такие вещи серьезным образом перед почтенной публикой поистине было бы кощунством и позором, но позабавиться позволительно; и артист был бы очень несчастлив, если бы, зарабатывая себе на хлеб, не имел права посмеяться втихомолку над теми, кто дает ему заработок. К тому же ты увидишь там свою прелестную принцессу Кульмбахскую, которую ты так любишь. Она вместе с нами посмеется над музыкой своего отчима, хотя ей вовсе не до смеха.
Пришлось покориться, начать укладываться, делать необходимые покупки, прощальные визиты. Гайдн был в отчаянии. Но в это время неожиданное счастье, великая артистическая радость свалилась на него и отчасти вознаградила или, вернее, вынудила его отвлечься от горести предстоящей разлуки. Исполняя серенаду своего сочинения под окном чудесного мима Бернадоне, знаменитого арлекина театра у Каринтийских ворот, он привел в изумление этого милого и умного актера, завоевав вместе с тем его симпатию. Иосифа пригласили в дом и стали спрашивать имя автора только что исполненного прекрасного, оригинального трио. Узнав, что это он, подивились его юности и таланту и тут же вручили ему либретто балета «Хромой бес». Гайдн немедленно принялся писать к нему музыку, стоившую ему стольких усилий, что, будучи уже восьмидесятилетним старцем, он не мог вспомнить об этом труде без смеха. Консуэло старалась рассеять его грусть, то и дело заговаривая с ним о «Буре», которая, по настоянию Бернадоне, должна была вызывать у слушателей ужас, а Беппо, в жизни не видевший моря, никак не мог себе его представить. Консуэло описывала ему бушующее Адриатическое море, напевала жалобные стоны волн и смеялась вместе с ним над эффектами подражательной гармонии, для усиления которой в театре раскачивают руками голубые полотна, натянутые от одной кулисы до другой.
– Слушай, – сказал в утешение Порпора своему ученику, – работай ты хоть сто лет с лучшими инструментами в мире, прекрасно зная шум моря и ветра, тебе все-таки не передать божественной гармонии природы. Музыка не в состоянии этого сделать. Композитор наивно заблуждается, передавая звуковые фокусы и эффекты. Музыка выше этого, ее область – душевные волнения. Цель музыки – возбуждать эти волнения и вдохновляться ими. Представь себе переживания человека, находящегося во власти шторма. Представь себе зрелище страшное, величественное, мощное, грозящее опасностью! Представь, что ты, музыкант, то есть человеческий голос, человеческий вопль, живая потрясенная душа, мечешься, подхваченный этим бедствием, этой сумятицей, растерянностью, этими ужасами… Передай в звуках свои смертельные муки, – и слушатели, каковы бы они ни были, будут переживать их вместе с тобой. Им будет казаться, что они видят море, слышат скрип корабля, крики матросов, отчаянные вопли пассажиров… Что сказал бы ты о поэте, который, желая изобразить битву, сообщил бы тебе в стихотворной форме, что пушка делает «бум-бум», а барабан «план-план»? Это была бы подражательная гармония, более близкая к происходящему, чем изображение величественных картин природы, но это не была бы поэзия. Даже живопись, это наиболее описательное из всех искусств, не является рабски подражательной. Напрасно пытался бы художник изобразить темно-зеленое море, черное грозовое небо, разбитый остов корабля, – если он не сумеет вложить в это чувство ужаса, поэзию ансамбля, картина его выйдет бесцветной, будь она так же ярка, как вывеска пивной. Итак, молодой человек, прочувствуй сам великое бедствие и таким путем ты заставишь и других почувствовать его.
Маэстро все еще давал ему свои отеческие наставления, когда в запряженный экипаж, стоявший во дворе посольства, уже укладывали вещи. Иосиф внимательно слушал поучения учителя, черпая их, так сказать, из самого источника. Но когда Консуэло в накидке и меховой шапочке бросилась ему на шею, он побледнел, подавил готовый вырваться крик и, не в силах видеть, как она сядет в экипаж, убежал и забился в заднюю комнатку парикмахерской Келлера, чтобы скрыть от всех свои слезы.
Метастазио полюбил Иосифа, помог ему усовершенствоваться в итальянском языке и своими добрыми советами и великодушной заботой несколько облегчил юноше разлуку с Порпорой. Но долго еще Иосиф грустил и горевал, прежде чем свыкся с отсутствием Консуэло.
Она также была огорчена и жалела о таком милом, таком верном друге; но по мере того как путешественники продвигались в глубь Моравских гор, к ней снова возвращались мужество, пыл и поэтическая впечатлительность. Новое солнце всходило над ее жизнью. Освобожденная от всяких уз, от всякого господства, чуждого ее искусству, она считала, что обязана всецело отдаться ему. Порпора, к которому вернулись былые надежды и веселое настроение молодости, приводил ее в восторг своим красноречием; и благородная девушка, не переставая любить Альберта и Иосифа, как двух братьев, которых она надеялась вновь обрести на лоне божьем, почувствовала себя легкой, словно жаворонок, поднимающийся с песней к небу на заре прекрасного дня.
Уже на втором перегоне Консуэло узнала в слуге, который сопровождал ее и, сидя на козлах, расплачивался с проводниками или распекал за медлительность форейторов, того самого гайдука, который доложил им о прибытии графа Годица, когда владелец Росвальда приезжал предложить ей увеселительную поездку в свое поместье. Этот высокий, крепкий парень, все смотревший на нее украдкой и, по-видимому, желавший и в то же время боявшийся с нею заговорить, в конце концов обратил на себя ее внимание.
Однажды утром Консуэло завтракала на уединенном постоялом дворе у подножья гор, а Порпора, пока отдыхали лошади, пошел прогуляться, в надежде придумать какой-нибудь музыкальный мотив. Внезапно она повернулась к сопровождавшему их слуге, когда тот подавал ей кофе, и строго и сердито в упор посмотрела на него. И у гайдука появилось на лице такое жалобное выражение, что она не могла удержаться от смеха. Апрельское солнце сверкало на снегу, еще покрывавшем горы, и наша юная путешественница была в чудесном настроении.
– Увы! Ваша милость, стало быть, не удостаиваете узнать меня, – заговорил наконец таинственный гайдук, – я же всегда узнал бы вашу милость, будь вы переодеты в турка или в прусского ефрейтора, а между тем видел-то я вашу милость всего какую-нибудь минуту, зато в какую минуту моей жизни!
С этими словами он поставил на стол принесенный им поднос и, приблизившись к Консуэло, степенно перекрестился, а затем опустился на колени и поцеловал пол у ее ног. – А! – воскликнула Консуэло. – Дезертир Карл, не так ли?
– Да, синьора, – ответил Карл, целуя протянутую ему руку, – по крайней мере мне так велели называть вас, хотя я все же не могу разобрать хорошенько, кто вы – мужчина или дама.
– Правда? Откуда же берутся такие сомнения?
– Да потому что я видел вас мальчиком, а с тех пор – хоть и признал вас сразу – вы стали настолько походить на молоденькую девушку, насколько раньше походили на мальчика. Но это ничего не значит: будьте кем хотите; вы мне оказали помощь, которую я никогда в жизни не забуду. И прикажи вы мне броситься вниз вон с той вершины, я брошусь, раз вам это доставит удовольствие.
– Мне ничего не надо, милый мой Карл, кроме того, чтобы ты был счастлив и наслаждался своею свободой. Ты ведь свободен и, полагаю, снова полюбил жизнь?
– Свободен, да, – проговорил Карл, покачивая головой, – но счастлив ли?.. Я схоронил мою бедную жену.
Глаза отзывчивой Консуэло стали влажными при виде того, как слезы заструились по квадратным щекам бедного Карла.
– Ах! – сказал он, шевеля рыжими усами, с которых слезы скатывались, как дождь с куста. – Она слишком исстрадалась, бедняжка! Горе, которое она испытала, когда меня вторично увезли пруссаки, длинное путешествие пешком, когда она уже была очень больна, потом радость свидания со мной – все это подорвало ее силы, и она умерла через неделю по прибытии в Вену, где я ее разыскивал, а она благодаря вашей записке нашла меня с помощью графа Годица. Этот великодушный вельможа послал ей своего доктора и оказал ей поддержку, но ничего не помогло: она, понимаете, устала жить и отправилась отдыхать на небо, к милосердному господу богу.
– А твоя дочка? – спросила Консуэло, думая навести его на более утешительные мысли.
– Дочь? – переспросил он с мрачным, несколько растерянным видом. Прусский король убил и ее.
– Как убил? Что ты говоришь?
– Да разве не прусский король убил ее мать, причинив ей столько горя?
Ну вот и дочка ушла вслед за матерью. С того самого вечера, когда они видели, как меня избили в кровь, связали и увели вербовщики, а сами остались полумертвыми на дороге, малютку не переставала трясти лихорадка. Усталость и нужда в пути доконали ее. Когда вы повстречали их на мосту при въезде в какую-то австрийскую деревушку, у них тогда уже два дня ни крошки во рту не было. Вы дали им денег, сообщили о моем спасении, вы все сделали, чтобы их утешить и излечить, – они рассказывали мне, – но было слишком поздно. После того как мы встретились, им становилось все хуже и хуже, и именно в тот момент, когда мы могли быть счастливы, их обеих унесли на кладбище. Не осела еще земля на могиле моей жены, как пришлось разрывать ее, чтобы опустить туда наше дитя. И вот теперь по милости прусского короля Карл один-одинешенек на свете!
– Нет, бедный мой Карл, ты не всеми покинут, у тебя остались друзья, которым всегда будут близки твои несчастья и твое доброе сердце.
– Да, я знаю. Есть на свете добрые люди, и вы из их числа. Но что мне теперь нужно, когда у меня больше нет ни жены, ни ребенка, ни отчизны! Ведь я никогда не буду чувствовать себя в безопасности на родине. Эти разбойники, которые два раза приходили за мной, слишком хорошо знают мои горы. Оставшись один на свете, я сразу же стал справляться, нет ли у нас сейчас войны, не предвидится ли она в скором времени. В моей голове крепко засела мысль сражаться против Пруссии, чтобы убить как можно больше пруссаков. О! Святой Венцеслав, покровитель Чехии, уж направил бы мою руку, и я уверен, что ни одна пуля, вылетев из моего ружья, не пропала бы даром! Я говорил себе: авось бог поможет мне встретить в каком-нибудь ущелье прусского короля, и тогда… будь он закован в латы, как сам архангел Михаил… придись мне даже гнаться за ним, как собаке по следу волка… Но я узнал, что мир упрочился надолго. И тогда все мне опостылело, и я отправился к его сиятельству графу Голицу, чтобы поблагодарить его и попросить не представлять меня императрице, как он намеревался сделать. Я хотел было покончить с собой, но граф был так добр ко мне, а принцесса Кульмбахская, его падчерица, которой он по секрету рассказал всю мою историю, наговорила мне столько прекрасных слов относительно долга христианина, что я решил жить и поступил к ним на службу, где, по правде сказать, меня слишком хорошо кормят и слишком хорошо обращаются со мной за то немногое, что мне приходится делать.
– А теперь скажи мне, дорогой Карл, как мог ты меня узнать? – спросила Консуэло, отирая глаза.
– Ведь вы же приезжали однажды петь к моей новой хозяйке, маркграфине. Я видел, как вы прошли вся в белом, и тотчас же признал вас, хоть вы и превратились в барышню. Видите ли, я не очень-то хорошо помню места, по которым проходил, имена людей, с которыми встречался, а вот лица я никогда не забываю. Я только было перекрестился, как увидел, что за вами идет юнец, – я узнал в нем Иосифа, – но вместо того, чтобы быть вашим хозяином, каким я видел его в минуту своего освобождения (ведь тогда малый был одет получше вас), он превратился в вашего слугу и остался в передней. Он не узнал меня, а так как господин граф запретил мне хоть единым словом обмолвиться кому бы то ни было о том, что со мной случилось (я так никогда и не узнал и не спрашивал почему), я не заговорил с добрейшим Иосифом, хотя мне и очень хотелось броситься ему на шею. Почти сейчас же он ушел в другую комнату. Мне же было приказано оставаться в той, где я находился, – а хороший слуга исполняет то, что ему ведено. Но когда все разъехались, камердинер его сиятельства, пользующийся его полным доверием, сказал мне: «Карл, ты не разговаривал с этим маленьким лакеем Порпоры, хотя и узнал его, и хорошо сделал. Господин граф будет тобой доволен. Что же касается барышни, которая пела сегодня…» – «О! Я ее тоже узнал! – воскликнул я. – И тоже ничего не сказал». – «Ну, и опять-таки ты хорошо поступил, – прибавил камердинер. – Господин граф не хочет, чтобы знали, что она ездила с ним в Пассау». – «Это меня не касается, – возразил я, – но могу ли я спросить тебя-то, как освободила она меня из рук пруссаков?» Тогда Генрих (а он ведь там был) рассказал мне, как все произошло, как вы бежали за каретой господина графа и как, когда вам нечего было уже бояться за самих себя, вы настаивали на том, чтобы он освободил меня. Вы также кое-что говорили об этом моей бедной жене, а она передала мне. Умирая, жена благословляла вас, препоручала вас богу. «Эти бедные дети, – сказала она, – с виду такие же несчастные, как и мы, отдали мне все, что имели, и плакали так, как будто мы им родные». Ну, и вот, когда я увидел, что Иосиф служит у вас, и мне было поручено отнести ему деньги от его сиятельства, у которого он как-то вечером играл на скрипке, я вложил в конверт несколько дукатов – первые заработанные мною в этом доме. Он не узнал об этом, да и меня не признал. Но если мы вернемся в Вену, я сделаю так, чтобы он никогда не нуждался, пока я зарабатываю.
– Иосиф больше не служит у меня, мой милый Карл; он мой друг и теперь уже не нуждается: он музыкант и легко будет зарабатывать себе на жизнь. Не обделяй же себя ради него.
– Что касается вас, синьора, то я так мало могу сделать, чтобы доказать вам свою благодарность: ведь, говорят, вы великая актриса; но имейте в виду, если когда-нибудь вам понадобится слуга, а вы не будете в состоянии ему платить, обратитесь к Карлу и рассчитывайте на него. Он будет служить вам даром, и для него будет счастьем, что он может работать на вас.
– Ты уже достаточно заплатил мне своей признательностью, а твоей самоотверженности мне не надо.
– Вот и господин Порпора вернулся. Помните, синьора: я имею честь вас знать только как слуга, предоставленный в ваше распоряжение моим хозяином.
На следующий день наши путешественники, поднявшись рано утром, не без затруднений добрались к полудню до замка Росвальд. Он был расположен высоко, на склоне самых красивых гор в Моравии, и так хорошо защищен от холодных ветров, что здесь уже чувствовалась весна, в то время как вокруг за полмили от замка царила еще зима. Хотя погода по тому времени и стояла прекрасная, дороги были еще очень мало удобны для езды. Но графа Годица ничто не могло остановить и невозможное было для него шуткой; он уже прибыл и распорядился, чтобы сотня землекопов выровняла дорогу, по которой на следующий день должен был проследовать величественный поезд его благородной супруги. Быть может, он выказал бы себя более благонамеренным и заботливым супругом, поехав вместе с нею, но главная суть заключалась вовсе не в том, чтобы она по дороге не сломала себе ноги и руки, а в том, чтобы задавать в честь ее празднество. Живая или мертвая, вступая во владение росвальдским дворцом, она должна была встретить пышный прием и не менее пышные увеселения.
Не успели переодеться наши путешественники, как граф приказал подать им роскошный обед в гроте из мха и раковин, где большая печь, скрытая меж искусственных скал, распространяла приятную теплоту. На первый взгляд место это показалось Консуэло очаровательным. Вид, открывавшийся из грота, был действительно великолепен. Природа ничего не пожалела для Росвальда. Крутые живописные горы, вечнозеленые леса, обильные источники, чудесный пейзаж, необъятные луга – всего этого, с комфортабельным замком в придачу, было совершенно достаточно, чтобы получилась идеальная загородная резиденция. Но вскоре Консуэло заметила, какими причудливыми затеями граф ухитрился исказить божественную природу. Грот был бы прелестен, если бы его не портили окна, делавшие его похожим на несуразную столовую; так как каприфолий и вьюнки едва начинали пускать почки, двери и оконные рамы были увиты искусственной листвой и цветами, – и это создавало претенциозную безвкусицу; среди раковин и сталактитов, несколько пострадавших от зимних холодов, проглядывали штукатурка и замазка, с помощью которых они были вделаны в скалы, а от жара печки, испарявшей остатки сырости из свода, влага капала на головы гостей в виде грязного нездорового дождя; но граф как будто и не замечал этого. Порпору это раздражало, и он два-три раза брал шляпу, не решаясь, однако, несмотря на большое желание, нахлобучить ее на голову. Особенно боялся он, чтобы Консуэло не схватила насморк, и торопился покончить с едой, мотивируя свою поспешность тем, что сгорает от нетерпения познакомиться с произведениями, которыми ему предстоит дирижировать на следующий день.
– О чем вы так беспокоитесь, дорогой маэстро? – сказал ему граф, большой любитель покушать и охотник до бесконечности рассказывать, как он заказал и приобрел те или иные роскошные и редкие предметы своей сервировки. – Таким искусным и опытным музыкантам, как вы, нужно не больше получаса, чтобы войти в курс дела. Музыка моя проста и естественна. Я не принадлежу к тем композиторам-педантам, которые стремятся поразить вас искусными, причудливыми гармоническими сочетаниями. В деревне требуется простая музыка, пасторальная. Я поклонник только безыскусственных и легких песен; они по вкусу и маркграфине. Увидите, все пойдет как по маслу. Притом мы не теряем времени. Пока мы завтракаем, мой дворецкий подготавливает все согласно моим приказаниям: хористы будут на месте и все музыканты на своем посту.
В то время как его сиятельство говорил, ему доложили, что два иностранных офицера, путешествующие в здешних местах, просят разрешения войти и приветствовать графа, желая получить от него разрешение осмотреть дворец и сады Росвальда.
Граф привык к такого рода посещениям, и ничто не могло доставить ему большего удовольствия, как самому служить cicerone любопытным посетителям, показывая им прелести своей резиденции.
– Пусть войдут! Милости просим! – воскликнул он. – Поставьте приборы и проведите их сюда.
Несколько минут спустя вошли два офицера. На них была прусская форма. Тот, что шел первым и являлся как бы ширмой, за которой, казалось, пытался укрыться его товарищ, был небольшого роста, с довольно хмурым лицом. Его длинный толстый нос, лишенный благородства, еще больше подчеркивал некрасивый, запавший рот и почти полное отсутствие подбородка. Некоторая сутуловатость придавала стариковский вид его фигуре, затянутой в неуклюжий форменный мундир, придуманный Фридрихом. А между тем человеку этому было никак не больше сорока лет. У него была очень смелая походка, а когда он снял отвратительную шляпу, закрывавшую лицо до самого носа, обнаружился большой, умный лоб мыслителя, подвижные брови и удивительно ясные и живые глаза. Взгляд этих глаз преображал его, как солнечные лучи, что окрашивают и придают красоту самым мрачным прозаическим ландшафтам. Казалось, он вырастал на целую голову, когда сверкали глаза на его бескровном изможденном и беспокойном лице.
Граф Годиц принял гостей скорее сердечно, чем церемонно, не теряя времени на пространные приветствия, велел поставить два прибора и начал с истинно патриархальным добродушием потчевать их самыми вкусными блюдами. Годиц был добрейший человек, и тщеславие не только не развращало его сердца, но даже способствовало развитию в нем таких качеств, как доверчивость и великодушие. Рабство царило еще во владениях Росвальда, и все чудеса его были созданы без особых затрат – оброчным трудом и барщиной, но он усыпал ярмо своих рабов цветами и лакомствами. Он заставлял их забывать о необходимом, в избытке раздавая мишурные подачки, и, убежденный в том, что только в удовольствии счастье, так увеселял их, что они и не помышляли о свободе.
Прусский офицер (в сущности, он был один, ибо другой как бы представлял собою только его тень) сначала как будто был удивлен, даже несколько шокирован бесцеремонностью графа и напустил на себя сдержанную учтивость, но тут граф сказал:
– Господин капитан, прошу вас отбросить всякие стеснения и чувствовать себя как дома. Я знаю, что в армии Фридриха Великого вы приучены к суровой дисциплине, и нахожу ее чудесной на своем месте, но здесь вы в деревне, а если в деревне не веселиться, к чему же и приезжать сюда! Я вижу, вы люди воспитанные, с хорошими манерами. Как офицеры прусского короля, вы, несомненно, выказали большие познания в военных науках и проявили беззаветную храбрость. И я считаю, что вы делаете честь моему дому своим пребыванием в нем. Прошу вас без церемоний располагать им и оставаться до тех пор, пока вам будет приятно.
Офицер как умный человек тотчас же сдался и, в том же тоне поблагодарив хозяина, налег на шампанское; однако это ни на йоту не заставило его потерять хладнокровие и не помешало оценить превосходный пирог, относительно которого он пустился в гастрономические рассуждения, не внушившие Консуэло, весьма умеренной в пище, высокого мнения о нем. Но ее поразил, хотя и не очаровал, его огненный взгляд; она почувствовала в нем нечто высокомерное, испытующее, недоверчивое, что было ей не по сердцу.
Во время завтрака офицер сообщил графу, что его имя барон фон Кройц, он уроженец Силезии, куда послан за приобретением лошадей для кавалерии. Попав в Нейс, он не мог противостоять желанию посмотреть столь восхваляемые сады и дворец Росвальда, – вот почему он перебрался утром через границу, причем и здесь, пользуясь случаем, закупил некоторое количество лошадей. Он даже выразил желание осмотреть конюшни, если у графа имеются лошади для продажи. Путешествует он верхом и вечером уезжает обратно.
– Этого я не допущу, – сказал граф. – В данную минуту у меня нет лошадей на продажу. Мне самому их не хватает для сооружения в моих садах задуманных мною новых украшений. Но мне хотелось бы как можно дольше быть в вашем обществе.
– Когда мы приехали сюда, мы узнали, что вы с часу на час ждете графиню Годиц; нам не хотелось бы быть вам в тягость, и, услышав о ее приближении, мы тотчас же исчезНем. – Я только завтра жду маркграфиню, – ответил граф, – она прибудет сюда с дочерью своей, принцессой Кульмбахской. Вам, верно, известно, господа, что я имел честь заключить благородный брак…
– С вдовствующей маркграфиней Байрейтской, – несколько резко перебил его барон фон Кройц, казалось менее ослепленный этим титулом, чем ожидал граф.
– Она тетка прусского короля, – с некоторой напыщенностью проговорил Годиц.
– Да, да, я знаю, – ответил прусский офицер, беря большую понюшку табаку.
– И так как графиня удивительно милая и любезная дама, – продолжал граф, – то я не сомневаюсь, что она будет бесконечно рада принять и угостить храбрых слуг короля, своего именитого племянника.
– Мы были бы очень тронуты такой великой честью, – сказал, улыбаясь, барон, – но у нас нет времени этим воспользоваться. Долг настойчиво призывает нас нести службу, и мы сегодня же распростимся с вашим сиятельством; а пока мы были бы счастливы полюбоваться вашим прекрасным поместьем: у нашего повелителя короля нет ведь ни одной резиденции, которая могла бы с ним сравниться.
Этот комплимент вернул пруссаку расположение моравского вельможи. Встали из-за стола. Порпора, более заинтересованный репетицией, чем прогулкой, хотел было от нее уклониться.
– Нет! Нет! – настаивал граф. – И прогулка и репетиция – все произойдет одновременно; вот увидите, маэстро!
Граф предложил руку Консуэло и, проходя с нею вперед, сказал:
– Извините, господа, что я завладел единственной присутствующей среди нас в эту минуту дамой: это уж право хозяина! Будьте добры следовать за мной: я буду вашим проводником.
– Осмелюсь вас спросить, сударь, – сказал барон Кройц, впервые обращаясь к Порпоре, – кто эта милая дама?
– Я, сударь, итальянец, – ответил бывший не в духе Порпора, – я плохо понимаю немецкий язык и еще меньше французский.
Барон, до сих пор говоривший с графом по-французски, согласно обычаю того времени, существовавшему между людьми светского общества, повторил свой вопрос по-итальянски.
– Эта милая дама, не проронившая в вашем присутствии ни единого слова, не маркграфиня, не вдовствующая графиня, не княгиня и не баронесса, – сухо ответил Порпора. – Она итальянская певица, не лишенная таланта.
– Тем интереснее мне с нею познакомиться и узнать ее имя, – возразил барон, улыбаясь резкости маэстро.
– Это Порпорина, моя ученица, – ответил Порпора.
– Я слышал, что она очень талантливая особа, – заметил пруссак, – ее с нетерпением ожидают в Берлине. Раз это ваша ученица, значит, я имею честь говорить со знаменитым Порпорой.
– К вашим услугам, – с неменьшей сухостью проговорил Порпора, нахлобучивая на голову шляпу, которую приподнял в ответ на глубокий поклон барона фон Кройца.
Барон, видя, до чего малообщителен старик, пропустил его вперед, а сам пошел за ним в сопровождении следовавшего за ним поручика. Порпора, у которого словно и на затылке были глаза, каким-то образом увидел, что оба смеются, поглядывая на него и говоря о нем на своем языке. Это еще меньше расположило маэстро в их пользу, и он не подарил их ни единым взглядом во все время прогулки.
Глава 100
Вся компания сошла по небольшому, но довольно крутому спуску к речке, прежде представлявшей собой красивый поток, чистый и бурный; но так как надо было сделать ее судоходной, ее русло выровняли, аккуратно срезали берега и замутили прозрачную воду. Рабочие и сейчас были заняты очисткой речки от огромных камней, сваленных в нее зимней непогодой и придававших ей еще кое-какую живописность, но и их спешили удалить. Здесь гуляющих ожидала гондола – настоящая гондола, выписанная графом из Венеции и заставившая забиться сердце Консуэло, напомнив столько милого и так много горького. Все разместились в гондоле и отчалили… Гондольеры были также настоящие венецианцы, говорившие на своем родном наречии, – их выписали вместе с гондолой, как в наши дни выписывают негров при жирафе. Граф Годиц, много путешествовавший, воображал, что знает все языки, но как ни самоуверенно, как ни громко и выразительно отдавал он приказания своим гондольерам, те с трудом поняли бы их, если бы Консуэло не служила переводчиком. Им велено было спеть стихи Тассо, но бедняги, охрипшие от снегов севера, оторванные от своей родины, показали пруссакам довольно жалкий образец своего искусства. Консуэло пришлось подсказывать им каждую строфу, и она обещала своим землякам прорепетировать с ними те отрывки, которые им на следующий день предстояло исполнить перед маркграфиней. После пятнадцатиминутного плавания, покрыв за это время расстояние, которое можно было пройти в три минуты, если бы бедному, сбитому с пути потоку не устроили тысячу предательских изгибов, путники дошли до «открытого моря». То был довольно обширный бассейн, куда гондола пробралась сквозь кущи кипарисов и елей и где, против ожидания, было действительно довольно красиво. Однако любоваться этим видом не пришлось. Надо было перейти на крошечный кораблик, снабженный решительно всем: мачтами, парусами, канатами. Это была превосходная модель корабля, оснащенного по всем правилам, но он едва не пошел ко дну из-за слишком большого количества матросов и пассажиров. Порпора очень озяб. Ковры были влажны; хотя граф, прибывший накануне, произвел тщательный осмотр «флота», суденышко, по-видимому, давало течь. Всем было не по себе; исключение составляли только Консуэло, которую начинало не на шутку забавлять сумасбродство хозяина, и граф, который благодаря счастливому своему характеру никогда не придавал значения маленьким неприятностям, сопровождавшим его увеселения.
Флот, соответствовавший адмиральскому судну, встав под его команду, проделал разные маневры, которыми граф, вооруженный рупором и стоя на корме, руководил самым серьезным образом, причем выходил из себя, когда дело шло не так, как ему хотелось, и тут же заставлял повторять все сначала. Затем все суда двинулись вперед под звуки духовых инструментов, страшно фальшививших, и это окончательно вывело из себя Порпору.
– Ну, куда бы уж ни шло заставлять нас мерзнуть и простуживаться, – ворчал он сквозь зубы, – но до такой степени терзать нам уши – это слишком.
– Паруса на Пелопоннес! – отдал команду граф, и весь флот пошел к берегу, усеянному крошечными постройками наподобие греческих храмов и древних гробниц.
Вошли в маленькую бухточку, скрытую в скалах, и в десяти шагах от берега были встречены залпом из ружей. Двое матросов упали при этом «замертво» на палубу, а маленький, очень легкомысленный юнга, сидевший высоко на канатах, громко вскрикнув, спустился, или, скорее, ловко соскользнул на палубу и стал по ней кататься, вопя, что он ранен, и закрывая руками голову, в которую якобы попала пуля.
– Сейчас, – сказал граф Консуэло, – вы мне потребуетесь для маленькой репетиции, которую я хочу проделать со своим экипажем. Будьте добры на минуту изобразить маркграфиню и прикажите этому умирающему ребенку, так же как и тем двум убитым, которые, кстати сказать, просто по-дурацки упали, – подняться, моментально выздороветь, взяться за оружие и защищать ее высочество от дерзких пиратов, засевших вон там.
Консуэло тотчас согласилась взять на себя роль маркграфини и сыграла ее с гораздо большим благородством и грацией, чем сделала бы это сама г-жа Годиц. Убитые и умирающие привстали и, стоя на коленях, поцеловали ей руку. Тут же им было приказано графом не прикасаться на самом деле своими губами вассалов к благородной руке ее высочества, а целовать собственную руку, делая вид, что приближают губы к ее руке. Затем убитые и умирающие бросились к оружию, проявляя при этом бурный энтузиазм. Маленький скоморох, изображавший юнгу, вскарабкался, как кошка, обратно на мачту и выстрелил из легкого карабина по бухте пиратов. Флот сомкнулся вокруг новой Клеопатры, и маленькие пушки произвели ужасающий шум. Граф, боясь испугать Консуэло, предупредил ее, и она не была введена в заблуждение, когда началась эта нелепая комедия. Но прусские офицеры, по отношению к которым он не нашел нужным проявить такую же любезность, видя, как после первых выстрелов упали два человека, бледнея, прижались друг к другу. Тот, что все молчал, казалось, очень испугался за своего капитана, чье смятение также не укрылось от спокойного, наблюдательного взора Консуэло. Однако не испуг отразился на лице капитана, а, наоборот, возмущение, даже, пожалуй, гнев, – как будто эта шутка оскорбила его лично, казалась обидной для его достоинства пруссака и офицера. Годиц не обратил на это никакого внимания, а когда загорелся бой, оба офицера уже громко хохотали и как нельзя лучше отнеслись к потехе. Они даже сами взялись за шпаги и, фехтуя, как бы приняли участие в этой сцене.
Пираты, одетые греками, вооруженные пищалями и пистолетами, заряженными порохом, выйдя на своих легких челнах из-за красивых маленьких рифов, сражались как львы. Им дали возможность броситься на абордаж, и тут их всех перебили, чтобы добрая маркграфиня имела удовольствие их воскресить! Единственная жестокость, проявленная при этом, состояла в том, что некоторые из пиратов были сброшены в воду. Вода в бассейне была чрезвычайно холодна, и Консуэло пожалела было их, но тотчас же увидела, что это доставляет им удовольствие и они даже хвастают перед товарищами-горцами своим умением плавать.
Когда флот, возглавляемый «Клеопатрой» (ибо корабль, на который должна была вступить маркграфиня, на самом деле носил это громкое имя), победил, он, конечно, увел в плен флот пиратов и под звуки победной музыки (по мнению Порпоры, годной только для похорон дьявола) отправился обозревать берега Греции. Затем подошли к неизвестному острову, где виднелись землянки и экзотические деревья, прекрасно акклиматизировавшиеся или искусно сделанные, ибо в этом трудно было разобраться, до того настоящее и поддельное на каждом шагу смешивалось друг с другом. У берега острова были пришвартованы пироги. Туземцы бросились в них с невероятно дикими криками и поплыли навстречу флоту: они везли дикие цветы и плоды, только что срезанные в теплицах графской резиденции. Дикари были взъерошены, татуированы, курчавы, похожи больше на дьяволов, чем на людей. Костюмы их были не очень-то выдержаны. Одни из дикарей были украшены перьями, как перуанцы, другие закутаны в меха, как эскимосы. Но этому не придавалось значения, лишь бы они были поуродливее и порастрепаннее, чтобы их можно было принять по меньшей мере за людоедов. Эти уроды много кривлялись, а их предводитель, великан с приклеенной бородой до пояса, выступил с речью, которую на языке дикарей сочинил сам граф Годиц. То было сочетание каких-то хрипящих и режущих ухо слогов, расположенных как попало, чтобы изобразить причудливый варварский говор. Граф, заставив предводителя произнести свою тираду без ошибки, взялся сам перевести эту замечательную речь Консуэло, все еще игравшей роль маркграфини до появления супруги графа.
– Вот о чем идет речь, сударыня, – начал граф, подражая приветствиям короля дикарей, – это племя людоедов; у них в обычае пожирать всех иноплеменников, высадившихся на их остров, но это племя так восхищено и покорено вашей волшебной красотой, что слагает к ногам вашим свою жестокость и предлагает вам быть королевой этих неведомых земель. Соблаговолите ступить на них без страха; и хотя они бесплодны и не возделаны, тем не менее цветы цивилизации вскоре зацветут под вашими стопами.
Причалили к берегу под песни и пляски юных дикарок. Чучела, набитые соломой, изображавшие невиданных и свирепых зверей, с помощью вделанных в них пружин вдруг преклонили колена, приветствуя появление Консуэло на острове. Затем недавно посаженные деревья и кусты повалили, дернув за веревки, скалы из картона обрушились, и появились домики, убранные цветами и листьями. Пастушки, гнавшие настоящие стада (у Годица в них не было недостатка), поселяне, хотя и одетые по последней моде оперного театра, но весьма неопрятные вблизи, даже прирученные косули и лани явились выразить верноподданнические чувства новой государыне и приветствовать ее.
– Завтра вам придется играть перед ее высочеством, – обратился граф к Консуэло. – Вам будет доставлен костюм языческой богини, весь в цветах и лентах, и вы будете вот в этой пещере. Маркграфиня войдет сюда, и вы ей споете кантату (она у меня в кармане), в которой выражена мысль, что вы уступаете маркграфине свои божественные права, ибо там, где она соблаговолит появиться, может быть только одна богиня.
– Посмотрим кантату, – проговорила Консуэло, беря из рук графа его произведение.
Ей не стоило большого труда прочесть и пропеть с листа наивную, навязшую на зубах мелодию, где слова и музыка вполне соответствовали друг другу. Оставалось только выучить их наизусть. Две скрипки, арфа и флейта, спрятанные в глубине пещеры, аккомпанировали ей вкривь и вкось. Порпора заставил их повторить. Через каких-нибудь четверть часа все пошло на лад. Не только эту роль должна была исполнять на празднестве Консуэло, и не единственной была эта кантата в кармане графа Годица. К счастью, произведения его были коротки: нельзя было утомлять маркграфиню слишком большой дозой музыки.
Корабли, стоявшие у острова дикарей, снова подняли паруса и теперь причалили к китайскому берегу: башни, казавшиеся фарфоровыми, беседки, сады карликовых деревьев, мостики, джонки и чайные плантации – все было налицо. Ученые и мандарины, довольно хорошо костюмированные, явились приветствовать маркграфиню на китайском языке, а Консуэло, переодевшись во время перехода в трюме одного из кораблей супругой мандарина, спела куплеты на китайском языке, также сочиненные графом Годицем в свойственном ему стиле: Пинг-панг-тионг Хи-хан-хонг. Песенка – благодаря сокращениям, свойственным этому удивительному языку, – означала следующее:
«Прекрасная маркграфиня, великая принцесса, кумир всех сердец, царите вечно над вашим счастливым супругом и над вашей ликующей росвальдской империей в Моравии».
Покидая «Китай», гости разместились в роскошных паланкинах и на плечах несчастных китайских рабов и дикарей поднялись на вершину небольшой горы, где оказался город лилипутов. Дома, леса, озера, горы – все доходило вам до колен или до щиколотки, и надо было нагнуться, чтобы увидеть внутри домов мебель и хозяйственную утварь, по величине соответствовавшие всему остальному. На городской площади, под звуки дудочек, варганов и бубен, плясали марионетки. Люди, манипулировавшие марионетками и исполнявшие музыку лилипутов, были спрятаны под землей, в ямах, специально для этого вырытых.
Спустившись с горы лилипутов, граф Годиц и его гости очутились на небольшом пустыре, размером в какую-нибудь сотню шагов, загроможденном огромными скалами и могучими деревьями, предоставленными своему естественному росту. Это было единственное место, которое граф не испортил и не изуродовал. Он удовольствовался тем, что оставил его таким, каким нашел. – Долго ломал я себе голову над тем, как использовать это глубокое ущелье, – поведал он своим гостям, – и все не мог придумать, каким способом избавиться от громадных скал и какую форму придать этим великолепным, но беспорядочно растущим деревьям. Вдруг меня осенила мысль окрестить это место пустыней, хаосом. Я представил себе, какой получится эффектный контраст, когда, отойдя от этих ужасов природы, попадешь в роскошный, находящийся в прекрасном состоянии цветник. Чтобы дополнить иллюзию, я вам сейчас покажу нечто очень интересное.
С этими словами граф завернул за огромную скалу, возвышавшуюся у дорожки (нельзя же было, на самом деле, не провести в страшной пустыне хотя бы одной гладенькой, усыпанной песком дорожки), и Консуэло очутилась у входа в обитель пустынника, высеченную в скале, над которой возвышался грубо обтесанный деревянный крест. Оттуда вышел пустынник. То был добродушный крестьянин, чья поддельная длинная седая борода плохо гармонировала с молодым лицом, сиявшим румянцем юности. Он произнес прекрасную проповедь (неправильные выражения тут же поправлялись графом), дал свое благословение и поднес Консуэло кореньев и молока в деревянной чашке.
– Я нахожу, что пустынник слишком юн, – заметил барон фон Кройц, – вы могли бы, пожалуй, поместить сюда настоящего старца.
– Это не понравилось бы маркграфине, – простодушно пояснил граф Годиц. – Она весьма справедливо находит, что старость приносит мало веселья и на празднествах надо видеть только молодых актеров. Избавляю читателей от дальнейшей прогулки. Не было бы конца, если бы я стал описывать различные страны, жертвенники друидов, индийские пагоды, крытые дороги и каналы, девственные леса, подземелья, где можно было видеть высеченное на скалах изображение мистерии страстей господних; искусственные пещеры с бальными залами, Елисейские поля, могилы, водопады, серенады наяд и шесть тысяч фонтанов, которые, как впоследствии рассказывал Порпора, он должен был «переварить». Были тут еще тысячи других прелестей, о которых подробно и с восторгом передают нам мемуары того времени: например, полутемный грот, куда можно было проникнуть лишь разбежавшись, – в глубине его находилось зеркало, которое, отражая в полумраке ваш собственный образ, неминуемо должно было страшно пугать вас; монастырь, где, под страхом пожизненного заточения, вас обязывали клясться в вечной покорности и вечном обожании маркграфини; дерево, с которого благодаря спрятанному в ветвях насосу лились на вас чернила, кровь или розовая вода, – в зависимости от того, хотели вас чествовать или издеваться над вами; словом, масса прелестного, таинственного, остроумного, непонятного, главное – стоящего бешеных денег; всего, что Порпора имел дерзость находить невыносимым, идиотским, возмутительным. Только ночь положила конец этой прогулке вокруг света, во время которой гости то верхом, то в крытых носилках, на ослах, в каретах или в лодках отмахали добрые три мили.
Привычные к холоду и усталости прусские офицеры хоть и посмеивались над ребяческими забавами и «сюрпризами» Росвальда, однако не были так поражены смехотворной стороной этой чудесной резиденции, как Консуэло. Дитя природы, она родилась среди полей, привыкла, с тех пор как у нее открылись глаза, смотреть на все созданное богом не в лорнет и не через газовое покрывало; а барон фон Кройц, не являясь новичком в аристократическом обществе, привыкшем к роскошному убранству и модным украшениям, все-таки был человек своего круга и своего времени. Он не питал отвращения ни к гротам, ни к уединенным беседкам в парке, ни к статуям. В общем, барон развлекался с величайшим благодушием, смеялся и острил, и когда его спутник, входя в столовую, почтительно выразил ему сочувствие по поводу того, что пришлось поскучать во время несносной прогулки, возразил ему:
– Скучать? Мне? Да нисколько. Я двигался, нагулял себе аппетит, насмотрелся на тысячу безумств, отдохнул от серьезных дел, – нет, нет, я не потерял даром времени.
Все были крайне удивлены, увидев в столовой одни лишь стулья, стоящие вокруг пустого места. Граф попросил своих гостей сесть и приказал лакеям подавать.
– Увы! Ваше сиятельство, – заявил лакей, которому надлежало отвечать, – у нас не было ничего достойного предложить такому почтенному обществу, и мы даже не накрыли на стол.
– Вот это мило! – воскликнул хозяин с наигранной свирепостью и, помолчав немного, добавил: – Ну, хорошо! Если люди отказывают нам в ужине, взываю к аду и требую, чтобы Плутон прислал ужин, достойный моих гостей! Сказав это, он трижды постучал об пол, и пол немедленно ушел куда-то вбок, а в образовавшемся отверстии показалось ароматное пламя; затем при звуках веселой и причудливой музыки под локтями гостей появился роскошно сервированный стол.
– Недурно! – промолвил граф, приподнял скатерть и дальше уже продолжал говорить под столом: – Одно только меня очень удивляет: ведь господину Плутону известно, что в моем доме нет даже воды, а между тем он не прислал ни одного графина.
– Граф Годиц, – ответил из глубины хриплый голос, достойный преисподней, – вода – большая редкость в аду, ибо все наши реки пересохли с тех пор, как глаза ее высочества маркграфини зажгли страстью самые недра земли; тем не менее, если вы требуете воды, мы пошлем одну из Данаид на берег Стикса, быть может, она найдет там воду.
– Пусть поспешит, но главное – дайте ей бочку без пробоин.
И сейчас же из прекрасной яшмовой чаши, стоявшей посреди стола, забил фонтан горной воды, который в течение всего ужина рассыпался снопом бриллиантов, загоравшихся, отражая множество свечей. Столовый сервиз был шедевром роскоши и безвкусицы, а вода Стикса и «адский» ужин послужили графу поводом для бесконечной и неостроумной игры слов, всяких намеков и вздорной болтовни, но все прощалось ему ради его наивной ребячливости. Вкусный сытный ужин, поданный юными сильфами и более или менее хорошенькими нимфами, привел в веселое настроение барона фон Кройца. Однако он не обращал почти никакого внимания на красивых крепостных хозяина пира; бедные крестьянки были одновременно горничными, любовницами, хористками и актрисами своего барина, он был их преподавателем красивых движений, танцев, пения и декламации. Консуэло еще в Пассау получила представление о том, как вообще он вел себя с ними. И, припоминая, какую славную участь сулил он ей тогда, она дивилась почтительной непринужденности, выказываемой им теперь. По-видимому, ему было совсем не стыдно, и он не чувствовал никакой неловкости за свой промах. Консуэло прекрасно знала, что на другой день, при появлении маркграфини, все примет иной оборот: она будет обедать с учителем в своей комнате и не удостоится чести быть допущенной к столу ее высочества. Но это нисколько не смущало ее. Однако она даже не подозревала, что ужинает с особой неизмеримо более высокой и особа эта ни за что на свете не пожелает ужинать на следующий день с маркграфиней, – а это обстоятельство очень позабавило бы ее в ту минуту.
Барон фон Кройц, улыбавшийся довольно холодно при виде доморощенных нимф, выказал несколько больше внимания Консуэло после того, как, заставив ее прервать молчание, вызвал на разговор о музыке. Он был просвещенным, почти страстным любителем этого дивного искусства и говорил о нем с большим пониманием; речи барона, вкусный ужин, тепло, наполнявшее комнаты, благотворно подействовали на угрюмое настроение Порпоры.
– Было бы желательно, – сказал маэстро барону, перед тем учтиво похвалившему его произведения, не называя его по имени, – чтобы государь, которого мы постараемся развлечь, оказался таким же хорошим ценителем, как вы.
– Уверяют, – ответил барон, – что мой государь довольно сведущ в этой области и истинный любитель искусств. – Так ли это, господин барон? – спросил маэстро, который вообще не мог не противоречить всем и во всем. – Я не очень льщу себя этой надеждой. Короли – первые во всех областях знания, по мнению своих подданных, но часто случается, что подданные знают гораздо больше, чем они.
– В военном деле, так же как в инженерном и в науках, прусский король понимает больше любого из нас, – горячо заметил поручик, – а что касается музыки, несомненно…
– Что вы ровно ничего об этом не знаете, как и я, – сухо перебил его капитан Кройц. – Маэстро Порпора в этом отношении может полагаться только на самого себя.
– А мне в сфере музыки королевское достоинство никогда не внушало особенного доверия, – снова заговорил маэстро, – и когда я имел честь давать уроки владетельной принцессе Саксонской, ей, так же, как всякому другому, я не спускал ни единой фальшивой ноты.
– Как! – сказал барон, иронически глядя на своего спутника. – Неужели и венценосцы берут когда-нибудь фальшивые ноты?
– Точно так же, как и простые смертные, сударь, – ответил Порпора. Однако должен признать, что владетельная принцесса проявила большие способности и очень скоро перестала фальшивить, позанимавшись со мной.
– Так, значит, вы простили бы кое-какие фальшивые ноты нашему Фрицу, если бы он дерзнул взять их при вас?
– При условии, чтобы он исправился впоследствии.
– Но головомойки вы ведь ему все-таки не задали бы? – смеясь, вмешался в разговор граф Годиц.
– Задал бы, даже если бы он снял за это с плеч мою собственную голову, – ответил, бравируя, старый профессор, которого небольшое количество выпитого шампанского сделало экспансивным.
Консуэло была надлежащим образом предупреждена каноником о том, что Пруссия представляет собой большое полицейское управление – малейшее слово, произнесенное шепотом на границе, переносится в несколько минут благодаря какому-то таинственному и безошибочному эху в кабинет самого Фридриха – и что никогда не следует обращаться к пруссаку, особенно к военному или чиновнику, со словами «как вы поживаете», не взвесив каждого слога и предварительно не отмерив семь раз, прежде чем отрезать, как говорится в пословице. Вот почему ей не особенно понравилось, что ее учитель впал в свой обычный насмешливый тон, и она постаралась дипломатически загладить его неосторожность.
– Если бы даже король Пруссии и не был первым музыкантом своего века, – сказала она, – ему позволительно пренебрегать искусством, ничтожным, конечно, по сравнению с его познаниями в других областях.
Но она не подозревала, что Фридрих жаждал быть великим флейтистом не меньше, чем великим полководцем и великим философом. Барон фон Кройц заметил, что раз его величество смотрит на музыку как на искусство, достойное изучения, то, вероятно, и посвятил ему должное внимание и серьезный труд.
– Э! – сказал, все больше и больше оживляясь, Порпора. – Внимание и труд ничего не открывают в музыке тому, кого небо не наградило врожденным талантом. Музыкальность отнюдь не является уделом всех людей, и легче выиграть сражение и назначить пенсии литераторам, чем похитить у муз священный огонь. Говорил же нам барон Фридрих фон Тренк, что, когда его прусское величество сбивается с такта, виноваты его придворные. Но, положим, со мной подобного не случится!
– Так барон Фридрих фон Тренк говорил это? – спросил барон фон Кройц, и глаза его вдруг загорелись жгучей злобой. – Ну, хорошо, – проговорил он, усилием воли подавив ее и переходя на безразличный тон, – бедняга теперь, должно быть, потерял охоту шутить, ибо до конца своих дней заключен в Глацскую крепость.
– Неужели! – воскликнул Порпора. – А что же он сделал?
– Это государственная тайна, – ответил барон, – но все заставляет предполагать, что он обманул доверие своего государя.
– Да, – прибавил поручик, – он продал австрийцам планы укреплений Пруссии, своего отечества.
– О! Это невозможно! – вырвалось у побледневшей Консуэло. Хотя девушка с величайшим вниманием следила за каждым своим движением, за каждым словом, она не смогла удержаться от горестного восклицания.
– Это и невозможно и неверно! – закричал с негодованием Порпора. Те, кто уверили в этом короля, гнусно солгали!
– Полагаю, что вы не желаете косвенно уличать и нас во лжи, – проговорил поручик, тоже бледнея.
– Надо быть до нелепости щепетильным, чтобы понять это таким образом, – отрезал барон фон Кройц, бросая на своего спутника суровый, повелительный взгляд. – Разве это нас касается? И какое нам дело до того, что маэстро Порпора так горячо относится к своему молодому другу?
– И буду так же горячо относиться к нему даже в присутствии самого короля, – заявил Порпора. – Я скажу королю» что его обманули и что нехорошо с его стороны было поверить этому, а Фридрих фон Тренк – достойный, благородный молодой человек, не способный на подлость.
– А я думаю, учитель, – прервала его Консуэло, которую все больше и больше тревожила физиономия капитана, – вы не будете столь многоречивы, когда удостоитесь чести предстать пред королем Пруссии. Я слишком хорошо знаю вас и потому уверена, что ни о чем другом, как о музыке, вы говорить с ним не станете.
– Синьора, кажется, чрезвычайно осторожна, – снова заговорил барон, – а между тем, по-видимому, она была очень дружна в Вене с молодым бароном фон Тренком.
– Я, сударь, почти не знаю его, – ответила Консуэло с отлично разыгранным равнодушием.
– Но если благодаря какой-нибудь непредвиденной случайности сам король спросил бы вас о том, что думаете вы о предательстве этого Тренка?.. – пытливо глядя на нее, спросил барон.
– Я бы ответила ему, господин барон, что не верю ни в чье предательство, ибо вообще не могу понять, как можно предавать, – промолвила Консуэло, спокойно и скромно парируя его инквизиторский взгляд.
– Вот прекрасные слова, синьора! И в них проявилась прекрасная душа! – вырвалось у барона, чье лицо сразу прояснилось.
Тут он… говорил о другом и очаровал собеседников изяществом и силою своего ума. В течение всего ужина, когда он обращался к Консуэло, лицо у него становилось добрым, доверчивым, чего она не замечала раньше.
Глава 101
Когда кончали десерт, призрак, закутанный во все белое, с опущенным на лицо покрывалом, явился гостям и произнес: «Следуйте за мной». Консуэло, вынужденная при репетировании этой новой сцены еще раз исполнить роль маркграфини, встала первая и в сопровождении прочих гостей поднялась по большой лестнице замка. Призрак, шедший впереди, открыл вверху лестницы большую дверь, и все очутились в темной старинной галерее, в конце которой мерцал слабый свет. Пришлось идти по этой галерее под звуки медленной торжественной и таинственной музыки, исполняемой словно обитателями незримого мира.
– Господин граф, ей-богу, ни в чем нам не отказывает! – воскликнул Порпора восторженным тоном, в котором сквозила ирония. – Мы слышали сегодня музыку турецкую, флотскую, музыку дикарей, китайскую, лилипутскую и вообще всякого рода диковинную музыку, но эта так превзошла их, что ее действительно можно назвать музыкой с того света!
– И вы еще не все слышали! – воскликнул граф, в восторге от комплимента.
– От вашего сиятельства всего можно ожидать – сказал барон так же иронически, как и профессор. – Но после этого, по правде сказать, не знаю, что же еще вы можете нам показать.
В конце галереи призрак ударил по инструменту, напоминавшему восточный там-там, послышался какой-то заунывный звук, после чего приподнялся большой занавес и открылся вид на зрительный зал, разукрашенный и иллюминированный так, как ему надлежало быть на следующий день. Не стану его описывать, хотя тут и было бы уместно сказать:
«Сколько фестонов, сколько висюлек!»
Занавес поднялся. Сцена изображала ни более, ни менее как Олимп. Богини оспаривали одна у другой сердце Париса, и состязание между тремя главными из них составляло все содержание пьесы. Она была написана по-итальянски, что заставило Порпору шепотом сказать Консуэло:
– Язык дикарей, китайский, лилипутский – ничто не сравнится с этой галиматьей.
И стихи и музыка были сфабрикованы графом. Актеры и актрисы стоили своих ролей. После получаса метафорических изречений и поз, выражающих сожаление по поводу отсутствия богини, самой очаровательной и самой могущественной из всех, но не удостоившей принять участие в состязании красоты, Парис наконец решается отдать первенство Венере, а та, взяв яблоко и спустившись по ступенькам со сцены, кладет его у ног маркграфини, признавая себя недостойной обладать им и принося извинения в том, что осмелилась в присутствии ее сиятельства даже домогаться победы. Венеру должна была изображать Консуэло, а так как это была главная роль и в конце надо было спеть очень эффектную каватину, то граф Годиц, не имея возможности поручить ее на репетиции какой-либо из своих корифеек, решился сам провести ее – отчасти, чтобы не провалить репетиции, а отчасти, чтобы Консуэло вникла в дух, тонкость и красоту роли. Он был до того комичен, изображая всерьез Венеру, и так напыщенно распевал пошлости, понадерганные из дрянных модных опер и, по его мнению, переделанные им в партитуру, что никто не мог удержаться от смеха. Но он был слишком захвачен муштровкой своей труппы, слишком воодушевлен восхитительной выразительностью своей игры, чтобы заметить веселое настроение слушателей. Ему неистово аплодировали, а Порпора, дирижировавший оркестром, затыкая себе втихомолку время от времени уши, объявил, что все чудесно – и либретто, и партитура, и голоса, и музыканты, а превыше всего – временно исполнявший роль Венеры.
Решили, что Консуэло в тот же вечер и на следующее утро просмотрит вместе с учителем этот шедевр. Он был не длинен и не труден для изучения, и оба были уверены, что на следующий вечер окажутся на той же высоте, что пьеса и труппа. Затем прошли в бальный зал, который не был еще готов, так как танцы назначены были только через день, а празднества должны были продолжаться целых два дня и состоять из непрерывного ряда разнообразных увеселений.
Пробило десять часов вечера. Стояла ясная погода, ярко светила луна. Прусские офицеры настаивали на том, чтобы в ту же ночь перебраться через границу, ссылаясь на высочайший приказ, не позволявший им ночевать в чужой стране. И графу пришлось уступить; отдав приказание седлать лошадей, он увел своих гостей распить прощальный кубок – то есть выпить кофе и отведать прекрасных настоек в изящном будуаре, куда Консуэло не сочла удобным с ними идти. Она простилась со всеми и, тихонько посоветовав Порпоре быть осторожнее, чем за ужином, направилась в свою комнату, находившуюся в другой части замка.
Но вскоре она заблудилась в закоулках этого большого лабиринта и очутилась в какой-то молельне, где сквозной ветер задул ее свечу. Боясь еще больше запутаться и провалиться в какую-нибудь западню с «сюрпризами», которыми изобиловал замок, она решила ощупью идти назад, пока не доберется до освещенной части здания. В суматохе, вызванной приготовлениями к такой массе бессмысленных затей, в этом богатейшем доме очень мало заботились о необходимом удобстве. Здесь были дикари, призраки, небожители, пустынники, нимфы, боги веселья и игр, но ни одного слуги, который подал бы свечу, ни единого здравомыслящего существа, к которому можно было бы обратиться за справкой.
Вдруг ей послышалось, что кто-то осторожно пробирается в темноте, как бы желая проскользнуть незамеченным. Это показалось ей подозрительным, и она не решилась ни окликнуть идущего, ни назвать себя, тем более что, судя по тяжелым шагам и дыханию, это был мужчина. Она подвигалась дальше вдоль стены, несколько встревоженная, как вдруг услышала недалеко от себя звук отворяемой двери, и лунный свет, проникнув в галерею, упал на высокую фигуру и блестящий костюм Карла. Она сейчас же окликнула его.
– Это вы, синьора? – проговорил он изменившимся голосом. – Вот уж сколько часов я ищу случая поговорить с вами минутку, да теперь, пожалуй, что и опоздал!
– Что тебе надо сказать мне, милый Карл, и почему ты так взволнован?
– Выйдите из коридора, синьора, я поговорю с вами в совершенно уединенном месте, где, надеюсь, никто нас не услышит.
Консуэло пошла вслед за Карлом и очутилась на открытой террасе, которая венчала башенку, прилепившуюся к стене замка.
– Синьора, – с опаской поглядывая по сторонам, заговорил дезертир, впервые приехавший утром в Росвальд и не лучше Консуэло знавший местных людей, – вы ничего не говорили сегодня такого, что могло бы навлечь на вас неудовольствие прусского короля и пробудить в нем недоверие и в чем вам пришлось бы в Берлине раскаиваться, если бы король узнал обо всем досконально?
– Нет, Карл, ничего такого я не говорила. Я знаю, что всякий незнакомый пруссак – опасный собеседник, и потому взвешивала каждое свое слово. – Ах! Как порадовали вы меня этим ответом, – я так беспокоился!
Два-три раза я подходил к вам на корабле, когда вы катались по озеру, – я разыгрывал роль одного из пиратов, которые делали вид, будто идут на абордаж, – но вы меня не узнали, я ведь был переряжен. Сколько ни смотрел я на вас, сколько ни делал знаков, вы ни на что не обращали внимания, и мне не удалось перемолвиться с вами хотя бы единым словом. Этот офицер был постоянно возле вас. Все время, пока вы плавали по озеру, он ни на шаг от вас не отходил. Он словно догадывался, что вы служите для него как бы щитом, и прятался за вас на тот случай, если бы какая-нибудь шальная пуля таилась в одном из наших безвредных ружей.
– Что ты хочешь этим сказать, Карл? Не понимаю! Кто этот офицер? Я его не знаю.
– Мне незачем говорить вам: скоро вы сами узнаете, раз едете в Берлин.
– Но почему же теперь делать из этого тайну?
– Да потому, что это ужасная тайна, и мне нужно еще в течение часа не выдавать ее.
– У тебя какой-то особенно взволнованный вид, Карл. Что с тобой происходит?
– О! Нечто огромное! У меня в сердце ад!
– Ад? Можно подумать, что у тебя на уме какие-то злые намерения?
– Быть может!
– В таком случае я хочу, чтобы ты откровенно признался мне во всем, Карл. Ты не имеешь права скрывать что-либо от меня! Ты ведь обещал мне быть беззаветно преданным и покорным.
– Эх, синьора! Что вы сказали! Да, правда, я обязан вам больше чем жизнью, ибо вы сделали все, чтобы сохранить мою жену и дочку, но они были обречены, они погибли… И нужно отомстить за их смерть!
– Карл! Именем твоей жены и ребенка, которые молятся за тебя на небесах, приказываю тебе говорить. Ты задумал какое-то безумное дело. Ты хочешь отомстить? Ты вне себя при виде этих пруссаков. – Вид их доводит меня до безумия, приводит в ярость… Но нет! Я спокоен! Я истый праведник! Видите ли, синьора, бог, а не ад толкает меня на это! Ну, близок час! Прощайте, синьора! Быть может, мы никогда больше не увидимся, так прошу вас, раз вы едете через Прагу, закажите обедню по мне в часовне святого Иоанна Непомука, одного из самых великих покровителей Чехии.
– Карл, вы скажете, вы признаетесь мне в преступных замыслах, которые терзают вас, или я никогда не буду за вас молиться и, наоборот, призову на вас проклятье вашей жены и дочери – этих ангелов, которые теперь в лоне милосердного Иисуса Христа. Как вы можете надеяться получить прощение на небе, если сами не прощаете на земле? У вас под плащом карабин, Карл, и вы здесь подкарауливаете этих пруссаков…
– Нет, не здесь, – проговорил, дрожа и уже немного колеблясь. Карл. Я не хочу проливать кровь ни в доме моего хозяина, ни на ваших глазах, добрая моя святая праведница, но там… Понимаете, среди гор, в лощине, есть дорога, которую я хорошо изучил, так как был там, когда они проезжали по ней сюда нынче утром… Но я оказался в лощине случайно, при мне не было оружия, да и его я не сразу узнал. Но сейчас он снова проедет по этой дороге, там буду и я. Мигом проберусь туда парком и опережу его, хотя у него и добрый конь… И вы изволили верно сказать, синьора, – карабин при мне, мой славный карабин, и в нем славная пуля для его сердца! Карабин заряжен, – ведь я не шутил, когда выслеживал его, переодетый пиратом. Случай казался мне довольно удачным, и я раз десять нацеливался в него, но вы были там, все время там, и я не выстрелил. А вот сейчас вас не будет, и он не сможет прятаться за вашей спиной, как трус… Ведь он трус! Я-то хорошо его знаю! Я видел, как однажды во время битвы он побледнел и увильнул от сражения, яростно требуя, однако, от нас, чтобы мы шли против своих земляков, против своих чешских братьев! О! Какой ужас! Ведь я чех по крови, по сердцу, а такое не прощается! И хотя я и бедный чешский крестьянин, выучившийся в своих лесах только владеть топором, но он сделал из меня прусского солдата, и благодаря его капралам я умею метко целиться из ружья!
– Карл! Карл! Замолчите! Вы бредите. Вы не знаете этого человека, я уверена в этом. Его зовут барон фон Кройц. Бьюсь об заклад, что вы не знаете его имени и принимаете за другого. Он не вербовщик и не сделал вам ничего худого.
– Это не барон фон Кройц, нет, синьора, и я прекрасно его знаю. Больше сотни раз видел я его на парадах, – это великий вербовщик, великий учитель тех, кто похищает людей, и разрушитель семейных очагов, великий бич Чехии, мой личный враг!.. Он враг нашей церкви, нашей религии и всех наших святых! Он осквернил своими нечестивыми насмешками статую святого Иоанна Непомука на Пражском мосту! Он выкрал из пражского дворца барабан, сделанный из кожи Яна Жижки, великого воителя своего времени, – барабан этот служил предостережением от врага, он являлся оплотом страны и ее честью. О нет! Я не ошибаюсь, я хорошо знаю этого человека! К тому же святой Венцеслав только что явился мне в часовне, когда я там молился. Видел я его, как вижу вас, синьора, и он сказал мне: «Это он, порази его в сердце». Я поклялся в этом святой деве на могиле своей жены, и я должен сдержать клятву… А! Смотрите, синьора, ему подают лошадь к крыльцу. Этого-то я и ждал! Иду… Молитесь за меня, ибо рано или поздно я поплачусь за свой поступок головой; но это не беда, только бы бог помиловал мою душу.
– Карл! – воскликнула Консуэло, чувствуя в себе прилив какой-то необыкновенной силы. – Я считала тебя человеком великодушным, добрым и богобоязненным, а теперь вижу, что ты безбожник, изверг и подлец! Кто бы ни был человек, которого ты собираешься убить, я запрещаю тебе идти за ним и причинить ему какое бы ни было зло. Дьявол принял облик святого с целью помутить твой разум, и господь, в наказание за принесенную тобой святотатственную клятву на могиле твоей жены, допустил, чтобы дьявол опутал тебя своими сетями. Ты подлый, неблагодарный человек! Вот что я скажу тебе: ты не думаешь о том, что твой хозяин, граф Годиц, осыпавший тебя благодеяниями, такой честный, такой добрый, такой ласковый к тебе, будет обвинен за твое преступление и поплатится за него головой.
Спрячься в какой-нибудь подвал, ибо ты недостоин смотреть на свет божий, Карл. Наложи на себя эпитимию за то, что у тебя могла явиться подобная мысль! Знаешь, я вижу в эту минуту подле тебя твою жену. Она плачет и старается удержать твоего ангела-хранителя, готового уступить тебя духу зла…
– Жена! Жена! – закричал растерявшийся, побежденный Карл. – Я не вижу ее! Жена! Если ты здесь, скажи мне слово, сделай так, чтобы еще раз я мог увидеть тебя, а там – умереть!..
– Видеть ее ты не можешь: в сердце твоем – преступление, в глазах – ночь. Стань на колени, Карл! Ты можешь еще искупить свой грех! Дай мне ружье, оскверняющее твои руки, и молись!
С этими словами Консуэло взяла карабин, отданный ей без всякого сопротивления, и поспешила убрать его подальше от Карла, пока тот в слезах опускался на колени. Потом она ушла с террасы, чтобы поскорее запрятать куда-нибудь оружие. Она чувствовала себя совсем разбитой: ей стоило больших усилий овладеть воображением этого фанатика, вызвав в нем призраки, имевшие над ним такую власть. Каждая минута была дорога; тут уж было не до внушения ему более гуманной и просвещенной философии. Она говорила все, что приходило ей в голову, быть может воодушевленная чем-то, вызывавшим симпатию к исступленному состоянию несчастного человека, которого она хотела во что бы то ни стало спасти от безумного поступка. Притворно браня Карла, она в то же время жалела его за возбуждение, которое он не в силах был побороть.
Консуэло торопилась спрятать злополучный карабин и сейчас же вернуться к Карлу, чтобы удержать его на террасе, пока пруссаки не отъедут подальше. Отворяя маленькую дверь, ведущую с террасы в коридор, она вдруг очутилась лицом к лицу с бароном фон Кройцем. Он приходил в свою комнату за плащом и пистолетами. Консуэло успела только поставить карабин позади себя в угол, образуемый дверью, и броситься в коридор, закрыв за собою дверь, отделявшую ее от Карла. Она испугалась, как бы вид врага снова не привел беднягу в ярость.
Стремительность движений и волнение, заставившее ее прислониться к двери, точно из боязни потерять сознание, не ускользнули от проницательных глаз фон Кройца. Держа свечу и улыбаясь, он остановился перед Консуэло. Лицо барона было совершенно спокойно, однако Консуэло показалось, что рука его дрожит, вызывая довольно сильное колебание свечи. Позади него стоял смертельно бледный поручик с обнаженной шпагой в руке. Все это, а также и то, что окно комнаты, куда барон приходил за своими вещами, выходило, как она впоследствии убедилась, на террасу башенки, позволило Консуэло предположить, что от обоих пруссаков не ускользнуло ни одно слово из ее разговора с Карлом.
Барон поклонился ей чрезвычайно любезно, с необычайным спокойствием, в то время как она, в ужасе от своего положения, позабыла ответить на его поклон и даже лишилась дара речи; Кройц взглянул на нее скорее с участием, чем с удивлением.
– Дитя мое, – ласково сказал он, взяв ее за руку, – успокойтесь! Вы очень взволнованы. Мы, очевидно, напугали вас своим внезапным появлением у двери в тот момент, когда вы открыли ее. Но знайте, что мы ваши покорные слуги и друзья. Надеюсь, мы с вами увидимся еще в Берлине и, быть может, сможем быть вам в чем-либо полезны.
Барон потянул было немного к себе руку Консуэло, как бы желая в первый момент поднести ее к губам, но ограничился тем, что слегка пожал ее. Он еще раз раскланялся и удалился в сопровождении младшего офицера, который, казалось, даже не видел Консуэло, до того он был растерян и вне себя. Его состояние подтвердило уверенность молодой девушки, что поручик знал об опасности, только что угрожавшей его начальнику.
Но кем же мог быть человек, ответственность за чью жизнь таким тяжким бременем ложилась на другого, и кого Карл стремился убить, видя в этом высшую справедливую месть? Консуэло вернулась на террасу, чтобы, продолжая наблюдать за Карлом, выпытать его тайну. Но она застала его в обморочном состоянии и, не в силах поднять такого колосса, спустилась позвать на помощь слуг. – Ну, это ничего! – сказали они, направляясь к указанному ею месту. – Видно, он малость хватил сегодня вечером медовой шипучки; сейчас мы снесем его на кровать.
Консуэло хотела было пойти наверх вместе с ними: она боялась, как бы Карл, очнувшись, не выдал себя; но ей помешал граф Годиц, проходивший мимо. Он взял ее под руку, обрадовавшись тому, что она еще не легла спать и он может показать ей новое зрелище. Пришлось идти за ним на крыльцо, и тут она увидела над одним из пригорков парка, в той стороне, куда указывал Карл, как на цель своих устремлений, большую светящуюся арку, словно парившую в воздухе, на которой смутно вырисовывались буквы из цветного стекла.
– Какая прекрасная иллюминация! – рассеянно промолвила она.
– Это тонкая любезность, скромный почтительный прощальный привет только что покинувшему нас гостю, – пояснил Годиц. – Он через четверть часа будет у подножия холма, в лощине, которую нам отсюда не видно, и там, как по волшебству, над его головой засветится триумфальная арка.
– Господин граф! – воскликнула Консуэло, выйдя из своей задумчивости.
– Кто это лицо, только что уехавшее отсюда?
– Вы узнаете позднее, дитя мое.
– Если я не должна спрашивать, умолкаю, господин граф. Однако у меня есть кое-какие подозрения, что на самом деле это не барон фон Кройц.
– Я ни на минуту не был введен в заблуждение, – заметил Годиц, немного прихвастнув при этом. – Тем не менее я отнесся с благоговейным уважением к его инкогнито. Я знаю, что это его мания и он считает оскорблением, если его не принимают за того, за кого он себя выдает. Вы заметили, что я обращался с ним, как с простым офицером, а между тем…
Графу смертельно хотелось все выболтать, но светские приличия не позволили ему произнести имя, по-видимому столь священное.
Он избрал нечто среднее и, подавая Консуэло свою зрительную трубу, сказал:
– Взгляните, как удачно сделана эта импровизированная арка. До нее отсюда не меньше полумили, а я уверен, что в мою превосходную зрительную трубу вы сможете прочесть, что на ней написано. В каждой букве по двадцать футов, хотя они и кажутся вам совсем крохотными. Но все-таки вглядитесь хорошенько…
Консуэло посмотрела и без труда разобрала надпись, раскрывшую ей тайну всей этой комедии:
«Да здравствует Фридрих Великий!»
– Ах! Господин граф! – воскликнула она с тревогой. – Опасно подобному лицу путешествовать таким образом, да, пожалуй, еще опаснее принимать его у себя!
– Я вас не понимаю, – сказал граф, – мы живем в мирное время. Никому теперь не пришло бы в голову причинить ему малейшее зло, и уж никто не счел бы непатриотичным оказать такому гостю почтительный прием.
Консуэло погрузилась в свои думы. Годиц вывел ее из этого состояния, сказав, что у него к ней нижайшая просьба. Он боится злоупотребить ее добротой, но это такое важное дело, что он все-таки принужден решиться затруднить ее. После многих разглагольствований он наконец проговорил с таинственным и серьезным видом:
– Дело вот в чем: не согласились бы вы взять на себя роль призрака?
– Какого призрака? – спросила Консуэло, все мысли которой были заняты исключительно Фридрихом и событиями того вечера.
– Призрака, который приходит во время десерта за маркграфиней и ее гостями, чтобы проводить их по галерее преисподней в театральный зал, где их должны встретить олимпийские боги. Венера на сцене появляется не сразу, и вы имели бы время сбросить за кулисами саван призрака, под которым на вас будет надет великолепный наряд матери Амура – из розового атласа, весь в обтяжку, с очень маленькими фижмами, с бантами в серебряных и золотых блестках; волосы не напудрены, украшены жемчугом, перьями и розами, – туалет очень скромный и неподражаемый по изяществу. Увидите сами! Ну что, согласны вы изображать призрак? Ведь тут надо выступать с большим достоинством, и к тому же ни одна из моих маленьких актрис не дерзнула бы сказать ее высочеству: «Следуйте за мной». Слова эти очень нелегко произнести; и я решил, что только гениальная личность может оказаться тут на высоте. Что вы думаете об этом?
– Слова чудесные, и я с огромным удовольствием беру на себя роль призрака, – смеясь, ответила Консуэло.
– Да вы просто ангел! Настоящий ангел! – воскликнул граф, целуя ей руку.
Но увы! Столь долгожданный день, празднество, блестящее празднество, мечта, лелеемая графом в течение целой зимы и заставившая его предпринять для ее осуществления несколько путешествий в Моравию, – все это пошло прахом, как и страстная, мрачная месть Карла… На следующий день к полудню все было готово. Росвальдцы были во всеоружии; нимфы, гении, дикари, карлики, великаны, мандарины, призраки, дрожа от холода, ждали, каждый на своем месте, момента, чтобы начать действовать. Горная дорога была очищена от снега и усыпана мхом и фиалками. Многочисленные гости, съехавшиеся из соседних замков и даже из довольно отдаленных городов, составляли достойную свиту хозяину замка, как вдруг, увы, нежданная, словно громовой удар, весть разом все перевернула! Гонец, прискакавший во весь опор, сообщил: «Карета маркграфини опрокинулась в ров, ее высочество при этом повредила себе два ребра и вынуждена остановиться в Ольмюце, куда ее высочество и просит графа пожаловать». Толпа рассеялась. Граф в сопровождении Карла, который уже успел прийти в себя, вскочил на лучшего своего коня и помчался, сказав предварительно несколько слов дворецкому. «Забавы», «ручьи», «часы», «реки» снова облеклись в свои меховые сапоги и суконные кафтаны и отправились на работы по хозяйству, вперемежку с «китайцами», «пиратами», «друидами» и «людоедами». Гости уселись в экипажи, и карета, в которой приехал Порпора со своей ученицей, снова была предоставлена в их распоряжение. Дворецкий, согласно полученному приказу, вручил им условленную сумму и настоял, чтобы они ее приняли, хотя она и была заработана ими только наполовину. В тот же день они покатили по пражской дороге. Профессор был в восторге от того, что избавился от разноплеменной музыки и многоязычных кантат хозяина замка, а Консуэло, поглядывая в сторону Силезии, горевала, что, уезжая в противоположную сторону от глацского узника, не имеет ни малейшей надежды облегчить его тяжелую участь.
В тот же день барон фон Кройц, переночевав в деревне неподалеку от моравской границы, отправился оттуда утром в большой дорожной карете в сопровождении своих пажей, ехавших верхом, и свитского экипажа, в котором находился его чиновник и дорожная казна; приближаясь к городу Нейсу, он вступил в разговор со своим офицером, или, вернее сказать, адъютантом, бароном фон Будденброком. Надо заметить, что, недовольный бестактностью, проявленной офицером накануне, барон впервые со времени отъезда из Росвальда заговорил с ним.
– А что это была за иллюминация? – начал он. – Я издали заметил ее над холмом, у подножия которого мы должны были проезжать, огибая парк этого графа Годица.
– Государь, – ответил, дрожа, Будденброк, – я не заметил иллюминации.
– Напрасно! Человек, сопровождающий меня, должен все видеть.
– Ваше величество должны простить меня, принимая во внимание смятение, в какое повергло меня намерение этого злодея…
– Вы ничего не понимаете! Этот человек – фанатик, несчастный католический ханжа, ожесточенный проповедями, которые богемские священники произносили против меня во время войны; окончательно же вывело его из себя какое-то, по-видимому, личное горе. Вероятно, это крестьянин, увезенный в мою армию, один из тех дезертиров, которых мы иногда вылавливали, несмотря на принятые ими предосторожности…
– Ваше величество, можете быть уверены, что завтра же этот злодей будет снова схвачен.
– Вы уже отдали приказание, чтоб его выкрали у графа Годица?
– Пока еще нет, государь, но как только приеду в Нейс, сейчас же пошлю за ним четырех людей, очень ловких и очень решительных…
– Запрещаю вам; напротив, соберите сведения об этом человеке, и если действительно его семья стала жертвой войны, как это можно было понять из его бессвязных речей, то вы позаботитесь о выдаче ему тысячи талеров и сообщите силезским вербовщикам, чтобы те навсегда оставили его в покое. Слышите? Его зовут Карлом, он очень высокого роста, чех, в услужении у графа Годица. Всех этих данных совершенно достаточно, чтобы легко разыскать его, узнать его фамилию и его положение.
– Слушаю, ваше величество.
– Надеюсь! А какого вы мнения об этом профессоре музыки?
– Маэстро Порпоре? На меня он произвел впечатление дурака, человека самонадеянного, с очень неприятным характером.
– А я вам говорю, что это человек выдающийся в области искусства, чрезвычайно умный и одаренный занятной иронией. Когда он достигнет вместе со своей ученицей прусской границы, вы вышлете ему хороший экипаж.
– Слушаю, ваше величество.
– И пусть он сядет в него один. Вы слышите? Один! И это должно быть предложено ему очень почтительно.
– Слушаю, ваше величество.
– А дальше…
– А дальше вашему величеству угодно, чтоб его доставили в Берлин?
– Вы сегодня просто рехнулись! Я хочу, чтобы его доставили в Дрезден, а оттуда в Прагу, пожелай он этого, и даже в Вену, если таковы его намерения; и все это за мой счет. Раз я отвлек такого уважаемого человека от занятий, я обязан доставить его туда, откуда взял, не вводя ни в какие издержки. Но я желаю, чтобы ноги его не было в моих владениях: он слишком умен для нас.
– Какие же будут приказания вашего величества относительно певицы?
– Ее отвезут под конвоем, захочет она этого или нет, в Сан-Суси и отведут ей помещение в замке.
– В замке, государь?
– Что вы? Оглохли, что ли? В квартире Барберини.
– Ас Барберини, государь, как же мы поступим?
– Барберини уже отбыла из Берлина. Она уехала. Вы этого разве не знали?
– Не знал, государь.
– Что же вы, наконец, знаете? И как только эта девица приедет, сейчас же доложите мне об этом, в какой бы час дня или ночи это ни было. Вы меня поняли? Вот первые приказы, которые вы велите вписать в реестр за номером один заведующему моей дорожной казной: пособие Карлу, отправка обратно Порпоры, передача Порпорине всех почестей и доходов Барберини. Ну, вот мы и у городских ворот! Развеселись же, Будденброк, и постарайся быть чуточку менее глупым, когда мне снова вздумается путешествовать с тобой инкогнито!
Глава 102
Порпора и Консуэло прибыли в Прагу с наступлением темноты. Стояла довольно холодная погода. Луна заливала своим светом старинный город, сохранивший религиозный и воинственный дух своего прошлого. Наши путешественники въехали через так называемые Росторские ворота и, проехав часть города, расположенную на правом берегу Влтавы, благополучно добрались до середины моста. Тут карету сильно тряхнуло, и она сразу остановилась.
– Господи Иисусе Христе! – воскликнул возница. – Вот тебе и на! Нужно же было лошади упасть перед статуей! Плохая примета! Да поможет нам святой Иоанн Непомук!
Консуэло, видя, что лошадь запуталась в постромках и кучеру придется немало времени провозиться над тем, чтобы поднять ее и привести в порядок сбрую – лопнуло несколько ремней, – предложила своему учителю выйти из экипажа, размять ноги и согреться. Порпора согласился, и Консуэло подошла к перилам моста, желая ознакомиться с окружающей местностью. С этого места два разных города, расположенные амфитеатром и составляющие Прагу, – один – так называемый «новый», построенный в 1348 году Карлом IV, и другой – «старый», основанный в глубочайшей древности, – казались двумя черными каменными грядами; над ними там и сям, на более возвышенных местах, поднимались стройные шпили старинных зданий и мрачные зубцы укреплений. Влтава, темная и быстрая, устремлялась под мост очень строгого стиля – место действия стольких трагических событий в истории Чехии, а луна, отражаясь в водах Влтавы, бледными бликами освещала голову высокочтимой статуи святого Непомука. Консуэло стала всматриваться в лицо святого ученого, казалось, с грустью взиравшего на волны. Легенда о святом Непомуке прекрасна, а имя его почитает каждый, кто ценит независимость и верность. Исповедник императрицы Иоанны отказался выдать тайну ее исповеди, и пьяница Венцеслав, пожелавший узнать помыслы своей жены, не имея возможности что-либо выведать у знаменитого ученого, приказал утопить его под Пражским мостом. Предание гласит, что в тот момент, когда Непомук исчез под водой, пять звезд загорелись над едва закрывшейся пучиной, словно венец мученика еще с минуту носился по волнам. В память этого чуда пять металлических звезд были вделаны в каменные перила моста на том самом месте, откуда был сброшен Непомук.
Мать Консуэло, Розамунда, женщина очень набожная, всегда с теплым чувством вспоминала легенду об Иоанне Непомуке, и в числе святых, чьи имена она каждый вечер заставляла произносить чистые уста своего ребенка, неизменно значилось имя этого главного покровителя путешественников, покровителя тех, кто подвергается опасности, и сверх того – «защитника доброго имени». Подобно тому как бедняки мечтают о богатстве, идеалом цыганки на старости лет стало доброе имя – сокровище, о котором она отнюдь не помышляла в юные годы. Благодаря такой перемене Консуэло была воспитана в принципах чрезвычайной чистоты. И в эту минуту она вспомнила молитву, с какой когда-то обращалась к – этому апостолу чести; взволнованная видом мест, свидетелей его трагического конца, она инстинктивно опустилась на колени среди богомольцев, которые в те времена днем и ночью склонялись у изображения святого. Тут были женщины, паломники, старики, нищие, было и несколько цыган – гитаристов и завсегдатаев больших дорог. Однако набожность паломников не поглощала их настолько, чтобы помешать им протянуть руку Консуэло. Она щедро раздала им милостыню, с радостью вспоминая те времена, когда сама была не лучше обута и не более горда, чем все эти люди. Щедрость ее растрогала паломников, и они, потихоньку посовещавшись между собой, поручили одному из своих сказать Консуэло, что споют ей древний церковный гимн блаженному Непомуку, дабы святитель отклонил плохое предзнаменование, из-за которого девушке пришлось сделать остановку на мосту. Они уверяли, будто музыка и латинские слова гимна сочинены во времена Венцеслава Пьяного.
Suscipe quas dedimus,
Johannes beate!
Tibi preces supplices, noster advocate:
Fieri, dum vivimus, ne sinas infames
Et nostros post obitum coelis infer manes. [22]
Порпора с интересом прослушал их и решил, что гимну не больше ста лет; но другой гимн, исполненный паломниками, показался ему проклятием, призываемым на голову Венцеслава его современниками, и начинался он так: Saevus, piger imperator, Malorum clarus patrator… etc Хотя преступления Венцеслава и были совершены в отдаленные времена, казалось, бедные чехи находили неиссякаемое удовольствие, проклиная в лице этого тирана ненавистный титул «императора», сделавшийся для них символом чужеземного владычества. Австрийские часовые охраняли ворота, расположенные по обоим концам моста. Им было приказано непрестанно ходить от ворот к середине моста. Тут они сходились у статуи святого, поворачивались друг к другу спиной и продолжали свою невозмутимую прогулку. Они слышали гимны, но так как были не столь сведущи в церковной латыни, как пражские богомольцы, то полагали, конечно, что слушают славословия Францу Лотарингскому, супругу Марии-Терезии.
Наивные песнопения при лунном свете, среди красивейшего в мире ландшафта, навеяли грусть на Консуэло. Ее путешествие до сих пор было удачным, веселым, и эта внезапная грусть являлась как бы естественной реакцией. Кучер, приводивший в порядок экипаж с чисто немецкой медлительностью, – всякий раз, как что-то ему не нравилось, повторял: «Вот уж плохая примета!» – и это в конце концов не могло не подействовать на воображение Консуэло. А всякое тяжелое настроение, всякая продолжительная задумчивость наталкивали ее на мысль об Альберте. Тут ей припомнился один вечер, когда он, услыхав, как канонисса в своей молитве громко взывает к святому Непомуку, охранителю доброго имени, заметил: «Хорошо вам, тетя, молиться ему, когда вы с присущей вам осторожностью обеспечили примерной жизнью свое доброе имя, но мне не раз приходилось слышать, как запятнанные пороками души призывали чудодейственную помощь этого святого лишь для того, чтобы скрыть от людей свои беззакония. Вот так ваши религиозные обряды столь же часто служат прикрытием грубого лицемерия, сколь и защитой невинности». В этот миг Консуэло почудилось, что в вечернем ветерке и в мрачном ропоте волн Молдавы она слышит голос Альберта. Консуэло подумала: что сказал бы о ней Альберт, если бы увидел ее сейчас распростертой перед этой католической статуей; пожалуй, он счел бы ее безнравственной. И она, словно испугавшись, поднялась с колен. Как раз в этот момент Порпора сказал ей:
– Ну, садимся в карету, все в порядке.
Она пошла за ним и собиралась уже сесть в экипаж, когда тяжеловесный всадник, сидевший на еще более тяжеловесной лошади, вдруг остановил коня, слез с него и, подойдя к Консуэло, стал разглядывать ее с невозмутимым любопытством, показавшимся ей весьма дерзким.
– Что вам нужно, сударь? – сказал Порпора, отстраняя его. – На дам так не смотрят. Быть может, это и принято в Праге, но я не намерен подчиняться вашему обычаю.
Толстяк, укутанный в меха, высвободив подбородок и продолжая держать лошадь под уздцы, ответил Порпоре по-чешски, не замечая, что тот совершенно его не понимает. Но Консуэло, пораженная голосом всадника, наклонилась, чтобы при свете луны рассмотреть черты его лица, и вдруг, бросившись между ним и Порпорой, воскликнула:
– Вы ли это, господин барон фон Рудольштадт?!
– Да, это я, синьора, – ответил барон Фридрих, – я, брат Христиана и дядя Альберта. Я самый. А это действительно вы! – проговорил он, тяжко вздыхая.
Консуэло была поражена его печальным видом и холодностью, проявленной при встрече с ней. Он, всегда так рыцарски-любезно обращавшийся с ней, не поцеловал ей руки и даже не подумал прикоснуться к своей меховой шапке, чтобы приветствовать ее, а удовольствовался только тем, что, глядя на нее с растерянным видом, все повторял:
– Да, это вы, действительно вы.
– Расскажите же, что происходит в Ризенбурге? – с волнением спросила Консуэло.
– Расскажу, синьора, жду не дождусь обо всем рассказать вам.
– Так говорите же, господин барон! Расскажите мне о графе Христиане, о госпоже канониссе, о…
– Да, да, сейчас расскажу, – ответил Фридрих, теряясь все больше и больше и как будто совсем ошалев. – А граф Альберт? – снова спросила Консуэло, испуганная его поведением и растерянным видом.
– Да! Да! Альберт… увы! Да! – бормотал барон. – Сейчас расскажу вам о нем…
Но он так ничего и не сказал и, несмотря на все расспросы девушки, оставался почти столь же нем, как статуя Непомука.
Порпора начинал терять терпение: маэстро прозяб и жаждал поскорее добраться до хорошего убежища, к тому же он был немало раздосадован этой встречей, которая могла произвести сильное впечатление на Консуэло.
– Господин барон, – обратился он к нему, – завтра мы засвидетельствуем вам свое почтение, а теперь разрешите нам отправиться поужинать и обогреться… Мы нуждаемся в этом больше, чем в приветствиях, – прибавил старик сквозь зубы, влезая в карету, куда он уже втолкнул Консуэло против ее воли.
– Но, друг мой, – проговорила она, волнуясь, – дайте мне узнать…
– Оставьте меня в покое! – грубо оборвал он ее. – Этот человек идиот, если только он не мертвецки пьян, и, проведи мы на мосту хоть целую ночь, он не был бы способен изречь ни одного разумного слова.
Консуэло была в страшной тревоге.
– Вы безжалостны, – сказала она маэстро в то время, как карета съезжала с моста в старый город. – Еще миг, и я узнала бы то, что интересует меня больше всего на свете…
– Вот как! Значит, все по-прежнему? – сердито проговорил Порпора. Этот Альберт так и будет вечно торчать у тебя в голове? Хорошенькую, нечего сказать, заполучила бы ты семейку – такую веселенькую, такую благовоспитанную, судя по этому дуралею, у которого шапка, по-видимому, приклеена к голове, ибо он, увидав тебя, даже не удостоил чести приподнять ее.
– Это семья, о которой вы еще недавно были такого высокого мнения, что отправили меня туда, как в спасительную гавань, наказывая как можно больше уважать и любить всех ее членов. – Что касается последней части моего наказа, ты, как я вижу, даже слишком хорошо его выполнила…
Консуэло собиралась было возразить, но успокоилась, заметив барона Фридриха, едущего верхом рядом с каретой: он, видимо, решил сопровождать их. Когда она выходила из кареты, старый барон стоял у подножки; протягивая ей руку, барон любезно просил ее принять его гостеприимство, ибо он приказал кучеру везти их не на постоялый двор, а к себе в дом. Напрасно пытался Порпора отказаться от этой чести, – барон настаивал, а Консуэло, сгоравшая от нетерпеливого желания выяснить свои тревожные опасения, поспешила согласиться и войти с хозяином в зал, где их ждал жарко натопленный камин и хороший ужин.
– Как видите, синьора, – обратился к ней барон, указывая на три прибора, – я рассчитывал вас встретить.
– Это очень удивляет меня, – ответила Консуэло, – мы никому не сообщали о нашем приезде, да и сами два дня тому назад думали быть тут не раньше чем послезавтра.
– Все это удивляет меня не меньше, чем вас, – уныло промолвил барон. – А баронесса Амелия? – спросила Консуэло: ей было неловко, что она до сих пор не подумала о своей бывшей ученице.
Лицо барона омрачилось, и его румяные щеки, немного посиневшие от холода, стали вдруг такими бледными, что Консуэло пришла в ужас. Но он довольно спокойно ответил: – Дочь моя в Саксонии, у нашей родственницы. Она будет очень сожалеть, что не видела вас.
– А другие члены вашей семьи, господин барон, – продолжала спрашивать Консуэло, – не могла бы я узнать…
– Да, вы все узнаете… – перебил ее Фридрих. – Все узнаете… Кушайте, синьора, вы, наверное, голодны.
– Я не в состоянии есть, пока вы не успокоите меня. Господин барон, ради бога, скажите мне, не оплакиваете ли вы утрату кого-нибудь из близких?
– Никто не умер, – ответил барон таким унылым тоном, словно сообщал ей о том, что вымер весь их род.
И он принялся разрезать мясо с такой же медлительной торжественностью, с какою проделывал это в Ризенбурге. У Консуэло не хватало больше мужества задавать ему вопросы. Ужин показался ей смертельно длинным. Порпора, скорее голодный, чем встревоженный, силился поддерживать разговор с хозяином дома, а тот старался отвечать ему так же любезно и даже расспрашивал о его делах и планах. Но это, очевидно, было не под силу барону. Он то и дело отвечал невпопад или снова спрашивал о том, на что только что получил ответ. Он все нарезал себе громадные куски, доверху наполняя свою тарелку и стакан, но делал это только по привычке. Он не ел и не пил; уронив вилку на пол и уставившись в скатерть, он словно находился в невероятном изнеможении. Консуэло, наблюдавшая за ним, прекрасно видела, что он не пьян. Она спрашивала себя: что могло вызвать эту внезапную расслабленность? Несчастье, болезнь или старость? Наконец, после двух часов такой пытки, барон, видя, что ужин закончен, сделал знак слугам удалиться, а сам, с растерянным видом порывшись в карманах, после длительных поисков извлек наконец распечатанное письмо и подал его Консуэло. Оно было от канониссы, она писала:
«Мы погибли, брат! Больше нет никакой надежды. Доктор Сюпервиль наконец приехал из Байрейта. Несколько дней он щадил нас, а затем объявил мне, что нужно привести в порядок семейные дела, так как, быть может, через неделю Альберта уже не будет в живых. Христиан, которому я не решилась сообщить этот приговор, еще надеется, хотя и слабо; он совсем упал духом, и это приводит меня в ужас: я далеко не уверена, что смерть племянника – единственный грозящий мне удар. Фридрих, мы погибли! Переживем ли мы вдвоем такие бедствия? Относительно себя я ничего не могу сказать. Да будет воля божья, но я не чувствую в себе силы устоять перед таким ударом. Приезжайте, братец, и постарайтесь привезти нам немного бодрости, если она еще сохранилась в Вас после Вашего собственного горя – горя, которое мы считаем своим и которое довершает несчастья нашей словно проклятой семьи. Какие же мы совершили преступления, чем заслужили такую кару? Избави меня бог потерять веру и покорность воле его, но, право же, бывают минуты, когда я говорю себе: «Это уж слишком!» Приезжайте же, братец, мы ждем Вас, Вы нам нужны. И тем не менее не покидайте Праги до одиннадцатого. У меня к Вам странное поручение. Мне кажется, что, поддаваясь этому, я схожу с ума. Но я уже перестала понимать, что у нас творится, и слепо подчиняюсь требованиям Альберта. Одиннадцатого числа в семь часов вечера будьте на Пражском мосту у подножия статуи. Остановите первую проезжающую карету и особу, которую Вы увидите в ней, везите к себе, и, если эта особа сможет в тот же вечер выехать в Ризенбург, Альберт, быть может, еще будет спасен. Во всяком случае он уверяет, что ему снова откроется вечная жизнь. Я не знаю, что он под этим подразумевает. Но его откровения в течение этой недели относительно самых непредвиденных для нас всех событий сбылись таким непостижимым образом, что я больше не могу сомневаться: у него либо дар пророка, либо он ясновидящий. Нынче вечером Альберт призвал меня и своим угасшим голосом, который теперь можно скорее угадывать, нежели слышать, поручил мне передать Вам то, что я в точности воспроизвела здесь. Будьте же одиннадцатого числа в семь часов у подножия статуи, и кем бы ни оказалось лицо, которое Вы найдете в карете, как можно скорее везите его сюда».
Прочитав письмо, Консуэло стала не менее бледной, чем барон, внезапно вскочила, но тотчас же снова упала на стул и несколько минут просидела не шевелясь, беспомощно опустив руки и стиснув зубы. Вскоре, однако, силы вернулись к ней, и она сказала барону, опять впавшему в какое-то оцепенение:
– Господин барон, готова ваша карета? Что касается меня, то я готова, едемте!
Барон машинально поднялся и вышел. У него хватило сил заранее обо всем подумать: карета была приготовлена, лошади ждали во дворе, но сам он уже скорее походил на автомат и, не будь Консуэло, не подумал бы об отъезде.
Едва барон вышел из комнаты, как Порпора схватил письмо и быстро пробежал его. В свою очередь он тоже побледнел, не смог произнести ни слова и в самом тяжелом, подавленном состоянии стал расхаживать перед камином. Маэстро имел основания упрекать себя в происходящем. Правда, он этого не предвидел, но теперь говорил себе, что должен был предвидеть. И, терзаемый угрызениями совести, охваченный ужасом, озадаченный удивительной силой предвидения, открывшей больному способ снова увидеть Консуэло, он думал, что ему снится странный и страшный сон…
Но так как он был человеком на редкость положительным в некоторых отношениях, обладавшим упорной волей, то вскоре стал обдумывать, возможно ли осуществить только что принятое Консуэло внезапное решение и каковы будут его последствия. Старик страшно волновался, бил себя по лбу, стучал каблуками, хрустел всеми суставами пальцев, вычислял, обдумывал и наконец, вооружившись мужеством и пренебрегая возможностью вспышки со стороны Консуэло, сказал своей ученице, встряхнув ее, чтобы заставить опомниться:
– Ты хочешь ехать туда – согласен, но я еду с тобой. Ты желаешь видеть Альберта; быть может, ты спасешь его, но отступать немыслимо, и мы отправимся в Берлин. В нашем распоряжении всего два дня. Мы рассчитывали провести их в Дрездене, а теперь отдыхать там не придется. Нам надо быть у прусской границы восемнадцатого, иначе мы нарушим договор. Театр открывается двадцать пятого. Если ты не окажешься в это время на месте, я принужден буду уплатить значительную неустойку. У меня нет половины нужной суммы, а в Пруссии того, кто не платит, бросают в тюрьму. Попадешь же туда – о тебе забывают, оставляют на десять-двадцать лет: умирай там от горя или старости, уж как тебе угодно. Вот что ждет меня, если ты забудешь, что из Ризенбурга надо выехать четырнадцатого, не позднее пяти часов утра.
– Будьте спокойны, маэстро, – решительным тоном ответила Консуэло, – я уже думала обо всем этом. Только не огорчайте меня в Ризенбурге, – вот все, о чем я вас прошу. Мы выедем оттуда четырнадцатого в пять часов утра.
– Поклянись!
– Клянусь, – ответила она, нетерпеливо пожимая плечами. – Раз вопрос идет о вашей свободе и жизни, не понимаю, зачем вам нужна моя клятва. Барон вернулся в эту минуту в сопровождении старого, верного и толкового слуги, который закутал его в шубу, точно ребенка, и свел в карету. Они быстро добрались до Берауна и на рассвете были уже в Пильзене.
Глава 103
Путь от Пильзена до Тусты, как ни спешили они, потребовал у них много времени, ибо дороги были скверные, пролегали они по почти непроходимым пустынным лесам, проезд по которым был далеко не безопасен. Наконец, делая в час чуть ли не по одной миле, добрались они к полуночи до замка Исполинов. Никогда еще Консуэло не приходилось так утомительно, так уныло путешествовать. Барон фон Рудольштадт, казалось, был близок к параличу, в такое безразличное и неподвижное состояние он впал. Не прошло и года с тех пор, как Консуэло видела его настоящим атлетом; но здоровье этого железного организма в значительной мере зависело от силы его воли. Он всю жизнь повиновался только своим инстинктам, и первый же удар неожиданного несчастья сокрушил его. Жалость, которую он вызывал в Консуэло, еще больше усиливала ее тревогу. «Неужели в таком же состоянии найду я всех обитателей Ризенбурга?» – думалось ей.
Подъемный мост был опущен, решетчатые ворота стояли открытыми настежь, слуги ожидали во дворе с горящими факелами. Никто из трех путешественников не обратил на все это ни малейшего внимания. Ни у одного из них не хватило духу спросить об этом слуг. Порпора, видя, что барон едва волочит ноги, повел его под руку, а Консуэло бросилась к крыльцу и быстро стала подниматься по ступеням.
Тут она столкнулась с канониссой, и та, не теряя времени на приветствия, схватила ее за руку со словами:
– Идемте: время не терпит! Альберт ждет не дождется. Он точно высчитал часы и минуты, объявил, что вы въезжаете во двор, – и через какую-нибудь секунду мы услышали стук колес вашей кареты. Он не сомневался в вашем приезде, но говорил, что, если случайно что-либо задержит вас в пути, – будет уже поздно. Идемте же, синьора, и, ради бога, не противоречьте ни одной из его фантазий, не противьтесь ни одному из его чувств. Обещайте ему все, о чем он будет просить вас, притворитесь, что любите его. Лгите, увы, если это понадобится. Альберт приговорен, настает последний его час. Постарайтесь смягчить его агонию! Вот все, о чем мы вас просим.
Говоря это, Венцеслава увлекала за собой Консуэло в большую гостиную. – Значит, он встал? Выходит из своей комнаты? – торопливо спрашивала Консуэло.
– Он больше не встает, ибо больше не ложится, – ответила канонисса. – Вот уже месяц, как он сидит в кресле в гостиной и не хочет, чтобы его беспокоили, перенося на другое место. Доктор сказал, что не надо ему перечить в этом отношении, так как он может умереть, если его станут двигать. Синьора, мужайтесь: сейчас вы увидите страшное зрелище! – И, открыв дверь гостиной, канонисса прибавила: – Бегите к нему, не бойтесь его испугать: он ждет вас и видел, как вы ехали, более чем за две мили отсюда.
Консуэло бросилась к своему жениху, бледному как смерть, действительно сидевшему в кресле у камина. Это был не человек, а призрак. Лицо его, все еще прекрасное, несмотря на изнурительную болезнь, приобрело неподвижность мрамора. На его губах не появилось улыбки, в глазах не засветилось радости. Доктор держал его руку, считая пульс, словно в сцене «Стратоники», и, посмотрев на канониссу, тихонько опустил ее, как бы говоря: «Слишком поздно».
Консуэло опустилась перед Альбертом на колени; он глядел на нее пристально и молча. Наконец ему удалось пальцем сделать знак канониссе, научившейся угадывать все его малейшие желания, и та взяла обе его руки, поднять которые у него уже не хватало сил, и положила их на плечи Консуэло, потом опустила голову девушки на его грудь. И, так как голос умирающего совсем угасал, он прошептал ей на ухо только два слова: «Я счастлив!»
Минуты две прижимал он к груди голову любимой, прильнув губами к ее черным волосам, затем взглянул на тетку и чуть заметным движением дал ей понять, чтобы и она и отец также поцеловали его невесту.
– О! От всей души! – воскликнула канонисса, горячо обнимая Консуэло. Затем она взяла девушку за руку и повела к графу Христиану, которого Консуэло еще не заметила.
Старый граф, сидевший в кресле против сына, у другого угла камина, казался почти таким же изнемогшим и умирающим. Однако он еще вставал и делал несколько шагов по гостиной, но нужно было каждый вечер относить и укладывать его на кровать, которую он велел поставить в соседней комнате. Старый Христиан в ту минуту держал в одной руке руку брата, а в другой руку Порпоры. Он выпустил их и горячо несколько раз поцеловал Консуэло. Капеллан замка, желая сделать удовольствие Альберту, в свою очередь подошел и поздоровался с ней. Он тоже походил на призрак и, несмотря на все увеличивающуюся полноту, был бледен как смерть. Он был слишком изнежен беспечной жизнью, и нервы его не могли переносить даже чужое горе. Канонисса оказалась энергичнее всех. Лицо ее покрылось густым румянцем, а глаза лихорадочно блестели. Один Альберт казался спокойным. Весь облик его выражал ясность прекрасного умирания. В его физической слабости не было ничего, что говорило бы об упадке духовных сил. Он был сосредоточен, но не подавлен, как его отец и дядя.
Среди всех этих людей, сокрушенных болезнью или горем, спокойствие и здоровье доктора выделялись особенно ярко. Сюпервиль был француз, когда-то состоявший врачом при Фридрихе, в то время еще наследнике престола. Предугадав одним из первых деспотический и недоверчивый нрав наследного принца, он перебрался в Байрейт и поступил на службу к сестре Фридриха, маркграфине Софии-Вильгельмине Прусской. Честолюбивый и завистливый, Сюпервиль обладал всеми качествами царедворца. Посредственный врач, несмотря на известность, приобретенную при этом маленьком дворе, он был светским человеком и проницательным наблюдателем, довольно хорошо разбиравшимся в нравственных причинах болезней. Поэтому-то он усиленно и уговаривал канониссу выполнять все желания племянника и возлагал некоторые надежды на возвращение той, из-за которой умирал Альберт. Но как ни старался он с момента появления Консуэло прислушаться к пульсу больного, всматриваясь в его лицо, – он только удостоверился в том, что момент упущен, и уже стал подумывать об отъезде, чтобы не быть свидетелем сцен отчаяния, предотвратить которые было не в его силах.
Доктор решил, однако, вмешаться в деловые интересы семейства – не то из выгоды, не то по врожденной любви к интригам. Заметив, что никто из членов растерявшейся семьи не думает использовать момента, он подвел Консуэло к окну и сказал ей по-французски:
– Мадемуазель, врач – тот же исповедник. И я очень скоро узнал тайну страсти, от которой умирает этот молодой человек. Как врач, привыкший смотреть в глубь вещей и не особенно доверять отклонениям от законов физического мира, признаюсь, я не могу верить в странные видения и исступленные откровения молодого графа. По крайней мере, поскольку дело касается вас, я просто объясняю себе это тем, что у него была с вами тайная переписка, из которой он знал о вашем путешествии в Прагу и вашем скором приезде сюда. – И, несмотря на отрицательный знак Консуэло, продолжал: – Я не задаю вам никаких вопросов, мадемуазель, и в моих предположениях нет ничего для вас обидного. А вам бы лучше довериться мне и видеть во мне человека, преданного вашим интересам.
– Я не понимаю вас, сударь, – ответила Консуэло с искренностью, не разубедившей, однако, придворного медика.
– Вы сейчас поймете меня, мадемуазель, – хладнокровно проговорил он.
– Семья молодого графа до сегодняшнего дня всеми силами восставала против вашего брака с ним. Но сопротивлению их пришел конец. Альберт умирает, и так как он хочет оставить вам свое состояние, они теперь не будут возражать против того, чтобы церковный обряд закрепил его навсегда за вами.
– Ах! Какое мне дело до состояния Альберта! – воскликнула пораженная Консуэло. – Что общего между тем, о чем вы говорите, и положением, в котором я его застаю? Я, сударь, приехала сюда не делами заниматься, – я приехала, чтоб попытаться его спасти. Неужели нет никакой надежды?
– Никакой! Болезнь его всецело мозговая, такого рода недуги разбивают все наши предположения и не поддаются никаким усилиям науки. Месяц тому назад молодой граф после двухнедельного исчезновения, которого никто не смог мне объяснить, вернулся домой пораженный внезапной неизлечимой болезнью. Все жизненные функции у него были уже приостановлены. Вот целый месяц, как он не в состоянии проглотить никакой пищи, – и это редкое явление природы (случающееся только у душевнобольных), что он может до сих пор поддерживать себя несколькими каплями воды днем и несколькими минутами сна ночью. Вы видите его: все жизненные силы истощены в нем; максимум еще два дня, и он перестанет страдать. Запаситесь же мужеством, не теряйте головы. Я готов поддержать вас и помогу вам добиться цели. Консуэло продолжала удивленно смотреть на доктора, но тут канонисса по знаку больного прервала их беседу и подвела девушку к Альберту. Подозвав Сюпервиля, Альберт говорил ему что-то на ухо дольше, чем, казалось, позволяла его слабость. Доктор то краснел, то бледнел. Канонисса с беспокойством наблюдала за ними, горя нетерпением узнать, о каких своих желаниях говорит ему Альберт.
– Доктор, – шептал Альберт, – все, что вы только что сказали этой девушке, я слышал (Сюпервиль, говоривший на другом конце гостиной и так же тихо, как в эту минуту беседовал с ним больной, смутился, и его твердое убеждение в невозможности существования дара ясновидения было до того поколеблено, что ему стало казаться, будто он сходит с ума). Доктор, – продолжал умирающий, – вы ничего не понимаете в этой душе и вредите моим планам, задевая ее щепетильность. Она ничего не смыслит в ваших денежных соображениях и всегда отказывалась и от моего титула и от моего состояния; любви ко мне она никогда не чувствовала. Одна жалость может заставить ее уступить. Обратитесь же к ее сердцу. Конец мой ближе, чем вы предполагаете. Не теряйте времени. Я не смогу возродиться счастливым, если не сойду в ночь отдохновения, назвавшись ее мужем.
– Что вы хотите сказать этими последними словами? – спросил Сюпервиль, занятый в ту минуту анализом сумасшествия своего больного.
– Вам не понять их, – с усилием произнес Альберт, – а она поймет. Ограничьтесь тем, чтобы передать их ей точно.
– Послушайте, господин граф, – сказал, несколько повышая голос, Сюпервиль, – я вижу, что не смогу ясно передать ваших мыслей. Вы же говорите лучше, чем за всю последнюю неделю, и я в этом усматриваю благоприятный признак. Поговорите сами с мадемуазель. Одно ваше слово убедит ее лучше всех моих речей. Вот она здесь, рядом, пусть займет мое место и выслушает вас.
Сюпервиль действительно уже ничего не понимал из того, что до сих пор казалось ему понятным; к тому же он считал, что достаточно сказал Консуэло и обеспечил себе ее благодарность, в случае если она добьется состояния; перед тем, как он ушел, Альберт сказал ему в качестве напутствия: – Подумайте о том, что вы мне обещали. Минута настала: поговорите с моей семьей. Устройте так, чтобы они согласились и не колебались больше. Говорю вам – время не терпит…
Альберт настолько устал от усилия, какого стоил ему разговор с Сюпервилем, что, когда Консуэло приблизилась к нему, он прислонил свой лоб ко лбу любимой и так замер, словно умирая. Его белые губы посинели, и перепуганному Порпоре показалось, что он уже умер.
В это время Сюпервиль, собрав в другом конце комнаты графа Христиана, барона, канониссу и капеллана, горячо уговаривал их. Один только капеллан сделал робкое с виду возражение, говорившее, однако, об упорной настойчивости священника.
– Если ваши сиятельства потребуют, – сказал он, – я благословлю этот брак, но так как граф Альберт не причастен благодати, следовало бы, чтобы он предварительно через покаяние и соборование примирился с церковью. – Соборование! Господи, да неужели дело дошло уже до этого? – произнесла, сдерживая стон, канонисса.
– Да, дошло, – ответил Сюпервиль, который как светский человек и философ-вольтерьянец с презрением относился и к самому капеллану и к его возражениям, – и нельзя терять ни минуты, если господин капеллан настаивает на подобном условии и желает мучить больного мрачной обстановкой предсмертного обряда.
– А не думаете ли вы, доктор, что обряд более радостный и желанный может вернуть его к жизни? – спросил граф Христиан, в котором происходила борьба между благочестием и отцовской любовью.
– Я ни за что не ручаюсь, – ответил Сюпервиль, – но смею сказать, что возлагаю на это большие надежды… Было время, когда ваше сиятельство давали свое согласие на этот брак…
– Я всегда был согласен на него, никогда не был против, – прервал его граф, намеренно повышая голос. – Маэстро Порпора, опекун молодой девушки, написал мне, что он никогда не даст своего согласия на ее брак с моим сыном и что его воспитанница сама отказывается от него. Увы! Это и нанесло смертельный удар молодому графу, – прибавил он, понизив голос.
– Вы слышите, что говорит отец? – прошептал Альберт на ухо Консуэло. – Но пусть угрызения совести не мучают вас. Я поверил тому, что вы покидаете меня, и поддался отчаянию, но с неделю назад ко мне вернулся разум, – они зовут это безумием, – и я читал в сердцах, находящихся вдали от меня, подобно тому как другие читают распечатанные письма. Одновременно я увидел прошедшее, настоящее и будущее. Я наконец узнал, Консуэло, что ты была верна своей клятве, делала все возможное, чтобы полюбить меня, и действительно любила в течение нескольких часов. Но нас обоих обманули. Прости своему учителю так же, как я прощаю ему.
Консуэло поискала глазами Порпору. Он не мог слышать слов Альберта, но, смущенный тем, что сказал граф Христиан, в волнении ходил подле камина. Она посмотрела на него с глубоким упреком, и маэстро так ясно почувствовал свою вину, что в немой запальчивости ударил себя по лбу кулаком. Альберт знаком показал Консуэло, чтобы она подвела к нему маэстро и помогла протянуть ему руку. Порпора поднес эту ледяную руку к своим губам и зарыдал. Совесть мучила его, нашептывала, что он убил человека, но раскаяние искупило его безрассудство.
Альберт опять показал знаком, что хочет слышать, какой ответ его родные дают Сюпервилю, и он расслышал их слова, хотя те говорили так тихо, что Консуэло и Порпора, стоявшие подле него на коленях, не могли уловить ни единого звука.
Капеллан отбивался от едкой иронии доктора. Канонисса старалась, смешивая суеверие с терпимостью, христианское милосердие с материнской любовью, примирить идеи, непримиримые с католическими догматами. Спор вертелся только вокруг формальности, а именно: капеллан не считал возможным совершать таинство брака над еретиком, пока тот, по крайней мере, не обещает немедленно принять католичество. Сюпервиль, не останавливаясь перед ложью, уверял, что граф Альберт якобы обещал ему, обвенчавшись, исповедовать любую религию. Капеллан не поддавался обману. Наконец граф Христиан, преисполненный спокойной твердости и простой логики человеколюбия, поборов, как всегда, после долгой нерешительности свою бесхарактерность, прекратил домашние распри и положил конец спору.
– Господин капеллан, – сказал он, – нет такого закона, который определенно запрещал бы вам венчать католичку с еретиком. Церковь допускает подобные браки. Считайте же Консуэло правоверной, а сына моего еретиком и немедленно обвенчайте их. Вы ведь знаете, что обручение и исповедь – не более как обряды, освященные обычаем, и могут быть обойдены в некоторых крайних случаях. Этот брак может вызвать благоприятный поворот в состоянии здоровья Альберта, а когда он выздоровеет, мы с вами подумаем об его обращении.
Капеллан никогда не противился воле старого Христиана, – в делах совести он был для него большим авторитетом, чем сам папа римский. Оставалось только убедить Консуэло. Один Альберт подумал об этом, и, притянув к себе любимую, он смог без посторонней помощи обнять ее шею своими высохшими, ставшими легкими, как тростник, руками.
– Консуэло, – прошептал он, – в эту минуту я читаю в твоей душе: ты готова отдать свою жизнь, чтобы воскресить мою. Это уже невозможно, но ты в состоянии простым усилием воли спасти меня для вечной жизни. Я ненадолго уйду от тебя, а там снова вернусь на землю путем нового рождения. И если теперь, в последний час, ты покинешь меня, я вернусь сюда в отчаянии, с тяготеющим надо мной проклятием. Как тебе известно, преступления Яна Жижки еще не вполне искуплены, и одна ты, сестра моя Ванда, можешь очистить меня в этой фазе моей жизни. Мы – брат и сестра, а любовниками мы можем стать только после того, как смерть еще раз пройдет между нами. Но мы должны поклясться друг другу быть мужем и женой. Согласись произнести эту клятву, и я смогу возродиться спокойным, сильным и свободным, как другие люди, и избавиться от воспоминаний о моих прежних существованиях, составляющих мою пытку, мое наказание в течение уже стольких веков. Такая клятва не свяжет тебя со мной в этой жизни, которую я покидаю через час, но она соединит нас в вечности. Это будет как бы печатью, которая поможет нам узнать друг друга, когда тень смерти ослабит ясность наших воспоминаний. Соглашайся! Будет совершен католический обряд, и я иду на это, так как он один может узаконить в представлении людей наше обладание друг другом. Мне необходимо унести в могилу эту санкцию. Брак без одобрения родителей, на мой взгляд, – брак несовершенный. А сам обряд имеет мало значения для меня. Наш союз будет так же неразрывен в наших сердцах, как он священен в наших мыслях. Соглашайся же! – Я согласна! – воскликнула Консуэло, прижимая губы к холодному, бескровному челу своего жениха.
Эти слова были услышаны всеми.
– Ну, поспешим, – сказал Сюпервиль и решительно стал торопить капеллана, который тут же позвал слуг и немедленно принялся готовить все для совершения обряда. Граф, несколько оживившись, подошел и сел подле сына и Консуэло. Добрая канонисса поблагодарила невесту за ее согласие, причем даже стала перед нею на колени и поцеловала ей руки. Барон Фридрих тихо плакал, казалось, не понимая даже, что происходит вокруг него. В мгновение ока был сооружен алтарь перед камином гостиной. Слуг отпустили. Те решили, что дело идет только о соборовании и состояние здоровья больного требует, чтобы было как можно тише и как можно больше чистого воздуха. Порпора с Сюпервилем были свидетелями. Альберт вдруг почувствовал такой прилив сил, что смог произнести ясным и звучным голосом решительное «да» и брачную формулу. Семья стала горячо надеяться на выздоровление.
Едва успел капеллан произнести над головами новобрачных последнюю молитву, как Альберт поднялся, бросился в объятия отца; так же стремительно и с необычайной силой обнял он тетку, дядю и Порпору. Затем снова опустился в кресло, прижал к своей груди Консуэло и воскликнул:
– Я спасен!
– Это последнее проявление жизненных сил, последние предсмертные конвульсии, – сказал, обращаясь к Порпоре, Сюпервиль, который несколько раз во время венчания щупал пульс умирающего и вглядывался в его лицо.
И в самом деле, руки Альберта раскрылись, вытянулись и упали на колени. Старый Цинабр, в продолжение всей болезни спавший у ног своего хозяина, поднял голову и три раза отчаянно взвыл. Взгляд Альберта был устремлен на Консуэло, рот его оставался полуоткрытым – как бы для того, чтобы говорить с ней; легкий румянец появился на его щеках, затем тот особый оттенок, та невыразимая, неописуемая тень, что медленно сползает от лба к губам, покрыла его белой пеленой. В течение минуты лицо его принимало различные выражения все более и более суровой сосредоточенности и покорности, пока не застыло в величавом спокойствии и строгой неподвижности.
Безмолвие ужаса, царившее над трепещущей семьей, было нарушено голосом доктора, произнесшим с унылой торжественностью слова, на которые нет ответа:
– Это смерть!
Глава 104
Граф Христиан упал в кресло, словно сраженный громом; канонисса истерически зарыдала и бросилась к Альберту, точно надеялась своими ласками оживить его. Барон Фридрих пробормотал несколько бессвязных и бессмысленных слов, словно человек, впавший в тихое помешательство. Сюпервиль подошел к Консуэло, чья напряженная неподвижность пугала больше, чем бурное отчаяние других.
– Не заботьтесь обо мне, сударь, – сказала она ему. – И вы, друг мой, – убеждала она Порпору, обратившего в первую минуту все свое внимание на нее. – Лучше уведите несчастных родственников. Займитесь ими, думайте только о них, а я останусь здесь. Мертвым нужны лишь почтение и молитва. Графа и барона увели без всякого сопротивления с их стороны. Канониссу, холодную и неподвижную как труп, унесли в ее комнату, куда за ней для оказания помощи пошел Сюпервиль. Порпора, не зная сам, что с ним творится, спустился в сад и зашагал там как сумасшедший. Он задыхался. Его чувствительность была как бы заключена в броню сухости, скорее внешнюю, но с которой он уже свыкся как с привычкой. Сцены смерти и ужаса поразили его впечатлительное воображение, и он долго бродил при лунном свете, преследуемый зловещими голосами, певшими над самым его ухом страшное погребальное песнопение «Dies irae».
Консуэло осталась одна подле Альберта, ибо не успел капеллан приступить к молитве за усопших, как свалился без чувств, и его также пришлось унести. Бедняга во время болезни Альберта упорно просиживал с канониссой подле него все ночи напролет и окончательно выбился из сил.
Графиня Рудольштадт, стоя на коленях у трупа своего мужа, держа его ледяные руки в своих, положив голову на переставшее биться сердце, погрузилась в глубокое, сосредоточенное размышление. Она не чувствовала в эту прощальную минуту того, что принято называть горем. По крайней мере она не испытывала той безысходной печали, которая неизбежна при потере существа, нужного нам каждую минуту для нашего счастья. Любовь ее к Альберту не носила характера такой близости, и смерть его не создавала осязательной пустоты в ее жизни. К нашему отчаянию при потере тех, кого мы любим, нередко тайно примешивается любовь к самому себе и малодушие перед новыми обязанностями, налагаемыми на нас их утратой. Отчасти такое чувство законно, но только отчасти, и с ним должно бороться, хотя оно и естественно. Ничто подобное не могло примешаться к торжественной печали Консуэло. Жизнь Альберта была чужда ее жизни во всех отношениях, кроме одного – он удовлетворял в ней потребность в восхищении, уважении и симпатии. Она примирилась с мыслью жить без него, отрешилась от всякого проявления любви, которую еще два дня назад считала уже потерянной. В ней остались только потребность и желание быть верной священной памяти о нем. Альберт уже раньше умер для нее, и теперь он был не более, а в некоторых отношениях, пожалуй, даже менее мертв, так как Консуэло, долго общаясь с такой необыкновенной душой, путем размышлений и мечтаний сама пришла к поэтическому верованию Альберта в переселение душ. Это верование ее главным образом зиждилось на отвращении, которое она питала к идее богамстителя, посылающего человека после смерти в ад, и на христианской вере в вечную жизнь души. Альберт, живой, но предубежденный против нее обманчивыми внешними признаками, изменивший любви к ней или снедаемый подозрениями, представлялся ей точно в тумане, живущим новой жизнью, такой неполной в сравнении с той, которую он хотел посвятить возвышенной любви и непоколебимому доверию. А Альберт, в которого она снова может верить, которым может восторгаться, Альберт, умерший на ее груди, не умер для нее. Да разве не жил он полной жизнью, пройдя под триумфальной аркой прекрасной смерти, которая ведет либо к таинственному временному отдыху, либо к немедленному пробуждению в более чистом и более благоприятном окружении? Умереть, борясь со своей собственной слабостью, чтобы возродиться сильным, умереть, прощая злым, чтобы возродиться под влиянием и покровительством великодушных сердец, умереть истерзанным искренними угрызениями совести, чтобы возродиться прощенным и очищенным, с врожденными добродетелями, – да разве все это не является чудесной наградой?
Консуэло, посвященная Альбертом в учение, источником которого были гуситы старой Чехии и таинственные секты былых веков (а те имели связь с серьезными толкователями мыслей самого Христа и его предшественников), Консуэло, уверенная, что душа ее супруга не сразу оторвалась от ее души, чтобы воспарить в недосягаемых фантастических эмпиреях, примешивала к новому восприятию мира кое-какие суеверные воспоминания своего отрочества. Она верила в привидения, как верят в них дети народа. Не раз ей во сне являлся призрак матери, покровительствовавший ей и охранявший от опасности. То было своего рода верование в вечный союз умерших душ с миром живых, ибо суеверие простодушных народов, по-видимому, существовало всегда как протест против мнения законодателей от религии об окончательном исчезновении человеческой сущности, либо поднимающейся на небо, либо спускающейся в ад.
И Консуэло, прижавшись к груди трупа, не представляла себе, что Альберт мертв, и не сознавала всего ужаса этого слова, этого зрелища, этой идеи. Она не верила, что духовная жизнь могла так скоро исчезнуть и этот мозг, это сердце, переставшее биться, угасли навсегда.
«Нет, – думала она, – божественная искра, быть может, еще тлеет, прежде чем раствориться в лоне бога, который приемлет ее для того, чтобы отослать в жизнь вселенной под новым обликом. Быть может, существует еще какая-нибудь таинственная, неведомая жизнь в этой едва остывшей груди. Да и где бы ни находилась душа Альберта, она видит, она понимает, она знает, что происходит вокруг его бренных останков. Быть может, в моей любви он ищет пищи для своей новой деятельности, в моей вере – силы, побуждающей искать в боге стремление к воскресению».
И, погруженная в эти неясные думы, она продолжала любить Альберта, открывала ему свою душу, обещала свою преданность, повторяла клятву в верности, только что данную ему перед богом и его семьей; словом, она продолжала относиться к нему и мысленно и в сердце своем не как к покойнику, которого оплакивают, ибо расстаются с ним, а как к живому, чей сон охраняют до тех пор, пока не встретят с улыбкой его пробуждение.
Придя в себя, Порпора с ужасом вспомнил о том, в каком состоянии он оставил свою воспитанницу, и поспешил к ней. Он был удивлен, застав ее совсем спокойной, как будто она сидела у изголовья больного друга. Маэстро хотел было уговорить, убедить ее пойти отдохнуть.
– Не говорите ненужных слов пред этим уснувшим ангелом, – ответила она. – Идите отдохните сами, дорогой мой учитель, а я здесь отдыхаю.
– Ты, стало быть, хочешь уморить себя? – с каким-то отчаянием проговорил Порпора.
– Нет, друг мой, я буду жить, – отвечала Консуэло, – и выполню свой долг и перед ним и перед вами, но в эту ночь я не покину его ни на минуту.
Так как в доме ничего не делалось без приказания канониссы, а слуги относились к молодому графу с суеверным страхом, то никто из них в течение ночи не посмел приблизиться к гостиной, где Консуэло оставалась одна с Альбертом; Порпора же и доктор все время переходили из графских покоев то в комнату канониссы, то в комнату капеллана. Время от времени они «заходили осведомить Консуэло о состоянии несчастных родных Альберта и справиться относительно нее самой. Им было совершенно непонятно ее мужество.
Наконец под утро все успокоилось. Тяжелый сон одолел сильнейшую скорбь. Доктор, выбившись из сил, пошел прилечь. Порпора уснул в кресле, прислонившись головой к краю кровати графа Христиана. Одна Консуэло не чувствовала потребности забыться. Погруженная в свои думы, то усердно молясь, то восторженно мечтая, она имела только одного бессменного товарища – опечаленного Цинабра; верный пес время от времени смотрел на своего хозяина, лизал его руку и, отвыкнув уже от ласки этой иссохшей руки, снова покорно укладывался, положив голову на неподвижные лапы.
Когда солнце, поднимаясь из-за деревьев сада, озарило своим пурпурным светом чело Альберта, в гостиную вошла канонисса; ее приход вывел Консуэло из задумчивости. Граф не смог подняться с постели, но барон Фридрих машинально пришел помолиться перед алтарем вместе с сестрой и капелланом; затем стали говорить о погребении, и канонисса, находя снова силы для житейских забот, велела позвать горничных и старого Ганса.
Тут доктор и Порпора потребовали, чтобы Консуэло пошла отдохнуть, и она покорилась, побывав предварительно у постели графа Христиана, который взглянул на нее, словно не замечая. Нельзя было сказать, спит он или бодрствует. Глаза его были открыты, дышал он ровно, но в лице отсутствовало всякое выражение.
Консуэло, проспав несколько часов, проснулась и спустилась в гостиную; сердце ее страшно сжалось, – она увидела комнату опустевшей. Альберта уложили на пышные носилки и перенесли в часовню. Его пустое кресло стояло на том же месте, где Консуэло видела его накануне. Это было все, что осталось от Альберта в этой комнате, бывшей в течение стольких горьких дней жизненным центром всей семьи. Даже и собаки его здесь не было. Весеннее солнце оживляло печальные покои, и с дерзкой смелостью свистели в саду дрозды.
Тихонько прошла Консуэло в соседнюю комнату, дверь в нее была полуоткрыта. Граф Христиан продолжал лежать, оставаясь как бы безучастным к страшной утрате. Его сестра, перенесшая на него всю заботу, какую до этого уделяла Альберту, неусыпно ухаживала за ним. Барон бессмысленно смотрел на пылавшие в камине поленья; только слезы, невольно катившиеся по его щекам, которых он и не думал утирать, говорили о том, что, к несчастью, он не лишился памяти.
Консуэло подошла к канониссе и хотела поцеловать ей руку, но та отдернула руку с непреодолимым отвращением. Бедная Венцеслава видела в молодой девушке бич, причину гибели племянника. Первое время она с негодованием относилась к проекту их брака и всеми силами восставала против него, а потом, увидев, что нет возможности заставить Альберта от него отказаться и что от этого зависит его здоровье, рассудок и самая жизнь, даже желала этого брака и торопила его с таким же пылом, какой вначале вносила в свой ужас и отвращение. Отказ Порпоры, непобедимая страсть Консуэло к театру, – а маэстро не побоялся приписать ей это чувство, – словом, вся льстивая и пагубная ложь, которой были полны несколько его писем к графу Христиану, – в них он ни разу не заикнулся о письмах, написанных самою Консуэло и уничтоженных им, – все это сильно огорчало отца Альберта и приводило в страшное негодование канониссу. Она возненавидела и стала презирать Консуэло. По ее словам, она могла бы простить девушке, что та свела с ума Альберта роковой любовью, но была не в силах примириться с ее бесстыдной изменой ему. Она не подозревала, что истинным убийцей Альберта был Порпора. Консуэло прекрасно все понимала и могла бы оправдаться, но она предпочла принять на себя все укоры, чем обвинить своего учителя и подвергнуть его опасности потерять уважение и дружбу этой семьи. К тому же она догадывалась, что если Венцеслава накануне и могла благодаря материнской любви отрешиться от злобы и отвращения к ней, то все вернулось к ней теперь, когда оказалось, что жертва была принесена напрасно. Каждый взгляд бедной старухи, казалось, говорил ей: «Ты погубила наше дитя, не сумела вернуть ему жизнь, а теперь нам остался только позор заключенного с тобой брака».
Это немое объявление войны ускорило выполнение решения, которое уже раньше приняла Консуэло, – решения утешить насколько возможно канониссу в ее последнем несчастье.
– Смею ли я просить ваше сиятельство назначить мне время для разговора с вами с глазу на глаз? – покорно проговорила она. – Я должна уехать завтра до восхода солнца и не могу покинуть замка, не высказав вам со всею почтительностью своих намерений.
– Ваших намерений! Впрочем, я уже догадываюсь о них, – колко заметила канонисса. – Успокойтесь, синьора, все будет в порядке, и к правам, следуемым вам по закону, отнесутся с полнейшим уважением.
– Напротив, сударыня, я вижу, что вы совершенно не понимаете меня, возразила Консуэло. – И я хочу как можно скорее…
– Ну, хорошо! Раз я должна испить и эту чашу, – перебила ее канонисса, поднимаясь, – пусть это будет сейчас, пока у меня еще есть мужество. Следуйте за мной, синьора. Старший брат мой, по-видимому, дремлет. Господин Сюпервиль, который дал мне обещание еще день поухаживать за ним, будет так любезен подежурить вместо меня подле него полчаса.
Она позвонила и приказала позвать доктора. Потом, обернувшись к барону, сказала:
– Братец, ваши заботы излишни, так как к Христиану до сих пор не вернулось сознание его горя. Оно, быть может, и не вернется, к счастью для него и к несчастью для нас! Возможно, что то состояние, в котором он находится, – начало конца. У меня нет никого на свете, кроме вас, братец; позаботьтесь же о своем здоровье, и без того очень подорванном мрачным бездействием, в которое вы впали. Вы привыкли к свежему воздуху и движению – ступайте прогуляйтесь, захватите с собой ружье; ловчий будет сопровождать вас с собаками. Я знаю прекрасно, что это не рассеет вашего горя, но по крайней мере принесет пользу здоровью – в этом я уверена. Сделайте это для меня, Фридрих. Это докторское предписание, это просьба вашей сестры. Не отказывайте мне! В данную минуту вы этим можете наиболее утешить меня, ибо последняя надежда моей печальной старости – это вы!
Барон поколебался, но кончил тем, что уступил. Приехавшие с ним слуги подошли к нему, и он, как ребенок, дал увести себя на свежий воздух. Доктор освидетельствовал графа Христиана; старик словно окаменел от горя, хотя и отвечал на его вопросы и, казалось, с кротким и равнодушным видом узнавал всех.
– Жар не очень большой, – тихо сказал Сюпервиль канониссе, – если к вечеру он не усилится, то, быть может, все и обойдется благополучно.
Несколько успокоенная, Венцеслава поручила ему наблюдать за братом, а сама увела Консуэло в обширные покои, богато убранные в старинном вкусе, где Консуэло никогда еще не бывала… Тут стояла большая парадная кровать, занавеси которой не раздвигались более двадцати лет. На ней скончалась Ванда Прахалиц, мать графа Альберта, это были ее покои.
– Здесь, – торжественно проговорила канонисса, закрыв предварительно дверь, – нашли мы Альберта ровно тридцать два дня тому назад, после его исчезновения, длившегося две недели. С той минуты он больше не входил сюда и не покидал кресла, в котором вчера вечером скончался.
Сухие слова этого посмертного бюллетеня были произнесены с горечью и вонзались, как иглы, в сердце бедной Консуэло. Затем канонисса сняла с пояса связку ключей, с которой никогда не разлучалась, подошла к большому шкафу резного дуба и открыла обе его дверцы. Консуэло увидала в нем целую гору драгоценностей, потускневших от времени, причудливой формы, большей частью старинных, украшенных алмазами и ценными камнями.
– Вот фамильные драгоценности, – сказала канонисса, – принадлежавшие моей невестке до ее брака с графом Христианом, затем те, что достались нам от моей бабушки и были подарены мной и братьями невестке, и, наконец, эти, купленные ей супругом. Все это принадлежало сыну ее Альберту, а отныне принадлежит вам, как его вдове… Возьмите их и не бойтесь, никто здесь не станет оспаривать их у вас. Мы ими не дорожим. Они нам ни к чему. Что же касается документов на материнское наследство моего племянника, через час они будут в ваших руках. Все в порядке, как я вам уже сказала, а ждать документов на отцовское наследство вам, увы, быть может, не долго придется. Такова была последняя воля Альберта. Данное мною слово было равносильно в его глазах духовному завещанию.
– Сударыня, – ответила Консуэло, с отвращением захлопывая дверцы шкафа, – я порвала бы такое духовное завещание, а вас прошу взять обратно данное вами слово. Эти драгоценности нужны мне не больше, чем вам. Мне кажется, моя жизнь была бы навек осквернена ими. Если Альберт и завещал их мне, то, конечно, думая, что я, сообразно его чувствам и привычкам, раздам их бедным. Но я не сумела бы как следует распорядиться его благородным даянием. У меня нет ни административных способностей, ни необходимых знаний для действительно полезного распределения этих богатств. У вас, сударыня, к этим качествам присоединяется христианская душа, такая же великодушная, как у Альберта, вам и надлежит употребить это наследство на дела милосердия. Уступаю вам все свои права, если таковые действительно у меня имеются, чего я не знаю и знать никогда не пожелаю. Молю вас только об одной милости – никогда больше не оскорблять моей гордости подобными предложениями.
В лице канониссы что-то изменилось. Слова Консуэло невольно вызвали в ней уважение к девушке, но, не решаясь еще восхищаться ею, старуха попробовала было настаивать.
– Что же вы думаете делать? – спросила она, пристально глядя на Консуэло. – У вас ведь нет состояния?
– Извините, сударыня, я достаточно богата: довольствуюсь малым и люблю труд.
– Так вы намерены вернуться… к тому, что вы называете своим трудом? – Как ни убита я горем, сударыня, но вынуждена это сделать, и совесть моя не может протестовать, – на это у меня есть серьезные причины.
– И вы не желаете иным путем поддерживать свое новое положение в обществе?
– Какое положение, сударыня?
– То, какое приличествует вдове Альберта.
– Я никогда не забуду, сударыня, что я вдова благородного Альберта, и поведение мое всегда будет достойно супруга, которого я потеряла.
– Однако графиня фон Рудольштадт снова появится на подмостках!
– Другой графини фон Рудольштадт, кроме вас, госпожа канонисса, нет и никогда не будет, если не считать, конечно, вашей племянницы, баронессы Амелии.
– Не в насмешку ли надо мной вы заговорили о ней, синьора? – воскликнула канонисса; имя Амелии подействовало на нее, словно ожог. – Что означает этот вопрос, сударыня? – спросила Консуэло с удивлением, в искренности которого не могла усомниться Венцеслава. – Ради бога, скажите мне, почему я не вижу здесь молодой баронессы? Боже мой! Неужели она также скончалась?
– Нет, – с горечью сказала канонисса, – дай бог, чтобы это было так!
Не будем больше говорить об Амелии, речь идет не о ней.
– Однако, сударыня, я принуждена напомнить вам то, о чем не подумала раньше, а именно, что она является единственной и законной наследницей поместий и титулов вашей семьи. Вот что должно успокоить вашу совесть в вопросе о порученных вам Альбертом драгоценностях, раз закон не разрешает вам распорядиться ими в свою пользу.
– Ничто не может отнять у вас право на вдовью часть и на титул, они предоставлены вам предсмертной волей Альберта.
– Ничто не может помешать мне и отказаться от этих прав, и я отказываюсь. Альберт прекрасно знал, что я не желаю быть ни богатой, ни графиней.
– Но общество не дает вам права от этого отказываться.
– Общество, сударыня! Ну вот о нем именно мне и хотелось поговорить с вами. Общество не поймет ни любви Альберта, ни снисходительности его семьи к такой бедной девушке, как я. Оно поставило бы ему это в упрек и считало бы пятном в вашей жизни. А для меня это было бы источником насмешек и, быть может, даже позора, так как, повторяю, общество не поймет того, что у нас здесь происходит. Стало быть, обществу никогда и не следует этого знать, как не знают и ваши слуги, ибо мой учитель и господин доктор – единственные посторонние свидетели нашего тайного брака – еще не разгласили его и не разгласят. За молчание учителя я вам ручаюсь, а вы можете и должны заручиться молчанием доктора. Будьте же спокойны на этот счет, сударыня! От вас будет зависеть унести тайну с собою в могилу, и никогда благодаря мне баронесса Амелия не заподозрит, что я имею честь быть ее кузиной. Забудьте же о последнем часе графа Альберта, – это мне надо помнить о нем, благословлять его и молчать. У вас и без того довольно причин для слез, зачем прибавлять к ним горе и унижение, напоминать вам о существовании вдовы вашего чудесного племянника!
– Консуэло! Дочь моя! – воскликнула, рыдая, канонисса. – Оставайтесь с нами! У вас великая душа и великий ум! Не покидайте нас!..
– Этого жаждало бы мое всецело преданное вам сердце, – ответила Консуэло, с восторгом принимая ее ласки, – но я не могу ничего поделать, ибо в противном случае наша тайна была бы обнаружена или заподозрена, что сводится к одному и тому же, а я знаю, что честь семьи вам дороже жизни. Позвольте же мне, вырвавшись немедленно и без колебаний из ваших объятий, оказать вам единственную услугу, которая в моей власти!
Слезы, пролитые канониссой в конце этой сцены, облегчили страшную тяжесть, подавлявшую ее. То были первые ее слезы после смерти племянника. Она приняла жертву Консуэло, и доверие, с каким старушка отнеслась к ее решению, доказало, что она наконец оценила благородство характера девушки. Венцеслава рассталась с ней, спеша поделиться результатом разговора с капелланом и переговорить с Порпорой и Сюпервилем о необходимости хранить вечное молчание.
Заключение Консуэло почувствовала себя свободной и посвятила весь день обходу замка, сада и окрестностей, чтобы еще раз увидеть места, напоминавшие ей о любви Альберта. В благоговейном порыве она добралась до самого Шрекенштейна и присела на камень в той страшной пустыне, где так долго смертельно страдал Альберт. Но вскоре мужество покинуло ее, воображение разыгралось, и ей почудилось, будто из-под скалы доносится глухой стон. Она даже не посмела признаться себе, что явственно слышит этот стон. Так как Альберта и Зденко уже не было в живых, такой обман слуха мог быть лишь чем-то болезненным, губительным. И Консуэло поспешила уйти оттуда. Подходя в сумерки к замку, она встретила барона Фридриха, который уже стал крепче держаться на ногах и немного оживился во время страстно любимой им охоты. Сопровождавшие его охотники загоняли дичь, стремясь вызвать в нем желание ее подстрелить. Он все еще целился верно, добычу же подбирал вздыхая.
«Вот он будет жить и утешится», – подумала молодая вдова.
Канонисса ужинала или делала вид, что ужинает, в комнате брата. Капеллан, вставший с постели, чтобы пойти в часовню помолиться у тела покойного, попробовал было сесть за стол, но у него был жар, и в самом начале ужина он почувствовал себя плохо. Сюпервиль был голоден, и необходимость бросить горячий суп и вести каноника в его комнату невольно вызвала у него восклицание, в котором чувствовалась досада:
– Бывают же такие слабые, лишенные мужества люди! Здесь только двое мужчин – канонисса и синьора!
Вскоре он вернулся, решив не принимать особенно близко к сердцу нездоровье бедного священника, и вместе с бароном воздал должное ужину. Порпора, страшно подавленный, хотя он и скрывал это, был не в состоянии открыть рот ни для разговоров, ни для еды. А Консуэло думала лишь о последнем ужине за этим самым столом, когда она сидела с Альбертом и Андзолето…
Затем вместе с учителем она занялась приготовлением к отъезду. Лошади были заказаны на четыре часа утра. Порпора не хотел было ложиться, но сдался на просьбы и уговоры приемной дочери, боявшейся, как бы он тоже не захворал. Желая убедить его, Консуэло уверила, что сама также уснет. Перед тем как разойтись по своим комнатам, они отправились к графу Христиану. Он спокойно спал, и Сюпервиль, жаждавший поскорее покинуть эту печальную обитель, уверял, что у старика нет больше жара.
– Это правда, сударь? – испугавшись опрометчивости доктора и отозвав его в сторону, спросила Консуэло.
– Клянусь вам, – ответил он, – на этот раз он спасен; однако должен предупредить вас, что вообще он не особенно-то долго протянет. В этом возрасте не чувствуют так остро горя в первую минуту, но несколько позже тоска и одиночество его доконают. Это только отсрочка. Итак, будьте настороже, ведь не серьезно же, в самом деле, отказались вы от своих прав? – Очень серьезно, уверяю вас, сударь, – ответила Консуэло. – И меня очень удивляет, что вы никак не можете поверить такой простой вещи.
– Вы разрешите мне, сударыня, сомневаться в этом до смерти вашего свекра. А пока вы сделали большую ошибку, отказавшись от драгоценностей и титула. Ну, ничего! У вас есть на это свои причины, в которые я не вхожу, но думаю, что такая уравновешенная особа, как вы, не может поступить легкомысленно. Я дал честное слово хранить семейную тайну и буду ждать, когда вы меня от него освободите. В свое время и в своем месте мои показания будут вам полезны. Можете на них рассчитывать. Вы всегда найдете меня в Байрейте, если богу угодно будет продлить мою жизнь, и в надежде на это, графиня, целую ваши ручки.
Сюпервиль простился с канониссой, уверил, что ручается за жизнь больного, написал последний рецепт, получил крупную сумму денег, показавшуюся ему, однако, ничтожной по сравнению с той, какую он надеялся вытянуть у Консуэло, служа ее интересам, и в десять часов вечера покинул замок, поразив и приведя в негодование Консуэло своим корыстолюбием. Барон отправился спать, чувствуя себя гораздо лучше, чем накануне.
Канонисса велела поставить для себя кровать подле Христиана. Две горничные дежурили в этой комнате, двое слуг – у капеллана и старый Ганс – у барона.
«К счастью, нищета и лишения не усугубляют их горя, – подумала Консуэло. – Но кто же будет подле Альберта в эту мрачную ночь, под сводами часовни? Я – раз это моя вторая и последняя брачная ночь!»
Она выждала, пока все стихло и опустело в замке, и когда пробило полночь, засветила маленькую лампу и пошла в часовню.
В конце ведущей в нее галереи она наткнулась на двух слуг замка. Сначала ее появление очень их испугало, но затем они признались ей, почему они тут. Им велено было отдежурить четверть ночи у тела господина графа, но страх помешал им, и они предпочли дежурить и молиться у дверей.
– Какой страх? – спросила Консуэло; ее оскорбило, что такой великодушный хозяин уже не возбуждает в своих слугах иного чувства, кроме ужаса.
– Что поделаешь, синьора, – ответил один из слуг; им и в голову не приходило, что перед ними вдова графа Альберта, – у нашего молодого барина были непонятные знакомства и сношения с миром духов. Он разговаривал с умершими, находил скрытые вещи, не бывал никогда в церкви, ел вместе с цыганами… словом, трудно сказать, что может случиться с тем, кто проведет нынешнюю ночь в часовне. Хоть убейте, а мы не остались бы там. Взгляните на Цинабра! Его не впускают в священное место, и он целый день пролежал у двери, не евши, не двигаясь и не воя. Он прекрасно понимает, что там его хозяин и что он мертв. Потому-то пес ни разу и не просился к нему. Но как только пробило полночь, тут он стал метаться, обнюхивать, скрестись в дверь и подвывать, словно чувствуя, что хозяин его там не один и не лежит покойно.
– Вы жалкие глупцы! – с негодованием ответила Консуэло. – Будь у вас сердце потеплее, умишко ваш не был бы так слаб! – и она вошла в часовню, к великому изумлению и ужасу трусливых сторожей.
Днем Консуэло не хотела видеть Альберта. Она знала, что он окружен всей пышностью католической обрядности, и боялась разгневать его душу, продолжавшую жить в ее душе, принимая хотя бы внешнее участие в обрядах, которые он всегда отвергал. Консуэло ждала этой минуты. Приготовившись к мрачной обстановке, какою должна была окружить покойного католическая церковь, она подошла к катафалку и стала глядеть на Альберта без страха. Она сочла бы оскорблением дорогих, священных останков проявить чувство, которое было бы так тяжело умершим, если бы они могли узнать о нем. А кто может нам поручиться, что их душа, оторвавшись от трупа, не видит нашего ужаса и не испытывает из-за этого горькой скорби? Боязнь мертвых – отвратительная слабость. Это самое обыденное и жестокое кощунство. Матери этой боязни не знают.
Альберт лежал на ложе из парчи, украшенном по четырем углам фамильными гербами. Голова его покоилась на подушке черного бархата, усеянного серебряными блестками. Из такого же бархата был сооружен балдахин. Тройной ряд свечей освещал его бледное лицо, спокойное, чистое, мужественное; казалось, будто он мирно спит. Последнего из Рудольштадтов, по обычаю их семьи, одели в древний костюм его предков. На голове была графская корона, сбоку – шпага, в ногах – щит с гербом, а на груди – распятие. Длинные волосы и черная борода довершали его сходство с древними рыцарями, чьи изваяния, распростертые на могилах его предков, покоились вокруг. Пол был усыпан цветами, и благовония медленно сгорали в позолоченных курильницах, стоявших по четырем углам его смертного ложа…
В течение трех часов Консуэло молилась за своего супруга, созерцая его величественное спокойствие. Смерть, придав его лицу несколько более темный оттенок, мало изменила его, и Консуэло, любуясь его красотой, порою забывала, что он перестал жить. Ей чудилось даже, что она слышит его дыхание, а когда она отходила на минуту, чтобы подбросить благовоний в курильницы и сменить свечи, ей казалось, будто она слышит слабый шорох и видит легкое колебание занавесей и драпировок. Тотчас же она возвращалась к нему, но, глядя на холодные уста и угасшее сердце, отрешалась от мимолетных безумных надежд.
Когда часы пробили три, Консуэло поднялась и поцеловала в губы своего супруга; это был ее первый и последний поцелуй любви.
– Прощай, Альберт! – проговорила она громко, охваченная религиозным экстазом. – Ты теперь, без сомнения, читаешь в моем сердце. Нет больше туч между нами, и ты знаешь, как я тебя люблю. Ты знаешь, если я и покидаю твои священные останки и предоставляю их твоей семье, которая завтра придет взирать на тебя, и покидаю, уже не падая духом, то это не значит, что я расстаюсь с вечной памятью о тебе и перестаю думать о твоей нерушимой любви. Ты знаешь, что не забывчивая вдова, а верная жена уходит из твоего дома и уносит тебя навеки в своей душе. Прощай, Альберт! Ты верно сказал: «Смерть проходит между нами и, по видимости, разлучает нас только для того, чтобы соединить в вечности». Преданная вере, которую ты преподал мне, убежденная, что ты заслужил любовь и благодать твоего бога, я не плачу о тебе, и никогда в моих мыслях не явишься ты мне в ложном и нечестивом образе покойника. Нет смерти, Альберт! Ты был прав, сердце мое чувствует так, раз теперь я люблю тебя больше, чем когда-либо!
Когда Консуэло произносила последние слова, опущенные сзади занавеси балдахина вдруг заколебались, приоткрылись, и в них показалось бледное лицо Зденко. В первую минуту она испугалась, привыкнув смотреть на него как на своего смертельного врага. Но в глазах Зденко светилась кротость, и, протягивая ей поверх смертного ложа свою грубую руку, которую она не колеблясь, пожала, он, улыбаясь, сказал:
– Бедняжка моя! Помиримся над его ложем сна! Ты доброе божье создание, и Альберт доволен тобой. Поверь, он счастлив в эту минуту; он так хорошо спит, милый Альберт! Я простил его, ты видишь. Я снова пришел к нему, как только узнал, что он спит. Теперь уж больше я его не покину, уведу его завтра в пещеру, и там мы снова будем говорить с ним о Консуэло – Consuelo de mi alma. Иди отдохни, детка! Альберт не один: Зденко тут, всегда тут. Ему ничего не нужно. Ему так хорошо со своим другом. Несчастье отвращено, зло уничтожено, смерть побеждена… Трижды счастливый день настал… «Обиженный да поклонится тебе!..»
Консуэло была больше не в силах выносить детскую радость несчастного безумца. Она нежно с ним простилась и когда открыла дверь часовни, Цинабр бросился к своему старому другу и, радостно лая, стал без конца обнюхивать его.
– Бедный Цинабр, иди! Я спрячу тебя под кровать твоего хозяина, – говорил Зденко, лаская его с такой нежностью, словно он был его ребенком. – Иди, иди, мой Цинабр! Вот мы все трое и соединились! Больше уж не расстанемся!
Консуэло отправилась будить Порпору. Потом на цыпочках вошла в комнату Христиана и стала между его кроватью и кроватью канониссы.
– Это вы, дочь моя? – спросил старик, не выказывая при этом никакого удивления. – Очень счастлив вас видеть. Не будите моей сестры, – она, слава богу, хорошо спит. Идите отдохните вы. Я совсем покоен. Сын мой спасен; скоро и я поправлюсь.
Консуэло поцеловала его седые волосы, его морщинистые руки и скрыла от него свои слезы, которые могли, быть может, вывести его из заблуждения. Она не решилась поцеловать канониссу, заснувшую наконец впервые после месяца бессонных ночей.
«Бог положил предел и горю в самой чрезмерности его, – подумала Консуэло. – О! Если б эти несчастные могли подольше оставаться во власти благодетельной усталости!»
Полчаса спустя решетка подъемного моста замка Великанов опустилась за Порпорой и Консуэло, чье сердце разрывалось на части оттого, что ей пришлось покинуть этих благородных стариков. И она даже не подумала, что грозный замок, где за столькими рвами и решетчатыми воротами было скрыто столько богатств и столько страданий, стал достоянием графини фон Рудольштадт…
Те из наших читателей, которые слишком устали, следуя за Консуэло среди ее бесконечных приключений и опасностей, могут теперь отдохнуть. Те же, менее многочисленные, конечно, у которых еще хватает мужества, узнают из следующего романа о продолжении странствований Консуэло и о том, что случилось с графом Альбертом после его смерти.
Александр Дюма Королева Марго
Часть первая
I. Латинский язык герцога Гиза
Восемнадцатого августа 1572 года был понедельник, но в Лувре справляли большое празднество.
Ярко светились обычно темные окна старинного королевского жилища, а соседние улицы и площади, как правило пустевшие, едва лишь колокол на церкви Сен-Жермен-Л’Озеруа бил девять часов вечера, кишели теперь народом даже в полночь.
Густая, грозная, шумливая толпа напоминала темное зыблющееся море, откуда несся рокот набегавшего прибоя; людские волны, прорываясь сквозь улицу Фосе-Сен-Жермен и улицу Астрюс, заливали набережную, приливали к стенам Лувра и отливали к цоколю Бурбонского дворца, стоявшего напротив.
Несмотря на королевский праздник, а может быть и по его причине, что-то грозное чувствовалось в толпе народа, который присутствовал на нем как посторонний зритель, но твердо верил, что этот праздник – лишь пролог к другому, отложенному на неделю торжеству, где сам народ будет желанным гостем и разгуляется вовсю.
Королевский двор праздновал свадьбу Маргариты Валуа, дочери покойного короля Генриха II и сестры царствующего короля Карла IX, с Генрихом Бурбоном, королем Наваррским. Утром кардинал Бурбонский, совершив брачный обряд, установленный для наследниц французского царствующего дома, обвенчал брачующихся на помосте, воздвигнутом перед вратами собора Парижской Богоматери.
Этот брак изумил всех, а людей, способных видеть глубже, заставил сильно призадуматься; сближение двух таких ненавистных друг другу партий, какими были в это время протестантская и католическая партии, казалось невозможным. Спрашивалось, как может молодой принц Конде простить брату короля, герцогу Анжуйскому, смерть своего отца, убитого в Жарнаке капитаном Монтескью, или как молодой герцог Гиз простит адмиралу Колиньи смерть своего отца, убитого в Орлеане дворянином-гугенотом Польтро де Мере. Больше того: королева Жанна Наваррская, мужественная супруга безвольного Антуана Наваррского, сосватавшая своего сына за Маргариту Валуа, умерла каких-нибудь два месяца тому назад, и о причине ее внезапной смерти ходили подозрительные слухи. Повсюду говорили шепотом, а кое-где и громко о том, что королеве Жанне стала известна какая-то страшная тайна и что Екатерина Медичи, боясь разоблачений, отравила королеву Жанну ядовитыми душистыми перчатками, которые ей изготовил некий флорентиец по имени Рене, большой мастер на дела такого рода. Распространению и утверждению всех этих слухов способствовало то обстоятельство, что после смерти королевы двум медикам, в том числе и знаменитому Амбруазу Паре, было поручено, по просьбе ее сына, вскрыть и обследовать тело королевы, но не касаться мозга. А так как Жанна была отравлена посредством запаха, то лишь в мозгу умершей могли быть обнаружены следы содеянного преступления. Именно преступления, поскольку никто не сомневался, что здесь имело место злодеяние.
Но это далеко не все: сам король Карл неуклонно, почти настойчиво, стремился устроить этот брак, который должен был не только установить мир в королевстве, но и привлечь в Париж всех видных протестантских главарей. Так как жених был протестант, а невеста католичка, то требовалось испросить разрешение на брак у Григория XIII, в то время занимавшего папский престол. Разрешение задерживалось, и это сильно беспокоило Жанну д’Альбре, которая однажды в разговоре с Карлом выразила опасение насчет того, что разрешение, пожалуй, не придет совсем; но король ответил:
– Милая тетушка, не беспокойтесь, вас я уважаю более, чем папу, а сестру люблю больше, чем боюсь его. Я не гугенот, но и не дурак, и если господин папа задурит, то я сам возьму за руку Марго и поведу ее венчаться с вашим сыном по протестантскому обряду.
Из Лувра эти слова разнеслись по городу, очень обрадовали гугенотов, сильно озадачили католиков и вызвали среди последних тайные разговоры о том, изменяет ли им король на самом деле или разыгрывает комедию, которая в один прекрасный день или прекрасную ночь закончится неожиданной развязкой.
Что было особенно непостижимо – это отношение Карла IX к адмиралу Колиньи, который в течение пяти или шести лет вел ожесточенную войну против короля: до этого сближения король назначил пятьдесят тысяч экю золотом в награду за голову адмирала, теперь же чуть не клялся его именем, называл своим отцом и во всеуслышание заявлял, что только одному ему поручит ведение предстоящей войны во Фландрии; даже сама Екатерина Медичи, до сих пор направлявшая волю, действия, даже намерения молодого короля, начала тревожиться по-настоящему, и не без причины: дело в том, что Карл IX как-то в беседе с адмиралом о фландрской войне заявил ему в порыве откровенности:
– Отец, тут есть одно обстоятельство, которое требует большой осторожности: как вам известно, королева-мать сует свой нос во все, но об этом деле пока не знает ничего; поэтому нам надо будет вести его скрытно – так, чтобы королева о нем даже и не подозревала, а то с ее сварливостью она нам все испортит.
Колиньи, при всем своем уме и опытности, все же не мог скрыть полностью оказанное ему королем доверие. В Париж он прибыл с крайней подозрительностью, да и когда выезжал из Шатийона, одна крестьянка молила его на коленях: «О добрый господин наш, не езди ты в Париж; и тебя, и всех, кто поедет с тобой, ждет там смерть!» Но мало-помалу все подозрения рассеялись и у него, и у его зятя де Телиньи, к которому король проявлял самые дружеские чувства, звал его братом , как звал отцом адмирала, говорил ему «ты» , чем отличал он только самых близких своих друзей.
В результате все гугеноты, за исключением нескольких угрюмых и недоверчивых людей, совершенно успокоились: смерть наваррской королевы стали приписывать воспалению легких, и в просторных залах Лувра толпились мужественные гугеноты, которым брак Генриха, их юного вождя, сулил нежданно счастливый поворот судьбы. Адмирал Колиньи, Ларошфуко, принц Конде-сын, де Телиньи – словом, все главари партии торжествовали, видя, как были приняты, какой огромный вес приобретали в Лувре те самые люди, которых три месяца назад король и Екатерина Медичи собирались вешать на особых виселицах, повыше, чем простых убийц. Одного только маршала де Монморанси напрасно стали бы искать среди его собратьев – его нельзя было ни заманить обещаниями, ни обмануть показными чувствами, и он засел у себя в замке д’Иль-Адан, извиняя свое отшельничество скорбью об отце, коннетабле Анн де Монморанси, которого убил из пистолета Роберт Стюарт в сражении при Сен-Дени. Но так как со времени этого события прошло более трех лет, а чувствительность была не в духе того времени, то каждый мог думать по поводу такого чрезмерно продолжительного траура что угодно.
К тому же все говорило против маршала де Монморанси: и королева, и король, и герцог Анжуйский, и герцог Алансонский – все замечательно радушно принимали своих гостей на этом королевском празднестве.
Сами гугеноты хвалили герцога Анжуйского, вполне заслуженно, за битвы при Жарнаке и Монконтуре, которые он выиграл, имея от роду неполных восемнадцать лет, – раньше, чем начали свои победы Цезарь и Александр Македонский, да и вообще оказывалось, что он выше этих победителей при Иссе и Фарсале. Герцог Алансонский посматривал на все взглядом ласковым и лживым; королева Екатерина сияла радостью и с притворной любезностью поздравляла Генриха Конде с недавнею его женитьбой на Марии Клевской; даже Гизы улыбались страшным врагам их рода, и герцог Майнцский обсуждал с Таваном и адмиралом Колиньи предстоящую войну, которую были готовы объявить Филиппу II, королю Испанскому.
Среди гостей, разбившихся на группы, бродил, слегка потупив голову и вслушиваясь в разговоры, происходившие вокруг, юный брюнет лет девятнадцати, с умным взглядом, лукавою улыбкой, с орлиным носом, коротко подстриженными волосами, густыми бровями, едва пробившимися усиками и бородой. Этот молодой человек, успевший отличиться пока лишь в битве при Арне-ле-Дюк, где храбро дрался, не щадя себя, а теперь принимавший поздравления со всех сторон, был любимый ученик адмирала Колиньи и герой сегодняшнего дня; совсем недавно, при жизни своей матери, он звался принц Беарнский, а после ее смерти наследовал титул – король Наваррский, пока не стал королем Франции – Генрихом IV.
Временами темное облачко вдруг омрачало его лоб: очевидно, он вспоминал смерть матери, умершей каких-нибудь два месяца тому назад, и был уверен больше всех в том, что смерть ее последовала от отравы. Но это облачко лишь проносилось легкой тенью, быстро расплывалось; оно набегало оттого, что люди, которые сейчас толпились около Генриха, заговаривали с ним и поздравляли, все были убийцами мужественной Жанны д’Альбре.
В то время как король Наваррский старался притвориться радушным и веселым, неподалеку от него стоял задумчивый, почти тревожный, молодой герцог Гиз и вел беседу с Телиньи. Герцогу повезло в жизни больше, нежели Беарнцу: в двадцать два года он пользовался почти такой же славой, как и отец его, могущественный Франсуа де Гиз. Он и по внешности был изящный вельможа, высокий ростом, с надменным, гордым взглядом, с такой природной величавостью, что, по мнению многих, все прочие вельможи в его присутствии казались мужиками. Несмотря на его молодость, вся католическая партия видела в нем своего вождя, так же как протестантская партия видела своего вождя в юном короле Наваррском.
Первоначально герцог Гиз носил титул герцога Жуанвильского и первое боевое крещение получил во время осады Орлеана под начальством своего отца, который и умер на его руках, указав на адмирала Колиньи как на своего убийцу.
Тогда же юный герцог, подобно Аннибалу, торжественно дал клятву: он клялся отомстить и адмиралу, и всей его семье за смерть отца, безжалостно и неусыпно преследовать врагов своей религии, обещал богу стать его ангелом-воителем на земле до того дня, пока не будет истреблен последний еретик. Теперь же все с великим изумлением смотрели, как этот принц, обычно верный данному им слову, пожимает руки навек заклятым врагам своим и, дав умирающему отцу обет наказать адмирала смертью, теперь приятельски ведет беседу с его зятем.
Но мы уже сказали, что это был вечер, полный неожиданностей.
Действительно, если бы особо одаренный наблюдатель, способный видеть будущее, что людям, к счастью, не дано, и способный читать в душах, что, к несчастью, дано лишь богу, вдруг очутился на этом торжестве, то он, конечно, насладился бы самым любопытным зрелищем, какое только может нам представить вся летопись печальной человеческой комедии.
Но если такого наблюдателя не оказалось на галереях Лувра, зато он был на улице, где грозно раздавался его ропот и гневом искрились его глаза: то был народ, с его инстинктом, предельно обостренным ненавистью; он издали глядел на силуэты непримиримых врагов своих и толковал их чувства так же простодушно, как это делает прохожий, глазея в запертые окна зала, где танцуют. Музыка увлекает и ведет танцоров, а прохожий видит одни движения и, не слыша музыки, потешается над тем, как эти марионетки скачут и суетятся без видимой причины.
Музыкой, увлекавшей гугенотов, был голос их удовлетворенной гордости, а взоры парижан, сверкавшие во мраке ночи, были молниями ненависти, озарявшими грядущие события.
Во дворце же все было радостно по-прежнему и даже больше; по всему Лувру пронесся особенно ласкающий и мягкий говор, сопровождавший появление новобрачной: сняв подвенечный наряд, длинную вуаль и мантию, она входила в зал вместе с герцогиней Невэрской, самой близкой ее подругой, и с братом, Карлом IX, который вел ее за руку и представлял наиболее почетным из гостей.
Эта новобрачная – дочь Генриха II, Маргарита Валуа – была жемчужиной в короне Франции, и Карл IX, питавший к ней особенную нежность, обычно звал ее «сестричкою Марго».
Восторженная встреча была действительно заслужена юной наваррской королевой. Маргарите исполнилось едва лишь двадцать лет, но все поэты писали ей хвалебные стихи, сравнивая ее то с Авророй, то с Киферой. По красоте ей не было соперниц даже здесь, при таком дворе, где Екатерина Медичи старалась подбирать на роль своих сирен самых красивых женщин, каких только могла она найти. Черноволосая, с замечательным цветом лица, чувственным выражением глаз, обрамленных длинными ресницами, с изящным алым ртом и стройной шеей, с роскошным гибким станом и с маленькими, детскими ногами в атласных туфельках – такой предстала Маргарита Валуа. Французы гордились тем, что их родная почва взрастила этот удивительный цветок, а иностранцы, побывав во Франции, возвращались к себе на родину ослепленные красою Маргариты, если им приходилось только повидать ее, и пораженные ее образованием, если им удавалось с ней поговорить. И в самом деле, Маргарита была не только самой красивой, но и самой образованной из современных женщин; вот почему нередко вспоминали фразу одного итальянского ученого, который был ей представлен, беседовал с ней целый час по-итальянски, по-испански, по-гречески и по-латыни и, выйдя от нее, восторженно сказал: «Побывать при дворе, не повидав Маргариту Валуа, – значит не увидеть ни Франции, ни французского двора».
Не было недостатка в похвалах и самому королю Карлу IX – известно, какими искусными ораторами были гугеноты. В эти речи ловко вплетались и намеки на прошедшее, и пожелания на будущее. Но Карл IX с хитрою улыбкой бледных губ давал на все подобные намеки один ответ:
– Отдавая Генриху Наваррскому мою сестру, я отдаю в ее лице и свое сердце всем гугенотам моего королевства.
Такой ответ на некоторых действовал успокоительно, у других он вызывал улыбку, допуская двусмысленное толкование: одно – как отеческое отношение короля ко всему народу, но Карл IX сознательно не собирался придавать своей мысли такую широту; другое толкование – обидное для новобрачной, для ее мужа, да и для самого Карла, поскольку его слова невольно вызывали в памяти глухие сплетни, которыми дворцовая хроника успела еще раньше испачкать брачные одежды Маргариты Валуа.
Как мы уже сказали, герцог Гиз беседовал с де Телиньи, но уделял беседе не все свое внимание: время от времени он оборачивался и кидал взгляд на группу дам, в центре которой блистала Маргарита Валуа. И всякий раз, когда взгляд наваррской королевы встречался со взглядом молодого герцога, тень набегала на ее красивый лоб, обрамленный, как ореолом, трепетным сверканием алмазных звезд, и во всей ее манере держать себя, выражавшей нетерпение и беспокойство, проглядывало желание что-то предпринять.
Старшая сестра ее, принцесса Клод, недавно вышедшая замуж за герцога Лотарингского, заметила тревожное настроение сестры и стала продвигаться к ней, чтобы узнать его причину, но в это время все гости расступились, давая дорогу королеве-матери, входившей под руку с молодым принцем Конде, и оттеснили принцессу Клод далеко от ее сестры. Герцог Гиз воспользовался общим движением толпы, чтобы подойти поближе к герцогине Невэрской, своей невестке, а вместе с тем и к Маргарите. В ту же минуту герцогиня Лотарингская, не терявшая из виду своей сестры, заметила, как тень тревоги на ее челе сразу исчезла, а щеки ярко вспыхнули румянцем. Когда же герцог, все ближе продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, еще не видя этого, почувствовала его близость и, сильным напряжением воли придав своему лицу выражение беспечного спокойствия, повернулась к герцогу.
Герцог почтительно приветствовал ее и, низко кланяясь, тихо сказал ей по-латыни:
– Ipse attuli, – что означало: «Я принес» или «Я сам принес».
Маргарита сделала реверанс и, выпрямляясь, ответила тоже по-латыни:
– Noctu pro more, – что означало: «Этой ночью, как всегда».
Эти милые слова, подхваченные ее плоеным, очень широким и тугим воротником, как воронкой рупора, не были услышаны никем, кроме того, кому они предназначались. Но, несмотря на краткость разговора, все важное для них обоих было сказано, судя по тому, что, обменявшись этими словами, они расстались – Маргарита с мечтательным выражением лица, а герцог более веселый, чем до встречи. Но тот, кому бы следовало заинтересоваться происходившей сценой больше всех, то есть король Наваррский, не обратил на нее ни малейшего внимания – глаза его в то время не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как и Маргарита Валуа, – эта женщина была красавица мадам де Сов.
Шарлотта де Бон-Санблансе, внучка несчастного Санблансе и жена Симона де Физ, барона де Сов, была придворной дамой Екатерины Медичи и самой опасной ее помощницей в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью: блондинка небольшого роста, то искрившаяся жизнью, то грустно томная, но всегда готовая к интриге и любви, двум основным занятиям придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за пятьдесят последних лет, – мадам де Сов была женщина в полном смысле слова, во всем обаянии этого создания природы, начиная с синих глаз, порой томных, порой блиставших внутренним огнем, до кончика ее игривых точеных ножек, обутых в бархатные туфли. Всего за несколько последних месяцев она успела овладеть всем существом короля Наваррского, едва вступившего на путь политики и любовных приключений; от этого и Маргарита Валуа с ее роскошной, царственной красой не вызывала даже простого восхищения в своем супруге. Одно обстоятельство поражало всех – поведение королевы-матери, странное даже для такой темной, таинственной души, как Екатерина Медичи: дело в том, что королева-мать, неуклонно проводя план брачного союза между своей дочерью и королем Наваррским, в то же время почти открыто поощряла его любовь к мадам де Сов; однако, несмотря на эту сильную поддержку и вопреки свободным нравам той эпохи, красавица Шарлотта покамест не сдавалась, и это неслыханное, непостижимое сопротивление больше, чем ум и красота упрямицы, возбудило в сердце пылкого Беарнца такую страсть, которая, не находя себе удовлетворения, вся ушла внутрь, изгнав из юной души Генриха застенчивость и гордость и даже главную черту его характера – беспечность, основанную частью на его мировоззрении, частью же на лени.
Мадам де Сов явилась в бальный зал лишь несколько минут тому назад; с досады или с огорчения, но, как бы то ни было, первоначально она решила не присутствовать при торжестве своей соперницы и под предлогом нездоровья отправила в Лувр мужа, занимавшего пост государственного секретаря уже пять лет, одного. Но Екатерина Медичи, заметив, что барон де Сов вошел один, спросила у него, почему отсутствует ее любимица; узнав, что причина – всего лишь легкое недомогание, она написала мадам де Сов записку с предложением явиться, и баронесса поспешила исполнить ее требование. Генрих Наваррский, сначала очень огорченный отсутствием мадам де Сов, все же почувствовал себя свободнее, когда заметил одиноко входившего барона; не ожидая ее встретить, Беарнец с грустным вздохом уже собрался подойти к той милой женщине, которую он обязался если не любить, то почитать своей женой, как вдруг увидел в дальнем конце одной из галерей мадам де Сов. Он замер на месте, не спуская глаз с этой Цирцеи, приковавшей его к себе волшебной цепью, и, после некоторого колебания, вызванного скорее неожиданностью, чем осторожностью, пошел навстречу баронессе.
Придворные видели, что король Наваррский идет к красавице Шарлотте, и, зная, как пылко его сердце, любезно удалились, чтоб не мешать их встрече; случилось так, что Генрих подошел к мадам де Сов в то время, когда Маргарита Валуа и герцог Гиз обменивались уже известными читателю латинскими словами, тогда же и Генрих Наваррский, подойдя к мадам де Сов, завел с ней разговор, но на французском языке, вполне понятном, несмотря на примесь гасконского акцента, – разговор, во всяком случае, гораздо менее таинственный, чем первый.
– А-а! Милочка моя! – сказал он ей. – Вы здесь, оказывается, а мне сейчас сказали, будто вы больны, и я уже терял надежду вас увидеть!
– Ваше величество, не думаете ли убедить меня, что потеря этой надежды стоила вам дорого?
– Святой боже! Ну конечно! Разве вы не знаете, что днем вы мое солнце, а ночью – моя звезда? Честное слово, я чувствовал себя в потемках, но вот явились вы и сразу озарили все.
– В таком случае, ваше величество, я играю с вами злую шутку.
– Но почему же, милочка моя?
– Вполне понятно: когда имеешь власть над женщиной, самой красивой во всей Франции, можно желать только одного – чтобы исчез свет и наступил мрак, ибо во мраке ждет нас блаженство.
– Злая женщина, вам очень хорошо известно, что мое блаженство в руках только одной женщины, а эта женщина играет и тешится несчастным Генрихом.
– О-о! А мне вот кажется, что эта женщина была игрушкой и потехой для короля Наварры.
В первую минуту такое резкое, неприязненное отношение испугало Генриха, но он сейчас же рассудил, что за этим скрывается досада, а досада – маска любви.
– Милая Шарлотта, честно говоря, ваш упрек несправедлив, и я не понимаю, как может такой красивый ротик говорить так зло. Неужели вы думаете, что в этот брак вступаю я? Клянусь святою пятницею – нет! Это не я.
– Уж не я ли? – ответила она с колкостью, если можно назвать колкостью слова женщины, которая вас любит и упрекает за то, что вы не любите ее.
– И этими прекрасными глазами вы видите так плохо? Нет, нет, не Генрих Наваррский женится на Маргарите Валуа.
– Но тогда кто же?
– О святой боже! Да реформатская церковь выходит замуж за папу, вот и все.
– Ни-ни, ваше величество, меня не ослепить блеском остроумия, нет: ваше величество любит королеву Маргариту, и это не упрек, боже сохрани! Она так хороша, что невозможно не любить ее.
Генрих задумался на минуту, и, пока он размышлял, добрая улыбка заиграла в уголках его губ.
– Баронесса, мне кажется, вы ищете предлога, чтобы поссориться со мной, но у вас нет на это права: послушайте, сделали вы хоть что-нибудь, что мне мешало бы жениться на Маргарите? Ничего! Наоборот, вы занимались только тем, что приводили меня в отчаяние.
– И благо мне, ваше величество!
– Это почему?
– Конечно, так, ведь вы сегодня соединяетесь с другой.
– Но оттого, что вы меня не любите.
– А если б я полюбила вас, мне через час пришлось бы умереть.
– Умереть? Что это значит? И почему через час, и от какой причины?
– От ревности… Через час королева Наваррская отпустит своих придворных дам, а ваше величество – своих придворных кавалеров.
– Послушайте, милочка моя, вас в самом деле так удручает эта мысль?
– Этого я не говорила. А сказала – если б я любила вас, то эта мысль удручала бы меня ужасно.
– Хорошо! – воскликнул Генрих, обрадованный ее первым признанием в любви. – Ну, а если сегодня вечером король Наваррский не отпустит своих придворных кавалеров?
– Сир, – промолвила мадам де Сов, глядя на короля с изумлением, на этот раз совершенно непритворным, – вы говорите о том, что невозможно, а главное – чему нельзя поверить.
– Как нужно поступить, чтобы вы поверили?
– Доказать делом, а вы не можете мне дать такого доказательства.
– Отлично, мадам, отлично! Клянусь святым Генрихом! Я дам вам это доказательство! – воскликнул Генрих, обжигая молодую женщину горящим взглядом пламенной любви.
– О ваше величество! – тихо произнесла баронесса, опуская глаза. – Я… я не понимаю… Нет, нет! Нельзя бежать от счастья, которое вас ждет.
– Моя прелесть, в этом зале – четыре Генриха: Генрих Французский, Генрих Конде, Генрих Гиз, но только один Генрих Наваррский.
– И что же?
– А вот что: если Генрих Наваррский всю ночь проведет у вас?..
– Всю ночь?..
– Да. Убедит ли это вас, что у другой он не был?
– Ах, сир, если вы сделаете так!.. – воскликнула на этот раз мадам де Сов.
– Так и сделаю, честное слово дворянина!
Мадам де Сов подняла на короля глаза, полные страстных обещаний, улыбнулась ему такой улыбкой, что сердце Генриха забилось от радости и упоения.
– Посмотрим, – продолжал Генрих, – что вы скажете тогда?
– О, тогда, ваше величество, тогда скажу, что я действительно любима вами.
– Святая пятница! Вы это скажете, потому что так оно и есть.
– Но как же это сделать?
– Ах, боже мой! Неужели, баронесса, у вас нет какой-нибудь камеристки, горничной, служанки, на которую вы могли бы положиться?
– О да! У меня есть моя Дариола, которая так предана мне, что даст себя изрезать на куски ради меня: настоящее сокровище.
– Скажите этой девице, баронесса, что я ее озолочу, как только, согласно предсказанию астрологов, стану королем Франции.
Шарлотта улыбнулась, потому что в это время установилось невыгодное мнение о гасконских обещаниях Беарнца.
– Ну хорошо! Чего же вы хотите от Дариолы?
– Того, что ей не стоит ничего, а для меня – все.
– А именно?
– Ведь ваши комнаты над моими?
– Да.
– Пусть она ждет за вашей дверью. Я тихо стукну в дверь три раза; она откроет, и вы получите то доказательство, какое я вам обещал.
Несколько секунд мадам де Сов молчала; потом повела вокруг себя глазами, как бы желая убедиться, что никто их не подслушивает, и на мгновение остановила взор на группе дам, окружавших королеву-мать; это было действительно мгновение, но его было достаточно, чтобы Екатерина и эта приближенная к ней дама обменялись взглядами.
– А вдруг у меня явится желание уличить ваше величество во лжи? – сказала мадам де Сов голосом сирены, растопившим воск в ушах Улисса.
– Попробуйте, милочка моя, попробуйте.
– Говоря честно, мне очень трудно победить в себе это желание.
– Так пусть оно победит вас: женщины никогда не имеют такой силы, как после поражения.
– Сир, когда вы будете французским королем, я вам припомню ваше обещание Дариоле.
Генрих Наваррский даже вскрикнул от восторга.
Замечательно, что радостное восклицание вырвалось у Генриха в то самое мгновение, когда Маргарита Валуа ответила герцогу Гизу латинской фразой:
– Noctu pro more.
Так Генрих Наваррский и Генрих Гиз одновременно – и оба радостные – расстались со своими дамами, один – с Шарлоттою де Сов, другой – с Маргаритой Валуа.
Спустя час после двух этих разговоров король Карл и королева-мать ушли в свои покои; почти сейчас же залы Лувра начали пустеть и в галереях стали видны базы мраморных колонн. Четыреста дворян-гугенотов проводили адмирала и принца Конде сквозь народную толпу, недовольно ворчавшую им вслед. После них вышли герцог Гиз, лотарингские и другие вельможные католики, приветствуемые радостными криками и рукоплесканиями народа.
Что касается Маргариты Валуа, Генриха Наваррского и мадам де Сов, то они жили в самом Лувре.
II. Спальня королевы Наваррской
Герцог Гиз проводил свою невестку, герцогиню Невэрскую, до ее дома на улице дю Шом, что против улицы де Брак, и, оставив герцогиню на попечение ее служанок, пошел в свои покои, чтобы переодеться, взять ночной плащ и короткий, с острым кончиком кинжал, который носил название «дворянская честь» и прицеплялся вместо шпаги. Но, взяв со стола кинжал, герцог заметил маленькую записку, всунутую между ножнами и клинком. Он развернул бумажку и прочел: «Надеюсь, что герцог Гиз не пойдет обратно в Лувр сегодня ночью; если же пойдет, то пусть наденет на всякий случай добрую кольчугу и захватит шпагу».
– Так! Так! – произнес герцог, оборачиваясь к своему лакею. – Вот, дядюшка Робен, какое странное предупреждение. А теперь будьте добры сказать мне, кто входил сюда в мое отсутствие.
– Только один человек.
– А именно?
– Месье Дю Гаст.
– Так! Так! То-то я вижу – рука знакомая. А ты наверно знаешь, что приходил Дю Гаст? Ты его видел?
– Даже больше, я с ним разговаривал.
– Хорошо, послушаюсь его совета. Мою шпагу и короткую кольчугу!
Лакей, уже привыкший к таким переодеваниям, принес то и другое. Герцог надел кольчугу из таких тоненьких колечек, что стальная ткань казалась не толще бархата; поверх кольчуги надел камзол, трико с пуфами и колет – серые с серебром – любимое им сочетание цветов, натянул высокие сапоги, доходившие до половины ляжек, накрыл голову черным бархатным беретом без пера и драгоценных украшений, потом закутался в широкий темный плащ, прицепил к поясу кинжал и, отдав шпагу своему пажу, составлявшему теперь всю его свиту, пошел по направлению к Лувру.
Когда он только переступал через порог своего дома, звонарь на Сен-Жермен-Л’Озеруа прозвонил час ночи.
Несмотря на поздний час и опасность ночных прогулок в те времена, смелый герцог совершил свой путь без всяких приключений и подошел, здрав и невредим, к огромному массиву Лувра, где все огни уже погасли один вслед за другим, страшному теперь своим молчанием и тьмою.
Перед королевским замком тянулся глубокий ров, на который и выходили почти все комнаты высокопоставленных особ, живших в Лувре. Покои Маргариты находились в нижнем этаже. Туда нетрудно было бы проникнуть, если бы не ров, вырытый на такую глубину, что нижний этаж оказывался на высоте почти тридцати футов, а следовательно – вне досягаемости для воров или любовников; однако герцог Гиз решительно спустился в ров.
В ту же минуту скрипнуло одно из окон в нижнем этаже. На окне была железная решетка, но чья-то рука вынула один из прутьев, заранее подпиленный, и в это отверстие спустила шелковый шнурок.
– Жийона, это вы? – тихо спросил герцог.
– Да, ваша светлость, – еще тише ответил женский голос.
– А Маргарита?
– Ждет вас.
– Хорошо.
Он сделал знак своему пажу; паж вынул из-под плаща и развернул узенькую веревочную лестницу. Герцог привязал к ее концу опущенный шнурок; Жийона подтянула лестницу к себе наверх и закрепила; герцог, прицепив шпагу, полез по лестнице и благополучно добрался до окна. Когда он скрылся в проделанном отверстии, железный прут решетки стал на место, и окно закрылось; тогда паж, раз двадцать сопровождавший герцога под эти окна, как только убедился, что его господину удалось благополучно проникнуть в Лувр, закутался в свой плащ и улегся спать тут же, под стеной, на травке, покрывавшей ров.
Погода была мрачная, из насыщенных электричеством желтовато-черных туч перепадали редкие крупные капли теплого дождя.
Герцог следовал за своей провожатой, которая была дочерью маршала Франции Жака де Монтиньон и пользовалась исключительным доверием Маргариты Валуа, не имевшей от нее никаких тайн, а, по мнению некоторых лиц, в числе тайн, хранимых неподкупной верностью этой девицы, были такие страшные, что заставляли ее хранить все остальные.
Никакого света ни в нижних комнатах, ни в коридорах, лишь изредка голубоватый отблеск далекой молнии освещал мрачные покои и тотчас потухал.
Спутница герцога вела его за руку все дальше, и наконец они дошли до винтовой лестницы, проделанной в толще стены и упиравшейся в потайную дверь передней комнаты покоев Маргариты.
В этой комнате царил такой же беспросветный мрак, как и в других покоях нижнего этажа. Жийона, войдя в переднюю, остановилась.
– Вы принесли то, что угодно королеве? – спросила она шепотом.
– Да, – ответил герцог Гиз, – но я отдам только ей самой.
– Не теряйте времени, входите, – раздался из темноты голос, при звуке которого герцог вздрогнул, узнав голос Маргариты.
Бархатная лиловая с золотыми лилиями портьера приподнялась, и герцог увидел в полумраке королеву, которая, не утерпев, вышла ему навстречу.
– Я здесь, мадам, – ответил герцог, быстро проходя под портьерой, которая тотчас упала за его спиной.
Маргарите Валуа пришлось теперь самой быть проводницей герцога в своих покоях, хотя и хорошо ему знакомых. Жийона осталась сторожить у двери и, приложив палец к губам, давала этим знать, что королева может быть спокойна.
Маргарита, как будто понимая ревнивые тревоги герцога, довела его до спальни и там остановилась.
– Что ж, вы довольны, герцог?
– Доволен? А чем, мадам, позвольте вас спросить?
– А доказательством того, – ответила Маргарита с оттенком раздражения, – что я принадлежу мужчине, который уже к вечеру в день свадьбы, в самую брачную ночь, забыл о моем существовании и даже не явился поблагодарить за честь если не моего выбора, то согласия назвать его моим супругом.
– О мадам, не беспокойтесь, он придет, а тем более если вы сами этого хотите!
– Генрих! И это говорите вы, зная лучше всех, как это несправедливо! – воскликнула Маргарита Валуа. – Если б у меня было то желание, какое вы разумеете, разве просила бы я вас прийти сегодня в Лувр?
– Вы, Маргарита, просили меня явиться в Лувр для того, чтобы уничтожить все следы наших прошлых отношений, так как это прошлое живет не только в моем сердце, но и в том ларчике, который я принес.
– Разрешите, Генрих, сказать вам одну вещь, – ответила Маргарита, глядя пристально на герцога. – Вы мне напоминаете не владетельного князя, а школьника! Это я стану отрицать, что любила вас?! Это я стану гасить огонь, который, может быть, потухнет, но отблеск свой оставит навсегда?! Любовь женщин, занимающих такое положение, как я, может быть или светочем, или злым гением своей эпохи. Нет, мой герцог, нет! Вы можете оставить у себя и эти письма, и самый ларчик – мой подарок. Из всех писем, что в нем лежат, королева Маргарита требует только одно, да и то потому, что оно опасно в равной мере для вас и для нее.
– Все в вашем распоряжении; берите любое – какое вам угодно уничтожить.
Маргарита стала быстро рыться в ларчике, трепетной рукой перебрала в нем двенадцать писем, пробегая глазами только начало их, – было очевидно, что ей достаточно взглянуть на обращение, как в ее памяти сейчас же возникало и содержание письма; но, просмотрев все, она вдруг побледнела, перевела глаза на герцога и спросила:
– Месье, здесь нет того письма, которое мне нужно. Неужели вы потеряли его? Ведь… передать его…
– Мадам, какое письмо вам нужно?
– То, где я прошу вас немедленно жениться.
– Чтобы оправдать вашу неверность?
Маргарита пожала плечами.
– Нет, чтобы спасти вам жизнь. То письмо, где я предупреждала вас, что король заметил и нашу любовь, и мои старания расстроить предполагаемый ваш брак с инфантой Португальской, что он вызвал своего побочного брата, графа Ангулемского, и сказал ему, показывая на две шпаги: «Или вот этой ты убьешь герцога Гиза сегодня вечером, или вот этой я завтра же убью тебя». Где это письмо?
– Вот, – ответил герцог Гиз, вынимая из-за пазухи письмо.
Маргарита чуть не выхватила его у герцога, порывисто развернула, удостоверилась, что оно – то самое, вскрикнула от радости и поднесла к свече; бумага вспыхнула, и в один миг письма не стало; но королева не удовлетворилась этим и, словно боясь, что даже в пепле могут найти ее неосторожное предупреждение, растоптала и самый пепел.
Герцог Гиз все это время следил за лихорадочными движениями своей любовницы.
– Теперь, Маргарита, вы наконец довольны? – спросил он, когда все кончилось.
– Да, теперь вы женитесь на принцессе Порсиан, и благодаря этому брат Карл простит мою связь с вами; но он никогда бы не простил мне разглашение тайны, подобной той, какую я, из слабости к вам, была не в силах скрыть.
– Да, это правда, – ответил герцог Гиз, – в то время вы меня любили.
– Генрих, я вас люблю все так же и даже больше.
– Вы?
– Да, я. Я никогда так не нуждалась в преданном и бескорыстном друге, как теперь, – я, безземельная королева и безмужняя жена.
Молодой герцог грустно кивнул головой.
– Я говорила вам и повторяю, Генрих, что мой муж меня не только не любит, но презирает, даже ненавидит; впрочем, одно то, что вы находитесь у меня в спальне, лучше всего доказывает его презрение и ненависть ко мне.
– Мадам, еще не поздно: король задержался, отпуская своих придворных, и если не пришел еще, то явится сейчас.
– А я вам говорю, – воскликнула Маргарита с возрастающей досадой, – что король Наваррский не придет!
– Мадам, – сказала Жийона, приподняв портьеру, – мадам, король Наваррский вышел из своих покоев.
– О, я же знал, что он придет! – воскликнул герцог Гиз.
– Генрих, – решительно сказала Маргарита, сжимая руку герцога, – вы сейчас увидите, верна ли я своим словам и можно ли рассчитывать на то, что мною обещано. Войдите в этот кабинет.
– Мадам, лучше мне уйти, пока не поздно, а то при первой любовной ласке короля я выскочу из кабинета – и тогда горе королю!
– Вы с ума сошли! Входите же, входите, вам говорят, я отвечаю за все!
Она втолкнула герцога в кабинет, и вовремя: едва успел он закрыть за собой дверь, как Генрих Наваррский, в сопровождении двух пажей, освещавших ему путь восемью восковыми свечами в двух канделябрах, переступил с улыбкой порог комнаты.
Маргарита сделала глубокий реверанс, чтобы скрыть свое смущение.
– Вы еще не легли спать? – спросил Беарнец с веселым и открытым выражением лица. – Уж не меня ли вы дожидались?
– Нет, месье, – ответила Маргарита, – ведь вы еще вчера сказали мне, что считаете наш брак только политическим союзом и никогда не позволите себе посягать на меня лично.
– Очень хорошо! Но это нисколько не мешает нам поговорить друг с другом. Жийона, заприте дверь и оставьте нас одних.
Маргарита, до этого сидевшая на стуле, встала и протянула руку по направлению к пажам, как бы приказывая им остаться.
– Может быть, позвать и ваших женщин? – спросил король. – Если изволите, я это сделаю, но должен вам признаться – мой разговор с вами касается таких вещей, что я бы предпочел свидание с глазу на глаз.
И король Наваррский направился к двери кабинета.
– Нет! – воскликнула Маргарита, стремительно преграждая ему путь. – Нет, не надо, я выслушаю вас.
Беарнец теперь знал все, что ему нужно было знать; он быстро, но зорко взглянул на кабинет, точно хотел проникнуть взором сквозь портьеру до самых темных уголков его, затем перевел взгляд на бледную от страха красавицу жену.
– В таком случае, – сказал он, – поговорим спокойно.
– Как будет угодно вашему величеству, – ответила она, почти падая в кресло, на которое указал ей муж.
Беарнец сел рядом с ней.
– Мадам, – продолжал он, – пусть там болтают что угодно, но, по-моему, наш брак – добрый брак. Во всяком случае, я – ваш, а вы – моя.
– Но… – испуганно произнесла Маргарита.
– Следовательно, – продолжал Беарнец, как бы не замечая ее смущения, – мы обязаны быть добрыми союзниками, ведь мы сегодня перед богом дали клятву быть в союзе. Не так ли?
– Разумеется, месье.
– Мадам, я знаю, как вы прозорливы, и знаю, сколько опасных пропастей бывает на дворцовой почве; я молод, и, хотя никому не делал зла, врагов у меня много. Так вот, к какому лагерю я должен отнести ту, которая перед алтарем клялась мне в добрых чувствах и носит мое имя?
– О месье, как вы могли подумать…
– Я ничего не думаю, мадам, я лишь надеюсь и хочу только убедиться, что моя надежда имеет основания. Несомненно одно: наш брак – или политический ход, или ловушка.
Маргарита вздрогнула, возможно, потому, что эта мысль приходила в голову и ей.
– Итак, какой же лагерь – ваш? – продолжал Генрих Наваррский. – Король меня ненавидит, герцог Анжуйский – тоже, герцог Алансонский – тоже, Екатерина Медичи настолько ненавидела мою мать, что, конечно, ненавидит и меня.
– Ах, месье, что вы говорите?!
– Только истину, мадам, и если думают, что меня сумели обмануть относительно убийства де Муи и отравления моей матери, то я не хочу, чтобы так думали, и был бы поэтому не прочь, если бы здесь оказался кто-нибудь еще, кто мог бы меня слышать.
– Что вы! Вы прекрасно знаете, что здесь нас только двое: вы и я, – ответила она быстро, но как можно спокойнее и веселее.
– Поэтому-то я и пускаюсь в откровенность, поэтому-то и решаюсь вам сказать, что я не обманываюсь ни ласками царствующего дома, ни ласками семейства лотарингских герцогов.
– Сир! Сир! – воскликнула Маргарита.
– В чем дело, моя крошка? – улыбаясь, спросил Генрих.
– А в том, что такие разговоры очень опасны.
– С глазу на глаз? Нисколько. Так я вам говорил…
Для Маргариты это было пыткой; ей хотелось остановить короля на каждом слове; но Генрих с нарочитой искренностью продолжал речь:
– Да! Так я вам говорил, что угроза нависла надо мной со всех сторон; мне угрожают и король, и герцог Алансонский, и герцог Анжуйский, и королева-мать, и герцог Гиз, и герцог Майнцский, и кардинал Лотарингский – словом, все. Такие вещи чувствуешь инстинктивно, вы это понимаете, мадам. И вот от всех этих угроз, готовых обратиться в прямое нападение, я мог бы защитить себя при вашей помощи, потому что как раз те люди, которые меня не переносят, любят вас.
– Меня? – спросила Маргарита.
– Да, вас, – ответил очень добродушно Генрих. – Вас любит король Карл; вас любит, – подчеркнул он, – герцог Алансонский; вас любит королева Екатерина; наконец, вас любит герцог Гиз.
– Месье… – чуть слышно выговорила Маргарита.
– Ну да! Что же удивительного, если вас любят все? А те, кого я назвал, – ваши братья или родственники. Любить же своих родных и своих братьев – значит жить в духе божием.
– Хорошо, но к чему вы клоните весь этот разговор? – спросила совершенно подавленная Маргарита.
– А я уже сказал к чему: если вы станете моим – не скажу другом, но союзником, – мне ничто не страшно; в противном случае, если и вы будете моим врагом, я погибну.
– Вашим врагом? О, никогда! – воскликнула Маргарита.
– Но другом – тоже нет?
– Возможно – да.
– А союзником?
– Наверно!
Маргарита повернулась к королю и протянула ему руку. Генрих взял ее руку, учтиво поцеловал и удержал в своих руках не столько из чувства нежности, сколько преследуя другую цель: более непосредственно чувствовать душевные движения Маргариты.
– Хорошо, я верю вам, мадам, и почитаю вас своим союзником. Итак, нас поженили, хотя мы друг друга и не знали, и не могли любить; женили, не спрашивая тех, кого женили; следовательно, у нас нет взаимных обязательств мужа и жены. Как видите, мадам, я иду навстречу вашему желанию и подтверждаю то, что говорил вам и вчера. Но союз мы заключаем добровольно, нас к нему никто не вынуждает, наш союз – это союз двух честных людей, обязанных поддерживать и не бросать друг друга; вы сами так ли понимаете его?
– Да, месье, – подтвердила Маргарита и попыталась высвободить свою руку.
– Хорошо, – продолжал Беарнец, не спуская глаз с двери кабинета, – а так как лучшим доказательством честного союза является полное доверие, то я сейчас вас посвящу подробно во все тайны плана, который я себе составил, чтобы успешно противостоять всем этим враждебным силам.
– Месье… – пролепетала Маргарита, оглядываясь на кабинет, что вызвало скрытую улыбку у Беарнца, довольного успехом своей хитрости.
– И вот что я собираюсь сделать, – продолжал Генрих, как будто не замечая ее смущения. – Я…
– Месье, – воскликнула она и, быстро встав, схватила короля за локоть, – дайте мне передохнуть: волнение… жара… я задыхаюсь.
Маргарита действительно побледнела и вся дрожала, едва удерживаясь на ногах, чтоб не упасть.
Генрих направился к отдаленному окну и растворил его. Окно выходило на реку.
Маргарита шла вслед за ним.
– Молчите! Молчите! Ради себя, сир, – чуть слышно произнесла она.
– Эх, мадам, – ответил Беарнец, улыбаясь своей особенной улыбкой. – Ведь вы же сами мне сказали, что мы одни.
– Да, месье, но разве вам неизвестно, что посредством слуховой трубки, пропущенной сквозь стену или потолок, можно слышать все?
– Хорошо, мадам, хорошо, – с чувством прошептал Беарнец. – Верно то, что вы не любите меня, но верно также то, что вы честная женщина.
– Как надо это понимать?
– Будь вы способны меня предать, вы дали бы мне договорить, потому что я выдавал только себя, а вы меня остановили. Теперь я знаю, что в кабинете кто-то есть, что вы неверная жена, но верная союзница, а в данное время, – добавил Беарнец, улыбаясь, – надо признаться, для меня гораздо важнее верность в политике, нежели в любви…
– Сир… – стыдливо вымолвила Маргарита.
– Ладно, ладно, об этом поговорим после, когда узнаем друг друга лучше. – И уже громко спросил ее: – Ну как, мадам, теперь вам легче дышится?
– Да, сир, да, – тихо ответила она.
– В таком случае, – продолжал он громко, – я не хочу вас больше утруждать своим присутствием. Я почел своим долгом прийти, чтоб изъявить вам все мое уважение и сделать первый шаг к нашей дружбе; соблаговолите принять их так же, как я их предлагаю, – от всего сердца. Спите спокойно, доброй ночи.
Маргарита посмотрела на мужа с чувством признательности, светившимся в ее глазах, и сама протянула ему руку, говоря:
– Согласна.
– На политический союз, искренний и честный? – спросил Генрих.
– Искренний и честный, – повторила королева.
Беарнец пошел к выходу, бросив на Маргариту взгляд, увлекший ее невольно как завороженную вслед за мужем.
Когда портьера отделила их от спальни, Генрих Наваррский с чувством прошептал:
– Спасибо, Маргарита, спасибо. Вы истинная дочь Франции. Я ухожу спокойным. Бедный вашей любовью, я не буду беден вашей дружбой. Полагаюсь на вас, как и вы можете полагаться на меня… Прощайте, мадам!
Генрих нежно сжал и поцеловал руку жены, затем бодрым шагом направился к себе по коридору, шепотом рассуждая сам с собой:
– Какой черт сидит там у нее? Кто это – сам король, герцог Анжуйский, герцог Алансонский, герцог Гиз, – брат ли, любовник ли или тот и другой? По правде говоря, мне теперь почти досадно, что я напросился на свидание с баронессой; но раз уж я дал слово и Дариола ждет меня у двери… все равно. Боюсь только, не потеряет ли баронесса в своей прелести оттого, что по дороге к ней я побывал в спальне у моей жены, ибо Марго, как зовет ее мой шурин Карл Девятый, – клянусь святой пятницей! – прелестное создание.
И Генрих Наваррский не очень решительно стал подниматься по лестнице к покоям мадам де Сов.
Маргарита провожала его глазами, пока он не исчез из виду, и только тогда вернулась к себе в комнату. В дверях кабинета стоял герцог, и эта картина вызвала в Маргарите чувство, похожее на угрызения совести. Суровое выражение лица и сдвинутые брови герцога говорили о горьких размышлениях.
– Маргарита сейчас нейтральна, а через неделю Маргарита будет враг, – произнес он.
– Значит, вы подслушивали? – спросила королева.
– А что ж мне было делать в этом кабинете?
– И, по-вашему, я вела себя не так, как подобало наваррской королеве?
– Нет, но не так, как подобало возлюбленной герцога Гиза.
– Месье, я могу не любить своего мужа, но никто не имеет права требовать от меня, чтоб я сделалась его предательницей. Скажите честно, способны ли вы сами выдать какую-нибудь тайну вашей будущей жены, принцессы Порсиан?
– Хорошо, хорошо, мадам, – сказал герцог, покачивая головой. – Пусть так. Я вижу, что у вас нет больше той любви ко мне, во имя которой вы раскрывали мне козни короля против меня и моих сообщников.
– Тогда король представлял силу, а вы слабость. Теперь слабая сторона – Генрих, а сила на вашей стороне. Как видите, я продолжаю играть все ту же роль.
– Но перешли из одного лагеря в другой.
– Я получила на это право, когда спасла вам жизнь таким же способом.
– Хорошо, мадам! Когда любовники расходятся совсем, то возвращают друг другу все свои взаимные дары; поэтому и я при первом случае спасу вам жизнь, чтобы не быть у вас в долгу.
Вслед за этим герцог раскланялся и вышел, а королева не шевельнула пальцем, чтобы его остановить. В передней герцог встретился с Жийоной, которая и проводила его к окну в нижнем этаже; во рву нашел он верного пажа и возвратился с ним домой.
Маргарита, задумавшись, сидела у открытого окна.
– Хороша брачная ночь! – прошептала королева. – Муж сбежал, любовник бросил!
В это время на той стороне рва, по дороге от Деревянной башни к Монетному двору, шел, подбоченясь, какой-то школяр и пел:
Почему, когда на грудь
Я хочу к тебе прильнуть
Иль когда, вздыхая тяжко,
Я ищу твои уста,
Ты обычно и чиста,
И сурова, как монашка!..
Для чего тебе беречь
Белизну точеных плеч,
Этот лик и это лоно?
Для того ли, чтоб отдать
Всю земную благодать
Ласкам страшного Плутона?..
Дивный блеск твоих ланит
Зев могилы поглотит;
Но когда и за могилой
Встретиться придется нам,
Знать никто не будет там,
Что была моей ты милой!
Так не мучь, и не гони,
И скорее протяни,
Протяни свои мне губки,
А не то – пройдут года,
Пожалеешь ты тогда,
Что не сделала уступки! [23]
Маргарита с грустной улыбкой прислушивалась к этой песне; когда же голос школяра замер вдали, она затворила окно и кликнула Жийону, чтобы с ее помощью раздеться и лечь спать.
III. Король-поэт
Торжества, балеты и турниры заняли все следующие дни. Сближение двух партий продолжалось. Двор расточал ласки и любезности, которые могли вскружить голову даже самым ярым гугенотам. На глазах у всех старик Коттон обедал и кутил с бароном де Куртомер, а герцог Гиз и принц Конде вместе катались по реке на лодке в сопровождении оркестра.
Карл IX как будто расстался со своим обычно мрачным настроением и не мог жить без своего зятя Генриха Наваррского. Наконец королева-мать обрела такую жизнерадостность, так прилежно занялась вышивками, драгоценными уборами и перьями для шляп, что даже потеряла сон.
Гугеноты, немного развратившись в этой новой Капуе, стали надевать шелковые колеты, вышивать девизы и не хуже католиков гарцевать перед заветными балконами. Во всем была заметна перемена, благоприятная для реформатского исповедания, – казалось, сам королевский двор собрался перейти в протестантизм. Даже адмирал, при своей опытности, попался на эту удочку, как и другие: ему до такой степени затуманили рассудок, что однажды вечером он на целых два часа забыл о зубочистке и не ковырял ею у себя во рту, хотя обычно предавался этому занятию с двух часов дня, когда кончал обедать, и до восьми вечера, когда садился ужинать.
В тот самый день, когда адмирал проявил такую невероятную забывчивость, король Карл IX пригласил герцога Гиза и Генриха Наваррского поужинать втроем. Закончив ужин, Карл увел их к себе в комнату, где стал показывать и объяснять им хитрый механизм волчьего капкана, изобретенный им самим, как вдруг прервал себя, спросив:
– Не собирается ли адмирал зайти ко мне сегодня вечером? Кто его видел сегодня днем и может мне сказать, как он себя чувствует?
– Я, – ответил Генрих, – и если ваше величество беспокоитесь о его здоровье, то могу вас утешить: я видел его сегодня два раза – в шесть утра и в семь вечера.
Король, глядевший до этого рассеянно, вдруг с острым любопытством остановил взгляд на своем зяте и сказал:
– Ай, ай, Анрио! Вы встали сегодня что-то уж слишком рано для новобрачного.
– Да, сир, – ответил Беарнец, – но мне хотелось узнать у всеведущего адмирала, не едет ли кое-кто из дворян, которых я жду.
– Еще дворяне! В день свадьбы их было уже восемьсот, и каждый день все едут новые – уж не собираетесь ли вы оккупировать Париж? – смеясь, спросил король.
Герцог Гиз нахмурил брови.
– Сир, – возразил Беарнец, – ходят слухи о походе во Фландрию, поэтому я и собираю к себе из своей области и из соседних всех, кто, по моему мнению, может быть полезен вашему величеству.
Герцог Гиз, вспомнив ночной разговор Беарнца с Маргаритой о каком-то плане, стал слушать более внимательно.
– Ладно, ладно! – ответил король с хищной улыбкой. – Чем больше будет их, тем лучше; созывайте, созывайте, Генрих. Но каковы эти дворяне? Надеюсь, люди храбрые?
– Не знаю, сир, сравняются ли в храбрости мои дворяне с дворянами вашего величества, герцога Анжуйского или месье Гиза, но я их знаю и уверен, что они себя покажут.
– А вы ждете еще многих?
– Человек десять-двенадцать.
– Как их зовут?
– Сейчас не припомню, кроме одного, которого рекомендовал мне Телиньи как образованного дворянина, по имени де Ла Моль; не могу уверять…
– Де Ла Моль! Уж это не провансалец ли – Лерак де Ла Моль? – заметил король, хорошо знавший генеалогию французского дворянства.
– Совершенно верно, сир; как видите, я хожу за людьми даже в Прованс.
– А я, – ответил с насмешливой улыбкой герцог Гиз, – хожу еще дальше его величества короля Наваррского и дохожу до самого Пьемонта, чтобы собрать всех тамошних верных католиков.
– Католиков ли или протестантов – мне безразлично, были бы лишь храбры, – возразил король.
Эти слова, соединившие католиков и протестантов в одно целое, король произнес с видом такого беспристрастия, что сам герцог Гиз был озадачен.
– Ваше величество, уж не о наших ли фламандцах идет речь? – спросил адмирал, который, пользуясь недавно дарованным ему королевским разрешением являться без доклада, входил в комнату короля и слышал последние его слова.
– А-а! Вот и отец мой адмирал! – воскликнул Карл IX, раскрывая объятия. – Стоит заговорить о войне, дворянах, храбрецах – и он тут как тут, его тянет как магнитом. Мой наваррский зять и мой кузен Гиз ждут подкреплений для вашей армии. Вот о чем шел разговор.
– И подкрепления идут, – сказал адмирал.
– У вас есть свежие вести, адмирал? – спросил Беарнец.
– Да, мой сын, в частности – о Ла Моле; вчера он был в Орлеане, а завтра или послезавтра будет в Париже.
– Чудеса! Господин адмирал просто колдун, – заметил Гиз. – Ему известно, что делается за тридцать или сорок миль от него! Я очень хотел бы знать так же достоверно, что происходит или что произошло под Орлеаном.
Колиньи совершенно спокойно отнесся к этому выпаду герцога Гиза, явно намекавшего на смерть своего отца, Франсуа де Гиза, убитого под Орлеаном гугенотом Польтро де Мере, и, как подозревали, по наущению адмирала.
– Месье, – ответил адмирал холодно, с достоинством, – я бываю колдуном всегда, когда хочу знать точно все, что имеет значение для дел короля или моих лично. Час тому назад прибыл из Орлеана мой курьер, он ехал на перекладных почтовых лошадях и благодаря этому проехал за один день тридцать две мили; а месье де Ла Моль едет верхом на собственной лошади, делая по десяти миль в день, – следовательно, он прибудет только двадцать четвертого. Вот и все колдовство.
– Браво, отец, – воскликнул Карл IX, – хорошо сказано! Пусть знают эти юноши, что не одни годы, но и мудрость убелила вашу бороду и голову. Давайте отпустим их болтать об их турнирах и любовных похождениях, а сами побеседуем вдвоем о наших военных предприятиях. При хорошем советнике и король становится хорошим, отец. Ступайте, господа, мне надо поговорить с адмиралом.
Молодые люди вышли – первым король Наваррский, а за ним герцог Гиз, но, выйдя за дверь, они холодно раскланялись и пошли каждый в свою сторону.
Колиньи с некоторой тревогой посмотрел им вслед: всякий раз, когда сходились эти два ненавистных друг другу человека, он опасался какой-нибудь вспышки между ними. Карл IX угадал мысль адмирала, подошел к нему и, взяв его под руку, сказал:
– Будьте покойны, отец; для того чтобы держать их в страхе и повиновении, существую я. Я стал настоящим королем с того дня, как моя мать перестала быть королевой, а она перестала быть королевой с того дня, как Колиньи стал мне отцом.
– Что вы, сир! – воскликнул адмирал. – Ведь королева Екатерина…
– Старая склочница! С ней никакой мир невозможен. Эти оголтелые итальянские католики понимают только одно – всех резать. Я же, наоборот, хочу умиротворения, и даже больше – хочу поддержать приверженцев нового исповедания. Все остальные чересчур распущенны, отец, они меня позорят своей любовной грязью и своим беспутством. Хочешь, я буду говорить с тобой честно, – продолжал Карл IX, все больше отдаваясь порыву откровенности. – Я не доверяю ни одному человеку из окружающих меня, за исключением новых моих друзей. Честолюбие Тавана мне очень подозрительно; Вьейвиль любит только хорошее вино и продаст своего короля за бочку мальвазии; Монморанси ничего не хочет знать, кроме охоты, и проводит все время в обществе собак и соколов; граф Рец – испанец, Гизы – лотарингцы. Да простит мне бог, но мне сдается, что во всей Франции только три честных француза – я, мой наваррский зять да ты. Но я прикован к трону и не могу командовать армией; самое большее, что мне позволено, – это поохотиться в Сен-Жермене и в Рамбулье. Мой наваррский зять слишком юн и малоопытен; кроме того, его отца, короля Антуана, всегда губили женщины, и мне сдается, что Генрих унаследовал эту слабость своего отца. Нет никого, кроме тебя, отец, – ты смел, как Цезарь, и мудр, как Платон. Я не знаю, как мне поступить: оставить ли тебя здесь советником при мне или послать туда главнокомандующим. Если ты будешь моим советником – кому командовать? Если командовать будешь ты – кто будет мне советником?
– Сир, сначала надо победить, а после победы будет и совет.
– Ты так думаешь, отец? Ну что же, хорошо – будь по-твоему. В понедельник ты отправишься во Фландрию, а я поеду в Амбуаз.
– Ваше величество уезжает из Парижа?
– Да… Я устал от этого шума, от всех этих торжеств. Я не деятель, я мечтатель. Я родился поэтом, а не королем. Ты организуешь нечто вроде совета, который и будет править, пока ты будешь на войне; а поскольку моя мать не войдет в него, все пойдет хорошо. А я уже оповестил Ронсара, чтоб он приехал в Амбуаз, и там вдвоем, вдали от шума, от дрянных людей, в тени лесов, на берегу реки, под тихий говор ручейков, мы будем беседовать о божественных вещах, это единственное утешение в суете мирской. Вот послушай мои стихи – предложение Ронсару быть моим гостем в Амбуазе; я сочинил их сегодня утром.
Колиньи усмехнулся. Карл IX провел рукою по гладкому желтоватому, как будто из слоновой кости, лбу и начал декламировать, немного нараспев, свои стихи:
Ронсар, когда с тобой в разлуке мы живем,
Ты забываешь вдруг о короле своем.
Но я и вдалеке ценю твой дивный гений,
И продолжаю брать уроки песнопений,
И снова шлю тебе ряд опытов своих,
Чтоб вызвать на ответ твой прихотливый стих.
Подумай, не пора ль закончить летний отдых?
Уместно ли весь век копаться в огородах?
Нет, должен ты спешить на королевский зов
Во имя радостных, ликующих стихов!..
Когда не навестишь меня ты в Амбуазе,
Я не прощу тебе такое безобразье!..
– Браво, сир, браво! – сказал Колиньи. – Я, правда, больше смыслю в военном деле, чем в поэзии, но, как мне кажется, эти стихи не уступят лучшим стихам Ронсара, Дира и самого канцлера Франции – Мишеля де л’Опиталь.
– Ах, отец, – воскликнул Карл IX, – если бы ты оказался прав! Поверь, что звание поэта меня прельщает более всего; и как я говорил недавно своему учителю поэзии:
Искусство дивное поэмы составлять,
Пожалуй, потрудней искусства управлять.
Поэтам и царям господь венки вручает,
Но царь их носит сам, поэт – других венчает.
Твой дух и без меня величьем осиян,
А мне величие дает мой гордый сан.
Мы ищем, я и ты, к богам путей открытых,
Но я подобье их, Ронсар, ты фаворит их!
Ведь лира власть тебе над душами дала,
А мне – увы и ах! – подвластны лишь тела!
Власть эта такова, что в древности едва ли
Тираны лютые подобной обладали…
– Сир, мне хорошо известно, что ваше величество ведет беседы с музами, – сказал Колиньи, – но я не знал, что они стали для вас главными советниками.
– Главный ты, отец, главный ты! Я и хочу тебя поставить во главе всего государственного управления, чтобы мне не мешали свободно общаться с музами. Слушай, я тороплюсь ответить нашему великому поэту на его новый мадригал, который он прислал мне… Да я и не могу собрать тебе сейчас все документы, которые необходимы, чтобы ты мог уяснить себе основное расхождение между Филиппом Вторым и мной. Кроме того, мои министры дали мне что-то вроде плана будущей войны. Все это я разыщу и отдам тебе завтра утром.
– В котором часу, сир?
– В десять; если окажется, что я буду занят писанием стихов и запрусь у себя в кабинете… то все равно входи прямо сюда, и ты найдешь здесь, на столе, все документы – в этом красном портфеле; забирай их вместе с портфелем, цвет его настолько бросается в глаза, что ты не ошибешься. А я сейчас иду писать Ронсару.
– Прощайте, сир.
– Прощай, отец.
– Разрешите вашу руку, сир?
– Какая там рука? Мои объятия, моя грудь – вот твое место! Приди, приди ко мне, старый воин!
Карл IX привлек к себе склоненную голову адмирала и прикоснулся губами к его седым волосам.
Адмирал вышел, утирая набежавшую слезу.
Карл следил за Колиньи глазами, пока мог его видеть, затем прислушался к его шагам, пока их было слышно; когда же адмирал исчез и шаги его затихли, Карл IX, по свойственной ему привычке, склонил голову набок и медленно проследовал в Оружейную палату.
Оружейная палата была любимым местопребыванием Карла; здесь брал он уроки фехтования у Помпея и уроки стихотворства у Ронсара. Здесь находилось собрание лучших образцов наступательного и оборонительного оружия. Все стены были увешаны боевыми топорами, копьями, щитами, алебардами, мушкетами и пистолетами; и как раз в этот день один знаменитый оружейный мастер принес королю превосходную аркебузу, на стволе которой была сделана серебряной насечкой надпись, состоявшая из четырех строк, сочиненных самим Карлом:
В боях за честь, за божье слово
Я непреклонна и сурова,
В того, кто недруг королю,
Я пулю меткую пошлю!
Заперев входную дверь, король прошел в другой конец палаты и приподнял стенной ковер, скрывавший переход в другую комнату, где молилась женщина, склонив колени на низкую скамейку с аналоем.
Ковер скрадывал звук шагов, и Карл, медленно ступая, вошел как призрак, настолько тихо, что коленопреклоненная женщина ничего не услышала, не оглянулась и продолжала молиться. Карл остановился на пороге, задумчиво глядя на нее.
Женщине с виду было лет тридцать пять, ее здоровую красоту оттенял наряд крестьянок из окрестностей Ко. Белый колпак, бывший в моде при французском дворе времен королевы Изабеллы Баварской, и красный корсаж были расшиты золотом, – такие корсажи носят и теперь крестьянки близ Соры и Неттуно. Комната, где она жила чуть не двадцать лет, была смежной со спальней короля и представляла собой своеобразную смесь изысканности и деревенской простоты. Здесь дворец как будто растворялся в простой избе, а изба – во дворце, образуя что-то среднее между деревенской простотой и роскошью вельможной дамы. Так, скамейка, на которой коленопреклоненно молилась женщина, вся была из дуба, украшена чудесною резьбой и обита бархатом с золотою бахромой, а Библия – главная молитвенная книга этой протестантки, – раскрытая перед ее глазами, была полурастрепанная, старая, какие бывают только в самых бедных семьях. Вся остальная обстановка – в том же духе.
– Эй, Мадлон! – окликнул ее король.
Коленопреклоненная женщина с улыбкой обернулась на знакомый голос и, сходя со скамеечки, ответила:
– А-а, это ты, сынок?
– Да, кормилица. Поди ко мне.
Карл IX опустил ковер, прошел в Оружейную и сел на ручку кресла. Вошла кормилица и спросила:
– Что тебе, Шарло?
– Поди сюда и говори шепотом.
Кормилица подошла к нему с ласковой простотой, возникшей, вероятно, из чувства той материнской нежности, которую питает к ребенку женщина, вскормившая его своею грудью. Однако памфлеты того времени находили источник этой нежности в других, далеко не таких чистых отношениях.
– Ну, вот я, говори, – сказала кормилица.
– Здесь тот человек, которого я вызвал?
– Ждет уже с полчаса.
Карл встал, подошел к окну и посмотрел, не подглядывает ли кто-нибудь, затем приблизился к двери и удостоверился, что никто не подслушивает, смахнул пыль с висевшего на стене оружия, приласкал крупную борзую собаку, которая ходила за ним по пятам, останавливаясь, когда он останавливался, и следуя за своим хозяином, когда он сходил с места; наконец король вернулся к кормилице и сказал:
– Ладно, кормилица, впусти его.
Кормилица вышла тем же ходом, по которому входил к ней король, а Карл IX присел на край стола, занятого разложенным на нем оружием различных видов. В ту же минуту ковер вновь приподнялся, пропуская того, кого ждал Карл.
Это был человек лет сорока, с серыми глазами, выражавшими коварство, с крючковатым носом, как у совы, и выдававшимися скулами; лицо его пыталось выразить почтение, но вместо этого белые от страха губы скривились в лицемерную улыбку.
Карл IX тихо протянул руку за спину и нащупал на столе рукоятку пистолета новой системы, где вспышка пороха производилась не фитилем, а трением пирита о колесико в замке; в то же время король смотрел своими тусклыми глазами на нового актера этой сцены, насвистывая верно и даже очень мелодично свою любимую охотничью песенку.
Так прошло несколько секунд, и незнакомец менялся в лице все больше.
– Вы тот самый, кого зовут Франсуа де Лувье-Морвель? – спросил король.
– Да, сир.
– Офицер отряда петардщиков?
– Да, сир.
– Мне хотелось посмотреть на вас.
Морвель поклонился.
– Вам известно, – сказал Карл IX, подчеркивая каждое слово, – что своих подданных я люблю одинаково всех.
– Я знаю, – пролепетал Морвель, – что ваше величество – отец народа.
– И что гугеноты и католики одинаково мне дети.
Морвель молчал, но проницательный глаз короля заметил, что он дрожал всем телом, хотя Морвель стоял в полутемной части кабинета.
– Вам это не по нраву? – спросил король. – Ведь вы жестоко воевали с гугенотами?
Морвель упал на колени.
– Сир, – пролепетал он, – поверьте, что…
– Верю, – продолжал король, все глубже пронизывая Морвеля своим взглядом, ставшим из стеклянного сверкающим, – я верю, что в сражении при Монконтуре вам очень хотелось подстрелить адмирала, который сейчас вышел из этой комнаты; я верю, что тогда вы промахнулись, и после этого вы перешли в армию к нашему брату, герцогу Анжуйскому; наконец, верю и тому, что из нее вы еще раз перебежали в армию принцев Конде, где и поступили на службу в отряд к месье де Муи де Сен-Фаль…
– О сир!
– К храброму пикардийскому дворянину?..
– Сир, сир! Не мучьте меня! – воскликнул Морвель.
– Он был прекрасный командир, – продолжал Карл IX; и по мере того, как он говорил, выражение почти хищной жестокости все больше проявлялось на его лице, – и этот человек принял вас как сына, приютил, одел, кормил.
Морвель тяжело вздохнул.
– Вы звали его своим отцом, – безжалостно продолжал Карл, – и, помнится, его сын, юный де Муи, питал к вам нежные, дружеские чувства.
Морвель, стоя на коленях, все более сгибался под гнетом этих слов, а Карл стоял, бесчувственный и недвижимый, как статуя, у которой были живыми только губы.
– Кстати, – продолжал король, – не вам ли герцог Гиз предназначал награду в десять тысяч экю, если вы убьете адмирала?
Убийца в ужасе склонился лбом до земли.
– И вот старого сеньора де Муи, вашего доброго отца, вы как-то сопровождали в разведке по направлению к Шевре. Он уронил бич и спешился, чтобы его поднять. Вы оказались с ним наедине, вы вынули из ольстры пистолет, и когда ваш добрый отец нагнулся, вы перебили ему хребет пулей; он был убит наповал, а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил.
Морвель продолжал молчать, сраженный этим обвинением, верным во всех подробностях, а Карл IX принялся опять насвистывать с той же точностью, с той же музыкальностью все ту же охотничью песню. Выждав некоторое время, Карл IX сказал:
– Вот что, мастер убийца, у меня большое желание вас повесить.
– О ваше величество! – возопил Морвель.
– Молодой де Муи еще вчера молил меня об этом. Я даже не знал, что ему ответить, хотя просьба его вполне законна.
Морвель умоляюще сложил руки.
– Она тем более законна, что, как вы сказали сами, я отец народа, а я ответил вам на это, что я теперь примирился с гугенотами и они точно такие же мои дети, как и католики.
– Сир, – вымолвил совсем упавший духом Морвель, – жизнь моя в ваших руках, делайте с ней, что хотите.
– Верно! И, по-моему, она не стоит ни гроша.
– Сир, неужели нет возможности искупить мою вину? – взмолился убийца.
– Не знаю. Во всяком случае, будь я на вашем месте, чего, слава богу, нет…
– Сир, ну а если бы вы были на моем месте?.. – пролепетал Морвель, впиваясь глазами в губы короля.
– Думаю, что я бы нашел выход, – ответил Карл.
Морвель оперся рукою о пол и приподнялся на одно колено, пристально смотря на Карла, чтобы разглядеть, не смеется ли над ним король.
– Я, конечно, очень люблю молодого де Муи, – продолжал король, – но я очень люблю и моего кузена Гиза; и если бы он попросил меня даровать жизнь какому-нибудь человеку, а де Муи просил бы казнить того же человека, я был бы в крайнем затруднении. Однако по разным политическим и религиозным соображениям я должен был бы уступить желанию моего кузена Гиза, ибо де Муи хотя и очень храбрый командир, но все же мелок в сравнении с принцем Лотарингским.
Пока Карл IX говорил эти слова, Морвель мало-помалу привставал и как бы возвращался к жизни.
– Итак, в вашем крайнем положении вам было бы важно заслужить благоволение моего кузена Гиза; кстати, мне вспоминаются его вчерашние слова.
Морвель сделал шаг вперед.
– «Представьте себе, сир, – говорил Гиз, – каждый день в десять часов утра по улице Сен-Жермен-Л’Озеруа возвращается из Лувра мой заклятый враг, и я гляжу на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пиля, сквозь зарешеченное окно в нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идет мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть под ним землю».
Не кажется ли вам, мастер Морвель, – продолжал Карл IX, – что если бы вы оказались дьяволом или по крайней мере заместили бы его хоть на минуту, то, может быть, вы и порадовали бы моего кузена Гиза?
На губах Морвеля, еще белых от испуга, появилась дьявольская усмешка, и они заговорили:
– Да, сир, но не в моей власти разверзнуть землю.
– Однако вы, насколько помню, ее разверзли для доброго Муи. На это вы мне скажете: да, но посредством пистолета… Он у вас не сохранился?
– Простите, сир, но я стреляю из аркебузы лучше, чем из пистолета, – ответил разбойник, почти оправившись от страха.
– Пистолет или аркебуза, – сказал Карл, – какая разница? Я убежден, что мой кузен Гиз не станет придираться к мелочам.
– Но мне нужно очень надежное, меткое ружье – быть может, придется стрелять на дальнем расстоянии.
– В этой комнате десять аркебуз, – сказал король, – и я из каждой попадаю в золотой экю на сто пятьдесят шагов. Хотите – попробуйте любую.
– О сир! С великим удовольствием! – воскликнул Морвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол.
– Нет, только не эту, – возразил король, – ее я оставляю для себя. На днях предстоит большая охота, где, я надеюсь, она послужит мне. Но любую другую можете взять.
Морвель снял со стены одну из аркебуз.
– Теперь, сир, кто же этот враг? – спросил убийца.
– Почем я знаю? – ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом.
– Хорошо, я спрошу у герцога Гиза, – пролепетал Морвель.
Король пожал плечами.
– Нечего его спрашивать – герцог Гиз вам не ответит. Разве дают ответы на подобные вопросы? Тем, кто хочет избегнуть виселицы, надо иметь смекалку.
– А как же я его узнаю?
– Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника.
– Перед этим окном проходит много народу. Может быть, ваше величество соблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету?
– О, это нетрудно. Например, завтра он понесет под мышкой портфель из красного сафьяна.
– Достаточно, сир.
– У вас все та же лошадь, которую подарил вам де Муи, и скачет так же хорошо?
– У меня самый быстрый берберский конь.
– О, я нисколько не боюсь за вас! Но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка.
– Благодарю, сир! Помолитесь за меня богу.
– Что?! Тысяча чертей! Вы лучше сами молитесь дьяволу, только с его помощью вы избежите петли!
– Прощайте, сир!
– Прощайте. Да, вот что еще, месье де Морвель: если завтра до десяти часов утра будет какой-нибудь разговор о вас или если после десяти не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников.
И Карл IX опять принялся насвистывать мотив своей любимой песенки.
IV. Вечер 24 августа 1572 года
Если читатель помнит, в предшествующей главе упоминался дворянин по имени Ла Моль, которого поджидал король Наваррский. Как и предсказывал адмирал, этот дворянин к концу дня 24 августа 1572 года въезжал в Париж от городских ворот Сен-Марсель и, довольно презрительно посматривая на живописные вывески гостиниц, в большом количестве стоявших и с правой, и с левой стороны, направил взмыленную лошадь к центру города, где пересек площадь Мобера, проехал Малый мост, мост собора Богоматери, затем по набережной и наконец остановился в начале переулка Бресек, переименованного позднее в улицу Арбр-сек, – это название мы и сохраним ради удобства нашего читателя.
Название «Арбр-сек» («сухое дерево»), видимо, понравилось Ла Молю, и он въехал в эту улицу, где привлекла его внимание великолепная жестяная вывеска, которая, скрипя, раскачивалась на кронштейне и позванивала своими колокольчиками. Ла Моль остановился перед ней и прочел название: «Путеводная звезда», написанное как девиз под изображением, самым заманчивым для проголодавшегося путешественника: в темном небе жарится на огне цыпленок, а человек в красном плаще взывает к этой новоявленной звезде, воздевая свои руки вместе с кошельком.
«Вот эта гостиница хорошо рекламирует себя, – подумал дворянин, – а ее хозяин, наверно, ловкий парень; к тому же я слыхал, что улица Арбр-сек – в квартале Лувра, и если только само заведение соответствует вывеске, то я устроюсь здесь отлично».
Пока новоприбывший произносил этот монолог, с другого конца переулка, то есть от улицы Сент-Оноре, подъехал другой всадник и тоже остановился, прельщенный вывеской «Путеводная звезда».
Всадник, уже знакомый нам хотя бы лишь по имени, сидел на белой лошади испанской породы и был одет в черный колет с пуговицами из черного агата. Кроме колета, на нем были темно-лиловый плащ, черные кожаные сапоги, шпага с чеканным стальным эфесом и парный к ней кинжал. Если мы от костюма перейдем теперь к лицу, то увидим человека лет двадцати четырех – двадцати пяти, сильно загорелого, с голубыми глазами, тонкими усиками, с ослепительно белыми зубами, которые, казалось, озаряли его лицо, когда он улыбался – обычно мягкой, грустной улыбкой, – и, наконец, с безупречно очерченным, изящным ртом.
Второй путешественник являл собой полную противоположность первому. Из-под шляпы с загнутыми вверх полями выбивались волнистые густые белокурые, рыжего оттенка, волосы и глядели серые глаза, сверкавшие при малейшем недовольстве таким ослепительным огнем, что начинали казаться черными. Невольно обращали на себя внимание розоватый оттенок кожи, тонкие губы, темно-рыжие усы и замечательные зубы. Высокий и плечистый, он представлял собою тип красавца в обыденном значении этого понятия, и за то время, пока он ездил по Парижу, оглядывая все окна под тем предлогом, что ищет вывеску, многие дамы засматривались на него; что же касается мужчин, то они, возможно, были бы не прочь высмеять и чересчур узкий плащ, и узкие штаны, и какой-то допотопной формы сапоги, но смех переходил в любезное пожелание «Да хранит вас бог!» сейчас же, как только замечали, что лицо незнакомца имело способность в одну минуту принимать десяток различных выражений, кроме одного – выражения доброжелательности, обычно свойственного смущенному провинциалу.
Он первый и начал разговор, обратившись к другому дворянину, занятому внешним осмотром гостиницы «Путеводная звезда».
– Дьявольщина! Скажите, месье, – произнес он с ужасным горским выговором, который сразу выдает уроженца Пьемонта среди сотни других пришельцев, – отсюда недалеко до Лувра? Во всяком случае, наши вкусы как будто сходятся; это очень лестно для моей особы.
– Месье, – произнес другой с провансальским выговором, не уступавшим по типичности пьемонтскому акценту первого собеседника, – мне кажется, что эта гостиница действительно находится недалеко от Лувра. Тем не менее я еще не вполне уверен, буду ли я иметь удовольствие присоединиться к вашему намерению. Я пока раздумываю.
– Так вы еще не решили? А вид у гостиницы заманчивый! Но, может быть, я соблазнился тем, что увидал здесь вас. Все-таки согласитесь, что вывеска красива.
– Это так, но она-то и возбуждает мои сомнения относительно действительного содержания. Меня предупреждали, что в Париже множество плутов и что здесь так же ловко обманывают вывесками, как и другими способами.
– Дьявольщина! Плутовство меня не смущает, – возразил пьемонтец. – Если хозяин подаст мне курицу, изжаренную хуже, чем та, на вывеске, я его самого посажу на вертел и буду вертеть, пока он не прожарится. Итак, месье, войдем.
– Вы меня убедили, – смеясь, ответил провансалец. – Прошу, месье, входите первым.
– Нет, месье, клянусь душой, этого не будет, – я только ваш покорный слуга, граф Аннибал де Коконнас.
– А я граф Жозеф-Гиасинт-Бонифас Лерак де Ла Моль, к вашим услугам.
– В таком случае возьмем друг друга за руки и войдем вместе.
Во исполнение этого примиряющего предложения оба молодых человека спешились, передали лошадей конюху, поправили шпаги и, взявшись за руки, пошли к двери гостиницы, где на пороге стоял ее хозяин. Но, вопреки обыкновению людей этой породы, почтенный собственник, видимо, не обратил на них внимания, а весь ушел в какие-то переговоры с желтым сухим верзилой, которого окутывал широкий плащ буро-коричневого цвета, как сову перья.
Оба дворянина подошли к хозяину гостиницы и его собеседнику в буро-коричневом плаще уже так близко, что Коконнас, рассерженный их невнимательностью к себе и своему спутнику, дернул хозяина за рукав. Последний сразу очнулся и отпустил своего собеседника, сказав ему:
– До свидания! Приходите поскорее и непременно осведомляйте меня о том, что происходит.
– Эй, старый плут, – сказал Коконнас, – вы что же, не видите, что к вам пришли по делу?
– Ах, простите, господа, – ответил хозяин, – я не заметил вас.
– Дьявольщина! Нас надо замечать! А теперь, когда вы нас заметили, то будьте любезны обращаться к нам не просто «месье», а «граф».
Ла Моль стоял сзади, предоставив вести переговоры Коконнасу, благо тот принял все дело на себя. Однако по нахмуренным бровям Ла Моля было ясно, что он в любую минуту готов прийти на помощь, когда наступит время действовать.
– Ладно! Так что же вам угодно, граф? – совершенно спокойно спросил хозяин.
– Хорошо… Не правда ли, так будет лучше? – спросил Коконнас, оборачиваясь к Ла Молю, на что последний утвердительно кивнул головой. – Мы, граф и я, основываясь на вашей вывеске, желаем иметь ужин и ночлег в вашей гостинице.
– Господа, я очень огорчен, – ответил хозяин, – но у меня свободна только одна комната, а это вам не подойдет.
– Ну и тем лучше, – сказал Ла Моль, – остановимся в другом месте.
– Нет, нет, – возразил Коконнас, – я останусь здесь; у меня лошадь измучена. Раз вы не хотите, я беру комнату один.
– А-а, это меняет дело, – ответил хозяин с тем же нахальным равнодушием. – Если вы один, так я вас вовсе не пущу.
– Дьявольщина! Вот так забавная скотина! Только что сказал, что двое – слишком много, а теперь оказывается, что один – слишком мало! Так ты не хочешь, плут, принять нас?
– По совести, господа, раз уже вы заговорили таким тоном, я вам отвечу откровенно.
– Отвечай, но только поскорей.
– Ладно! Так уж лучше не надо мне чести иметь вас постояльцами.
– Почему?.. – спросил Коконнас, бледнея от негодования.
– А потому, что у вас нет лакеев, значит, господская комната будет занята, а две лакейские будут пустовать. Ежели я отдам вам комнату господскую, то не сдам двух других.
– Месье Ла Моль, – сказал Коконнас, оборачиваясь, – не думается ли вам, что придется поколотить этого прохвоста?
– Это можно, – ответил Ла Моль, приготовляясь вместе со своим спутником отхлестать хозяина плетью.
Но, несмотря на готовность обоих, видимо, очень решительных дворян перейти от слов к делу, что не предвещало ничего хорошего трактирщику, он нисколько не смутился и только отступил на один шаг к двери.
– Сейчас видать, что из провинции, – сердито проворчал он. – В Париже прошла мода бить хозяев, которые не хотят сдавать у себя комнат. Теперь бьют вельмож, а не горожан, а ежели вы будете на меня орать, я кликну соседей, но тогда уж исколотят вас, что вовсе не почетно для дворян.
– Дьявольщина! Он еще издевается над нами! – крикнул Коконнас вне себя.
– Грегуар, подай мне аркебузу! – приказал хозяин своему слуге таким же тоном, как будто говорил: «Подай господам стул!»
– Клянусь кишками папы! – зарычал Коконнас, обнажая шпагу. – Да разгорячитесь же, месье Ла Моль!
– Не надо! Не стоит: пока мы будем горячиться, остынет ужин.
– Вы так думаете? – воскликнул Коконнас.
– Я думаю, что хозяин «Путеводной звезды» прав, но не умеет принимать гостей, особенно дворян. Вместо того чтобы грубо говорить нам: «Господа, мне вас не надо», – лучше было бы сказать нам вежливо: «Пожалуйте, господа», а в счете поставить: за господскую комнату – столько-то, за лакейскую – столько-то, учитывая, что, если у нас нет сейчас лакеев, мы их наймем.
И с этими словами Ла Моль тихонько отстранил хозяина, уже протянувшего руку к принесенной аркебузе, пропустил Коконнаса в дом, а вслед за ним вошел и сам.
– Ну ладно, – сказал Коконнас, – а все-таки очень досадно вкладывать шпагу в ножны, не убедившись, что она колет не хуже, чем вертела у этого парня.
– Уж потерпите, дорогой спутник, – ответил Ла Моль. – Теперь все гостиницы переполнены дворянами, съехавшимися в Париж на брачные торжества и для предстоящей войны во Фландрии, поэтому нам не найти другой квартиры; а кроме того, возможно, что в Париже принято так встречать приезжих.
– Дьявольщина! Ну и терпение у вас! – пробурчал Коконнас, яростно закручивая рыжий ус и сверкая глазами на хозяина. – Но берегись, мошенник! Если у тебя готовят скверно, постели жестки, вино выдержано менее трех лет в бутылках и слуга не изворотлив, как тростник…
– Ля-ля-ля, мой милый дворянин, успокойтесь, вы будете здесь как у Христа за пазухой, – прервал его хозяин, оттачивая кухонный нож на оселке.
Затем пробормотал, качая головой:
– Это гугенот; все отступники совершенно обнаглели после свадьбы ихнего Беарнца с мадемуазель Марго!
И, помолчав, добавил с такой усмешкой, что оба постояльца, наверно, вздрогнули бы, если бы видели ее:
– Ну, ну! Забавно, что мне попались гугеноты, и как раз…
– Эй! Будем мы ужинать, наконец? – резко спросил Коконнас, прерывая рассуждения хозяина с самим собой.
– Как будет вам угодно, – ответил хозяин, сразу смягчившись, вероятно, под влиянием мысли, пришедшей ему в голову.
– Нам так угодно, да поскорее, – ответил Коконнас.
Затем, обернувшись к Ла Молю, сказал:
– Вот что, граф, пока приготовляют комнату, скажите: как, по вашему мнению, Париж – веселый город?
– По правде говоря – нет, – ответил Ла Моль. – У меня осталось такое впечатление, что у всех встречных или встревоженные, или отталкивающие лица. Может быть, это оттого, что парижане боятся грозы. Видите, какое мрачное небо, и чувствуете, какая тяжесть в воздухе?
– Скажите, граф, вы ведь стремитесь в Лувр?
– Да, и вы тоже, месье Коконнас, как мне кажется?
– Ну что ж! Давайте устремимся вместе.
– Гм! Пожалуй, немного поздно выходить на улицу.
– Поздно или нет, а придется выйти. Мне даны точные приказания: как можно скорее доехать до Парижа и тотчас по прибытии снестись с герцогом Гизом.
При имени герцога Гиза хозяин насторожился и подошел ближе.
– Мне сдается, что этот бездельник подслушивает нас, – сказал Коконнас, который, как все пьемонтцы, был злопамятен и не мог простить хозяину «Путеводной звезды» малопочтительный прием, оказанный обоим путешественникам.
– Да, я прислушиваюсь, господа, – ответил трактирщик, прикасаясь рукою к своему колпаку на голове, – но только чтобы услужить вам. Я услыхал разговор про герцога Гиза и тотчас подошел. Чем, господа дворяне, могу быть вам полезен?
– Ха, ха, ха! Как видно, это имя обладает волшебной силой, судя по тому, что из нахала ты стал подлизой. Дьявольщина!.. Мэтр… мэтр… как тебя там?
– Мэтр Ла Юрьер, – ответил хозяин, кланяясь.
– Отлично, мэтр Ла Юрьер; значит, у герцога Гиза такая тяжелая рука, что может сделать вежливым даже тебя! Уж не думаешь ли ты, что моя легче?
– Нет, граф, но ваша короче, – возразил хозяин. – А кроме того, – добавил он, – должен вам сказать, что для нас, парижан, великий Генрих – кумир!
– Какой Генрих? – спросил Ла Моль.
– Мне думается, есть только один, – ответил Ла Юрьер.
– Прости, милейший, есть и другой – тот, о котором предлагаю вам не говорить плохо, а именно – Генрих Наваррский, помимо Генриха Конде, человека тоже весьма достойного.
– Этих я не знаю, – ответил хозяин.
– Зато их знаю я, – сказал Ла Моль, – а так как я направлен к королю Генриху Наваррскому, то и предлагаю не отзываться о нем плохо в моем присутствии.
Хозяин вместо ответа только прикоснулся к своему колпаку и продолжал смотреть нежным взглядом на Коконнаса.
– Стало быть, месье будет разговаривать с великим герцогом Гизом? Какой счастливец вы, месье: вы приехали, конечно, ради…
– Ради чего? – спросил Коконнас.
– Ради праздника, – ответил хозяин с особенной усмешкой.
– Вернее – ради праздников, поскольку мне говорили, что Париж захлебывается во всяких празднествах; только и слышно о пирах, балах и каруселях. Ведь в Париже много веселятся, а?
– Не очень, месье, по крайней мере до сегодняшнего дня, – ответил хозяин. – Но я надеюсь, что скоро все повеселятся.
– Все-таки свадьба его величества короля Наваррского привлекла в Париж много народа, – заметил Ла Моль.
– Много гугенотов, это верно, месье, – резко ответил Ла Юрьер, но, спохватившись, добавил: – Ах, простите, может быть, господа – тоже протестанты?
– Это я-то протестант? – воскликнул Коконнас. – Еще чего! Я такой же католик, как наш святой отец папа.
Ла Юрьер повернулся в сторону Ла Моля, как бы спрашивая и его; но Ла Моль или не понял его взгляда, или не счел нужным ответить прямо, а спросил сам:
– Если вы, мэтр Ла Юрьер, не знаете его величества короля Наваррского, то, может быть, знаете адмирала? Я слышал, что адмирал пользуется благоволением двора; а так как я ему рекомендован, я бы хотел знать, где он живет, если его адрес не раздерет вам рот.
– Он жил на улице Бетизи, отсюда вправо, – ответил хозяин с тайным удовольствием, невольно отразившимся и на его лице.
– То есть как жил ? – спросил Ла Моль. – Значит, он переехал?
– Возможно, на тот свет.
– Что значит «адмирал переехал на тот свет»? – воскликнули разом оба дворянина.
– Как, месье де Коконнас? – продолжал хозяин с хитрой усмешкой. – Вы сторонник Гиза, а не знаете?
– Чего?
– Да того, что третьего дня, когда адмирал шел по площади Сен-Жермен-Л’Озеруа мимо дома каноника Пьера Пиля, в него выстрелили из аркебузы.
– И он убит? – спросил Ла Моль.
– Нет, ему только перебило руку и оторвало два пальца, но есть надежда, что пуля была отравлена.
– Как «есть надежда», негодяй! – воскликнул Ла Моль.
– Я хотел сказать – есть слух; не будем ссориться из-за какого-нибудь слова; я просто оговорился.
И мэтр Ла Юрьер, повернувшись спиной к Ла Молю, многозначительно подмигнул Коконнасу и явно издевательски высунул язык.
– И это правда? – радостно спросил Коконнас.
– Правда? – тихо спросил Ла Моль, убитый горестным известием.
– Все так, как я имел честь сказать вам, – ответил хозяин.
– В таком случае я немедленно отправляюсь в Лувр. Найду я там короля Генриха?
– Вероятно: он там живет.
– Я тоже пойду в Лувр. А найду я там герцога Гиза?
– Возможно: он только что туда проехал, и с ним две сотни дворян.
– Ну что ж, идем, месье Коконнас, – предложил Ла Моль.
– Иду за вами, – ответил Коконнас.
– А ваш ужин, господа дворяне? – спросил мэтр Ла Юрьер.
– Ах да! – вспомнил Ла Моль. – Впрочем, я, может быть, поужинаю у короля Наваррского.
– А я – у герцога Гиза, – сказал Коконнас.
– А я, – сказал хозяин, проводив глазами своих дворян, шагавших по дороге к Лувру, – почищу мою каску, вставлю новый фитиль в аркебузу и наточу свой протазан. Мало ли что случится!
V. В частности – о Лувре, а вообще – о добродетели
Оба дворянина, спросив дорогу у первого встречного, направились по улице Аверон, потом по улице Сен-Жермен– Л’Озеруа и дошли до Лувра уже в то время, как силуэты его башен начинали расплываться в сумерках.
– Что с вами? – спросил Коконнас, когда Ла Моль остановился, со священным трепетом разглядывая представшие его глазам подъемные мосты, узкие вытянутые окна и островерхие шатры на башнях.
– Право, и сам не знаю: у меня вдруг забилось сердце, – ответил Ла Моль. – Я не так уж робок, но почему-то этот дворец мне представляется угрюмым и, сказать правду, страшным.
– А что касается меня, – ответил Коконнас, – не знаю отчего, но я на редкость весел. Вот только наряд у меня неважный, – продолжал он, оглядывая свой дорожный костюм, – но это пустяки! Зато вид бравый. Да и приказом мне вменяется быстрота исполнения. А раз я выполняю его точно, значит, и буду принят хорошо.
И оба молодых человека пошли к Лувру, настроенные по-разному, в зависимости от только что высказанных чувств.
Лувр строго охранялся, и, видимо, количество постов удвоили. Сначала это обстоятельство смутило путешественников. Но Коконнас, уже заметивший, что имя герцога Гиза действует на парижан как талисман, подошел к одному часовому и, прикрываясь этим всемогущим именем, спросил, нельзя ли через его посредство проникнуть в Лувр.
Это имя, казалось, произвело обычное действие, однако часовой спросил у Коконнаса, знает ли он пароль?
Пьемонтец должен был признаться, что не знает.
– Тогда ступайте прочь, – ответил часовой.
В эту минуту какой-то человек, беседовавший с офицером охраны, но слышавший просьбу Коконнаса, прервал свой разговор и подошел к Коконнасу.
– Што фам укодно от херцог Гиз? – спросил он.
– Мне угодно поговорить с ним, – улыбаясь, ответил Коконнас.
– Невозмошно! Херцог у короля.
– Но я получил письменное уведомление явиться в Париж.
– А-а! У вас есть письменный уведомлений?
– Да, и я приехал издалека.
– А-а! Вы приехал издалека?
– Я из Пьемонта.
– Корошо, корошо! Это другой дело. А ваш имя?
– Граф Аннибал де Коконнас.
– Корошо, корошо! Тайте ваш письмо.
– Честное слово, прелюбезный человек! – сказал Ла Моль, обращаясь к самому себе. – Не посчастливится ли и мне найти такого же, чтобы пройти к королю Наваррскому?
– Так тавайте ваш письмо, – продолжал немецкий дворянин, протягивая руку к Коконнасу, стоявшему в нерешительности.
– Дьявольщина! Я не знаю, имею ли я право… – отвечал пьемонтец, проявляя недоверчивость по своей полуитальянской природе. – Я не имею чести знать вас.
– Я Пэм, я человек херцога Гиз.
– Пэм, – пробормотал Коконнас, – такого имени я не слыхал.
– Это месье Бэм, мой командир, – ответил часовой. – Вас спутало его произношение. Отдайте ему ваше письмо, я за него ручаюсь.
– Ах, месье Бэм! – воскликнул Коконнас. – Ну как же мне не знать вас! Ну конечно, с великим удовольствием, вот мое письмо. Простите мое колебание, но без этого нельзя, если хочешь выполнить свой долг.
– Корошо, корошо, не нато извинять себя.
Ла Моль тоже подошел к немцу и обратился с просьбой:
– Месье, вы так любезны, не возьметесь ли вы передать и мое письмо, как вы это сделали по отношению к моему товарищу?
– Как ваш имя?
– Граф Лерак де Ла Моль.
– Граф Лерак де Ла Моль?
– Да.
– Такой не знаю.
– Неудивительно, что я не имею чести быть вам знаком, я не здешний и так же, как граф Коконнас, приехал только сегодня вечером и издалека.
– А откуда вы приехал?
– Из Прованса.
– С один письмо?
– Да, с письмом.
– К херцог де Гиз?
– Нет, к его величеству королю Наваррскому.
– Я не служу у короля Наваррского, – крайне холодно ответил Бэм, – я не могу передавать ваш письм.
Бэм отошел от Ла Моля и, войдя в ворота Лувра, сделал знак Коконнасу следовать за собой. Ла Моль остался в одиночестве.
В ту же минуту из других ворот Лувра выехал отряд всадников, около сотни человек.
– Ага, вот и де Муи со своими гугенотами, – сказал часовой своему товарищу. – Они сияют, король им обещал казнить того, кто стрелял в их адмирала; а так как этот парень убил и отца де Муи, то сын одним ударом отомстит за обоих.
– Простите, – обратился Ла Моль к солдату, – ведь вы, кажется, сказали, что этот командир – месье де Муи?
– Совершенно верно.
– И что сопровождающие – это…
– Нечестивцы, говорю я.
– Благодарю, – ответил Ла Моль, как будто не слыша презрительного наименования, которым наградил гугенотов часовой. – Мне только это и надо было знать.
И тотчас подошел к командиру всадников.
– Месье, – сказал Ла Моль, – я сейчас узнал, что вы – месье де Муи.
– Да, месье, – учтиво ответил командир.
– Ваше имя, хорошо известное сторонникам протестантской веры, дает мне смелость обратиться к вам с просьбой оказать мне услугу.
– Какую, месье? Но сначала – с кем имею честь говорить?
– С графом Лерак де Ла Моль.
Молодые люди обменялись приветствиями.
– Я слушаю вас, месье, – сказал де Муи.
– Я прибыл из Экса с письмом от д’Ориака, губернатора Прованса. Письмо адресовано королю Наваррскому и заключает в себе важные и спешные известия… Каким образом я мог бы передать это письмо? Как мне пройти в Лувр?
– Пройти-то в Лувр очень легко, – ответил де Муи, – только я боюсь, что король Наваррский сейчас очень занят и не сможет вас принять. Но все равно, если хотите, пойдемте со мной, и я доведу вас до его покоев. Остальное зависит уж от вас.
– Тысячу благодарностей!
– Идите за мной, – сказал де Муи.
Де Муи сошел с лошади, бросил поводья своему лакею, подошел к решетке, назвал себя часовому, провел Ла Моля в замок и, открыв дверь в покои короля Наваррского, сказал:
– Входите и узнайте сами.
Затем поклонился Ла Молю и вышел.
Оставшись в одиночестве, Ла Моль огляделся.
Передняя комната была пуста, одна из внутренних дверей открыта.
Ла Моль сделал несколько шагов и очутился в каком-то коридоре. Он стучал и звал, но никто не отзывался. Полнейшая тишина царила в этой части Лувра.
«А мне еще говорили про строгий этикет! – подумал он. – По этому дворцу можно разгуливать, как по городской площади».
Он позвал еще раз, но с тем же успехом, что и раньше.
«Ну что же, пойдем прямо, – подумал он, – в конце концов встречу же я кого-нибудь».
Ла Моль направился по коридору, все больше погружаясь в темноту, как вдруг в противоположном конце раскрылась дверь, на пороге появились два пажа с двусвечниками и осветили фигуру выходившей дамы, величавой и замечательно красивой.
Сноп света упал прямо на Ла Моля, который замер на месте.
Дама тоже остановилась, увидев Ла Моля.
– Месье, что вам угодно? – спросила она, и голос ее показался молодому человеку прелестной музыкой.
– О мадам, прошу вас извинить меня, – сказал Ла Моль, потупив взор, – месье де Муи проводил меня сюда и ушел, а я ищу короля Наваррского.
– Его величества здесь нет; мне кажется, он у своего шурина. Но, за его отсутствием, вы разве не могли бы передать королеве…
– Да, конечно, если бы кто-нибудь соблаговолил представить меня ей.
– Вы перед ней, месье.
– Как?! – воскликнул Ла Моль.
– Я королева Наваррская, – ответила Маргарита.
На лице Ла Моля вдруг появилось такое выражение испуга и растерянности, что королева улыбнулась:
– Месье, говорите поскорее, а то меня ждут у королевы-матери.
– О мадам, если вас ждут, то разрешите мне удалиться – сейчас я не в силах говорить. Я не могу собраться с мыслями – я вами просто ослеплен. Я уже не мыслю, а только любуюсь.
Во всем обаянии прелести и красоты Маргарита подошла к молодому человеку, оказавшемуся, помимо своей воли, придворным утонченным льстецом.
– Месье, придите в себя, – сказала она. – Я подожду, и меня тоже подождут.
– О, простите мне, мадам, что я с самого начала не приветствовал ваше величество со всей почтительностью, какую вы вправе ожидать от одного из ваших покорнейших слуг, но…
– Но, – продолжила Маргарита, – вы приняли меня за одну из моих придворных дам.
– Нет, мадам, за призрак красавицы Дианы де Пуатье. Мне говорили, что он появляется в Лувре.
– Знаете, месье, после этого я за вас не беспокоюсь – вы сделаете карьеру при дворе. Вы говорите, у вас есть письмо для короля? Сейчас вам с ним не увидеться. Но это все равно. Где письмо? Я передам… Только, прошу вас, поскорее.
В один миг Ла Моль распустил шнурки у своего колета и вынул из-за пазухи письмо, завернутое в шелк.
Маргарита взяла письмо и прочла надпись.
– Вы месье де Ла Моль? – спросила она.
– Да, мадам. Боже мой! Откуда мне такое счастье, что вашему величеству известно мое имя?
– Я слышала, как его упоминали и король, мой муж, и брат мой, герцог Алансонский. Я знаю, что вас ждут.
Королева спрятала за тугой от вышивок и алмазных украшений свой корсаж письмо, только что лежавшее за колетом молодого человека и еще теплое теплом его груди. Ла Моль жадным взглядом следил за каждым движением Маргариты.
– Теперь, месье, спуститесь в галерею и ждите там, пока к вам не придут от короля Наваррского или герцога Алансонского. Мой паж проводит вас.
Отдав это распоряжение, Маргарита проследовала дальше. Ла Моль встал к стене, но коридор оказался слишком узок, а фижмы королевы Наваррской так широки, что ее шелковое платье коснулось молодого человека, и в то же время аромат крепких духов наполнил все пространство, где она прошла.
Ла Моль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене.
Маргарита исчезла, как видение.
– Месье, вы пойдете? – спросил паж, которому было поручено проводить Ла Моля в нижнюю галерею.
– Да, да! – воскликнул Ла Моль восторженно, видя, что паж указывает рукой в том направлении, в каком проследовала королева Маргарита, а он надеялся нагнать ее и еще раз увидеть.
В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спустившуюся в нижний этаж; случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он ее увидел еще раз.
– О, это не простая смертная женщина, – прошептал Ла Моль, – а богиня, и, как сказал Вергилий Марон: «Et vera incessu patuit dea». [24]
– Что же вы? – спросил паж.
– Иду, иду, простите, – ответил Ла Моль.
Паж пошел вперед, спустился в следующий этаж, отворил одну дверь, потом другую и, остановившись на пороге, сказал:
– Ждите здесь.
Ла Моль вошел в галерею, и дверь за ним закрылась. В галерее было пусто, только какой-то дворянин прогуливался взад и вперед и, видимо, тоже ожидал.
Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь двадцати шагов, разделявших их, не могли разглядеть один другого.
Ла Моль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе:
– Господи, помилуй! Ведь это граф Коконнас.
Пьемонтец обернулся на звук шагов и стал разглядывать Ла Моля с не меньшим изумлением.
– Черт меня побери, если это не месье де Ла Моль! Тьфу, что я делаю! Ругаюсь у короля в доме! А впрочем, и сам король ругается, пожалуй, еще почище, даже в церкви. Значит, мы оба попали в Лувр?
– Как видите; а вас провел Бэм?
– Да! Прелюбезный немец этот Бэм. А кто же провел вас?
– Месье де Муи… Я говорил вам, что гугеноты тоже немало значат при дворе… Что ж, повидали вы герцога Гиза?
– Еще нет… А вы получили аудиенцию у короля Наваррского?
– Нет, но должен получить. Меня провели сюда и сказали подождать.
– Вот увидите, это пахнет парадным ужином, и мы окажемся рядом на этом пиршестве. Действительно, какая игра случая! В течение двух часов судьба все время сводит нас… Но что с вами? Вы словно чем-то озабочены?
– Кто, я? – вздрогнув, спросил Ла Моль, все еще завороженный видением, представшим перед ним. – Нет, но само место, где мы находимся, вызывает во мне целый сонм размышлений.
– Философических, не правда ли? И у меня тоже. Как раз когда вошли вы, мне приходили на ум все наставления моего учителя. Граф, вы знаете Плутарха?
– Ну как же! – улыбаясь, отвечал Ла Моль. – Это один из самых любимых моих авторов.
– Так вот, по-моему, – серьезно продолжал Коконнас, – этот великий человек не преувеличил, когда сравнивал наши природные способности с цветами, ослепительно яркими, но преходящими, тогда как в добродетели он видит растение бальзамическое, с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство для душевных ран.
– Месье Коконнас, вы разве знаете греческий язык? – спросил Ла Моль, пристально глядя на собеседника.
– Нет, но мой учитель знал, и он-то мне советовал побольше рассуждать о добродетели, если я буду при дворе. Это, говорил он, очень похвально. Так что, предупреждаю вас, по этой части я хорошо подкован. Кстати, вы не проголодались?
– Нет.
– А мне казалось, что в «Путеводной звезде» вас очень манила курица на вертеле; я лично умираю от истощения.
– Вот вам, месье Коконнас, отличный случай применить к делу ваши доводы в пользу добродетели и доказать ваше преклонение перед Плутархом, ибо этот великий писатель где-то говорит: «Полезно упражнять душу горем, а желудок – голодом» – «Prepon esti t?n men psuch?n odun? ton de gast?ra sem? aske?n».
– Вот как, значит, вы знаете греческий язык? – в полном изумлении воскликнул Коконнас.
– Честное слово, да! – ответил Ла Моль. – Меня мой учитель выучил.
– Дьявольщина! Ваша судьба, граф, обеспечена: вы будете с королем Карлом сочинять стихи, а с королевой Маргаритой говорить по-гречески.
– А еще могу говорить по-гасконски с королем Наваррским, – добавил, смеясь, Ла Моль.
В эту минуту в конце галереи, примыкавшей к покоям короля, отворилась дверь, раздались шаги, и из темноты стала надвигаться чья-то тень. Тень приняла образ человеческого тела, а тело оказалось принадлежащим командиру стражи – Бэму.
Он в упор поглядел на лица обоих молодых людей, чтобы узнать своего, и жестом пригласил Коконнаса следовать за собой. Коконнас сделал рукой прощальный знак Ла Молю, и они расстались.
Бэм провел Коконнаса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы.
Тут Бэм остановился, посмотрел кругом и спросил:
– Месье де Коконнас, вы где живет?
– В гостинице «Путеводная звезда», на улице Арбр-сек.
– Корошо, корошо! Эта два шаг от сдесь… идить скоро в ваш гостиница и в этот ночь…
Он снова огляделся.
– Так что же в эту ночь? – спросил Коконнас.
– Так в этот ночь, – ответил он шепотом, – ви ходить сюда с белый крест на ваш шляпа. Пароль для пропуск будет «Гиз». Тс! Ни звук!
– А в котором часу должен я прийти?
– Когда вы услышить напат.
– Какой «напат»? – спросил Коконнас.
– Ну да, напат: пум! пум! пум!..
– А-а, набат!
– Так я и сказал.
– Хорошо, приду, – ответил Коконнас.
Он попрощался с Бэмом и пошел прочь, рассуждая сам с собой: «Какого черта все это значит и почему будут бить в набат? Все равно, я остаюсь при своем мнении, что этот Бэм – очаровательный немец. А не подождать ли мне графа де Ла Моль? Нет, не стоит: он, может быть, останется ужинать у короля Наваррского».
И Коконнас пошел прямо на улицу Арбр-сек, куда его тянула как магнит вывеска «Путеводной звезды». Пока Бэм беседовал с пьемонтцем, в галерее отворилась другая дверь, со стороны покоев короля Наваррского, и к Ла Молю подошел паж.
– Это вы – граф де Ла Моль? – спросил он.
– Он самый.
– Где вы живете?
– На улице Арбр-сек, в «Путеводной звезде».
– Хорошо, это рядом с Лувром. Слушайте! Его величество просил вам передать, что сейчас ему нельзя принять вас, но, может быть, он этой ночью пошлет за вами. Во всяком случае, если завтра утром вы не получите от него никакого извещения, приходите сюда, в Лувр.
– А если часовой меня не впустит?
– Да, правда… Пароль – «Наварра». Скажите это слово, и перед вами откроются все двери.
– Благодарю!
– Подождите, мне приказано проводить вас до самой железной решетки входа, чтобы вы не заблудились в Лувре.
«Да! А как же Коконнас? – сказал себе Ла Моль, уже выйдя из Лувра. – Впрочем, он останется на ужин у герцога Гиза».
Но первый, кого он увидел, входя к мэтру Ла Юрьер, был Коконнас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом.
– Ха, ха, ха! – расхохотался Коконнас. – Видать, вы так же пообедали у короля Наваррского, как я поужинал у герцога Гиза.
– По чести, так!
– И вы проголодались?
– Еще бы!
– Несмотря на Плутарха?
– Граф, у Плутарха есть и другое место, – смеясь, отвечал Ла Моль, – а именно: «Имущий должен делиться с неимущим». Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яичницей, и мы за трапезой побеседуем о добродетели.
– Нет, даю слово, – ответил Коконнас, – все это хорошо в Лувре, когда боишься, что тебя подслушивают, и когда в желудке пусто. Садитесь и давайте ужинать.
– Теперь и я окончательно уверился, что судьба связала нас неразрывно. Вы будете спать здесь?
– Ничего не знаю.
– И я тоже.
– Я хорошо знаю только одно – где я проведу ночь.
– Где?
– Там же, где и вы, это ведь неизбежно.
Оба расхохотались и принялись за яичницу мэтра Ла Юрьер.
VI. Долг платежом красен
Теперь, если читатель любопытствует, почему король Наваррский не мог принять Ла Моля, почему Коконнас не мог увидеться с Гизом и, наконец, почему оба дворянина, вместо того чтобы поужинать в Лувре дикой козой, фазанами и куропатками, ели яичницу с салом в гостинице «Путеводная звезда», то пусть любезный читатель войдет вместе с нами в старинное жилище королей и последует за Маргаритой Наваррской, которую Ла Моль потерял из виду у входа в большую галерею.
В то время как Маргарита спускалась с лестницы, в кабинете короля находился герцог Гиз, которого она еще не видела со времени своей брачной ночи. Лестница, по которой спускалась Маргарита, выходила в коридор; в этот же коридор вела и дверь из кабинета короля, а коридор упирался в покои королевы-матери, Екатерины Медичи.
Екатерина одна сидела у стола, опершись локтем на раскрытый Часослов и поддерживая голову рукой, замечательно еще красивой благодаря косметикам флорентийца Рене, исполнявшего при королеве-матери две должности – отравителя и парфюмера.
Вдова Генриха II была одета в траур, которого ни разу не снимала со дня смерти своего мужа. В это время ей было года пятьдесят два – пятьдесят три, но благодаря еще свежей полноте Екатерина сохранила черты былой красоты своей молодости. Так же, как и наряд, ее жилище имело вдовий вид. Вся обстановка была мрачной: стены, ткани, мебель. Только по верху балдахина, устроенного над самым королевским креслом, была написана живыми красками радуга, а вокруг нее греческий девиз, сочиненный королем Франциском I: «Ph?s pherei? de kai aithz?n», что в переводе значит: «Источник ясности и света». Теперь на этом кресле лежала любимая левретка королевы-матери, подаренная ей зятем, королем Наваррским, и носившая мифологическое имя – Феба.
И вот когда Екатерина Медичи, казалось, всецело погрузилась в думу, вызывавшую ленивую и робкую улыбку на ее устах, подкрашенных кармином, вдруг какой-то мужчина открыл дверь, приподнял портьеру и, высунув из-за нее свое бледное лицо, сказал:
– Дело плохо.
Екатерина приподняла голову и увидела герцога Гиза.
– Как, дело плохо?! – ответила она. – Что это значит?
– Это значит, что король больше чем когда-либо околпачен своими проклятыми гугенотами, и если мы станем ждать его отъезда, чтобы осуществить наш замысел, то нам придется ждать еще долго, может быть, всю нашу жизнь.
– Что же случилось? – спросила Екатерина с обычным выражением спокойствия на своем лице, хотя при случае умела придавать ему совсем другие выражения.
– Я только что был у короля и в двадцатый раз завел с ним разговор о том, долго ли нам терпеть все выходки, которые позволяют себе эти господа из новой церкви со дня ранения их адмирала.
– Что же ответил вам мой сын?
– Он ответил: «Герцог, народ, конечно, подозревает, что вы вдохновитель покушения на жизнь адмирала, второго моего отца; защищайтесь как хотите. А я и сам сумею защититься, если оскорбят меня…» С этими словами он повернулся ко мне спиной и отправился кормить ужином своих собак.
– И вы не попытались удержать его?
– Пытался, но король, бросив на меня взгляд, свойственный одному ему, ответил хорошо вам известным тоном: «Герцог, собаки мои проголодались, а они не люди, и я не могу заставлять их ждать…» После чего я пошел предупредить вас.
– И хорошо сделали, – ответила Екатерина.
– Но что нам предпринять?
– Сделать последнюю попытку.
– А кто сделает ее?
– Я. Король один?
– Нет, у него Таван.
– Подождите меня здесь. Нет, лучше следуйте за мной, но издали.
Екатерина тотчас встала и направилась в комнату, где любимые борзые короля лежали на турецких коврах и бархатных подушках. На жердочках, прикрепленных к стене, сидели два или три отборных сокола и небольшая пустельга, которой Карл IX любил травить мелких птичек в садах Лувра и строящегося Тюильри.
По дороге королева-мать придала своему бледному лицу выражение тоскливой грусти, украсив его якобы последней, еще не высохшей слезой, а на самом деле первой и единственной.
Она бесшумно подошла к Карлу IX, раздававшему собакам остатки пирога, нарезанного ровными ломтями.
– Сын мой! – обратилась к нему Екатерина с дрожью в голосе, так хорошо наигранной, что король невольно вздрогнул.
– Мадам, что с вами? – спросил король, быстро обернувшись.
– Сын мой, я прошу вашего разрешения уехать в один из ваших замков, все равно какой, лишь бы он был подальше от Парижа.
– А по какой причине, мадам? – спросил Карл IX, пристально глядя на нее своим стеклянным взором, который в других случаях бывал проникновенным.
– По той причине, что с каждым днем меня все больше оскорбляют эти люди из новой церкви, и потому, что еще сегодня я слышала, как гугеноты грозили лично вам здесь, в самом Лувре, а я не хочу быть свидетельницей такого рода сцен.
– Но ведь кто-то хотел убить их адмирала, – ответил Карл IX голосом, в котором звучала искренняя убежденность. – Какой-то мерзавец уже лишил этих бедных людей их мужественного де Муи. Клянусь жизнью, матушка! В королевстве должно быть правосудие!
– О, не беспокойтесь, сын мой, – ответила Екатерина, – они не останутся без правосудия: если откажете в нем вы, то они сами совершат его по-своему: сегодня убьют Гиза, завтра меня, а потом и вас.
– Вот что! – ответил Карл IX, и в его голосе впервые послышалась нотка подозрения. – Вы так думаете?
– Ах, сын мой, – продолжала Екатерина, всецело отдаваясь бурному течению своих мыслей, – неужели вы не понимаете, что дело не в смерти Франсуа Гиза или адмирала, не в протестантской или католической религии, а в том, чтобы сына Генриха Второго заменить сыном Антуана Бурбона?
– Ну, ну, матушка, вы опять впадаете в свойственные вам преувеличения, – ответил Карл.
– Каково же ваше мнение, мой сын?
– Выжидать, матушка, выжидать! В этом – вся человеческая мудрость. Самый великий, самый сильный, самый ловкий тот, кто умеет ждать.
– Ждите, но я ждать не стану.
С этими словами Екатерина сделала реверанс, подошла к двери и хотела идти в свои покои, но Карл остановил ее, сказав:
– В конце концов, что я могу сделать?! Прежде всего я справедлив и хочу, чтобы все были мной довольны.
Екатерина вернулась и сказала Тавану, все это время ласкавшему королевскую пустельгу:
– Граф, подойдите к нам и выскажите королю ваше мнение о том, что надо делать.
– Ваше величество, разрешите? – спросил граф.
– Говори, Таван, говори.
– Ваше величество, как поступаете вы на охоте, если на вас бросается кабан?
– Черт возьми! Я его напускаю на себя и всаживаю ему в глотку свою рогатину.
– И только для того, чтобы он вас не ранил, – заметила Екатерина.
– И ради наслаждения, – ответил король с таким вздохом, который свидетельствовал об удальстве, легко переходившем в зверство. – Но убивать своих подданных мне не доставило бы наслаждения, а гугеноты такие же мои подданные, как и католики.
– Тогда, сир, – ответила Екатерина, – ваши подданные гугеноты поступят, как кабан, которому не всадили рогатины в горло: они вам вспорют ваш трон.
– Ба! Это, матушка, так думаете вы, – ответил король, показывая всем своим видом, что он не очень верит предсказаниям своей матери.
– Разве вы не видели сегодня де Муи и всех его приспешников?
– Конечно, видел, раз я пришел сюда от них. А разве он требовал чего-нибудь несправедливого? Он просил меня казнить убийцу его отца, злоумышлявшего и на жизнь адмирала. Разве мы не наказали Монтгомери за смерть вашего супруга, а моего отца, хотя его смерть – просто несчастный случай?
– Хорошо, сир, бросим этот разговор, – ответила задетая за живое королева-мать. – Сам господь бог хранит ваше величество, даруя вам силу, мудрость и уверенность; а я, бедная женщина, оставленная богом, конечно, за мои грехи, страшусь и покоряюсь.
И, сделав еще раз реверанс, она дала знак герцогу Гизу, вошедшему к королю во время разговора, чтобы он занял ее место и сделал последнюю попытку.
Карл IX проводил глазами свою мать, но не позвал ее назад; затем он начал ласкать собак, насвистывая охотничью песню.
Вдруг он прервал свое занятие и сказал:
– У моей матери настоящий королевский ум: у нее нет ни колебаний, ни сомнений. Не угодно ли взять да убить несколько дюжин гугенотов за то, что они явились просить о правосудии! В конце концов, разве это не их право?
– Несколько дюжин, – тихо повторил герцог Гиз.
– А-а, вы здесь, герцог! – сказал король, сделав вид, что только сейчас его увидел. – Да, несколько дюжин; невелика убыль! Вот если бы кто-нибудь пришел ко мне и сказал: «Сир, вы разом будете избавлены от всех врагов, и завтра не останется из них ни одного, который мог бы упрекнуть вас за смерть всех остальных», – ну, тогда другое дело!
– Сир… – начал герцог Гиз.
– Таван, оставьте Марго, посадите ее на жердочку, – прервал герцога король, – она носит имя моей сестры, королевы Наваррской, но это еще не причина, чтобы все ее ласкали.
Таван посадил пустельгу на жердочку и занялся борзой собакой.
– Сир, – снова заговорил герцог Гиз, – так если бы вашему величеству сказали: «Ваше величество, завтра вы будете избавлены от всех ваших врагов…»
– Предстательством какого же святого свершится это чудо?
– Сир, сегодня двадцать четвертое августа, праздник святого Варфоломея, следовательно, его предстательством все и совершится.
– Превосходный святой пошел на то, что с него заживо содрали кожу! – ответил король.
– Тем лучше! Чем больше его мучили, тем больше у него должно быть злобы против своих мучителей.
– И это вы, кузен мой, вы, вашей шпажонкой с золотым эфесом, перебьете сегодня за ночь десять тысяч гугенотов? Ха-ха-ха! Клянусь смертью, ну и забавник вы, месье де Гиз!
И король расхохотался, но хохот был неестественный и прокатился по комнате каким-то зловещим эхом.
– Сир, одно слово, только одно! – убеждал герцог, затрепетав от этого смеха, звучавшего нечеловечески. – Один ваш знак – и все уже готово. У меня есть швейцарцы, тысяча сто дворян, легкая конница и горожане; у вашего величества – личная охрана, друзья и католическая знать… Нас двадцать против одного.
– Так что ж, мой кузен, раз вы так сильны, какого же черта вы приходите жужжать мне об этом в уши? Пробуйте, пробуйте, но без меня.
И король отвернулся к своим собакам. Портьера приподнялась, из-за нее показалась голова Екатерины.
– Все хорошо, – шепнула она Гизу, – настаивайте, и он уступит.
И портьера снова опустилась, но король этого не заметил или сделал вид, что не заметил.
– Поистине, кузен мой Генрих, вы пристаете ко мне с ножом к горлу; но, черт возьми, я не поддамся! Разве я не король?
– Пока нет, сир; но вы будете им завтра, если захотите.
– Ах, вот как! Значит, убьют и короля Наваррского, и принца Конде… у меня в Лувре!.. Фу! – Затем король чуть слышно добавил: – За его стенами – другое дело.
– Сир! – воскликнул герцог Гиз. – Сегодня вечером они идут кутить вместе с вашим братом, герцогом Алансонским.
– Таван, – сказал король с прекрасно наигранным раздражением, – неужели вы не видите, что злите мою собаку! Идем, Актеон, идем!
И, не желая больше слушать, Карл ушел к себе, оставив Тавана и герцога Гиза почти в прежней неизвестности.
В это же время у Екатерины Медичи разыгрывалась другая сцена; посоветовав герцогу Гизу держаться твердо, Екатерина вернулась в свои покои, где застала всех лиц, обычно присутствующих при отходе ее ко сну. Она пришла от короля уже с другим выражением лица, не мрачным, как было при ее уходе, а веселым; очень любезно отпустила одного за другим своих придворных дам и кавалеров; и вскоре у нее осталась лишь королева Маргарита, которая, задумавшись, сидела у открытого окна, глядя на небо.
Уже два или три раза, оставаясь наедине с дочерью, королева-мать приоткрывала губы, чтобы заговорить, и каждый раз мрачная мысль останавливала в ее груди слова, готовые сорваться.
В это время портьера на двери приподнялась, и вошел Генрих Наваррский. Екатерина вздрогнула.
– Это вы, сын мой? Разве вы ужинаете в Лувре?
– Нет, мадам, герцог Алансонский, принц Конде и я идем шататься по городу. Я был почти уверен, что застану их здесь, любезничающих с вами.
Екатерина улыбнулась.
– Ну что ж, идите, идите… Какие счастливцы мужчины, что могут ходить куда угодно… Правда, дочь моя?
– Да, правда; как прекрасна и заманчива свобода, – ответила Маргарита.
– Вы хотите сказать, мадам, что я стесняю вашу свободу? – сказал Генрих, склоняясь перед женой.
– Нет, месье: я болею не за себя, а за положение женщины вообще.
– Сын мой, вы, может быть, увидитесь и с адмиралом? – спросила королева-мать.
– Может быть, да.
– Пойдите к нему, это послужит примером для других; а завтра вы мне расскажете, что с ним.
– Раз вы, мадам, одобряете этот поступок, я, разумеется, зайду к нему.
– Я ничего не одобряю… Кто там еще? Не пускайте, не пускайте!
Генрих уже пошел к двери, чтобы исполнить приказание Екатерины, но в это мгновение портьера приподнялась и показалась белокурая головка мадам де Сов.
– Мадам, это парфюмер Рене: ваше величество приказали ему прийти.
Екатерина бросила мгновенный взгляд на Генриха.
Услышав имя убийцы своей матери, юный король слегка покраснел, а затем почти сейчас же смертельно побледнел. Он сообразил, что лицо выдает его волнение, отошел к окну и прислонился к подоконнику.
Маленькая левретка залаяла, и в тот же миг вошли двое: тот, о ком доложили, и дама, не нуждавшаяся в докладе.
Первым вошел парфюмер Рене с вкрадчивой учтивостью флорентийских слуг; в руках он нес ящик с открытой крышкой, перегороженный на отделения, где стояли флаконы и коробки с пудрой.
За ним следовала старшая сестра Маргариты, герцогиня Лотарингская. Она вошла в потайную дверь, сообщавшуюся с кабинетом короля, дрожа всем телом, бледная как смерть. Герцогиня надеялась, что королева-мать, занявшись вместе с мадам де Сов осмотром того, что было в принесенном ящике, не заметит ее прихода, и села рядом с Маргаритой, около которой стоял король Наваррский, прикрыв лоб рукой, в позе человека, приходящего в себя от головокружения. Но Екатерина обернулась и сказала Маргарите:
– Дочь моя, вы можете идти к себе. А вы, мой сын, идите развлекаться в город.
Маргарита встала; Генрих тоже собрался уходить.
Герцогиня Лотарингская схватила Маргариту за руку.
– Сестра, – заговорила она торопливым шепотом, – от имени герцога Гиза, который хочет спасти вам жизнь за то, что вы спасли его, – не ходите к себе, останьтесь здесь!
– Вы что говорите, Клод? – спросила Екатерина, оборачиваясь к дочери.
– Ничего, мама.
– Вы что-то сказали Маргарите шепотом.
– Я только пожелала ей доброй ночи и передала сердечный привет от герцогини Невэрской.
– А где сейчас эта красавица герцогиня?
– У своего деверя, герцога Гиза.
Екатерина подозрительно глянула на обеих сестер и нахмурилась.
– Клод, подойди ко мне! – приказала она дочери.
Клод подошла, и Екатерина взяла ее за руку.
– Что вы ей сказали?.. Болтунья! – проворчала королева-мать, стиснув до боли руку дочери.
Генрих хотя не слышал слов, но хорошо заметил немую игру, происходившую между Екатериной, Клод и Маргаритой, и, обращаясь к своей жене, сказал:
– Мадам, окажите мне честь и разрешите поцеловать вам руку.
Маргарита протянула ему свою трепещущую руку.
– Что она сказала? – прошептал он, наклоняя голову к руке жены.
– Не выходить из Лувра. Заклинаю вас небом, не выходите и вы.
Эти слова сверкнули молнией, и, несмотря на мгновенность ее вспышки, Генрих увидел целый заговор.
– Еще не все, – сказала Маргарита, – вот вам письмо, которое привез один провансальский дворянин.
– Ла Моль?
– Да.
– Спасибо, – сказал Генрих, взяв письмо и спрятав его за колет.
И, отходя от своей растерянной жены, он хлопнул флорентийца по плечу.
– Ну как идет ваша торговля, мэтр Рене? – спросил Генрих.
– Неплохо, ваше величество, неплохо, – ответил отравитель с предательской улыбкой.
– Еще бы, когда состоишь поставщиком почти всех коронованных особ Франции и чужих земель, – сказал король Наваррский.
– Кроме короля Наваррского, – нагло ответил флорентиец.
– Святая пятница! Вы правы, мэтр Рене; а ведь бедная мать моя, ваша покупательница, умирая, рекомендовала вас, мэтр Рене, моему вниманию. Зайдите ко мне завтра или послезавтра и принесите ваши лучшие парфюмерные изделия.
– Это не вызовет косых взглядов, – с улыбкой заметила Екатерина, – говорят, что…
– У меня карман тощий, – смеясь, ответил Генрих. – Кто вам сказал об этом, матушка? Уж не Марго ли?
– Нет, сын мой, мадам де Сов.
В эту минуту герцогиня Лотарингская, несмотря на все свои усилия, все-таки не могла сдержать себя и разрыдалась. Генрих Наваррский даже не обернулся.
– Сестра, что с вами? – воскликнула Маргарита и бросилась к сестре.
– Пустяки, – сказала Екатерина, становясь между двумя молодыми женщинами, – пустяки; у нее бывают нервные припадки, и врач Мазилло советовал лечить ее благовониями. – И Екатерина еще сильнее, чем в первый раз, сжала руку старшей дочери; затем, обернувшись к младшей, сказала: – Марго, вы разве не слыхали, что я предложила вам идти к себе? Если этого недостаточно, то я повелеваю вам.
– Простите меня, мадам, – ответила бледная, трепещущая Маргарита, – желаю доброй ночи вашему величеству.
– Надеюсь, что ваше пожелание исполнится. До свидания, до свидания.
Маргарита старалась, но напрасно, уловить взгляд своего мужа, – он даже не повернулся в ее сторону, и Маргарита вышла, едва удерживаясь на ногах.
Наступило молчание. Екатерина устремила пронизывающий взор на герцогиню Лотарингскую, которая смотрела на мать, не говоря ни слова, и умоляюще сжимала свои руки.
Генрих стоял спиной к ним, но наблюдал всю сцену в зеркале, делая вид, что помадит усы помадой, преподнесенной ему услужливым Рене.
– А вы, Генрих, не раздумали идти в город? – спросила Екатерина.
– Ах да, правда! – воскликнул король Наваррский. – Честное слово, я совсем забыл, что меня ждут герцог Алансонский и принц Конде! А все из-за этих замечательных духов, они одурманили меня и отбили память. До свидания, мадам.
– До свидания! А завтра вы известите меня о здоровье адмирала, да?
– Не премину, мадам. Ну, Феба, что с тобой?
– Феба! – сердито крикнула Екатерина.
– Отзовите ее, мадам, а то она не хочет выпускать меня.
Королева-мать встала, взяла собаку за ошейник и держала, пока не вышел Генрих, а уходил он с таким веселым и спокойным выражением лица, как будто в глубине души не чувствовал нависшую над ним смертельную опасность.
Собачка, отпущенная Екатериной, бросилась вслед за ним, но дверь уже закрылась; тогда Феба просунула свою длинную мордочку под портьеру и жалобно завыла.
– Теперь, Карлотта, – сказала баронессе де Сов Екатерина, – сходите за Гизом и Таваном – они в моей молельне; вернитесь с ними и побудьте с герцогиней Лотарингской, у нее опять головокружение.
VII. Ночь 24 августа 1572 года
Так как в гостинице «Путеводная звезда» жареные куры существовали только на вывеске, то Ла Моль и Коконнас быстро закончили свой скудный ужин; Коконнас повернул на одной ножке свой стул в четверть оборота, вытянул ноги, оперся локтем о стол и, допивая последний стакан вина, спросил:
– Месье Ла Моль, вы намерены теперь же идти спать?
– По правде говоря, очень хочется поспать, а то как бы не пришли за мной ночью.
– И за мной тоже, – ответил Коконнас, – но, мне думается, лучше не ложиться и не заставлять ждать тех, кто пришлет за нами, а попросить карты и провести это время за игрой. Таким образом, когда придут за нами, мы будем уже готовы.
– Я с удовольствием принял бы ваше предложение, но для игры у меня слишком мало денег; едва ли наберется сто золотых экю, да и те – все мое богатство. С ним я должен теперь устраивать свою судьбу.
– Сто экю золотом! – воскликнул Коконнас. – И вы еще плачетесь! Дьявольщина! У меня всего-навсего шесть.
– Рассказывайте! – возразил Ла Моль. – Я видел, как вы вынимали из кармана кошелек, он был не только полон, а, можно сказать, битком набит.
– А! Эти деньги, – сказал Коконнас, – пойдут в уплату давнишнего долга одному старому другу моего отца, как я подозреваю, тоже гугеноту, вроде вас. Да, тут сто ноблей с розой, – заявил Коконнас, хлопнув себя по карману, – но эти нобли принадлежат мэтру Меркандон; моя же личная собственность состоит, как я сказал, из шести экю.
– Какая же тут игра?
– А вот потому, что денег мало, я и хотел сыграть. Кроме того, мне пришла в голову одна мысль.
– А именно?
– Мы оба приехали в Париж с одной и той же целью.
– Да.
– У каждого из нас есть могущественный покровитель.
– Да.
– Я могу положиться на своего так же, как вы на вашего.
– Да.
– Вот мне и пришла в голову мысль сначала сыграть на деньги, а потом на первую благостыню, которую получим от двора или от возлюбленной.
– Действительно, хорошо придумано! – заметил, смеясь, Ла Моль. – Но, признаюсь, я не такой страстный игрок, чтобы ставить всю свою жизнь в зависимость от карт или очков в кости, потому что первая благостыня, полученная вами или мной, вероятно, определит течение всей нашей жизни.
– Хорошо! Оставим первую благостыню от двора и будем играть на первую благостыню от возлюбленной.
– Есть одно препятствие, – возразил Ла Моль.
– А именно?
– У меня нет никакой возлюбленной.
– И у меня тоже, но я рассчитываю быстро обзавестись ею. Слава богу, мы не так скроены, чтобы страдать от недостатка в женщинах.
– Вы-то, месье Коконнас, конечно, не будете терпеть в них недостатка; я же не так уверен в своей звезде любви и боюсь обокрасть вас, поставив против вашего заклада свой. Давайте играть на ваши шесть экю, а если вы, на ваше горе, их проиграете и захотите продолжать игру, то вы ведь дворянин, и ваше слово равноценно золоту.
– Ну и отлично! Вот это разговор! – воскликнул Коконнас. – Вы совершенно правы; слово дворянина равноценно золоту, особенно если этот дворянин пользуется доверием двора. Поэтому не думайте, что я слишком зарываюсь, играя с вами на первую благостыню, которую я, наверно, получу.
– Да, вы-то можете проиграть ее, но я-то ее выиграть не могу, потому что я служу королю Наваррскому и ничего не могу получить от герцога Гиза.
– Ага, еретик! Я сразу тебя почуял, – пробурчал хозяин, начищая старую каску. И, прервав свою работу, перекрестился.
– Вот как, – сказал Коконнас, мешая карты, принесенные слугой, – значит, вы…
– Что?
– Протестант.
– Я?
– Да.
– Ну, предположим, что это так, – ответил, усмехнувшись, Ла Моль. – Вы что-нибудь имеете против нас?
– О, слава богу – нет. Мне все равно. Я от всей души ненавижу гугенотскую мораль, но не самих гугенотов, а кроме того, они теперь в чести.
– Да, – ответил с улыбкой Ла Моль, – доказательство этому – салют из аркебузы адмиралу! Не доиграемся ли и мы до выстрелов?
– До чего угодно, – ответил Коконнас, – мне лишь бы играть, а там все равно – на что.
– Ну что ж, давайте играть, – сказал Ла Моль, собирая и тасуя карты.
– Да, играйте, не сомневаясь; даже если я проиграю сто экю против ста ваших, завтра же утром я найду чем заплатить.
– Значит, вы разбогатеете во сне?
– Нет, я пойду и найду деньги.
– Скажите где? Я пойду с вами!
– В Лувре.
– Разве вы пойдете туда сегодня ночью?
– Да, в эту ночь у меня будет особая аудиенция у великого герцога Гиза.
Еще когда Коконнас заявил, что пойдет за деньгами в Лувр, Ла Юрьер бросил чистить каску и встал за стулом Ла Моля так, что его мог видеть один Коконнас, и начал делать ему знаки из-за спины Ла Моля, но пьемонтец их не замечал, поглощенный игрой и разговором.
– Да это просто сверхъестественно! – сказал Ла Моль. – Вы были правы, говоря, что мы родились под одной звездой. У меня тоже свидание в Лувре этой ночью, но только не с герцогом Гизом, а с королем Наваррским.
– А вы знаете пароль?
– Да.
– А сигнал для сбора?
– Нет.
– Ну, а я знаю. У меня пароль…
Говоря эти слова, пьемонтец поднял голову, и в тот же миг Ла Юрьер сделал ему знак до такой степени выразительный, что болтливый дворянин сразу оборвал речь, остолбенев от этой мимики гораздо больше, чем от потери ставки в три экю. Ла Моль, заметив состояние партнера по его лицу, обернулся, но не увидел ничего, кроме хозяина, стоявшего позади него со скрещенными на груди руками и в той каске, которую чистил Ла Юрьер за минуту перед тем.
– Что с вами? – спросил Ла Моль Коконнаса.
Коконнас молча поглядывал то на хозяина, то на партнера, так как не мог понять, в чем дело, несмотря на новые жесты мэтра Ла Юрьер.
Ла Юрьер смекнул, что необходима его помощь.
– Штука в том, что я сам любитель игры в карты, – сказал он Ла Молю, – я и подошел взглянуть на ваш ход, которым вы выиграли, а граф вдруг увидал на голове простого горожанина боевой шлем, ну и удивился.
– Действительно, хороша фигура! – воскликнул Ла Моль, заливаясь смехом.
– Эх, месье! – сказал Ла Юрьер, хорошо разыгрывая добродушие и пожимая плечами в сознании своего ничтожества. – Конечно, мы не вояки, и нет в нас настоящей выправки. Это хорошо вам, бравым дворянам, сверкать золочеными касками да тонкими рапирами, а наше дело – отбыть свое время в карауле.
– Так, так! – сказал Ла Моль, тасуя, в свою очередь, карты. – Вы разве ходите в караул?
– Да, граф, приходится! Я ведь сержант в одном отряде городской милиции, – сказал Ла Юрьер и, пока Ла Моль сдавал карты, тихонько удалился, приложив палец к губам, как указание совершенно растерявшемуся Коконнасу, чтоб он не проболтался.
Необходимость быть настороже привела к тому, что Коконнас проиграл вторую ставку так же быстро, как и первую.
– Ну вот и все ваши шесть экю! Хотите отыграться в счет ваших будущих благ?
– С удовольствием, – ответил Коконнас, – с удовольствием.
– Но прежде чем продолжать игру, я хотел напомнить вам: ведь вы говорили, что у вас назначено свидание с герцогом Гизом?
Коконнас поглядел на кухню, где стоял Ла Юрьер, и увидел, что трактирщик смотрит на него во все глаза, делая все то же предупреждение.
– Да, – ответил Коконнас, – но теперь еще не время. Поговорим лучше о вас, месье Ла Моль.
– А по-моему, мой дорогой Коконнас, поговорим лучше об игре, а то, если не ошибаюсь, я сейчас выиграл у вас еще шесть экю.
– Дьявольщина! Верно!.. Мне всегда говорили, что гугенотам везет в игре. У меня большое желание стать гугенотом, черт меня подери!
Глаза хозяина загорелись как уголья, но Коконнас, всецело занятый игрой, не заметил этого.
– Переходите к нам, граф, переходите, – сказал Ла Моль, – и хотя желание стать гугенотом пришло к вам путем очень своеобразным, вы будете хорошо приняты у нас.
Коконнас почесал за ухом.
– Будь я уверен, что везение в картах зависит от религии, то ручаюсь вам… ведь я, в конце концов, не так уж сильно держусь за мессу, а раз и король не очень дорожит ею…
– А кроме того, протестантское исповедание – прекрасное исповедание: оно так просто, чисто…
– И к тому же в моде, – добавил Коконнас, – да еще приносит в игре счастье; ведь, черт меня подери, все тузы у вас, а между тем с самого начала, как мы взяли карты в руки, я следил за вами: вы играете честно, не передергиваете… Это не иначе как от протестантской веры.
– Вы задолжали мне еще шесть экю, – спокойно заметил Ла Моль.
– Ах, как вы искушаете меня! – сказал Коконнас. – И если этой ночью я останусь недоволен герцогом Гизом…
– Тогда что?
– Тогда я завтра попрошу вас представить меня королю Наваррскому, и будьте покойны: уж если я стану гугенотом, то буду им больше, чем Лютер, Кальвин, Меланхтон и все реформаторы на свете.
– Тс! Вы поссоритесь с нашим хозяином, – сказал Ла Моль.
– Да, правда, – согласился Коконнас, взглянув на кухню. – Нет, он нас не слышит, он сейчас очень занят.
– А что он делает? – спросил Ла Моль, не видя хозяина со своего места.
– Он разговаривает с… Черт меня подери! Это он!
– Кто – он?
– Та самая ночная птица, с которой он разговаривал, когда мы подъехали к гостинице, – человек в желтом колете и в темно-коричневом плаще. Дьявольщина! Да еще как увлекся! Эй! Мэтр Ла Юрьер! Не политический ли разговор у вас?
Но на этот раз мэтр Ла Юрьер ответил таким повелительно-энергичным жестом, что Коконнас, несмотря на свое пристрастие к картам, встал с места и пошел к нему.
– Что с вами? – спросил Ла Моль.
– Вам нужно вина, граф? – спросил Ла Юрьер, быстро хватая Коконнаса за руку. – Сейчас подадут. Грегуар! Вина господам дворянам!
Потом в самое ухо прошептал:
– Молчите! Молчите, или смерть вам! И спровадьте куда-нибудь вашего товарища.
Ла Юрьер был так бледен, а желтый человек так мрачен, что Коконнас почувствовал дрожь в теле и, обернувшись к Ла Молю, сказал ему:
– Дорогой месье Ла Моль, прошу извинить меня, я за один присест проиграл пятьдесят экю; мне сегодня не везет, и я боюсь зарваться.
– Отлично, месье, отлично, как вам угодно. Кроме того, я с удовольствием прилягу хоть на минуту. Мэтр Ла Юрьер!
– Что угодно, граф?
– Разбудите меня, если за мной придут от короля Наваррского. Я лягу, не раздеваясь, чтобы в любую минуту быть готовым.
– Я сделаю то же, – сказал Коконнас, – а чтобы его светлости не ждать меня ни минуты, я теперь же сделаю себе значок. Мэтр Ла Юрьер, дайте мне ножницы и белой бумаги.
– Грегуар! – крикнул Ла Юрьер. – Белой бумаги для письма и ножницы, чтобы сделать конверт!
– Положительно, – сказал пьемонтец, – здесь готовится что-то чрезвычайное.
– Доброй ночи, месье Коконнас! – сказал Ла Моль. – А вы, хозяин, будьте любезны показать мне мою комнату. Желаю вам успеха, мой новый друг!
И Ла Моль в сопровождении хозяина ушел по винтовой лестнице наверх. Тогда таинственный человек схватил Коконнаса за локоть, подтащил к себе и торопливо заговорил:
– Месье, сто раз вы чуть не выдали тайну, от которой зависит судьба королевства. Еще одно слово, и я пристрелил бы вас из аркебузы. К счастью, теперь мы одни, так слушайте.
– Но кто вы такой, что говорите со мной повелительным тоном? – спросил Коконнас.
– Вам приходилось слышать о некоем Морвеле?
– Убийце адмирала?
– И капитана де Муи.
– Да, конечно.
– Так этот Морвель – я.
– Та-та-та! – произнес Коконнас.
– Слушайте же.
– Дьявольщина! Надо думать, что я вас слушаю.
– Тс! – прошипел Морвель, поднося палец ко рту.
Коконнас прислушался. Было слышно, как хозяин захлопнул дверь в какой-то комнате, запер дверь в коридоре на засов и стремительно сбежал с лестницы.
Вернувшись к двум собеседникам, он подал стул Коконнасу и стул Морвелю, взял третий себе и сказал:
– Месье Морвель, все заперто, можете говорить.
На колокольне Сен-Жермен-Л’Озеруа пробило одиннадцать часов вечера. Морвель считал один за другим удары, раздававшиеся в ночи гулко и уныло, и, когда последний удар замер в воздухе, сказал, обращаясь к Коконнасу, совершенно взбудораженному теми предосторожностями, которые принимали эти два человека:
– Месье, вы добрый католик?
– Ну конечно, – ответил Коконнас.
– Месье, вы преданы королю?
– Душой и телом. Я даже считаю оскорблением, что вы мне предлагаете такой вопрос.
– Из-за этого не будем ссориться. А вы пойдете с нами?
– Куда?
– Это все равно. Предоставьте себя нам. От этого зависят и ваше благосостояние, и ваша жизнь.
– Предупреждаю вас, что в полночь у меня есть дело в Лувре.
– Туда мы и идем.
– Меня ждет герцог Гиз.
– Нас тоже.
– У меня особый пароль для входа, – продолжал Коконнас, считая обидным для себя делить честь своего приема у герцога вместе с каким-то Морвелем и мэтром Ла Юрьер.
– У нас тоже.
– Но у меня особый опознавательный знак!
Морвель улыбнулся, вытащил из-за пазухи пригоршню крестов из белой материи, дал один Ла Юрьеру, один Коконнасу и один взял себе. Ла Юрьер прикрепил свой к шлему, а Морвель к шляпе.
– Вот как! – удивился Коконнас. – Значит, и свидание, и пароль, и знак – для всех?
– Да, месье, лучше сказать – для всех верных католиков.
– Стало быть, в Лувре – торжество, королевский банкет, да? – воскликнул Коконнас. – И на него не хотят пускать этих собак гугенотов? Хорошо! Здорово! Замечательно! Довольно с них, покрасовались!
– Да, в Лувре торжество, королевский банкет, – ответил Морвель, – в нем будут участвовать и гугеноты. Больше того – они-то и будут героями дня, они же и заплатят за банкет, так что если вы хотите быть на нашей стороне, мы начнем с того, что пойдем приглашать их главного бойца, или, как они говорят, – их Гедеона.
– Адмирала? – воскликнул Коконнас.
– Да, старика Гаспара, по которому я промахнулся как дурень, хотя стрелял из аркебузы самого короля.
– Вот почему, дорогой дворянин, я чистил свой шлем, вострил шпагу и точил ножи, – шипящим голосом сказал мэтр Ла Юрьер.
Коконнас вздрогнул и побледнел от этих сообщений, начиная понимать, в чем дело.
– Как?.. Это правда? – воскликнул Коконнас. – Так это торжество, этот банкет… значит…
– Вы очень недогадливы, месье, – сказал Морвель, – сразу видно, что вам не надоела, как нам, наглость этих еретиков.
– Ага! Вы взялись пойти к адмиралу и…
Морвель улыбнулся и подвел Коконнаса к окну.
– Взгляните туда, – сказал он, – видите в конце улицы, на маленькой площади за церковью, отряд людей, который выстраивается в темноте?
– Да.
– У всех этих людей на шляпе такой же белый крест, как у мэтра Ла Юрьер, у вас и у меня.
– И что же?
– А то, что это отряд швейцарцев из западных кантонов, а вы знаете, что эти господа из западных кантонов – королевские благожелатели.
– Та-та-та! – произнес Коконнас.
– Теперь посмотрите, вон там, по набережной, движется отряд кавалерии; разве вы не узнаете его начальника?
– Как же я могу узнать его? Ведь я приехал в Париж только сегодня вечером!
– Так это тот самый человек, с кем вы должны увидеться в полночь в Лувре.
– Герцог Гиз?
– Он самый. А сопровождают его бывший купеческий старшина Марсель и теперешний старшина Шорон. Оба они должны выставить свои отряды горожан. А вот идет по нашей улице и командир здешнего квартала; приглядитесь, что он будет делать.
– Он стучит во все двери. А что такое на дверях, в которые он стучит?
– Белый крест, молодой человек, такой же, как у нас на шляпах. Прежде, бывало, предоставляли богу отмечать своих и чужих; теперь мы стали вежливее и избавляем его от этого труда.
– Да, куда он ни постучит, всюду отворяется дверь и выходят вооруженные горожане.
– Он постучится и к нам, и мы тоже выйдем.
– Но поднимать столько народа, чтобы убить одного старика гугенота, это… дьявольщина! Это позор! Это достойно разбойников, а не солдат, – возразил Коконнас.
– Молодой человек, – отвечал Морвель, – если вам не нравится иметь дело со стариками, вы можете выбрать себе молодых; гугеноты не такие люди, что дадут себя резать без сопротивления, и, как вам известно, они все, старые и молодые, очень живучи.
– Так вы собираетесь перебить их всех?! – воскликнул Коконнас.
– Всех.
– По приказу короля?
– Короля и герцога Гиза.
– И когда же?
– Как только забьют в набат на колокольне Сен-Жермен-Л’Озеруа.
– Ах, вот почему этот милый немец, служащий у герцога Гиза… как бишь его имя?
– Месье Бэм?
– Верно. Вот почему он мне сказал, чтобы я бежал в Лувр по первому удару набата.
– Вы, значит, видели месье Бэма?
– И видел, и говорил с ним.
– Где?
– В Лувре. Он меня и провел туда, сказал пароль и…
– Взгляните.
– Дьявольщина! Да это он!
– Хотите с ним поговорить?
– И даже не без удовольствия.
Морвель тихонько открыл окно. В самом деле, шел Бэм и с ним человек двадцать горожан.
– Гиз и Лотарингия! – произнес Морвель.
Бэм обернулся и, сообразив, что обращаются к нему, подошел.
– А-а, это вы, мессир Морфель.
– Да, я; кого вы ищете?
– Я ищу гостиниц «Путеводный звезда», чтоп предупредить некой монсир Коконнас.
– Это я, месье Бэм! – ответил молодой человек.
– А-а! Корошо! Очень корошо!.. Вы готов?
– Да. Что надо делать?
– Што вам будет сказать мессир Морфель. Он допрый католик.
– Слышали? – спросил Морвель.
– Да, – ответил Коконнас. – А куда идете вы, месье Бэм?
– Я? – смеясь, переспросил Бэм.
– Да, вы.
– Я иду сказать словешко атмиралу.
– Скажите ему два на всякий случай, – посоветовал Морвель, – тогда, если он оправится от первого, то уж не встанет от второго.
– Бутте покоен, мессир Морфель, бутте покоен и дрессируйте мне корошо этот молодой шеловэк.
– Да, да, не беспокойтесь, все Коконнасы по своей породе хорошие охотничьи собаки и чуткие ищейки.
– Прошшайте.
– Идите.
– А вы?
– Начинайте охоту, а мы подоспеем к самой травле.
Бэм отошел, и Морвель затворил окно.
– Слышали, молодой человек? – спросил Морвель. – Если у вас есть личный враг, даже если он и не совсем гугенот, занесите его в список, – между другими пройдет и он.
Коконнас, совершенно ошеломленный тем, что видел и слышал, посматривал то на хозяина, принимавшего грозные позы, то на Морвеля, который спокойно вынимал из кармана какую-то бумагу.
– Что касается меня, – сказал Морвель, – вот мой список: триста человек. Пусть каждый добрый католик сделает в эту ночь десятую долю той работы, какую сделаю я, и завтра не будет ни одного гугенота во всем королевстве!
– Тс! – произнес Ла Юрьер.
– Что? – в один голос спросили Коконнас и Морвель.
На Сен-Жермен-Л’Озеруа раздался первый удар набата.
– Сигнал! – воскликнул Морвель. – Значит, начинают раньше? Мне сказали, что только в полночь… Тем лучше! Для славы бога и короля лучше, когда часы не отстают, а идут вперед.
Действительно, зловеще раздавались частые удары церковного колокола. Вскоре грянул и первый ружейный выстрел, и почти сейчас же свет нескольких факелов вспыхнул молнией на улице Арбр-сек.
Коконнас отер рукой выступивший на лбу пот.
– Началось, пошли! – крикнул Морвель.
– Стойте! Стойте! – сказал хозяин. – Прежде чем выступать в поход, надо, как говорят на войне, обезопасить свои квартиры. Я не хочу, чтобы зарезали мою жену и детей, пока меня не будет дома: здесь остается гугенот.
– Ла Моль?! – воскликнул Коконнас, отшатнувшись.
– Да! Нечестивец попал в пасть волку.
– Как? Вы нападете на собственного постояльца? – спросил Коконнас.
– Для этого я и оттачивал свою рапиру.
– Ну, ну! – произнес пьемонтец, хмуря брови.
– До сих пор я резал только кроликов, кур да уток и ни разу – человека, даже не знаю, как это делается, – ответил почтенный трактирщик. – Вот я и поупражняюсь на постояльце. Если я это сделаю коряво – по крайности некому будет смеяться надо мной.
– Дьявольщина! Это жестоко! – вознегодовал Коконнас. – Месье де Ла Моль ужинал со мной, месье де Ла Моль играл со мной в карты.
– Но месье де Ла Моль еретик, – ответил Морвель. – Месье де Ла Моль обречен, и, если не убьем его мы, его убьют другие.
– Не говоря уже о том, что он выиграл у вас пятьдесят экю, – добавил хозяин.
– Верно, – ответил Коконнас, – но выиграл честно, я в этом уверен.
– Честно или нет, а платить придется, если же я убью его – вы будете в расчете.
– Ну, ну, господа, поторапливайтесь! – сказал Морвель. – Стреляйте из аркебузы, колите рапирой, стукните его молотком, кистенем, чем хотите, только кончайте с ним скорее, если хотите исполнить ваше обещание и прийти вовремя к адмиралу на помощь герцогу Гизу.
Коконнас тяжело вздохнул.
– Сейчас сбегаю к нему, – сказал Ла Юрьер, – подождите меня.
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Он еще причинит страдания несчастному юноше, а может быть, и обворует. Я пойду, чтобы в случае чего прикончить его сразу и не дать обворовать.
Движимый этой благородной мыслью, Коконнас бросился по лестнице вслед за мэтром Ла Юрьер и быстро догнал его, так как Ла Юрьер, поднимаясь по лестнице, все больше начинал раздумывать и, соответственно, замедлять свои шаги. В ту минуту, как он и следовавший за ним Коконнас подходили к двери в комнату Ла Моля, раздались выстрелы на улице. Слышно было, как Ла Моль вскочил с кровати и под его ногами заскрипели половицы.
– Черт! – пробурчал встревоженный Ла Юрьер. – Видать, он проснулся.
– Как будто так, – ответил Коконнас.
– Он будет защищаться, а?
– Он такой, что может. Послушайте, мэтр Ла Юрьер, вот будет штука, если он вас убьет.
– Гм! Гм! – протянул Ла Юрьер.
Но, чувствуя в руках хорошую аркебузу, он набрался духа и сильным ударом ноги распахнул дверь.
Ла Моль без шляпы, но одетый стоял, загородив себя кроватью, в руках у него были пистолеты, в зубах – шпага.
– Та-та-та! – произнес Коконнас, раздувая ноздри, как хищное животное, почуявшее кровь. – Дело-то становится занятным, мэтр Ла Юрьер. Ну что же вы? Вперед!
– А-а! Как видно, меня собираются убить! – крикнул Ла Моль. – И это ты, мерзавец?
Мэтр Ла Юрьер ответил тем, что приложил аркебузу к плечу и стал целиться в молодого человека. Но Ла Моль следил за его движениями: в самый момент выстрела он упал на колени, и пуля пролетела у него над головой.
– Ко мне, ко мне, месье Коконнас! – крикнул Ла Моль.
– Ко мне, ко мне, месье Морвель! – кричал Ла Юрьер.
– Честное слово, месье де Ла Моль, – ответил Коконнас, – все, что я могу сделать в этом случае, это не выступать против вас лично. По-видимому, сегодня ночью избивают всех гугенотов именем короля. Выпутывайтесь сами как умеете.
– А-а! Предатели! Убийцы! Вот как! Ну подождите!
И Ла Моль, прицелившись из пистолета, нажал собачку. Ла Юрьер, все время наблюдавший за ним, отскочил в сторону, но Коконнас, не ожидая такого ответа, остался стоять на месте, и пуля задела ему плечо.
– Дьявольщина! – крикнул он, заскрежетав зубами. – Принимаю вызов. Померяемся силой, раз ты хочешь.
И, обнажив свою рапиру, он бросился на Ла Моля.
Будь они один на один, Ла Моль, конечно, принял бы вызов, но за спиной Коконнаса стоял мэтр Ла Юрьер, снова заряжавший аркебузу, а кроме того, Морвель уже спешил на зов трактирщика, взбегая по лестнице через две ступеньки. Поэтому Ла Моль скрылся в смежный отдельный кабинет и заперся там на задвижку.
– Ах, прохвост! – крикнул Коконнас, стуча в дверь эфесом шпаги. – Ну подожди, я тебе наделаю сейчас столько дыр в теле, сколько ты выиграл у меня экю! Я-то пришел к тебе, чтобы тебя не мучили, не обокрали, а ты отплачиваешь за это пулей в плечо! Погоди, мозгляк! Погоди!
В это время мэтр Ла Юрьер подошел к двери кабинета и, ударив в нее прикладом аркебузы, разбил дверь в щепы.
Коконнас влетел в комнату, но чуть не ткнулся носом в стену: в кабинете было пусто, а окно открыто.
– Он, наверно, выпрыгнул в окно, – сказал трактирщик. – Но это пятый этаж, и он разбился насмерть.
– Или удрал на соседнюю крышу, – сказал Коконнас, перелезая через подоконник и собираясь преследовать Ла Моля по скользкому и крутому скату крыши. Но Морвель и Ла Юрьер бросились к нему и втащили его обратно в комнату.
– Вы с ума сошли? – крикнули они в один голос. – Вы убьетесь.
– Вот еще! – ответил Коконнас. – Я горец, лазил и по ледникам. А если меня еще оскорбили, так я за оскорбителем полезу хоть на небо или спущусь в ад, какой бы дорогой он ни отправился туда. Пустите меня!
– Послушайте, – сказал Морвель, – или он уже мертв, или уже далеко. Идемте с нами. Не беда, если этот ускользнул от вас, вы найдете тысячу других.
– Вы правы, – прорычал Коконнас. – Смерть гугенотам! Мне необходимо отомстить за себя, и чем скорее, тем лучше.
Все трое скатились с лестницы, как лавина.
– К адмиралу! – крикнул Морвель.
– К адмиралу! – повторил Ла Юрьер.
– К адмиралу так к адмиралу, – согласился Коконнас.
Оставив «Путеводную звезду» на попечение Грегуара и прочих слуг, все трое выскочили из дома и побежали на улицу Бетизи, где находилось жилище адмирала. Яркое пламя и грохот выстрелов указывали направление.
– Кто это там идет? – спросил Коконнас. – Какой-то человек без колета и без перевязи.
– А, это кто-нибудь спасается, – сказал Морвель.
– Ну же, ну! У вас аркебуза, – крикнул ему Коконнас.
– Нет, ни за что, я берегу порох для лучшей дичи.
– Тогда вы, Ла Юрьер!
– Подождите, подождите! – сказал трактирщик, прицеливаясь.
– Ждать? Вот еще! – крикнул Коконнас. – Пока вы ждете, он убежит.
Он кинулся за несчастным и вскоре настиг его, так как беглец был ранен. Чтобы не наносить удара в спину, Коконнас крикнул ему: «Обернись, обернись!» Но в тот же миг раздался выстрел, мимо ушей Коконнаса просвистела пуля, и беглец покатился по земле, как заяц, настигнутый на всем бегу выстрелом охотника.
Позади Коконнаса раздался торжествующий крик; пьемонтец обернулся и увидел трактирщика, потрясавшего своим оружием.
– Ага, на этот раз почин сделан!
– Да, но вы чуть не прострелили меня насквозь.
– Берегитесь! Берегитесь! – крикнул Ла Юрьер.
Коконнас отскочил назад. Раненный пулей незнакомец приподнялся на одно колено и, горя местью, хотел ударить Коконнаса кинжалом, но трактирщик вовремя предостерег пьемонтца.
– Ах, гадина! – прорычал Коконнас, набросился на своего врага, три раза вонзил ему в грудь шпагу по самую рукоять и, оставив его биться в предсмертных судорогах, крикнул: – А теперь к адмиралу, к адмиралу!
– Эге, дорогой мой дворянин, вы, кажется, входите во вкус, – сказал Морвель.
– Да, – ответил Коконнас. – Запах ли пороха пьянит меня, или вид крови так волнует, но меня тянет убивать. Это своего рода облава на людей. До сих пор я так охотился только на волков и медведей, но, честное слово, облава на людей мне кажется гораздо интереснее!
И все трое побежали к адмиралу.
VIII. Бойня
Дом, отведенный адмиралу, стоял, как мы сказали, на улице Бетизи. Он представлял собой большое здание в глубине двора, выходившее двумя крыльями на улицу. Ворота и две калитки в каменной ограде, отделявшей дом от улицы, вели во двор.
Когда три наших гизовца выбежали на улицу Бетизи, служившую продолжением улицы Фосе-Сен-Жермен-Л’Озеруа, они увидели, что дом адмирала окружен швейцарской стражей, солдатами и вооруженными горожанами. В руках у них мелькали пики, шпаги или аркебузы, а некоторые в свободной руке держали факелы и освещали эту сцену погребальным колеблющимся светом, который, следуя движениям факелоносцев, то падал на мостовую, то полз по стенам вверх, то пробегал по этому живому морю, где каждый предмет вооружения отсвечивал своим особым блеском. Вокруг, на близлежащих улицах – Тиршап, Этьен и Бертен-Пуаре, – свершалось страшное дело. Слышались пронзительные крики, громыхали выстрелы, и время от времени какой-нибудь несчастный гугенот, бледный, окровавленный, полуголый, большими прыжками, как преследуемая лань, вбегал в зловещий световой круг, где, точно демоны, метались люди.
Через минуту Коконнас, Морвель и Ла Юрьер, встреченные, по их белым крестам, громкими приветствиями, очутились в самой гуще толпы, тяжело дышавшей и тесно сомкнутой, как стая гончих. Они, конечно, не пробрались бы сквозь нее, но многие, узнав Морвеля, дали ему дорогу. Коконнас и Ла Юрьер протиснулись вслед за ним, и все трое очутились во дворе, так как ворота и две калитки были выломаны. Посреди двора стоял человек на пустом пространстве, почтительно освобожденном для него убийцами; он опирался на обнаженную рапиру и не сводил глаз с балкона, выступавшего перед стеклянной дверью в центре здания на высоте около пятнадцати футов от земли. Этот человек нетерпеливо притопывал ногой и время от времени оборачивался, чтобы задать вопрос стоявшим ближе к нему людям.
– Все нет! – сказал он. – Никого!.. Наверно, его предупредили, и он бежал. Дю Гаст, как думаете?
– Это невозможно, ваша светлость.
– Почему? Вы же мне сами говорили, что за минуту до нашего прихода какой-то человек без шляпы, с обнаженной шпагой в руке, бежавший точно от погони, постучал в ворота и его впустили.
– Верно, ваша светлость! Но почти сейчас же вслед за ним пришел Бэм, ворота были выломаны, а дом окружен. Человек действительно вошел, но выйти он не мог никак.
– Эге! Если не ошибаюсь, ведь это герцог Гиз? – спросил Коконнас мэтра Ла Юрьер.
– Он самый. Да, великий Генрих Гиз собственной персоной, и он, наверно, дожидается, когда выйдет адмирал, чтобы разделаться с ним так же, как адмирал разделался с его отцом. Каждому свой черед, а сегодня, слава богу, пришел наш.
– Эй! Бэм! Эй! – громко крикнул герцог. – Неужели еще не кончили?
И концом своей тоже нетерпеливой шпаги он высек искры из каменной мостовой двора.
В доме послышались какие-то крики, затем выстрелы, сильный топот и звяканье оружия. Потом все разом стихло.
Герцог рванулся к дому.
– Ваша светлость, ваша светлость! – сказал Дю Гаст, останавливая герцога. – Ваше достоинство требует, чтобы вы оставались здесь и ждали.
– Ты прав, Дю Гаст! Спасибо! Я подожду. Но, правду говоря, я умираю от нетерпения и беспокойства. А вдруг он улизнул!
Теперь топот ног в доме стал слышнее, и на оконных стеклах второго этажа заиграли красные отблески, как при пожаре.
Стеклянная дверь, не один раз привлекавшая взоры герцога, распахнулась или, вернее, разлетелась вдребезги, и на балконе появился человек; лицо его было бледно, шея залита кровью.
– Бэм! Наконец-то! – крикнул герцог. – Ну что? Что?
– Сдесь! Фот! Фот! – спокойно ответил немец, затем нагнулся, и через несколько секунд стал напряженно разгибаться, видимо, приподнимая какую-то большую тяжесть.
– А где остальные, где остальные? – нетерпеливо спросил герцог.
– Оздальные кончают оздальных.
– А ты что делаешь?
– Сейчас увидите; отойтить назат немношко.
Герцог сделал шаг назад.
В эту минуту стало видно и то, что немец с таким усилием подтягивал к себе.
Это было тело старика.
Бэм поднял его над перилами балкона, раскачал в воздухе и бросил к ногам своего хозяина.
Глухой звук падения, кровь, хлынувшая из тела и широко обрызгавшая мостовую, ужаснули всех, не исключая герцога, но чувство ужаса длилось недолго, уступив место любопытству – все присутствующие подались на несколько шагов вперед, и дрожащий свет факела упал на жертву. Стали видны и седая борода, и строгое почтенное лицо, и руки, застывшие в смертной неподвижности.
– Адмирал! – вскрикнули разом двадцать голосов и разом смолкли.
– Да, адмирал, это он! – сказал герцог, подойдя к телу и с затаенной радостью разглядывая своего врага.
– Адмирал! Адмирал! – вполголоса повторяли свидетели этой жуткой сцены, сбившись в кучу и робко приближаясь к великому поверженному старцу.
– Ага, Гаспар! Вот ты наконец! – торжествующе произнес герцог Гиз. – Ты велел убить моего отца, теперь я мщу тебе!
И он дерзко поставил ногу на грудь протестантского героя.
В тот же миг глаза умирающего с трудом открылись, простреленная, залитая кровью рука его сжалась в последний раз, и, оставаясь все так же недвижимым, адмирал ответил замогильным голосом:
– Генрих Гиз, настанет час, когда и ты почувствуешь на своей груди ногу твоего убийцы. Я не убивал твоего отца. Будь проклят!
Герцог вздрогнул, побледнел, и ледяной холодок пробежал по его телу. Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя от себя мрачное видение, затем опустил руку и решился еще раз взглянуть на адмирала, но глаза убитого уже закрылись, рука лежала неподвижно, а вместо ужасных слов изо рта хлынула черная кровь, заливая седую бороду.
Герцог с какой-то отчаянной решимостью взмахнул шпагой.
– Итак, монсир, фы доволен? – спросил его Бэм.
– Да, да, мой храбрый Бэм! – ответил Гиз. – Ты отомстил…
– За херцог Франсуа, да?
– За религию, – упавшим голосом ответил Гиз. – А теперь, – продолжал он, обращаясь к швейцарцам, солдатам и горожанам, заполнившим улицу и двор, – за дело, друзья мои, за дело!
– Здравствуйте, месье Бэм, – сказал Коконнас, с чувством восхищения подходя к немцу, все еще стоявшему на балконе и спокойно вытиравшему свою шпагу.
– Так это вы спровадили его на тот свет? – восторженно крикнул ему Ла Юрьер. – Как это удалось вам, достопочтенный месье Бэм?
– О-о! Ошень просто, ошень просто! Он слыхал шум, отворял свой тверь, я протыкал его мой рапир. Но это еще не все, я думай, Телиньи еще стоит за себя, я слышу, как он кричит.
Действительно, в эту минуту донесся из дома отчаянный, как будто женский вопль. Показались фигуры двух бежавших мужчин, которых преследовала целая вереница убийц. Одного мужчину убили выстрелом из аркебузы; другой добежал до открытого окна и, не обращая внимания ни на высоту, ни на врагов, ждавших его внизу, бесстрашно прыгнул во двор.
– Бей! Бей! – закричали преследователи, видя, что жертва может ускользнуть.
Прыгнувший человек поднялся на ноги, подобрал шпагу, выпавшую у него из рук при падении, бросился стремглав сквозь толпу, сбил трех или четырех с ног, проткнул кого-то шпагой и среди треска пистолетных выстрелов и ругани промахнувшихся по нему солдат мелькнул как молния мимо Коконнаса, с кинжалом в руке поджидавшего у ворот.
– Есть! – крикнул пьемонтец, проколов беглецу предплечье тонким, острым клинком кинжала.
В узком пролете ворот невозможно было колоть шпагой, и бежавший человек только хлестнул клинком по лицу врага, крикнув ему:
– Подлец!
– Тысяча чертей! Месье де Ла Моль! – воскликнул Коконнас.
– Месье де Ла Моль! – повторили Морвель и Ла Юрьер.
– Он и предупредил адмирала! – закричали несколько солдат.
– Бей! Бей! – вопили со всех сторон.
Коконнас, Ла Юрьер и человек десять солдат бросились за Ла Молем, а он, покрытый кровью, охваченный тем возбуждением, которое доводит до предела жизненные силы человека, мчался по улицам, руководясь одним инстинктом. Топот ног и крики гнавшихся за ним врагов подстегивали и как бы окрыляли беглеца. Минутами ему хотелось бежать тише, но свистнувшая рядом пуля вновь заставила его ускорить бег. Он уже не просто вдыхал и выдыхал воздух, а из его груди вырывались глухое клокотание и хриплый свист. Капли крови, сочившейся из головы, смешивались с потом и заливали его красивое лицо. Узкий колет все больше стеснял биение сердца – Ла Моль сорвал с себя колет и бросил. Вскоре и шпага оказалась слишком тяжелой для его руки – он отшвырнул и шпагу. Порой казалось, что топот врагов его как будто отдалялся и что ему удастся уйти от этих палачей, но крики их долетали до других убийц, находившихся поблизости, и, бросив свою кровавую работу, они бежали вслед за ним. Наконец слева от себя Ла Моль увидел спокойно текущую реку и вдруг почувствовал, что если он бросится в нее, как загнанный олень, то испытает неизъяснимое блаженство, и только крайним напряжением ума и воли он удержал себя от этого. А справа возвышался Лувр, мрачный, неколебимый, но полный глухих, зловещих звуков. Через подъемный мост взад и вперед сновали люди в шлемах, латах, сверкавших холодным отблеском луны. Ла Моль подумал о короле Наваррском, так же как он подумал и о Колиньи, – своих двух верных покровителях. Он собрал остатки сил, взглянул на небо, давая про себя обет стать католиком, если спасется, уловкой выиграл шагов тридцать расстояния у гнавшей его стаи, свернул к Лувру, бросился на подъемный мост, смешался с кучей солдат, получил новый удар кинжалом, скользнувшим, к счастью, лишь по ребрам, и, несмотря на крики «Бей! Бей!», раздававшиеся со всех сторон, несмотря на готовых к бою часовых, стрелой промчался во двор Лувра, прыгнул в подъезд, взбежал по лестнице на третий этаж и, прислонившись к знакомой ему двери, начал стучать в нее руками и ногами.
– Кто там? – тихо спросил женский голос.
Ла Моль вспомнил пароль и крикнул:
– Наварра! Наварра!
Дверь тотчас отворилась. Ла Моль, не благодаря и даже не заметив Жийону, ворвался в вестибюль, пробежал коридор, две или три комнаты и попал в спальню, освещенную лампой, свисавшей с потолка.
В кровати из резного дуба за бархатным, расшитым золотыми лилиями пологом лежала полуобнаженная женщина и, опершись на локоть, смотрела на него расширенными от ужаса глазами.
Ла Моль подбежал к лежавшей даме:
– Мадам! Там бьют, там режут моих собратьев! Они хотят зарезать и меня… Ах! Вы королева… спасите же меня!
Он бросился к ее ногам, оставив на ковре широкий кровавый след.
Видя перед собою человека на коленях, растерзанного, бледного, королева Наваррская приподнялась и, в страхе закрыв лицо руками, начала звать на помощь.
– Мадам, во имя бога, не зовите! – говорил Ла Моль, пытаясь встать. – Если вас услышат, я пропал! Убийцы гнались за мной уже по лестнице. Я их слышу… вот они! Вот!
– На помощь! – кричала королева Наваррская вне себя. – На помощь!
– Ах! Вы убиваете меня! – с отчаянием сказал Ла Моль. – Умирать от звука такого чарующего голоса, умирать от такой прекрасной руки! О! Не думал я, что это может быть!
В ту же минуту дверь отворилась, и толпа людей, запыхавшихся, разъяренных, с лицами, испачканными порохом и кровью, со шпагами, аркебузами и алебардами, ворвалась в комнату. Во главе их – Коконнас, с рыжими всклокоченными волосами, с расширенными неестественно глазами и кровавым рубцом во всю щеку, нанесенным шпагою Ла Моля, – пьемонтец был просто страшен в таком виде.
– Дьявольщина! Вот он, вот он! А-а, наконец-то попался! – кричал Коконнас.
Ла Моль попытался найти какое-нибудь оружие, но безуспешно. Он посмотрел на королеву и на лице ее заметил выражение глубокой жалости. Тогда он понял, что только она одна могла б его спасти, метнулся к ней и обнял ее.
Коконнас выступил на три шага вперед и концом длинной рапиры нанес вторую рану в правое плечо своему врагу; несколько капель красной теплой крови оросили белые душистые простыни на постели наваррской королевы.
Маргарита, увидев кровь и чувствуя содрогания прижавшегося к ней человека, бросилась вместе с ним в проход между кроватью и стеной. И вовремя: Ла Моль совершенно изнемог, он был не в состоянии сделать шага – ни для того, чтобы бежать, ни для того, чтобы защищаться. Он склонил голову на плечо молодой женщины и судорожно цеплялся за нее пальцами, раздирая тонкий вышитый батист, облекавший, точно волнистым газом, тело Маргариты.
– Мадам! Спасите! – пролепетал он замирающим голосом.
Больше сказать он ничего уже не мог. Взор его затуманился, будто подернутый предсмертной дымкой, голова бессильно запрокинулась назад, руки разжались, ноги подогнулись, и он упал на пол в лужу своей крови, увлекая вслед за собой и королеву.
Коконнас, возбужденный криками, опьяненный запахом крови, ожесточенный горячей долгой травлей, протянул руку к королевскому алькову. Одно мгновение – и он пронзил бы сердце Ла Моля, а может быть, и сердце королевы.
При виде обнаженного клинка, а еще больше при виде этой невероятной наглости дочь французских королей выпрямилась во весь свой рост и вскрикнула, но в этом страшном крике было столько негодования и яростного гнева, что пьемонтец застыл на месте под властью неведомого ему чувства. Конечно, если б эта сцена продлилась в составе тех же действующих лиц, то и его чувство растаяло бы так же быстро, как снег в апреле под лучами солнца.
Но дверь, скрытая в стене, вдруг распахнулась, и в комнату вбежал юноша лет семнадцати, бледный, с растрепанной прической, одетый в черное.
– Сестра, не бойся, не бойся! Я здесь! Я здесь! – крикнул он.
– Франсуа! Франсуа! На помощь! – закричала Маргарита.
– Герцог Алансонский! – прошептал Ла Юрьер, опуская аркебузу.
– Дьявольщина! Брат короля! – пробурчал Коконнас, отступая.
Герцог Алансонский поглядел вокруг.
Маргарита с распущенными волосами, более красивая, чем обычно, стояла, прислонясь к стене, одна среди мужчин, а в их глазах светилась ярость, по лбу струился пот, и губы покрывала пена.
– Мерзавцы! – крикнул герцог.
– Спасите меня, брат! – сказала Маргарита, теряя силы. – Они хотят меня убить.
Бледное лицо герцога вдруг вспыхнуло. С ним не было оружия, но, полагаясь на свое звание, он, судорожно сжав кулаки, стал наступать на Коконнаса и его товарищей, а они в страхе отступали перед его сверкавшими как молнии глазами.
– Может быть, вы убьете и брата короля? Ну-ка!
Они продолжали отступать.
– Эй, капитан моей охраны! – крикнул он. – Сюда! И перевешайте всех этих разбойников!
Испуганный гораздо больше видом этого безоружного юноши, чем целым отрядом рейтаров или ландскнехтов, Коконнас уже допятился до двери. Ла Юрьер с быстротой оленя умчался вниз по лестнице, а солдаты теснились и толкались в вестибюле, так как размеры двери не соответствовали их страстному желанию покинуть поскорее стены Лувра.
Маргарита инстинктивно набросила на молодого человека, лежавшего без чувств, свое камчатное одеяло и отошла прочь.
Когда последний убийца исчез за дверью, герцог Алансонский обернулся и, увидев, что вся одежда Маргариты в кровавых пятнах, воскликнул:
– Сестра, ты ранена?
Он кинулся к сестре с такой тревогой, какая сделала бы честь братской его нежности, если бы в этом порыве не сказывалось чувство сильнее братского.
– Нет, не думаю, – ответила сестра, – а если и ранена, то легко.
– Но на тебе кровь, – говорил герцог, ощупывая дрожащими руками тело Маргариты, – откуда же она?
– Не знаю. Один из этих негодяев схватил меня – возможно, он был ранен.
– Схватить мою сестру! – воскликнул герцог. – О, если бы ты указала мне его, если бы ты сказала мне, какой он из себя, – лишь бы мне его найти!
– Тс! – произнесла Маргарита.
– Почему? – спросил Франсуа.
– А потому что, если вас увидят в этой комнате и в такой час…
– Разве брат не может зайти к своей сестре?
Королева взглянула на герцога Алансонского таким твердым и грозным взглядом, что юноша отошел подальше.
– Да, да, Маргарита, ты права, лучше я пойду к себе. Но тебе нельзя оставаться одной в такую ночь. Хочешь, я позову Жийону?
– Нет, нет, не надо никого. Ступай, Франсуа, ступай тем же ходом, каким пришел.
Юный принц вышел. Едва успела закрыться за ним дверь, как в проходе за кроватью раздался вздох. Маргарита кинулась к потайной двери, заперла ее на засов, затем побежала к входной двери и заперла ее в ту самую минуту, когда по другому концу коридора несся как ураган большой отряд стрелков, преследуя гугенотов, живших в Лувре.
Королева пристально оглядела все кругом и, убедившись, что она действительно одна, вернулась к проходу за своей кроватью, положила на место камчатное одеяло, скрывшее Ла Моля от глаз герцога Алансонского, с трудом вытащила бессильное тело на середину комнаты. Заметив, что бедняга еще дышит, она присела на пол, положила голову молодого человека себе на колени и плеснула ему водой в лицо, чтобы привести в чувство.
Вода очистила лицо раненого от слоя пыли, пороховой копоти и крови, и только теперь Маргарита узнала в нем того красивого дворянина, который, полный жизни и надежд, три или четыре часа тому назад явился к ней просить ее посредничества перед королем Наваррским и расстался с ней, ослепленный ее красотой, да и на нее произвел большое впечатление.
Маргарита вскрикнула от страха за него, чувствуя теперь к нему не только сострадание, но и участие; для нее он стал не просто какой-то человек, а почти знакомый. Под ее заботливой рукой сделалось чистым красивое, но бледное, истомленное страданием лицо Ла Моля.
Маргарита, замирая от боязни, почти такая же бледная, как он, приложила руку к его сердцу – оно еще билось; тогда она протянула руку к стоявшему рядом столику, взяла флакончик с нюхательной солью и дала ее понюхать Ла Молю.
Ла Моль открыл глаза.
– О господи! – прошептал он. – Где я?
– Вы спасены! Успокойтесь! – ответила Маргарита.
Ла Моль с трудом перевел глаза на королеву и, поглядев на нее восхищенным взглядом, чуть слышно произнес:
– Какая вы красавица!
Молодой человек, точно ослепленный, сразу опустил веки, тяжело вздохнул и побледнел как будто больше прежнего. Маргарита тихо вскрикнула, думая, что это был его последний вздох.
– Боже, боже, сжалься над ним! – сказала она.
В эту минуту раздался сильный стук в дверь из коридора. Маргарита слегка приподнялась, продолжая поддерживать за плечи Ла Моля.
– Кто там? – крикнула она.
– Мадам, мадам, это я, я! – ответил женский голос. – Я, герцогиня Невэрская.
– Анриетта! – воскликнула королева. – Это не опасно, это друг, вы слышите, месье?
Ла Моль сделал усилие и приподнялся на одно колено.
– Постарайтесь не упасть, покамест я отворю дверь, – сказала королева.
Ла Моль оперся рукой о пол, чтоб удержаться в равновесии.
Маргарита пошла было к двери, но вдруг остановилась, задрожав от страха.
– Так ты не одна? – воскликнула она, услыхав звяканье оружия.
– Нет, со мной двенадцать человек охраны; мне дал их мой деверь, герцог Гиз.
– Герцог Гиз! – прошептал Ла Моль. – О! Убийца! Убийца!
– Тс! Ни слова! – сказала Маргарита и поглядела вокруг себя, придумывая, куда бы спрятать раненого.
– Шпагу!.. Кинжал! – шептал Ла Моль.
– Для защиты? Это бесполезно; разве вы не слышали, что их двенадцать, а вы – один!
– Не для защиты, а чтобы не даться живым им в руки.
– Нет, нет, я вас спасу, – сказала Маргарита. – Да… кабинет! Идем, идем!
Ла Моль напряг все силы и при поддержке Маргариты дотащился до кабинета. Маргарита заперла за ним дверь и спрятала ключ в свой кошелек.
– Ни крика, ни стона, ни вздоха – и вы спасены! – сказала она ему сквозь дверь.
Затем она набросила на плечи ночной халат, открыла дверь своей подруге, и обе бросились в объятия друг к другу.
– Мадам, с вами не приключилось ничего плохого? – спросила герцогиня Невэрская.
– Нет, ничего, – ответила Маргарита, запахнув свой халат, чтобы не видно было следов крови на пеньюаре.
– Тем лучше! Но герцог Гиз отрядил двенадцать телохранителей, чтобы проводить меня до его дома, а мне такая большая свита не нужна, и я оставлю шестерых вам, на всякий случай. В такую ночь шесть телохранителей герцога Гиза стоят целого полка королевской гвардии.
Маргарита не решилась отказаться: она расставила шестерых телохранителей по коридору, расцеловалась с герцогиней, а герцогиня в сопровождении других шести отправилась в дом Гиза, где она жила, пока был в отъезде ее муж.
IX. Палачи
Удаляясь из покоев королевы Наваррской, Коконнас не бежал, а «произвел отступление». Что же касается Ла Юрьера, то он даже не сбежал, а со всех ног удрал. Первый удалился, как тигр, второй – как волк.
Таким образом, Ла Юрьер уже стоял на площади Сен– Жермен-Л’Озеруа, когда Коконнас еще только выходил из Лувра. Ла Юрьер, очутившись с аркебузой среди людей, бегавших туда-сюда по площади, где свистели пули, а из окон все время выбрасывали трупы, то целые, то изрезанные в куски, почувствовал непреодолимый страх и стал благоразумно пробираться к своему трактиру, но, выходя из переулка Аверон на улицу Арбр-сек, он наткнулся на отряд швейцарцев и легкой конницы, которым командовал Морвель.
– Вы что ж, уже закончили? – крикнул Морвель, сам придумавший себе прозвище – Королевский Истребитель. – Вы уже домой? А какого черта вы сделали с нашим пьемонтским дворянином? С ним не случилось ничего плохого? Было бы жаль: он вел себя отлично.
– По-моему, нет, – ответил Ла Юрьер, – надеюсь, он еще придет к нам.
– Вы откуда?
– Из Лувра, где, надо сказать, нас встретили неласково!
– Кто же?
– Герцог Алансонский. Разве он не причастен к нашему делу?
– Его величество герцог Алансонский причастен только к тому, что касается его лично; предложите ему разделаться с двумя старшими братьями, как с гугенотами, он согласится, но при условии, чтобы в это дело не путали его. А разве вы, мэтр Ла Юрьер, не собираетесь идти вместе с этими храбрыми людьми?
– А куда они идут?
– Да на улицу Монторгей; там живет один гугенотский сановник, мой знакомец, с ним жена и шестеро детей. Эти еретики ужасно плодовиты. Будет забавно!
– А сами вы куда идете?
– О! Я иду в особое местечко.
– Слушайте, возьмите меня с собой, – сказал кто-то за его спиной так неожиданно, что Морвель вздрогнул, – вы знаете хорошие места, а мне хочется туда попасть.
– А-а! Вот и наш пьемонтец! – воскликнул Морвель.
– Вот и месье Коконнас, – повторил Ла Юрьер. – А я думал, что вы идете вслед за мной.
– Черт! Вы улепетывали так, что не догонишь! А кроме того, я свернул с пути, чтобы швырнуть в реку негодного мальчишку, который кричал: «Долой папистов, да здравствует адмирал!» К сожалению, мне показалось, что мальчишка умеет плавать. Если хочешь утопить этих мерзких еретиков, надо бросать их в воду, как котят, лишь только родились.
– Так вы говорите, что вы из Лувра? Что же, ваш гугенот нашел там себе убежище? – спросил Морвель.
– Увы, да!
– Я послал ему из пистолета пулю там, во дворе у адмирала, когда он подбирал свою шпагу, но промахнулся, сам не знаю как.
– Ну, а я не промахнулся, я всадил ему в спину шпагу так, что конец ее оказался в крови на пять пальцев. При этом я сам видел, как он упал на руки королевы Маргариты. Красивая женщина, дьявольщина! Однако я бы был не прочь узнать наверно, что он умер. На мой взгляд, этот парень очень злопамятен и будет всю жизнь иметь зуб против меня… Да! Ведь вы сказали, что собираетесь идти куда-то?
– Вам, значит, хочется идти со мной?
– Мне хочется не стоять на месте. Я убил только трех или четырех; да и как только я успокаиваюсь, у меня начинает ныть плечо. Идем! Идем!
– Капитан, – обратился Морвель к начальнику отряда, – дайте мне трех человек, а с остальными ступайте отправлять на тот свет вашего сановника.
Трое швейцарцев вышли из рядов и присоединились к Морвелю. Оба отряда прошли вместе до улицы Тиршап; здесь солдаты легкой конницы и швейцарцы направились по переулку Тонельри, а Морвель, Коконнас, Ла Юрьер и три швейцарца пошли по переулку Феронри, затем по Трус-Ваш и уперлись в улицу Сент-Авуа.
– К какому дьяволу вы нас ведете? – спросил Коконнас, которому уже надоела долгая и праздная ходьба.
– Я вас веду на дело блестящее, да и полезное. После адмирала, Телиньи и гугенотских принцев я бы не мог вам предложить ничего лучшего. Наше место на улице Де-Шом, и через минуту мы там будем.
– Скажите, улица Де-Шом – это недалеко от Тампля? – спросил Коконнас.
– Да, а что?
– Там живет некий Ламбер Меркандон, давнишний заимодавец нашей семьи, и отец мой поручил мне вернуть ему сто ноблей, которые и лежат у меня в кармане.
– Ну вот вам прекрасный случай рассчитаться с ним, – заметил Морвель.
– Каким образом?
– Сегодня как раз такой день, когда сводят старые счеты. Ваш Меркандон – гугенот?
– Так, так! Понимаю. Он наверняка гугенот.
– Тише! Мы пришли.
– А чей это большой особняк с выступом на улицу?
– Гиза.
– По правде говоря, мне надо было бы зайти сюда, поскольку я приехал в Париж благодаря великому Генриху. Дьявольщина! Однако в этом квартале все спокойно, сюда доносятся лишь звуки выстрелов; можно подумать, что здесь уже деревня. Все дрыхнут, черт подери!
В самом деле, даже в доме Гиза, казалось, было так же тихо, как обычно: все окна закрыты, и только сквозь жалюзи центрального окна пробивался свет, который привлек внимание Коконнаса, еще когда он выходил на эту улицу.
Пройдя немного дальше дома Гиза, до скрещения улиц Пти-Шантье и Катр-Фис, Морвель остановился.
– Вот здесь живет тот, кто нам нужен.
– То есть кто вам нужен… – заметил Ла Юрьер.
– Раз вы пошли со мной – то, значит, нам .
– Как же так? В этом доме все спят крепким сном…
– Верно! Вот вы, Ла Юрьер, и используйте вашу наружность порядочного человека, по ошибке данную вам богом, и постучитесь в этот дом. Отдайте аркебузу месье Коконнасу, он уже давно косится на нее. Если вас пустят в дом, скажите, что вам надо поговорить с его милостью месье де Муи.
– Эге! Понимаю, – сказал Коконнас. – У вас, как видно, тоже оказался заимодавец в квартале Тампля.
– Верно, – ответил Морвель. – Так вы, Ла Юрьер, разыграйте из себя гугенота и расскажите де Муи о том, что происходит; он человек храбрый и сойдет вниз…
– А когда он сойдет, тогда?.. – спросил Ла Юрьер.
– Тогда я попрошу его скрестить со мной шпагу.
– Клянусь душой, вот это честно, по-дворянски! – сказал Коконнас. – И я думаю поступить точно так же с Ламбером Меркандоном, а если он слишком стар для поединка, я вызову кого-нибудь из его сыновей или племянников.
Ла Юрьер, не прекословя, начал стучать в дверь. На его стук, гулко раздавшийся в ночной тиши, в особняке Гиза приоткрылись входные двери, и оттуда высунулось несколько голов. Тогда только обнаружилось, что спокойствие особняка герцога Гиза было спокойствием крепости, охраняемой надежным гарнизоном.
Головы сейчас же спрятались – очевидно, догадавшись, в чем было дело.
– Ваш де Муи здесь и живет? – спросил Коконнас, указывая на дом, куда стучался Ла Юрьер.
– Нет, это дом его любовницы.
– Дьявольщина! До чего вы любезны по отношению к нему! Даете ему возможность показать себя своей красавице в поединке на шпагах! В таком случае мы будем только судьями. Хотя я лично предпочел бы драться сам, а то горит плечо.
– А лицо? – спросил Морвель. – Ему ведь тоже порядочно досталось!
Коконнас зарычал от злости.
– Дьявольщина! Надеюсь, что Ла Моль умер, – сказал он, – в противном случае я вернусь в Лувр, чтобы его прикончить.
Ла Юрьер продолжал стучать.
Наконец одно окно во втором этаже открылось, и на балконе появился какой-то мужчина в ночном колпаке, в кальсонах и без оружия.
– Кто там? – крикнул он.
Морвель сделал знак швейцарцам спрятаться за угол дома, а Коконнас прижался к стене.
– Ах, вы ли это, месье де Муи? – ласково спросил трактирщик.
– Да, я! Что дальше?
Морвель затрепетал от радости и прошептал:
– Да, это он.
– Месье де Муи, – продолжал Ла Юрьер, – неужели вы не знаете, что происходит? Зарезали адмирала, избивают наших духовных братьев. Бегите на помощь! Скорей, скорей!
– А-а! Я так и чувствовал – что-то затевают в эту ночь! Не надо было мне оставлять храбрых товарищей. Сейчас, мой друг! Подождите меня, я сейчас.
Муи, даже не затворив окна, откуда донеслись крики испуганной женщины и слова нежной мольбы, быстро надел колет, плащ и оружие.
– Он сходит вниз! Он сходит! – бормотал бледный от радости Морвель. – Гляди в оба! – шепнул он швейцарцам.
Потом он взял аркебузу из рук Коконнаса и подул на фитиль, пробуя, хорошо ли он горит.
– На, Ла Юрьер! – сказал он трактирщику, отошедшему к швейцарцам. – Бери свою аркебузу.
– Дьявольщина! – сказал Коконнас. – Вот и луна, как нарочно, вышла из-за тучи, чтобы присутствовать при таком прекрасном поединке. Дорого бы я дал за то, чтобы Ламбер Меркандон очутился здесь и был секундантом у месье де Муи.
– Погодите, погодите! – ответил Морвель. – Месье де Муи один стоит десятерых, и, пожалуй, нас шестерых не хватит, чтобы с ним справиться… Ну, вы! Подходите! – обратился он к швейцарцам, приказывая им знаками проскользнуть к самой двери и нанести удар, как только выйдет де Муи.
– Та-та-та! – произнес Коконнас, глядя на эти приготовления. – Похоже на то, что все произойдет не совсем так, как я предполагал.
Послышался лязг засова, который отодвигал де Муи. Швейцарцы вышли из своего прикрытия и заняли места у двери. Морвель и Ла Юрьер подошли на цыпочках, и только Коконнас, сохранивший остатки дворянской чести, не сдвинулся со своего места; но в это время молодая женщина, уже забытая убийцами, вышла на балкон и, увидев швейцарцев, Ла Юрьера и Морвеля, громко вскрикнула.
Де Муи, приотворивший было дверь, остановился.
– Назад! Назад! – кричала молодая женщина. – Я вижу, там сверкают шпаги и светится огонек на фитиле у аркебузы. Это ловушка!
– Ого! – прогремел голос молодого человека. – Посмотрим, в чем тут дело.
Он захлопнул дверь, задвинул засов, опустил щеколду и поднялся наверх.
Убедившись, что де Муи теперь не выйдет, Морвель изменил боевой порядок. Швейцарцы заняли позицию на другой стороне улицы, Ла Юрьер изготовился стрелять, как только враг покажется в окне. Ему не пришлось ждать долго. Де Муи вышел на балкон, вооруженный пистолетами такой почтенной длины, что Ла Юрьер, уже прицелившись в него, сразу сообразил, что гугенотские пули пролетят от балкона до улицы не дольше, чем его пуля от улицы до балкона. «Конечно, – сказал он про себя, – я могу убить этого дворянина, но и этот дворянин может убить меня». А так как мэтр Ла Юрьер по роду занятий был не солдатом, а трактирщиком, то эта мысль определила его решение отступить и поискать убежища за углом улицы Брак – на расстоянии, достаточно далеком, чтобы спокойно и с известной точностью установить в этой темноте линию полета своей пули до де Муи.
Де Муи быстро огляделся и двинулся вперед, «закрываясь» как в поединке, но, не видя противника, сказал:
– Эй, господин уведомитель! Вы, кажется, забыли вашу аркебузу у моей двери. Вот я, что вам угодно?
«Та-та-та! Да это в самом деле молодец», – подумал Коконнас.
– Ну, что же? – продолжал де Муи. – Кто бы вы ни были – враги или друзья, вы видите, я жду!
Ла Юрьер молчал, Морвель тоже не ответил. Швейцарцы притаились.
Коконнас подождал с минуту, но, видя, что никто не продолжает разговора, начатого Ла Юрьером с де Муи, вышел на середину улицы, снял шляпу и обратился к де Муи:
– Месье, мы явились не для убийства, как вы могли подумать, а для поединка… Я пришел вместе с одним из ваших врагов, который хотел сразиться с вами, чтобы благородным образом положить конец старинной распре. Эй! Месье Морвель, чего вы прячетесь? Выходите на поле битвы: месье принимает вызов.
– Морвель! – вскрикнул де Муи. – Морвель, убийца моего отца! Морвель – Королевский Истребитель. Ага! Черт его возьми, я принимаю вызов!
Морвель бросился за подкреплением в дом Гиза и начал стучать в дверь, тогда де Муи прицелился в Морвеля и прострелил ему шляпу.
На звук выстрела и на крик Морвеля выбежали телохранители, сопровождавшие герцогиню Невэрскую, за ними – трое или четверо дворян со своими пажами, и все подошли к дому возлюбленной де Муи.
Новый выстрел из второго пистолета, направленный в эту толпу, убил солдата, стоявшего рядом с Морвелем. Разрядив пистолеты, де Муи оказался безоружным, вернее, с оружием, но бесполезным, так как противники были недосягаемы для его шпаги, и он спрятался за колоннами балкона.
Между тем в соседних домах то там, то здесь стали отворяться окна, и, смотря по характеру обитателей, мирному или воинственному, они или затворялись снова, или щетинились стволами мушкетов и аркебуз.
– Ко мне! На помощь, храбрый Меркандон! – крикнул де Муи уже старому мужчине, который только что отворил свое окно, выходившее в сторону особняка Гиза, и старался разобрать что-нибудь в этой суматохе.
– Это вы, сир де Муи? – крикнул старик. – Значит, добираются и до вас?
– До меня, до вас, до всех протестантов! А вот вам и доказательство.
Действительно, в эту минуту де Муи заметил, что Ла Юрьер навел на него аркебузу. Прогремел выстрел, но молодой человек успел присесть, и пуля разбила стекло у него над головой.
– Меркандон! – вскрикнул Коконнас, который весь трепетал от радости при виде этой заварухи, забыв о кредиторе, и только сейчас вспомнил про него благодаря де Муи. – Ну да, Меркандон, улица Де-Шом, он самый! Хорошо, что он живет здесь, теперь у каждого будет свой противник.
Между тем как люди из особняка Гиза вышибали двери в доме, где находился де Муи, Морвель с факелом в руке пытался поджечь и самый дом. Когда двери были разбиты, внутри дома завязался страшный бой против одного человека, который каждым ударом своей рапиры убивал врага, а в это время Коконнас пытался камнем, выломанным из мостовой, разбить двери в доме Меркандона, но старик, не обращая внимания на эту одинокую попытку, палил из своего окна.
Наконец пустынный и темный квартал весь осветился как днем и заворошился, как муравейник: из особняка Монморанси вышли семь или восемь дворян-гугенотов с друзьями и слугами, бешено атаковали и, при поддержке стрелявших из окон, начали теснить отряд Морвеля и людей из особняка Гиза, прижав их в конце концов к дверям, из которых эти люди вышли.
Коконнасу все же не удалось вышибить дверь у Меркандона, так как внезапное отступление гизовцев захватило и его, хотя он отбивался изо всех сил. Тогда пьемонтец встал спиной к стене, взял шпагу в правую руку и начал не только защищаться, но и нападать с неистовыми выкриками, покрывавшими собой шум общей свалки. Он наносил удары направо и налево, друзьям и врагам, пока вокруг него не образовалось пустое широкое пространство. Всякий раз, когда его рапира, протыкая вражескую грудь, обрызгивала ему лицо и руки теплой кровью, глаза его широко раскрывались, ноздри раздувались, зубы сжимались, и он вновь отвоевывал потерянную территорию, все больше приближаясь к осажденному особняку.
Де Муи, после яростной схватки на лестнице и в вестибюле, покинул охваченный пожаром дом, выказав себя настоящим героем. Все время, пока шел бой, он кричал: «Сюда, Морвель! Куда ж ты делся?» – и награждал его крайне нелестными эпитетами. Наконец де Муи вышел на улицу; левой рукой он поддерживал свою возлюбленную, полуголую, почти без чувств, а в стиснутых зубах держал кинжал. Шпага в другой руке, сверкавшая от быстрого вращения как пламя, ходила то белыми, то красными кругами, отражая своей окровавленной сталью то серебристый свет луны, то красный отблеск факела. Морвель бежал. Ла Юрьер, отброшенный атакой де Муи на Коконнаса, который не узнал его и встретил острием шпаги, был вынужден просить пощады у двух враждующих сторон. В эту минуту его заметил Меркандон и, по белой перевязи на рукаве, признал в нем заговорщика-убийцу.
Раздался выстрел. Ла Юрьер вскрикнул, протянул вперед руки, выронил аркебузу, хотел добраться до стены, чтобы удержаться на ногах, но не успел и рухнул ничком на землю.
Де Муи воспользовался обстановкой, свернул в переулок Паради и скрылся.
Гугеноты дали такой отпор, что люди из особняка Гиза отступили, вошли в дом и заперли входные двери, боясь штурма и драки в самом доме.
Коконнас, опьяненный видом крови и шумом битвы, дошел до такого увлечения, когда храбрость, в особенности у южан, становится безумной, – он ничего не видел, ничего не слышал. Он лишь почувствовал, что в ушах звенело уже тише, что лоб и руки становились суше, и, опустив наконец шпагу, только тогда заметил, что перед ним лежит какой-то человек, лицом уткнувшись в лужу крови, а вокруг одни горящие дома.
Но эта минута оказалась короткой передышкой: лишь только он собрался подойти к лежавшему, догадываясь, что это Ла Юрьер, как дверь, которую он тщетно пытался вышибить булыжником, вдруг растворилась, и старый Меркандон с двумя племянниками и сыном набросились на переводившего дух Коконнаса.
– Вот он! Вот он! – кричали они в один голос.
Коконнас стоял посреди улицы и подвергался опасности быть окруженным четырьмя противниками, атаковавшими его одновременно, поэтому он, подражая сернам, на которых, бывало, охотился в горах, сделал большой скачок назад и стал спиной к фасаду дома Гиза. Обезопасив себя от всяких неожиданностей, он вновь обрел свою насмешливость и, став в позицию, сказал:
– Та-та-та! Папаша Меркандон! Вы что ж, меня не узнаете?
– Ах, негодяй! – воскликнул старый гугенот. – Наоборот, я очень хорошо тебя узнал! Ты покушался на меня, на друга и компаньона твоего отца?
– И его заимодавца, да?
– Да, и его заимодавца, как ты говоришь.
– Я и пришел уладить наши счеты.
– Хватай! Вяжи его! – крикнул старик сопровождавшим его сыну и племянникам.
Молодые люди бросились к тому месту, где стоял Коконнас.
– Одну минуту, одну минуту! – сказал, смеясь, пьемонтец. – Чтобы арестовать человека, надо иметь приказ о взятии под стражу, а вы забыли попросить его у верховного судьи.
С этими словами он скрестил свою шпагу со шпагой ближайшего молодого человека и тотчас, сделав обманное движение, обрубил ему кисть руки, державшую оружие. Несчастный взвыл от боли.
– Один! – крикнул Коконнас.
В то же мгновение окно, под которым стоял пьемонтец, со скрипом отворилось. Коконнас отскочил, боясь атаки и с этой стороны, но вместо нового врага в окошке показалась женщина, а вместо какого-нибудь опасного предмета к его ногам упал букет цветов.
– Женщина?! Вот как! – сказал Коконнас.
Он отсалютовал даме шпагой и нагнулся поднять букет.
– Берегитесь, берегитесь, храбрый католик! – крикнула дама.
Коконнас выпрямился, но недостаточно быстро, и кинжал второго племянника, прорезав плащ пьемонтца, нанес ему рану в другое плечо.
Дама пронзительно вскрикнула. Коконнас, одним жестом поблагодарив ее и успокоив, набросился на второго племянника, который ушел от этого удара, но при второй атаке поскользнулся в луже крови. Коконнас кинулся на него с быстротой рыси и пронзил ему грудь шпагой.
– Браво! Браво, храбрый рыцарь! – воскликнула дама. – Браво! Я сейчас вышлю вам подмогу.
– Не стоит беспокоиться, мадам! – ответил Коконнас. – Если это вас интересует, то лучше досмотрите до конца, и вы увидите, как расправляется с гугенотами граф Аннибал де Коконнас.
В это время сын старика Меркандона почти в упор выстрелил из пистолета в Коконнаса. Коконнас упал на одно колено; дама вскрикнула, но пьемонтец встал невредим, – упав нарочно, чтобы избежать пули, которая и просверлила стену в двух футах от красивой зрительницы.
Почти одновременно из окна в жилище Меркандона раздался яростный крик, и старая женщина, узнав по белому кресту и белой перевязи, что Коконнас католик, швырнула в него цветочный горшок и попала ему в ногу выше колена.
– Прекрасно! – сказал пьемонтец. – Одна бросает мне цветы, другая – горшок к ним. Если так будет продолжаться, то разнесут из-за меня и самый дом.
– Спасибо, матушка, спасибо! – крикнул юноша.
– Валяй, жена, валяй! – крикнул старик Меркандон. – Только не задень нас!
– Подождите, подождите, месье Коконнас, – крикнула ему дама из особняка Гиза, – я прикажу стрелять из окон!
– Вот как! Да это целый женский ад, где одни женщины за меня, а другие – против! – сказал пьемонтец. – Дьявольщина! Надо кончать!
Действительно, вся обстановка сильно изменилась, и дело явно шло к развязке. Хотя Коконнас был ранен, но находился во всем расцвете своих двадцати лет, привык к боям, и три или четыре полученные им царапины не столько ослабили его, сколько обозлили. Против него остались только Меркандон и его сын – старик на седьмом десятке лет и юноша лет семнадцати, бледный и хрупкий блондин; он бросил свой разряженный, бесполезный пистолет и в трепете размахивал своей шпажонкой, наполовину короче шпаги Коконнаса; отец, вооруженный лишь кинжалом и незаряженной аркебузой, звал на помощь. В окне напротив старая женщина, мать юноши, держала в руках кусок мрамора и собиралась его сбросить. Пьемонтец, возбужденный угрожающими действиями с одной стороны и поощрениями с другой, гордый своей двойной победой, опьяненный запахом пороха и крови, озаренный отсветами горящих зданий, воодушевленный сознанием того, что бьется на глазах у женщины, казалось, занимавшей по красоте такую же высокую ступень, какую занимала в обществе, – этот Коконнас, подобно последнему из всех Горациев, ощутил в себе двойную силу и, заметив нерешительность юного противника, подскочил к нему, скрестил свою страшную окровавленную рапиру с его шпажонкой и в два приема выбил ее из руки. Тогда Меркандон постарался оттеснить пьемонтца с таким расчетом, чтобы предметы, брошенные из окна, могли попасть в него вернее. Но Коконнас неожиданным маневром обезопасил себя от двойной угрозы – от Меркандона, пытавшегося ткнуть его кинжалом, и от старухи матери, уже готовой бросить камень и раздробить врагу череп. Он схватил юного противника в охапку и, зажав в своих геркулесовых объятиях, начал подставлять его как щит под все удары.
– Помогите, помогите! – кричал юноша. – Он мне раздавит грудь! Помогите, помогите!
Голос его переходил в глухое, сдавленное хрипение.
Тогда Меркандон бросил свои угрозы и начал умолять:
– Пощадите! Пощадите, месье, он у меня единственный ребенок!
– Мой сын! Мой сын! – кричала мать. – Надежда нашей старости! Не убивайте его! Не убивайте!
– А-а, вот как! – воскликнул Коконнас и расхохотался. – Не убивать? А что он хотел сделать со мной своим пистолетом и шпагой?
– Месье, – продолжал Меркандон, умоляюще складывая руки, – у меня есть денежное обязательство, подписанное вашим отцом, – я вам верну его; у меня десять тысяч экю золотом – я их отдам вам; у меня есть семейные драгоценности – они будут ваши, только не убивайте, не убивайте!
– А у меня есть любовь, – вполголоса сказала дама из дома Гиза, – я обещаю ее вам!
Пьемонтец на одно мгновение призадумался, потом спросил юношу:
– Вы гугенот?
– Да, гугенот, – пролепетал юноша.
– Тогда – смерть! – ответил Коконнас, нахмурив брови и поднося к груди противника тонкий, узенький кинжальчик, так называемый «мизерикорд».
– Смерть! – вскрикнул старик. – Мое дитя! Мое несчастное дитя!
Послышался вопль старухи матери, проникнутый такой глубокой скорбью, что пьемонтец на минуту приостановил исполнение своего жестокого приговора.
– О герцогиня! – взмолился Меркандон, обращаясь к даме, смотревшей из особняка Гиза. – Вступитесь за нашего ребенка, а мы вас будем поминать в наших вечерних и утренних молитвах.
– Пусть он перейдет в католичество! – сказала дама из особняка Гиза.
– Я протестант, – ответил юноша.
– Тогда умри, раз тебе недорога жизнь, которую дарит тебе такая красавица!
Меркандон и его жена увидели, как молнией сверкнул страшный клинок над головой их сына.
– Сын мой, мой Оливье! Отрекись… отрекись! – взывала к нему мать.
– Отрекись, сынок! Не оставляй нас одинокими на свете, – кричал Меркандон, валяясь в ногах у Коконнаса.
– Отрекайтесь все трое! – воскликнул Коконнас. – Спасение трех душ и одной жизни за «Верую».
– Согласны! – воскликнули Меркандон и его жена.
– На колени! – приказал Коконнас. – И пусть твой сын повторяет за мной молитву слово в слово.
Отец первым встал на колени.
– Я готов, – ответил сын и тоже встал на колени.
Коконнас начал произносить латинские слова молитвы. Случайно или намеренно, но только юный Оливье встал на колени у того места, куда отлетела его шпага. Как только юноша сообразил, что может достать до нее рукой, он, повторяя слова молитвы, протянул руку к шпаге. Коконнас заметил его маневр, но не подал виду. Когда же юноша дотронулся концами пальцев до рукояти шпаги, Коконнас бросился на него, повалил на землю и со словами: «А-а! Предатель!» – вонзил ему в горло кинжал.
Юноша вскрикнул, судорожно приподнялся и упал мертвый.
– Палач! – крикнул Меркандон. – Ты убиваешь нас, чтобы украсть сто ноблей, которые нам должен.
– Честное слово, нет! – возразил Коконнас. – Я докажу…
С этими словами пьемонтец швырнул к ногам старика кошелек, который вручил ему отец, чтобы вернуть долг парижскому заимодавцу.
– И доказал! – продолжал Коконнас. – Вот ваши деньги!
– А вот твоя смерть! – крикнула мать из своего окна.
– Берегитесь! Берегитесь, месье Коконнас! – воскликнула дама из особняка Гиза.
Не успел Коконнас повернуть голову, чтобы сообразоваться с предостережением дамы и избежать грозившей опасности, как тяжелая каменная глыба прорезала со свистом воздух, плашмя упала на шляпу храбреца, сломала шпагу, а самого его свалила на мостовую, где он и распростерся, оглушенный ударом, потеряв сознание, не слыша ни крика радости, ни крика отчаяния, раздавшихся одновременно с левой и с правой стороны.
Старик, держа в руке кинжал, сейчас же кинулся к врагу, лежавшему без чувств. Но в тот же миг дверь в доме Гиза распахнулась, и Меркандон, завидев блеск шпаг и протазанов, убежал. А в это время дама, названная им герцогиней, наполовину высунулась из окна, сияя в зареве пожара страшной красотой и ослепительной игрою самоцветов и алмазов; она указывала рукой на Коконнаса, крича вышедшим из дома людям:
– Здесь, здесь! Напротив меня! Дворянин в красном колете… Да, этот, этот!..
X. Смерть, обедня или Бастилия
Как читателю уже известно, Маргарита, заперев дверь, вернулась к себе. Но когда она с трепетом входила в спальню, ей прежде всего бросилась в глаза Жийона, которая в ужасе прижалась к двери кабинета, глядя на пятна крови, разбрызганной по мебели, постели и ковру.
– Ох, мадам! – воскликнула она, увидев королеву. – Неужели он умер?
– Тише, Жийона, – ответила Маргарита строгим тоном, подчеркнувшим необходимость такого требования.
Жийона умолкла. Маргарита вынула из кошелька золоченый ключик и, отворив дверь в кабинет, указала своей приближенной на молодого человека.
Ла Моль кое-как встал и подошел к окну. Под руку ему попался маленький кинжальчик, какие в те времена носили женщины, и он схватил его, услышав, что отпирают дверь.
– Месье, не бойтесь ничего, – сказала Маргарита. – Клянусь, вы в безопасности!
Ла Моль упал на колени.
– О мадам, – воскликнул он, – вы для меня больше чем королева! Вы божество!
– Не волнуйтесь так, месье, – сказала королева, – у вас еще продолжается кровотечение… Взгляни, Жийона, как он бледен. Послушайте, куда вы ранены?
– Мадам, – говорил Ла Моль, стараясь разобраться в охватившей все тело боли и установить главные болевые точки, – помнится, что первый удар мне нанесли в плечо, а второй – в грудь, все остальные раны не стоят внимания.
– Это мы увидим, – ответила Маргарита. – Жийона, принеси мне шкатулочку с бальзамами.
Жийона вышла и тотчас вернулась, держа в одной руке шкатулочку, в другой серебряный, позолоченный кувшин с водой и кусок тонкого голландского полотна.
– Жийона, помоги мне приподнять его, – сказала Маргарита. – Если он будет приподниматься сам, то лишится последних сил.
– Мадам, я так смущен… я, право, не могу позволить…
– Я надеюсь, месье, вы не будете мешать нам делать наше дело, – сказала Маргарита. – Раз мы можем вас спасти, было бы преступлением дать вам умереть.
– О, я предпочел бы умереть, – воскликнул Ла Моль, – но не видеть, как вы, королева, пачкаете руки в моей недостойной крови!.. О, ни за что! Ни за что!
И он почтительно отстранился от нее.
– Ах, дорогой мой дворянин, – улыбаясь, ответила Жийона, – да вы уже испачкали своею кровью и постель, и всю комнату ее величества.
Маргарита запахнула халат на своем батистовом пеньюаре, пестревшем кровяными пятнами. Это стыдливое женское движение напомнило Ла Молю, что он держал в своих объятиях и прижимал к своей груди эту красивую, горячо любимую им королеву, и легкий румянец стыда мелькнул на бледных щеках юноши.
– Мадам, – слабым голосом проговорил он, – разве вы не можете передать меня на излечение какому-нибудь хирургу?
– Хирургу-католику, да? – спросила королева с таким оттенком в голосе, что Ла Моль вздрогнул.
– Разве вы не знаете, – продолжала Маргарита с неизъяснимой теплотой в голосе и взгляде, – что в воспитание королевских дочерей входит изучение свойств растений и умение приготовлять целебные бальзамы? Во все времена обязанностью королев и женщин было облегчать страдания. И, как уверяют, по крайней мере, наши льстецы, мы не уступим любому хирургу. Разве до вас не доходили слухи о моем искусстве врачевания? Ну, Жийона, примемся за дело!
Ла Моль попытался еще раз оказать сопротивление, повторяя, что предпочитает умереть, чем возлагать на королеву такой труд, что ее заботы, вызванные состраданием, могут после возбудить отвращение к нему. Но это сопротивление только истощило его силы – глаза его закрылись, голова откинулась назад, и он во второй раз лишился чувств.
Маргарита подняла выпавший у него из руки кинжал, быстро перерезала им шнуры на колете, в то время как Жийона распорола или, вернее, взрезала рукава.
Затем Жийона взяла льняную тряпочку, смочила ее свежей водой и смыла кровь, сочившуюся из плеча и груди молодого человека, а Маргарита, взяв золотой зонд, начала исследовать раны так осторожно, так умело, что это сделало бы честь хоть самому Амбруазу Паре.
Рана в плече оказалась глубокой, удар же в грудь скользнул по ребрам и ранил только мускулы; но ни одна из этих ран не повредила того естественного панциря, который предохраняет легкие и сердце.
– Рана болезненная, но не смертельная, acerrimum humeri vulnus, non autem lethale, – прошептала ученая красавица-хирург. – Дай мне бальзам, Жийона, и приготовь корпию.
Между тем Жийона, не дожидаясь распоряжения королевы, вытерла насухо и надушила грудь молодого человека, его руки античной формы, его красиво развернутые плечи и его шею, прикрытую густыми кудрями, больше походившую на шею статуи из паросского мрамора, чем на часть тела израненного, чуть живого молодого человека.
– Бедняга, – прошептала Жийона, любуясь не столько делом рук своих, сколько самим объектом их стараний.
– Красив! Не правда ли? – спросила Маргарита с царственной откровенностью.
– Да, мадам, но, по-моему, не следовало бы оставлять его на полу; нужно поднять его и положить на диван.
– Верно, – ответила Маргарита.
Обе женщины нагнулись, соединенными усилиями приподняли Ла Моля и положили его на широкую софу с резной спинкой, стоявшую у окна, которое они приоткрыли, чтобы раненый дышал чистым воздухом.
Ла Моль, разбуженный этим перемещением, вздохнул и открыл глаза. Он находился теперь в том блаженном состоянии, какое испытывает раненый, возвращаясь к жизни и чувствуя вместо жгучих болей полное успокоение, а вместо теплого, противного запаха крови – благоухание бальзамов. Он начал лепетать какие-то бессвязные слова, но Маргарита с улыбкой приложила свой пальчик к его губам. Послышался стук в дверь.
– Это стучатся у потайного хода, – сказала Маргарита.
– Кто бы это мог быть? – спросила Жийона.
– Я пойду посмотрю, – сказала Маргарита, – а ты останься здесь и не отходи от него ни на минуту.
Маргарита затворила дверь в кабинет, вернулась к себе в комнату и отперла дверь потайного хода.
– Мадам де Сов! – воскликнула она, отшатываясь от баронессы под влиянием не чувства страха, а скорее вражды, как бы оправдывая мнение, что женщина никогда не прощает другой женщине, отнявшей у нее хотя бы и нелюбимого мужчину.
– Да, это я, ваше величество! – промолвила мадам де Сов, умоляюще складывая руки.
– И вы здесь, мадам? – продолжала Маргарита, все больше изумляясь и в то же время повышая голос.
Шарлотта упала на колени.
– Мадам, простите, – говорила она, – я сознаю, как я перед вами виновата. Но если бы вы знали все!.. Не вся вина лежит на мне, был и особый приказ королевы-матери!
– Встаньте, – сказала Маргарита. – Я полагаю, вы явились не для того, чтобы оправдываться передо мной! Встаньте и говорите, зачем вы пришли?
– Мадам, я пришла… – с блуждающим взглядом говорила Шарлотта, продолжая стоять на коленях, – я пришла, чтобы узнать, не здесь ли он?..
– Кто – здесь? О ком вы говорите?.. Не понимаю.
– О короле.
– О короле? Вы бегаете за ним даже ко мне?! Вы же отлично знаете, что здесь он не бывает.
– Ах, мадам! – продолжала баронесса, не отвечая на эти колкие слова и, видимо, даже не осознавая их истинного смысла. – Дай бог, чтоб он был здесь!
– А почему?
– Ах, боже мой, мадам! Да потому, что гугенотов избивают, а он глава их.
– О, я забыла об этом! – воскликнула Маргарита, хватая за руку мадам де Сов и вынуждая ее встать. – Я не подумала, что королю может грозить такая же опасность, как другим.
– Б?льшая, мадам, – воскликнула баронесса де Сов, – в тысячу раз большая, чем другим!
– Правда, герцогиня Лотарингская меня предупреждала. Я говорила ему, чтоб он не выходил на улицу. Разве он вышел?
– Нет, нет, он в Лувре. Но его нет нигде! Если он не здесь…
– Его здесь нет…
– О-о! – воскликнула мадам де Сов в порыве горя. – Тогда ему конец! Королева-мать поклялась его уничтожить.
– Уничтожить! О, вы меня пугаете. Это невозможно.
– Мадам, мадам, – заговорила баронесса с такой настойчивостью, какую внушает только страсть, – я повторяю вам: никто не знает, куда девался король Наваррский.
– А где королева-мать?
– Королева-мать послала меня за герцогом Гизом и месье Таваном, которые находились у нее в молельне, а потом велела мне уйти. Тогда я пошла к себе и, простите, мадам, стала ждать, как обыкновенно…
– Моего мужа, да? – спросила Маргарита.
– Он не пришел, мадам. Тогда я начала его искать повсюду, спрашивала всех. Только один солдат сказал мне, будто бы видел, как король шел в сопровождении конвоя с обнаженными шпагами, и было это до избиения гугенотов, а избиение началось час тому назад.
– Благодарю, мадам, – сказала Маргарита. – И хотя чувство, побудившее вас действовать так, для меня только лишняя обида, я все же вас благодарю.
– О мадам, в таком случае простите, с вашим прощением я пойду к себе бодрее; я не решаюсь следовать за вами даже издали.
Маргарита протянула ей руку.
– Идите к себе, а я пойду к королеве-матери. Король Наваррский под моей защитой – я обещала быть ему союзницей и сдержу слово.
– А если вам не удастся пройти к королеве-матери?
– Тогда я пройду к брату Карлу, надо будет поговорить с ним.
– Идите, идите, мадам, – сказала баронесса, уступая дорогу Маргарите, – и дай вам боже счастливый путь!
Маргарита быстро пошла по коридору. Но в конце его обернулась и посмотрела, не идет ли сзади мадам де Сов. Мадам де Сов шла вслед за ней. Убедившись, что она свернула на лестницу, которая вела к ней в комнаты, королева Наваррская направилась к королеве-матери.
Вся обстановка в Лувре изменилась. Вместо толпы придворных, которые, почтительно приветствуя ее, давали ей дорогу, Маргарита все время натыкалась или на дворцовых стражей с окровавленными протазанами и в одежде, выпачканной кровью, или же на дворян в пробитых оружием плащах и с лицами, измазанными пороховой гарью; они разносили приказания и депеши – одни входили, другие выходили. Все эти люди, сновавшие взад и вперед по галереям, напоминали какой-то страшный огромный муравейник.
Но Маргарита все же быстро двигалась вперед и наконец дошла до передней комнаты в покоях королевы-матери. В передней стояли в два ряда солдаты, не пропуская никого, кроме лиц, знавших особый пароль.
Маргарита тщетно пыталась пробраться сквозь эту живую изгородь. Дверь в комнату Екатерины Медичи то отворялась, то затворялась, и в растворявшуюся дверь Маргарита видела королеву-мать, помолодевшую от делового возбуждения и полную энергии, точно ей было двадцать лет. Она то принимала письма, их распечатывала и читала, то сама писала, то раздавала приказания, одним что-то говорила, другим лишь улыбалась, награждая более дружеской улыбкой тех, кто больше был запылен и обагрен кровью.
Среди этой великой суматохи, наполнявшей Лувр страшным шумом, с улицы доносились, все учащаясь, ружейные выстрелы.
После трех безрезультатных попыток добиться пропуска у алебардщиков, Маргарита решила: «Мне ни за что не проникнуть к ней. Лучше, не теряя времени, пойти к брату».
В это время шел мимо Гиз, который доложил королеве-матери о смерти адмирала и теперь возвращался продолжать бойню.
– Генрих! – окликнула его Маргарита. – Где король Наваррский?
Герцог с усмешкой удивленно взглянул на Маргариту, раскланялся и молча вышел в сопровождении своей охраны.
Маргарита догнала одного командира, который уже выводил свой отряд из Лувра, но задержался перед выходом, приказав отряду зарядить аркебузы.
– Где король Наваррский? Месье, скажите, где король Наваррский?
– Не знаю, мадам, я не из охраны его величества, – ответил командир.
– А-а, дорогой Рене! – воскликнула Маргарита, увидев парфюмера Екатерины Медичи. – Вы… вы от королевы-матери? Не знаете ли, что сталось с моим мужем?
– Мадам, вы, вероятно, забыли, что его величество совсем не друг мне… Даже говорят, – добавил он с такой злой улыбкой, точно не улыбался, а собирался укусить, – даже говорят, что король Наваррский решился обвинить меня в том, что я в соучастии с ее величеством королевой Екатериной отравил его мать.
– Нет! Нет! Милейший Рене, – воскликнула Маргарита, – не верьте этому!
– О, мне это безразлично, мадам! – ответил парфюмер. – Теперь уж нечего бояться короля Наваррского и его сторонников.
И парфюмер пошел прочь от Маргариты.
– Месье Таван! Месье Таван! – крикнула Маргарита проходившему Тавану. – Прошу вас, на одно слово!
Таван остановился.
– Где Генрих Наваррский? – спросила она.
– Где?! Думаю, что разгуливает в городе вместе с герцогом Алансонским и принцем Конде. – Потом чуть внятно, так, чтобы одна Маргарита слышала его, добавил: – Ваше прекрасное величество, если вам угодно видеть того, за чье место я отдам жизнь, постучитесь в королевскую Оружейную.
– Спасибо, Таван! Благодарю вас, я иду туда сейчас же, – ответила Маргарита, уловившая из слов Тавана только это важное для нее указание.
Маргарита поспешила на половину короля, рассуждая про себя: «О! После того, что я обещала ему, после того, как обошелся он со мной в ту ночь, когда неблагодарный Генрих Гиз прятался у меня в кабинете, я не могу допустить его гибели!»
Она постучалась в двери королевских покоев, но тут же ее окружили два отряда дворцовой стражи.
– К королю входа нет, – сказал подошедший офицер.
– А мне? – возразила Маргарита.
– Приказ для всех.
– Но я королева Наваррская! Я его сестра!
– Мадам, приказ не допускает исключений. Примите мои извинения.
И офицер запер дверь.
– Он погиб! – воскликнула Маргарита, встревоженная зловещим видом всех этих людей, или дышавших местью, или непреклонных. – Да, теперь все понятно… Из меня сделали приманку… Я ловушка, в которую поймали гугенотов, и теперь их избивают. О нет! Я все-таки войду, хотя бы мне грозила смерть!
Маргарита мчалась как сумасшедшая по коридорам и галереям, как вдруг, пробегая мимо одной двери, услышала тихое, однообразно-унылое пение. Кто-то в комнате за этой дверью пел дрожащим голосом кальвинистский псалом.
– Ах, это милая Мадлон, кормилица моего брата – короля! – воскликнула Маргарита, озаренная мелькнувшей у нее мыслью. – Это она!.. Господь, покровитель всех христиан, помоги мне!
И Маргарита тихонько постучалась в небольшую дверь.
Когда Генрих Наваррский, выслушав предупреждение Маргариты и поговорив с Рене, все-таки вышел от королевы-матери, хотя маленькая собачка Феба, как добрый гений, старалась не пустить его, он встретил нескольких дворян-католиков, которые, под видом оказания почета, проводили Генриха до его покоев, где собрались человек двадцать гугенотов и, раз уже собравшись, решили не покидать своего молодого короля, так как что-то недоброе чувствовалось в Лувре еще за несколько часов до этой роковой ночи. Они остались, и никто их не беспокоил. Но при первом ударе в колокол на Сен-Жермен-Л’Озеруа, отдавшемся в сердцах этих людей как похоронный звон, вошел Таван и среди гробового молчания объявил Генриху Наваррскому, что король Карл IX желает с ним поговорить.
О сопротивлении не могло быть речи, да эта мысль и не приходила никому в голову. В галереях и коридорах Лувра – сверху, снизу – слышался топот около двух тысяч солдат, собранных внутри здания и на дворе. Генрих Наваррский, простившись с друзьями, которых ему не суждено было увидеть вновь, пошел вслед за Таваном до маленькой галереи рядом с королевскими покоями, и здесь Таван оставил его одного, безоружного, с тяжелым гнетом всяких подозрений на душе.
Король Наваррский провел так, минута за минутой, жутких два часа, с возрастающим ужасом прислушиваясь к звукам набата и грому выстрелов. В стеклянное оконце Генрих видел, как в зареве пожара или при свете факелов мелькали палачи и жертвы, но не мог понять, что значили и эти вопли отчаяния, и эти крики: «Бей!» Несмотря на то что король Наваррский знал Карла IX, королеву-мать и герцога Гиза, он все же не мог себе представить всего ужаса драмы, свершавшейся в эти часы.
В нем не было природной храбрости, но было другое не менее ценное достоинство – большая сила духа: он боялся опасности, но шел с улыбкой навстречу ей в сражении – в открытом поле, при свете дня, на глазах у всех, под пронзительные звуки труб и дробные, глухие перекаты барабанов… А здесь стоял он безоружен, одинок, в неволе, в полутьме, где еле-еле можно было разглядеть врага, подкравшегося незаметно, и сталь, готовую разить. Эти два часа остались, пожалуй, самыми жестокими часами в его жизни.
Когда Генрих Наваррский уже начал понимать, что, по всей вероятности, происходит организованное избиение, к большому его смятению, вдруг появился какой-то капитан и повел его по коридору в покои короля. Едва они дошли до двери, как она открылась, пропустила их и тотчас, как по волшебству, закрылась вслед за ними. Затем капитан ввел Генриха Наваррского в Оружейную, где находился Карл IX.
Король сидел в высоком кресле, свесив голову на грудь и положив руки на подлокотники. При звуке шагов короля Наваррского и капитана Карл IX поднял голову, и Генрих Наваррский заметил крупные капли пота, выступившие у него на лбу.
– Добрый вечер, Анрио! – резко произнес молодой король. – Ла Шатр, оставьте нас!
Капитан вышел. Воцарилось мрачное молчание.
Генрих Наваррский с тревогой оглядел комнату и убедился, что они одни.
Вдруг Карл IX поднялся с кресла, быстрым движением откинул назад белокурые волосы, отер лоб и спросил:
– Черт подери, Анрио! Вы рады, что находитесь здесь, cо мной?
– Конечно, сир, – ответил король Наваррский, – я всегда счастлив быть с вашим величеством.
– Лучше быть здесь, чем там, не так ли? – заметил Карл IX, не столько отвечая на любезность своего зятя, сколько следуя течению своей мысли.
– Сир, я не понимаю… – ответил Генрих Наваррский.
– Взгляните – и поймете!
Король быстро подбежал, вернее, подскочил к окну и, подтащив к себе своего перепуганного зятя, указал ему на страшные силуэты палачей на палубе какой-то барки, где они резали или топили своих жертв, которых к ним приводили каждую минуту.
– Скажите же, ради бога, что происходит этой ночью?! – спросил белый как полотно король Наваррский.
– Месье, этой ночью меня избавляют от гугенотов. Видите вон там, над Бурбонским дворцом, дым и пламя? Это дым и пламя от пожара в доме адмирала. Видите это мертвое тело, которое добрые католики волокут на разодранном матраце? Это труп зятя адмирала и вашего друга Телиньи.
– Что это такое?! – воскликнул король Наваррский, почувствовав в этих словах издевательство, соединенное с угрозой, и, содрогаясь от гнева и стыда, тщетно пытался нащупать рукоять своего кинжала.
– А то, – выкрикнул Карл IX, вдруг приходя в ярость и страшно побледнев, – а то, что я не хочу иметь гугенотов вокруг себя! Теперь вам понятно, Анрио? Разве я не король? Не властелин?
– Но, ваше величество…
– Мое величество избивает сейчас всех, кто не католик! Такова моя воля! Вы не католик? – вскрикнул Карл IX, в котором гнев все время нарастал, как морской прилив.
– Сир, вспомните ваши слова: «Какое мне дело до религии тех, кто хорошо мне служит!»
– Ха-ха-ха! – залился мрачным смехом Карл. – Ты, Анрио, советуешь мне вспомнить мои слова! Verba volant, [25] как говорит моя сестричка Марго. А те, – продолжал он, показывая пальцем на город, – разве плохо служили мне? Не были храбры в бою, мудры в совете, неизменно преданы? Все они были хорошими подданными! Но они – гугеноты! А мне нужны только католики.
Генрих молчал.
– Пойми же меня, Анрио! – воскликнул Карл IX.
– Я понял, сир…
– И что же?
– Сир, я не представляю себе, почему бы королю Наваррскому не поступить так же, как поступили столько дворян и простых людей. В конце концов, все эти несчастные гибнут потому, что им предложили то самое, что ваше величество предлагает мне, а они это отвергли так же, как отвергаю это я.
Карл схватил своего зятя за руку и остановил на нем свой, обычно тусклый, взгляд, начинавший теперь светиться зверским огоньком.
– Ах, так ты воображаешь, что я брал на себя труд предлагать католичество тем, кого сейчас режут? – спросил Карл.
– Сир, – сказал Генрих Наваррский, освобождая свою руку, – когда придется умирать, ведь вы умрете в вере своих отцов?
– Да, черт побери! А ты?
– Я тоже, – ответил Генрих.
Карл взвыл от ярости и дрожащей рукой схватил лежавшую на столе аркебузу. Генрих Наваррский прижался к стене, пот выступил у него на лбу от смертельной истомы, но благодаря огромной силе самообладания он внешне был спокоен и следил за всеми движениями страшного монарха, застыв на месте, как птица, завороженная змеей.
Карл IX взвел курок аркебузы и в слепой ярости топнул ногой.
– Принимаешь мессу? – крикнул он, ослепляя Генриха сверканием рокового оружия.
Генрих молчал.
Карл потряс своды Лувра самым ужасным ругательством, какое когда-либо произносилось человеком, и лицо его из бледного сделалось зеленоватым.
– Смерть, месса или Бастилия! – крикнул он, прицеливаясь в Генриха.
– О сир! Неужели вы убьете меня, вашего брата?
Генрих Наваррский, с исключительным присутствием духа, составлявшим одно из самых главных его природных качеств, воздержался от прямого ответа на вопрос Карла, сознавая, что отрицательный ответ повлечет за собою смерть.
Как это бывает, вслед за сильным припадком ярости начала сказываться реакция: Карл IX не повторил своего вопроса. С минуту он только глухо хрипел, затем повернулся к открытому окну и прицелился в какого-то человека, бежавшего по набережной на той стороне реки.
– Надо же мне кого-нибудь убить! – крикнул он, бледный как смерть, с налитыми кровью глазами.
Он выстрелил и уложил бежавшего на месте. Генрих невольно охнул.
Тогда Карл IX в страшном возбуждении начал безостановочно перезаряжать свою аркебузу и стрелять, радостно вскрикивая при каждом удачном выстреле.
«Я погиб, – подумал король Наваррский, – как только ему не в кого будет стрелять, он убьет меня».
Вдруг сзади них раздался голос:
– Ну как? Свершилось?
Это была Екатерина, которая вошла неслышно, под гром последнего выстрела.
– Нет, тысяча чертей! – заорал Карл IX, швыряя на пол аркебузу. – Нет! Упрямец не хочет!..
Екатерина не ответила, а медленно перевела взгляд в сторону Генриха Наваррского, стоявшего так же неподвижно, как одна из фигур на стенном ковре, к которому он прислонился. Потом Екатерина снова посмотрела на Карла, как будто спрашивая взглядом: «Тогда почему он жив?»
– Он жив… Он жив… – заговорил Карл IX, хорошо поняв значение ее взгляда, и без колебаний ответил на него: – Он жив потому, что он мой родственник.
Екатерина усмехнулась.
Генрих заметил ее усмешку и понял, что ему надо бороться прежде всего с Екатериной.
– Мадам, я хорошо вижу, – сказал он ей, – все это дело ваших рук, а не моего шурина Карла. Вам пришла в голову мысль заманить меня в ловушку; вы задумали сделать из вашей дочери приманку, чтобы погубить нас всех; вы разлучили меня с моей женой, чтобы избавить ее от неприятного зрелища – смотреть, как будут убивать меня на ее глазах.
– Да, но этого не будет! – раздался чей-то прерывистый и страстный голос, который ободрил Генриха, но заставил вздрогнуть Карла от неожиданности, а королеву-мать от ярости.
– Маргарита! – воскликнул Генрих.
– Марго! – сказал Карл IX.
– Дочь! – прошептала Екатерина.
– Месье, – обратилась Маргарита к мужу, – вы правы и не правы. Правы в том, что я действительно оказалась орудием для того, чтобы погубить всех вас; не правы – поскольку я не знала, что вас ждет гибель. Сама я жива только благодаря случайности, а может быть – забывчивости моей матери; но как только я узнала о грозящей вам опасности, я тотчас вспомнила о своем долге. А долг жены – разделять судьбу своего мужа. Изгонят вас – я пойду в изгнание; заключат вас в тюрьму – я пойду в тюрьму; убьют вас – я приму смерть.
Она протянула мужу руку, и он сжал ее с чувством признательности, если не любви.
– Бедняжка Марго, ты лучше бы уговорила его стать католиком, – сказал Карл IX.
– Сир, поверьте мне, – ответила Маргарита со свойственным ей достоинством, – ради вас самих не требуйте подлости от члена вашей королевской семьи.
Екатерина многозначительно взглянула на короля Карла. Маргарита поняла страшную мимику Екатерины так же хорошо, как и Карл.
– Брат, – воскликнула она, – вспомните, что вы сами сделали его моим мужем!
Карл IX, под действием повелительного взгляда матери и умоляюще глядевших на него глаз сестры, одну минуту был в нерешительности. В конце концов Ормузд взял верх над Ариманом.
– Мадам, – сказал он на ухо Екатерине, – Марго действительно права, и Анрио – мой зять.
– Да, – ответила сыну, и тоже на ухо, Екатерина, – да… Но если бы он не был зятем?
Часть вторая
I. Боярышник у «Гробницы невинно убиенных»
Возвратясь в свои покои, Маргарита тщетно пыталась разгадать смысл того, что шепотом сказала Карлу королева-мать и почему ее слова сразу прекратили ужасное обсуждение вопроса о жизни или смерти короля Наваррского, которое она застала.
Часть утра Маргарита посвятила заботам о раненом Ла Моле, а другую часть тому, чтобы угадать слова Екатерины, но ее ум отказывался от решения такой задачи.
Король Наваррский остался в Лувре пленником. Преследование гугенотов продолжалось больше прежнего. За ужасной ночью наступил день еще более мерзких избиений. Колокола били не набат, а трезвонили «Те Deum», [26] но звуки меди, радостно звеневшие над сценами убийства и пожаров, казались при свете солнца даже унылее, чем мрачный звон, гудевший в темноте предшествующей ночи. К утру обнаружилось одно необычайное явление: за эту ночь боярышник, обычно расцветающий весной и теряющий в июне душистый свой наряд, расцвел еще раз. Католики признали это чудом, разнесли весть о нем по городу и, сделав бога своим сообщником, устроили церковный ход с крестами и хоругвями к «Гробнице невинно убиенных», где вдруг расцвел боярышник. Это как бы небесное благословение на происходящую резню подогрело рвение убийц.
И в то время, когда весь город, каждая улица, каждая площадь, каждый перекресток становились ареною убийства, Лувр уже стал братскою могилой всех протестантов, оказавшихся там в момент сигнала. В живых остались только король Наваррский, принц Конде и Ла Моль.
Состояние здоровья Ла Моля не тревожило больше Маргариту, так как подтвердились ее вчерашние слова о том, что его раны тяжелы, но не смертельны, и она занялась разрешением только одного вопроса: как спасти жизнь своему мужу, все еще находившуюся под угрозой? Несомненно, первое овладевшее ею чувство было естественное сострадание к человеку, которому она совсем недавно поклялась если и не в любви, то в дружбе. Но вслед за этим в сердце королевы проникло и другое чувство – не такое бескорыстное.
Маргарита была честолюбива: выходя замуж за Генриха Бурбона, она была почти уверена, что станет королевой на наваррском троне. Хотя с одной стороны король французский, а с другой – король испанский отрывали от Наварры целые куски и сократили территорию ее до половины, Генрих Бурбон в тех редких случаях, когда ему приходилось обнажать свой меч, выказывал большое мужество, и если он его проявит впредь, Наварра может стать настоящим королевством, объединив как своих подданных французских гугенотов.
Благодаря своему развитому и тонкому уму Маргарита все это предусмотрела и учла. Теряя Генриха, она теряла не только мужа, но и трон.
Она сидела, глубоко задумавшись над этим, как вдруг кто-то постучал в дверь из потайного хода. Она вздрогнула, так как лишь три лица ходили этим ходом: король, королева-мать и герцог Алансонский. Она приотворила дверь, сделала пальцем знак Жийоне и Ла Молю притаиться и пошла впустить посетителя.
Посетителем оказался герцог Алансонский. Молодой человек не появлялся со вчерашнего дня. На мгновение у Маргариты мелькнула мысль попросить его, чтоб он вступился за короля Наваррского, но одно тревожное соображение ее остановило: брак был заключен против воли Франсуа – он терпеть не мог Генриха и сохранял нейтралитет по отношению к нему только благодаря уверенности, что Генрих и его жена остались чужими друг для друга. Следовательно, всякий признак внимания Маргариты к своему супругу мог не отдалить, а приблизить к груди Генриха три угрожавших ему кинжала.
Вот почему Маргарита, увидев своего брата, испугалась еще больше, чем если бы увидала Карла IX и даже королеву-мать. По внешнему виду юного принца нельзя было себе представить, что в городе и в Лувре происходит нечто чрезвычайное: он был одет с большой изысканностью, как всегда. От его одежды и белья пахло духами, чего не выносил Карл IX, но чем злоупотребляли его братья – герцог Анжуйский и герцог Алансонский. Только изощренный глаз Маргариты мог заметить, что, хотя герцог был бледнее, чем обычно, а концы пальцев его холеных рук слегка дрожали, душу его наполняло радостное чувство.
Войдя, он, как всегда, подошел к сестре, чтобы ее поцеловать, но Маргарита наклонилась и подставила ему для поцелуя лоб, хотя два старших брата – король и герцог Анжуйский – целовали ее в щеку.
Герцог Алансонский тяжело вздохнул и прикоснулся бледными губами к подставленному для поцелуя лбу.
После этого он сел и стал передавать сестре кровавые события этой ночи: медленную и мучительную смерть адмирала Колиньи и мгновенный конец Телиньи, убитого на месте пулей. Он остановился, уселся поглубже в кресле и со свойственной ему и двум его братьям любовью к кровавым зрелищам начал описывать подробности ночных убийств. Маргарита его не прерывала.
Когда Франсуа закончил рассказ, она спросила:
– Ведь вы, дорогой брат, зашли ко мне не для того только, чтобы рассказать все это, не так ли?
Герцог Алансонский улыбнулся.
– Вам нужно мне сказать что-то другое?
– Нет, – ответил герцог, – я жду.
– Чего вы ждете?
– Разве не говорили вы, моя милая и горячо любимая сестра, – начал герцог, подвигая свое кресло ближе к креслу Маргариты, – что брак ваш с королем Наваррским свершился против вашего желания?
– Разумеется, да. Я даже не была знакома с наследником беарнским, когда мне предложили его в мужья.
– Но и когда вы познакомились, разве не уверяли вы меня, что не чувствуете к нему никакой любви?
– Верно, я это говорила.
– Разве вы не были убеждены, что этот брак будет для вас несчастьем?
– Дорогой мой Франсуа, когда брак не большое счастье, то он почти всегда большое несчастье.
– Поэтому, как я уже сказал вам, дорогая Маргарита, я и жду.
– Но чего же вы ждете?
– Жду, когда вы скажете, что рады.
– Чему же мне радоваться?
– Неожиданной возможности вернуть себе свободу.
– Мне – свободу?! – удивилась Маргарита, заставляя герцога высказаться до конца.
– Ну да, свободу. Вас освободят от короля Наваррского.
– Освободят? – сказала Маргарита, пристально вглядываясь в своего брата.
Герцог попытался выдержать ее взгляд, но тотчас в смущении отвел глаза.
– Освободят? – повторила Маргарита. – Ну что ж, посмотрим! Но я была бы очень рада, если бы вы помогли мне разобраться до конца в этом вопросе: как же думают меня освободить?
– Да ведь Генрих – гугенот! – растерянно пробормотал Франсуа.
– Конечно, но он и не делал тайны из своего вероисповедания, об этом знали все, когда устраивали наш брак.
– Да, но со времени вашего брака что делал Генрих? – возразил герцог, и луч радости скользнул по его лицу.
– Вам, Франсуа, лучше знать, что делал Генрих, ведь он почти все время проводил в вашем обществе: вы вместе охотились, вместе играли в лапту и в мяч.
– Да, днем – это верно, а по ночам? – возразил герцог.
Маргарита не ответила и потупила глаза.
– А по ночам, по ночам?.. – настаивал герцог Алансонский.
– Ну, говорите! – сказала Маргарита, чувствуя, что надо что-нибудь ответить.
– А по ночам он проводил время в обществе мадам де Сов.
– Откуда вы это знаете?
– Я это знаю потому, что мне это нужно знать, – ответил герцог, нервно обрывая шитье у себя на рукавах.
Маргарита начинала проникать в смысл слов, сказанных Екатериной на ухо Карлу IX, но не подавала вида, что начала их понимать.
– Зачем вы это говорите? – ответила она с хорошо наигранной печалью. – Зачем напоминать мне, что здесь меня никто не любит и мною не дорожит, не исключая и тех, кого сама природа мне дала в заступники, и того, кого мне церковь дала в мужья?
– Вы несправедливы, – горячо возразил герцог Алансонский, еще ближе придвигаясь к сестре, – я вас люблю, я ваш заступник.
– Франсуа, вам ведь нужно сказать мне что-то по поручению королевы-матери?
– Да нет! Клянусь вам, милая сестра, вы ошибаетесь! Что вам могло внушить такую мысль?
– Мне ее внушает ваше поведение: вы порываете с дружбой, которая вас связывала с моим мужем; вы решили больше не участвовать в политических делах короля Наваррского.
– В политических делах короля Наваррского?! – повторил герцог Алансонский, совсем смутившись.
– Именно так. Послушайте, Франсуа, давайте говорить откровенно. Вы сами признавались двадцать раз, что вы оба не в силах не только подняться, но даже удержаться на должном уровне без взаимной поддержки. Этот союз…
– Теперь стал невозможен, – прервал ее герцог Алансонский.
– Это почему?
– Потому, что у короля свои намерения относительно вашего мужа. Простите! Говоря: «вашего мужа», я обмолвился – я хотел сказать: «Генриха Наваррского». Наша мать узнала все. Я связывал себя с гугенотами, думая, что они в милости. Но теперь их избивают, а через неделю их не останется и полусотни во всем королевстве. Я протянул руку помощи королю Наваррскому потому, что он был… вашим мужем. Но он больше не ваш муж. Что скажете на это вы, не только самая красивая, но и самая умная женщина во всей Франции?
– Скажу, – ответила Маргарита, – что слишком хорошо знаю нашего брата Карла. Вчера я была свидетельницей одного из его припадков умоисступления, а каждый из них стоит ему десяти лет жизни; скажу, что его припадки, к несчастью, повторяются все чаще, и, по всей вероятности, брат наш Карл проживет недолго; скажу, что недавно умер король Польский и многие поговаривают об избрании французского наследного принца на его место; наконец, скажу, что раз обстоятельства складываются так, то совсем не время бросать союзников, которые в час битвы могут нас поддержать, пользуясь сочувствием целого народа и опираясь на собственное королевство.
– А разве то, что вы родному брату предпочитаете чужого, – не измена? И притом гораздо большая.
– Разъясните мне, Франсуа, в чем и как я изменила вам?
– Разве не вы вчера просили брата Карла пощадить жизнь короля Наваррского?
– Так что же? – спросила Маргарита с притворным простодушием.
Герцог вскочил с места и вне себя обошел раза два или три комнату, потом вернулся к Маргарите и взял ее неподвижную, застывшую руку.
– Прощайте, сестра, – сказал он, – вы не захотели понять меня, так пеняйте на себя за все несчастья, какие могут случиться с вами.
Маргарита побледнела, но осталась сидеть на месте. Она видела, как герцог выходил из комнаты, но даже не пошевельнулась, чтоб удержать его. Однако едва успел он потонуть во мраке потайного хода, как сам вернулся обратно в комнату.
– Слушайте, Маргарита, я забыл сказать вам одну вещь: завтра в этот самый час король Наваррский будет мертв.
Маргарита вскрикнула; мысль, что она является орудием убийства, внушала ей непреоборимый ужас.
– И вы не воспрепятствуете этому убийству? – спросила она. – Вы не спасете вашего лучшего друга и самого верного союзника?
– Со вчерашнего дня мой союзник не король Наваррский.
– А кто же?
– Герцог Гиз. Разгром гугенотов сделал Гиза королем католиков.
– Сын Генриха Второго признает своим королем какого-то лотарингского герцога!
– Вы, Маргарита, в дурном настроении и ничего не понимаете.
– Должна сознаться, что я тщетно пыталась проникнуть в ваши мысли.
– Вы, дорогая сестра, по своему происхождению не ниже принцессы де Порсиан, а Гиз так же смертен, как и король Наваррский. Теперь предположите три вполне возможных обстоятельства: первое – что наш брат, герцог Анжуйский, будет избран польским королем; второе – что вы полюбите меня, как я люблю вас; ну и третье?.. Третье – что я стану французским королем, а вы… вы… королевой католиков.
Маргарита закрыла лицо руками, пораженная дальновидностью этого юноши, которого никто при дворе не решился бы назвать умным.
– Вы, значит, не ревнуете меня к герцогу Гизу, как к королю Наваррскому? – спросила Маргарита после минутного молчания.
– Что было, то было! – ответил тихо герцог Алансонский. – А если было к чему ревновать Гиза, так я и ревновал.
– Осуществлению этого замечательного проекта мешает только одно.
– Что?
– Я не люблю герцога Гиза.
– Кого же вы любите теперь?
– Никого.
Герцог Алансонский, перестав понимать Маргариту, изумленно взглянул на нее, тяжело вздохнул и вышел из комнаты, сжимая холодной рукой лоб так крепко, словно боялся, что он треснет.
Маргарита осталась одна и задумалась. Ее собственное положение представлялось ей ясно и определенно. Король лишь не препятствовал Варфоломеевской ночи, а осуществили ее Екатерина Медичи и герцог Гиз. Герцог Гиз и герцог Алансонский теперь объединятся, чтобы извлечь из этого события возможно больше выгод. Смерть короля Наваррского сама собою вытекала из этого великого разгрома. Как только умрет король Наваррский, королевство его захватят. Тогда она, Маргарита, останется вдовой – без трона, без власти, а дальше – монастырь, где у нее не будет даже основания тихо скорбеть, оплакивая смерть своего мужа, который никогда им не был.
На этом мысли ее прервали: Екатерина Медичи прислала к ней спросить, не желает ли Маргарита совершить вместе со всем двором паломничество к расцветшему боярышнику у «Гробницы невинно убиенных».
Первым побуждением Маргариты было отказаться. Но, подумав, что во время такой прогулки представится, быть может, случай узнать что-нибудь новое о судьбе короля Наваррского, Маргарита решила ехать. Она велела сказать, что если ей подадут лошадь сейчас, то она готова сопровождать их величества.
Через пять минут явился паж и доложил, что если королева желает ехать, то может сойти во двор, так как процессия сейчас трогается в путь.
Король, королева-мать, Таван и самые знатные католики уже сидели на лошадях. Маргарита быстрым взглядом окинула всю эту группу человек в двадцать – короля Наваррского здесь не было. Зато была мадам де Сов, и Маргарита, обменявшись с ней взглядом, поняла, что возлюбленной ее мужа необходимо что-то ей сказать.
Участники прогулки двинулись в путь и по улице Астрюс выехали на улицу Сент-Оноре. При появлении короля, королевы Екатерины и католических главарей собралась толпа и двинулась все нарастающей волной за королевской кавалькадой, крича:
– Да здравствует король! Да здравствует месса! Смерть гугенотам!
Кричавшие потрясали еще дымящимися аркебузами и окровавленными шпагами, которые свидетельствовали о доле участия каждого из них в только что свершившихся убийствах.
Когда процессия поравнялась с улицей Прувель, она встретила людей, тащивших обезглавленный труп. Это было тело адмирала Колиньи. Его волокли на Монфокон, чтобы там повесить вверх ногами.
К «Гробнице невинно убиенных» кавалькада въехала в ворота со стороны улицы Шап, теперь улицы Дешаржёр. Духовенство кладбища, предупрежденное о приезде короля и королевы-матери, ждало у ворот, чтобы приветствовать их величества хвалебными речами.
Пока Екатерина выслушивала обращенную к ней речь, мадам де Сов воспользовалась этим временем, чтобы подойти к королеве Наваррской и попросить разрешения поцеловать у нее руку. Когда королева Наваррская протянула руку, мадам де Сов наклонилась и, целуя руку, всунула Маргарите в рукав свернутую трубочкой бумажку.
Несмотря на то что мадам де Сов очень ловко и на одну минуту покинула королеву-мать, Екатерина тотчас заметила ее отсутствие и обернулась в то мгновение, когда ее приближенная дама целовала Маргарите руку.
Обе женщины заметили этот молниеносный, пронизывающий взгляд, но не смутились. Мадам де Сов отошла от Маргариты и заняла свое место около Екатерины.
Ответив на обращенную к ней речь, Екатерина с улыбкой поманила пальцем королеву Наваррскую, подзывая ее к себе.
Маргарита подошла.
– Эге, дочь моя! Оказывается, вы в большой дружбе с мадам де Сов? – сказала королева на итальянском языке.
Маргарита усмехнулась, придав своему красивому лицу самое кислое выражение, какое только могла изобразить.
– Да, – ответила она, – гадюка подползла ко мне и укусила в руку.
– Так, так! – сказала с улыбкой Екатерина. – Сдается мне, что ты ревнуешь.
– Вы ошибаетесь, мадам, – ответила Маргарита, – я не ревную короля Наваррского постольку, поскольку он меня не любит. Я лишь умею отличать своих друзей от моих врагов, люблю тех, кто меня любит, и не выношу тех, кто ненавидит меня. Иначе я не была бы вашей дочерью.
Екатерина улыбнулась, показав своим видом, что если у нее и были подозрения, то они рассеялись. Кроме того, в эту минуту новые паломники привлекли внимание королевы-матери. Прибыл герцог Гиз во главе отряда дворян-католиков, еще возбужденных происходившею резней. Они сопровождали обитые дорогой тканью крытые носилки, остановившиеся перед королем.
– Герцогиня Невэрская! – воскликнул Карл IX. – Так выходите же, красавица и рьяная католичка, примите наши поздравления! Мне рассказали, что вы охотились за гугенотами из своего окна и одного убили камнем, – это правда?
Герцогиня Невэрская сильно покраснела.
– Сир, – тихо ответила она, преклоняя колена перед королем, – совсем другое: мне посчастливилось приютить у себя одного раненого католика.
– Отлично, отлично, моя кузина! Служить мне можно двумя способами: или истреблять моих врагов, или содействовать моим друзьям. Каждый делает, что может. И я уверен, если бы у вас была для этого возможность, то и вы сделали бы больше.
В это время народ, видя полное согласие между Карлом IX и лотарингским домом, кричал во все горло:
– Да здравствует король! Да здравствует герцог Гиз! Да здравствует месса!
– Анриетта, вы с нами в Лувр? – спросила королева-мать красавицу герцогиню.
Маргарита подтолкнула локтем свою приятельницу; герцогиня поняла этот знак и ответила:
– Мадам, если на это не будет приказания вашего величества, то не в Лувр; у меня есть в городе одно дело, общее с ее величеством королевой Наваррской.
– Какие же это у вас общие дела? – спросила Екатерина.
– Посмотреть очень редкие и очень любопытные греческие книги, которые нашли у одного старого протестантского пастора и перенесли в башню Сен-Жак-де-ла-Бушри, – ответила Маргарита.
– Лучше бы вы отправились к мосту в Мельниках посмотреть, как швыряют в Сену последних гугенотов, – сказал Карл IX. – Настоящим французам надо быть там.
– Мы и отправимся туда, раз это угодно вашему величеству, – ответила герцогиня Невэрская.
Екатерина бросила недоверчивый взгляд на обеих молодых женщин. Насторожившаяся Маргарита перехватила его и с озабоченным видом стала оглядываться во все стороны, беспокойно посматривая вокруг себя. Ее действительная или притворная тревога не ускользнула от внимания королевы-матери.
– Кого вы ищете?
– Ищу, но нигде не вижу…
– Кого вы ищете? Кого не видите?
– Де Сов, – ответила Маргарита. – Может быть, она уже поехала обратно в Лувр?
– Я говорила, что ты ревнуешь! – сказала Екатерина на ухо дочери. – О, bestia!.. Так и быть, Анриетта, – продолжала она, пожав плечами, – берите с собой королеву Наваррскую.
Маргарита, продолжая делать вид, что ищет кого-то глазами, нагнулась к уху своей приятельницы и сказала:
– Увези меня скорее, мне надо сказать тебе крайне важную вещь.
Герцогиня Невэрская сделала реверанс королю и королеве-матери, потом, склонив голову перед королевой Наваррской, сказала ей:
– Ваше величество, не удостоите ли сесть в мои носилки?
– Хорошо, но только вы обязуетесь потом доставить меня в Лувр.
– Мои носилки, мои слуги и я сама в распоряжении вашего величества, – ответила герцогиня Невэрская.
Королева Маргарита села в носилки и пригласила жестом свою подругу. Герцогиня повиновалась и почтительно уселась против нее на передней скамейке.
Екатерина и сопровождавшие ее дворяне вернулись в Лувр прежней дорогой. Но на обратном пути королева-мать все время говорила что-то королю на ухо, несколько раз указывая ему на мадам де Сов. И каждый раз король смеялся своим особым смехом, звучавшим более зловеще, чем его угрозы.
Как только крытые носилки двинулись в путь и Маргарита перестала опасаться пытливой зоркости Екатерины, она быстро вытащила из рукава записку мадам де Сов и прочла следующее:
«Я получила приказание вручить королю Наваррскому два ключа: один от комнаты, где он заключен, другой – от моей. Когда он будет у меня, мне предписано задержать его до шести часов утра.
Пусть ваше величество все обдумает, пусть ваше величество решит, пусть ваше величество не считается с моей жизнью».
– Несомненно одно, – прошептала Маргарита, – эту несчастную женщину собираются сделать орудием, чтобы погубить нас всех. Но мы еще посмотрим, удастся ли королеву Марго, как называет меня брат Карл, превратить в монахиню!
– От кого это письмо? – спросила герцогиня Невэрская, указывая на записку, которую Маргарита прочла и вновь перечитывала с большим вниманием.
– Ах, Анриетта! Мне надо многое сказать тебе, – ответила Маргарита, разрывая записку на мельчайшие клочки.
II. Признания
– Прежде всего, куда мы направляемся? – спросила Маргарита. – Надеюсь, не к мосту в Мельниках?.. Со вчерашнего дня я уже достаточно нагляделась на убийства.
– Я позволю себе доставить ваше величество…
– Прежде всего мое величество просит тебя забыть «мое величество»… Так куда ты меня доставишь?
– В дом Гизов, если только вы не примете другого решения.
– Нет, нет, Анриетта! Отправимся к тебе. А там нет герцога Гиза и твоего мужа?
– О нет! – воскликнула герцогиня с такой радостью, что изумрудные глаза ее даже засверкали. – Нет ни моего деверя, ни мужа, никого! Я свободна, как ветер, как птица, как облака… Свободна, вы слышите, королева? Понимаете ли вы, сколько счастья в этом слове: свободна? Хожу, куда хочу, распоряжаюсь, как хочу!.. Ах, бедняжка королева! Вы не свободны! Вы и вздыхаете от этого…
– Ходишь, куда хочешь, распоряжаешься, как хочешь! Разве это все? И вся твоя свобода сводится лишь к этому? Уж очень весела ты, есть у тебя что-то, кроме свободы?
– Ваше величество обещали начать признания.
– Опять «ваше величество»! Послушай, Анриетта, мы поссоримся! Разве ты забыла наш уговор?
– Нет. «Быть к вам почтительной на людях и твоей безрассудной поверенной с глазу на глаз». Не так ли, мадам? Не так ли, Маргарита?
– Да, да! – ответила с улыбкой королева.
– Никаких родовых споров, никакого коварства в любви; все честно, благородно, откровенно; словом, оборонительный и наступательный союз, имеющий единственную цель: искать и на лету хватать ту мимолетность, которая зовется счастьем, если оно для нас найдется.
– Прекрасно, моя герцогиня! Именно так! И в знак возобновления нашего договора поцелуй меня.
И две прелестные женщины, одна – бледная, охваченная грустью; другая – розовая, белокурая и радостная, красиво наклонили друг к другу свои головки и так же крепко соединили свои губки, как и мысли.
– Так, значит, есть что-то новое? – спросила герцогиня, жадно и с любопытством смотря на Маргариту.
– Разве мало новостей принесли эти последние два дня?
– Ах! Я говорю о любви, а не о политике. Когда нам будет столько лет, сколько мадам Екатерине, тогда и мы займемся политикой. Но нам, красавица королева, по двадцати лет, поговорим же о другом. Слушай, ты замужем по-настоящему?
– За кем? – смеясь, спросила Маргарита.
– Ох, ты успокоила меня!
– Знаешь, Анриетта, то, что успокоило тебя, меня приводит в ужас. Мне не миновать быть замужем по-настоящему.
– Когда же?
– Завтра.
– Вот так так! Правда? Бедная подружка! И это так необходимо?
– Совершенно.
– Дьявольщина, как говорит один мой знакомый. Это очень грустно.
– У тебя есть знакомый, который говорит «дьявольщина»? – спросила Маргарита.
– Да.
– А кто он такой?
– Ты все расспрашиваешь меня, а ведь рассказывать должна ты. Кончай свое, тогда начну я.
– В двух словах вот что: король Наваррский влюблен в другую, а мною не интересуется. Я ни в кого не влюблена, но не хочу принадлежать и ему. А между тем необходимо нам обоим изменить свое представление о нашем браке или, по крайней мере, сделать вид, что мы его изменили. Срок для этого – завтрашнее утро.
– Что ж тут трудного?! Перемени твое представление, и – уж будь уверена! – свое он переменит!
– Вот в том-то и трудность, что мне меньше чем когда-либо хотелось бы менять свое.
– Надеюсь, это только в отношении мужа?
– Анриетта, меня тревожит совесть.
– В каком смысле?
– В религиозном. Ты делаешь различие между католиками и гугенотами?
– В политике?
– Да.
– Конечно.
– А в любви?
– Милый друг, мы, женщины, до такой степени язычницы в этом вопросе, что допускаем любые секты и поклоняемся нескольким богам.
– В одном-едином, не так ли?
– Да, да, – ответила герцогиня с чувственным огоньком в глазах, – в том боге, у которого повязка на глазах, на боку колчан, а за спиною крылья и кого зовут Амур, Эрос, Купидон. Дьявольщина! Да здравствует служение ему!
– Однако у тебя очень своеобразный способ ему служить: ты швыряешь камнями в головы гугенотов.
– Будем поступать хорошо, а там пусть себе болтают, что хотят. Ах, Маргарита! Как извращаются и лучшие понятия, и лучшие поступки в устах толпы!
– Толпы?! Но, помнится, тебя-то расхваливал мой брат Карл?
– Твой брат Карл, Маргарита, страстный охотник, целыми днями трубит в рог и от этого очень похудел… Я не принимаю даже его похвал. Кроме того, я же дала ответ твоему брату Карлу… Ты разве не слыхала?
– Нет, ты говорила слишком тихо.
– Тем лучше, мне придется больше рассказать тебе… Да, Маргарита! А где конец твоих признаний?
– Дело в том… в том…
– В чем?
– В том, что если твой камень, о котором говорил брат мой Карл, имел политическое значение, то я лучше воздержусь, – смеясь, ответила королева.
– Ясно! – воскликнула Анриетта. – Ты избрала себе гугенота. Тогда, чтобы успокоить твою совесть, я обещаю тебе в следующий раз избрать своим любовником гугенота.
– Ага! Как видно, на этот раз ты избрала католика?
– Дьявольщина! – воскликнула герцогиня.
– Ладно! Ладно! Все понятно.
– А каков наш гугенот?
– Его я не избирала, этот молодой человек для меня ничто и, вероятно, никогда ничем не будет.
– Но это не причина, чтобы не рассказать мне о нем. Ты знаешь, как я любопытна. А все-таки, каков же он?
– Несчастный молодой человек, красивый, как Нисос Бенвенуто Челлини, укрылся у меня, спасаясь от убийц.
– Ха-ха-ха! А ты сама его чуть-чуть не поманила?
– Бедный юноша! Не смейся, Анриетта, в эту минуту он еще находится между жизнью и смертью.
– Он болен?
– Тяжело ранен.
– Но раненый гугенот в теперешние времена – большая обуза! И что ты делаешь с этим раненым гугенотом, который для тебя ничто и никогда ничем не будет?
– Я его прячу у себя в кабинете и хочу спасти.
– Он красив, он молод, он ранен; ты его прячешь у себя в кабинете, ты хочешь его спасти. Тогда твой гугенот будет крайне неблагодарным человеком, если не проявит большой признательности!
– Он ее уже проявляет; боюсь только… не больше ли, чем мне хотелось бы.
– А этот бедный молодой человек… тебя интересует?
– Только по человечности.
– Ох уж эта человечность! Бедняжка королева, вот эта добродетель и губит нас, женщин!
– Да, ты понимаешь – ведь каждую минуту могут войти ко мне и король, и герцог Алансонский, и моя мать, и, наконец, мой муж!
– Ты хочешь попросить меня, чтобы я приютила у себя твоего гугенотика, пока он болен, а когда он выздоровеет, вернуть его тебе, не так ли?
– Насмешница! Нет, клянусь тебе, что я не преследую такой далекой цели, – ответила Маргарита. – Но если бы ты нашла возможность спрятать у себя несчастного юношу, если бы ты могла сохранить ему жизнь, которую я спасла, то, конечно, я была бы искренне признательна тебе. В доме Гизов ты свободна, за тобой не подсматривают ни муж, ни деверь, а кроме того, за твоей комнатой, куда, к счастью для тебя, никто не имеет права входа, есть кабинет вроде моего. Так дай мне на время этот кабинет для моего гугенота; когда он выздоровеет, ты отворишь клетку, и птичка улетит.
– Милая королева, есть одно затруднение: клетка занята.
– Как? Значит, ты тоже спасла кого-нибудь?
– Об этом-то я и говорила твоему брату Карлу.
– А-а, понимаю – вот почему ты говорила тихо, так, что я не слышала.
– Послушай, Маргарита, это замечательное приключение, не менее прекрасное, не менее поэтичное, чем твое. Когда я оставила тебе шестерых телохранителей, а с шестью остальными отправилась в дом Гизов, я видела, как поджигали и грабили один дом, отделенный от дома моего деверя только улицей Катр-Фис. Вхожу к себе в дом, вдруг слышу женские крики и мужскую ругань. Выбегаю на балкон, и прежде всего мне бросается в глаза шпага, своим сверканием, казалось, озарявшая всю сцену. Я залюбовалась этим неистовым клинком: люблю красивое!.. Затем, естественно, стараюсь разглядеть и руку, приводящую в движение клинок, и того, кому принадлежит сама рука. Гляжу по направлению криков и стука шпаг и вижу наконец мужчину… героя, своего рода Аякса, сына Теламона, слышу его голос – голос Стентора, прихожу в восхищение, вся трепещу, вздрагиваю при каждом угрожающем ему ударе, при каждом его выпаде. Четверть часа я испытывала такое волнение, какого, поверишь ли, я не чувствовала никогда, – я даже не думала, что оно вообще возможно. Я стояла молча, затаив дыхание, забыв себя, как вдруг герой мой скрылся.
– Как это случилось?
– На него свалился камень, брошенный в него какой-то старухой; тогда, подобно Киру, я обрела голос и закричала: «Ко мне! На помощь!» Прибежали мои телохранители, подхватили его, подняли и перенесли в ту комнату, которую ты просишь для твоего питомца.
– Увы! Я понимаю тебя, Анриетта, и тем больше, что твое приключение почти такое же, как мое.
– С той только разницею, моя королева, что я слуга моего короля и моей религии и мне не нужно куда-то прятать моего Аннибала де Коконнаса.
– Его зовут Аннибал де Коконнас? – повторила Маргарита и расхохоталась.
– Грозное имя, не правда ли? – сказала Анриетта. – И тот, кто носит это имя, его достоин. Какой боец, дьявольщина! И сколько крови пролил! Надень свою маску, милая королева, – вот и наш дом.
– Зачем же маска?
– Затем, что я хочу показать тебе моего героя.
– Он красив?
– Во время битвы он мне казался бесподобным. Правда, то было ночью, в зареве пожарищ. Сегодня утром, при дневном свете, должна признаться, он показался мне похуже. Тем не менее думаю, что он тебе понравится.
– Итак, моему подопечному отказывают в доме Гизов. Очень жаль, потому что дом Гизов – самое последнее место, где вздумают разыскивать гугенотов.
– Нисколько не отказывают: сегодня же вечером я велю перенести его сюда; один будет лежать в правой части комнаты, а другой – в левой.
– Но если они узнают, что один из них протестант, а другой католик, они съедят друг друга.
– О, этого можно не опасаться. Коконнас получил в лицо такой удар, что почти ничего не видит, а у твоего гугенота такая рана в грудь, что он почти не может двигаться… а кроме того, внуши ему не говорить на темы о религии, и все пойдет как нельзя лучше!
– Да будет так!
– Решено! Теперь войдем в дом.
– Благодарю, – сказала Маргарита, пожимая руку своей приятельницы.
– Здесь, мадам, вы будете опять вашим величеством, – предупредила герцогиня Невэрская, – и разрешите мне принять вас в доме Гизов, как это подобает по отношению к королеве Наваррской.
И герцогиня, сойдя с носилок, почти стала на одно колено, чтобы помочь выйти Маргарите, потом, указав рукой на двери в дом, охраняемые двумя часовыми с аркебузами, последовала сзади в нескольких шагах от королевы, которая величественно шествовала впереди герцогини, сохранявшей смиренный вид все время, пока они были на виду у всех. Придя к себе в комнату, она затворила дверь и позвала свою камеристку, очень подвижную сицилианку.
– Мика, – обратилась она к ней по-итальянски, – как здоровье графа?
– Все лучше и лучше, – ответила камеристка.
– А что он делает?
– Думаю, что сейчас он закусывает.
– Это хорошо, – сказала Маргарита, – раз вернулся аппетит, то это добрый признак.
– Ах, правда, я ведь и забыла, что ты ученица Амбруаза Паре! Ступай, Мика.
– Ты выгоняешь ее?
– Да, пусть сторожит нас.
Мика вышла.
– Теперь, – обратилась герцогиня к Маргарите, – ты сама войдешь к нему или пригласить его сюда?
– Ни то, ни другое – я хочу посмотреть на него, но невидимкой.
– Так что же? На тебе будет маска!
– Он может потом узнать меня по волосам, по рукам, по украшениям…
– О, до чего стала осторожна милая королева с тех пор, как вышла замуж!
Маргарита улыбнулась.
– Тогда… есть только один способ, – продолжала герцогиня.
– Какой?
– Посмотреть на него в замочную скважину.
– Хорошо, веди меня.
Герцогиня взяла Маргариту за руку и повела ее к двери, завешанной ковром, затем встала на одно колено и приложила глаз к замочной скважине.
– Отлично, – сказала герцогиня, – он сидит за столом и лицом к нам. Иди смотри.
Королева Маргарита заняла место своей приятельницы и тоже приложила глаз к замочной скважине. Коконнас, как и говорила герцогиня, сидел за столом, уставленным всякими яствами, и, несмотря на свои раны, отдавал им должную честь.
– Ах, боже мой! – воскликнула Маргарита, отстраняясь.
– Что такое? – спросила герцогиня удивленно.
– Невероятно! Нет!.. Да! Клянусь душой, это тот самый!
– Какой «тот самый»?
– Тс-с! – прошептала Маргарита, поднимаясь и хватая за руку герцогиню. – Тот самый, который хотел убить моего гугенота, ворвался за ним ко мне в комнату и на моих глазах ударил его шпагой! Какое счастье, Анриетта, что он не видел меня здесь!
– Значит, ты видела его в бою? Не правда ли, он прекрасен?
– Не знаю, – ответила Маргарита, – я смотрела только на того, кого он преследовал.
– А как зовут того гугенота, которого он преследовал?
– Ты своему католику не скажешь его имени?
– Нет, даю слово.
– Лерак де Ла Моль.
– Но теперь каков он, по-твоему?
– Месье де Ла Моль?
– Нет, месье Коконнас.
– Как тебе сказать? – ответила Маргарита. – По-моему…
Она остановилась.
– Ну, ну, – настаивала герцогиня, – как видно, ты сердишься на него за то, что он ранил твоего гугенота?
– Мне кажется, – смеясь, ответила Маргарита, – что мой гугенот в долгу не остался, и такой рубец, какой он оставил твоему под глазом…
– Значит, они квиты, и мы можем их примирить! Присылай своего раненого ко мне.
– Не теперь, а попозже.
– Когда же?
– Когда ты своего католика переведешь в другую комнату.
– В какую же?
Маргарита только взглянула на свою приятельницу, не сказав ни слова, герцогиня тоже посмотрела на Маргариту и рассмеялась.
– Ну хорошо! – сказала герцогиня. – Итак, союз! Более тесный, чем когда-либо.
– Искренняя дружба и навсегда! – ответила королева.
– Какой же наш пароль, наш условный знак – на случай, если мы понадобимся друг другу?
– Тройное имя твоего триединого бога: Eros – Cupido – Amor.
Приятельницы еще раз расцеловались, в двадцатый раз пожали друг другу руки и расстались.
III. Ключи открывают не только те двери, для которых сделаны
Возвратясь в Лувр, королева Наваррская застала Жийону в большом волнении. Пока отсутствовала королева, приходила мадам де Сов и оставила ключ, который прислала ей королева-мать. Ключ был от комнаты, где находился в заключении Генрих Наваррский. Было ясно, что королеве-матери зачем-то нужно, чтобы Беарнец провел ночь у мадам де Сов.
Маргарита, взяв ключ и вертя его в руках, продумала каждое слово из письма мадам де Сов, взвесила значение каждой буквы и наконец как будто разгадала замысел Екатерины.
Она взяла перо, обмакнула в чернила и написала:
...
«Сегодня вечером не ходите к мадам де Сов, а будьте у королевы Наваррской.
Маргарита».
Потом свернула бумажку в трубочку, всунула ее в полую часть ключа и приказала Жийоне, как только стемнеет, подсунуть этот ключ узнику под дверь.
Покончив с этим, Маргарита подумала о раненом, заперла все двери, вошла в кабинет и, к своему великому удивлению, застала Ла Моля одетого в свое продранное, испачканное кровью платье.
Увидев ее, он сделал попытку встать, но зашатался, не смог удержаться на ногах и упал на софу, превращенную в кровать.
– Месье, что это такое? Почему вы так плохо выполняете назначения вашего врача? – спросила Маргарита. – Я предписала вам покой, а вы, вместо того чтобы слушаться меня, делаете все наоборот!
– Мадам, – сказала Жийона, – я не виновата. Я просила, умоляла графа не делать этого, а он мне заявил, что не останется ни часа дольше в Лувре.
– Уйти из Лувра?! – сказала Маргарита, глядя с изумлением на молодого человека, потупившего глаза. – Да это немыслимо! Вы не можете ходить, вы бледны, у вас нет сил, дрожат колени, из раны шла кровь еще сегодня утром!..
– Мадам! Так же горячо, как я вчера благодарил ваше величество за то, что вы дали мне убежище, так же горячо молю вас разрешить мне уйти сегодня.
– Я даже не знаю, как назвать такое безрассудное решение, – ответила изумленная королева, – это хуже, чем неблагодарность!
– О мадам! – воскликнул Ла Моль, умоляюще складывая руки. – Не обвиняйте меня в неблагодарности! Чувство признательности к вам я сохраню на всю жизнь!
– Значит, ненадолго! – сказала Маргарита, тронутая искренностью, звучавшей в его словах. – Или ваши раны откроются – и вы умрете от потери крови, или же в вас признают гугенота – и вы не сделаете ста шагов по улице, как вас убьют!
– И все-таки я должен уйти из Лувра, – прошептал Ла Моль.
– Должны?! – повторила Маргарита, глядя на него ясным, глубоким взглядом; затем, слегка побледнев, сказала: – Да! Да! Понимаю! Извините, месье! У вас, конечно, есть за стенами Лувра женщина, которую ваше отсутствие мучительно тревожит. Это справедливо, это естественно, я это понимаю. Почему же вы сразу не сказали… или, вернее, как я сама не подумала об этом?! Долг хозяина – оберегать чувства своего гостя так же, как и лечить его раны; ухаживать за его душой так же, как за телом.
– Увы, мадам, вы далеки от истины, – ответил Ла Моль. – Я почти одинок на свете и совсем одинок в Париже, где меня никто не знает. В этом городе первый человек, с которым я заговорил, был тот, кто пытался убить меня, а первая женщина, которая со мной заговорила, были вы, ваше величество.
– Тогда почему же вы хотите уйти? – в недоумении спросила Маргарита.
– Потому, что прошлую ночь ваше величество совсем не спали, и потому, что этой ночью…
Маргарита покраснела.
– Жийона, – сказала она, – уже темнеет, я думаю, что время отнести ключ.
Жийона улыбнулась и вышла.
– Но если вы в Париже одиноки, без друзей, что же будете вы делать? – спросила Маргарита.
– У меня будет много друзей. Когда за мной гнались, я вспомнил о своей матери – она была католичка; мне чудилось, что она летит впереди меня по пути в Лувр и держит в руке крест; тогда я дал обет принять вероисповедание моей матери, если господь сохранит мне жизнь. Господь сделал больше, чем спас мне жизнь: он послал мне такого ангела, чтоб я полюбил жизнь.
– Но вы не можете ходить, вы не пройдете и ста шагов, как упадете в обморок.
– Мадам, сегодня я пробовал ходить по кабинету; правда, хожу я медленно и ходить мне тяжело, но только бы дойти до Луврской площади, а там – будь что будет!
Маргарита, подперев голову рукой, крепко задумалась.
– А почему вы не говорите больше о короле Наваррском? – спросила она с определенной целью. – Что же, с желанием переменить вероисповедание у вас пропало и желание служить королю Наваррскому?
– Мадам, вы коснулись действительной причины, почему я хочу уйти… Я знаю, что королю Наваррскому грозит великая опасность, и всего вашего значения как принцессы крови едва ли хватит, чтобы спасти ему жизнь.
– Что такое, месье? Что это значит? – спросила королева. – О какой опасности вы говорите?
– Мадам, – нерешительно отвечал Ла Моль, – в том кабинете, где меня поместили, слышно все.
«Верно, – подумала королева, – то же самое говорил мне и герцог Гиз».
– Так что же вы слышали? – спросила она громко.
– Прежде всего – разговор вашего величества с вашим братом сегодня утром.
– С Франсуа? – краснея, воскликнула королева.
– Да, с герцогом Алансонским. Затем, когда вас не было, – разговор мадемуазель Жийоны с мадам де Сов.
– Так эти два разговора…
– Да, мадам! Вы замужем всего неделю, вы любите своего супруга. И вслед за герцогом Алансонским и мадам де Сов придет ваш муж. Он будет поверять вам свои тайны. А я не должен их слышать; я был бы лишний… я не могу, не должен… и прежде всего я не хочу быть лишним!
Тон, которым были произнесены эти слова, дрожь в голосе и смущенный вид юноши явились внезапным откровением для Маргариты.
– Так! Значит, из кабинета вы слышали все, что говорилось в этой комнате?
– Да, мадам.
– И чтобы ничего больше не слышать, вы хотите уйти сегодня вечером или сегодня ночью?
– Сейчас, мадам! Если ваше величество милостиво разрешите мне уйти.
– Бедный ребенок! – сказала Маргарита тоном ласкового сострадания.
Удивленный таким участливым ответом вместо ожидаемой отповеди, Ла Моль робко поднял голову; глаза его встретились с глазами Маргариты, и, точно притянутый какой-то магнетической силой, он был уже не в состоянии оторваться от ясного, глубокого взгляда, а королева откинулась на спинку кресла и наслаждалась тем, что, сидя в полумраке за спущенной ковровой занавеской, могла свободно читать в душе Ла Моля и не выдавать себя ничем.
– Значит, вы считаете себя неспособным хранить тайну? – мягко спросила королева.
– Мадам, у меня жалкий характер, – ответил Ла Моль, – я не уверен в самом себе и не выношу чужого счастья.
– Но чьего же счастья? – спросила, улыбаясь, королева. – Ах да! Счастья короля Наваррского! Бедный Генрих!
– Вот видите, мадам, он счастлив! – воскликнул Ла Моль.
– Счастлив?..
– Да, потому что ваше величество его жалеет.
Маргарита теребила в руках шелковый кошелек и выдергивала из него ниточки шитого золотом узора.
– Итак, вы не хотите видеться с королем Наваррским, – сказала она. – Это ваше твердое решение?
– Боюсь, что теперь я буду в тягость его величеству…
– А с моим братом, герцогом Алансонским?
– С герцогом Алансонским?! – воскликнул Ла Моль. – О нет! Нет, мадам! С ним еще меньше, чем с королем Наваррским!
– Почему же? – спросила королева, взволнованная до такой степени, что голос ее почти дрожал.
– Потому что я стал слишком плохим гугенотом, чтобы преданно служить его величеству королю Наваррскому, и еще недостаточно хорошим католиком, чтобы войти в число друзей герцога Алансонского и герцога Гиза.
На этот раз потупила глаза королева, чувствуя, как это неожиданное заключение глубоко отозвалось в ее сердце; она сама не могла понять, радость или боль причинили ей слова Ла Моля. В эту минуту вошла Жийона. Маргарита бросила на нее вопросительный взгляд. Жийона тоже взглядом дала понять, что ей удалось передать ключ королю Наваррскому.
– Месье де Ла Моль горд, – сказала Маргарита, – и я не решаюсь сделать ему одно предложение, которое он, без сомнения, отвергнет.
Ла Моль встал, сделал шаг к королеве и хотел склониться перед ней в знак готовности повиноваться, но от сильной, острой боли у него выступили слезы, и он, чувствуя, что вот-вот упадет, схватился за стенной ковер, чтоб удержаться на ногах.
– Вот видите, – воскликнула Маргарита, подбегая к нему и поддерживая его, – вот видите, что я вам еще нужна!
Едва заметно шевеля губами, он прошептал:
– О да! Как воздух, которым я дышу, как свет, который вижу!
В это мгновение послышались три удара в дверь.
– Мадам, вы слышите? – испуганно спросила Жийона.
– Уже! – прошептала королева.
– Отпереть?
– Подожди. Это может быть король Наваррский.
– О мадам! – воскликнул Ла Моль, которому слова Маргариты придали силы, хотя она произнесла их шепотом, в полной уверенности, что ее услышит одна Жийона. – Мадам, молю вас на коленях: удалите меня из Лувра, живого или мертвого! Сжальтесь надо мной! Ах, вы не хотите отвечать! Хорошо! Тогда я буду говорить! А когда я заговорю, то, надеюсь, вы сами меня выгоните.
– Замолчите, несчастный! – сказала королева, находя неизъяснимое очарование в этих упреках молодого человека. – Замолчите сейчас же!
– Мадам, повторяю: из этого кабинета слышно все, – продолжал Ла Моль, не услышав в тоне королевы той строгости, какой он ожидал. – Не дайте мне умереть такой смертью, какой не выдумать самым жестоким палачам!
– Молчите! Молчите! – приказала королева.
– Как вы безжалостны, мадам! Вы не хотите ничего слушать, не хотите ничего понять. Поймите же, что я люблю вас!..
– Молчите, вам говорят! – прервала его королева, закрыв ему рот своей теплой душистой ладонью.
Ла Моль прижал ее к своим губам.
– Все-таки… – прошептал он.
– Все-таки замолчите, ребенок! Это еще что за бунтовщик, который не повинуется своей королеве?
Затем Маргарита выбежала из кабинета, заперла дверь и прислонилась к стене, стараясь трепетными руками сдержать биение сердца.
– Жийона, отвори! – сказала Маргарита.
Жийона вышла, и мгновение спустя из-за дверной занавески показалось хитрое, умное и немного встревоженное лицо короля Наваррского.
– Вы вызывали меня, мадам? – спросил король Наваррский Маргариту.
– Да! Ваше величество получили мое письмо?
– Получил, и, должен признаться, не без удивления, – ответил Генрих, оглядываясь с некоторым недоверием, рассеявшимся, впрочем, очень быстро.
– И не без тревоги, не правда ли?
– Сознаюсь, мадам. Однако, несмотря на то что я окружен беспощадными врагами и еще более опасными друзьями, я вспомнил, как однажды в ваших глазах светилось великодушие – это было в вечер нашей свадьбы; и как в другой раз в них засияла звезда мужества – это было вчера, в день, предназначенный для моей смерти.
– Итак, месье? – спросила, улыбаясь, Маргарита своего мужа, видимо, старавшегося проникнуть в ее душу.
– Итак, мадам, я вспомнил это и, прочитав вашу записку с предложением явиться к вам, тотчас сказал себе: безоружному узнику, королю Наваррскому, оставшемуся без друзей, нет другого средства погибнуть с блеском, смертью достопамятной, как умереть от предательства собственной жены, и я пришел.
– Сир, вы будете говорить по-другому, – ответила Маргарита, – когда узнаете, что все происходящее в данную минуту – дело рук женщины, которая вас любит и… которую любите вы.
В ответ на эти слова Генрих Наваррский чуть не попятился, и его серые проницательные глаза взглянули из-под черных бровей на Маргариту вопросительно и с любопытством.
– О, успокойтесь, сир! – сказала, улыбаясь, королева. – Я вовсе не собираюсь утверждать, что эта женщина – я.
– Однако, мадам, ведь вы велели передать мне ключ? Ведь это же ваш почерк?
– Да, я признаю, что это почерк мой, не отрицаю и того, что эта записка от меня. А ключ – это уж другое дело. Достаточно вам знать, что, прежде чем дойти до вас, он побывал в руках четырех женщин.
– Четырех?! – изумленно воскликнул Генрих.
– Да, четырех, – сказала королева. – В руках королевы-матери, мадам де Сов, Жийоны и моих.
Генрих Наваррский задумался над этой загадкой.
– Давайте говорить серьезно и прежде всего откровенно, – сказала Маргарита. – Сегодня пронесся слух, что ваше величество дали согласие отречься от протестантского вероисповедания. Так ли это?
– Слух этот неверен, мадам, я еще не давал согласия.
– Но вы уже решились?
– Вернее, я обдумываю этот вопрос. Что делать, если тебе двадцать лет и ты почти король? Есть вещи, которые стоят католической обедни.
– И в числе этих вещей – жизнь, не правда ли?
Генрих не удержался от улыбки.
– Сир, вы не договариваете вашей мысли! – продолжала Маргарита.
– Я не могу говорить все своим союзникам, а мы, как вам известно, пока только союзники. Если бы вы были и союзницей… и…
– И женой, хотите вы сказать, да?
– Да, и женой.
– Тогда бы?
– Тогда, пожалуй, было бы другое дело; я, может быть, стремился бы остаться королем гугенотов, каким меня считают… Теперь я должен быть доволен, если сохраню жизнь.
Маргарита посмотрела на него так странно, что возбудила бы подозрения в человеке не такого тонкого ума, как Генрих Наваррский.
– И вы уверены, что этого достигнете? – спросила она.
– Более или менее, – ответил Генрих. – Вы знаете, мадам, что в здешнем мире никогда нельзя быть уверенным ни в чем.
– Но верно то, – подтвердила Маргарита, – что вы, ваше величество, обнаруживаете такую умеренность и такое бескорыстие в своих делах, что, отказавшись от короны, отказавшись и от веры, вы, вероятно, откажетесь, на что некоторые надеются, и от своего союза с французской принцессой.
В эти слова было вложено такое глубокое значение, что Генрих вздрогнул, но мгновенно подавил свое волнение.
– Мадам, соблаговолите припомнить, что в данную минуту я не обладаю свободой воли. Следовательно, я поступлю так, как мне прикажет король Французский. Если бы в таком вопросе, где дело идет ни много ни мало как о моем престоле, о моей чести и о моей жизни, спросили моего мнения, я предпочел бы не строить своего будущего на правах нашего насильственного брака, а запрятать себя в какой-нибудь замок и охотиться или в какой-нибудь монастырь и каяться в грехах.
Этот спокойный отказ от своих королевских прав, это отречение от мирских дел испугали Маргариту. Ей пришла мысль, что расторжение их брака уже согласовано между Карлом IX, Екатериной и королем Наваррским. Почему бы им не обмануть ее и не принести в жертву? Потому только, что она сестра одного и дочь другой? Опыт научил ее, что основывать на этом свою личную безопасность ей нельзя. Честолюбие заговорило в сердце молодой женщины или, вернее, молодой королевы, которая стояла настолько выше слабодушия обычной женщины, что не могла ему поддаться и поступиться чувством своего достоинства. Да и у каждой женщины, даже заурядной, когда она в действительности любит, любовь несовместима с унижением, потому что настоящая любовь тоже честолюбива.
– Ваше величество, как видно, – сказала Маргарита с насмешливым пренебрежением, – не очень верит в звезду, горящую над головой каждого монарха.
– Ах, я бы напрасно стал разыскивать свою звезду в такое время; ее закрыла грозовая туча, которая сейчас грохочет надо мной.
– А если женщина своим дыханием разгонит эту тучу и покажет вам вашу звезду более блестящей, чем это было раньше?
– Это очень трудно, – ответил Генрих.
– Вы отрицаете самое существование такой женщины?
– Нет, я только отрицаю ее силу.
– Вы разумеете – ее волю?
– Я сказал – силу и повторяю это. Женщина только тогда по-настоящему сильна, когда любовь и личный интерес действуют в ней с равной силой; когда же ею движет только одно из этих чувств, то женщина так же уязвима, как Ахиллес. А если я не заблуждаюсь, то на любовь данной женщины я лично не могу рассчитывать?
Маргарита промолчала.
– Послушайте, – продолжал Генрих Наваррский, – при последнем ударе колокола на Сен-Жермен-Л’Озеруа вы, вероятно, стали думать о том, как вам отвоевать себе свободу, которую другие сделали залогом истребления моих сторонников. Мне же пришлось думать, как спасти собственную жизнь. Это было самым важным… Я отлично сознаю, что Наварра потеряна для нас, но Наварра – пустяки в сравнении со свободой, вернувшей вам возможность говорить громко в вашей комнате, а вы не смели это делать в те времена, когда вас кто-то подслушивал из кабинета.
Несмотря на напряженное раздумье, Маргарита невольно улыбнулась. Король Наваррский встал с места, собираясь уходить, так как был двенадцатый час ночи и в Лувре все уже спали или, во всяком случае, делали вид, что спят.
Генрих Наваррский сделал три шага к входной двери, но вдруг остановился, как будто вспомнив лишь сейчас то обстоятельство, которое и привело его сюда.
– Да! Вы, может быть, хотели что-нибудь сказать мне, – спросил Генрих, – или вы только желали предоставить мне возможность поблагодарить вас за ту отсрочку, которую вчера дало мне ваше мужественное появление в Оружейной палате короля? Не отрицаю, что это было очень кстати, и вы, как некая античная богиня, спустились на место действия в самую нужную минуту, чтобы спасти мне жизнь.
– Несчастный! – сказала Маргарита, понизив голос и хватая мужа за руку. – Как вы не понимаете, что ничего не спасено – ни ваша свобода, ни ваша корона, ни ваша жизнь! Слепой! Безумец! Жалкий безумец! Неужели в моем письме вы не увидели ничего, кроме простого назначения свидания? Неужели вы вообразили, что оскорбленная вашей холодностью Маргарита желает получить удовлетворение?
– Да, признаюсь, что… – начал и не кончил говорить изумленный Генрих.
Маргарита пожала плечами непередаваемым, особенным движением.
В это мгновение послышался странный звук, точно чем-то острым царапали потайную дверь.
Маргарита подвела к ней короля Наваррского.
– Слушайте, – сказала она.
– Королева-мать выходит из своих покоев, – сказал чей-то прерывающийся от страха голос, и Генрих тотчас узнал голос мадам де Сов.
– Куда она идет? – спросила Маргарита.
– К вашему величеству.
Быстро удаляющийся шорох шелкового платья дал знать, что мадам де Сов убежала.
– Ого! – произнес Генрих Наваррский.
– Я так и знала, – сказала Маргарита.
– Я тоже опасался этого, – ответил Генрих, – и вот доказательство, глядите.
Он быстрым движением руки расстегнул черный бархатный колет, и Маргарита увидела на его груди тонкую стальную кольчугу и длинный миланский кинжал, который тотчас же сверкнул в руке у Генриха, как змея при блеске солнца.
– Вряд ли помогут здесь кинжал и панцирь! – воскликнула Маргарита. – Спрячьте, сир, спрячьте ваш кинжал: да, это королева-мать! Но королева-мать – одна.
– А все же…
– Замолчите! Я слышу – вот она!
И, нагнувшись к уху Генриха, она сказала ему шепотом какие-то слова, которые он выслушал внимательно, но с удивлением, и в ту же минуту исчез за пологом кровати.
Маргарита с легкостью пантеры метнулась к кабинету, где, весь дрожа, сидел Ла Моль, отперла дверь, в темноте нашла молодого человека и сжала его руку.
– Тише! – шепнула Маргарита, наклоняясь к нему так близко, что Ла Моль почувствовал на своем лице влажное веяние ее теплого душистого дыхания. – Тише!
Затем она вернулась к себе в комнату, затворила дверь, распустила свою прическу, разрезала кинжальчиком шнурки на платье и бросилась в постель.
И вовремя: в замке потайной двери уже поворачивали ключ. У Екатерины Медичи были запасные ключи от всех дверей в Лувре.
– Кто там? – крикнула Маргарита, услышав, как Екатерина приказывала четырем сопровождавшим ее дворянам сторожить за дверью.
Маргарита, как будто перепуганная неожиданным вторжением в ее комнату, выскочила из-за полога на приступок кровати, одетая в белый пеньюар, и сделала такое изумленное лицо при виде Екатерины, что обманула даже эту флорентийку, затем подошла к матери и поцеловала ее руку.
IV. Вторая брачная ночь
Екатерина с необычайной быстротой оглядела комнату. Бархатные ночные туфельки на приступке кровати, разбросанное по стульям одеяние Маргариты, сама Маргарита, протиравшая глаза, чтобы очнуться от сна, – все убедило Екатерину, что дочь ее до этого спала.
Королева-мать улыбнулась улыбкой женщины, успевшей в своих намерениях, подвинула к себе кресло и сказала:
– Садитесь, Маргарита, давайте побеседуем.
– Мадам, я слушаю.
– Пора, дочь моя, – произнесла Екатерина, тихо закрывая глаза, по примеру людей, которые что-то обдумывают или скрывают, – пора понять вам, как мы жаждем, ваш брат и я, сделать вас счастливой.
Такое вступление звучало страшно для тех, кто знал Екатерину.
«Что-то она скажет?» – подумала Маргарита.
– Конечно, – продолжала флорентийка, – выдавая вас замуж, мы совершали одно из тех политических деяний, какие диктуются правителям соображениями о пользе государства. Но надо сказать вам, бедное дитя, мы не предполагали, что нелюбовь короля Наваррского к вам, молодой, красивой, обольстительной женщине, окажется до такой степени непреодолимой.
Маргарита встала и, запахнув свой пеньюар, сделала матери чинный реверанс.
– Я только сегодня вечером узнала, – продолжала королева-мать, – иначе я бы зашла к вам раньше… узнала, что ваш муж далек от мысли оказать вам те знаки внимания, какие подобают не только красивой женщине, но и принцессе королевской крови.
Маргарита вздохнула, и Екатерина, поощренная немым согласием, продолжала свою речь:
– То обстоятельство, что король Наваррский на глазах у всех имеет связь с одной из моих прислужниц, влюблен в нее до неприличия, пренебрегает любовью женщины, которую благоволили дать ему в супруги, – это несчастье, но помочь в нем мы, всемогущие, бессильны, хотя самый последний в нашем королевстве дворянин наказал бы за это своего зятя, вызвав на поединок или приказав вызвать его своему сыну.
Маргарита потупила голову.
– Уже давно, дочь моя, я вижу по вашим заплаканным глазам, по вашим резким выходкам против этой Сов, что рана в вашем сердце сочится кровью уже не тайно, внутри вас, несмотря на все ваши старания скрыть ее.
Маргарита вздрогнула: полог кровати чуть всколыхнулся, но, к счастью, Екатерина этого не заметила.
– Эту рану, – говорила она, усиливая сочувственную нежность тона, – эту рану, дитя мое, может исцелить лишь материнская рука. Те, кто, надеясь создать вам счастье, решил заключить ваш брак, теперь тревожатся за вас, видя, как Генрих Наваррский каждую ночь попадает не в ту комнату; те, кто не может допустить, чтобы женщину, исключительную по красоте, общественному положению и своим достоинствам, непрестанно оскорблял какой-то королек своим пренебрежением к ней самой и к продолжению ее потомства; и, наконец, те, кто видит, что с первым ветром, который покажется ему попутным, этот безрассудный, дерзкий человек повернется против нашего семейства и выгонит вас из дому, – разве все эти люди не имеют права, отделив его судьбу от вашей, так обеспечить вашу будущность, чтобы она была наиболее достойна вас и вашего общественного положения?
– Мадам, – ответила Маргарита, – несмотря на все ваши замечания, проникнутые материнской любовью и наполняющие меня чувством радости и гордости, я все же возьму на себя смелость доказать вашему величеству, что король Наваррский действительно мне муж.
Екатерина вспыхнула от гнева и, наклонившись к Маргарите, сказала:
– Это он-то вам муж?! Разве одного церковного благословения достаточно, чтобы стать мужем и женой? Разве брак освящается только молитвами священника? Он вам муж! Если бы вы, дочь моя, были мадам де Сов, вы бы могли дать мне такой ответ. Мы ждали от него совсем другого, а король Наваррский с той самой поры, как вы оказали ему честь, назвав себя его женой, передал все права жены другой. Идемте же сию минуту! – сказала Екатерина, повышая голос. – Идемте со мной вместе: вот этот ключ откроет дверь в комнату мадам де Сов, и вы увидите.
– Тише, мадам, ради бога, тише! – сказала Маргарита. – Во-первых, вы ошибаетесь, а во-вторых…
– Что?
– Вы разбудите моего мужа…
Маргарита с томной грацией встала и, распустив полы пеньюара с короткими рукавами, обнажавшими ее точеные, действительно царственные руки, поднесла розовую восковую свечку к своей постели, раздвинула полог и, улыбаясь, показала матери на гордый профиль, черные волосы и слегка открытый рот короля Наваррского, лежавшего на смятой постели и, видимо, спавшего глубоким, мирным сном.
Екатерина, бледная, с блуждающим взглядом, отшатнулась назад всем телом, как будто у ее ног разверзлась бездна, и даже не вскрикнула, а глухо простонала.
– Как видите, – сказала Маргарита, – вам донесли неверно.
Екатерина взглянула на Маргариту, потом на Генриха. В ее быстро работавшем мозгу представление об этом бледном, вспотевшем лбе, об этих глазах, чуть обведенных темными кругами, связалось с улыбкой Маргариты, и Екатерина закусила свои тонкие губы в немой ярости. Маргарита дала матери с минуту полюбоваться этой картиной, производившей на нее действие головы Медузы, затем опустила полог, на цыпочках вернулась к матери и, сев на стул, спросила:
– Мадам, вы что-то сказали?
Флорентийка в течение нескольких секунд вглядывалась в молодую женщину, стараясь проверить ее искренность, но в конце концов острота взгляда Екатерины как бы притупилась о твердое спокойствие Маргариты, и королева-мать ответила только одним словом:
– Ничего.
И вышла из комнаты широким шагом.
Едва шаги ее затихли в глубине потайного хода, как полог кровати снова распахнулся, и Генрих Наваррский, с блестящим взглядом, дрожащими руками и тяжело дыша, бросился на колени перед Маргаритой. На нем были только кольчуга и короткие с пуфами штаны. Понятно, что Маргарита, хотя и пожимала его руку от души, но, увидев его наряд, все же расхохоталась.
Целуя ей руки, Генрих мало-помалу от кистей рук переходил все выше…
– Сир, – сказала Маргарита, мягко отстраняясь, – вы разве забыли, что в эту минуту бедная женщина, которой вы обязаны жизнью, тоскует по вас и страдает? Направляя вас ко мне, – продолжала она шепотом, – мадам де Сов принесла в жертву свою ревность, а может быть, она жертвует и своей жизнью, – вы лучше всех должны бы знать, как страшен гнев моей матери.
Генрих Наваррский вздрогнул и, встав с колен, собрался уходить.
– Нет, подождите! – остановила его Маргарита с очаровательной кокетливостью. – Я подумала и успокоилась. Ключ был дан вам без дальнейших указаний, и вы вольны отдать мне предпочтение на этот вечер.
– Я отдаю его вам, Маргарита, но только будьте добры забыть…
– Тише, сир, тише! – шутя повторила королева фразу, сказанную десять минут тому назад своей матери. – Вас слышно из кабинета, а так как я еще не совсем свободна, сир, то попрошу вас говорить не так громко.
– Эге! – сказал Генрих, посмеиваясь и немного хмурясь. – Верно, я и забыл, что, по всей вероятности, не мне суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет…
– Войдемте в него, сир, – предложила Маргарита, – я хочу иметь честь представить вам одного храброго дворянина, раненного во время избиений, когда он шел в Лувр предупредить ваше величество о грозившей вам опасности.
Королева подошла к двери в кабинет, а за ней – король Наваррский.
Дверь растворилась, и Генрих остановился на пороге в изумлении, увидев в этом кабинете всяких неожиданностей какого-то мужчину.
Но Ла Моль был еще больше озадачен, столкнувшись неожиданно лицом к лицу с королем Наваррским. Заметив это, король иронически взглянул на Маргариту, но она невозмутимо выдержала его взгляд.
– Сир, – сказала Маргарита, – я боюсь, как бы не убили, даже здесь, в моих покоях, этого дворянина, преданного слугу вашего величества, поэтому я отдаю его под ваше покровительство.
– Сир, – сказал молодой человек, вступая в разговор, – я граф Лерак де Ла Моль, тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам несчастным Телиньи, которого убили на моих глазах.
– Верно, верно, месье! – ответил Генрих. – Королева Наваррская передала мне от него письмо. А у вас не было еще письма от лангедокского губернатора?
– Да, сир, мне было поручено вручить его вашему величеству сейчас же по прибытии в Париж.
– Почему же вы этого не сделали?
– Я приходил в Лувр вчера вечером, но ваше величество были так заняты, что не могли принять меня.
– Да, это правда, – сказал король, – но вы могли бы попросить кого-нибудь, чтобы мне передали это письмо.
– Я получил приказание от губернатора, месье д’Ориака, отдать письмо только в собственные руки вашего величества. По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что месье д’Ориак не решался доверить его простому гонцу.
Взяв от Ла Моля письмо и прочитав его, король Наваррский сказал:
– Действительно, в нем предлагают мне покинуть двор и уехать в Беарн. Месье д’Ориак принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и, занимая пост губернатора, вероятно, предугадывал то, что затем произошло. Святая пятница! Почему вы мне не отдали это письмо три дня тому назад?
– Потому что, как я имел уже честь доложить вашему величеству, несмотря на всю мою поспешность, я смог прибыть в Париж только вчера.
– Досадно, досадно! – тихо произнес король. – Сейчас мы были бы в безопасности – либо в Ла-Рошели, либо на какой-нибудь равнине во главе двух или трех тысяч всадников.
– Сир, что было, то прошло, – вполголоса сказала Маргарита, – не стоит досадовать на прошлое и терять на это время, сейчас надо принимать наилучшее решение для будущего.
– Значит, на моем месте вы бы надеялись на что-то? – сказал Генрих, не спуская испытующего взгляда с Маргариты.
– Конечно, я бы смотрела на это дело, как на игру в мяч до трех очков, где я проиграла пока только первое очко.
– Ах, мадам, – сказал Генрих шепотом, – если бы я был уверен, что вы играете в доле со мной.
– Если бы я собиралась играть на стороне ваших противников, – возразила Маргарита, – мне кажется, я бы давно могла это сделать.
– Справедливо, – ответил Генрих, – я неблагодарен, и вы верно сказали, что еще можно все исправить, и сегодня же.
– Увы, сир, – заметил Ла Моль, – я лично желаю вашему величеству всяческой удачи, но сегодня нет с нами адмирала.
Генрих Наваррский улыбнулся хитрой мужицкой улыбкой, которую не понимали при дворе до тех пор, пока он не стал французским королем.
– Однако, мадам, – заговорил он, внимательно разглядывая Ла Моля, – этот дворянин, оставаясь здесь, должен до крайности стеснять вас, да и сам подвергается опасным неожиданностям. Что вы собираетесь с ним делать?
– Сир, я вполне согласна с вами, но не можем же мы вывести его из Лувра?
– Трудновато.
– Сир, а не мог бы месье де Ла Моль найти себе приют где-нибудь у вас?
– Увы, мадам! Вы всё обращаетесь ко мне, как будто я еще король гугенотов и у меня есть свой народ. Вы знаете, что я наполовину стал уже католиком и никакого народа у меня нет.
Всякая другая женщина, но не Маргарита, поторопилась бы сразу заявить: «Да и он католик!» Но королеве хотелось, чтобы Генрих Наваррский сам напросился на то, чего она желала от него. А Ла Моль, видя сдержанность своей покровительницы и не зная, где найти опору на скользкой почве французского двора, тоже промолчал.
– Вот как! – заговорил Генрих, перечитав письмо, привезенное Ла Молем. – Провансальский губернатор пишет мне, что ваша матушка была католичкой и что отсюда его дружба к вам.
– Вы, граф, что-то говорили мне о вашем обете переменить вероисповедание, – сказала Маргарита, – но у меня в голове все спуталось. Помогите же мне, месье де Ла Моль. Ваше намерение как будто совпадает с желаниями короля Наваррского.
– Да, но ваше величество так равнодушно отнеслись к моим объяснениям по этому поводу, что я не осмелился…
– Потому что меня это не касалось никоим образом. Объясните все королю.
– Так что это за обет? – спросил король Наваррский.
– Сир, – сказал Ла Моль, – когда меня преследовали убийцы, я был почти безоружен и еле жив от ран, как вдруг мне показалось, будто тень моей матери с крестом в руке ведет меня в Лувр. Тогда я дал обет в случае спасения моей жизни принять веру моей матери, которой бог разрешил встать из могилы, чтоб указать мне путь к спасению во время этой страшной ночи. И вот я нахожусь под покровительством и французской принцессы, и короля Наваррского. Мою жизнь спасло чудо; мне остается исполнить свой обет, сир. Я готов стать католиком.
Генрих Наваррский нахмурил брови; он сам был скрытен и втайне допускал возможность отречься по расчету, но относился очень недоверчиво к возможности отречься по чувству убеждения.
«Король не хочет брать на себя заботу о моем раненом», – подумала Маргарита.
При этом столкновении двух противоположных направлений чужой воли Ла Моль растерялся и оробел. Он чувствовал себя в смешном положении, не зная почему. Маргарита с женской деликатностью вывела его из неприятного состояния.
– Сир, – сказала она, – мы забываем, что этот несчастный раненый нуждается в покое. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах… Ну вот, вы опять!..
Ла Моль действительно снова побледнел от последних слов Маргариты, которые истолковал по-своему.
– Так что же, мадам, – сказал Генрих, – дело очень просто: дадим покой месье де Ла Молю.
Молодой человек обратил к Маргарите молящий взор и, несмотря на присутствие обоих величеств, добрался до стула и сел, разбитый усталостью и душевной болью.
Маргарита поняла, сколько любви скрывалось в его взгляде и сколько отчаяния в этой слабости.
– Сир, – сказала она, – этот молодой дворянин ради своего короля подвергал опасности собственную жизнь и был ранен, когда бежал в Лувр, чтобы известить вас о смерти адмирала и Телиньи, поэтому вашему величеству подобает оказать ему честь, за которую он будет признателен всю жизнь.
– Какую же, мадам? – спросил Генрих Наваррский. – Приказывайте, я готов исполнить.
– Вы, ваше величество, можете спать на этом диване, а месье де Ла Моль ляжет у вас в ногах. Я же, с разрешения моего августейшего супруга, позову Жийону и лягу в свою постель; клянусь вам, сир, что я нуждаюсь в отдыхе не меньше любого из нас троих.
Генрих Наваррский был человек умный, даже очень, что отмечали позже как его враги, так и друзья. Он понял, что эта женщина, прогоняя его с супружеского ложа, имела право так поступить за равнодушие, какое проявлял он к ней до сей поры. Маргарита же, несмотря на его холодность, спасла ему жизнь несколько минут назад. Поэтому Генрих, отбросив самолюбие, ответил просто:
– Мадам, если месье де Ла Моль в состоянии дойти до моих покоев, я уступлю ему мою постель.
– Да, сир, – сказала Маргарита, – но в настоящее время ваши покои не безопасны ни для вас, ни для него, и осторожность требует, чтобы ваше величество остались здесь до завтра.
И, не дожидаясь ответа короля, она позвала Жийону, распорядилась принести подушки и постлать в ногах у короля постель Ла Молю, который был так счастлив и доволен подобной честью, что – можно наверное сказать – позабыл о своих ранах.
Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижки и улеглась в постель.
«Утром, – сказала она про себя, – Ла Моль должен иметь в Лувре своего защитника, а тот, кто сегодня был на это глух, завтра раскается».
Затем, обращаясь к Жийоне, ожидавшей последних приказаний, Маргарита поманила ее рукой и, когда Жийона подошла, сказала шепотом:
– Жийона, завтра утром надо сделать так, чтобы у моего брата герцога Алансонского непременно был какой-нибудь предлог прийти сюда еще до восьми часов утра.
На башенных часах Лувра пробило два часа. Ла Моль несколько минут поговорил с королем о политике, но Генрих быстро задремал и наконец раскатисто захрапел, точно спал у себя в Беарне, на своей кожаной постели.
Ла Моль, быть может, последовал бы примеру короля и заснул, но Маргарита не спала, все время ворочалась в постели с боку на бок, и этот шорох тревожил мысль юноши, отгоняя сон.
– Он очень молод, – шептала Маргарита во время бессонницы, – и очень робок; но надо еще посмотреть, не будет ли он и смешон? И все-таки у него красивые глаза… хорошо сложен, много обаяния… И вдруг окажется, что он не храбрый человек! Он бежал… он отрекается от веры… досадно, а сон начался так хорошо. Ну, что ж… Предоставим все течению событий и отдадимся на волю троякого бога безрассудной Анриетты.
Только к рассвету заснула Маргарита, шепча: «Eros – Cupido – Amor».
V. Чего хочет женщина, того хочет бог
Маргарита не ошиблась: Екатерина, несомненно, понимала, что с ней разыгрывают комедию, видела ее интригу, но не в ее силах было изменить развязку, и злоба, скопившаяся у нее в душе, должна была излиться на кого-нибудь. Вместо того чтобы пойти к себе, королева-мать направилась к своей придворной даме.
Мадам де Сов ждала двух посетителей – Генриха Наваррского и королеву-мать: первого – с надеждой, вторую – с большим страхом. Полуодетая, она лежала на постели, а Дариола сторожила в передней. Послышался лязг ключа в замочной скважине, затем приближение чьих-то медленных шагов, можно бы сказать – тяжелых, если бы их не заглушал толстый ковер. Мадам де Сов ясно различила, что это не легкая, быстрая походка короля Наваррского, и тотчас у нее мелькнуло подозрение, что кто-то не позволил Дариоле предупредить ее; опершись на руку, напрягая слух и зрение, Шарлотта стала ждать.
Дверная занавесь приподнялась, и молодая женщина с трепетом увидела Екатерину Медичи.
Екатерина внешне была спокойна; но мадам де Сов, изучавшая ее в течение двух лет, почувствовала, сколько за этим наружным спокойствием таится мрачных замыслов, а может быть, жестоких планов мести.
Увидев Екатерину, мадам де Сов намеревалась вскочить с кровати, но королева-мать сделала ей знак не трогаться, и бедная Шарлотта застыла на месте, собирая все силы своей души, чтобы выдержать грозу, которая молча надвигалась.
– Вы передали ключ королю Наваррскому? – спросила Екатерина спокойным тоном, и только ее губы становились все бледнее, пока она произносила эту фразу.
– Да, мадам… – ответила Шарлотта, тщетно стараясь придать своему голосу ту же твердость, какая слышалась у королевы-матери.
– И вы с ним виделись?
– С кем?
– С королем Наваррским.
– Нет, мадам, но жду его, и, услыхав, что кто-то поворачивает ключ в моей двери, я даже подумала, что это он.
Получив такой ответ, говоривший или о полной откровенности мадам де Сов, или о замечательной способности ее к притворству, Екатерина слегка вздрогнула. Ее пухлая короткая рука сжалась в кулак.
– А все-таки ты знала, – со злобной усмешкой сказала Екатерина, – знала наверное, Шарлотта, что в эту ночь король Наваррский не придет.
– Кто, я, мадам? Я… знала? – воскликнула Шарлотта, отлично разыгрывая удивление.
– Да, ты знала.
– Он не придет только в том случае, если он умер! – ответила молодая женщина, затрепетав от одного предположения такой возможности.
Лишь твердая уверенность, что она будет жертвой страшной мести, если ее предательство откроется, заставила Шарлотту лгать так смело.
– А ты случайно не писала королю Наваррскому? – спросила Екатерина, все так же посмеиваясь злым беззвучным смехом.
– Нет, мадам, – отвечала Шарлотта на редкость чистосердечным тоном, – мне помнится, ваше величество не приказывали этого?
Наступила минута молчания, и в это время Екатерина смотрела на мадам де Сов, как змея на птичку – свою жертву.
– Ведь ты воображаешь, что ты красива, – сказала Екатерина. – Воображаешь, что ты ловка, не так ли?
– Нет, мадам, – ответила мадам де Сов, – я знаю только одно: ваше величество бывали крайне снисходительны ко мне, когда заходил разговор о моей ловкости и красоте.
– Ты ошибалась, если так думала, – запальчиво сказала Екатерина, – а я лгала, если так говорила. Ты дурнушка и дурочка в сравнении с моей дочерью Марго.
– Вот это верно, мадам! – ответила Шарлотта. – И я даже не стану это отрицать – тем более при вас.
– Поэтому-то, – продолжала Екатерина, – король Наваррский и любит мою дочь несравненно больше, чем тебя. А ведь это не то, чего хотела ты, и не то, о чем мы сговорились.
– Увы, мадам! – сказала мадам де Сов и зарыдала, на этот раз без всякого насилия над собой. – Я очень несчастна, если это так.
– А это так, – ответила Екатерина, вонзая в сердце мадам де Сов свои глаза как два кинжала.
– Но кто же мог внушить вам это? – спросила Шарлотта.
– Сойди вниз, pazza, [27] к королеве Наваррской, там ты найдешь своего любовника.
– О-о! – всхлипнула мадам де Сов.
Екатерина пожала плечами.
– А ты, чего доброго, ревнива, – сказала королева-мать.
– Кто, я? – спросила мадам де Сов, собирая последние силы.
– Да, ты! С удовольствием я посмотрела бы, какова ревность у француженки.
– Но, ваше величество, – отвечала мадам де Сов, – я могла бы ревновать только из самолюбия – как же иначе? А я люблю короля Наваррского лишь постольку, поскольку это надо, чтобы услужить вашему величеству.
Несколько секунд глаза Екатерины смотрели испытующе.
– Все то, что ты мне говоришь, в конце концов может быть и правдой, – сказала она тихо.
– Ваше величество читаете в моей душе.
– А мне ли предана эта душа?
– Приказывайте, ваше величество, и вы убедитесь в этом.
– Хорошо, Шарлотта! Но раз ты служишь мне, то эта служба требует, чтобы ты оставалась влюбленной в короля Наваррского, а главное – очень ревнивой, так, как бывают ревнивы итальянки.
– Мадам, а как ревнуют итальянки? – спросила Шарлотта.
– Это я расскажу тебе потом, – ответила Екатерина. И, кивнув раза три головой, она вышла так же медленно и молча, как вошла. Ее глаза с расширенными светлыми зрачками, как у пантеры или кошки, при этом сохранявшие всю глубину своего взгляда, привели Шарлотту в такое замешательство, что в момент ухода королевы-матери она была не в силах произнести ни слова, старалась даже не дышать и только тогда передохнула, когда услышала звук захлопнувшейся двери, а Дариола пришла сказать, что страшный призрак наконец исчез.
– Дариола, подвинь кресло к моей постели и посиди со мной, пожалуйста, а то я боюсь оставаться одна ночью.
Дариола исполнила ее желание, но, несмотря на общество своей горничной, всю ночь сидевшей около нее, несмотря на свет лампы, которую для большего спокойствия оставили гореть, мадам де Сов заснула лишь под утро, – так долго еще гудел в ее ушах металлический голос Екатерины.
Маргарита хотя и заснула на рассвете, но сразу же проснулась, как только раздались звуки труб и первый лай собак. Она немедля поднялась с постели и стала одеваться, придав своему наряду намеренно домашний вид. Затем позвала своих придворных дам и распорядилась привести в переднюю дворян из свиты короля Наваррского; после этого, открыв дверь в кабинет, где находились под замком Генрих Наваррский и Ла Моль, она тепло приветствовала взглядом молодого человека и обратилась к мужу.
– Послушайте, сир, – сказала ему она, – внушить моей матери то, чего нет, – это еще не все: вам надо убедить весь двор, что между нами существует полное согласие. Но успокойтесь, – смеясь, добавила Маргарита, – и хорошенько запомните мои слова, почти торжественные в этой обстановке: сегодня я в первый и последний раз подвергаю ваше величество такому мучительному испытанию.
Король Наваррский улыбнулся и приказал впустить дворян. В то время как они его приветствовали, он сделал вид, как будто лишь сейчас заметил, что его плащ остался на постели королевы, извинился перед ними за свой незаконченный наряд, взял из рук покрасневшей Маргариты плащ и, накинув на левое плечо, застегнул драгоценной пряжкой. Затем, обратясь к дворянам, спросил их о городских и дворцовых новостях.
Маргарита краем глаза наблюдала на лицах окружающих дворян едва заметное выражение удивления по поводу вдруг обнаружившейся близости между королевой и королем Наварры; в это время явился дворцовый пристав и доложил о приходе герцога Алансонского.
Жийона заманила его очень просто: ей было достаточно сказать ему, что король Наваррский провел ночь у своей жены.
Франсуа вошел с такой стремительностью, что, расталкивая толпившихся придворных, чуть не сбил с ног нескольких из них. Он прежде всего оглядел Генриха и уже после – Маргариту. Генрих Наваррский любезно поклонился, Маргарита придала своему лицу выражение полного блаженства.
Затем герцог окинул беглым, но пытливым взглядом комнату: заметил и раздвинутый полог на кровати, и смятую двухспальную подушку в изголовье, и шляпу короля, лежавшую на стуле.
Герцог побледнел, но тотчас справился с собой.
– Брат Генрих, вы придете сегодня утром играть с королем в мяч? – спросил он.
– Разве король сделал мне честь и выбрал меня своим партнером? – спросил, в свою очередь, Генрих Наваррский. – Или это только выражение вашей любезности ко мне, любезности моего шурина?
– Совсем нет, король не говорил об этом, – ответил, немного смешавшись, герцог, – но ведь обычно он играет с вами?
Генрих Наваррский усмехнулся: столько событий, и очень важных, случилось со времени последней их игры, что не было бы ничего удивительного, если бы Карл IX переменил своих партнеров.
– Брат Франсуа, я приду! – сказал, улыбаясь, Генрих.
– Приходите, – ответил герцог.
– Вы разве уходите? – спросила Маргарита.
– Да, сестра.
– Вы торопитесь?
– Очень.
– А если я попрошу вас уделить мне несколько минут?
Маргарита так редко обращалась к брату с подобной просьбой, что он глядел на нее, то краснея, то бледнея.
«О чем она будет говорить с ним?» – подумал Генрих, удивленный не менее, чем герцог.
Маргарита, точно догадываясь о мыслях своего супруга, обернулась к нему и сказала с очаровательной улыбкой:
– Месье, если вам угодно, вы можете идти к его величеству. Тайна, которой я собираюсь поделиться с моим братом, вам уже известна, а мою вчерашнюю просьбу к вам, связанную с этой тайной, вы почти отвергли. Я не хотела бы вторично утруждать вас повторением моего желания, высказанного вам лично и, видимо, неприемлемого для вашего величества.
– Что такое? – спросил Франсуа, с удивлением глядя на обоих.
– Так! Так! Я понимаю, мадам, что это значит, – сказал Генрих, краснея от досады. – Поверьте, я очень сожалею, что больше не свободен в своих действиях. Но хотя я не могу предоставить графу де Ла Моль надежное убежище у себя лично, я вместе с вами готов препоручить моему брату, герцогу Алансонскому, лицо, которое вас интересует. Быть может, даже, – добавил он, еще сильнее подчеркивая смысл последних слов, – быть может, брат мой найдет и такой выход, который позволит вам оставить месье де Ла Моля… здесь… близ вас… что было бы лучше всего. Не правда ли, мадам?
«Отлично! Отлично! – сказала про себя Маргарита. – Вдвоем они сделают то, чего не сделает никто из них в отдельности».
Она растворила дверь в кабинет и вывела раненого Ла Моля, предварительно сказав Генриху Наваррскому:
– Месье, вы должны объяснить моему брату, по каким соображениям мы принимаем участие в месье де Ла Моле.
Генрих, попав в ловушку, рассказал Франсуа, ставшему полугугенотом из политического соперничества, как Генрих стал полукатоликом из политического расчета, – о том, как Ла Моль прибыл в Париж, пришел в Лувр, чтобы передать письмо от д’Ориака, и был ранен.
Когда герцог обернулся, перед ним стоял Ла Моль, только что вышедший из кабинета.
Франсуа, видя перед собой молодого человека, красивого и бледного, вдвойне пленительного и бледностью, и красотой, почувствовал в душе какой-то новый страх. Маргарита дразнила в нем одновременно и самолюбие и ревность.
– Брат мой, – сказала Маргарита, – я отвечаю вам за то, что этот молодой дворянин будет полезен каждому, кто сумеет извлечь из него пользу. Если вы примете его в число своих людей, он будет иметь могущественного покровителя, а вы – преданного слугу. В теперешнее время, брат мой, надо окружать себя надежными людьми! В особенности, – добавила она так тихо, чтобы ее слышал только герцог Алансонский, – в особенности тем, кто честолюбив и имеет несчастье быть только третьим наследным принцем Франции.
Сказав это, Маргарита приложила к губам палец, показывая этим брату, что, несмотря на такое откровенное начало, она высказала далеко еще не все.
– Кроме того, – продолжала она, – вопреки мнению Генриха, вы, может быть, найдете неудобным, чтобы этот молодой человек продолжал жить так близко от моей комнаты?
– Сестра, – оживленно сказал Франсуа, – месье де Ла Моль, если, конечно, ему подходит это, через полчаса будет водворен в моих покоях, где, я думаю, ему нечего бояться. Пусть только он меня полюбит, – я-то буду его любить.
Франсуа лгал, так как он уже возненавидел этого Ла Моля.
«Хорошо, хорошо… я, значит, не ошиблась! – говорила про себя Маргарита, увидев, как сдвинулись брови короля Наваррского. – Оказывается, чтобы направить их обоих к нужной цели, надо возбудить в них соперничество. – Потом, заканчивая свою мысль, добавила: – «Вот, вот, отлично, Маргарита!» – сказала б Анриетта».
Действительно, через каких-нибудь полчаса Ла Моль, выслушав строгие наставления Маргариты и поцеловав краешек ее платья, уже всходил довольно бодрым для раненого шагом по лестнице к покоям герцога Алансонского.
Прошло дня три; за это время полное согласие между Генрихом Наваррским и его женой, видимо, окрепло. Генрих получил разрешение перейти в католицизм не публично, а отречься от протестантизма только перед духовником Карла IX, и каждое утро ходил к обедне, которую служили в Лувре. Каждый вечер неукоснительно он шел к своей жене, входил в главную дверь ее покоев, несколько минут беседовал с женой, затем выходил потайным ходом и поднимался по лестнице к мадам де Сов, которая, конечно, рассказала ему о посещении Екатерины и о явной опасности, ему грозившей. Генрих, получая сведения с двух сторон, еще больше насторожился по отношению к Екатерине, а в особенности потому, что выражение ее лица становилось все более приветливым. Дело дошло до того, что однажды утром ее бледные уста улыбнулись ему благожелательной улыбкой. В этот день Генрих почти ничего не ел, кроме яиц, которые варил он сам, и пил только воду, зачерпнутую на его глазах прямо из Сены.
Избиение гугенотов продолжалось, хотя шло на убыль; резню сразу произвели в таких размерах, что количество гугенотов сильно сократилось. Огромное большинство было убито, многие успели бежать, кое-кто еще прятался.
Время от времени в том или другом квартале поднималась суматоха: это значило, что отыскали кого-нибудь из прятавшихся. Тогда несчастного или избивало все население квартала, или приканчивала небольшая кучка соседних жителей – в зависимости от того, оказывалась ли жертва загнанной в какое-нибудь безвыходное место или могла спасаться бегством. В последнем случае бурная радость охватывала весь квартал, служивший местом действия: католики не только не утихомирились от исчезновения своих врагов, но сделались еще кровожаднее; казалось, что чем меньше оставалось гугенотов, тем больше ожесточались против них католики.
Карл IX с самого начала пристрастился к охоте на несчастных гугенотов; позже, когда охота такого рода стала для него лично недоступной, он с удовольствием прислушивался, как охотились другие.
Однажды, возвращаясь с игры в лапту, любимого его занятия наравне с охотой, он зашел к матери в сопровождении своих придворных с сияющим лицом.
– Матушка, – сказал он, целуя флорентийку, которая, заметив его радостное настроение, сейчас же постаралась разгадать его причину. – Матушка, хорошая новость! Смерть чертям! Знаете что? Пресловутый труп адмирала, оказывается, не исчез – его нашли!
– Вот как! – произнесла Екатерина.
– Да, да! Ей-богу! Вы думали, как и я, что он достался на обед собакам? Совсем нет. Мой народ, мой добрый, хороший народ придумал штуку: он вздернул адмирала на виселицу в Монфоконе.Сперва их пыл Гаспара вниз поверг,
После чего был поднят он же вверх!
– И что же? – спросила Екатерина.
– А то, милая мама, – ответил Карл IX, – что с тех пор, как я узнал о его смерти, мне очень захотелось повидать этого милягу. Погода отличная, все в цвету, воздух живительный, благоуханный. Я себя чувствую здоровым как никогда; если вы хотите, мы сядем на лошадей и верхом проедемся на Монфокон.
– Поехала бы с большой охотой, сын мой, только я еще раньше назначила одно свидание, которое мне не хотелось бы откладывать; кроме того, в гости к такому важному лицу, как адмирал, надо бы пригласить весь двор. Кстати, умеющим наблюдать это даст повод для любопытных заключений: увидим, кто поедет, а кто останется дома.
– Ваша правда, мама! До завтра! Так будет лучше! Итак, вы приглашайте своих, я своих… а лучше – не будем приглашать никого. Мы только объявим о поездке – таким образом, каждый будет свободен в своих действиях. До свидания, матушка! Пойду потрублю в рог.
– Карл, вы надорвете себя! Амбруаз Паре все время вам говорит об этом, и совершенно справедливо: это очень вредное для вас занятие.
– Вот так так! Хорошо бы наверняка знать, что я умру только от этого. Я еще успел бы похоронить здесь всех, даже Анрио, хотя ему, по уверению Нострадамуса, предстоит наследовать нам всем.
Екатерина нахмурилась.
– Сын мой, не верьте тому, что очевидно невозможно, и берегите себя.
– Я протрублю всего-навсего две-три фанфары, только для того, чтобы повеселить моих собак, – бедняги дохнут от скуки. Надо было натравить их на гугенотов, вот бы разгулялись!
С этими словами Карл IX вышел из комнаты матери, прошел в Оружейную, снял со стены рог и затрубил с такой силой, что самому Роланду впору. Трудно было понять, как это слабое, болезненное тело и эти бледные губы могли производить такой могучий звук.
Екатерина сказала правду сыну: ее на самом деле ждало некое лицо. Через минуту после ухода Карла вошла одна из придворных дам и шепотом сказала что-то ей. Королева-мать улыбнулась, встала с места, поклонилась своим придворным и последовала за пришедшей дамой.
Флорентиец Рене, с которым король Наваррский в самый вечер святого Варфоломея обошелся так дипломатично, только что вошел в молельню Екатерины Медичи.
– А-а, это вы, Рене! – сказала Екатерина. – Я ждала вас с нетерпением.
Рене поклонился.
– Вы получили вчера мою записку?
– Имел честь, мадам.
– Вы проверили заново, как я просила, гороскоп, составленный Руджиери, который точно совпадает с предсказанием Нострадамуса о том, что все мои три сына будут царствовать?.. За последние дни обстоятельства так переменились, Рене, что я подумала: ведь и судьба могла стать милостивее.
– Мадам, – ответил Рене, отрицательно покачав головой, – ваше величество хорошо знает, что обстоятельства не могут изменить судьбы, наоборот, судьба направляет обстоятельства.
– Но вы все-таки возобновили жертвоприношения, да?
– Да, мадам, – ответил Рене, – повиноваться вам – мой долг.
– А каков результат?
– Мадам, все тот же.
– Как?! Черный ягненок все так же блеял три раза?
– Все так же, мадам.
– Предзнаменование трех страшных смертей в моей семье! – прошептала Екатерина.
– Увы! – произнес Рене.
– Что еще?
– Еще, мадам, во внутренностях обнаружилось то странное смещение печени, какое мы наблюдали в первых ягнятах, – то есть наклон в обратную сторону.
– Смена династии! Все то же, то же, то же… – шептала про себя Екатерина. – Однако, Рене, надо же бороться с этим!
Рене покачал головой.
– Я уже сказал вашему величеству: властвует рок.
– Ты так думаешь? – спросила Екатерина.
– Да, мадам.
– А ты помнишь гороскоп Жанны д’Альбре?
– Да, мадам.
– Напомни мне, я кое-что запамятовала.
– Vives honorata, – сказал Рене, – morieris reformidata, regina amplificabere.
– Как я понимаю, это значит: «Будешь жить в почете», – а она, бедняжка, нуждалась! «Умрешь грозной», – а мы над ней смеялись. «Возвеличишься превыше королевы», – а вот она умерла, и все ее величие покоится в гробнице, на которой мы даже позабыли написать ее имя.
– Мадам, вы неверно передали: Vives honorata. Королева Наваррская действительно пользовалась почетом; всю свою жизнь она была окружена любовью своих детей и уважением своих сторонников, а так как она была бедной, то и любовь и уважение были искренни.
– Ну хорошо, я уступаю вам: «Будешь жить в почете». Посмотрим, как вы объясните: «Умрешь грозной».
– Как я объясню? Очень просто: «Умрешь грозной»!
– Так что же? Разве она перед смертью была грозной?
– Настолько грозной, мадам, что она не умерла бы, если б ваше величество так не боялись ее. Наконец, «Возвеличишься превыше королевы» – значит, приобретешь большее величие, чем имела, пока царствовала. И это тоже верно, мадам, потому что взамен мирского, преходящего венца она, быть может, носит, как королева-мученица, венец небесный, а кроме того, кто знает, какое будущее уготовано ее роду на земле.
Екатерина была до крайности суеверна. Быть может, ее не так пугало постоянство одних и тех же предвещаний, как хладнокровие Рене, но она никогда не смущалась неудачей, а смело преодолевала создавшееся положение, поэтому и в данном случае она без всякого перехода, следуя только течению своих мыслей, вдруг задала Рене вопрос:
– Пришла ли парфюмерия из Италии?
– Да, мадам.
– Вы мне пришлете в шкатулке набор косметик.
– Каких?
– Последних… ну, тех… – Екатерина остановилась.
– Тех, которые особенно любила королева Наваррская? – спросил Рене.
– Именно.
– Подготовлять их вам не требуется, не правда ли? Ваше величество теперь сведущи в этом так же, как и я.
– Ты думаешь? Как бы то ни было, они хорошо действуют.
– Ваше величество больше ничего не имеет мне сказать? – спросил парфюмер.
– Нет, нет, – задумчиво ответила Екатерина, – кажется, нет. Во всяком случае, если при жертвоприношениях окажется что-нибудь новое, известите меня. Кстати, давайте оставим ягнят и попробуем кур.
– К сожалению, мадам, я очень опасаюсь, что, изменив жертвы, мы ничего не изменим в предсказаниях.
– Делай, что тебе говорят.
Рене откланялся и вышел.
Екатерина посидела, задумавшись; затем встала, прошла к себе в спальню, где ее дожидались придворные дамы, и объявила им о завтрашней поездке на Монфокон.
Известие об этой увеселительной поездке весь вечер служило предметом разговоров во дворце и разнеслось по городу. Дамы велели приготовить самые изысканные наряды, дворяне – оружие и парадных лошадей; торговцы закрыли свои лавочки и мастерские, а городские гуляки из народа то там, то здесь убивали уцелевших гугенотов, пользуясь удобным случаем подобрать подходящую «компанию» к трупу адмирала.
Весь вечер и часть ночи шла большая суета. Ла Моль провел в безнадежно грустном настроении весь следующий день, сменивший три или четыре таких же грустных дня.
Герцог Алансонский, исполняя желание Маргариты, действительно устроил его у себя, но с тех пор ни разу не виделся с ним. Ла Моль чувствовал себя покинутым ребенком, лишенным нежной, утонченной и обаятельной заботы двух женщин, и воспоминание об одной из них всецело завладело его мыслью. Он, правда, имел о Маргарите кое-какие вести от Амбруаза Паре, которого она к нему прислала, но в передаче человека пятидесяти лет, не замечавшего или делавшего вид, будто не замечает, до какой степени Ла Моль интересовался всем, что касалось Маргариты, эти вести были не полны и не давали ему удовлетворения. Надо сказать, что однажды к нему зашла Жийона, чтобы узнать, конечно от себя, о его здоровье. Ее приход, блеснув, как солнечный луч в темнице, ослепил Ла Моля, и он все ждал, когда появится опять Жийона; но вот прошло уже два дня, а она не появлялась.
Поэтому, когда и до Ла Моля дошла весть о завтрашнем блестящем сборище всего двора, он попросил соизволения герцога Алансонского сопровождать его на это торжество. Герцог даже не поинтересовался, в силах ли Ла Моль выдержать такое напряжение, и лишь ответил:
– Чудесно! Пусть ему дадут какую-нибудь из моих лошадей.
Ла Молю больше ничего не требовалось. Амбруаз Паре по обыкновению зашел перевязать его. Ла Моль объяснил, что ему необходимо ехать верхом, и просил сделать с особой тщательностью перевязки. Обе раны, в плечо и в грудь, уже закрылись, но плечо болело. Как это бывает в период заживления, места ранений были еще красны. Хирург Амбруаз Паре наложил на них тафту, пропитанную смолистыми бальзамическими веществами, бывшими тогда в большом ходу, и обещал, что все сойдет благополучно, если только Ла Моль не будет слишком много двигаться во время предстоящей поездки.
Ла Моль был бесконечно счастлив. За исключением некоторой слабости и легкого головокружения от потери крови, он чувствовал себя довольно хорошо. А главное – Маргарита, конечно, примет участие в поездке: он вновь увидит Маргариту, и, думая о том, как хорошо подействовало на него свидание с Жийоной, он ясно представлял себе, насколько благотворнее подействует свидание с ее хозяйкой.
На деньги, полученные на дорогу от родных, Ла Моль купил очень красивый колет из белого атласа и плащ с самым красивым шитьем, какое только мог поставить модный портной. Он же снабдил Ла Моля сапогами из душистой кожи, какие носили в те времена. Все было доставлено ему утром, с опозданием всего на полчаса против указанного времени, так что Ла Молю не пришлось особенно роптать. Он быстро оделся, оглядел себя в зеркало, нашел, что он одет вполне прилично, хорошо причесан, надушен и может быть доволен самим собой; затем несколько раз быстро прошелся по комнате и, хотя временами чувствовал острую боль в ранах, убедил себя, что хорошее настроение заглушит физические недомогания. Особенно шел Ла Молю вишневый плащ, скроенный по его указанию, – длиннее, чем тогда носили.
В то время как эта сцена происходила в Лувре, другая сцена такого же характера шла в доме Гизов. Высокого роста рыжеволосый дворянин, стоя перед зеркалом, долго разглядывал красный рубец, весьма некстати пересекавший его лицо; затем он расчесал и надушил усы, все время пытаясь при помощи тройного слоя из смеси румян и белил замазать свой рубец, но, несмотря на эти косметические средства, рубец упорно проступал. Убедившись, что притирания не помогают, дворянин придумал другое средство: он сошел во двор, залитый лучами палящего августовского солнца, снял шляпу, поднял лицо кверху, зажмурил глаза и начал так разгуливать, стараясь, чтобы раскаленный воздух, струившийся потоком с неба, ожег ему лицо.
Через десять минут благодаря силе солнечного света лицо дворянина приобрело такую яркую окраску, что среди нее красный рубец казался желтым, опять нарушив единство колорита. Однако дворянин был вполне удовлетворен такой расцветкой и постарался подогнать ее под цвет лица, замазав ярко-красной губной помадой. После этого он облачился в великолепный костюм, заранее доставленный ему портным.
Разряженный, надушенный и с ног до головы вооруженный дворянин вторично сошел во двор и стал оглаживать крупного вороного коня, который был бы безупречен в смысле красоты, если бы его не портил совершенно такой же шрам, как у его хозяина, нанесенный саблей немецкого кавалериста в одной из последних битв гражданской войны.
Тем не менее очень довольный и собой и лошадью, этот дворянин, несомненно узнанный читателем, уже сидел в седле на четверть часа раньше остальных участников поездки, и нетерпеливое ржание его скакуна разносилось по всему двору гизовского особняка, а ему вторило восклицание «дьявольщина!», произносимое на все лады – в зависимости от того, насколько удавалось всаднику справляться со своим конем. В конце концов лошадь была укрощена, стала послушной и податливой, признав законную власть всадника; однако победа далась ему довольно шумно, а этот шум, возможно, входивший в расчеты дворянина, привлек к окошку даму; тогда наш лошадиный укротитель приветствовал ее низким поклоном и получил в ответ самую милую улыбку.
Пять минут спустя герцогиня Невэрская велела позвать своего управляющего.
– Месье, – обратилась она к нему, – был ли подан графу Аннибалу де Коконнас приличный завтрак?
– Да, мадам, – ответил управляющий. – Сегодня утром он кушал даже с большим аппетитом, чем обычно.
– Хорошо, месье! – сказала герцогиня.
Затем, обернувшись к своему первому свитскому дворянину, сказала:
– Месье д’Аргюзон, мы едем в Лувр, прошу вас, присмотрите за графом Аннибалом де Коконнас: он ранен и еще слаб – ни в коем случае мне не хотелось бы, чтобы с ним приключилось что-нибудь плохое. Это вызовет насмешки гугенотов, которые имеют зуб против него с благословенной ночи святого Варфоломея.
И герцогиня Невэрская, сев на лошадь, весело отправилась в Лувр, где был назначен общий сбор.
Было два часа пополудни, когда вереница всадников, сверкая золотом, драгоценностями и блестящими одеждами, появилась на улице Сен-Дени из-за угла «Гробницы невинно убиенных» и развернулась на ярком солнце между двумя рядами мрачных домов, как огромный кольчатый, переливающийся различными цветами змей.
VI. Труп врага всегда пахнет хорошо
В наше время никакие сборища людей, как бы нарядны они ни были, не могут дать представления об описываемом зрелище. Мягкие, роскошные и яркие одежды, завещанные пышной модой Франциска I следующему поколению, еще не превратились в узкие темные платья, которые позднее вошли в моду при Генрихе III; наряд самого Карла IX, не такой пышный, но, пожалуй, более изящный, чем носили в предыдущую эпоху, выделялся своим художественным совершенством. Наша действительность не дает ничего, что можно было бы сравнить с такой процессией: все великолепие современных нам парадов сводится к симметрии и мундиру.
Пажи, стремянные, дворяне второго ранга, собаки и запасные лошади, следовавшие с боков и сзади, придавали королевскому поезду вид настоящей армии. В хвосте этой армии шел народ. Вернее, народ был всюду: он шел сзади, впереди, с боков, крича одновременно и «да здравствует!» и «бей!», поскольку в шествии участвовали также гугеноты, перешедшие недавно в католичество, но, несмотря на это, народ был все же зол на них.
Утром, в присутствии Екатерины и герцога Гиза, Карл IX заговорил с Генрихом Наваррским, как о самом обыкновенном деле, о том, чтобы поехать посмотреть на виселицу Монфокона, иными словами – на изуродованный труп адмирала, который там висел. Первой мыслью Генриха Наваррского было уклониться от участия в поездке. Этого и ждала Екатерина. При первых же его словах, выражавших чувство брезгливости, она обменялась с герцогом Гизом взглядом и усмешкой. Генрих Наваррский заметил то и другое, понял, что это значило, и, сразу взяв себя в руки, сказал:
– А в самом деле, почему бы мне и не поехать? Я католик, и у меня есть обязательства по отношению к новому вероисповеданию. – Затем, обращаясь к Карлу IX, добавил: – Ваше величество, можете положиться на меня: я буду всегда счастлив сопровождать вас, куда бы вы ни ехали!
И быстро окинул взором всех, интересуясь, чьи брови нахмурились от этих слов.
Во всем блестящем королевском поезде этот сын-сирота, этот король без королевства, этот гугенот-католик, пожалуй, больше всех приковывал к себе любопытные взгляды толпы. Его характерное удлиненное лицо, немного простонародные манеры, приятельское отношение к низшим, доходившее до степени, не совместимой с королевским саном, но усвоенное с детства среди беарнских горцев и сохраненное до самой его смерти, – все это выделяло Генриха в глазах толпы, откуда раздавались голоса:
– Ходи к обедне, Анрио! Ходи почаще!
На это Генрих Наваррский отвечал:
– Был вчера, был сегодня и буду завтра. Святая пятница! Кажется, довольно?!
Маргарита ехала верхом – красивая, цветущая, изящная; все дружным хором восхищались ею, но надобно сказать, что слышалось немало похвал и по адресу ее подруги, герцогини Невэрской, подъехавшей на белой лошади, которая возбужденно потряхивала головой, точно гордясь своею ношей.
– Что нового, герцогиня? – спросила королева Наваррская.
– Насколько мне известно, мадам, ничего, – ответила герцогиня Невэрская громко. Затем тихо спросила: – А что сталось с гугенотом?
– Я нашла ему почти надежное убежище, – ответила Маргарита. – А что ты сделала с твоим великим человекоубийцей?
– Он захотел участвовать в этом торжестве и едет на боевой лошади герцога Невэрского, огромной, как слон. Страшный всадник! Я разрешила ему присутствовать на этой церемонии, надеясь, что твой гугенот из осторожности будет сидеть дома, а следовательно, нечего бояться, что они встретятся.
– О, если бы он и был здесь, – ответила Маргарита, – а его, кстати, нет, то думаю, что и тогда бы не произошло стычки. Мой гугенот – только красивый юноша, и больше ничего; он голубь, а не коршун: воркует, а не клюется. Судя по всему, – сказала она непередаваемым тоном, слегка пожав плечами, – это мы думали, что он гугенот, а на самом деле он буддист, и его религия запрещает проливать кровь.
– Куда же девался герцог Алансонский? – спросила Анриетта. – Я его не вижу.
– Он нас догонит: сегодня утром у него болели глаза, и он хотел остаться дома; ведь Франсуа, стараясь не быть одних взглядов со своим братом Карлом и братом Генрихом, очень благосклонен к гугенотам, а так как это всем известно, то ему дали понять, что король истолкует его отсутствие в дурную сторону, – тогда он решил ехать. Да вот, смотри – вон там, куда все смотрят, где кричат: это он проезжает в Монмартрские ворота.
– Верно, это он, я вижу! – сказала Анриетта. – Ей-богу, сегодня он очень недурен собой. С некоторого времени герцог Франсуа усиленно занимается своей особой – наверняка влюбился. Видишь, как хорошо быть королевским принцем: он скачет прямо на народ, и все расступаются.
– Он и на самом деле всех нас передавит, – смеясь, сказала Маргарита. – Боже, прости мне мои прегрешения! Герцогиня, велите вашим дворянам посторониться, а то вон там один – если не посторонится, так его раздавят.
– О, это мой бесстрашный! – воскликнула герцогиня. – Смотри, смотри!..
Коконнас действительно выехал из своего ряда, направляясь к герцогине Невэрской; но в то самое мгновение, как он пересекал внешний бульвар, отделявший улицу от предместья Сен-Дени, какой-то всадник из свиты герцога Алансонского, тщетно сдерживая свою занесшуюся лошадь, налетел прямо на пьемонтца. Коконнас покачнулся на своем богатырском скакуне, чуть не потерял шляпу, успел подхватить ее и обернулся, пылая яростью.
– Боже мой! Это месье де Ла Моль! – сказала Маргарита на ухо своей приятельнице.
– Вон тот бледный красивый молодой человек?! – воскликнула герцогиня, не будучи в силах сдержать свое первое впечатление.
– Да, да! Тот самый, что чуть не перевернул твоего пьемонтца.
– О-о! Это может кончиться ужасно! – сказала герцогиня. – Они смотрят друг на друга!.. Узнали!
Действительно, Коконнас обернулся, узнал Ла Моля и даже упустил повод от удивления, будучи уверен, что он убил своего бывшего приятеля или по крайней мере надолго вывел его из строя. Ла Моль тоже узнал пьемонтца и вдруг почувствовал, как вспыхнуло его лицо. В течение нескольких секунд, достаточных для выражения всех затаенных чувств их обоих, они впивались друг в друга таким взглядом, что привели в трепет обеих дам. После этого Ла Моль, осмотрев все кругом и, видимо, сообразив, что здесь не место для взаимных объяснений, пришпорил лошадь и догнал герцога Алансонского. Коконнас постоял с минуту на том же месте, закручивая ус все выше, пока кончик уса не ткнулся ему в глаз; наконец он решил двинуться за всеми, так как Ла Моль, не говоря ни слова, поехал прочь.
– Да, да! – произнесла Маргарита с горечью разочарования. – Я не ошиблась… Но это уж слишком.
И она до крови прикусила губы.
– Он очень красив, – ответила герцогиня тоном утешения.
Как раз в эту минуту герцог Алансонский занял место позади короля и королевы-матери, и, таким образом, дворяне герцога, следуя за ним, должны были проехать мимо Маргариты и герцогини Невэрской. Поравнявшись с ними, Ла Моль снял шляпу, поклонился до самой шеи своей лошади и, не надевая шляпы, ждал, что ее величество удостоит его взглядом.
Но Маргарита гордо отвернулась.
Ла Моль заметил на лице королевы презрительное выражение и стал из бледного зеленым. Больше того, он вынужден был ухватиться за гриву лошади, чтобы не упасть на землю.
– Ой, ой! Жестокая женщина! – сказала герцогиня королеве. – Посмотри же на него, а то он упадет в обморок.
– Только этого еще недоставало, – ответила королева с уничтожающей усмешкой. – Нет ли у тебя нюхательной соли?
Герцогиня Невэрская ошиблась. Ла Моль хотя и покачнулся, но справился с собой и, укрепившись в седле, поехал занять свое место в свите герцога Алансонского.
В это время королевский поезд двигался вперед; вдали стал вырисовываться зловещий силуэт виселицы, поставленной и обновленной Энгерандом де Мариньи. Никогда еще не была она увешана так густо, как в этот день.
Пристава и гвардейцы прошли вперед и стали широким кругом вокруг ограды. При их приближении вороны, сидевшие на виселице, поднялись, огорченно каркая, и улетели.
В обычные дни монфоконская виселица служила прибежищем для собак, привлекаемых частою добычей, и для грабителей-философов, заходивших сюда размышлять о грустной стороне их ремесла.
В этот день собаки и грабители отсутствовали – по крайней мере их не было видно. Первых вместе с воронами разогнали пристава и гвардейцы, вторые сами смешались с толпой, чтобы применить ловкость своих рук, от которой зависит веселая сторона их ремесла.
Поезд приближался к виселице; первыми подъехали к ней Карл IX и Екатерина, за ними герцог Анжуйский, герцог Алансонский, король Наваррский, герцог Гиз и их дворяне; дальше – королева Маргарита, герцогиня Невэрская и все дамы, составлявшие, как говорили, летучий эскадрон королевы-матери; еще дальше – пажи, стремянные, лакеи и народ: всего тысяч десять человек.
На главной виселице висела какая-то бесформенная масса, обезображенный труп, почерневший, покрытый запекшейся кровью и слоем свежей беловатой пыли. У трупа отсутствовала голова, поэтому он был повешен за ноги. Но всегда изобретательный народ заменил голову пучком соломы и поверх него надел человеческую маску, а какой-то насмешник, знавший привычки адмирала, всунул в рот ей зубочистку.
Вся эта процессия из разряженных вельмож и прекрасных дам, двигавшаяся мимо почерневших трупов и длинных грубых перекладин виселицы, представляла собой жуткое, причудливое зрелище, напоминавшее картину Гойи. И чем шумнее выражалась радость посетителей, тем резче противоречила она мрачному безмолвию и мертвой бесчувственности трупов, которые служили предметом для насмешек, приводивших в дрожь самих насмешников.
Многим было тяжело смотреть на эту страшную картину, и в группе обращенных гугенотов выделялся своею бледностью Генрих Наваррский: как ни умел он владеть собой, какой бы способностью скрывать свои чувства ни наградило его небо, он все же не мог выдержать. Пользуясь тем обстоятельством, что от этих человеческих останков шел невыносимый смрад, Генрих подъехал к Карлу IX, остановившемуся вместе с Екатериной перед трупом адмирала.
– Сир, – сказал он, – не находит ли ваше величество, что этот жалкий труп пахнет очень скверно и что не стоит здесь оставаться дольше?
– Ты так думаешь, Анрио? – сказал Карл IX, глаза которого горели жестокой радостью.
– Да, сир.
– А я держусь другого мнения: труп врага всегда пахнет хорошо!
– Сир, – вмешался в разговор Таван, – если вы знали, что мы поедем навестить адмирала, то вашему величеству следовало пригласить Ронсара, вашего учителя поэзии: он тут же составил бы эпитафию старику Гаспару.
– Можно обойтись и без него, – ответил Карл IX, – составим ее сами… – И, подумав одну минуту, сказал: – Ну, например, послушайте вот это:Вот адмирал, – когда б вы были строги,
То чести бы ему не оказали вы, —
Он опочил, повешенный за ноги,
За неименьем головы.
– Браво, браво! – закричали дворяне-католики, тогда как обращенные гугеноты молчали, нахмурив брови.
Генрих в это время болтал с Маргаритой и герцогиней Невэрской, делая вид, что не слышал королевского экспромта.
– Едем, едем, сын мой! – сказала Екатерина, начиная чувствовать себя нехорошо от этого зловония, заглушавшего все ароматы духов, которыми она была опрыскана. – Едем. «Нет такой хорошей компании, которая бы не расходилась». Простимся с адмиралом и едем в Париж.
Она иронически кивнула головой адмиралу – так, как прощаются с хорошим другом, – заняла место в голове колонны и выехала на прежнюю дорогу, а за нею последовала вся процессия, двигаясь мимо трупа Колиньи.
Солнце уже спускалось к горизонту. Толпа хлынула вслед за их величествами, наслаждаясь великолепием королевской процессии во всех ее подробностях; вместе с толпой ушли и жулики; таким образом, минут через десять после отъезда короля уже не оставалось никого близ изуродованного трупа адмирала, овеваемого лишь набежавшим вечерним ветерком.
Говоря «никого», мы ошибались. Какой-то дворянин на вороной лошади, очевидно, не успевший из-за присутствия высоких особ хорошенько рассмотреть бесформенный и почернелый человеческий обрубок, остался позади и с удовольствием разглядывал цепи, крюки, каменные столбы – словом, виселицу со всеми ее приспособлениями, которые ему, приехавшему в Париж лишь несколько дней тому назад и не знавшему усовершенствований, свойственных столицам, казались, несомненно, верхом самого ужасного безобразия, какое только может придумать человек.
Читатель, конечно, догадался, что этот дворянин был Коконнас. Изощренный глаз одной из дам напрасно искал его в процессии и, пробегая по ее рядам, не находил.
Но Коконнаса разыскивала не только дама. Другой дворянин, заметный по своему белому колету и изящному перу на шляпе, посмотрев вперед, затем по сторонам, вздумал посмотреть назад, где сразу увидел высокую фигуру Коконнаса и богатырский силуэт его коня, резко выступавшие на фоне неба, окрашенного последними лучами солнца в багряный цвет.
Тогда дворянин в колете из белого атласа свернул с дороги, по которой двигалась процессия, и, сделав круг по маленькой тропинке, вернулся к виселице.
Почти сейчас же дама, в которой мы узнаем герцогиню Невэрскую, как мы признали Коконнаса в высоком дворянине на вороном коне, подъехала к Маргарите.
– Маргарита, мы ошибались обе, – сказала она. – Пьемонтец остался позади, а Ла Моль поехал за ним следом.
– Дьявольщина! – смеясь, ответила Маргарита. – Из этого что-нибудь да выйдет. Признаюсь, я бы не без удовольствия отказалась от своего мнения о нем.
Маргарита обернулась и увидела Ла Моля в то время, как он производил вышеописанный маневр.
Тут же обе принцессы решили оставить королевскую процессию, благо им представлялся удобный случай: в это время процессия делала поворот, минуя проезжую дорожку, обсаженную широкой живой изгородью, причем дорожка заворачивала в обратную сторону и проходила в тридцати шагах от виселицы. Герцогиня Невэрская шепнула что-то на ухо командиру своей охраны, Маргарита сделала знак Жийоне, и все четверо, проехав некоторое расстояние по этой проселочной дороге, спрятались за кустами изгороди, ближайшими к тому месту, где должно было произойти событие, видимо, возбуждавшее в дамах сильное желание быть его зрительницами. Как мы сказали, их отделяло шагов тридцать от того места, где восхищенный Коконнас самозабвенно жестикулировал перед трупом адмирала.Маргарита сошла с лошади, за ней герцогиня Невэрская и Жийона; командир тоже спешился и взял в руки поводья от четырех лошадей. Густая зеленая трава служила для трех женщин троном, которого так часто и безуспешно добиваются принцессы. Просвет в изгороди позволял им видеть все.
Ла Моль уже закончил свой кружной путь, подъехал к Коконнасу сзади и, протянув руку, хлопнул его по плечу. Пьемонтец обернулся.
– О-о! Так это не сон?! – воскликнул Коконнас. – Вы все еще живы?
– Да, месье, я еще жив, – ответил Ла Моль. – Не по вашей вине, но я живу.
– Дьявольщина! Я вас узнал, несмотря на вашу бледность, – ответил Коконнас. – Когда мы виделись в последний раз, вы были порумянее.
– И я вас узнаю, несмотря на ваш желтый рубец через все лицо; когда я наносил его, вы были побледнее.
Коконнас закусил губу, но, видимо, решив продолжить разговор в ироническом тоне, сказал:
– Не правда ли, месье де Ла Моль, забавно, особенно для гугенота, видеть адмирала повешенным на железный крюк! Ведь есть же такие изуверы, которые обвиняют нас, будто мы избивали даже грудных младенцев – гугенотиков.
– Граф, я больше не гугенот, – ответил Ла Моль, склоняя голову, – я имею счастье быть католиком.
– Вот так так! – воскликнул Коконнас и расхохотался. – Вы обратились в истинную веру? О, ловко сделано!
– Месье, – продолжал Ла Моль, все так же серьезно и вежливо, – я дал обет перейти в католичество, если спасусь от избиения.
– Граф, – ответил Коканнас, – ваш обет очень благоразумен, и я вас поздравляю. Может быть, вы дали и другие обеты?
– Да, я дал и другой обет, – ответил Ла Моль совершенно спокойно, поглаживая шею своей лошади.
– Какой же?
– Повесить вас вон там, над адмиралом Колиньи, на том гвоздике, – он точно ждет вас.
– Живьем, как есть? – спросил Коконнас.
– Нет, месье, сначала я пропущу свою шпагу сквозь ваше тело.
Коконнас побагровел, глаза его сверкнули зеленым огоньком.
– Взгляните на этот гвоздик, – ответил он с издевкой.
– Да, ну и что же – этот гвоздик?
– Вы не доросли до него, мой миленький дворянчик, – ответил Коконнас.
– Я встану на вашу лошадь, мой великан-человекоубийца! – возразил Ла Моль. – Неужели вы воображаете, мой дорогой граф Аннибал де Коконнас, что можно убивать безнаказанно, пользуясь тем благородным и почетным случаем, когда сто против одного? Нет! Нет! Приходит день, когда враги снова встречаются, и думается мне, что именно сегодня – такой день! Меня очень подмывало раздробить вашу башку выстрелом из пистолета, но, увы, я был бы не в силах хорошо прицелиться, потому что у меня дрожат руки из-за ран, которые вы нанесли мне так предательски.
– Мою башку?! – прорычал Коконнас, спрыгивая с лошади. – Ату его, ату! Слезайте, граф, и обнажайте шпагу!
И Коконнас выхватил свою шпагу.
– Мне послышалось, что твой гугенот назвал его голову башкой, – прошептала герцогиня Невэрская на ухо Маргарите. – Разве, по-твоему, он некрасив?
– Очарователен! – смеясь, ответила Маргарита. – И я вынуждена сказать, что в пылу гнева Ла Моль был несправедлив. Но тс-с! Давай смотреть!
Ла Моль спешился с той же быстротой, как и его противник, снял свой вишневый плащ, бережно положил его на землю, вынул шпагу и стал в позицию.
– Ай! – вскрикнул он, вытягивая руку.
– Ох! – простонал Коконнас, распрямляя свою руку.
Вы помните, конечно, что они оба были ранены в правое плечо, поэтому всякое резкое движение вызывало у них сильную боль.
За кустом послышался сдержанный смех. Обе принцессы не могли не засмеяться при виде двух бойцов, с гримасой на лице растиравших раненые плечи. Их смех донесся и до двух дворян, совершенно не подозревавших о присутствии свидетелей; обернувшись в ту сторону, они узнали своих дам.
Ла Моль твердо, автоматически снова стал в позицию, а Коконнас, очень выразительно сказав «дьявольщина!», скрестил свою шпагу с его шпагой.
– Вот как! Да они дерутся не на шутку! Они зарежут друг друга, если мы не наведем порядок. Довольно баловства. Эй, господа! Эй! – крикнула Маргарита.
– Перестань! Перестань! – сказала Анриетта, которая видела пьемонтца в битве и теперь втайне надеялась, что Коконнас так же легко справится с Ла Молем, как справился с двумя племянниками и сыном Меркандона.
– О-о! Сейчас они действительно прекрасны! – сказала Маргарита. – Так и пышут огнем.
В самом деле, бой, начавшийся с насмешек и колких слов, шел молча с того мгновения, как скрестились шпаги. Оба не доверяли своим силам; при каждом резком движении тому и другому приходилось делать над собой усилие, превозмогая стреляющие боли в ранах. Тем не менее Ла Моль с горящими, сосредоточенными на одной точке глазами, полуоткрыв рот и стиснув зубы, маленькими, но твердыми и четкими шагами наступал на своего противника. Коконнас, чувствуя в Ла Моле мастера фехтовального искусства, все время отходил, – хотя шаг в шаг, но все же отходил. Так оба противника дошли до той канавы, за которой находились зрители. Коконнас, сделав вид, что отступал с одной лишь целью – быть ближе к своей даме, сразу остановился, воспользовался слишком глубоким «переносом» шпаги у Ла Моля, с быстротой молнии нанес прямой удар, и тотчас на белом атласном колете его противника появилось кровавое пятно и стало растекаться.
– Смелей! – крикнула герцогиня Невэрская.
– Ах, бедняжка Ла Моль! – с горечью воскликнула Маргарита.
Ла Моль услышал ее возглас, бросил на нее взгляд, проникающий в сердце глубже, чем острие шпаги, и, выполнив шпагой обманный оборот, сделал выпад.
На этот раз обе дамы вскрикнули в один голос. Окровавленный конец рапиры Ла Моля вышел из спины Коконнаса.
Однако ни один из них не упал; оба стояли на ногах, изумленно глядя друг на друга; каждый чувствовал, что при малейшем движении потеряет равновесие. Пьемонтец, раненный более опасно, чем его противник, наконец сообразил, что с потерей крови уходят его силы. Тогда он навалился на Ла Моля, обхватил его одной рукой, а другой старался вынуть из ножен кинжал. Ла Моль собрал все свои силы, поднял руку и рукоятью шпаги ударил Коконнаса в лоб, после чего пьемонтец, оглушенный ударом, наконец упал, но, падая, увлек за собой противника, и оба скатились в канаву.
Маргарита и герцогиня Невэрская, увидев, что они чуть живы, но все еще пытаются прикончить один другого, сейчас же бросились к ним в сопровождении капитана. Но прежде чем все трое успели добежать, противники разжали руки, глаза их закрылись, оружие выпало из рук – и оба в последнем судорожном движении распластались на земле. Вокруг них пенилась большая лужа крови.
– Храбрый, храбрый Ла Моль! – воскликнула Маргарита, уже не сдерживая восхищения. – Прости, прости, что я не верила в тебя! – И глаза ее наполнились слезами.
– Увы! Увы! Мой мужественный Аннибал! – шептала герцогиня Невэрская. – Мадам, скажите, видали вы когда-нибудь таких неустрашимых львов? – И она громко зарыдала.
– Черт подери! Крепкие удары! – говорил капитан, стараясь остановить кровь, которая текла ручьем. – Эй, кто там едет! Подъезжайте скорее!
Действительно, в полумраке сумерек показался какой-то человек на таратайке, выкрашенной в красный цвет; он сидел спереди и распевал старинную песенку, вероятно, пришедшую ему на память по поводу чуда у «Гробницы невинно убиенных»:
По зеленым берегам,
Тут и там,
Мой боярышник отрадный,
Ты киваешь головой,
Как живой,
Мне из чащи виноградной!..
Сладкозвучный соловей
Меж ветвей,
Что тенисты и упруги,
Здесь гнездо весною вьет
Каждый год
Для возлюбленной подруги!..
Так цвети же долгий срок,
Мой цветок;
И не сладить вихрям снежным
С бурей, градом и грозой
Над тобой,
Над боярышником нежным!
– Эй! Эй! – снова закричал капитан. – Подъезжайте, когда вас зовут! Разве не видите, что надо помочь этим дворянам?
Человек, своей отталкивающей внешностью и суровым выражением лица представлявший странное противоречие с этой нежной идиллической песней, остановил свою лошадь, слез с таратайки и, наклонившись над телами двух бойцов, сказал:
– Прекрасные раны! Но те, что наношу я, будут получше этих.
– Кто же вы такой? – спросила Маргарита, чувствуя помимо своей воли какой-то непреоборимый страх.
– Мадам, – отвечал этот человек, кланяясь до земли, – я мэтр Кабош, палач парижского суда, и ехал развесить на этой виселице товарищей для месье адмирала.
– А я королева Наваррская, – сказала Маргарита. – Свалите здесь трупы, выстелите таратайку чепраками с наших лошадей и потихоньку везите вслед за нами этих двух дворян в Лувр.
VII. Собрат мэтра Амбруаза Паре
Таратайка, в которую положили Коконнаса и Ла Моля, снова двинулась в Париж, следуя в темноте за группой всадников. Она остановилась у Лувра, где ее кучер получил щедрую награду. Раненых велели перенести к герцогу Алансонскому и послали за мэтром Амбруазом Паре.
Когда он прибыл, ни один раненый не приходил еще в сознание. Ла Моль пострадал гораздо меньше: удар шпаги пришелся ему над правой подмышкой, но не затронул ни одного важного для жизни органа; у Коконнаса было пробито легкое, и вырывавшийся сквозь рану воздух колебал пламя поднесенной свечки.
Мэтр Амбруаз Паре не отвечал за выздоровление Коконнаса.
Герцогиня Невэрская была в отчаянии: она сама, надеясь на силу, храбрость и ловкость своего пьемонтца, не дала Маргарите прекратить бой. Она бы с удовольствием велела отнести Коконнаса в дом Гизов, чтобы опять ухаживать за ним, как раньше, но ее муж должен был с минуты на минуту вернуться из Рима и мог найти довольно странным вселение незваного гостя в семейное жилище.
Маргарита, стараясь утаить причину их ранений, велела перенести обоих молодых людей к своему брату, где один из них обосновался еще раньше, и объяснила их состояние тем, что они упали с лошади во время прогулки на Монфокон; но настоящая причина обнаружилась благодаря восторженным рассказам капитана – свидетеля их боя, и таким образом весь двор узнал, что два новых придворных щеголя вдруг появились в свете славы.
Оба раненых пользовались лечением Амбруаза Паре совершенно одинаково, но их выздоровление шло различно, что зависело от большей или меньшей тяжести ранений. Ла Моль, пострадавший меньше, первый пришел в сознание. Но Коконнаса трепала лихорадка, и возвращение к жизни сопровождалось ужасным бредом.
Несмотря на пребывание в одной комнате с пьемонтцем, Ла Моль, придя в сознание, не заметил своего сожителя или, во всяком случае, ничем не показал, что его видит; Коконнас, наоборот, едва раскрыв глаза, уставился на Ла Моля, да еще с таким выражением, как будто потеря крови нисколько не повлияла на возбудимость этого пламенного темперамента.
Коконнас думал, что все это ему снится и что во сне он вновь встречается с врагом, которого убил уже два раза; однако сон этот длился без конца. Коконнас видел, что Ла Моль лежал совершенно так же, как и он, что хирург перевязывал Ла Моля так же, как и его; затем он видел, что Ла Моль сидел в своей кровати, тогда как сам он был прикован лихорадкой, слабостью и болью; потом Ла Моль уже вставал с постели, потом прохаживался с помощью хирурга, потом ходил с палочкой и наконец ходил свободно.
Коконнас, все время находясь в бреду, смотрел на эти стадии выздоровления своего сожителя взглядом то тусклым, то яростным, но неизменно угрожающим.
В воспаленном мозгу пьемонтца все претворялось в ужасающую смесь больной фантазии с действительностью. По его представлению, Ла Моль был убит, убит совсем, и даже два раза, а не один раз. И тем не менее он видел, что призрак Ла Моля лежал в настоящей постели; потом он видел, как этот призрак вставал с постели, затем начал ходить и – что было самое ужасное – подходил к его кровати. Призрак, от которого Коконнас готов был убежать хоть в самый ад, подходил к нему, останавливался и глядел на него, стоя у изголовья; мало того, в чертах его лица проглядывало нежное участие и сострадание, что представлялось Коконнасу дьявольской насмешкой.
И вот в его мозгу, больном, быть может, более, чем тело, вспыхнула страстная, слепая жажда мести. Им овладела одна-единственная мысль: добыть какое-нибудь оружие и ударить им в это тело или в этот призрак Ла Моля, мучивший его так жестоко. Платье Коконнаса сначала положили все на стуле, потом унесли, из тех соображений, что оно выпачкано кровью и лучше было удалить его с глаз раненого, но на стуле оставили его кинжал, предполагая, что у пьемонтца не скоро явится желание воспользоваться им. Коконнас увидел кинжал; в течение трех ночей, покамест Ла Моль спал, он все пытался дотянуться до кинжала; три раза силы изменяли Коконнасу, и он терял сознание. Наконец на четвертую ночь он дотянулся до кинжала, схватил его концами сжатых пальцев и, застонав от боли, спрятал под подушку.
На следующий день Коконнас увидел нечто совершенно небывалое до этих пор: призрак Ла Моля, видимо, с каждым днем все больше набирался сил, в то время как Коконнас, всецело поглощенный страшным видением, все больше тратил свои силы на хитроумный замысел, который должен был его избавить от призрака Ла Моля; и вот теперь призрак Ла Моля, приобретавший все большую подвижность, задумчиво прошелся раза три по комнате, затем накинул плащ, опоясался шпагой, надел на голову широкополую фетровую шляпу, отворил дверь и вышел.
Коконнас вздохнул свободно, решив, что наконец отделался от своего фантома. В течение двух или трех часов кровь обращалась в нем спокойнее, он чувствовал себя бодрее, чем когда-либо со времени дуэли; двухдневное отсутствие Ла Моля вернуло бы сознание пьемонтцу, а недельное, быть может, излечило бы его. К несчастью, Ла Моль вернулся через два часа.
Появление Ла Моля было ударом в сердце Коконнаса, и хотя Ла Моль вошел не один, Коконнас даже не взглянул на его спутника.
Но спутник заслуживал того, чтобы на него взглянули.
Это был человек лет сорока, коротенький, коренастый, сильный, с черными волосами, падавшими до бровей, и с черной бородой, покрывавшей, вопреки моде того времени, всю нижнюю часть лица; но вновь прибывший, видимо, не очень придерживался моды. На нем была кожаная безрукавка, вся в бурых пятнах, штаны цвета бычьей крови, колпак того же цвета, красная фуфайка, грубые кожаные башмаки, доходившие ему до икр, и широкий пояс с привешенным к нему ножом в ножнах.
Эта странная личность, присутствие которой в Лувре казалось аномалией, сбросила на стул бывший на ней бурый плащ и без всяких церемоний подошла к кровати Коконнаса, который точно завороженный все время не спускал глаз со стоявшего в стороне Ла Моля. Пришедший незнакомец осмотрел больного и покачал головой.
– Вы слишком долго выжидали, дворянин! – сказал он.
– Я раньше не мог выходить из дому, – ответил Ла Моль.
– Э, так надо было послать за мной.
– Кого?
– Да, это верно! Я и забыл, где мы находимся. Я обо всем говорил дамам, да они не стали меня слушать. Если бы выполнили мои предписания, вместо того чтоб обращаться к этому набитому дураку, которого зовут Амбруаз Паре, вы бы давно уже ухаживали вместе с ним за дамочками или еще раз обменялись бы ударами шпагой, если бы пришла охота. Словом, посмотрим! Ваш приятель способен что-нибудь понимать?
– Не очень.
– Высуньте язык, дворянин.
Коконнас высунул язык Ла Молю с такой страшной гримасой, что незнакомец вторично покачал головой.
– Эх-эх-эх! Сводит мускулы, – говорил он. – Нельзя терять времени. Сегодня вечером я вам пришлю питье; дадите ему выпить в три приема, час в час: в полночь, в час ночи и в два часа ночи.
– Хорошо.
– А кто будет давать ему питье?
– Я.
– Вы лично?
– Да.
– Даете слово?
– Честное слово дворянина!
– А если какой-нибудь врач вздумает стащить малую толику, чтобы исследовать и узнать, из чего оно состоит?..
– Я его вылью, до последней капли.
– Тоже честное дворянское слово?
– Клянусь вам!
– А через кого прислать вам питье?
– Через кого хотите.
– Но мой посланный…
– Что?
– Как же он к вам пройдет?
– Это предусмотрено. Он скажет, что пришел от парфюмера Рене.
– Это тот флорентиец, что живет у моста Святого Михаила?
– Он самый. Ему дано право входа в Лувр в любое время дня и ночи.
Незнакомец усмехнулся.
– Да, это самое малое, что должна ему королева Екатерина. Решено, посланный придет от имени парфюмера Рене. Уж один-то раз мне можно воспользоваться его именем: сам он частенько занимается моей профессией, не имея на то законных прав.
– Значит, я могу рассчитывать на вас? – спросил Ла Моль.
– Можете.
– Что же касается оплаты…
– О! Это мы сговоримся с самим дворянином, когда он встанет на ноги.
– И будьте покойны: думаю, что он вознаградит вас щедро.
– Я тоже так думаю. Но, – добавил он с кривой улыбкой, – люди, имеющие дело со мной, обычно не бывают мне признательны, так что не удивлюсь, ежели и этот дворянин, встав на ноги, забудет или, вернее, не потрудится вспомнить обо мне.
– Ладно! Ладно! – ответил Ла Моль, тоже улыбаясь. – В таком случае я ему освежу память.
– Ну что ж, идет! Через два часа питье будет у вас.
– До свидания.
– Как вы сказали?
– До свидания.
Незнакомец усмехнулся:
– А вот я говорю всегда – прощайте. Прощайте, месье де Ла Моль! Через два часа питье будет у вас. Слышите, надо дать его в три приема: сначала в полночь, а затем через каждый час.
С этими словами он вышел, и Ла Моль остался один на один с пьемонтцем.
Коконнас слышал весь разговор, но ничего не понял: до него доносились пустые звуки слов, невнятное журчание фраз. Из всего разговора у него засело только слово «полночь».
Он продолжал следить горящим взглядом за Ла Молем, который то раздумывал, то ходил по комнате.
Неведомый врач сдержал слово и в назначенное время прислал питье. Ла Моль предусмотрительно поставил его на маленькую серебряную грелку и лег в постель.
Это дало Коконнасу небольшую передышку. Он попробовал закрыть глаза, но горячечная дремота оказалась лишь продолжением его бреда наяву. Тот же призрак, что преследовал его днем, гонялся за ним и ночью: сквозь сухие веки он продолжал видеть Ла Моля, по-прежнему грозящего бедой, и какой-то голос шептал на ухо: «Полночь! Полночь! Полночь!»
Вдруг среди ночи послышался гулкий бой часов: они пробили двенадцать раз. Коконнас открыл воспаленные глаза; его жгучее дыхание обжигало сухие губы; неукротимая жажда томила пышащее жаром горло; маленький ночничок светился, как обычно, и в тусклом его свете множество призраков танцевало перед блуждающим взором Коконнаса.
И вот он видит нечто страшное: Ла Моль встает с постели, делает круга два по комнате, как кружит ястреб над замершей птицей, и направляется к нему, показывая кулак. Коконнас засунул руку под подушку, схватил кинжал и приготовился выпустить кишки своему врагу. Ла Моль подходил все ближе.
Пьемонтец бормотал:
– А-а! Это ты, опять ты, все ты! Иди, иди! А-а! Ты мне грозишь, показываешь мне кулак, улыбаешься! Иди, иди! Ага! Ты крадешься потихоньку, шаг за шагом! Иди, иди, я тебя зарежу!
И в ту минуту, когда Ла Моль склонился над его постелью, Коконнас на самом деле перешел от глухой угрозы к действию – из-под одеяла молнией сверкнул клинок! Но то усилие, которое он сделал, чтобы приподняться, изнурило его совсем: рука, занесенная над Ла Молем, остановилась на полпути, кинжал выскользнул из ослабевших пальцев, и сам умирающий рухнул на подушку.
– Ну, ну, – шептал Ла Моль, осторожно приподнимая ему голову и поднося чашку к его губам, – выпейте это, мой бедный товарищ, а то вы весь горите.
Ла Моль действительно подносил чашку, которую Коконнас принял за грозный кулак, так сильно встревоживший больной мозг раненого.
Но как только благодетельная жидкость мягко смочила его губы и освежила грудь, к раненому вернулся здравый ум или, вернее, здоровый инстинкт. Коконнас почувствовал во всем теле неизъяснимое блаженство, какого он не испытывал еще ни разу; открыв глаза, он сознательно посмотрел на Ла Моля, с улыбкой на лице державшего его в своих руках; из глаз пьемонтца, только сейчас еще горевших мрачной яростью, скатилась по пылающей щеке едва заметная слезинка.
– Дьявольщина! – прошептал он, откидываясь на подушку. – Если я выкручусь, месье де Ла Моль, вы будете мне другом.
– И выкрутитесь, – ответил Ла Моль, – если уговорите себя выпить еще две такие чашки и не видеть больше гадких снов.
Час спустя Ла Моль, превратясь в сиделку и точно повинуясь предписаниям врача-незнакомца, вторично встал с постели, налил в чашку вторую дозу питья и поднес ее Коконнасу. Пьемонтец на этот раз уже не поджидал его, стиснув в руке кинжал, а принял с распростертыми объятиями, охотно выпил питье и после этого впервые заснул спокойным сном.
Третья чашка оказала действие не менее чудесное: в груди больного слышалось хотя и затрудненное, но равномерное дыхание; задеревенелые члены отошли, и приятная влажность проступила на поверхности горячей кожи. Когда на другой день Амбруаз Паре навестил раненого, он с удовлетворением улыбнулся и сказал:
– С этого времени я отвечаю за выздоровление месье Коконнаса, и это будет одно из самых удачных врачеваний, какие мне удавалось делать.
Принимая во внимание диковатый нрав пьемонтца, вся эта сцена, полудраматическая, полукомическая, была не лишена известной доли умилительной поэзии, а повела она к тому, что дружба двух дворян, начатая в трактире «Путеводная звезда», но насильственно прерванная событиями Варфоломеевской ночи, разгорелась с новой силой и вскоре превзошла дружбу Ореста и Пилада, которой недоставало пяти шпажных и одной пистолетной ран, запечатленных на их телах.
Как бы то ни было, раны, прежние и новые, тяжелые и легкие, стали заживать. Ла Моль, верный своему новому призванию сиделки, решил не выходить из дому, пока Коконнас не поправится совсем. Он поднимал его на постели, когда Коконнас не мог еще вставать, помогал ему ходить, когда пьемонтец мог уже держаться на ногах, – словом, окружил его всякими заботами, подсказанными нежной и любящей натурой Ла Моля. Все это благодаря жизненной силе пьемонтца привело к выздоровлению более быстрому, чем можно было ожидать.
Но в то же время одна и та же мысль мучила обоих молодых людей: во время лихорадочного бреда каждому чудилось, что к нему приходит женщина, которой было полно его сердце; но с той поры, как оба наконец пришли в сознание, ни Маргарита, ни герцогиня Невэрская уже не появлялись в комнате. И это было само собой понятно: разве могли жена короля Наваррского и невестка герцога Гиза на глазах у всех так явно обнаружить свой интерес к двум простым дворянам? Нет. Разумеется, только такой ответ могли бы дать себе Ла Моль и Коконнас. Но все же отсутствие двух дам, похожее на полное забвение, вызывало скорбь у молодых людей. Правда, время от времени к ним заходил дворянин, присутствовавший при их дуэли, и как бы по собственному побуждению справлялся о здоровье раненых. Правда, что заходила и Жийона, но тоже от себя; однако ни Коконнас не решался говорить о герцогине Невэрской с этим дворянином, ни Ла Моль не смел расспрашивать Жийону про королеву Маргариту.
VIII. Привидения
В течение некоторого времени оба молодых человека скрывали свою тайну друг от друга. Наконец однажды, в минуту откровенности, заветная мысль каждого невольно сорвалась с их уст, и тогда оба закрепили свою дружбу тем высшим доказательством ее, без которого нет дружбы, – полной откровенностью.
Оказалось, что оба безумно влюблены – один в принцессу, другой в королеву.
Вот это почти непреодолимое общественное расстояние между ними и предметами их страстного желания пугало двух воздыхателей. Но тем не менее надежда, так глубоко вкоренившаяся в человеческое сердце, жила и в них, невзирая на все безумие такой надежды.
Надо сказать, что по мере своего выздоровления и тот и другой прилежно занялись своей наружностью. Каждый человек, даже наиболее равнодушный к своей внешности, все-таки при известных обстоятельствах начинает вести молчаливую беседу с зеркалом и вступать с ним в соглашения, после чего отходит от своего наперсника, почти всегда очень довольный разговором. Да и оба молодых человека были не из тех, кому зеркало выносит суровый приговор. Тонкий, бледный, изящный Ла Моль отличался изысканной красой. Коконнас – крепкий, хорошо сложенный и румяный – олицетворял красоту силы; к тому же и сама болезнь послужила ему на пользу: он похудел и побледнел, а пресловутый шрам, причинивший ему столько хлопот радужными переливами своих цветов, в конце концов исчез, предвещая, как радуга после потопа, длинную череду ясных дней и тихих ночей.
Впрочем, самая чуткая заботливость все время окружала обоих раненых: в тот день, когда один из них мог уже вставать с постели, он находил халат, кем-то положенный на кресло у его кровати, а в тот день, когда он мог уже одеться, – полный костюм. Больше того, каждому в карман колета кто-то вложил туго набитый кошелек, но, само собою разумеется, оба хранили эти кошельки до того дня, когда представится возможность вернуть свой кошелек неведомому покровителю.
Таким неизвестным покровителем не мог быть герцог Алансонский, у которого жили молодые люди, поскольку этот принц не только ни разу не вздумал навестить их, но даже не прислал кого-нибудь спросить об их здоровье.
Смутная надежда шептала сердцу каждого из них, что этим неизвестным покровителем была любимая им женщина.
Поэтому оба раненых с особым нетерпением ждали, когда им можно будет выйти из дому. Ла Моль, более окрепший, мог это сделать уже давно, но какое-то молчаливое обязательство связывало его с судьбою друга. Они условились сделать свой первый выход в три места.
Во-первых, к неизвестному врачу, давшему то нежное питье, которое так облегчило страдания воспаленной груди Коконнаса.
Во-вторых, в гостиницу покойного мэтра Ла Юрьер, где тот и другой оставили свой чемодан и лошадь.
В-третьих, к флорентийцу Рене, который, соединяя со званием колдуна звание чародея, занимался, кроме торговли косметикой и ядами, составлением любовных напитков и предсказанием судьбы.
Наконец, после двух месяцев, ушедших на поправку и проведенных в заключении, давно желанный день настал.
Мы сказали – «в заключении», и это верно: несколько раз, сгорая нетерпением, они пытались приблизить этот день, но часовые, поставленные у дверей, неизменно преграждали им путь, говоря, что пропустят их только тогда, когда получат exeat [28] от мэтра Амбруаза Паре.
Но вот однажды искусный хирург, признав, что оба пациента хотя и не совсем поправились, но уже близки к полному выздоровлению, произнес exeat, и в два часа пополудни одного из тех чудесных осенних дней, какие иногда дарит Париж своим изумленным обитателям, уже запасшимся долготерпением на зиму, два друга, взявшись под руку, перешагнули порог Лувра.
Ла Моль, найдя на одном из кресел свой знаменитый вишневый плащ, который он так бережно сложил на землю перед недавним боем, теперь с великим удовольствием надел его и собрался вести приятеля, а Коконнас, не раздумывая и не противясь, отдал себя в его распоряжение. Он знал, что друг ведет его к врачу-незнакомцу, вылечившему его в одну ночь своим таинственным питьем, тогда как все лекарства мэтра Амбруаза Паре лишь приближали смерть. Он разделил все бывшие у него деньги, то есть двести дублонов, на две части, из коих сто дублонов предназначались безымянному эскулапу, которому он был обязан своим выздоровлением. Коконнас не боялся смерти, но это не мешало ему любить жизнь, вот почему он и собрался так щедро наградить своего спасителя.
Ла Моль направился по улице Астрюс, вышел на большую улицу Сент-Оноре, свернул в переулок Прувель и наконец дошел до рынка. Около старинного колодца, в том месте, которое теперь зовется Квадратным рынком, стояло каменное восьмиугольное сооружение, увенчанное широкой деревянной башенкой с островерхой крышей и скрипучим флюгером. В деревянной башне было проделано восемь отверстий, пересеченных, как перевязь пересекает гербовые щиты, своего рода деревянным обручем с прорезями посередине такой формы, чтобы сквозь них можно было просунуть голову и руки осужденного или осужденных, которых выставляли напоказ в одном, двух или во всех восьми отверстиях. Это странное сооружение, не имевшее себе подобных среди соседних зданий, носило название «позорный столб».
К основанию этой своеобразной башни приткнулся, словно гриб, какой-то бесформенный, кривой, косой домишко, с крышей, покрытой мшистыми пятнами, как кожа прокаженного.
Это был домик палача.
На деревянной башне был выставлен какой-то человек, который все время показывал язык прохожим: это был один из воров, действовавших вокруг виселицы на Монфоконе, и случайно пойманный с поличным.
Коконнас, вообразив, что Ла Моль привел его взглянуть на это любопытное зрелище, вмешался в толпу зрителей, отвечавших на гримасы преступника криками и улюлюканьем. Пьемонтец по природе был жесток, и его очень забавляло это зрелище; он предпочел бы вместо ругани и улюлюканья закидать камнями преступника, настолько наглого, что он показывал язык благородным дворянам, оказавшим ему честь своим приходом.
Когда вращающаяся башенка повернулась, чтобы другая часть зрителей, стоявшая на площади, могла также поглазеть на осужденного, и толпа двинулась вслед за движением башенки, Коконнас хотел было пойти вместе со всеми, но Ла Моль остановил его, сказав тихонько:
– Мы вовсе не для этого пришли сюда.
– А зачем же? – спросил Коконнас.
– Сейчас увидишь, – ответил Ла Моль.
Оба друга перешли на «ты» на следующий день после той достославной ночи, когда Коконнас собирался выпустить кишки Ла Молю. Ла Моль подвел своего друга к домику у подножия каменной башни, где у открытого оконца, опершись локтями на подоконник, сидел какой-то человек.
– А-а! Это вы, ваши светлости! – сказал человек, приподнимая колпак цвета бычьей крови и открывая голову с густыми черными волосами, ниспадавшими до бровей. – Милости просим!
– Кто это? – спросил Коконнас, пытаясь что-то вспомнить; ему казалось, что он видел эту голову в какой-то момент своего горячечного бреда.
– Твой спаситель, мой милый друг, – сказал Ла Моль, – тот самый, что принес тебе целебное питье, которое так помогло тебе.
– Ого! – произнес Коконнас. – В таком случае, мой друг… – И протянул человеку руку.
Но вместо того чтобы сделать соответственное движение своей рукой, сидевший человек выпрямился и тем самым отдалился от двух друзей на некоторое расстояние.
– Месье, благодарю за честь, какую вы собираетесь мне оказать, – сказал он, – но если бы вы знали, кто я такой, то, вероятно, не оказали бы ее.
– Я заявляю, что, будь вы хоть сам дьявол, я ваш должник, потому что без вас я бы теперь лежал в могиле.
– Я не совсем дьявол, – ответил человек в красном колпаке, – но многие предпочли бы свидание с дьяволом, чем со мной.
– Кто же вы такой? – спросил Коконнас.
– Месье, я мэтр Кабош, – ответил человек, – палач парижского суда.
– А!.. – произнес Коконнас, убирая руку.
– Вот видите! – сказал мэтр Кабош.
– Нет! Я прикоснусь к вашей руке, черт возьми! Давайте вашу руку!
– Взаправду?
– Во всю ширь!
– Вот она.
– Еще шире… шире… хорошо!
Коконнас вынул из кармана пригоршню золотых монет, предназначенных для исцелителя, и высыпал в руку палача.
– Я бы предпочел одну вашу руку, – сказал Кабош, – золото и у меня бывает, а вот в руках, которые жмут и мою руку, – большая недостача. Ну, все равно. Да благословит вас бог!
– Так, значит, это вы, – сказал пьемонтец, с любопытством глядя на палача, – пытаете, колесуете, четвертуете, рубите головы, ломаете кости? Ну что ж, очень рад с вами познакомиться!
– Месье, не все делаю я сам, – ответил Кабош. – Как вы, господа, держите лакеев, чтобы они исполняли вместо вас неприятную работу, так же и у меня есть помощники, которые делают всю черную работу и расправляются с простым народом. Но когда случается иметь дело с благородными, вроде вас и вашего товарища, – о, тогда другое дело! Тут уж я сам имею честь делать все до мелочей с начала до конца – то есть с допроса до снятия головы.
Коконнас, сам не зная отчего, почувствовал содрогание во всем теле, как будто жестокий клин уже стиснул ему ноги и стальное лезвие коснулось его шеи. Ла Моль также безотчетно испытывал то же ощущение.
Но Коконнасу стало стыдно своего волнения, он подавил его и, прощаясь с мэтром Кабошем, решил напоследок пошутить:
– Ладно, мэтр Кабош, ловлю вас на слове: когда придет и мой черед влезать на виселицу Энгеранда или на эшафот герцога Немурского, то только вы займетесь мною.
– Обещаю.
– А в знак того, – сказал Коконнас, – что ваше обещание я принимаю, вот вам моя рука.
И он протянул руку палачу, который робко пожал ее, но было очевидно, что ему очень хотелось пожать ее от всей души.
И все-таки от одного его прикосновения Коконнас немного побледнел, хотя улыбка по-прежнему играла на его губах; Ла Молю было не по себе, и, увидев, что толпа, следовавшая за круговым движением деревянной башни, снова подходит к ним, он дернул друга за плащ.
Коконнас, в глубине души желавший так же сильно, как и Ла Моль, покончить с этой сценой, в которой принял, по свойству своего характера, гораздо большее участие, чем хотел сам, кивнул головой и пошел вслед за Ла Молем.
– Ей-богу, надо признаться, здесь легче дышится, чем на рынке! – сказал Ла Моль, когда они дошли до Трагуарского креста.
– Признаться, и мне тоже, – ответил Коконнас, – но все-таки я очень доволен тем, что познакомился с мэтром Кабошем. Полезно везде иметь друзей.
– В том числе и под вывеской «Путеводная звезда», – сказал Ла Моль.
– Ах, бедняга мэтр Ла Юрьер! – ответил Коконнас. – Вот кто погиб, так уж погиб! Я сам видел огонь из аркебузы, слышал, как звякнула пуля, точно о колокол собора Богоматери, и когда я уходил, он лежал в крови, которая шла у него из носа и изо рта. Если считать его нашим другом, то он им будет на том свете.
Продолжая свою беседу, молодые люди дошли до улицы Арбр-сек и направились к вывеске «Путеводная звезда», все так же скрипевшей на том же месте, все так же манившей путешественника чревоугодным очагом и возбуждающей аппетит надписью.
Коконнас и Ла Моль рассчитывали застать всех домочадцев в горе, вдову в трауре, а служащих с черной повязкой на рукаве, но, к великому их удивлению, они застали в доме кипучую деятельность, вдову с сияющим лицом, а всех прислужников веселыми как никогда.
– О изменница! – воскликнул Ла Моль. – Успела выйти замуж за другого!
И, обращаясь к ней самой, сказал:
– Мадам, мы два дворянина, знакомые бедняги Ла Юрьера. Мы здесь оставили двух лошадей, два чемодана и теперь пришли за ними.
– Господа, – отвечала хозяйка дома, напрягая свою память, – я лично не имею чести знать вас, поэтому, если вы разрешите, я позову мужа… Грегуар, сходите за хозяином!
Грегуар прошел через первую кухню общего назначения во вторую, представлявшую собой лабораторию, где готовились те кушанья, которые мэтр Ла Юрьер при своей жизни считал достойными, чтобы готовить их собственноручно.
– Черт меня побери, – тихо сказал Коконнас, – если мне не грустно видеть такое веселье в этом доме вместо горя. Бедный Ла Юрьер! Эх!
– Он собирался убить меня, – сказал Ла Моль, – но я ему прощаю от всей души.
Едва Ла Моль успел произнести эти слова, как появился человек, держа в руках кастрюльку, где он тушил чеснок, а сейчас мешал его деревянной ложкой.
Коконнас и Ла Моль вскрикнули от удивления. На их крик человек поднял голову, вскрикнул совершенно так же и, выронив из рук кастрюльку, застыл на месте с деревянной ложкою в руке.
– In nomine patris, – бормотал он, помахивая ложкой, как кропилом, – et filii, et spiritus sancti… [29]
– Мэтр Ла Юрьер! – воскликнули разом молодые люди.
– Месье Коконнас и месье де Ла Моль? – удивился Ла Юрьер.
– Вы, значит, не убиты? – спросил Коконнас.
– Вы, стало быть, живы? – спросил, в свою очередь, хозяин.
– Я же видел, как вы упали, – сказал пьемонтец, – слышал удар пули, которая не знаю что, но что-то раздробила вам. Я ушел от вас, когда вы лежали в канаве и у вас шла кровь из носа, из ушей и даже из глаз.
– Все это, месье Коконнас, так же истинно, как Евангелие. Но только удар пули, который вы слышали, пришелся в мой шишак, и, к счастью, пуля на нем расплющилась; но удар все же был здоровым, и вот вам доказательство, – добавил Ла Юрьер, снимая колпак и обнажая голову, лысую, как колено, – вот видите, от этого удара у меня не уцелело на голове ни волоска.
Оба молодых человека расхохотались при виде его комичного лица.
– А-а, вы смеетесь! – сказал Ла Юрьер, немного успокоившись. – Значит, вы пришли не с дурными намерениями?
– А вы, месье Ла Юрьер, вылечились от воинственных наклонностей?
– Ей-богу, да. И я теперь…
– Что же теперь?
– Теперь я дал обет не знаться ни с каким огнем, кроме кухонного.
– Браво! Вот это благоразумно! – ответил Коконнас. – А теперь вот что, – добавил он, – у вас в конюшне остались две наши лошади, а в комнатах два наших чемодана.
– Ах, черт! – сказал хозяин, почесывая за ухом.
– Так как же?
– Вы говорите – две лошади?
– Да, у вас в конюшне.
– И два чемодана?
– Да, в наших комнатах.
– Видите ли, в чем дело… Вы ведь думали, что я убит, не так ли?
– Конечно.
– Согласитесь, что коль вы ошиблись, так и я мог ошибиться.
– То есть подумать, что и мы убиты? Это вы, конечно, могли предполагать.
– Ага! Вот, вот! А так как вы умирали, не сделав завещания… – продолжал мэтр Ла Юрьер.
– Что же дальше?
– Я подумал… Я был не прав, теперь я это вижу…
– Так что же вы подумали?
– Я подумал, что могу быть вашим наследником.
– Ха-ха-ха! – рассмеялись молодые люди, глядя на смешное выражение его лица.
– Но при всем том я очень доволен, что вижу вас в живых!
– Короче говоря, вы продали наших лошадей? – сказал Коконнас.
– Увы! – ответил Ла Юрьер.
– А наши чемоданы? – спросил Ла Моль.
– О-о! Чемоданы – нет! – воскликнул Ла Юрьер. – Только то, что было в них.
– Скажи, Ла Моль, – спросил Коконнас, – ну не наглый ли прохвост? Не выпотрошить ли нам его?
Угроза, видимо, сильно подействовала на мэтра Ла Юрьер, если он решился сказать:
– А мне думается, это можно уладить.
– Слушай, – сказал Ла Моль, – ни у кого нет с тобой таких счетов, как у меня.
– Разумеется, граф! Я помню, что в умопомрачении я имел дерзость пригрозить вам.
– Да – пулей, пролетевшей только на два пальца выше моей головы.
– Вы так думаете?
– Уверен.
– Раз вы уверены, месье де Ла Моль, – сказал Ла Юрьер, с невинным видом поднимая кастрюльку, – я ваш покорный слуга и не стану вам возражать.
– Я, со своей стороны, не требую от тебя ничего, – сказал Ла Моль.
– Неужели, граф?
– Кроме одного…
– Ай-ай-ай! – произнес Ла Юрьер.
– Кроме обеда для меня и моих друзей, когда я буду бывать в твоем квартале.
– Ну конечно! – радостно воскликнул Ла Юрьер. – Всегда к вашим услугам, граф, всегда к услугам!
– Значит, договорились?
– От всей души… А вы, месье Коконнас, – продолжал хозяин, – подписываетесь под договором?
– Да, но так же, как мой друг, – с маленьким условием…
– С каким?
– С тем, что вы передадите месье де Ла Молю пятьдесят экю, которые я ему должен и отдал вам на сохранение.
– Мне, месье?! Когда же это?
– За четверть часа до того, как вы продали мою лошадь и мой чемодан.
Ла Юрьер подмигнул ему и сказал:
– А-а! Понимаю!
После чего он подошел к шкафу, вынул оттуда пятьдесят экю, монету за монетой, и вручил их Ла Молю.
– Отлично! – сказал Ла Моль. – Отлично! Подайте нам яичницу. А пятьдесят экю пойдут Грегуару.
– Ого! – воскликнул Ла Юрьер. – Ей-богу, господа дворяне, у вас широкая душа, и я ваш на жизнь и на смерть!
– В таком случае, – сказал Коконнас, – сделайте сами нам яичницу, не жалея ни сала, ни масла. – Затем, посмотрев на настенные часы, добавил: – Ты прав, Ла Моль, нам еще ждать три часа, так лучше их провести здесь, чем неизвестно где. Тем более что отсюда, если не ошибаюсь, рукой подать до моста Святого Михаила.
И молодые люди пошли к столу в ту самую дальнюю комнату, где они сидели в знаменитый вечер 24 августа 1572 года и где Коконнас предложил Ла Молю играть в карты на любовницу, которая выпадет на долю первому из них.
Надо сказать, к чести обоих молодых людей, что в этот вечер ни тому, ни другому не приходило в голову сделать такого рода предложение.
Часть третья
I. Жилище мэтра Рене, парфюмера королевы-матери
В те времена, о которых мы повествуем нашему читателю, в Париже для перехода через реку из одной части города в другую было только пять деревянных и каменных мостов; все пять мостов вели к центральной части города. Это были – мост в Мельниках, Рыночный, мост собора Богоматери, Малый мост и мост Святого Михаила.
В других местах, где требовался переезд, ходили паромы, плохо ли, хорошо ли заменявшие собой мосты.
На мостах стояли дома, как до сих пор еще стоят на Ponte Vecchio (Старый мост) во Флоренции.
Из всех пяти мостов, имевших каждый свою историю, пока займемся только одним – мостом Святого Михаила.
Мост Святого Михаила был выстроен из камня в 1373 году; несмотря на его видимую прочность, разлив Сены 31 января 1408 года его разрушил, но не весь, и в 1416 году он был переделан в деревянный; в ночь на 16 декабря 1547 года его опять снесло; около 1550 года, то есть за двадцать два года до событий нашего повествования, мост вновь перестроили из дерева, и хотя теперь он требовал поправки, его считали еще крепким.
Среди домов, стоявших по краям вдоль моста, против островка, на котором в свое время сожгли тамплиеров, а теперь покоятся устои Нового моста, обращал на себя внимание дом, обшитый досками, с широкой крышей, нависавшей над ним, как будто веко над огромным глазом. Единственное окошко второго этажа над крепко запертыми окном и дверью в нижнем этаже светилось красноватым светом, привлекавшим взоры прохожих к низкому, широкому фасаду с пышной золоченой лепкой, выкрашенному в синий цвет. Верхний этаж был отделен от нижнего своеобразным фризом с изображением целой вереницы чертей в самых забавных положениях, а между фризом и окном в нижнем этаже протянулась вывеска в виде широкой, тоже синей ленты с такою надписью:
...
«Рене, флорентиец, парфюмер ее величества королевы-матери».
Дверь этой лавочки, как мы сказали, была плотно закрыта и заперта засовами; но лучше, чем засовы, предохраняла лавку от ночных налетов слава ее хозяина, настолько страшная, что все проходившие по мосту Святого Михаила описывали в этом месте дугу к противоположной стороне моста, точно боясь, как бы запах всяких благовоний не дошел до них сквозь стену.
Больше того – соседи справа и слева от дома парфюмера, несомненно, опасаясь дурной огласки от такого соседства, один за другим поудирали из своих квартир, как только мэтр Рене поселился на мосту Святого Михаила, и, таким образом, оба дома, примыкавшие к дому Рене, уже давно были покинуты жильцами и заколочены. Однако, несмотря на заброшенность и запустение этих домов, ночные прохожие видели в них пробивавшиеся сквозь запертые ставни лучи света и уверяли, будто слышали там звуки, похожие на стоны, а это доказывало, что какие-то живые существа бывали в этих двух домах; но оставалось неизвестным – принадлежали ли эти существа к земному или другому миру.
Поэтому жильцы двух других домов, примыкавших к первым двум домам, подумывали иногда, не лучше ли и им последовать примеру своих соседей.
Несомненно, что только благодаря этой страшной славе мэтр Рене приобрел общепризнанное и исключительное право не гасить огня после определенного часа, освященного обычаем. Ни ночные дозоры, ни ночная стража не осмеливались беспокоить человека, приближенного к ее величеству как парфюмер и соотечественник.
Предполагая, что наш читатель, вооруженный философией XVIII века, не верит ни в колдовство, ни в колдунов, мы приглашаем его последовать за нами в жилище парфюмера, которое в эту эпоху суеверий наводило на всю округу такой ужас.
Сама лавка парфюмера в нижнем этаже пустела и погружалась в темноту с восьми часов вечера, когда она закрывалась, с тем чтобы открыться только на следующий день – иногда еще задолго до рассвета; тут ежедневно шла продажа мазей, духов и всяческой косметики, составлявших предмет торговли изворотливого химика. Два ученика помогали ему при розничной продаже; они не оставались в лавке на ночь, а ночевали на улице Каландр. Вечером они уходили перед самым закрытием лавки, а утром разгуливали перед ней, пока им не отворят дверь.
В лавке, как мы сказали, было теперь безлюдно и темно.
Внутри лавки, занимавшей большую комнату, были еще две двери, выходившие на две лестницы: одна из лестниц, потайная, была пробита в толще боковой стены; другая, внешняя, шла к лестничной наружной клетке, видной и с набережной, той, что теперь зовется Августинской, и с высокого берега реки, где теперь Ке-дез-Орфевр.
Обе лестницы вели в комнату второго этажа, по величине равную комнате в нижнем этаже. Только ковер, протянутый вдоль по линии моста, делил верхнюю комнату на две половины. В задней стене первой половины была дверь с наружной лестницы, а в боковой стене второй половины – дверь с потайной лестницы, но эту дверь входившие не видели, так как ее скрывал резной высокий шкаф, соединенный с дверью железными крюками таким образом, что когда открывали шкаф, то отворялась и потайная дверь. О существовании последней двери знали лишь Екатерина и Рене. По этой лестнице Екатерина входила и уходила, а нередко, приложив ухо или глаз к пробитым в стенке шкафа дыркам, подслушивала и подглядывала то, что происходило в самой комнате. В двух других стенах второй половины находились друг против друга еще две двери, ничем не скрытые; одна вела в небольшую комнату с верхним светом, в которой помещались горн, перегонные кубы, тигли и реторты: это и была лаборатория алхимика. Другая дверь вела в маленькую келью – наиболее своеобразное помещение во всем доме; в ней не было никакого источника дневного света, ни ковров, ни мебели, а только какое-то каменное сооружение, напоминавшее алтарь.
Полом служила каменная плита, стесанная на четыре ската – от центра к стенам кельи, где небольшой желоб огибал всю комнату и кончался воронкой, в отверстие которой виднелись воды Сены. На вбитых в стену гвоздях висели инструменты странной формы: концы их были тонкие, как иглы, а лезвия отточены, как бритвы; одни из этих инструментов блестели, как зеркало, другие имели матово-серую или темно-синюю закалку.
В дальнем углу трепыхались две курицы, привязанные за ногу одна к другой. Эта келья и была святилищем предсказателя судьбы.
Вернемся в комнату, разделенную ковром на две половины, куда вводили обычных посетителей, желавших погадать; здесь находились египетские ибисы, мумии в золоченых пеленах, чучело крокодила с открытой пастью, висевшее под потолком, черепа с пустыми глазными впадинами и оскаленными зубами, наконец, пыльные, объеденные крысами козероги, – такая смесь била посетителю в глаза, возбуждая в нем различные переживания, мешавшие ему собраться с мыслями. За занавеской стояли мрачного вида амфоры, особенные ящички и склянки; все это освещалось двумя совершенно одинаковыми серебряными лампадами, как будто похищенными из алтаря Санта Мария Новелла или из церкви Деи Серви во Флоренции; наполненные благовонным маслом, они висели под мрачным сводом на трех почерневших цепочках каждая и разливали сверху желтоватый свет.
Рене – один – прохаживался большими шагами по второй половине комнаты, скрестив на груди руки и покачивая головой. После долгих неприятных размышлений он подошел к песочным часам.
– Ай-ай! Я и забыл перевернуть их, – может быть, песок пересыпался уже давно.
Он посмотрел на луну, едва продиравшуюся сквозь черную большую тучу, точно повисшую на шпиле колокольни собора Богоматери.
– Девять часов, – пробормотал он. – Если она придет как обычно, то, значит, через час или полтора; времени еще хватит на все.
В эту минуту на мосту послышались какие-то шаги. Рене приложил ухо к длинной трубке, выходившей на улицу другим своим концом в виде головы геральдической змеи.
– Нет, – сказал Рене, – это не она и не они. Шаги мужские; они направляются сюда… остановились у моей двери…
В это мгновение раздались три коротких удара в дверь. Рене быстро сбежал вниз, но не стал отпирать дверь, а приложил к ней ухо. Три таких же удара повторились.
– Кто там? – спросил мэтр Рене.
– А разве надо называть себя? – возразил чей-то голос.
– Обязательно, – ответил Рене.
– В таком случае меня зовут граф Аннибал де Коконнас, – ответил тот же голос.
– А я граф Лерак де Ла Моль, – ответил второй голос.
– Подождите, господа, подождите, я к вашим услугам.
И Рене начал отодвигать засовы, поднимать щеколды и наконец открыл дверь молодым людям, после чего запер ее, но лишь на ключ, провел их по наружной лестнице и впустил во вторую половину верхней комнаты.
Входя в комнату, Ла Моль перекрестился под плащом, лицо его было бледно, рука дрожала: он не мог справиться с собой.
Коконнас начал рассматривать все предметы по порядку и, очутившись во время этого занятия перед входом в келью, хотел отворить дверь.
– Позвольте, граф, – внушительно сказал Рене, положив свою руку на руку пьемонтца, – все посетители, оказывающие мне честь входить сюда, располагают только этой половиной комнаты.
– А-а, это другое дело, – ответил Коконнас, – да я не прочь и посидеть. – И он сел на стул.
На минуту воцарилась полная тишина: мэтр Рене ждал, что кто-нибудь из молодых людей скажет о цели их прихода. Слышалось только свистящее дыхание еще не совсем выздоровевшего пьемонтца.
– Мэтр Рене, – сказал он наконец, – вы человек знающий; скажите мне: я так и останусь калекой, то есть всегда ли будет у меня такая одышка? А то мне трудно ездить верхом, фехтовать и есть яичницу с салом.
Рене приложил ухо к груди Коконнаса и внимательно выслушал легкие.
– Нет, граф, вы выздоровеете.
– Правда?
– Уверяю вас.
– Очень рад.
Снова наступило молчание.
– Не хотите ли, граф, узнать что-нибудь еще?
– Конечно! Я бы хотел знать, влюблен ли я на самом деле или нет? – сказал Коконнас.
– Влюблены, – отвечал Рене.
– Откуда вы это знаете?
– Потому что вы спрашиваете об этом.
– Дьявольщина! Мне кажется, вы правы. А в кого?
– В ту самую, которая при всяком случае произносит то же ругательство, что и вы.
– Ей-богу, мэтр Рене, вы молодец! – сказал озадаченный Коконнас. – Ну, Ла Моль, теперь твой черед.
Ла Моль покраснел и смутился.
– Ну же! Какого черта! Говори! – воскликнул Коконнас.
– Говорите, – сказал флорентиец.
– Я не стану спрашивать у вас, влюблен ли я, – начал тихо и нерешительно Ла Моль, но затем стал говорить увереннее: – Не стану спрашивать потому, что я сам это знаю и не скрываю от себя; но вы скажите мне, буду ли я любим, хотя все, что раньше давало мне надежду, повернулось теперь против меня?
– Возможно, что вы не делали всего, что нужно.
– Что же надо делать, как доказать уважением и преданностью даме моей мечты, что она глубоко, истинно любима?
– Вы знаете, – ответил Рене, – что подобные проявления любви иногда бывают недостаточны.
– Значит, в таком случае надо оставить всякую надежду?
– Нет, тогда надо прибегнуть к науке. В человеческой природе может существовать нерасположение к чему-нибудь или кому-нибудь, которое можно преодолеть, и, наоборот, можно вызвать склонность к чему-нибудь или кому-нибудь. Железо не магнит, но, если его намагнитить, оно само притягивает железо.
– Верно, верно, – прошептал Ла Моль, – но мне противны всякие заклинания.
– Если они вам противны, зачем же вы сюда пришли?
– Ну, ну, нечего ребячиться! – сказал Коконнас. – Месье Рене, не можете ли показать мне черта?
– Нет, граф.
– Досадно, я бы сказал ему два слова – это, может быть, подбодрило бы Ла Моля.
– Ну, хорошо, – сказал Ла Моль, – будем говорить в открытую. Мне рассказывали о каких-то восковых фигурках, сделанных по подобию любимого человека. Это помогает?
– Без ошибки!
– Но в этом опыте нет ничего, что может повредить здоровью или жизни любимого существа?
– Ничего.
– Тогда попробуем.
– Хочешь, начну я? – спросил Коконнас.
– Нет, – ответил Ла Моль, – раз уж я начал, то и закончу.
– Есть ли у вас, месье де Ла Моль, стремление к чему-то точно определенному – стремление сильное, горячее, всевластное?
– О, смертельное, мэтр Рене! – воскликнул Ла Моль.
В эту минуту кто-то тихонько постучал во входную дверь с улицы, но так тихо, что только один мэтр Рене услышал стук, да и то, вероятно, потому, что ждал его.
Не подавая виду и продолжая задавать Ла Молю ничего не значащие вопросы, он приложил ухо к трубке и услышал на улице смешки, видимо, очень заинтересовавшие его.
– Теперь сосредоточьтесь на вашем желании, – сказал Рене Ла Молю, – и призывайте любимую особу.
Ла Моль стал на колени, точно взывая к какому-нибудь божеству, а Рене прошел во вторую половину комнаты и бесшумно спустился вниз по внешней лестнице; через минуту легкие шаги на цыпочках прошелестели в лавке.
Когда Ла Моль поднялся с колен, перед ним уже стоял мэтр Рене; в руках флорентийца была восковая, грубо сделанная фигурка с короной на голове и в мантии.
– Все так же ли хотите вы, чтобы вас полюбила ваша коронованная возлюбленная? – спросил парфюмер.
– Да, хотя бы ценою моей жизни, гибелью моей души! – ответил Ла Моль.
– Хорошо, – сказал флорентиец; он взял кувшинчик, налил себе на пальцы воды и брызнул несколько капель на голову фигурки, произнося какие-то латинские слова.
Ла Моль вздрогнул, понимая, что совершается святотатство.
– Что вы делаете? – воскликнул он.
– Я нарекаю этой фигурке имя Маргариты.
– Но для чего?
– Чтобы создать взаимочувствие.
Ла Моль уже открыл было рот, собираясь прекратить это святотатство, но его удержал насмешливый взгляд пьемонтца.
Рене, поняв намерение Ла Моля, остановился в ожидании.
– Нужна полная, беззаветная воля, – сказал он.
– Действуйте, – ответил Ла Моль.
Рене написал на маленькой полоске красной бумаги какие-то каббалистические знаки, вдел бумажку в стальную иглу и проткнул иглой статуэтку в том месте, где должно быть сердце.
Странная вещь! На краях ранки появилась капелька крови. Тогда Рене поджег бумажку. Накалившаяся игла растопила воск вокруг себя и высушила кровяную капельку.
– Так ваша любовь своею силой пронзит и зажжет сердце женщины, которую вы любите.
Коконнас, как полагалось вольнодумцу, исподтишка посмеивался, но Ла Моль, по природе любящий и суеверный, чувствовал, как холодные капли пота выступают у корней его волос.
– А теперь, – сказал Рене, – приложитесь губами к губам статуэтки и скажите: «Маргарита, люблю тебя, приди!»
Ла Моль исполнил его требование.
В то же мгновение послышалось, как кто-то отворил дверь во второй половине и вошел легкими шагами. Любопытный и ни во что не верующий Коконнас, опасаясь, что Рене опять сделает ему замечание, как тогда, когда пьемонтец собирался отворить дверь в келью, вынул кинжал, проткнул толстый ковер, разделявший комнату, приложил глаз к дырке и вскрикнул от изумления, а в ответ на его крик вскрикнули две женщины.
– Что там такое? – спросил Ла Моль и едва не выронил из рук фигурку, но Рене подхватил ее.
– А то, – ответил Коконнас, – что там герцогиня Невэрская и королева Маргарита.
– Ну что, маловер?! – со строгой улыбкой заметил ему Рене. – Вы и теперь будете сомневаться в силе взаимочувствия?
Ла Моль так и застыл на месте, увидев свою королеву. На одно мгновение закружилась голова и у Коконнаса, когда он узнал герцогиню Невэрскую. Ла Моль вообразил, что Маргарита только призрак, вызванный чарами мэтра Рене. Коконнас же, видевший приоткрытую дверь, в которую вошли очаровательные призраки, сразу объяснил чудо причинами самыми естественными, присущими нашему земному, материалистическому миру.
Пока Ла Моль крестился и тяжело дышал, точно ворочал каменные глыбы, Коконнас уже успел призвать на помощь философию и отогнать злого духа кропилом неверия; поэтому, как только заметил он сквозь дырку в занавеске, что герцогиня Невэрская совершенно растерялась, а Маргарита ехидно улыбается, он сразу определил данный момент как момент решающий; сообразив, что от лица своего друга можно говорить то, чего нельзя сказать от самого себя, Коконнас подошел не к герцогине Невэрской, а прямо к Маргарите и, став на одно колено, наподобие царя Артаксеркса в ярмарочных шествиях, воскликнул довольно громким голосом, несмотря на сиплый звук, происходивший от раны в легком:
– Мадам, только сию минуту мэтр Рене, по просьбе моего друга графа де Ла Моль, вызвал вашу тень; и вот, к моему великому изумлению, тень ваша появилась, но не одна, а в сопровождении телесной оболочки, для меня столь драгоценной, что я хочу ее представить моему другу. Тень ее величества королевы Наваррской, соблаговолите приказать телесной оболочке вашей спутницы перейти по другую сторону этой занавески!
Маргарита рассмеялась и жестом пригласила Анриетту пройти в другую половину.
– Ла Моль, мой друг, – обратился к нему Коконнас, – поговори с герцогиней, будь красноречив, как Демосфен, как Цицерон, как канцлер Л’Опиталь, и прими во внимание – дело это пахнет смертью для меня, если ты не убедишь телесную оболочку герцогини Невэрской в том, что я самый преданный, самый покорный, самый верный ее слуга.
– Но… – робко начал Ла Моль.
– Делай, что тебе говорят! А вы, мэтр Рене, позаботьтесь, чтобы нам никто не помешал, – распорядился Коконнас.
Рене сошел вниз.
– Дьявольщина! Вы остроумный человек, месье Коконнас, – заметила Маргарита. – Я вас слушаю. Посмотрим, что скажете вы мне.
– Мадам, я хочу сказать, что тень моего друга, – а он лишь тень, доказательством чему служит полная его неспособность произнести хотя бы один звук, – итак, тень моего друга умоляет меня воспользоваться способностью телесных оболочек говорить внятно, чтобы передать вам следующее: прекрасная тень, вышеупомянутый бестелесный дворянин утратил от действия ваших суровых взоров не только тело, но и дух. Если бы передо мной стояли вы собственной персоной, то я бы скорее попросил мэтра Рене запрятать меня в какую-нибудь дыру, наполненную горячей серой, чем разговаривать так вольно с дочерью короля Генриха Второго, сестрой короля Карла Девятого и супругой короля Наваррского. Но тени чужды земной гордыне и не сердятся, когда их любят. Поэтому, мадам, умолите ваше тело немножко полюбить душу этого несчастного Ла Моля, душу, страдающую от небывалых мук; душу, сначала потерпевшую от друга, который трижды вонзал в ее нутро несколько дюймов стали; душу, сожженную огнем ваших глаз – огнем, в тысячу раз более жгучим, чем адский пламень. Сжальтесь над этой бедною душой, немного полюбите то, что было некогда красавчиком Ла Молем, и, если вы утратили дар слова, ответьте хоть улыбкой, жестом. Душа моего друга очень умная, она поймет все. Начинайте же! Или я проткну мэтра Рене шпагой за то, что, вызвав очень кстати вашу тень, он вместе с тем воспользовался своею властью над тенями и внушил ей поведение, совсем не подходящее такой любезной тени, какую, на мой взгляд, вы представляете собой.
Когда пьемонтец закончил свою речь и встал перед Маргаритой в трагическую позу, она залилась неудержимым смехом; затем молча, как и подобает в таких случаях королевской тени, протянула ему руку.
Коконнас бережно взял ее руку и позвал Ла Моля.
– Тень моего друга, приди ко мне, не медля! – воскликнул Коконнас.
Ла Моль, растерянный, трепещущий, сейчас же подошел.
– Вот и отлично, – сказал Коконнас, нажимая своей ладонью на его затылок. – Теперь нагните тень вашего загорелого красивого лица к этой тени белоснежной ручки королевы.
Сопровождая слова действием, Коконнас приложил губы Ла Моля к изящной ручке Маргариты и с минуту удерживал их в этом положении, хотя белая ручка и не пыталась уклониться от нежного прикосновения губ. Маргарита все время улыбалась, зато не улыбалась герцогиня Невэрская, еще взволнованная нежданным появлением двух молодых людей; она испытывала болезненное чувство все нараставшей ревности, так как ей казалось, что Коконнас не должен был до такой степени пренебрегать своими собственными интересами ради чужих.
Ла Моль заметил ее нахмуренные брови и недобрые огоньки в глазах; тогда, несмотря на свою страсть, призывавшую отдаться упоительному волнению его души, он все же понял, какая опасность грозила другу, и сообразил, что надо сделать для его спасения.
Встав с колен, Ла Моль оставил руку Маргариты в руке пьемонтца, подошел к герцогине Невэрской, взял ее руку, преклонил колено и сказал:
– Самая прекрасная, самая обаятельная из женщин! Я имею в виду живых женщин, а не тени, – он взглянул на Маргариту и улыбнулся, – разрешите душе, освобожденной от ее телесной, грубой оболочки, восполнить рассеянность одного тела, всецело проникнутого земной дружбой. Ведь этот месье Коконнас – только человек: крепкий, смелый, представляющий собою тело, может быть, и красивое, однако бренное, как всякое живое тело – omnis саго fenum.
Хотя вышереченный дворянин с утра до вечера мне рассказывает о вас, хотя вы сами видели его в бою, смотрели, как он наносит небывалые во Франции удары, однако этот боевой мужчина, такой красноречивый перед тенью, не имеет смелости заговорить с живой женщиной. Вот почему, сам обратившись к тени королевы, он поручил мне говорить с вашей прекрасной телесной оболочкой и передать вам, что свое сердце, свою душу он кладет к вашим ногам; что просит ваши божественные глаза взглянуть на него с чувством сострадания, ваши горячие розовые пальчики – призывно поманить его, ваш звонкий музыкальный голос – сказать ему слова, каких нельзя забыть; но если сердце ваше не смягчится, то в этом случае он умолял меня пустить в ход мою шпагу – не тень ее, поскольку тень у шпаги бывает лишь при солнце, а, значит, шпагу настоящую, – и пронзить еще раз его тело, потому что не стоит жить, раз вы ему не разрешаете жить только ради вас.
Насколько речь пьемонтца отличалась жаром и веселостью, настолько воззвание Ла Моля было проникнуто чувствительностью, пленительной силой и нежною покорностью.
Анриетта, внимательно выслушав Ла Моля, перенесла свой взгляд на Коконнаса, желая убедиться, насколько выражение его лица соответствовало любовной речи друга. По-видимому, она была вполне удовлетворена; краснея, еле переводя дыхание, с улыбкой открывая два ряда жемчугов, оправленных в кораллы губ, она спросила у пьемонтца:
– Это правда?
– Дьявольщина! – воскликнул он, завороженный ее взглядом и пламенея огнем любви. – Правда! О да, да, мадам, все правда! Клянусь вашей жизнью! Клянусь моей смертью!
– Тогда подойдите! – сказала Анриетта и протянула ему руку, отдаваясь чувству, которое сквозило в томном выражении ее глаз.
Коконнас подкинул вверх свой бархатный берет и одним скачком очутился рядом с герцогиней. Ла Моль же, повинуясь жесту Маргариты, призывавшей его к себе, обменялся дамой со своим другом, как в кадрили.
В эту минуту мэтр Рене появился у двери в глубине комнаты.
– Тише! – произнес он таким тоном, что сразу потушил все пламенные чувства. – Тише!
В толще стены послышался лязг ключа о замочную скважину и скрип двери, повернувшейся на петлях.
– Мне кажется, однако, – гордо заявила Маргарита, – что, когда здесь мы, никто не имеет права сюда войти.
– Даже королева-мать? – спросил ее на ухо Рене.
Маргарита, схватив за руку Ла Моля, мгновенно устремилась к выходу; Анриетта и Коконнас, обняв за талию друг друга, бросились бежать за ними следом. И четверо влюбленных улетели, как улетают от подозрительного шума маленькие птички, только что целовавшиеся на цветущей ветке.
II. Черные куры
Обе пары едва успели убежать. Екатерина Медичи уже подобрала ключ ко второй двери потайного хода в то самое мгновение, когда герцогиня Невэрская и Коконас сбегали по наружной лестнице, так что Екатерина, войдя в комнату, могла слышать, как заскрипели ступеньки под ногами беглецов.
Она осмотрела все пытливым взором и подозрительно взглянула на склонившегося перед ней Рене.
– Кто был здесь? – спросила она.
– Любовники, вполне удовлетворенные моим заверением, что они любят друг друга.
– Пусть их, – ответила Екатерина, пожав плечами. – Здесь больше никого нет?
– Никого, кроме вашего величества и меня.
– Вы сделали то, что я вам сказала?
– Насчет черных кур?
– Да.
– Они здесь, мадам.
– Ах, если бы вы были еврей!
– Я – еврей? Почему, мадам?
– Вы бы могли прочесть замечательные книги, написанные евреями о жертвоприношениях. Я велела перевести для себя одну из них и прочла в ней, что евреи искали предсказаний не в сердце и не в печени, как это делали римляне, а в строении мозга и в форме букв, начертанных на нем всемогущей рукой судьбы.
– Да, мадам! Я сам об этом слышал от одного моего друга, старого раввина.
– Бывают буквы, – продолжала Екатерина, – начертанные так, что открывают путь для целого ряда предсказаний, но халдейские мудрецы советуют…
– Советуют… что? – спросил Рене, чувствуя, что Екатерина не решается продолжать дальше.
– Советуют делать опыт на человеческом мозге, как более развитом и более чувствительном к воле вопрошающего.
– Увы! Ваше величество хорошо знаете, что это невозможно, – сказал Рене.
– Во всяком случае, затруднительно, – ответила Екатерина. – Ах, Рене, если бы мы об этом знали в день святого Варфоломея… Как это было просто!.. При первой казни… я подумаю об этом. Ну, а покамест будем действовать в области возможного… Готова ли комната для жертвоприношений?
– Да, мадам.
– Пройдем туда.
Рене зажег свечу; судя по запаху от ее горения, то тонкому и сильному, то удушливому и противному, в состав свечи входило несколько веществ. Затем, освещая путь Екатерине, парфюмер первым вошел в келью.
Екатерина сама выбрала нож синеватой закалки. Две курицы, лежавшие в углу, тревожно вращали золотистыми глазами, когда к ним подходил Рене.
– Как будем делать опыт? – спросил он, взяв одну из них.
– У одной мы исследуем печень, у другой – мозг. Если оба опыта дадут один и тот же результат, то, значит, верно, в особенности если эти результаты совпадут с полученными раньше.
– С какого опыта начнем?
– Над печенью.
– Хорошо, – сказал Рене.
Он привязал курицу к жертвеннику за два вделанных по его краям кольца, положив курицу на спину и закрепив так, что она могла только трепыхаться, не сдвигаясь с места.
Екатерина одним ударом ножа рассекла ей грудь. Курица вскрикнула три раза, некоторое время потрепыхалась и околела.
– Всегда три раза! – прошептала Екатерина. – Предзнаменование трех смертей. – Затем она вскрыла труп курицы. – И печень сместилась влево, – продолжала она, – всегда влево… три смерти и прекращение династии. Знаешь, Рене, это ужасно!
– Мадам, надо еще посмотреть, совпадут ли эти предсказания с предсказаниями второй жертвы.
Рене отвязал курицу и, бросив ее в угол, пошел за второй жертвой, но она, видя судьбу своей подруги, попыталась спастись: начала бегать вокруг кельи, а когда Рене загнал ее наконец в угол, взлетела выше головы Рене и движением воздуха от взмахов ее крыльев загасила чародейскую свечу в руке Екатерины.
– Вот видите, Рене, – сказала королева, – так угаснет и наш род. Смерть дунет на него, и он исчезнет с лица земли… Три сына! Ведь три сына! – прошептала она грустно.
Рене взял у нее погасшую свечу и пошел зажечь ее в соседнюю комнату.
Вернувшись, он увидел, что курица спрятала голову в воронку.
– На этот раз не будет криков, – сказала Екатерина, – я сразу отрублю ей голову.
Действительно, как только Рене привязал курицу, Екатерина исполнила свое обещание и одним ударом отрубила голову. Но в предсмертной судороге куриный клюв три раза раскрылся и закрылся.
– Видишь! – сказала Екатерина в ужасе. – Вместо трех криков – три зевка. Три, всё три! Умрут все трое. Души всех кур, отлетая, считают до трех и кричат троекратно. Теперь посмотрим, что скажет голова.
Екатерина срезала побледневший гребешок на голове курицы, осторожно вскрыла череп, разделила его так, чтоб ясно были видны мозговые полушария, и стала выискивать в кровавых извилинах мозговой оболочки что-нибудь похожее на буквы.
– Все то же! – крикнула она, всплеснув руками. – Все то же! И на этот раз предвестие яснее, чем когда-либо! Иди взгляни.
Рене подошел.
– Что это за буква? – спросила Екатерина, указывая на сочетание линий в одном месте.
– Г, – ответил флорентиец.
– Сколько этих Г?
Рене пересчитал.
– Четыре! – сказал он.
– Вот, вот! Это так! Понятно – Генрих Четвертый. О, я проклята в своем потомстве! – простонала она, бросая нож.
Страшное зрелище представляла фигура этой женщины со сжатыми окровавленными руками, бледной как смерть и освещенной зловещим светом.
– Он будет царствовать, будет царствовать! – сказала она со вздохом безнадежности.
– Он будет царствовать, – повторил Рене, всецело занятый какой-то важной думой.
Но мрачное выражение быстро исчезло с лица Екатерины, видимо, от какой-то новой мысли, вспыхнувшей в ее мозгу.
Не оборачиваясь, не меняя положения головы, опущенной на грудь, она протянула руку по направлению к Рене и сказала:
– Рене, не было ли такого случая, когда один перуджинский врач отравил губной помадой и свою дочь, и ее любовника – обоих вместе?
– Да, был, мадам.
– А любовником ее был?.. – спросила Екатерина, все время думая о чем-то.
– Король Владислав, мадам.
– Ах да, верно! – прошептала Екатерина. – А вы не знаете подробностей этого происшествия?
– У меня имеется старинная книга, где есть рассказ об этом, – ответил Рене.
– Хорошо, пройдем в другую комнату, и вы мне дадите эту книгу почитать.
Оба вышли из кельи, и Рене запер за собою дверь.
– Ваше величество, будут ли от вас какие-нибудь другие распоряжения насчет новых жертвоприношений?
– Нет, нет, Рене! Я пока вполне убеждена и этими. Подождем, не удастся ли нам добыть голову какого-нибудь присужденного к смертной казни, тогда в день казни ты сговоришься с палачом.
Рене поклонился в знак согласия, затем, держа в руке свечу, подошел к полкам, где стояли книги, встал на стул, вынул одну из книг и подал королеве-матери.
Екатерина раскрыла книгу.
– Что это такое? – спросила она. – «Како вынашивати и питати ловчих птиц, соколов и кречетов, дабы они соделались смелы, сильны и к ловле охочи».
– Ах, простите, мадам, я ошибся! Это руководство к соколиной охоте, составленное одним ученым из Лукки для знаменитого Каструччо Кастракани. Оно стояло рядом с той и переплетено в такой же переплет, я и ошибся. Впрочем, эта книга очень ценная; существуют только три экземпляра ее на всем свете: один в венецианской библиотеке, другой был куплен вашим предком Лоренцо Медичи, но затем Пьетро Медичи подарил его королю Карлу Восьмому, проезжавшему через Флоренцию, а вот это – третий.
– Чту его за редкость, – ответила Екатерина, – но он мне не нужен: возьмите обратно ваше руководство.
И, передавая его левой рукой, она протянула правую руку к Рене за другой книгой.
На этот раз Рене не ошибся – другая книга была та самая, какую хотелось королеве. Рене слез со стула, полистал книгу и подал Екатерине, открыв на нужной странице.
Екатерина села за стол. Рене поставил перед ней чародейскую свечу, и при ее синеватом свете Екатерина вполголоса прочла несколько строк.
– Хорошо, – сказала она, закрывая книгу, – тут все, что мне хотелось знать.
Она встала, оставив книгу на столе, но унося в своем уме мысль, которая только зарождалась и должна была еще созреть.
Рене со свечой в руке почтительно ожидал, когда королева-мать, видимо, собиравшаяся уходить, даст ему новые распоряжения или обратится с новыми вопросами.
Екатерина, склонив голову и приложив к губам палец, молча сделала несколько шагов.
Затем она вдруг остановилась перед парфюмером, вскинула на него широко раскрытые, прямо устремленные, как у хищной птицы, глаза и сказала:
– Признайся, ты для нее сделал какое-то приворотное зелье?
– Для кого? – спросил, затрепетав, Рене.
– Для Сов.
– Я, мадам? Никогда! – ответил Рене.
– Никогда?
– Клянусь душой, мадам.
– А все-таки тут не без колдовства; он влюблен в нее безумно, хотя никогда не отличался постоянством.
– Кто, мадам?
– Он, проклятый Генрих! Тот, кто наследует моим трем сыновьям и назовется Генрихом Четвертым, а ведь он сын Жанны д’Альбре!
Последние слова ее сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он приготовил по приказанию Екатерины для покойной королевы Наваррской.
– Разве он бывает у нее? – спросил Рене.
– Все время.
– А мне казалось, что король Наваррский окончательно вернулся к своей супруге.
– Комедия, Рене, комедия! Не знаю, в каких целях, но все точно сговорились обманывать меня. Даже Маргарита, моя собственная дочь, и та настроена против меня. Возможно, она тоже рассчитывает на смерть своих братьев, – быть может, надеется стать французской королевой.
– Да, возможно, – сказал Рене, опять уйдя в свою думу и откликаясь как эхо на страшное подозрение королевы-матери.
– Ну, мы еще посмотрим! – сказала Екатерина и направилась к входной двери, полагая, вероятно, ненужным сходить по потайной лестнице, будучи уверена, что она здесь одна.
Рене шел впереди, и через несколько секунд они оба стояли в лавке парфюмера.
– Ты обещал мне новые притирания для рук и губ, – сказала она, – теперь зима, а ты ведь знаешь, как моя кожа чувствительна к холоду.
– Я уже позаботился об этом, мадам, и все принесу вам завтра.
– Завтра ты не застанешь меня раньше девяти-десяти часов вечера. Днем я занята делами благочестия.
– Хорошо, мадам, я буду в Лувре в девять часов вечера.
– У мадам де Сов красивые губы и руки, – небрежным тоном сказала Екатерина. – А какую мазь она употребляет?
– Для рук, мадам?
– Да, для рук.
– Мазь на гелиотропе.
– А для губ?
– Для губ она будет теперь употреблять новый опиат моего изобретения; завтра я принесу коробочку такого опиата вашему величеству, а кстати – и ей.
Екатерина задумалась на одно мгновение.
– Она действительно красива, – промолвила королева-мать, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль, – и нет ничего удивительного, что Беарнец влюбился в нее по уши.
– А главное, она предана вашему величеству, по крайней мере, мне так кажется, – сказал Рене.
Екатерина усмехнулась и пожала плечами.
– Раз женщина любит, – сказала она, – так разве она может быть предана кому-нибудь другому, кроме своего любовника? А все-таки, Рене, какое-то приворотное зелье ты ей изготовил!
– Клянусь, мадам, что нет!
– Ну ладно, бросим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый опиат, от которого ее губки станут еще краснее и свежее.
Рене подошел к полке и показал на шесть одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд, одна к другой.
– Вот то единственное приворотное зелье, какое она просила у меня, – сказал Рене. – И как вы, ваше величество, совершенно верно изволили заметить, я эту мазь делал исключительно для мадам де Сов, так как ее губы настолько чувствительны и нежны, что трескаются и от солнца, и от ветра.
Екатерина раскрыла одну коробочку, наполненную мазью карминного цвета удивительно красивого оттенка.
– Рене, дай мне мази для рук; я возьму с собой.
Рене взял свечу и пошел за мазью для королевы-матери в другое отделение лавки. По дороге он быстро обернулся, и ему показалось, что Екатерина стремительным движением руки схватила одну коробочку и спрятала ее под мантией. Но Рене уже свыкся с такими кражами королевы-матери и не подал виду, что заметил ее проделку. Достав требуемую мазь, запакованную в мешочек из бумаги с изображением лилий, он подошел к Екатерине.
– Вот, мадам.
– Благодарю, Рене! – ответила она и, помолчав с минуту, добавила: – Не носи этого опиата мадам де Сов раньше чем через неделю или дней десять; я хочу первая его попробовать.
Екатерина собралась уходить.
– Ваше величество, прикажете вас проводить? – спросил Рене.
– Только до конца моста, – ответила Екатерина, – а там меня дожидаются мои дворяне с носилками.
Екатерина и Рене вышли из лавки и дошли до угла улицы Барийри, где Екатерину ждали четыре дворянина верхом и носилки без гербов.
Вернувшись в лавку, Рене первым делом пересчитал коробочки с опиатом.
Одна исчезла.
III. Покои мадам де Сов
Екатерина не ошиблась в своих догадках: Генрих не изменил прежних привычек и каждый вечер отправлялся к мадам де Сов. Сначала эти посещения совершались в большой тайне, но мало-помалу осмотрительность его ослабла, он перестал принимать меры предосторожности, и благодаря этому Екатерине нетрудно было убедиться в том, что Маргарита лишь называлась королевою Наваррской, а в действительности ею была мадам де Сов.
В начале нашего повествования мы только обмолвились двумя словами о покоях мадам де Сов, но дверь, тогда открытая Дариолой королю Наваррскому, захлопнулась за ним так плотно, что место таинственных любовных свиданий пылкого Беарнца осталось нам неведомо.
Эти покои относились к тому разряду помещений, какие королевские особы отводят во дворце своим придворным, обязанным быть тут же, под рукой; они были, конечно, гораздо меньше и не так удобны, как собственные квартиры в городе. Покои мадам де Сов находились, как было сказано, в третьем этаже, почти над комнатами Генриха, и дверь из них выходила в коридор, освещенный в дальнем конце старинным окном с мелкими окончинами в свинцовом переплете, пропускавшими лишь тусклый свет даже в самый ясный день. Зимою же после трех часов дня необходимо было зажигать лампу; но в лампу наливали масла столько же, сколько летом, и к десяти часам вечера она гасла, обеспечивая двум влюбленным наибольшую безопасность их свиданий в это время года.
Маленькая передняя, обитая шелком с большими желтыми цветами, приемная, затянутая синим бархатом, и наконец спальня, а в ней кровать с витыми колонками и вишневым атласным пологом, отделенная от стены узким проходом, где стояло зеркало в серебряной оправе и висели две картины, изображавшие любовь Венеры и Адониса, вот и все покои – теперь бы сказали «гнездышко» – очаровательной придворной дамы из свиты королевы Екатерины Медичи.
Если поискать внимательнее, то в темном углу, напротив туалета со всеми принадлежностями, можно было найти маленькую дверцу, которая вела в своего рода молельню, где на помосте в две ступени стоял молитвенный, особой формы, аналой. Здесь на стенах висели три-четыре картинки духовно-возвышенного содержания, как бы в противовес любовно-мифологическим картинам, украшавшим спальню. Между картинами висело на золоченых гвоздиках женское оружие, так как и женщины в те времена тайных козней носили при себе оружие, а случалось, что и владели им не хуже, чем мужчины.
Вечером, на следующий день после описанных событий у мэтра Рене, мадам де Сов сидела у себя в спальне на диванчике и говорила Генриху Наваррскому о своей любви к нему и о своих страхах за него, доказывая и свою любовь, и свои страхи той преданностью, какую она обнаружила к нему в ночь, последовавшую за Варфоломеевской, то есть в ночь, когда Генрих ночевал у своей жены.
Генрих не скупился на выражения своей признательности. Мадам де Сов в простом батистовом пеньюаре была особенно очаровательна, а Генрих был особенно признателен. В такой обстановке Генрих, действительно влюбленный, размечтался. А мадам де Сов всем сердцем отдавалась любви, начавшейся по приказанию королевы-матери, и теперь подолгу вглядывалась в Генриха, чтоб уловить, насколько совпадало выражение его глаз с его словами.
– Слушайте, Генрих, – говорила мадам де Сов, – скажите откровенно: в ту ночь, когда вы спали в кабинете ее величества королевы Наваррской, а в ногах у вас спал Ла Моль, вы не жалели о том, что этот достойный дворянин лежал преградой между вами и спальней королевы?
– Да, моя крошка, – ответил Генрих, – так как я должен был неизбежно пройти через ее спальню, чтобы попасть в ту комнату, где мне так хорошо и где в эту минуту я так счастлив.
Мадам де Сов улыбнулась.
– А после вы туда ходили?
– И всякий раз я вам об этом говорил.
– И не пойдете туда, не сказав мне?
– Никогда.
– Поклянитесь.
– Поклялся бы, будь я гугенот, но…
– Но что?
– Но в данное время я изучаю догматы католической веры, а она учит, что не надо клясться никогда.
– Хитрец! – сказала мадам де Сов, покачивая головой.
– Шарлотта, а если бы я стал вас так расспрашивать, вы бы ответили на мои вопросы?
– Конечно, – ответила мадам де Сов. – Мне нечего скрывать от вас.
– Тогда объясните мне, как произошло, что, оказав мне отчаянное сопротивление до моей женитьбы, вы после нее перестали быть жестокой по отношению ко мне, беарнскому увальню, смешному провинциалу, к государю настолько бедному, что он не может придать драгоценностям своей короны должный блеск?
– Генрих, вы требуете от меня разрешения загадки, которую в течение трех тысяч лет не могут разгадать философы всех стран. Никогда не спрашивайте у женщины, за что она вас любит; довольствуйтесь вопросом: «Любите ли вы меня?»
– Любите ли вы меня, Шарлотта?
– Люблю, – ответила мадам де Сов с обаятельной улыбкой, кладя свою красивую руку на руку возлюбленного.
Генрих сжал ее руку в своей руке.
– А что, если бы разгадку, которую так тщетно ищут все философы в течение трех тысяч лет, я нашел, по крайней мере в отношении вас, Шарлотта?
Мадам де Сов покраснела.
– Вы меня любите, – продолжал Генрих, – следовательно, мне больше нечего просить у вас, и я считаю себя самым счастливым человеком на земле. Но вы знаете – во всяком счастье всегда чего-то не хватает. Даже Адам среди райского блаженства не чувствовал себя вполне счастливым и вкусил от злосчастного яблока, наградившего всех нас потребностью все знать, а поэтому в течение всей нашей жизни мы ищем то, что нам еще неведомо. Скажите, моя крошка, не было ли сначала так, что королева Екатерина приказала вам любить меня?
– Генрих, говорите тише, когда вы говорите о королеве-матери, – заметила мадам де Сов.
– О-о! – воскликнул Генрих с такой непринужденностью, с такой свободой, что обманул даже мадам де Сов. – Было время, когда мне приходилось остерегаться этой доброй матери, когда мы не могли поладить, но теперь я муж ее дочери…
– Муж королевы Маргариты? – спросила Шарлотта, покраснев от ревности.
– Лучше вы говорите тише, – сказал Генрих. – Теперь, когда я муж ее дочери, мы с королевой-матерью – лучшие друзья. Чего хотели от меня? Чтобы я стал католиком – по-видимому, так. Очень хорошо, благодать меня коснулась, и предстательством святого Варфоломея я стал католиком. Теперь мы живем по-семейному, как хорошие братья, как добрые христиане.
– А королева Маргарита?
– Королева Маргарита? Что ж, она-то и является для всех нас связующим звеном.
– Но вы мне говорили, Генрих, что королева Наваррская в награду за мою преданность, проявленную к ней тогда, поступила великодушно по отношению ко мне. Если вы мне сказали правду, если королева Маргарита великодушна ко мне, за что я очень ей признательна, и великодушна на самом деле, тогда она – только условное звено, которое нетрудно разорвать. И вам не удержаться за него, потому что мнимой близостью с королевой вам никого не провести.
– Однако я держусь и езжу на этом коньке уже три месяца.
– Значит, вы обманули меня! – воскликнула мадам де Сов. – Королева Маргарита ваша жена по-настоящему!
Генрих улыбнулся.
– Слушайте, Генрих, эти ваши улыбки выводят меня из себя до такой степени, что хотя вы и король, но иногда у меня является жестокое желание выцарапать вам глаза.
– Значит, мне удается провести кое-кого этой мнимой близостью, если бывают такие случаи, когда вам хочется выцарапать мне глаза, хотя я и король, – следовательно, и вы верите, что эта близость существует.
– Генрих, Генрих! Мне думается, что сам господь бог не знает ваших мыслей! – сказала мадам де Сов.
– Я мыслю, моя крошка, так, – сказал Генрих. – Сначала Екатерина приказала вам меня любить, потом в вас заговорило чувство, и теперь, когда начинают говорить оба эти голоса, вы прислушиваетесь к голосу лишь своего сердца. Я вас тоже люблю от всей души, и вот поэтому, если бы у меня и были тайны, я не поверил бы их вам из страха как-нибудь запутать вас… ведь дружба королевы-матери ненадежна – это дружба тещи.
Совсем не это требовалось Шарлотте: каждый раз, когда она пыталась проникнуть в бездны души возлюбленного, между ними опускалась какая-то толстая завеса и тотчас становилась для Шарлотты непроницаемой стеной, отделявшей их друг от друга. Она почувствовала, что у нее слезы набегают на глаза от его ответа, и, услышав звон колокола, пробившего десять часов, сказала Генриху:
– Сир, время спать, мне завтра надо очень рано приступить к моим обязанностям у королевы-матери.
– На сегодняшний вечер вы изгоняете меня, моя крошка? – спросил Генрих.
– Генрих, мне грустно. А в грусти я покажусь вам скучной, вы перестанете меня любить. Поймите, что будет лучше, если вы уйдете.
– Хорошо! Раз вы хотите этого, Шарлотта, я уйду, но – святая пятница! – окажите мне милость и разрешите присутствовать при вашем переодевании!
– А как же королева Маргарита, сир? Неужели вы заставите ее ждать, пока я переоденусь?
– Шарлотта, – серьезным тоном сказал Генрих, – у нас было условие никогда не говорить о королеве Наваррской, а сегодня мы говорили о ней чуть ли не весь вечер.
Мадам де Сов вздохнула и села за туалетный столик. Генрих взял стул, пододвинул его к своей возлюбленной, стал коленом на сиденье и облокотился на спинку своего стула.
– Ну вот, милочка моя Шарлотта, – сказал Генрих, – теперь мне видно, как вы наводите красу, притом для меня, что бы вы там ни говорили. Боже мой! Сколько всяких вещей, сколько баночек с душистыми притираниями, сколько пакетиков с пудрой, сколько флаконов, сколько коробочек с помадой!
– Это только кажется, что много, – со вздохом ответила Шарлотта, – а на самом деле очень мало; оказывается, и этого все же недостаточно, чтобы царить одной в сердце вашего величества.
– Послушайте! Не будем возвращаться в область политики, – сказал Генрих. – Что это за тоненькая маленькая кисточка? Не для того ли, чтобы подводить брови моей богине?
– Да, сир, – с улыбкой ответила мадам де Сов, – вы сразу угадали.
– А этот гребешок слоновой кости?
– Делать пробор.
– А эта прелестная серебряная коробочка с чеканной крышечкой?
– О, это Рене прислал мне свой замечательный опиат; он уж давно сулился изготовить средство для смягчения моих губ, хотя вы, ваше величество, благоволите находить их иногда достаточно мягкими и так.
Тогда Генрих, все больше развеселяясь, по мере того как разговор вступал в область женского кокетства, нагнулся и, как бы в подтверждение слов, сказанных очаровательной женщиной, поцеловал ее в губы, которые она с большим вниманием разглядывала в зеркало.
Шарлотта протянула было руку к серебряной коробочке, служившей предметом разговора, желая, вероятно, показать Генриху, как нужно накладывать на губы эту красную помаду, как вдруг короткий стук в дверь заставил обоих влюбленных вздрогнуть.
– Мадам, кто-то стучится, – сказала Дариола, высовывая голову из-за портьеры.
– Узнай – кто и приди сказать, – ответила мадам де Сов.
Генрих и Шарлотта с тревогой переглянулись. Генрих уже собрался скрыться в молельню, где он не раз находил себе убежище, как появилась Дариола.
– Мадам, это парфюмер, мэтр Рене.
При этом имени Генрих нахмурился и невольно закусил губы.
– Если хотите, я откажусь его принять, – сказала мадам де Сов.
– Нет, нет! – ответил Генрих. – Мэтр Рене никогда не делает ничего, не продумав заранее своих действий, и если он пришел к вам, значит, у него есть основания для этого.
– Может быть, тогда вы спрячетесь?
– Не стану этого делать, – ответил Генрих, – потому что мэтр Рене имеет сведения обо всем, и мэтр Рене отлично знает, что я здесь.
– Но у вашего величества могут быть причины чувствовать себя неприятно в его обществе.
– У меня? Никаких! – ответил Генрих, делая над собой усилие, которое при всем самообладании он все же не смог скрыть совсем. – Правда, отношения у нас были прохладные, но с вечера святого Варфоломея они наладились.
– Впусти! – сказала Дариоле мадам де Сов.
Через минуту вошел Рене и одним взглядом осмотрел всю комнату.
Мадам де Сов продолжала сидеть перед туалетным столиком. Генрих Наваррский вернулся на диванчик. Шарлотта сидела на свету, Генрих – в полутьме.
– Мадам, я явился принести вам свои извинения, – почтительно, но непринужденно сказал Рене.
– А в чем, Рене? – спросила мадам де Сов с особой мягкой снисходительностью, свойственной хорошеньким женщинам по отношению к тому разряду своих поставщиков, которые способствуют их красоте.
– В том, что я давно уже обещал вам потрудиться для ваших красивых губок, а между тем…
– Сдержали ваше обещание только сегодня, да? – спросила мадам де Сов.
– Только сегодня? – удивленно повторил Рене.
– Да, я получила эту коробочку только сегодня, да и то вечером.
– Ах да, – произнес Рене с каким-то странным выражением лица, глядя на коробочку, стоявшую на столике перед мадам де Сов и совершенно похожую на те, какие у него остались в лавке. «Я так и думал!» – прошептал он про себя. – А вы уже пробовали мой опиат? – спросил он вслух.
– Нет еще; я только собиралась попробовать его, как вы вошли.
На лице Рене появилось выражение раздумья, не ускользнувшее от Генриха, от которого, впрочем, мало что ускользало.
– Ну, Рене, что с вами? – спросил король Наваррский.
– Со мной, сир? Ничего, – ответил парфюмер, – я смиренно жду, ваше величество, не скажете ли вы мне что-нибудь до моего ухода.
– Бросьте! – улыбаясь, сказал Генрих. – Разве вы и без моих слов не знаете, что я с удовольствием встречаюсь с вами?
Рене посмотрел вокруг себя, прошелся по комнате, как будто проверяя зрением и слухом все двери и обивку стен, потом стал так, чтобы видеть одновременно мадам де Сов и Генриха.
– Нет, я этого не знаю, – ответил он.
Изумительный инстинкт Генриха Наваррского, подобный какому-то шестому чувству и руководивший им всю первую половину его жизни среди ее опасностей, подсказал Беарнцу, что сейчас в уме Рене происходит нечто необычное, похожее на какую-то борьбу, и Генрих, обернувшись к парфюмеру, стоявшему на свету, тогда как Генрих оставался в полутьме, сказал Рене:
– Почему вы здесь в эти часы?
– Разве я имел несчастье потревожить ваше величество? – ответил парфюмер, делая шаг назад.
– Совсем нет. Мне только хотелось знать одну вещь.
– Какую, сир?
– Рассчитывали вы застать меня здесь?
– Я был уверен в этом.
– Значит, вы меня искали?
– Во всяком случае, я очень счастлив с вами встретиться.
– Вам надо что-нибудь сказать мне?
– Быть может, сир! – ответил Рене.
Шарлотта покраснела от страха – как бы парфюмер, видимо, собираясь сделать какое-то разоблачение, не коснулся ее прежнего поведения в отношении Генриха; сделав вид, что всецело занята своим туалетом и ничего не слышит, она раскрыла коробочку с опиатом и, прерывая их разговор, воскликнула:
– Ах, Рене, поистине вы чародей! У этой помады чудесный цвет, и я хочу, из уважения к вам, попробовать при вас ваше произведение.
Она взяла коробочку и кончиком пальца захватила немного красноватой мази, чтобы намазать ею губы. Рене вздрогнул.
Баронесса с улыбкой поднесла палец к губам.
Рене побледнел.
Генрих Наваррский, сидевший по-прежнему в полумраке, следил за всем происходящим жадным, напряженным взором, не упустив ни движения мадам де Сов, ни трепета Рене.
Пальчик Шарлотты почти коснулся губ, как вдруг Рене схватил ее за руку; в то же мгновение вскочил и Генрих, чтобы ее остановить, но тотчас бесшумно опустился на диванчик.
– Мадам, простите, – сказал Рене с деланой улыбкой, – этот опиат нельзя употреблять без особых наставлений.
– А кто же даст мне эти наставления?
– Я.
– Когда же?
– Как только я окончу мой разговор с его величеством королем Наваррским.
Шарлотта широко раскрыла глаза, ничего не поняв из таинственного разговора, который вели около нее; она так и осталась сидеть с коробочкой опиата в руке, глядя на кончик своего пальца, окрашенного мазью в карминный цвет.
Повинуясь какой-то мысли, носившей, как и все мысли молодого короля, двойственный характер: один – явный, как будто легкомысленный, другой – скрытый, глубокий, Генрих встал с места, подошел к Шарлотте, взял ее руку и стал поднимать вымазанный кармином пальчик к своим губам.
– Одну минуту, – торопливо сказал Рене, – одну минуту! Соблаговолите, мадам, помыть ваши прекрасные руки вот этим неаполитанским мылом, которое я забыл прислать вместе с опиатом, а имею честь поднести лично.
И, вынув из серебристой обертки прямоугольный кусок зеленоватого мыла, он положил его в серебряный, золоченый таз, налил туда воды и, встав на одно колено, поднес все это мадам де Сов.
– Честное слово, мэтр Рене, я вас не узнаю, – сказал Генрих. – Вашей любезностью вы заткнете за пояс всех придворных волокит.
– Какой прелестный запах! – воскликнула Шарлотта, намыливая руки жемчужной пеной, отделявшейся от душистого куска.
Рене до конца выполнил обязанности услужливого кавалера и подал мадам де Сов салфетку из тонкого фрисландского полотна, чтобы вытереть руки.
– Вот теперь, ваше величество, – сказал флорентиец Генриху, – можете делать что угодно.
Шарлотта протянула Генриху руку для поцелуя, затем уселась вполоборота, приготовляясь слушать, что станет говорить Рене. Король Наваррский воспользовался паузой и вернулся на свое место, окончательно убедившись, что в уме парфюмера происходит какая-то чрезвычайно важная работа.
– Итак, что же? – спросила Шарлотта у Рене.
Флорентиец, видимо, собрал всю свою волю и повернулся к Генриху.
IV. Сир, вы станете королем
– Сир, – обратился к Генриху Рене, – я пришел поговорить с вами о том, что давно меня интересует.
– О дух?х? – улыбаясь, спросил Генрих.
– Да, сир, пожалуй… о д?хах! – ответил Рене, своеобразно оттенив последние слова.
– Говорите, я слушаю, этот предмет меня всегда очень занимал.
Рене взглянул на Генриха, пытаясь независимо от слов прочесть его непроницаемые мысли; но, увидев, что это дело совершенно безнадежное, стал продолжать:
– Сир, один мой друг должен на днях приехать из Флоренции: он много занимается астрологией…
– Да, – прервал его Генрих, – я знаю, что это страсть всех флорентийцев.
– В содружестве с лучшими мировыми учеными он составил гороскопы самых именитых дворян в Европе.
– Так, так! – сказал Генрих.
– И поскольку род Бурбонов является вершиной самых знатных родов, так как ведет свое начало от графа Клермона, пятого сына Людовика Святого, то, ваше величество, можете быть уверены, что им составлен и ваш гороскоп.
Генрих еще внимательнее стал слушать парфюмера.
– А вы помните этот гороскоп? – осведомился король Наваррский с улыбкой, но стараясь придать ей оттенок безразличия.
– О, – произнес Рене, утвердительно кивая головой, – такие гороскопы, как ваш, не забывают.
– В самом деле? – сказал Генрих с ироническою миной.
– Да, сир, согласно указаниям гороскопа, вас ожидает блестящая судьба.
Глаза молодого короля невольно сверкнули молнией, тотчас погасшей в облаке равнодушия.
– Все эти итальянские оракулы – льстецы, – возразил Генрих, – а льстец – все равно что обманщик. Разве один из них не предсказал мне, что я буду командовать армиями? Это я-то!
Генрих расхохотался. Но наблюдатель, менее занятый собой, чем Рене, почувствовал бы в его смехе оттенок деланости.
– Сир, – холодно сказал Рене, – гороскоп предвещает нечто большее.
– Он предвещает, что во главе одной из этих армий я одержу блестящие победы?
– Сир, больше этого.
– Ну, тогда вы увидите, что я стану завоевателем.
– Сир, вы станете королем.
– Святая пятница! Да я и так король, – сказал Генрих, пытаясь сдержать сильно забившееся сердце.
– Сир, мой друг знает цену своим обещаниям; вы будете не только королем, вы будете и царствовать.
– Понимаю, – тем же насмешливым тоном продолжал Генрих Наваррский, – ваш друг нуждается в пяти экю, не так ли, Рене? Ведь по теперешним временам такое пророчество сильно льстит тщеславию. Слушайте, Рене, я небогат, поэтому сейчас я дам вашему другу пять экю, а еще пять экю – когда пророчество осуществится.
– Сир, вы уже дали обязательство Дариоле, – заметила мадам де Сов, – так не давайте слишком много обещаний.
– Мадам, надеюсь, что, когда настанет это время, ко мне будут относиться как к королю; следовательно, если я сдержу даже половину своих обещаний, то все будут очень довольны.
– Сир, – сказал Рене, – я продолжаю.
– Как, еще не все? – воскликнул Генрих. – Ну хорошо, если я стану императором – плачу вдвойне.
– Сир, мой друг везет с собою из Флоренции ваш гороскоп, еще раньше проверенный им в Париже и все время предвещавший одно и то же; кроме того, мой друг доверил мне одну тайну.
– Тайну, важную для его величества? – оживленно спросила мадам де Сов.
– Думаю, что да, – ответил флорентиец.
«Он подыскивает слова, – подумал Генрих, не приходя мэтру Рене на помощь. – Высказать то, что у него на уме, как видно, нелегко».
– Так говорите же, в чем дело? – сказала мадам де Сов.
– Дело вот в чем, – начал флорентиец, взвешивая каждое свое слово, – дело в тех слухах о разных отравлениях, которые недавно ходили при дворе.
Ноздри короля Наваррского чуть-чуть расширились – единственный признак повышения его внимания к разговору, принявшему нежданный оборот.
– А ваш флорентийский друг кое-что знает об этих отравлениях? – спросил Генрих.
– Да, сир.
– Как же, Рене, вы поверяете мне чужую тайну, а тем более имеющую такое важное значение? – спросил Генрих, стараясь, насколько возможно, придать своему голосу естественную интонацию.
– Этому другу нужен совет вашего величества.
– Мой?
– Что ж в этом удивительного, сир? Вспомните старого солдата, участника сражения при Акциуме; у него был судебный процесс, и он просил совета у императора Августа.
– Август был адвокат, а я нет.
– Сир, когда мой друг поверил мне эту тайну, ваше величество находились в рядах протестантской партии, вы были первым ее вождем, а вторым был принц Конде.
– Что дальше? – спросил Генрих.
– Мой друг надеялся, что вы воспользуетесь вашим всемогущим влиянием на принца Конде и попросите его не питать вражды к моему другу.
– Объясните, Рене, в чем дело, если хотите, чтобы я вас понял, – сказал Генрих все с тем же выражением лица и тем же тоном.
– Сир, ваше величество поймете с первого слова: моему другу известно во всех подробностях, как пытались отравить его высочество принца Конде.
– А разве принца Конде пытались отравить? – спросил Генрих с прекрасно разыгранным изумлением. – В самом деле?.. Когда же?
– Неделю тому назад, сир.
– Какой-нибудь враг его?
– Да, – отвечал Рене, – враг, которого знаете вы, ваше величество, и который знает ваше величество.
– Да, да, мне кажется, я что-то слышал, – ответил Генрих, – но я не знаю никаких подробностей, которые друг ваш собирается мне рассказать, так расскажите сами.
– Хорошо! Принцу Конде кто-то прислал в подарок душистое яблоко, но, к счастью, в то время, когда принесли яблоко, у принца находился его врач. Он взял у посланного яблоко и понюхал, чтобы узнать, какой у него запах. Два дня спустя на лице у врача появилась гангренозная язва с кровоизлиянием, которая разъела ему все лицо; так поплатился он за свою преданность или за свою неосторожность.
– Но я уже наполовину католик, – ответил Генрих, – и, к сожалению, утратил всякое влияние на принца Конде, так что ваш друг напрасно обратился бы ко мне.
– Ваше величество, своим влиянием вы можете быть полезны моему другу не только в отношении принца Конде, но и в отношении принца Порсиан, брата того Порсиан, который был отравлен.
– Знаете что, Рене, – возразила Шарлотта, – от ваших рассказов пробегает мороз по коже! Вы зря хлопочете. Уже поздно, а разговор ваш замогильный. Честное слово, духи? ваши интереснее.
И Шарлотта снова протянула руку к коробочке с опиатом.
– Мадам, – сказал Рене, – вы собираетесь испробовать опиат, но, прежде чем это делать, послушайте, как могут злонамеренные люди воспользоваться подобными вещами.
– Рене, – ответила баронесса, – сегодня вечером вы просто зловещи.
Генрих нахмурил брови; ему было ясно, что Рене стремится к какой-то цели, но к какой, оставалось пока неясным, поэтому он решил довести до конца их разговор, хотя и возбуждавший в нем скорбные воспоминания.
– А вы знаете подробности отравления и принца Порсиан? – спросил Генрих.
– Да, – ответил Рене. – Было известно, что по ночам он оставлял гореть лампу, стоявшую около его постели; в масло примешали яд, и принц задохнулся от испарений.
Генрих стиснул покрывшиеся потом пальцы.
– Таким образом, – тихо сказал он, – тот, кого вы зовете своим другом, знает не только подробности этого отравления, но и его автора.
– Да, поэтому-то он и хотел узнать от вас, можете ли вы повлиять на здравствующего принца Порсиан, чтобы он простил убийце смерть своего брата?
– Но я наполовину еще гугенот и, к сожалению, не имею никакого влияния на принца Порсиан: ваш друг обратился бы ко мне напрасно.
– А что вы думаете о намерениях принца Конде и принца Порсиан?
– Откуда же мне знать, Рене, их намерения? Насколько мне известно, господь бог не наградил меня особою способностью читать в сердцах людей.
– Ваше величество могли бы в этом отношении спросить самого себя, – спокойно произнес Рене. – Нет ли в жизни вашего величества какого-нибудь события, настолько мрачного, что оно могло бы подвергнуть испытанию ваше чувство милосердия, как бы болезненно ни действовал на ваше великодушие этот пробный камень?
Даже Шарлотта вздрогнула от одного тона этих слов; в них заключался столь ясный, столь прямой намек, что баронесса отвернулась, скрывая краску своего смущения и не желая встречаться взглядом с Генрихом.
Генрих сделал над собой огромное усилие; грозные складки, набегавшие на его лоб, пока говорил Рене, разгладились, благородная, сжимавшая его сыновнее сердце скорбь сменилась раздумьем.
– Мрачного события… в моей жизни?.. – повторил Генрих. – Нет, Рене, не было; из времен юности я помню только свое сумасбродство и беспечность, а вместе с ними – неудовлетворенные, более или менее мучительные нужды, ниспосланные всем людям потребностями нашей природы и божиим испытанием.
Рене тоже сдерживал себя и пристально взглядывал то на Генриха, то на Шарлотту, как будто стараясь расшевелить первого и удержать вторую, так как Шарлотта, чтобы скрыть свое смущение, вызванное этим разговором, села опять за туалетный столик и протянула руку к коробочке с опиатом.
– Короче говоря, сир, если бы вы были братом принца Порсиан или сыном принца Конде и кто-нибудь отравил бы вашего брата или убил вашего отца…
Шарлотта чуть слышно вскрикнула и поднесла опиат к губам. Рене видел это, но на этот раз ни словом, ни жестом не остановил ее, а только крикнул:
– Ради бога, молю вас, сир, ответьте: если бы вы были на их месте, что сделали бы вы?!
Генрих собрался с духом, дрожащей рукой вытер на лбу капельки холодного пота, встал во весь рост и среди полной тишины, когда Шарлотта и Рене затаили даже дыхание, ответил:
– Если бы я был на их месте и если бы я был уверен, что буду царствовать, то есть представлять собой бога на земле, я сделал бы то же, что и бог, – простил бы.
– Мадам, – воскликнул Рене, вырывая опиат из руки мадам де Сов, – отдайте мне обратно эту коробочку! Я вижу, мой приказчик принес ее вам по ошибке; завтра я вам пришлю другую.
V. Новообращенный
На другой день предстояла охота с гончими в Сен-Жерменском лесу.
Генрих Наваррский приказал, чтобы к восьми часам утра была готова – то есть оседлана и взнуздана – маленькая беарнская лошадь, которую он собирался подарить мадам де Сов, но предварительно хотел проехать на ней сам. Без четверти восемь лошадь стояла на дворе. Ровно в восемь Генрих вышел во двор.
Лошадь, несмотря на небольшой рост, сильная и горячая, прыгала на месте и потряхивала гривой. Ночью подморозило, и тонкий ледок покрывал землю.
Генрих Наваррский собрался перейти через двор к конюшням, где его ждал конюх с лошадью, но когда он поравнялся с часовым, стоявшим у дверей Лувра в форме швейцарского солдата, этот солдат сделал ему на караул и сказал:
– Да сохранит бог его величество короля Наваррского!
Услышав такое пожелание, а главное – голос, который произнес эти слова, Генрих вздрогнул. Он обернулся и отступил на шаг.
– Де Муи! – прошептал Генрих.
– Да, сир, де Муи.
– Зачем вы здесь?
– Ищу вас.
– Что вам надо?
– Мне надо с вами поговорить.
– Несчастный, – сказал Генрих, подходя к нему, – разве ты не знаешь, что рискуешь головой?
– Знаю.
– И что же?
– То, что я здесь.
Генрих чуть побледнел, сообразив, что опасность, которой подвергался пылкий молодой человек, грозила и ему; он с беспокойством посмотрел вокруг и снова отступил назад, но не так быстро, как в первый раз.
Генрих заметил, что в одном окне стоял герцог Алансонский, и сразу изменил поведение: он взял из рук де Муи, стоявшего, как мы сказали, на часах, мушкет и сделал вид, что хочет осмотреть его.
– Де Муи, – сказал он, – несомненно, какая-то очень важная причина побудила вас броситься в пасть волку?
– Да, сир. Вот уже неделя, как я высматриваю вас. Только вчера мне удалось узнать, что ваше величество будете сегодня утром пробовать лошадь, и я встал у входной двери Лувра.
– Но откуда у вас этот костюм?
– Командир роты – протестант и мой друг.
– Вот вам ваш мушкет, несите опять ваш караул. За нами следят. На обратном пути я постараюсь сказать вам кое-что; но если я сам не заговорю, не останавливайте меня. Прощайте.
Де Муи принялся ходить взад и вперед, а Генрих пошел к лошади.
– Это что за милая скотина? – спросил из окна герцог Алансонский.
– Лошадка, которую мне надо попробовать сегодня утром, – ответил Генрих.
– Но она совсем не для мужчины.
– Она и предназначена для одной красивой дамы.
– Берегитесь, Генрих! Вы окажетесь предателем, потому что мы эту даму увидим на охоте. Если неизвестно, чей вы рыцарь, то все узнают, чей вы стремянный.
– О нет! Даю слово, не узнаете, – возразил Генрих с деланым добродушием, – так как эта дама не выйдет сегодня из дому: ей очень нездоровится.
– Ах, ах! Бедная мадам де Сов! – смеясь, сказал герцог Алансонский.
– Франсуа! Франсуа! Вот вы – предатель.
– А что такое с красавицей Шарлоттой? – спросил герцог Алансонский.
– Право, хорошо не знаю, – сказал Генрих, пуская лошадь коротким галопом и заставляя ее скакать по кругу, как в манеже. – Мне говорила Дариола, что у нее болит голова, какая-то вялость во всем теле – словом, общая слабость.
– Вам это не помешает ехать с нами? – спросил герцог.
– Мне? Почему? – отвечал Генрих. – Вы знаете, что я безумно люблю охоту с гончими и что никакие обстоятельства не заставили бы меня пропустить ее.
– Однако, Генрих, как раз эту вы пропустите, – сказал герцог, после того как обернулся и поговорил с кем-то, кто разговаривал с герцогом из глубины комнаты и был невидим Генриху, – так как его величество сию секунду известил меня, что охоты не будет.
– Вот так так! – произнес Генрих с видом полного разочарования. – Почему же?
– Кажется, пришли очень важные письма от герцога Невэрского. Король совещается с королевой-матерью и моим братом, герцогом Анжуйским.
«Ага! – подумал Генрих. – Уж не пришли ли новости из Польши?»
Затем громко ответил герцогу:
– В таком случае нечего мне и подвергать себя опасности по этой гололедице. До свидания, брат мой!
Отъехав к дверям Лувра и остановив лошадь против де Муи, Генрих сказал ему:
– Мой друг, позови кого-нибудь из твоих товарищей постоять до конца твоего караула вместо тебя, а сам помоги конюху расседлать лошадь, положи седло себе на голову и отнеси его к золотых дел мастеру в королевскую шорную мастерскую: надо доделать шитье, которое он не успел приготовить к сегодняшней охоте. А ответ его зайди сказать ко мне.
Де Муи поторопился исполнить приказание, так как герцог Алансонский исчез из окна и, видимо, что-то заподозрил.
Действительно, едва де Муи успел завернуть за калитку ограды, как герцог Алансонский появился у дверей Лувра. Настоящий швейцарец стоял на месте де Муи.
Герцог Алансонский очень внимательно осмотрел нового караульного, затем, обернувшись к Генриху Наваррскому, спросил:
– Брат мой, ведь вы не с этим человеком разговаривали несколько минут назад, да?
– Тот был мой младший слуга, которого я устроил на службу в отряд швейцарцев; сейчас я дал ему поручение, и он пошел его исполнить.
– А-а! – произнес герцог, как будто удовлетворившись этим ответом. – Как поживает Маргарита?
– Я иду спросить ее об этом.
– Разве со вчерашнего дня вы не видались с ней?
– Нет, вчера я к ней явился часов в одиннадцать вечера, но Жийона сказала мне, что Маргарита устала и уже спит.
– Вы не застанете ее, она отправилась куда-то в город.
– Да, возможно, – ответил Генрих, – она хотела поехать в Благовещенский монастырь.
Разговор не мог больше продолжаться: Генрих, видимо, решил только отвечать. Зять и шурин расстались: герцог Алансонский отправился, по его словам, узнавать политические новости, король Наваррский пошел к себе. Не прошло и пяти минут, как раздался стук в дверь.
– Кто там? – спросил Генрих.
– Сир, это с ответом от золотых дел мастера, – ответил голос, знакомый Генриху, – голос де Муи.
Генрих, явно волнуясь, предложил молодому человеку войти и закрыл за ним дверь.
– Это вы, де Муи?! Я надеялся, что вы еще подумаете.
– Сир, – ответил де Муи, – я думал три месяца, этого достаточно. Теперь время действовать.
На лице Генриха выразилось беспокойство.
– Не бойтесь, сир, мы одни, а время дорого, и я очень тороплюсь. Ваше величество можете одним словом вернуть нам все, что события этого года отняли у протестантов. Будем говорить ясно, кратко и откровенно.
– Я слушаю, мой храбрый де Муи, – ответил Генрих, видя, что избежать объяснения невозможно.
– Правда ли, что ваше величество отреклись от протестантства?
– Правда, – ответил Генрих.
– Да, но устами или сердцем?
– Всегда бываешь благодарен богу, когда он спасает тебе жизнь, – ответил Генрих, обходя прямой ответ на заданный вопрос, как он обычно это делал в подобных случаях, – а бог явно меня избавил от такой опасности.
– Сир, – продолжал де Муи, – давайте признаемся в одном.
– В чем?
– В том, что ваше отречение – следствие не вашего убеждения, а расчета. Вы отреклись для того, чтобы король оставил вас в живых, а не потому, что бог сохранил вам жизнь.
– Какова бы ни была причина моего обращения, де Муи, – отвечал Генрих, – все равно я католик.
– Но будете ли вы католиком всегда? При первой возможности вернуть себе свободу совести и вольную жизнь вы разве не вернете их? Теперь эта возможность вам предоставляется: Ла-Рошель восстала, Беарн и Русильон ждут только клича, чтобы действовать, по всей Гийени слышится призыв к войне. Скажите только, что вы католик лишь по принуждению, и я ручаюсь вам за ваше будущее.
– Дворян королевского происхождения, как я, не принуждают, мой милый де Муи. То, что я сделал, я сделал добровольно.
– Но, сир, – сказал молодой человек, у которого сжималось сердце от этого неожиданного сопротивления, – неужели вы не понимаете, что, поступая так, вы нас бросаете… нас предаете?
Генрих был невозмутим.
– Да, да, сир! Вы предаете своих, поскольку многие из нас явились сюда под страхом смерти, чтобы спасти вашу свободу и вашу честь. Мы подготовили все, чтобы добыть для вас престол. Сир, вы слышите? Не только свободу, но и власть. Престол по вашему выбору – потому что через два месяца вам можно будет выбирать между Наваррой и всей Францией.
– Де Муи, – заговорил Генрих, скрывая свои глаза, сверкнувшие помимо его воли при этом предложении, – де Муи, я жив, я католик, я муж королевы Маргариты, я брат короля Карла, я зять моей доброй тещи Екатерины. Де Муи, когда я принимал на себя все эти звания, я учитывал не только вытекавшие из них выгоды, но также обязательства.
– Тогда чему же верить, сир? Мне говорят, что брак ваш – только внешний, что в своем сердце вы вольны, что ненависть Екатерины…
– Враки, враки! – поспешно перебил его Генрих. – Друг мой, вас нагло обманули. Милая Маргарита действительно моя жена, Екатерина действительно мне мать, наконец, Карл Девятый действительно мой повелитель, владыка моей жизни и души.
Де Муи вздрогнул, почти презрительная улыбка пробежала по его губам.
– Итак, сир, – сказал он печально, опуская руки и стараясь проникнуть в потемки этой загадочной души, – вот какой ответ я должен передать моим собратьям. Я им скажу, что король Наваррский подал руку и отдал свое сердце тем, кто резал нас! Я им скажу, что он стал льстецом королевы-матери и другом Морвеля…
– Мой милый де Муи, – отвечал Генрих Наваррский, – король сейчас выйдет из залы совета; мне надо пойти спросить его, по каким причинам отложено такое важное дело, как охота. Прощайте! Возьмите пример с меня, мой друг, – бросьте политику, вернитесь на службу к королю и примите католичество.
И Генрих проводил или, вернее сказать, выпроводил де Муи в переднюю как раз тогда, когда ошеломленный молодой человек начинал приходить в ярость.
Едва Генрих успел затворить дверь, де Муи не выдержал и дал волю страстному желанию выместить на ком-нибудь свое негодование, но за отсутствием «кого-нибудь» он скомкал шляпу, бросил ее на пол и стал топтать ногами, как топчет бык плащ матадора.
– Клянусь смертью! – восклицал он. – Вот никуда не годный государь! Пусть меня убьют на этом месте и опозорят его навеки моей кровью!
– Тс! Месье де Муи! – раздался чей-то голос сквозь щель чуть приоткрытой двери. – Тише! Вас могут услыхать другие.
Де Муи обернулся и увидел закутанного в плащ герцога Алансонского, который высунул голову в коридор, чтобы удостовериться, нет ли там еще кого-нибудь, кроме него и де Муи.
– Герцог Алансонский! – воскликнул де Муи. – Я погиб!
– Наоборот, – шепотом сказал герцог, – вы, может быть, нашли то, чего искали: ведь вы же видите – я не желаю, чтобы вас здесь убили, как вам того хотелось. Поверьте, ваша кровь может найти себе гораздо лучшее применение, вместо того чтобы кровянить порог короля Наваррского.
С этими словами герцог распахнул дверь, которую все время держал полуоткрытой.
– Эта комната двух моих дворян, – сказал герцог, – разыскивать нас здесь никто не будет, и мы можем беседовать свободно. Входите.
– К вашим услугам, ваша светлость! – ответил изумленный заговорщик.
Он вошел в комнату, и герцог Алансонский захлопнул за ним дверь так же поспешно, как и король Наваррский.
Де Муи входил в комнату еще во власти отчаяния и ярости, но холодный, неподвижный взгляд юного французского принца подействовал на гугенотского вождя, как лед на пьяного.
– Ваше высочество, – сказал он, – насколько я понял, вы желаете со мной поговорить?
– Да, месье де Муи, – ответил Франсуа. – Несмотря на ваше переодевание, мне еще раньше показалось, что это вы; а когда вы делали на караул моему брату Генриху, я вас узнал. Итак, де Муи, вы недовольны королем Наваррским?
– Ваше высочество!
– Бросьте, говорите смело. Хотя вы этого и не подозревали, но я, быть может, друг ваш.
– Вы, ваше высочество?
– Да, я. Говорите!
– Я не знаю, что и сказать вашему высочеству. То, о чем мне надо было переговорить с королем Наваррским, касается вопросов, которые вашему высочеству будут непонятны. Кроме того, – добавил де Муи, стараясь принять равнодушный вид, – и дело-то пустячное.
– Пустячное? – спросил герцог.
– Да, ваше высочество.
– Настолько пустячное, что ради него вы рискнули своей жизнью, проникнув в Лувр, где, как вы знаете, ваша голова оценена на вес золота? Всем хорошо известно, что вы, Генрих Наваррский и принц Конде – главные вожди гугенотов.
– Раз вы так думаете, ваше высочество, то и действуйте по отношению ко мне, как подобает действовать брату короля Карла и сыну королевы Екатерины.
– Зачем мне действовать так, если я говорю вам, что я ваш друг? Говорите правду.
– Ваше высочество, – отвечал де Муи, – клянусь вам…
– Не надо клясться. Протестантская вера запрещает давать клятвы, а в особенности ложные.
Де Муи нахмурился.
– Говорю вам, что мне известно все, – продолжал герцог.
Де Муи молчал.
– Вы сомневаетесь? – настойчиво, но благожелательно спросил герцог. – Ну что ж, придется убеждать вас. Вы сами сможете судить, верно ли я говорю. Предлагали вы или нет моему зятю Генриху вот там, сейчас, – и герцог показал рукой в сторону, где находились покои Генриха Наваррского, – вашу помощь и помощь ваших сторонников для того, чтобы восстановить его на наваррском троне?
Де Муи испуганно посмотрел на герцога.
– И он с ужасом отверг эти предложения.
Де Муи был ошеломлен.
– Разве вы не пытались взывать к вашей старинной дружбе, к памяти об общей с ним вере? Разве не манили вы короля Наваррского блестящей надеждой – настолько блестящей, что он был ею ослеплен, – получить корону всей Франции? А? Ну, скажите, плохие у меня сведения? Не затем ли вы приехали, чтобы предложить все это королю Наваррскому?
– Ваше высочество! – воскликнул де Муи. – Сейчас, в эту самую минуту, я задаю себе вопрос, не обязан ли я вам сказать: «Вы лжете, ваше королевское высочество», затеять с вами смертный бой и скрыть эту ужасную тайну смертью нас обоих?
– Потише, мой храбрый де Муи, потише! – сказал герцог, не изменясь в лице и не пошевелив пальцем при такой страшной угрозе. – Тайна гораздо лучше будет скрыта, если никто из нас не умрет, а мы оба будем живы. Выслушайте меня и перестаньте теребить эфес вашей шпаги. В третий раз повторяю вам, что вы имеете дело с другом, – так отвечайте мне как другу. Разве король Наваррский не отклонил все ваши предложения?
– Да, ваше высочество, в этом я могу признаться, поскольку такое признание не подводит никого, кроме меня.
– А выйдя из комнаты короля Наваррского, не вы ли топтали свою шляпу и кричали, что он трус и недостоин быть вашим вождем?
– Да, ваше высочество, правда. Я это говорил.
– Ах, правда? Наконец-то вы признались.
– Да.
– И вы продолжаете оставаться при этом мнении?
– Больше чем когда-либо, ваше высочество.
– Так вот что, месье де Муи! Я третий сын Генриха Второго, я принц королевской крови, достаточно ли я благородный дворянин, чтобы командовать вашими солдатами? Рассудите сами, достаточно ли я честен, чтобы вы могли положиться на мое слово?
– Вы, ваше высочество, – вождь гугенотов?
– Отчего нет? Сейчас принято менять веру. Генрих стал католиком, я могу стать гугенотом.
– Конечно, ваше высочество, но тогда я жду, чем вы объясните…
– Ничего нет проще! В двух словах я опишу наше политическое положение. Брат мой Карл избивает гугенотов, чтобы расширить свою власть. Мой брат герцог Анжуйский не мешает избивать их, потому что он наследует моему брату Карлу, а брат мой Карл, как вам известно, часто болеет. А я… вот тут совсем другое дело: я никогда не буду на престоле, по крайней мере на престоле Франции, так как передо мной – два старших брата. И не столько естественный закон наследования, сколько ненависть ко мне со стороны моей матери и моих братьев отстранит меня от трона; мне не приходится надеяться ни на какие нежные семейные чувства, ни на какую славу, ни на какое королевство; но мое благородство не меньше, чем благородство старших братьев. Так вот, де Муи, я и хочу своею шпагой выкроить себе королевство в той Франции, которую они заливают кровью. Итак, выслушайте, де Муи, чего хочу я. Я хочу стать королем Наваррским не по родовому наследованию, а по избранию. Заметьте, что никаких возражений против этого у вас не может быть: ведь я не являюсь узурпатором, поскольку брат мой Генрих отверг ваши предложения и, погрязнув в своей бездейственности, открыто заявил, что королевство Наваррское лишь видимость. С Генрихом Беарнским у вас не выйдет ничего. Со мною у вас будут меч и имя. Франциск Алансонский, принц Франции, сумеет защитить своих товарищей или, если хотите, соумышленников. Итак, месье де Муи, что скажете об этих предложениях?
– Ваше высочество, я ими ослеплен.
– Де Муи, де Муи, нам придется преодолеть очень много препятствий. Так не будьте же с самого начала так требовательны и так осторожны в отношении королевского сына и королевского брата, который сам идет навстречу вашим планам.
– Ваше высочество, все было бы уже решено, если бы я один строил свои планы; но у нас есть совет, и, как бы ни было блестяще предложение, а может быть, именно поэтому, вожди протестантской партии не согласятся на него без определенного условия.
– Это другой вопрос, и ваш ответ идет от честного сердца и осторожного ума. По тому, как я сейчас поступил с вами, де Муи, вы должны признать мою порядочность. Но в таком случае и вы обращайтесь со мной как с человеком, достойным уважения, а не как с государем, которому только льстят. Де Муи, есть ли для меня надежда на успех?
– Раз ваше высочество желаете знать мое мнение, то даю вам слово, что, после того как король Наваррский отверг предложение, сделанное мною, для вашего высочества есть полная надежда на успех. Но повторяю, ваше высочество, что я должен непременно сговориться с нашими вождями.
– Так сговаривайтесь, де Муи, – отвечал герцог Алансонский. – А когда ответ?
Де Муи молча посмотрел на герцога. Затем, видимо, приняв решение, сказал:
– Ваше высочество, дайте вашу руку; я должен быть уверен, что не буду выдан, для этого мне необходимо, чтобы рука французского принца коснулась моей руки.
Герцог Алансонский не только протянул руку, но сам пожал руку де Муи.
– Теперь, ваше высочество, я спокоен, – сказал юный гугенот. – Если нас предадут, я скажу, что вы тут ни при чем. Иначе, ваше высочество, как бы мало вы ни были замешаны, вас лишат чести.
– Зачем вы, де Муи, говорите мне об этом, еще не сказав, когда вы мне доставите ответ от ваших вождей?
– Потому, ваше высочество, что, спрашивая о времени ответа, тем самым вы спрашиваете и о месте, где находятся вожди; ведь если я скажу вам: «Сегодня вечером» – вы будете знать, что они тайно находятся в Париже.
И, сказав это, де Муи с недоверием вперил свой острый взгляд в бегающие лживые глаза молодого человека.
– Слушайте, месье де Муи, – возразил герцог, – у вас все еще остались подозрения. Но я и не могу сразу требовать от вас полного доверия. Позже вы лучше узнаете меня. Мы будем связаны общностью наших интересов, и ваша подозрительность рассеется. Так вы говорите, сегодня вечером?
– Да, ваше высочество, время не терпит. До вечера! Но будьте любезны сказать – где?
– Здесь, в Лувре, в этой комнате. Вам это удобно?
– В этой комнате кто-нибудь живет? – спросил де Муи, указывая на две кровати, стоявшие одна против другой.
– Два моих дворянина.
– Ваше высочество, мне кажется, что приходить еще раз в Лувр было бы неосторожно.
– Почему?
– Потому что раз вы меня узнали, то и другие могут оказаться так же зорки, как ваше высочество, и меня узнают. Но я все же приду в Лувр, если ваше высочество согласится дать мне то, о чем я попрошу.
– А именно?
– Свободный пропуск.
– Де Муи, если при вас найдут свободный пропуск, выданный мною, это погубит меня, но не спасет вас. Я могу быть вам полезен только при условии, что в глазах всех мы с вами люди, совершенно чуждые друг другу. Малейшее сношение с вами, если его докажут моей матери или моему брату, будет мне стоить жизни. Таким образом, мое чувство самосохранения послужит вам порукой с той минуты, как я поставлю себя в опасное положение, войдя в связь с другими вашими вождями, подобно тому, как и сейчас я ставлю себя в опасное положение, разговаривая с вами. Свободный в своих действиях, сильный своей неразгаданностью, пока я не разгадан, – я отвечаю вам за все, не забывайте этого. Итак, вновь призовите ваше мужество и, полагаясь на мое слово, смело идите на то, на что вы шли, не имея слова моего брата Генриха. Сегодня вечером приходите в Лувр.
– Но как же я сюда явлюсь? Я не могу разгуливать по залам в этом костюме. Он годился только в подъезде и во дворе. Мой собственный костюм еще опаснее: здесь меня все знают, а он нисколько не изменяет мою внешность.
– Я сейчас соображу, – сказал герцог. – Подождите, подождите… мне думается, что… Да, верно!
Герцог окинул взглядом комнату, и глаза его остановились на парадной одежде де Ла Моля, разложенной на постели, где лежали и великолепный, шитый золотом вишневый плащ, о котором мы уже упоминали, и берет с белым пером, обшитый по тулье серебряными и золотыми маргаритками, и, наконец, атласный, серый с золотом, колет.
– Видите вы этот плащ, это перо и этот колет? – сказал герцог. – Они принадлежат одному из моих дворян, месье де Ла Молю, франту в лучшем стиле. Его наряд наделал такого шума при дворе, что когда Ла Моль в этом костюме – его все узнают за сто шагов. Я дам вам адрес его портного; заплатите двойную цену, и к вечеру он вам сошьет такой же. Вы запомните имя? Де Ла Моль.
Едва герцог Алансонский успел сделать это наставление, как в коридоре послышались шаги, приближавшиеся к двери, а вслед за этим звякнул ключ в замочной скважине.
– Эй! Кто там? – крикнул герцог, бросаясь к двери и задвигая задвижку.
– Черт возьми! – отвечал голос из-за двери. – Нахожу вопрос странным. Сами-то вы кто? Вот забавно: прихожу к себе домой, а меня спрашивают, кто там!
– Это вы, месье де Ла Моль?
– Конечно, я. А вот кто вы?
Пока Ла Моль выражал свое изумление по поводу того, что его комната оказалась занята, и пытался узнать, кто этот новый его сожитель, герцог Алансонский придержал одной рукой задвижку, а другой закрыл замочную скважину и, быстро обернувшись к де Муи, спросил его:
– Вы знакомы с Ла Молем?
– Нет, ваше высочество.
– И он не знает вас?
– Думаю, что нет.
– Тогда все хорошо. На всякий случай сделайте вид, что смотрите в окно.
Де Муи выполнил указание, не возражая, так как Ла Моль начинал выходить из терпения и колотил изо всей силы кулаком в дверь.
Герцог Алансонский взглянул в последний раз на де Муи и, убедившись, что тот стоит спиной, отворил дверь.
– Ваше высочество, герцог! – воскликнул Ла Моль, от изумления делая шаг назад. – О! Простите, простите, ваше высочество!
– Пустяки, месье. Мне понадобилась ваша комната, чтобы принять одного человека.
– Пожалуйста, ваше высочество, пожалуйста. Но, молю вас, разрешите взять на постели мой плащ и мою шляпу: другой плащ и другую шляпу я потерял ночью на Гревской набережной, где на меня напали воры.
– Да, месье, – сказал герцог, улыбаясь и лично передавая Ла Молю требуемые вещи, – вид у вас неважный. Ясно, что вы имели дело с напористыми молодцами.
Герцог сам передал Ла Молю берет и плащ. Молодой человек поклонился и ушел в переднюю переодеться, нисколько не задумываясь над тем, что герцог делал в его комнате, так как подобные случаи были довольно обычным делом в Лувре, где комнаты дворян, прикомандированных к высочайшим особам, служили этим особам своего рода гостиными, в которых происходили всевозможные приемы.
Де Муи подошел к герцогу, и они оба, прислушиваясь, стали дожидаться, когда Ла Моль закончит свое переодевание и уйдет; но Ла Моль сам вывел их из затруднения: кончив свой туалет, он подошел к двери и спросил:
– Простите, ваше высочество, вам не попадался граф Коконнас?
– Нет, граф, хотя сегодня утром он был назначен для услуг.
«Значит, его убили», – сказал Ла Моль самому себе, уходя из комнаты.
Герцог прислушался к постепенно затихавшим шагам Ла Моля, затем отворил дверь и, увлекая за собой де Муи, шепнул ему:
– Вглядитесь, как он идет, и постарайтесь перенять его неподражаемую выправку.
– Постараюсь как можно лучше, – ответил де Муи. – К сожалению, я не щеголь, а солдат.
– Как бы то ни было, но около полуночи я жду вас в этом коридоре. Если комната моих дворян будет свободна, я приму вас в ней, а если нет – найдем другую.
– Хорошо, ваше высочество.
– Итак, до ночи, до двенадцати часов.
– До двенадцати часов.
– Да, кстати, де Муи! При ходьбе сильно размахивайте правой рукой – это особая повадка де Ла Моля.
VI. Переулок Тизон и переулок Клош-Персе
Ла Моль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного Коконнаса.
Он вспомнил, как часто его друг пьемонтец приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера, поэтому он первым делом направился на улицу Арбр-сек к мэтру Ла Юрьер в надежде, что Коконнас после такой тревожной ночи, какую провели они, последует римскому изречению и найдет себе приют под вывеской «Путеводная звезда».
Коконнаса в гостинице не оказалось. Ла Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Ла Моль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, покушал с аппетитом.
Успокоив желудок, но не душу, Ла Моль бросился бежать по берегу Сены, вверх по ее течению, как некий муж, искавший утонувшую жену. Добежав до Гревской набережной, Ла Моль узнал то место, где за три или четыре часа до этого он подвергся нападению во время своего ночного путешествия, о чем он рассказал герцогу Алансонскому и что было не редкостью в Париже за сто лет до того времени, когда Буало пришлось проснуться от звука пули, пробившей ставню в его спальне. Маленький обрывок пера с его шляпы валялся на поле битвы. Чувство собственности привито человеку. У Ла Моля было десять перьев, одно лучше другого, а все-таки он подобрал и это, вернее – его остаток. В то время как он с грустью разглядывал перо, совсем близко послышались тяжелые шаги, и несколько голосов грубо крикнули ему, чтоб он посторонился. Ла Моль поднял голову и увидел носилки, двигавшиеся в сопровождении стремянного и трех пажей. Носилки показались ему знакомыми, и он поспешно отошел в сторону.
Ла Моль не ошибся.
– Месье де Ла Моль?! – раздался из носилок прелестный голос, и в то же время нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески.
– Да, ваше величество, это я, – ответил Ла Моль, делая низкий поклон.
– Месье де Ла Моль – с пером в руке? – продолжала дама, сидевшая в носилках. – Уж не влюблены ли вы и только что нашли потерянный след милой?
– Да, мадам, я влюблен, и очень сильно, – отвечал Ла Моль, – однако в данную минуту я нашел только свои следы, хотя искал не их. Ваше величество, разрешите спросить, как ваше здоровье?
– Превосходно, месье, я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала, вероятно, потому, что провела ночь не дома.
– А-а! Не дома?! – сказал Ла Моль, как-то странно посмотрев на Маргариту.
– Ну да! Что ж в этом удивительного?
– Можно ли спросить, не будучи нескромным, в каком монастыре?
– Разумеется, это не тайна: в Благовещенском. А что здесь делаете вы, да еще с таким испуганным лицом?
– Мадам, я тоже провел ночь не дома, где-то около того же монастыря, а теперь я ищу моего исчезнувшего друга и вот во время поисков нашел это перо.
– А это его перо? Меня тоже пугает его участь – место здесь недоброе.
– Ваше величество, можете успокоиться: это перо мое; я потерял его в половине шестого утра на этом месте, где на меня напали четверо разбойников и, как кажется, хотели меня убить во что бы то ни стало.
Маргарита сдержалась и ничем не выдала своего испуга.
– Вот что! Расскажите же, как было дело, – сказала она.
– Очень просто, мадам. Как я имел честь доложить вашему величеству, было часов пять утра…
– В пять часов утра, – прервала его Маргарита, – вы уже вышли из дому?
– Простите, ваше величество, я еще не был дома, – ответил Ла Моль.
– Ах, месье де Ла Моль, месье де Ла Моль, возвращаться домой в пять часов утра! Так поздно! Вы были заслуженно наказаны, – проговорила Маргарита с улыбкой, которая показалась бы лукавой всякому другому, но для Ла Моля была только обаятельной.
– Я и не жалуюсь, мадам, – ответил Ла Моль, почтительно склоняясь, – и если бы меня за это даже искромсали, я бы все-таки чувствовал себя во сто раз счастливее, чем этого заслуживал. Словом, поздно или, если угодно вашему величеству, рано я возвращался домой из одного благодатного дома, где я провел ночь, как вдруг четыре разбойника с необычайно длинными ножами выскочили из-за угла переулка Мортельри и начали меня преследовать. Это смешно, мадам, – не правда ли? – а все же мне приходилось удирать, так как я забыл шпагу в том доме, где я был.
– Ах, понимаю! – ответила Маргарита с самым простодушным видом. – Вы вернулись за вашей шпагой?
Ла Моль взглянул на Маргариту так, точно какое-то подозрение мелькнуло у него в уме.
– Мадам, я, конечно, вернулся бы туда, и очень охотно, потому что на моей шпаге был замечательный клинок, но я не знаю, где этот дом.
– Как же это так, месье? – возразила Маргарита. – Вы не знаете, в каком доме вы провели ночь?
– Нет, мадам, пусть сам сатана сотрет меня с лица земли, если я только догадываюсь, где этот дом!
– Это странно! Ваше приключение – целый роман!
– Совершенно правильно, мадам, настоящий роман!
– Расскажите.
– Это немножко длинно.
– Ничего, у меня есть время.
– А главное, он очень неправдоподобен.
– Рассказывайте, рассказывайте, я как нельзя больше легковерна.
– Это приказание вашего величества?
– Да, если оно необходимо.
– Повинуюсь. Вчера вечером, расставшись с двумя обворожительными дамами, с которыми я и мой друг провели вечер на мосту Святого Михаила, мы поужинали у мэтра Ла Юрьер.
– Прежде всего, – вполне естественно спросила Маргарита, – что это за мэтр Ла Юрьер?
– Мэтр Ла Юрьер, мадам, – ответил Ла Моль, взглянув на Маргариту все так же подозрительно, как и в первый раз, – мэтр Ла Юрьер – это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арбр-сек.
– Хорошо, мне ее видно отсюда… Итак, вы ужинали у мэтра Ла Юрьер и, конечно, вместе с вашим другом Коконнасом?
– Да, мадам, с моим другом Коконнасом. В это время вошел какой-то человек и передал каждому из нас по записке.
– Одинаковой? – спросила Маргарита.
– Совершенно одинаковой. Там была только одна строчка: «Вас ждут на улице Сент-Антуан, против улицы Жуи».
– И внизу никакой подписи? – спросила Маргарита.
– Нет, вместо подписи стояли три слова, три чарующих слова, трижды суливших одно и то же, а именно – тройное блаженство!
– Какие же три слова?
– Eros – Cupido – Amor.
– В самом деле, прелестные слова! И сдержали они то, что обещали?
– О мадам, гораздо больше, во сто раз больше!.. – восторженно сказал Ла Моль.
– Продолжайте; очень любопытно узнать, что ждало вас на улице Сент-Антуан, против улицы Жуи.
– Какие-то две дуэньи, каждая с платочком в руке, объявили, что завяжут нам глаза. Как предугадываете, ваше величество, мы не сопротивлялись и смело подставили свои головы. Моя провожатая повела меня налево, другая повела моего друга направо, и мы с ним расстались.
– А потом? – спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать все до конца.
– Не знаю, – отвечал Ла Моль, – куда повели моего друга, возможно – в ад, но меня отвели в рай.
– Из которого вас, наверно, прогнали за чрезмерное любопытство?
– Справедливо, мадам, вы замечательно прозорливы! Я с нетерпением ждал рассвета, чтобы посмотреть, где я нахожусь, но в половине пятого ко мне вошла та же дуэнья, опять завязала мне глаза, взяла с меня обещание не поднимать повязки, вывела меня на улицу, прошла со мной шагов сто, еще раз заставила меня поклясться, что я не сниму повязки, пока не сосчитаю до пятидесяти. Я сосчитал до пятидесяти… и оказался на улице Сент-Антуан, против улицы Жуи.
– А потом?..
– Потом, мадам, я шел в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых насилу отделался. И вот теперь, мадам, сердце мое радостно забилось, когда я здесь нашел обрывок моего пера; я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой благодатной ночи. Но, несмотря на мое счастливое настроение, меня мучит забота о том, что сталось с моим товарищем.
– Он разве не вернулся в Лувр?
– К сожалению, нет, мадам! Я разыскивал его всюду, где он мог быть, – и в «Путеводной звезде», и в доме для игры в мяч, и в других приличных местах, но нигде ни Аннибала, ни Коконнаса…
Говоря последние слова, Ла Моль грустно развел руками и, приоткрыв этим движением плащ, обнаружил свой колет с зияющими дырами, сквозь которые проглядывала подкладка, как в прорезях одежды тогдашних щеголей.
– Да вас изрешетили? – сказала Маргарита.
– Вот именно, изрешетили, – ответил Ла Моль, не отказываясь повысить себе цену перенесенной им опасности. – Смотрите, мадам! Видите?!
– Отчего же вы не переменили колета, когда вернулись в Лувр?
– Оттого, что в моей комнате были чужие люди, – ответил Ла Моль.
– Как они попали в вашу комнату? – спросила Маргарита с выражением изумления в глазах. – Кто же был в ней?
– Его высочество!
– Тс-с! – остановила его Маргарита.
Ла Моль замолк.
– Qui ad lecticam meam stant? – спросила по-латыни Маргарита.
– Duo pueri et unus eques.
– Optime, barbari! Die Moles, quem inveneris in cubiculo tuo?
– Franciscum ducern.
– Agentem?
– Nescio quid.
– Quocum?
– Cum ignoto. [30]
– Странно, – сказала Маргарита. – Значит, вы так и не нашли своего друга? – продолжала она, видимо, совершенно не думая о том, что говорит.
– Вот почему, мадам, как я уже имел честь доложить вашему величеству, я просто изнываю от беспокойства.
– Тогда я не стану больше отвлекать вас от ваших розысков, – вздохнув, сказала Маргарита. – Но почему-то мне думается, что он найдется сам собой! Впрочем, поищите.
Сказав это, королева приложила палец к губам. Поскольку красавица королева не поведала Ла Молю никакой тайны, ни в чем не призналась, молодой человек рассудил, что этот очаровательный жест был сделан не с целью предписать ему молчание, а имел какое-то другое значение.
Процессия двинулась дальше, а Ла Моль, продолжая свои розыски, направился по набережной к улице Лон-Пон и вышел на улицу Сент-Антуан. Против улицы Жуи он остановился.
Вчера, как раз на этом месте, две дуэньи завязали глаза ему и Коконнасу. Он повернул влево и очутился перед домом, вернее – перед забором, за которым стоял дом; в заборе была дверь с навесом, обитая большими гвоздями, и с ружейными бойницами по сторонам.
Дом выходил в переулок Клош-Персе, между улицей Сент-Антуан и улицей Руа-де-Сисиль.
«Ей-ей, это здесь… готов поклясться!.. Когда я выходил, я протянул руку и нащупал совершенно такие гвозди на двери, потом я спустился по двум ступенькам. Еще когда я опустил только одну ногу на первую ступеньку, пробежал какой-то человек с криком: «Помогите!» – и его убили на улице Руа-де– Сисиль».
Ла Моль подошел к двери и постучал. Дверь отворил какой-то усатый привратник.
– Was ist das? [31] – спросил он по-немецки.
«Ага! Оказывается, мы швейцарцы», – подумал Ла Моль и, самым обворожительным образом обращаясь к привратнику, сказал:
– Друг мой, я бы хотел взять свою шпагу, которую оставил в этом доме, где я ночевал!
– Ich verstehe nicht! [32] – ответил привратник.
– Шпагу… – повторил Ла Моль.
– Ich verstehe nicht, – повторил привратник.
– Которую я оставил… Шпагу, которую я оставил…
– Ich verstehe nicht…
– В этом доме, где я ночевал.
– Gehe zum Teufel!.. [33] – ответил привратник и захлопнул перед его носом дверь.
– Черт возьми! – сказал Ла Моль. – Будь со мной шпага, я с удовольствием проткнул бы тушу этого прохвоста… Но раз ее нет, придется отложить до другого раза.
Затем Ла Моль прошел до улицы Руа-де-Сисиль, свернул направо, сделал шагов пятьдесят, еще раз повернул направо и очутился в переулке Тизон, параллельном переулку Клош– Персе и совершенно похожем на него. Больше того: не сделал он и тридцати шагов, как снова наткнулся на калитку, обитую большими гвоздями, с навесом и бойницами и с лестницей в две ступеньки, – точно переулок Клош-Персе повернулся передом назад, чтобы еще раз взглянуть на проходившего Ла Моля.
Ла Моль подумал, что он вчера мог ошибиться и принять правую сторону за левую, поэтому он подошел к двери и постучал, собираясь заявить то же, что и у первой двери. Но на этот раз он стучал тщетно – дверь даже не открыли.
Ла Моль раза три проделал тот же путь и пришел к выводу, что дом имел два входа: один – из переулка Клош-Персе, другой – из переулка Тизон.
Однако это рассуждение при всей его логичности не возвращало ему шпаги и не указывало, где его друг.
На одну минуту у него мелькнула мысль купить другую шпагу и проткнуть мерзкого привратника, не желавшего говорить иначе как по-немецки; но ему тут же пришло в голову, что, может быть, этот привратник служит у Маргариты, а если Маргарита выбрала именно такого, значит, у нее были на это основания, и, следовательно, ей будет неприятно его лишиться. Ла Моль же ни за какие блага в мире не стал бы делать что-нибудь неприятное для Маргариты.
Боясь все же поддаться искушению, он около двух часов дня вернулся в Лувр. На этот раз комната его была не занята, и он беспрепятственно вошел к себе. Надо было спешно сменить колет, который, как заметила ему королева, был основательно попорчен. Поэтому он прямо направился к постели, чтобы вместо изорванного колета надеть красивый жемчужно-серый. Но, к своему величайшему изумлению, первое, что он увидел, была лежавшая рядом с колетом шпага – та самая, которую он оставил в переулке Клош-Персе.
Ла Моль взял ее в руки, повертел на все лады: да, это была его шпага!
– Э-э! Уж нет ли тут какого-нибудь колдовства? – сказал он и со вздохом добавил: – Ах, если б и Коконнас нашелся так же, как моя шпага!
Спустя два-три часа после того, как Ла Моль перестал кружить вокруг да около двуликого дома, калитка с переулка Тизон отворилась. Было около пяти часов вечера, а следовательно – уже темно.
Женщина, закутанная в длинную, отороченную мехом мантилью, вышла в сопровождении служанки из калитки, открытой для нее дуэньей лет сорока, быстро проскользнула на улицу Руа-де-Сисиль, постучала в заднюю дверь какого-то особняка, выходившую в переулок д’Аржансон, вошла в нее, затем вышла через главный вход этого же особняка на улицу Вьей-Рю-дю-Тампль, проследовала до задней двери в доме Гизов, вынула из кармана ключ, открыла дверь и скрылась.
Через полчаса из той же калитки маленького домика вышел молодой человек с завязанными глазами, которого вела за руку какая-то женщина. Она вывела его на угол между улицами Жоффруа-Ланье и Мортельри, где она попросила его сосчитать до пятидесяти и только тогда снять повязку.
Молодой человек точно выполнил указание и, после того как сосчитал до пятидесяти, снял с глаз повязку.
– Дьявольщина! – сказал он, оглядываясь кругом. – Пусть меня повесят, если я знаю, где я! Уже шесть часов! – воскликнул он, услышав бой часов на соборе Парижской Богоматери. – А что сталось с беднягой Ла Молем? Побегу в Лувр, может быть, там что-нибудь узнаю про него.
С этими словами Коконнас пустился бегом по улице Мортельри и добежал до ворот Лувра быстрее лошади; он растолкал и разметал движущуюся преграду из почтенных горожан, которые мирно разгуливали около лавочек на площади Бодуайе, и вошел в Лувр.
Там он расспросил солдата-швейцарца и часового. Швейцарец как будто видел утром выходившего Ла Моля, но не заметил, вернулся ли он в Лувр. Часовой сменился только полтора часа тому назад и ничего не знал.
Коконнас взбежал к себе наверх и стремительно распахнул дверь; в комнате валялся только колет Ла Моля, но весь изодранный, и это усилило тревогу пьемонтца.
Тогда Коконнас вспомнил о Ла Юрьере и побежал в гостиницу «Путеводная звезда». Оказалось, что Ла Моль завтракал у Ла Юрьера. Наконец Коконнас успокоился и, сильно проголодавшись, попросил дать ему ужинать. У Коконнаса были две необходимые предпосылки, чтобы хорошо поужинать: спокойствие духа и пустой желудок; поэтому он ужинал до восьми часов вечера. Пьемонтец подкрепился двумя бутылками легкого анжуйского вина, которое очень любил, и потягивал его с большим чувством, что выражалось в подмигивании глазом и прищелкивании языком. Подкрепившись, он отправился разыскивать Ла Моля и, продираясь снова сквозь толпу, усердно действовал пинками и кулаками, соответственно чувству дружбы, усиленному хорошим настроением, какое обычно наступает после еды.
Новая разведка заняла целый час; за это время Коконнас побывал на всех улицах по соседству с Гревской набережной, на Угольной пристани, на улице Сент-Антуан, в переулке Тизон и в переулке Клош-Персе, куда, как он думал, мог вернуться его друг. Наконец он сообразил, что есть одно место, где Ла Моль должен пройти непременно, а именно – пропускные ворота в ограде Лувра; поэтому он решил пойти к воротам и ждать там возвращения Ла Моля.
Не доходя всего ста шагов до Лувра, на площади Сен-Жермен-л’Озеруа Коконнас сшиб с ног какую-то супружескую пару и остановился, чтобы помочь супруге встать на ноги, как вдруг увидел в мутном свете фонаря, висевшего над подъемным мостом Лувра, бархатный вишневый плащ и белое перо своего друга, проходившего под опускной решеткой входных ворот и отвечавшего жестом на салют часового.
Пресловутый вишневый плащ так запечатлелся у всех в глазах, что ошибиться было невозможно.
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Наконец он идет домой! Эй! Ла Моль! Эй, дружище! Что за черт? Голос у меня как будто сильный. Почему же он меня не слышит? Но у меня ноги не слабее голоса, сейчас я догоню его.
С этим намерением пьемонтец пустился бежать во все лопатки и через минуту был у Лувра; но быстрота его ног не помогла, и когда он ступил одной ногой во двор Лувра, вишневый плащ, видимо, тоже очень торопившийся, успел скрыться в вестибюле.
– Эй, Ла Моль! – крикнул пьемонтец, снова бросаясь бежать. – Подожди! Это я, Коконнас! Какого черта ты так бежишь? Уж не от меня ли ты удираешь?
В самом деле, вишневый плащ не взошел, а точно на крыльях взлетел на третий этаж.
– А-а! Ты не хочешь подождать? Ты недоволен мной? Ты рассердился на меня? Ладно! Ну и ступай к черту! А я больше не могу.
Все это Коконнас выкрикивал внизу у лестницы, но, отказавшись следовать за беглецом ногами, он продолжал следить за ним глазами на поворотах лестницы, вплоть до того этажа, где находились покои королевы Маргариты, и вдруг заметил, что из них вышла какая-то женская фигура и взяла за руку того, кого преследовал пьемонтец.
– Ого! – произнес Коконнас. – Она очень смахивает на королеву Маргариту. Его ждали. Тогда другое дело; понятно, что он мне не ответил.
Коконнас перегнулся через перила и, глядя в просвет лестницы, увидел, что вишневый плащ после каких-то тихо сказанных ему слов пошел за королевой в ее покои.
– Ладно! Ладно! Так и есть, – сказал Коконнас, – я, значит, не ошибся. Бывают случаи, когда присутствие даже лучшего друга некстати, и как раз такой случаи оказался у моего милого Ла Моля.
Коконнас тихо поднялся по лестнице и уселся на бархатной скамье, стоявшей на площадке.
– Тогда я не пойду за ним, а подожду здесь… Да, но если, как я думаю, он у королевы Наваррской, я могу прождать долго… А холодно, дьявольщина! Лучше я подожду его у нас в комнате. Поселись в ней сам черт, а Ла Молю не миновать в нее вернуться.
Едва он произнес эти слова и встал, чтобы осуществить свое намерение, как над его головой послышались легкие бодрые шаги, сопровождаемые песенкой, настолько любимой его другом, что Коконнас тотчас же вытянул шею в ту сторону, откуда слышались шаги и песенка. Это шел действительно Ла Моль из своей комнаты, а увидев Коконнаса, запрыгал через четыре ступеньки по маршам лестницы, отделявшим его от друга, и наконец бросился в его объятия.
– Дьявольщина! Так это ты? – сказал Коконнас. – Какой черт и откуда тебя вывел?
– Из переулка Клош-Персе?
– Да нет! Я говорю не про тот дом…
– А откуда же?
– От королевы.
– От королевы?
– От королевы Наваррской.
– Я туда и не входил.
– Рассказывай!
– Дорогой мой Аннибал, ты бредишь! Я иду из нашей комнаты, где ждал тебя целых два часа.
– Из нашей комнаты?
– Да.
– Значит, я гнался по Луврской площади не за тобой?
– Когда?
– Только что.
– Нет.
– Это не ты сейчас проходил под опускной решеткой входных ворот?
– Нет.
– Не ты сейчас взлетел по лестнице, точно за тобой гнался легион чертей?
– Нет.
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Вино в «Путеводной звезде» не настолько забористое, чтобы так замутить мне голову. Говорю тебе, я только что видел в воротах Лувра твой вишневый плащ и твое белое перо, гнался за тем и за другим вплоть до этой лестницы, а твой плащ, твое перышко и самого тебя вместе с твоей размашистой рукой ждала здесь какая-то дама, по моему сильному подозрению – королева Наваррская, которая все это увлекла за собой вон в ту дверь, ведущую, если не ошибаюсь, к этой прекрасной Маргарите.
– Черт! Уже измена? – сказал Ла Моль, бледнея.
– Ну и отлично! – ответил Коконнас. – Ругайся, сколько хочешь, только не говори, что я вру.
Ла Моль схватился за голову и стоял одну минуту в нерешительности, колеблясь между чувством уважения и чувством ревности, но ревность взяла верх: он бросился к двери и начал колотить в нее изо всех сил, производя шум, совсем не подобающий жилищу высочайших особ.
– Мы добьемся, что нас арестуют, – сказал Коконнас, – но все равно, это забавно. Слушай, Ла Моль, а нет ли в Лувре привидений?
– Не знаю, – ответил Ла Моль, белый, как нависшее над его лбом перо, – но мне всегда очень хотелось посмотреть на какое-нибудь привидение; теперь такой случай мне представился, и я сделаю все возможное, чтобы встретиться с этим привидением лицом к лицу.
– Я не возражаю, – сказал Коконнас, – только стучи потише, если не хочешь его спугнуть.
Ла Моль, несмотря на свое отчаяние, понял справедливость замечания своего друга и начал стучать потише.
VII. Вишневый плащ
Коконнас не ошибся. Дама, остановившая молодого человека в вишневом плаще, была действительно королева Наваррская, а кто был молодой человек в вишневом плаще – я думаю, читатель догадался и признал в нем храброго де Муи.
Узнав королеву Наваррскую, юный гугенот заподозрил, что вышла какая-то ошибка, но не решился ничего сказать из опасения, что Маргарита вскрикнет и этим его выдаст. Он решил пройти с ней в комнаты и уже там сказать своей прекрасной проводнице: «Мадам, молчание за молчание!»
Маргарита тихонько пожала руку тому, кого в полумраке принимала за Ла Моля, и, нагнувшись к его уху, сказала по-латыни:
– Sola sum; introite, carissime. [34]
Де Муи, не отвечая, последовал за ней; но едва затворилась за ним дверь и он очутился в передней, освещенной лучше, чем лестница, Маргарита тотчас увидела, что это не Ла Моль. Произошло то, чего он опасался, – Маргарита тихо вскрикнула; к счастью, теперь это было не опасно.
– Месье де Муи?! – сказала она, отступая от него на шаг.
– Он самый, мадам, и молю ваше величество дать мне возможность свободно продолжать мой путь и никому не говорить о моем присутствии в Лувре.
– Я ошиблась, месье де Муи, – сказала Маргарита.
– Да, понимаю, – ответил де Муи, – ваше величество приняли меня за короля Наваррского – тот же рост, такое же белое перо и, как говорили желавшие польстить мне люди, такие же манеры.
Маргарита пристально взглянула на де Муи.
– Месье де Муи, вы знаете по-латыни? – спросила она.
– Когда-то знал, – отвечал молодой человек, – но забыл.
Маргарита улыбнулась.
– Месье де Муи, вы можете быть спокойны относительно моего молчания. А кроме того, мне кажется, что я знаю имя человека, ради которого вы пришли в Лувр, и могу предложить вам свои услуги, чтобы провести вас безопасно к этой особе.
– Извините меня, мадам, – ответил де Муи, – я думаю, что вы ошибаетесь и вам совершенно неизвестно, кого…
– Как! – воскликнула королева Маргарита. – Разве вы пришли не к королю Наваррскому?
– Нет, мадам, – ответил де Муи, – и мне очень грустно просить вас, чтобы вы скрыли мое присутствие здесь, в Лувре, особенно от его величества, вашего супруга.
– Послушайте, месье де Муи, – изумленно заговорила Маргарита, – до сих пор я вас считала одним из самых надежных гугенотских вождей, одним из самых верных сторонников моего супруга, короля Наваррского, – значит, я ошибалась?
– Нет, мадам, еще сегодня утром я был всецело таким, как вы сказали.
– А по какой причине все это с сегодняшнего утра изменилось?
– Мадам, – отвечал, почтительно склоняясь, де Муи, – будьте добры избавить меня от ответа и милостиво разрешите с вами попрощаться.
И де Муи с почтительным видом, но решительно сделал несколько шагов к двери, в которую вошел.
Маргарита остановила его:
– Тем не менее, месье, я решаюсь попросить вас кое-что мне разъяснить; думаю, что данное мной слово заслуживает веры?
– Мадам, я обязан молчать, – ответил де Муи, – и если я до сих пор не ответил вам, то, значит, делать этого нельзя.
– И все-таки, месье…
– Ваше величество имеете возможность погубить меня, но не можете требовать, чтобы я предал новых моих друзей.
– А разве прежние друзья не имеют на вас прав?
– Те, кто остался верен нам, – да; те же, кто не только отрекся от нас, но отрекся и от самого себя, – нет.
Маргарита встревожилась, задумалась и, вероятно, ответила бы новыми вопросами, как вдруг вбежала в комнату Жийона.
– Король Наваррский! – крикнула она.
– Где он идет?
– Потайным ходом.
– Выпустите гостя в другую дверь.
– Нельзя, мадам, нельзя. Слышите?
– Стучатся?
– Да, и как раз в ту дверь, куда ваше величество приказываете выпустить вашего гостя.
– А кто стучится?
– Не знаю.
– Пойдите посмотрите – кто и вернитесь мне сказать.
– Мадам, осмелюсь заметить вашему величеству, – сказал де Муи, – что, если король Наваррский увидит меня в Лувре в этот час и в таком костюме, – я погиб!
Маргарита схватила за руку де Муи и повела его к пресловутому кабинету.
– Войдите сюда, месье, – сказала она. – Вы будете там скрыты и вне опасности, как у себя дома, мое честное слово будет вам порукой.
Де Муи вскочил в кабинет, и едва закрылась за ним дверь, как вошел Генрих.
На этот раз Маргарита, спрятав де Муи, не испытывала никакой тревоги: она была только мрачна, и ее мысли витали очень далеко от любовных дел.
Генрих Наваррский вошел с той чуткой настороженностью, благодаря которой он замечал малейшие подробности даже в самые мирные моменты своей жизни, а уж тем более глубоким наблюдателем он становился в обстоятельствах, подобных тем, какие создались теперь. Поэтому он сразу же заметил мрачное облако, набежавшее на лицо королевы Маргариты.
– Вы заняты, мадам? – спросил он.
– Я? Да, сир, я раздумывала.
– И хорошо делали, мадам: раздумье вам идет. Я тоже раздумывал; но, в противоположность вам, я ищу не одиночества, а нарочно пришел к вам, чтобы поделиться моими думами.
Маргарита приветливо ему кивнула и указала на кресло, сама же села на резной стул черного дерева, твердого как сталь.
Между супругами наступила минута молчания; Генрих Наваррский первый его нарушил, сказав:
– Мадам, я вспомнил, что мои и ваши думы о будущем связаны между собою; несмотря на наше раздельное существование как супругов, мы оба выразили желание соединить наши судьбы.
– Верно, сир.
– Мне думается, я верно понял также то, что во всех планах, какие я намечу для возвышения нас обоих, я найду в вас союзника не только верного, но и действенного.
– Да, сир, я и прошу лишь об одном, а именно: чтобы вы как можно скорее приступили к делу и дали бы мне возможность уже теперь принять в нем участие.
– Мадам, я очень счастлив, если у вас такие настроения, и, как мне кажется, вы ни одной минуты не считали меня способным забыть план, который я себе составил в тот день, когда я был почти уверен, что останусь жив благодаря вашему мужественному заступничеству.
– Месье, я думаю, что вся ваша беспечность – маска, я верю не только в предсказания астрологов, но и в ваши дарования.
– А что бы вы, мадам, сказали, если бы кто-нибудь встал поперек нашего пути и грозил обречь нас обоих на жалкое существование?
– Скажу, что я готова совместно с вами бороться открыто или тайно против этого кого-то, кто бы он ни был.
– Мадам, у вас ведь есть возможность проникнуть в любое время к вашему брату, герцогу Алансонскому? Вы пользуетесь его доверием, и он питает к вам горячие дружеские чувства. Что, если бы я осмелился обратиться к вам с просьбой узнать, не занят ли ваш брат тайным совещанием с кем-нибудь как раз в данную минуту?
Маргарита вздрогнула.
– С кем же, сир?
– С де Муи.
– Зачем это нужно?
– Затем, что если это так, то прощайте все наши планы! Во всяком случае – мои.
– Сир, говорите тише, – сказала Маргарита, делая ему соответствующий знак глазами и указывая пальцем на кабинет.
– Ого! Опять там кто-то есть? – сказал Генрих. – Честное слово, в этом кабинете так часты постояльцы, что ваша комната напоминает какой-то постоялый двор.
Маргарита улыбнулась.
– Надеюсь, что это по-прежнему Ла Моль? – спросил Генрих.
– Нет, сир, это де Муи.
– Он? – воскликнул Генрих, одновременно изумленный и обрадованный. – Так, значит, он не у герцога Алансонского? Ведите же его сюда, я с ним поговорю…
Маргарита побежала к кабинету, отворила дверь и, взяв де Муи за руку, без всяких рассуждений привела к королю Наваррскому.
– Ах, мадам, – сказал молодой человек с упреком, звучавшим скорее грустно, чем язвительно, – вы предаете меня, нарушив ваше слово! Это нехорошо. Что бы сказали вы, если бы я вздумал за это отомстить вам, рассказав…
– Мстить вы не будете, де Муи, – прервал его Генрих, пожимая ему руку, – во всяком случае, сначала выслушайте, что я скажу. Мадам, – обратился Генрих к королеве, – прошу вас, позаботьтесь, чтобы никто нас не подслушал.
Генрих только успел сказать последнее слово, как вошла перепуганная Жийона и сказала Маргарите на ухо нечто такое, от чего она вскочила со стула и побежала за Жийоной. В это время Генрих, не обращая внимания на то, что вызвало Маргариту из ее комнаты, осмотрел кровать, проход между кроватью и стеной, обои и выстукал пальцем стены. Де Муи, напуганный такими подготовительными действиями, также приготовился, попробовав, свободно ли выходит шпага из ножен.
Маргарита, выйдя из спальни, бросилась в переднюю и столкнулась лицом к лицу с Ла Молем, желавшим во что бы то ни стало пройти к королеве Маргарите, несмотря на все уговоры Жийоны.
За Ла Молем стоял Коконнас, готовый помочь ему пройти вперед или прикрыть отступление.
– А-а! Это вы, месье де Ла Моль! – воскликнула королева. – Но что с вами? Почему вы так бледны и так дрожите?
– Мадам, – сказала Жийона, – месье де Ла Моль так сильно стучал в дверь, что я, вопреки приказанию вашего величества, была вынуждена отворить.
– Ого! Это что такое? – строго спросила королева. – Она сказала правду, месье де Ла Моль?
– Мадам, дело в следующем: я хотел предупредить ваше величество, что какой-то незнакомец, кто-то чужой, быть может вор, проник к вам в моем плаще и в моей шляпе.
– Вы сошли с ума, месье! На ваших плечах я вижу ваш плащ, и да простит мне бог, если я не вижу вашей шляпы у вас на голове, хотя вы разговариваете с королевой.
– О, простите меня, мадам, прошу вас! – воскликнул Ла Моль, срывая с себя шляпу. – Бог мне свидетель, это не от недостатка уважения!
– Нет? А от недостатка доверия, не так ли? – сказала королева.
– Что же делать, – ответил Ла Моль, – когда у вашего величества находится мужчина, который проник к вам, прикрываясь моим костюмом, а может быть – кто знает? – и моим именем…
– Мужчина! – повторила Маргарита, нежно сжимая руку несчастному влюбленному. – Мужчина!.. Вы очень скромны, месье де Ла Моль. Загляните в щелку между портьерой и стеной, и вы увидите не одного, а двух мужчин.
Маргарита немного отодвинула бархатную, шитую золотом портьеру, и Ла Моль увидел Генриха Наваррского, беседующего с человеком в вишневом плаще. Коконнас, принимавший участие в этом деле, как будто оно касалось его самого, тоже заглянул и узнал де Муи. Оба друга были ошеломлены.
– Теперь, когда вы успокоились, как я надеюсь, – сказала Маргарита, – встаньте у входной двери и не пускайте, милый мой Ла Моль, никого, хотя бы ценой вашей жизни. Если кто-нибудь подойдет даже к площадке лестницы, дайте знать.
Безвольно и покорно, как ребенок, Ла Моль вышел, переглядываясь с пьемонтцем, и оба стали перед закрытой дверью, все еще озадаченные происшедшим.
– Де Муи! – недоумевая, сказал Коконнас.
– Генрих! – прошептал Ла Моль.
– Де Муи – в таком же вишневом плаще, с таким же белым пером, как у тебя, и так же размахивает рукой, как ты.
– Да, но… раз тут дело не в любви, то, несомненно, в каком-нибудь заговоре, – сказал Ла Моль.
– Ах, дьявольщина! Вот мы и влипли в политику, – проворчал Коконнас. – Хорошо, что в этом не замешана герцогиня Невэрская.
Маргарита вернулась к себе в комнату и села рядом с двумя собеседниками; отсутствие ее длилось не более минуты, и она хорошо воспользовалась этим временем: Жийона на страже у потайного хода и два дворянина на часах у главного входа были порукой полной безопасности.
– Мадам, как вы думаете, могут ли нас подслушать?
– Месье, эта комната обита войлоком, и в ней двойная деревянная обшивка, все это обеспечивает ее непроницаемость для слуха.
– Я полагаюсь в этом отношении на вас, – с улыбкой ответил Генрих.
Затем, обернувшись к де Муи, он шепотом, как будто у него еще остались опасения, несмотря на уверения Маргариты, сказал:
– Послушайте, зачем вы здесь?
– Здесь? – переспросил де Муи.
– Да, здесь, в этой комнате?
– Здесь он ни за чем, – ответила Маргарита, – это я его затащила.
– Вы, значит, знали?..
– Я догадалась обо всем.
– Вот видите, де Муи, оказывается, можно было догадаться.
– Сегодня утром месье де Муи и герцог Франсуа были в комнате двух дворян герцога.
– Вот видите, де Муи, все известно.
– Это правда, – ответил де Муи.
– Я был уверен, – сказал Генрих, – что герцог Алансонский завладеет вами.
– Это ваша вина, сир. Почему вы так упорно отвергали все, что я вам ни предлагал?
– Вы отвергли?! – воскликнула Маргарита. – Так я и думала!
– И вы, мадам, – ответил Генрих, покачав головой, – и вы, мой храбрый де Муи, ей-богу, вы меня смешите вашими негодующими восклицаниями. Подумайте! Входит человек и предлагает трон, восстание, переворот – кому? Мне, Генриху, королю, которого терпят только потому, что он покорно склонил голову, гугеноту, которого пощадили только при условии, что он будет разыгрывать католика! И после этого мне согласиться на ваши предложения, сделанные у меня в комнате, не обитой войлоком и без двойной обшивки? Святая пятница! Вы или безумцы, или дети!
– Но, сир, разве вы не могли подать мне какую-нибудь надежду, если не словами, то жестом, знаком?
– Де Муи, о чем с вами говорил мой шурин? – спросил Генрих.
– Сир, это тайна не моя.
– Ах, боже мой! – произнес Генрих, досадуя на то, что приходится иметь дело с человеком, так плохо понимающим его слова. – Да я не спрашиваю вас, какие он вам делал предложения, я только спрашиваю, выслушал ли и понял ли он вас?
– Он выслушал и понял, сир.
– Выслушал и понял! Вы это сказали сами, де Муи! Плохой вы заговорщик! Скажи я слово – и вы погибли. Я, разумеется, не знал наверно, но подозревал, что где-то рядом был он, а если не он, так герцог Анжуйский, Карл Девятый или королева-мать; вы, де Муи, не знаете стен Лувра, это о них сложилась поговорка: «У стен есть уши», а вы хотите, чтобы я, хорошо знающий эти стены, проболтался! Помилосердствуйте, де Муи, вы невысокого мнения об уме короля Наваррского! И я поражаюсь тому, что вы, так плохо думая о Генрихе Наваррском, явились предлагать ему корону.
– Но, сир, – возразил де Муи, – когда вы отказывались от короны, вы же могли подать мне знак. Тогда бы я не пришел в полное отчаяние, не считал бы все потерянным!
– Эх, святая пятница! – воскликнул Генрих. – Если он подслушивал, то мог и подглядывать, а погубить себя можно не только словом, но и знаком! Послушайте, де Муи, – продолжал король, оглядываясь, – даже сейчас, сидя с вами рядом, сдвинув стул со стулом, я все же опасаюсь, не слышат ли меня другие. Де Муи, повтори мне свои предложения.
– Сир, – в отчаянии воскликнул де Муи, – теперь я уже связан с герцогом Алансонским!
Маргарита с досадой всплеснула своими прекрасными руками.
– Значит, слишком поздно? – сказала она.
– Наоборот, – прошептал Генрих, – поймите, что в этом нам покровительствует сам бог. Де Муи, продолжай свою связь с герцогом Франсуа, ибо он будет спасением для всех нас. Неужели ты воображаешь, что целость ваших голов обеспечит король Наваррский? Наоборот, из-за меня вас перебьют всех до одного и по малейшему подозрению. А принц Франции – совсем другое дело! Добудь улики его участия, потребуй от него гарантий; я вижу, ты простак: ты входишь в обязательства так, по душам, и тебе довольно одних слов!
– О сир! Поверьте мне, в его объятия бросили меня только отчаяние от вашего отказа и страх, что герцог владеет нашей тайной.
– Владей и ты своею, де Муи, это уже зависит от тебя. К чему стремится он? Стать королем Наварры? Обещай ему корону. Чего он хочет? Покинуть здешний двор? Предоставь ему возможность бежать отсюда. Работай для него так, как если б ты работал для меня, действуй этим щитом так, чтобы все удары, которые нам будут наносить, отражал он. Когда настанет время удирать отсюда, мы удерем оба; когда настанет время царствовать и драться, я буду царствовать один.
– Остерегайтесь герцога, – добавила Маргарита, – он человек темный и проницательный, не знающий ни чувства ненависти, ни чувства дружбы, способный в любое время отнестись к друзьям, как к врагам, и к врагам, как к друзьям.
– Он ждет вас, де Муи? – спросил Генрих.
– Да, сир.
– Где?
– В комнате его дворян.
– В котором часу?
– В полночь.
– Еще нет одиннадцати, – сказал Генрих, – но не надо терять времени. Идите, де Муи.
– Месье, вы дали нам честное слово, – заметила Маргарита.
– О мадам! – сказал Генрих с тем доверием, которое он так хорошо умел оказывать определенным лицам в определенных обстоятельствах. – С де Муи о таких вещах не говорят.
– Вы правы, сир, – ответил молодой человек, – но мне необходимо ваше слово, так как я должен сказать нашим вождям, что вы мне его дали. Ведь вы же не католик, нет?
Генрих пожал плечами.
– Вы не отказываетесь от наваррского престола?
– Я не отказываюсь ни от какого престола, де Муи, но оставляю за собой право выбрать лучший, то есть такой, который больше подойдет и мне и вам.
– А если за это время ваше величество арестуют, ваше величество обещаете ничего не выдавать, даже в том случае, если не посчитаются с вашим королевским званием и подвергнут пытке?
– Клянусь богом, де Муи!
– Еще одно слово, сир: как я буду встречаться с вами?
– С завтрашнего дня у вас будет ключ от моей комнаты: вы будете приходить туда всякий раз, когда найдете нужным, в любой час, а уж дело герцога Алансонского отвечать за ваши появления в Лувре. Теперь поднимитесь наверх по маленькой лесенке, я вас провожу, а в это время королева приведет сюда другой вишневый плащ, недавно заходивший в ее переднюю. Не надо, чтобы вас с ним стали различать и знали, что вас двое, – верно, де Муи? Верно, мадам?
Генрих произнес последние слова, смеясь и поглядывая на Маргариту.
– Да, – ответила она спокойно, – тем более что месье де Ла Моль состоит при моем брате, герцоге.
– Так постарайтесь перетянуть его на нашу сторону, мадам, – самым серьезным тоном сказал Генрих. – Не жалейте ни золота, ни обещаний. Все мои сокровища к его услугам.
– Раз это ваше желание, – ответила Маргарита с улыбкой, свойственной лишь женщинам Боккаччо, – я приложу все свои силы, чтобы его исполнить.
– Отлично, мадам, отлично! А вы, де Муи, идите к герцогу, опутайте его.
VIII. Маргарита
Пока шел разговор между Генрихом, де Муи и Маргаритой, Ла Моль и Коконнас стояли на часах у двери, Ла Моль – немного грустный, Коконнас – слегка встревоженный.
У Ла Моля было время пораздумать, Коконнас ему помог.
– Что думаешь ты, друг, обо всем этом? – спросил Ла Моль.
– Я думаю, – отвечал пьемонтец, – что это все дворцовая интрига.
– А если придется, ты примешь в ней участие?
– Дорогой мой, – отвечал Коконнас, – выслушай внимательно, что я тебе скажу, и постарайся извлечь из этого пользу. Во всех этих интригах всяких принцев, во всех этих королевских кознях мы можем, и в особенности мы, только промелькнуть как тени; там, где король Наваррский потеряет кусок пера от своей шляпы, а герцог Алансонский – пряжку от плаща, мы потеряем жизнь. Для королевы ты лишь прихоть, а королева для тебя – одна мечта, не больше. Сложи голову за любовь, но не за политику.
Совет был мудрый. Ла Моль выслушал его печально, как человек, который сознает, что, стоя на распутье между безрассудством и рассудком, он изберет путь безрассудства.
– Для меня королева – не мечтанье, Аннибал. Я люблю ее, и – на счастье или на несчастье – люблю всей душой. Ты скажешь, это безрассудство! Допускаю, что это так и я безумец. Но ты, Коконнас, благоразумный человек. Ты не должен страдать из-за моих глупостей и моей злой судьбы. Ступай к своему герцогу и не порти себе жизнь.
Коконнас, с минуту подумав, поднял голову и ответил:
– Дорогой мой, все, что ты говоришь, совершенно справедливо; ты влюблен, так и действуй, как влюбленный. Я же честолюбив и, как честолюбец, думаю, что жизнь дороже поцелуя женщины. Если мне придется рисковать жизнью, то я поставлю свои условия. И ты, бедный мой Медор, постарайся тоже поставить свои условия.
С этими словами Коконнас протянул Ла Молю руку и ушел, обменявшись с ним последним взглядом и последней улыбкой.
Минут через десять после его ухода дверь отворилась, из нее, осторожно оглядываясь, вышла Маргарита, взяла Ла Моля за руку, не говоря ни слова, отвела его в самую отдаленную от потайного хода комнату и сама затворила двери с особой тщательностью, что указывало на все значение предстоящего разговора.
Войдя в комнату, она остановилась, потом села на стул черного дерева и, крепко взяв за руки Ла Моля, привлекла его к себе.
– Теперь, мой милый друг, когда мы одни, – сказала она, – поговорим серьезно.
– Серьезно, мадам? – спросил Ла Моль.
– Или любовно; вам это больше нравится? Серьезные вопросы могут быть и в любви, особенно в любви королевы.
– Побеседуем в таком случае о вещах серьезных, но с условием, что ваше величество не будете сердиться на меня, если я стану говорить с вами безрассудно.
– Я буду сердиться только на одно, Ла Моль: если вы будете называть меня мадам или ваше величество. Для вас, мой дорогой, я просто Маргарита.
– Да, Маргарита! Да, жемчужина моя! – воскликнул молодой человек, глядя на королеву страстным взглядом.
– Вот так лучше! – сказала Маргарита. – Итак, вы ревнуете, мой красавец?
– О, до потери рассудка!
– Еще как?..
– До безумия!
– К кому же вы ревнуете?
– Ко всем.
– А все-таки?
– Во-первых, к королю.
– После того что вы видели и слышали, мне думается, на этот счет вы могли быть спокойны.
– Затем к де Муи, которого я видел сегодня утром в первый раз, а уже сегодня вечером он оказался очень близким вам человеком.
– К де Муи?
– Да.
– Откуда у вас такие подозрения?
– Выслушайте меня… я узнал его по росту, по цвету волос, по моему непроизвольному чувству ненависти! Ведь это он сегодня утром был у герцога Алансонского?
– Хорошо, но какое же это имеет отношение ко мне?
– Герцог Алансонский ваш брат, и, говорят, вы очень его любите; вы, вероятно, намекнули ему на потребности вашего сердца, а он, по придворному обычаю, пошел навстречу вашему желанию и подослал к вам де Муи. Было ли только счастливой для меня случайностью то, что король Наваррский оказался здесь одновременно с ним? Не знаю. Но, во всяком случае, мадам, будьте со мной откровенны: такая любовь, как моя, сама по себе имеет право на откровенность. Вы видите, я у ваших ног. Если то, что вы чувствуете ко мне, лишь прихоть, я возвращаю вам ваше слово, ваше обещание, вашу любовь, возвращаю герцогу Алансонскому его милостивое отношение ко мне и мою должность дворянина при его особе и еду искать смерти под стенами осажденной Ла-Рошели, если любовь не убьет меня раньше, чем я туда попаду!
Маргарита с улыбкой слушала эти пленительные слова, любуясь его движениями, полными изящества; потом задумчиво склонила свою красивую голову на руки и спросила:
– Вы любите меня?
– О мадам! Больше жизни, больше спасения моей души, больше всего на свете! А вы, вы… меня не любите.
– Несчастный безумец! – прошептала она.
– Да, да, мадам, – воскликнул Ла Моль, стоя на коленях, – я говорил вам, что я безумец!
– Итак, дорогой Ла Моль, главная цель вашей жизни – любовь?
– Только одна-единственная, мадам.
– Хорошо, пусть будет так! Все остальное я постараюсь сделать дополнением к этой любви. Вы меня любите, вы хотите остаться близ меня?
– Я молю бога только об одном – никогда не разлучать меня с вами.
– Хорошо! Вы не расстанетесь со мной, Ла Моль, вы мне необходимы.
– Я вам необходим? Солнцу необходим светляк?
– Если я вам скажу, что я люблю вас, будете ли вы мне преданы всецело?
– А разве я уже не предан вам, мадам, весь, целиком?
– Да, но у вас все еще есть какие-то сомнения.
– О, я виноват, неблагодарен, или, вернее – как я уже сказал, а вы согласились, – я безумец! Но зачем месье де Муи был у вас сегодня вечером? Почему я его видел сегодня утром у герцога Алансонского? К чему этот вишневый плащ, это белое перо, это старание подражать моим манерам? Ах, мадам, я действительно подозреваю, но не вас, а вашего брата!
– Несчастный! – сказала Маргарита. – Да, несчастный, раз вы думаете, будто герцог Франсуа простирает свою любезность до того, что подсылает воздыхателей к своей сестре! Вы говорите, что ревнивы, а вы просто безрассудны и очень недогадливы! Слушайте, Ла Моль: герцог Алансонский завтра же убил бы вас собственной рукой, если бы узнал, что вы сегодня вечером были у меня, у моих ног, а я, вместо того чтобы выгнать вас вон, говорила: Ла Моль, останьтесь, потому что я люблю вас, красивый молодой человек. Понимаете? Я вас люблю! И я вам повторяю: он вас убил бы.
– Великий боже! – воскликнул Ла Моль, отшатываясь и с ужасом глядя на Маргариту. – Неужели это возможно?
– Все, мой друг, возможно в наше время и при таком дворе. Теперь еще одно: не для меня явился в Лувр де Муи, надев ваш плащ и скрыв лицо под вашей шляпой, а ради герцога Алансонского. Но я ввела его сюда, приняв за вас. Он знает нашу тайну, Ла Моль, его необходимо сохранить для нас.
– Я бы предпочел его убить, – сказал Ла Моль, – это проще и надежнее.
– А я, мой храбрый друг, – сказала королева, – предпочитаю, чтобы он жил, а вы бы знали все, так как его жизнь не только полезна нам, но и необходима. Выслушайте меня и, прежде чем ответить, хорошо обдумайте ваши слова: достаточно ли сильно вы меня любите, Ла Моль, чтобы порадоваться, когда я стану настоящей королевой, иными словами – властительницей действительного королевства?
– Увы, мадам, я вас люблю настолько, что каждое ваше желание – мое желание, хотя бы оно стало несчастьем всей моей жизни!
– В таком случае – хотите помочь мне осуществить мое желание? Удача принесет и вам еще большее счастье.
– О мадам, тогда я потеряю вас! – воскликнул Ла Моль, закрывая лицо руками.
– Совсем нет, наоборот: из первого моего слуги вы станете первым моим подданным. Вот и все.
– О, здесь не место выгодам… не место честолюбию! Не унижайте сами того чувства, какое я питаю к вам… Только преданность, одна преданность – и больше ничего!
– Благородная душа! – сказала Маргарита. – Хорошо! Я принимаю твою преданность и сумею отплатить.
Она протянула обе руки Ла Молю, который стал осыпать их поцелуями.
– Так как же? – спросила Маргарита.
– О да, – ответил Ла Моль. – Да, Маргарита, я начинаю понимать тот смутный для меня проект, о котором шла речь среди нас, гугенотов, еще до дня святого Варфоломея; ради его осуществления и я в числе многих, более достойных, вызван был в Париж. Вы добиваетесь настоящего Наваррского королевства вместо мнимого; к этому вас побуждает король Генрих. Де Муи в заговоре с вами, да? Но при чем тут герцог Алансонский? Где для него трон? Я не вижу. Неужели герцог Алансонский в такой степени вам друг, что помогает вам, ничего не требуя в награду за ту опасность, которой он подвергает себя?
– Друг мой, герцог входит в заговор ради самого себя. Пусть заблуждается: он будет отвечать своею жизнью за нашу жизнь.
– Но я состою при нем, разве могу я изменять ему?
– Изменять ему! А в чем измена? Что вам доверил он? Не он ли предательски поступил с вами, дав де Муи ваш плащ и вашу шляпу, чтобы свободно проходить к нему? Вы говорите: «Я состою при нем!» Раньше, чем при нем, вы состояли при мне, мой милый дворянин! Больше ли он доказал вам свою дружбу, чем я свою любовь?
Ла Моль вскочил, бледный, как будто пораженный громом.
– О-о! Коконнас предсказывал мне это, – прошептал он. – Интрига обвивает меня своими кольцами… и задушит!
– Так что же?
– Вот мой ответ, – сказал Ла Моль. – Там, на другом конце Франции, где ваше имя пользуется славой, где общая молва о вашей красоте дошла до моего сердца и возбудила в нем какое-то смутное желание неизвестного, – там говорят, я это слышал сам, что вы не раз любили и каждый раз ваша любовь оказывалась роковой для тех, кого любили вы, – их уносила смерть, словно ревнуя к вам.
– Ла Моль!..
– Не перебивайте, Маргарита, любовь моя! Говорят еще, будто сердца этих верных вам друзей вы храните в золотых ящичках, иногда благоговейно смотрите на эти печальные останки и с грустью вспоминаете о тех, кто вас любил. Вы вздыхаете, моя дорогая королева, глаза ваши туманятся – значит, это правда. Тогда пусть буду я самым любимым, самым счастливым из ваших возлюбленных. Всем остальным вы пронзили только сердце, и вы храните их сердца; у меня вы берете больше – вы кладете мою голову на плаху… За это, Маргарита, клянитесь вот этим крестом, символом бога, который спас мне жизнь здесь, у вас, клянитесь, что если я умру за вас, как говорит мне мрачное предчувствие, и палач отрубит мою голову, то вы сохраните ее и иногда коснетесь вашими губами. Клянитесь, Маргарита, и я за обещание такой награды от моей царицы буду нем, стану изменником и, если будет надо, подлецом, – иными словами, буду вам беззаветно предан, как подобает вашему возлюбленному и сообщнику.
– О, какая скорбная, безумная мечта, мой дорогой! – сказала Маргарита. – Какая роковая мысль, любимый мой!
– Клянитесь…
– Надо клясться?
– Да, вот на этом ларчике с крестом на крышке. Клянитесь!..
– Хорошо! – сказала Маргарита. – Если, чего не дай боже, твои предчувствия осуществятся, любимый мой, клянусь тебе этим крестом, что ты, живой или мертвый, будешь близ меня, пока сама я буду жить; если я не смогу спасти тебя от гибели, которая тебя постигнет из-за меня, – да, я уверена, из-за меня одной, – я дам бедной душе твоей это заслуженное утешение.
– Еще одно, Маргарита. Теперь я спокоен и могу умереть, если меня ждет смерть, но я могу остаться и в живых – наше дело может закончиться успехом: король Наваррский станет королем, вы – королевой. Тогда король вас увезет с собой, и ваш обоюдный договор о раздельной супружеской жизни нарушится сам собой, а это разлучит нас. Слушайте, моя милая, моя любимая Маргарита, вашей клятвой вы успокоили меня на случай моей смерти, успокойте же теперь меня на тот случай, если я останусь жив.
– О нет, не бойся, я твоя душой и телом! – воскликнула Маргарита, еще раз протягивая руку к ларчику и кладя ее на крест. – Если поеду отсюда я, со мной поедешь ты; если король откажется взять тебя с собой, я не поеду с ним.
– Но вы не решитесь ему противиться.
– Мой дорогой, любимый, ты не знаешь Генриха. Сейчас он думает лишь об одном – стать королем; для этой цели он готов жертвовать всем, чем обладает, и уж подавно тем, чем не обладает. Прощай!
– Мадам, вы прогоняете меня? – улыбаясь, спросил Ла Моль.
– Час поздний, – ответила Маргарита.
– Верно, но куда же мне идти? В моей комнате де Муи и герцог Алансонский.
– Ах да, конечно, – сказала Маргарита с обаятельной улыбкой. – Да и мне надо еще многое вам рассказать об этом заговоре.
С этой ночи Ла Моль перестал быть простым любимцем королевы и получил право носить гордо свою голову, которой было уготовано, и мертвой и живой, такое заманчивое будущее. Но временами эта голова тяжело клонилась долу, щеки бледнели, и горькое раздумье прокладывало борозду между бровями молодого человека, некогда веселого – теперь счастливого.
IX. Десница божия
Расставаясь с мадам де Сов, Генрих Наваррский сказал ей:
– Шарлотта, ложитесь в постель, притворитесь тяжелобольной и завтра ни под каким видом не принимайте никого.
Шарлотта послушалась, не спрашивая даже и себя о том, почему король дал ей такой совет. Она уже привыкла к подобным выходкам, как бы сказали в наше время, или чудачествам, как говорили в старину. Кроме того, она хорошо знала, что Генрих глубоко прятал в своей душе такие тайны, о которых не говорил ни с кем, а в уме своем таил такие планы, что боялся, как бы не выдать их во сне. Шарлотта сделалась послушной всем его желаниям, будучи уверена, что даже самые причудливые его мысли направлены к какой-то определенной цели.
Так и теперь она еще с вечера начала жаловаться Дариоле на тяжесть в голове и резь в глазах. Указать такие симптомы ей посоветовал Генрих Наваррский.
На следующее утро она сделала вид, что хочет встать с постели, но, едва коснувшись ногой пола, пожаловалась на общую слабость и опять легла в постель.
Нездоровье мадам де Сов, о чем Генрих Наваррский рассказал герцогу Алансонскому сегодня утром, было первой новостью, которую узнала Екатерина Медичи, спросив совершенно хладнокровно, почему при ее вставании отсутствует мадам де Сов.
– Она больна! – ответила Екатерине герцогиня Лотарингская.
– Больна?! – повторила Екатерина, ни одним мускулом лица не выдав того живого интереса, какой в ней возбудил этот ответ. – Просто лень!
– Совсем нет, мадам, – возразила герцогиня. – Она жалуется на жестокую боль в голове и на такую слабость, что она не в состоянии ходить.
Екатерина ничего не ответила, но, вероятно, чтобы скрыть внутреннюю радость, повернулась к окну; увидев Генриха, проходившего по двору после своего разговора с де Муи, она встала с постели, чтобы лучше разглядеть его, и, под влиянием совести, которая невидимо, но непрестанно бурлит в глубине души у всех, даже у людей, закоренелых в преступлениях, спросила командира своей охраны:
– Не кажется ли вам, что сын мой Генрих сегодня бледен?
Ничего подобного не было; Генрих был очень тревожен душой, но совершенно здоров телом.
Мало-помалу все обычно присутствующие при вставании королевы удалились; осталось три-четыре человека – самых близких; Екатерина нетерпеливо выпроводила их, сказав, что хочет побыть одна.
Как только все вышли, Екатерина заперла дверь, затем подошла к потайному шкафу, скрытому за панно в деревянной резной обшивке стен, отодвинула дверь, ходившую на рейках с выемкой, и вынула из шкафа книгу, бывшую, судя по измятым страницам, в частом употреблении.
Она положила книгу на стол, раскрыла ее закладкой-лентой, облокотилась о стол и подперла голову рукой.
– Как раз то самое, – шептала она, читая, – головная боль, общая слабость, резь в глазах, воспаление нёба. Кроме головной боли и общей слабости, говорится и о других признаках, но они еще появятся.
Екатерина продолжала:
– Затем воспаление переходит на горло, оттуда – на живот; сжимает сердце как будто огненным кольцом и наконец молниеносно поражает мозг.
Она прочла все это про себя и затем, уже вполголоса, заговорила:
– Шесть часов на лихорадку, двенадцать часов на общее воспаление, двенадцать часов на гангрену, шесть – на агонию – всего тридцать шесть часов. Теперь предположим, что всасывание пройдет медленнее, чем растворение в желудке, тогда вместо тридцати шести часов понадобится сорок, допустим даже – сорок восемь; да, сорока восьми часов будет достаточно. Но почему же не слег он, Генрих? Потому, во-первых, что он мужчина, во-вторых – он крепкого сложения, а может быть, оттого, что после поцелуев он пил, а после питья вытер губы.
Екатерина с нетерпением ждала обеденного часа: Генрих ежедневно обедал за королевским столом. Он пришел, но тоже пожаловался на плохое самочувствие, ничего не ел и ушел сразу после обеда, сказав, что не спал всю ночь и чувствует неодолимую потребность выспаться.
Екатерина прислушалась к его неровным удаляющимся шагам и послала проследить за ним. Ей донесли, что король Наваррский пошел к мадам де Сов.
«Сегодня вечером, – говорила она про себя, – Генрих докончит отравление смертельным ядом, быть может, недостаточное в первый раз по какой-нибудь случайности».
Генрих действительно отправился к мадам де Сов, но только с целью убедить ее, чтобы она продолжала играть роль больной.
На следующий день Генрих все утро не выходил из своей комнаты и не пришел обедать к королю.
Екатерина ликовала. Накануне утром она услала Амбруаза Паре в Сен-Жермен, где занемог ее любимый слуга: ей было необходимо, чтобы к мадам де Сов и Генриху позвали преданного ей врача, который бы сказал то, что она прикажет. Если бы, вопреки ее желанию, в это дело впутался какой-нибудь другой врач и новое отравление открылось, ужаснув весь двор, уже напуганный рассказами о многих отравлениях, Екатерина рассчитывала воспользоваться слухами о ревности Маргариты к предмету любовной страсти ее супруга. Читатель помнит, что королева-мать при всяком удобном случае распространялась о вспышках ревности у Маргариты и, между прочим, во время прогулки к расцветшему боярышнику сказала своей дочери в присутствии нескольких придворных дам и кавалеров:
– Оказывается, вы ревнивы, Маргарита?
Екатерина, подготовив заранее выражение своего лица, ждала с минуты на минуту, что дверь отворится, войдет какой-нибудь бледный, перепуганный служитель и доложит:
– Ваше величество, король Наваррский при смерти, а мадам де Сов скончалась!
Пробило четыре часа дня. Екатерина заканчивала полдник в птичьем вольере, где раздавала крошки бисквита редким птичкам, которых кормила из своих рук; и хотя выражение ее лица было, как всегда, спокойно, даже мрачно, но при малейшем шуме ее сердце начинало учащенно биться.
Вдруг дверь распахнулась, вошел командир ее охраны и заявил:
– Мадам, король Наваррский…
– Болен? – перебивая, спросила королева-мать.
– Слава богу, нет, мадам.
– Тогда о чем же вы говорите?
– Король Наваррский здесь.
– Что ему нужно?
– Он принес вашему величеству маленькую обезьянку очень редкой породы.
В это мгновение вошел сам Генрих, держа в руке корзинку и лаская лежавшую в ней уистити. Он улыбался, как будто всецело занятый очаровательным животным, которое он нес; но, при всем кажущемся увлечении своим занятием, он сохранял способность с одного взгляда оценивать положение вещей, способность, которой отличался Генрих в трудных обстоятельствах. Екатерина побледнела и становилась тем бледнее, чем яснее видела здоровый румянец на щеках подходившего к ней молодого человека. Королева-мать не могла прийти в себя от этого удара. Она машинально приняла подарок, смутилась, поблагодарила Генриха и одобрила его хороший вид, добавив:
– С особым удовольствием вижу вас, сын мой, в добром здравии, так как слышала, будто вы болели; да, помнится, вы и при мне жаловались на нездоровье. Но теперь я понимаю, – сказала она, силясь улыбнуться, – это было лишь предлогом, чтобы уйти.
– Нет, мадам, я был в самом деле болен, – ответил Генрих, – но одно лекарство, известное у нас в горах и мне завещанное покойной матерью, излечило мою болезнь.
– А-а! Так вы дадите мне его рецепт, да, Генрих? – сказала Екатерина, улыбаясь уже по-настоящему, но с иронией, которой не могла скрыть.
«Какое-то противоядие, – подумала Екатерина, – но мы придумаем что-нибудь другое, а впрочем, не стоит: он заметил, что мадам де Сов вдруг заболела, и насторожился. Честное слово, можно подумать, что десница божия простерлась над этим человеком».
Екатерина нетерпеливо ждала ночи: мадам де Сов не появлялась. Во время игры в карты королева-мать справилась о ее здоровье и получила ответ, что состояние здоровья мадам де Сов все ухудшается.
Весь вечер Екатерина провела в тревоге, возбуждая у всех мучительный вопрос: каковы же ее мысли, если они вызывают такое явное выражение волнения на этом лице, обычно неподвижном?
Все разошлись. Екатерина приказала своим женщинам раздеть ее и уложить в постель; но как только весь Лувр улегся спать, она встала, надела длинный черный капот, взяла лампу, выбрала из связки ключей ключ от двери мадам де Сов и поднялась к своей придворной даме.
Предвидел ли Генрих это посещение, был ли занят делами или где-то прятался, но, как бы то ни было, молодая женщина была одна.
Екатерина осторожно отворила дверь, миновала переднюю, вошла в гостиную, поставила лампу на столик, потому что около больной горел ночник, и тенью проскользнула в спальню. Дариола, вытянувшись на большом кресле, спала около своей хозяйки.
Кровать была со всех сторон задернута пологом. Молодая женщина дышала настолько тихо, что на одну минуту у Екатерины мелькнула мысль – не перестала ли она дышать совсем.
Наконец она услышала слабое дыхание и пожелала лично убедиться в действии страшного яда: королева злорадно приподняла полог, заранее испытывая трепет от того, что вот сейчас увидит мертвенную бледность или губительную красноту предсмертной лихорадки; но вместо этого молодая женщина спала мирным, тихим сном, смежив беломраморные веки, приоткрыв розовый ротик, уютно подложив под щеку точеную бело-розовую руку, а другую вытянув по красному узорчатому шелку, служившему ей одеялом, – спала, как будто еще радуясь чему-то: ей, вероятно, снился прекрасный сладкий сон, вызывая нежный румянец на щеках, а на устах улыбку ничем не нарушаемого счастья.
Королева-мать не удержалась, тихо вскрикнула от изумления и разбудила Дариолу. Екатерина спряталась за полог. Дариола открыла глаза, но одурманенная сном девушка даже не пыталась выяснить причину своего пробуждения, а снова опустила отяжелевшие веки и заснула.
Екатерина вышла из-за полога и, оглядев всю комнату, заметила стоявшие на столике графин с испанским вином, фрукты, сладкое печенье и два стакана. Несомненно, Генрих ужинал у баронессы, видимо, чувствовавшей себя так же хорошо, как и ее любовник.
Королева-мать быстро подошла к туалетному столику и взяла серебряную коробочку, на одну треть уже пустую. Это была та самая коробочка, по крайней мере совершенно схожая с той, которую она послала мадам де Сов. Екатерина взяла на кончик золотой иглы кусочек губной помады величиной с жемчужину, вернулась к себе в спальню и дала этот кусочек обезьянке, которую ей подарил Генрих сегодня днем. Животное, соблазнившись приятным запахом помады, жадно проглотило ее и, свернувшись клубочком, заснуло в своей корзинке. Екатерина подождала четверть часа.
«От половины того, что съела обезьянка, моя собака Брут издохла в течение минуты, – подумала Екатерина. – Меня провели! Неужели Рене? Нет, немыслимо, чтобы Рене! Тогда – Генрих! О судьба! Ясно, раз ему предназначено царствовать, он не может умереть!.. Но, может быть, против него бессилен только яд? Посмотрим, что скажет сталь!»
И Екатерина легла спать, обдумывая новый план. Наутро он, видимо, уже созрел, судя по тому, что она призвала к себе командира своей охраны, дала ему письмо, приказала отнести его по адресу и вручить в собственные руки адресата.
Адрес был следующий: «Командиру королевских петардщиков Лувье де Морвелю, улица Серизе, близ Арсенала».
X. Письмо из Рима
Прошло несколько дней со времени этих событий, когда однажды утром во дворе Лувра появились носилки в сопровождении нескольких дворян, одетых в придворные цвета герцога Гиза, и королеве Наваррской доложили, что герцогиня Невэрская просит оказать ей честь, приняв ее.
В это время у Маргариты была мадам де Сов. Красавица баронесса впервые вышла из своих комнат после своей мнимой болезни. Она знала, что за время ее болезни, почти в течение недели вызывавшей столько разговоров при дворе, королева Наваррская выражала своему мужу живое беспокойство по поводу здоровья баронессы, и мадам де Сов пришла теперь благодарить за это королеву.
Маргарита поздравила мадам де Сов с выздоровлением и выразила радость по поводу того, что баронесса благополучно перенесла внезапный приступ странной болезни, которая, по мнению Маргариты, знакомой с медициной, была очень опасна.
– Надеюсь, вы примете участие в большой охоте? – сказала Маргарита. – Она была один раз отложена, но теперь окончательно назначена на завтра. Для зимы – погода мягкая. Солнце обогрело землю, и наши охотники всех уверяют, что день будет на редкость благоприятный для охоты.
– Мадам, не знаю, достаточно ли я для этого окрепла.
– Нет, нет, возьмите себя в руки, – ответила Маргарита. – Кроме того, я, как женщина боевая, предоставила в полное распоряжение моего мужа беарнскую лошадку, на которой должна была ехать, а под вами она пойдет отлично. Вы разве о ней не слышали?
– Слышала, мадам, но не знала, что лошадка предназначалась для вашего величества, я бы ее тогда не приняла.
– Из гордости, баронесса?
– Нет, мадам, из скромности.
– Значит, вы поедете?
– Ваше величество делаете мне много чести. Я поеду, раз вы приказываете.
В эту минуту доложили о герцогине Невэрской. При ее имени лицо Маргариты невольно выразило большую радость; баронесса поняла, что королеве и герцогине Невэрской надо поговорить наедине, и встала, собираясь уходить.
– Итак, до завтра, – сказала Маргарита.
– До завтра, мадам.
– Кстати, – сказала Маргарита, провожая ее за руку, – имейте в виду, баронесса, что на людях я вас не выношу, так как я страшно ревнива.
– А в действительности? – спросила мадам де Сов.
– О, в действительности я вам не только все прощаю, но даже вас благодарю.
– В таком случае, ваше величество, разрешите…
Маргарита протянула ей руку; баронесса почтительно ее поцеловала, сделала реверанс и вышла.
Пока мадам де Сов взбегала к себе наверх, прыгая, как козочка, сорвавшаяся с привязи, герцогиня Невэрская обменялась с королевой церемонными приветствиями, давая время удалиться сопровождавшим ее дворянам. Когда дверь за ними затворилась, Маргарита крикнула:
– Жийона, Жийона! Позаботься, чтобы нас никто не прерывал.
– Да, – сказала герцогиня, – потому что нам надо поговорить о вещах очень серьезных.
И с этими словами она без церемоний уселась в кресло, заняв лучшее место, «поближе к солнцу и огню», уверенная, что теперь уже никто не помешает свободе задушевных отношений, которые установились между ней и королевой Наваррской.
– Ну, как поживает наш знаменитый рубака? – спросила Маргарита.
– Милая моя королева, клянусь душой, это существо мифологическое! – ответила герцогиня. – Он бесподобен! У него неиссякаемое остроумие! Он говорит такие штуки, что и святой у себя в раю умрет со смеху. Кроме того, это такой отъявленный язычник в католической шкуре, какого не бывало! Я от него просто без ума! Ну, а как твой Аполлон?
– Ох! – вздохнула Маргарита.
– Это «ох!» меня пугает, королева. Может быть, ваш милый Ла Моль чересчур почтителен? Или чересчур сентиментален? Тогда должна признаться, что он полная противоположность своему другу Коконнасу.
– Да нет, он иногда бывает и другой, – ответила Маргарита, – а мое «ох!» относится только ко мне самой.
– Что ж это значит?
– А то, милая герцогиня, что я ужасно боюсь полюбить его по-настоящему.
– Правда?
– Честное слово!
– О, тем лучше! Как весело тогда мы заживем! – воскликнула Анриетта. – Моя мечта – любить немножко, твоя – любить глубоко. Не правда ли, моя дорогая и ученая королева, как приятно дать отдохнуть уму и уйти в чувство? А после безумств – улыбаться! Ах, Маргарита, предчувствую, что мы отлично проведем этот год!
– Ты так думаешь? – сказала королева. – А у меня совсем другие мысли: не знаю, отчего это происходит, но я все вижу сквозь траурную дымку. Вся наша политика меня ужасно тревожит. Кстати, узнай, так ли предан моему брату твой Аннибал, как он это изображает? Разузнай, мне это важно.
– Это он-то предан кому-нибудь или чему-нибудь? Видно, что ты его не знаешь так, как я! Если он чему и предан, так только честолюбию, вот и все. Если твой брат может ему обещать много – о, тогда другое дело: он будет ему предан. Но если брат твой вздумает не выполнить своих обещаний – тогда, хоть он и принц Франции, берегись, твой герцог Алансонский!
– Правда?
– Уж я тебе говорю! Даю слово, Маргарита, что этот прирученный мною тигр пугает даже меня. Как-то я ему сказала: «Аннибал, не обманывайте меня, а если обманете, то берегитесь!..» Но, говоря это, я на него глядела моими изумрудными глазами, о которых Ронсар сложил стихи:
У красавицы Невэр,
Например,
Глазки зелены и нежны;
Но порой сверкает в них
Больше молний голубых,
Чем в пучинах роковых
В страшный миг
Бури бешено-мятежной!
– И что же?
– Я думала, что он ответит: «Мне? Обманывать вас? Никогда!» – и дальше в том же духе… А знаешь, что он ответил?
– Нет.
– «А если вы, – ответил он, – обманете меня, то, какая вы там ни есть принцесса, тоже берегитесь!..» И, говоря это, он грозил мне не только глазами, но и мускулистым тонким пальцем с острым, как копье, ногтем, причем тыкал мне этим пальцем чуть не в нос. Признаюсь, милая королева, у него было такое выражение лица, что я вздрогнула, хотя и не трусиха. Суди сама, что это за человек!
– Грозить тебе, Анриетта? Как он смел?
– Ого, дьявольщина! Я ему тоже пригрозила! В сущности говоря, у него было основание. Как видишь, он предан только до известного момента, вернее – до неизвестного момента.
– Тогда посмотрим, – задумчиво сказала Маргарита, – я поговорю с Ла Молем. У тебя нет ничего больше рассказать?
– Есть, и очень интересное, из-за этого я и пришла. Но ты со мной заговорила о вещах, для меня более интересных. Я получила вести.
– Из Рима?
– Да, нарочный от моего мужа…
– О польском деле?
– Да, дело подвигается чудесно, и может так случиться, что в самом скором времени ты отделаешься от своего брата, герцога Анжуйского.
– Значит, папа утвердил его избрание?
– Да, дорогая.
– И ты мне не сказала этого с самого начала! – воскликнула Маргарита. – Ну, скорей, скорей, выкладывай все по порядку.
– Кроме того, что я тебе сказала, я, честное слово, больше ничего не знаю. Впрочем, подожди, я дам тебе прочесть письмо моего мужа. На, вот оно! Ах, нет! Это стихи Аннибала, и прежестокие, милая королева, – он других не пишет. А-а, на этот раз оно! Нет, опять не то: это записочка от меня ему, я захватила с собой, чтобы ты передала ее через Ла Моля. Ага, ну вот наконец это письмо!
И герцогиня Невэрская передала письмо королеве.
Маргарита поспешно его открыла и прочла; но оно действительно содержало только то, что она уже слышала от своей подруги.
– А как дошло до тебя это письмо? – продолжала королева.
– С нарочным моего мужа, получившим приказание, раньше чем ехать в Лувр, заехать в дом Гизов и передать мне это письмо, а потом отвезти в Лувр письмо, адресованное королю. Зная, какое значение придает этой новости моя королева, я сама просила мужа так распорядиться. И видишь – он послушался меня. Это не то что мое чудовище Коконнас. Сейчас во всем Париже эту новость знают только три человека: король, ты да я, а еще – разве тот человек, который ехал по пятам нашего нарочного.
– Какой человек?
– Что за ужасное ремесло! Представь себе, несчастный наш гонец приехал усталый, растерзанный, весь в пыли; он скакал семь дней и семь ночей, не останавливаясь ни на минуту.
– А что это за человек, о котором ты сейчас сказала?
– Погоди, скажу. Во время этого пути от Рима до Парижа, на протяжении четырехсот лье, за нашим нарочным скакал человек, которого тоже ждали подставы. У него был такой свирепый вид, что наш бедняга боялся каждую минуту заполучить в спину пулю из пистолета. Оба они в одно и то же время подскакали к заставе Святого Михаила, оба промчались по улице Муфтар и через центр города; но в конце моста Парижской Богоматери наш нарочный взял вправо, а другой повернул налево, через площадь Шатле, и пролетел по набережной Лувра, как стрела из арбалета.
– Спасибо, Анриетта, спасибо, хорошая моя! – воскликнула Маргарита. – Твоя правда, вести интересные… Чей же это второй нарочный? Надо узнать. Теперь прощай; вечером встретимся на улице Тизон, да? А завтра – на охоте. Только выбери лошадь поноровистей, которая заносится, чтобы нам удрать от всех вдвоем. Сегодня вечером скажу тебе, что надо выведать у Коконнаса.
– Ты не забудешь передать мою записку? – смеясь, спросила герцогиня.
– Нет, нет, будь покойна, он получит ее вовремя.
Герцогиня Невэрская вышла, а Маргарита в ту же минуту послала за Генрихом; он тотчас явился и прочел письмо герцога Невэрского.
– Так, так! – сказал он.
Маргарита рассказала ему о двух нарочных.
– Верно, – ответил Генрих, – я видел того гонца, когда он въехал во двор Лувра.
– Может быть, он прискакал к королеве-матери?
– Нет, в этом я уверен; я тогда на всякий случай вышел в коридор, но там никто не проходил.
– В таком случае, – сказала Маргарита, – он, вероятно, приехал к…
– К вашему брату Франсуа, хотите вы сказать? – спросил Генрих.
– Да. Но как это узнать?
– А нельзя ли, – сказал небрежно Генрих, – послать за одним из этих двух дворян и узнать от него…
– Верно, сир! – сказала Маргарита, очень довольная предложением мужа. – Я сейчас пошлю за Ла Молем… Жийона! Жийона!
Девушка вошла.
– Мне нужно сию же минуту поговорить с Ла Молем, – сказала королева. – Постарайся найти его и привести сюда.
Жийона вышла. Генрих уселся за стол, где лежала немецкая книга с гравюрами Альбрехта Дюрера, и начал их рассматривать с большим вниманием, как будто не замечая вошедшего Ла Моля, – даже не поднял головы.
В свою очередь, молодой человек, увидев короля Наваррского у Маргариты, остановился на пороге, безмолвный от неожиданности и бледный от тревожного волнения.
Маргарита сама подошла к нему и спросила:
– Месье де Ла Моль, не можете ли мне сказать, кто у герцога Алансонского сегодня на дежурстве?
– Коконнас, мадам… – ответил Ла Моль.
– Попытайтесь от него узнать, не пропускал ли он сегодня к герцогу человека, забрызганного грязью, как будто проделавшего долгий путь, не слезая с лошади.
– Мадам, боюсь, что он об этом не станет говорить; за последние дни он стал очень неразговорчив.
– Вот как! Но мне думается, что если вы передадите ему записочку, он должен будет вам чем-то отплатить.
– От герцогини!.. О, имея в руках эту записочку, я попытаюсь…
– Добавьте, – сказала Маргарита шепотом, – что эта записка сегодня вечером послужит ему пропуском в известный вам дом.
– А какой же пропуск получу я, мадам?..
– Назовите свое имя, и этого довольно.
– Давайте, мадам, записку, давайте, – сказал Ла Моль, сгорая от любви, – я отвечаю за успех.
Ла Моль вышел.
– Завтра мы будем знать, осведомлен ли герцог Алансонский о делах в Польше, – спокойно сказала Маргарита, обращаясь к мужу.
– Этот Ла Моль воистину любезен и услужлив, – сказал Беарнец с особенной улыбкой, свойственной лишь одному ему. – И – клянусь мессой! – я устрою его судьбу.
XI. Выезд на охоту
Когда на следующее утро из-за холмов, окружающих Париж, всходило ярко-красное солнце без лучей, как это бывает в ясный зимний день, на дворе Лувра все было уже в движении еще два часа назад.
Великолепный берберский жеребец, высокий и нервный, на сухих, с целой сеткой переплетающихся жил ногах, как у оленя, бил копытом о землю, прядал ушами и шумно выпускал горячее дыхание из ноздрей, ожидая Карла IX; но он был все же менее нетерпелив, чем его хозяин, задержанный Екатериной, которая остановила сына на ходу, чтобы поговорить, по ее словам, о важном деле.
Мать и сын стояли в стеклянной галерее: Екатерина – холодная, бледная, бесстрастная, как всегда, а Карл IX, дрожа от нетерпения, грыз ногти и стегал двух собак – своих любимцев, на которых надеты были кольчужные попоны, чтобы предохранить их от ударов клыков и дать возможность безопасно схватиться с ужасным зверем. На груди поверх кольчуги нашит был маленький щиток с гербом Франции, вроде тех, что нашивали на грудь пажей, которые не раз завидовали преимуществам этих любимых благоденствующих псов.
– Карл, примите во внимание, – говорила Екатерина, – что никому, кроме меня и вас, еще не известно о скором прибытии сюда поляков; а между тем король Наваррский – да простит мне бог! – ведет себя так, как будто он об этом знает. Несмотря на свой переход в католическую веру, который был всегда мне подозрителен, Генрих поддерживает сношения с гугенотами. Разве вы не заметили, что за последние дни он часто уходит из дому? У него появились деньги, а их у него никогда не было; он покупает лошадей, оружие, а в дождливую погоду по целым дням упражняется в искусстве фехтования.
– Ах, боже мой! – сказал Карл IX в нетерпении. – Неужели, матушка, вы думаете, что он собирается убить меня или моего брата, герцога Анжуйского? Тогда ему надо еще поучиться: не далее как вчера я налепил ему своей рапирой одиннадцать точек на колет, а он насчитал у меня лишь шесть. А мой брат Анжуйский фехтует еще искуснее меня или, по его словам, так же хорошо, как я.
– Послушайте, Карл, не относитесь так легко к тому, что говорит вам ваша мать. Польские послы скоро приедут – вот вы тогда увидите! Как только они появятся в Париже, Генрих Наваррский сделает все возможное, чтобы привлечь их внимание к себе. Он вкрадчив, он себе на уме, не говоря уже о том, что жена его, которая, неизвестно по каким причинам, ему способствует, будет болтать с послами, говорить с ними по-латыни, по-гречески, по-венгерски и так далее. Говорю вам, Карл, я никогда не ошибаюсь, – так я говорю вам: что-то затевается.
В эту минуту пробили часы, и Карл IX, перестав слушать Екатерину, прислушался к их бою.
– Смерть моя! Семь часов! – воскликнул он. – Час ехать – итого восемь! Час на то, чтобы доехать до места сбора и набросить гончих, – мы только в девять начнем охоту. Честное слово, матушка, вы вынуждаете меня терять время. Отстань, Удалой!.. Отстань же, говорят тебе, разбойник!
Он сильно хлестнул по спине молосского дога; бедное животное, изумленное таким наказанием в ответ на свою ласку, взвизгнуло от боли.
– Карл, выслушайте же меня, ради бога, – сказала Екатерина, – и не швыряйтесь вашей собственной судьбой и судьбой Франции. У вас на уме только охота, охота и охота!.. Выполните ваши обязанности короля и тогда охотьтесь сколько угодно.
– Ладно, ладно, матушка! – сказал Карл, бледнея от нетерпения. – Объяснимся поскорее, из-за вас во мне все кипит. Честное слово, бывают дни, когда я вас просто не понимаю!
И он остановился, похлопывая рукояткой арапника по сапогу.
Екатерина решила, что момент благоприятный и упускать его нельзя.
– Сын мой, у нас есть доказательства, что де Муи вернулся в Париж, – сказала королева-мать. – Его видел Морвель, которого вы хорошо знаете. Он мог приехать только к королю Наваррскому. Надеюсь, этого достаточно, чтобы подозревать Генриха больше чем когда-либо.
– Слушайте, опять вы против моего бедного Анрио! Вы хотите, чтобы я его казнил, да?
– О нет!
– Изгнал? Но как вы не понимаете, что в качестве изгнанника он гораздо опаснее, чем когда он здесь, у нас на глазах, в Лувре, где он не может сделать ничего, что не стало бы известно нам в ту же минуту!
– Поэтому я и не собираюсь изгонять его.
– Тогда чего же вы хотите? Говорите скорее!
– Я хочу, чтобы на время пребывания поляков он находился в заключении – например, в Бастилии.
– Ну, это уж нет! – воскликнул Карл. – Сегодня мы с ним охотимся на кабана, а он мой лучший помощник на охоте. Без него нет охоты. Черт возьми! Вы, матушка, только о том и думаете, как бы меня вывести из терпения!
– Ах, милый сын мой, разве я говорю, что сегодня? Послы приедут завтра или послезавтра. Арестуем его после охоты, сегодня вечером… нет… ночью.
– Это другое дело. Там увидим! Мы еще поговорим об этом. После охоты – я не возражаю. Прощайте! Сюда, Удалой! Или ты тоже будешь на меня дуться?
– Карл, – сказала Екатерина, останавливая сына за руку и рискуя вызвать этой задержкой новую вспышку гнева, – я думаю, что самый арест можно отложить до вечера или до ночи, но распоряжение об аресте лучше подписать сейчас.
– Писать приказ, подписывать, разыскивать печать для королевских грамот, в то время как меня ждут, чтоб ехать на охоту, а я никогда не заставлял ждать себя! Ну его к черту!
– Но я вас так люблю, что не собираюсь вас задерживать. Я все предусмотрела. Войдите сюда, ко мне.
Екатерина проворно, точно ей было двадцать лет, отворила дверь в свой кабинет, показала на чернильницу, перо, грамоту, печать и зажженную свечу.
Король взял грамоту и быстро пробежал ее:
– «Повеление… арестовать и препроводить в Бастилию брата нашего Генриха Наваррского». Готово! – сказал он, подписывая одним росчерком. – Прощайте, матушка!
И бросился вон из кабинета в сопровождении своих собак, радуясь, что так легко отделался от матери.
На дворе все с нетерпением ждали Карла IX и, зная его точность в делах охоты, удивлялись тому, что он опаздывал. Зато когда он появился, охотники приветствовали его криками, выжлятники – фанфарами, лошади – ржанием, а собаки – лаем.
Весь этот шум и крики возбуждающе подействовали на Карла; бледные щеки его покрылись румянцем, сердце забилось, и на одну минуту он стал юн и счастлив.
Король только кивнул всему блестящему обществу, собравшемуся во дворе, мотнул головой Маргарите, махнул рукой герцогу Алансонскому, прошел мимо Генриха Наваррского, делая вид, что его не замечает, и вскочил на своего берберского жеребца, который под ним запрыгал, но, сделав два-три курбета, почувствовал, с каким ездоком имеет дело, и успокоился.
Снова раздался звук фанфар, и король выехал из Лувра в сопровождении герцога Алансонского, короля Наваррского, Маргариты, герцогини Невэрской, мадам де Сов, Тавана и придворной вельможной знати.
Само собою разумеется, что Коконнас и Ла Моль входили в число дворян, сопровождавших короля.
Что касается герцога Анжуйского, то он уже три месяца отсутствовал, участвуя в осаде Ла-Рошели.
Пока ждали короля, Генрих Наваррский подъехал поздороваться со своей женой, которая, ответив на его приветствие, сказала ему на ухо:
– Нарочный из Рима был у герцога Алансонского. Коконнас лично ввел его туда на четверть часа раньше, чем посланный герцога Невэрского был принят королем.
– Значит, он знает все? – спросил Генрих.
– Наверняка, – ответила Маргарита. – Только взгляните, как блестят его глаза, несмотря на всю его способность скрывать и притворяться.
– Святая пятница! Еще бы, – прошептал Генрих, – сегодня он уже охотник на трех зайцев: Францию, Польшу и Наварру, не считая кабана!
Он поклонился жене и вернулся на свое место, затем подозвал одного из слуг, своего обычного посланца по любовным поручениям, родом беарнца, предки которого в течение столетия служили его предкам, и сказал:
– Ортон, возьми вот этот ключ и доставь его известному тебе кузену мадам де Сов, живущему у своей возлюбленной на улице Катр-Фис; скажи ему, что его кузина желает поговорить с ним сегодня вечером. Пусть он войдет ко мне в комнату и, если меня не будет дома, подождет; если же я очень запоздаю, пускай ложится спать на мою постель.
– Ответа не требуется, сир?
– Нет, только сообщи мне, застал ты его дома или нет. Ключ никому, кроме него, – понимаешь?
– Да, сир.
– Постой! Куда ты? Не уезжай от меня сейчас. При выезде из Парижа я подзову тебя, чтобы переседлать мне лошадь, – тогда будет понятно, почему ты отстал; исполнив поручение, догонишь нас в Бонди.
Слуга кивнул головой и отъехал в сторону.
Все общество двинулось по улице Сент-Оноре, затем по улице Сен-Дени и наконец достигло предместья; там, на улице Сен-Лоран, лошадь короля Наваррского расседлалась. Ортон подъехал, и все произошло, как было условлено между слугой и господином, который затем последовал за королевским поездом на улицу Реколе, в то время как верный слуга его скакал на улицу Катр-Фис.
Когда Генрих Наваррский присоединился к королю, Карл IX был занят интересным разговором с герцогом Алансонским о возрасте обложенного кабана-одинца, о месте его лежки и сделал вид, будто не заметил, что Генрих некоторое время оставался позади.
Маргарита все это время наблюдала издали за поведением их обоих, и ей казалось, что каждый раз, как ее брат-король смотрел на Генриха, глаза его выражали какое-то смущение.
Герцогиня Невэрская хохотала до слез, потому что Коконнас, особенно веселый в этот день, беспрестанно отпускал остроты, стараясь насмешить окружавших ее дам. Ла Моль уже два раза нашел случай поцеловать белый, обшитый золотой бахромой шарф Маргариты и сделал это с ловкостью, свойственной любовникам, так, что лишь три-четыре человека заметили его проделку.
В четверть девятого все общество прибыло в Бонди.
Карл IX первым делом справился, не ушел ли кабан. Обошедший зверя ловчий ручался, что кабан в кругу.
Закуска была уже готова. Король выпил стакан венгерского вина, пригласил дам к столу, а сам, от нетерпения и чтобы убить время, пошел осматривать псарню и ловчих птиц, приказав не расседлывать его лошадь, оправдывая это тем, что такой выносливой и сильной верховой лошади у него никогда не было.
В то время, когда король производил осмотр, приехал герцог Гиз. Он был вооружен, как будто ехал не на охоту, а на войну; его сопровождало человек двадцать или тридцать дворян в таком же снаряжении. Он тотчас осведомился, где король, пошел к нему и вернулся вместе с ним, продолжая какой-то разговор.
Ровно в девять часов король сам подал в рог сигнал «набрасывать» собак, все сели на лошадей и поехали к месту охоты.
По дороге Генрих Наваррский, улучив удобную минуту, подъехал еще раз к своей жене.
– Что у вас нового? – спросил он.
– Ничего, кроме того, что мой брат Карл как-то странно на вас посматривает, – ответила Маргарита.
– Я заметил.
– А вы приняли какие-нибудь меры предосторожности? – спросила Маргарита.
– У меня под одеждой кольчуга, а на боку охотничий испанский нож, отточенный, как бритва, острый, как игла, – я разрубаю им дублоны пополам.
– Ну, да хранит вас бог! – сказала Маргарита.
Доезжачий, ехавший во главе охоты, дал знак остановиться; охота подъехала к месту лежки.
Часть четвертая
I. Морвель
В то время как вся эта молодежь, веселая и беззаботная, по крайней мере с виду, неслась золотистым вихрем по дороге на Бонди, Екатерина, свернув в трубку драгоценный приказ, только что подписанный Карлом, велела ввести к себе в комнату человека, которому командир ее охраны отнес несколько дней тому назад письмо на улицу Серизе близ Арсенала. Широкая из тафты повязка, похожая на погребальный венчик, скрывала один глаз этого человека, оставляя на виду другой глаз, горбинку ястребиного носа меж двух выпиравших скул и покрытую седеющей бородкой нижнюю часть лица. На нем надет был длинный плотный плащ, под которым, видимо, скрывался целый арсенал. Кроме того, вопреки обычаю являться ко двору без оружия, у него сбоку висела большая боевая шпага с двойной гардой. Одна рука все время скрывалась под плащом, нащупывая рукоять кинжала.
– А-а, вот и вы! – сказала королева-мать, усаживаясь в кресло. – Вы знаете, что после дня святого Варфоломея, когда вы оказали нам отменные услуги, я обещала, что не оставлю вас в бездействии. Теперь явилась для этого возможность, вернее – я создала ее сама. Поблагодарите же меня за это.
– Мадам, нижайше вас благодарю, – раболепно, но не без наглости, ответил человек с черной повязкой.
– Воспользуйтесь этой возможностью, месье; она не повторится в вашей жизни.
– Мадам, я жду… только поначалу я опасаюсь…
– Что это дело не очень громкое? Не такое, до каких охотники те, кто желает выдвинуться? Однако поручение, которое имею я в виду, такого рода, что вам могли бы позавидовать Таван и даже Гизы.
– Мадам, поверьте мне, каково бы оно ни было, я весь в распоряжении вашего величества.
– В таком случае прочтите, – сказала Екатерина, передавая ему королевский приказ.
Человек пробежал его глазами и побледнел.
– Как! Арестовать короля Наваррского?! – воскликнул он.
– Ну и что же тут необыкновенного?
– Но ведь короля, мадам! Воистину, я думаю, что для этого я слишком низкого ранга дворянин.
– Мое доверие делает вас, месье Морвель, первым в ряду моих придворных дворян, – ответила Екатерина.
– Приношу глубокую благодарность вашему величеству, – сказал убийца с волнением, в котором чувствовалось колебание.
– Так вы исполните?
– Раз ваше величество прикажет – мой долг повиноваться.
– Да, я приказываю.
– Тогда я повинуюсь.
– Как вы возьметесь за это дело?
– Пока не знаю, мадам. Я очень бы желал, чтобы ваше величество дали мне наставление.
– Вы боитесь шума?
– Сознаюсь – да!
– Возьмите с собой двенадцать человек, а если надо, то и больше.
– Конечно, ваше величество, я понимаю это как разрешение мне принять все меры для успеха, за что я очень вам признателен; но в каком месте я должен взять короля Наваррского?
– Там, где находите для себя удобным.
– Если возможно, то лучше в таком месте, которое само своей почтенностью обеспечило бы мне безопасность.
– Понимаю. В каком-нибудь королевском дворце… например, в Лувре. Что вы на это скажете?
– О, если бы ваше величество мне разрешили, то это было бы великой милостью.
– Хорошо, возьмите его в Лувре.
– А в каком месте Лувра?
– У него в комнате.
– Когда, мадам?
– Сегодня вечером или лучше – ночью.
– Хорошо, мадам, а теперь соблаговолите дать мне указания в одном отношении.
– В каком?
– В смысле степени уважения к сану…
– Уважение… Сан!.. – с иронией повторила Екатерина. – Вам разве неизвестно, что король Франции никому не обязан оказывать уважение в своем королевстве, где нет ему равных по сану?
Морвель еще раз низко поклонился.
– И все же, ваше величество, разрешите мне остановиться на этом вопросе?
– Разрешаю, месье.
– А что, если король Наваррский будет оспаривать подлинность приказа? Это маловероятно, но все-таки…
– Наоборот, месье; наверно, так и будет.
– Будет оспаривать?
– Несомненно.
– Но тогда он откажется повиноваться?
– Боюсь, что да.
– И окажет сопротивление?
– Вероятно.
– Ах, черт возьми! – произнес Морвель. – Но в таком случае…
– В каком? – спросила Екатерина, пристально глядя на Морвеля.
– В случае сопротивления – что тогда делать?
– А как вы поступаете, месье Морвель, когда вам в руки дан королевский приказ, то есть когда вы представляете собою лицо короля, а вам оказывают сопротивление?
– Мадам, когда я почтен таким приказом и дело касается простого дворянина, я убиваю.
– Я уже сказала вам, месье, и вы не могли этого забыть, что король Франции в своем королевстве не считается ни с каким саном! Иными словами, во Франции есть только один король – король Франции, а все другие перед ним, даже носящие самый высокий титул, – простые дворяне.
Морвель начинал понимать и побледнел.
– Ого! Шутка ли, убить короля Наваррского!
– Кто вам сказал – убить? Где у вас приказ убить его? Королю угодно отправить Генриха Наваррского в Бастилию, и приказ говорит только об этом. Если он даст себя арестовать – отлично! Но так как он не даст себя арестовать, окажет сопротивление и попытается вас убить…
Морвель снова побледнел.
– Вы будете защищаться, – продолжала Екатерина. – Нельзя же требовать от такого храброго человека, как вы, чтобы он дал себя убить, не пытаясь защищаться; а при защите – ничего не поделаешь! – мало ли что может случиться! Понятно вам?
– Да, мадам; а все-таки…
– Хорошо, вам хочется, чтобы после слова «взять» я приписала своей рукой «живого или мертвого»?
– Мадам, признаться, это облегчило бы мне совесть.
– Если вы думаете, что без этого нельзя исполнить поручение, придется сделать так.
И Екатерина, пожав плечами, развернула приказ и приписала: «живого или мертвого».
– Возьмите, – сказала она, – такая формулировка приказа удовлетворяет вас?
– Да, мадам, – отвечал Морвель. – Но я прошу ваше величество предоставить исполнение приказа в мое полное распоряжение.
– А чем может повредить исполнению то, что я предложила вам?
– Ваше величество предлагает взять двенадцать человек?
– Да, чтобы было надежнее…
– А я прошу разрешения взять только шестерых.
– Почему?
– Видите ли, мадам, весьма вероятно, что с королем Наваррским случится неприятность… А если случится такая неприятность, то шестерым ее простят, потому что шестеро боялись упустить подлежащего аресту, но никто не простит двенадцати, что они подняли руку на королевское величество раньше, чем потеряли от его руки половину своих товарищей.
– Хорошо королевское величество – без королевства! Нечего сказать!
– Мадам, королевский сан дается не королевством, а происхождением, – ответил Морвель.
– Ну хорошо! Делайте, как знаете, – сказала Екатерина. – Только должна вас предупредить, чтобы вы не выходили никуда из Лувра.
– Но, мадам, мне надо собрать своих людей.
– У вас есть какой-то там сержант; вы можете это поручить ему.
– У меня есть слуга; он парень не только верный, но уже помогавший мне в таких делах.
– Пошлите за ним и сговоритесь. Вы ведь знаете Оружейную палату короля, да? Там вам дадут позавтракать; там же отдадите ваши приказания. Само это место укрепит вашу решимость, если она поколебалась. Потом, когда мой сын вернется с охоты, вы перейдете в мою молельню и там ждите, пока наступит время действовать.
– А как проникнуть в его комнату? Король Наваррский, наверно, подозревает что-то и запрется изнутри.
– У меня есть запасные ключи от всех дверей, – сказала Екатерина, – а задвижки в комнате Генриха все сняты. Прощайте, месье Морвель, до скорого свидания. Я велю проводить вас в Оружейную палату короля. Да, кстати! Не забудьте, что повеления короля должны быть выполнены независимо ни от чего, недопустимы никакие оправдания. Провал, даже какая-нибудь неудача нанесут ущерб чести короля, – это тяжкий проступок…
Екатерина, не давая Морвелю времени ответить, позвала командира своей охраны, месье Нансе, и приказала ему отвести Морвеля в Оружейную палату короля.
«Черт возьми! – говорил про себя Морвель, идя за своим проводником. – В делах убийства я иду вверх по иерархической лестнице: от простого дворянина до командира армии, от командира армии до адмирала, от адмирала до некоронованного короля. А кто знает, не доберусь ли я когда-нибудь и до коронованного?»
II. Охота с гончими
Доезжачий, который обошел кабана и поручился королю за то, что зверь не выходил из круга, оказался прав. Как только навели на след ищейку, она сейчас же стронула кабана, лежавшего в колючих зарослях, и, как определил по его следу доезжачий, зверь оказался очень крупным одинцом.
Кабан взял напрямки и в пятидесяти шагах от короля перебежал дорогу, преследуемый только той ищейкой, которая его и подняла. Немедленно спустили со смычков очередную стаю, и двадцать гончих бросились по следу зверя.
Карл IX страстно любил охоту. Как только кабан перебежал дорогу, Карл сейчас же поскакал за ним, трубя «по зрячему»; за королем скакали герцог Алансонский и Генрих Наваррский, которому Маргарита сделала знак, чтоб он не отставал от Карла.
Все прочие охотники последовали за королем. В те времена, о которых идет речь, королевские леса совсем не походили на теперешние охотничьи парки, изрезанные проезжими дорогами. Тогда леса не разрабатывались. Королям еще не приходило в голову стать торгашами, разбивать леса на делянки, на строевой лес и на сечи. Деревья насаждались не учеными лесничими, а божиею десницею, бросавшей семена по воле ветра, и не выстраивались в шахматном порядке, а росли, где им удобнее, как в девственных лесах Америки. Короче говоря, в то время этот лес являлся надежным убежищем для множества зверей – кабанов, волков, оленей, – а также для разбойников; двенадцать тропок расходились звездой из одной точки – из Бонди, а весь бондийский лес кругом охватывала проселочная дорога, как обод охватывает спицы колеса.
Если это сравнение продолжить, то ступицу довольно точно представлял единственный перекресток в самом центре леса, служивший местом сбора отбившихся охотников, откуда они снова устремлялись к тому месту, где слышались звуки потерянной охоты.
Спустя четверть часа произошло то, что всегда бывает в подобных случаях: на пути охотников оказались непреодолимые препятствия, голоса гончих потерялись где-то вдалеке, и даже сам король вернулся к перекрестку, ругаясь по своему обыкновению и проклиная все на свете.
– Что это такое? И вы, Франсуа, и вы, Анрио, тихи и смиренны, как монашки, идущие за игуменьей. Слушайте, это не охота! У вас, Франсуа, такой вид, точно вас вынули из сундука, и от вас так пахнет духами, что если вы проедете между моими гончими и зверем, то собаки сколются со следа. Послушайте, Анрио, где у вас рогатина, где аркебуза?
– Сир, а зачем мне аркебуза? Я знаю, что вы сами любите стрелять по зверю, когда его остановят гончие. А рогатиной я владею плохо – она не годится у нас в горах, и мы охотимся на медведя просто с кинжалом.
– Клянусь смертью, Генрих, когда вы вернетесь к себе в Пиренеи, непременно пришлите мне целый воз живых медведей! Наверно, это чудесная охота, когда бьешься один на один со зверем, который может задушить тебя… Прислушайтесь! Мне кажется – это гон. Нет, я ошибся.
Король взял рог и протрубил призыв. Ему ответило несколько рогов. Как вдруг один выжлятник подал в рог другой сигнал.
– По зрячему! По зрячему! – крикнул король и пустился вскачь; за ним – охотники, которые собрались по его сигналу.
Выжлятник не ошибся. Чем дальше скакал король, тем яснее слышался гон стаи, состоявшей теперь из шестидесяти собак, так как на зверя спускали одну за другой запасные стаи, оказавшиеся там, где пробегал кабан. Король еще раз «перевидел» зверя и, пользуясь тем, что здесь был чистый бор, поскакал за кабаном прямо через лес, трубя изо всех сил в рог.
Некоторое время вельможи скакали вслед за ним. Но король ехал на сильной лошади и, увлеченный страстью, скакал по таким буеракам и такой чаще, что сначала женщины, затем герцог Гиз со своими дворянами, наконец король Наваррский и герцог Алансонский вынуждены были отстать от короля. Немного дольше продержался Таван, но в конце концов и он отстал.
Все общество за исключением Карла и нескольких выжлятников, не отстававших от короля благодаря обещанной награде, вновь собралось близ перекрестка.
Король Наваррский и герцог Алансонский стояли вдвоем на длинной просеке, а в ста шагах от них спешились герцог Гиз и его дворяне; на самом перекрестке собрались женщины.
– А право, – сказал герцог Алансонский Генриху, подмигивая глазом в сторону герцога Гиза, – у этого человека, с его свитой, увешанной оружием, такой вид, как будто он король. Он даже не удостаивает взглядом таких жалких царственных особ, как мы.
– Почему же он станет относиться к нам лучше, чем наши родственники? – ответил Генрих. – Эх, брат мой! Разве мы с вами не пленники французского двора, не заложники от нашей партии?
При этих словах герцог Алансонский вздрогнул и так взглянул на Генриха Наваррского, точно хотел вызвать его на дальнейшее объяснение; но Генрих и так сказал больше, чем имел обыкновение, и теперь молчал.
– Что вы хотели сказать, Генрих? – спросил герцог Алансонский, очевидно, недовольный тем, что его зять не продолжает разговора, предоставляя ему самому вступать в объяснения.
– Я хотел сказать, – ответил Генрих, – что все эти хорошо вооруженные люди, видимо, получили задание не выпускать нас из виду и, по всем признакам, похожи на стражу, готовую задержать двух определенных лиц, если они вздумают бежать.
– Почему бежать? Зачем бежать? – спросил герцог Алансонский, прекрасно разыгрывая наивное удивление.
– Под вами, Франсуа, отличный испанский жеребец, – отвечал Генрих, делая вид, что меняет тему разговора, но продолжая свою мысль, – я уверен, что он может проскакать семь лье в час, а сегодня до полудня сделать двадцать лье. Погода хорошая, честное слово, так и подмывает отдать повод. Смотрите, какая там хорошая тропинка. Разве она не соблазняет вас, Франсуа? А у меня зуд даже в шпорах.
Франсуа не ответил ни слова. Он то краснел, то бледнел и делал вид, что прислушивается, стараясь определить, где охота.
«Вести из Польши подействовали на него, – сказал про себя Генрих, – и мой дорогой шурин что-то затевает. Ему бы очень хотелось, чтобы бежал я, но я не побегу один».
Едва успел он сделать это заключение, как подъехала коротким галопом группа гугенотов, принявших католичество и вернувшихся ко двору два или три месяца тому назад; с приветливой улыбкой они поклонились герцогу Алансонскому и королю Наваррскому.
Было очевидно, что стоило герцогу Алансонскому, подзадоренному откровенными намеками короля Наваррского, сказать слово или сделать соответствующий жест, и человек сорок всадников, ставших около них, как бы в противовес отряду герцога Гиза, прикрыли бы бегство их обоих; но герцог Франсуа отвернулся и, приставив к губам рог, протрубил сбор.
В это время вновь прибывшие всадники, вероятно, думая, что нерешительность герцога Алансонского вызвана присутствием и близким соседством гизовцев, незаметно один за другим очутились между свитой герцога Гиза и двумя представителями королевских домов и выстроились с таким тактическим искусством, которое указывало на привычку к боевым порядкам. Теперь надо было сначала опрокинуть их, чтобы добраться до герцога Алансонского и короля Наваррского, тогда как перед братом короля и его зятем лежал до самого горизонта свободный путь.
Неожиданно в просвете между деревьями появился какой-то дворянин верхом, которого не видели до этого ни Генрих, ни герцог Алансонский. Генрих старался угадать, кто он такой, но дворянин, приподняв шляпу, сам показал себя Генриху, – это был виконт Тюрен, один из вождей протестантской партии, находившийся, как думали, в Пуату.
Виконт даже мотнул головой в сторону дороги, что явно обозначало: «Едем?»
Генрих, внимательно вглядевшись в безразличное выражение лица и мертвые глаза герцога Алансонского, раза три повел шеей вправо и влево, делая вид, что ему жмет воротник колета. Это означало – нет. Виконт понял, дал лошади шпоры и скрылся в чаще леса.
В то же время послышался гон стаи и начал приближаться; немного погодя все увидели, как в дальнем конце просеки перебежал кабан, через минуту вслед за ним пронеслись гончие, и наконец подобно «дикому охотнику», проскакал Карл IX, без шляпы, не отрывая губ от рога и трубя что было силы в легких; четыре выжлятника следовали за ним. Таван где-то заблудился.
– Король! – крикнул герцог Алансонский и поскакал на гон.
Генрих, почувствовав себя увереннее благодаря присутствию своих друзей, сделал им знак не отдаляться и подъехал к дамам.
– Ну что? – спросила Маргарита, выехав на несколько шагов ему навстречу.
– Что? Охотимся на кабана, мадам, – ответил Генрих.
– Только и всего?
– Да, со вчерашнего утра ветер подул с другой стороны; помнится, я это и предсказывал.
– А перемена ветра не благоприятствует охоте, да? – спросила Маргарита.
– Да, – ответил Генрих, – иногда это путает весь установленный распорядок, и приходится его менять.
В это время чуть слышный гон стал быстро приближаться, и какое-то тревожное волнение заставило охотников насторожиться. Все приподняли головы и превратились в слух.
Почти сейчас же показался кабан, но он не проскочил обратно в лес, а побежал вдоль по тропе прямо к перекрестку, где находились дамы и любезничавшие с ними придворные дворяне и охотники, еще раньше отбившиеся от охоты.
За кабаном, «вися у него на хвосте», неслись штук сорок наиболее вязких гончих; вслед за собаками скакал Карл IX, потеряв берет и плащ, в разорванной колючками одежде, с изодранными в кровь руками и лицом.
С ним оставался только один выжлятник.
Король то бросал трубить, чтобы голосом натравливать собак, то переставал натравливать, чтобы трубить в рог. Весь мир перестал для него существовать. Если бы под ним пала лошадь, он крикнул бы, как Ричард III: «Корону – за коня!»
Но его конь, видимо, горел таким же пылом, как и всадник, едва касался земли ногами и дышал огнем.
Кабан, собаки и король – все промелькнуло как видение.
– На драку! На драку! – крикнул на скаку король и снова приложил рог к своим окровавленным губам.
На небольшом расстоянии от короля скакали следом герцог Алансонский и два выжлятника. У всех остальных лошади или отстали, или совсем остановились.
Все общество поскакало на звуки гона, так как было ясно, что кабан станет на «отстой». Действительно, не прошло и десяти минут, как зверь свернул с тропинки и пошел лесом; но, добежав до какой-то полянки, прислонился задом к большому камню и стал головой к гончим. На крик Карла, не отстававшего от кабана, все собрались здесь, на поляне.
Наступил самый увлекательный момент охоты. Зверь, видимо, решил оказать отчаянное сопротивление. Гончие, разгоряченные трехчасовой гоньбой, подстрекаемые криком и руганью короля, с остервенением накинулись на зверя.
Охотники расположились широким кругом – король впереди всех, за ним герцог Алансонский, вооруженный аркебузой, и Генрих с простым охотничьим ножом.
Герцог Алансонский отстегнул аркебузу от седельного крюка и разжег фитиль. Генрих Наваррский попробовал, свободно ли вынимается из ножен охотничий нож.
Презиравший охотничьи потехи герцог Гиз стоял со своими дворянами вдали от всех.
Дамы, сбившись в кучу, стояли тоже отдельной группой, подобно гизовцам.
Немного в стороне стоял выжлятник, напрягая все свое тело, чтобы сдержать двух одетых в кольчужные попоны молосских догов короля, которые выли от нетерпения и так рвались, что казалось, вот-вот разорвут державшие их цепи.
Кабан, защищаясь, делал чудеса. Штук сорок гончих с визгом нахлынули на него разом, точно накрыв его пестрым ковром, и норовили впиться в морщинистую шкуру, покрытую ставшей дыбом щетиной, но зверь каждым ударом своего клыка подбрасывал на десять футов вверх какую-нибудь собаку, которая падала с распоротым животом и, волоча за собой внутренности, снова бросалась в свалку. В это время Карл, всклокоченный, с горящими глазами, пригнувшись к шее лошади, яростно трубил «на драку».
Не прошло и десяти минут, как двадцать собак выбыли из строя.
– Догов! – крикнул король. – Догов!..
Выжлятник спустил двух молосских догов, которые ринулись в свалку; расталкивая и опрокидывая все, одетые в кольчуги, они мгновенно проложили себе путь, и каждый впился в кабанье ухо. Кабан, почувствовав на себе догов, щелкнул клыками от ярости и боли.
– Браво, Зубастый! Браво, Удалой! – кричал Карл IX. – Смелей, собачки! Рогатину! Рогатину!
– Не хотите ли мою аркебузу? – спросил герцог Алансонский.
– Нет, нет! – крикнул король. – Пулю не чувствуешь, как она входит, – никакого удовольствия, а рогатину чувствуешь. Рогатину! Рогатину!
Королю подали охотничью рогатину со стальным закаленным пером.
– Брат, осторожнее! – крикнула Маргарита.
– У-лю-лю! У-лю-лю! – закричала герцогиня Невэрская. – Сир, не промахнитесь! Пырните хорошенько этого гугенота!
– Будьте покойны, герцогиня! – ответил Карл.
Взяв рогатину наперевес, он кинулся на кабана, которого два дога держали с такой силой, что он не мог избежать удара. Но, увидев блестящее перо рогатины, зверь отклонился в сторону, и рогатина попала ему не в грудь, а скользнула по лопатке, ударила в камень, к которому прислонился задом зверь, и затупилась.
– Тысяча чертей! Промазал! – крикнул король. – Рогатину! Рогатину!
Король осадил лошадь, как делают ездоки перед прыжком, и отшвырнул уже негодную рогатину.
Один охотник хотел подать ему другую, но в это самое мгновение кабан, как бы предвидя грозившую ему беду, рванулся, вырвал из зубов молосских догов свои растерзанные уши и с налившимися кровью глазами, вздыбленной щетиной, шумно выпуская воздух, как кузнечный мех, опустив голову и щелкая клыками, отвратительный и страшный, налетел на лошадь короля. Карл IX был опытный охотник и предвидел возможность нападения: он поднял лошадь на дыбы, но не рассчитал силы и слишком туго натянул поводья; лошадь от чересчур затянутых удил, а может быть, и от испуга, запрокинулась назад. У всех зрителей вырвался крик ужаса; лошадь упала и придавила королю ногу.
– Сир! Отдайте повод! – крикнул Генрих Наваррский.
Король бросил поводья, левой рукой ухватился за седло, а правой старался вытащить охотничий нож; но, к несчастью, ножны зажало телом короля, и нож не вынимался.
– Кабан! Кабан! – кричал король. – Ко мне, Франсуа! На помощь!
Между тем лошадь, предоставленная самой себе, словно поняв грозившую ее хозяину опасность, напрягла все мускулы и уже поднялась на три ноги, но в ту же минуту Генрих Наваррский увидел, как герцог Франсуа, услышав призыв своего брата, страшно побледнел, приложил аркебузу к плечу и выстрелил. Пуля ударила не в кабана, который был в двух шагах от короля, а раздробила колено королевской лошади, и она ткнулась мордой в землю. Кабан бросился на короля и одним ударом клыка распорол ему сапог.
– О-о! – прошептал побелевшими губами герцог Алансонский. – Кажется, королем Франции будет герцог Анжуйский, а королем Польши – я.
В самом деле, кабан уже добрался до самой ляжки Карла! Как вдруг король почувствовал, что кто-то приподнял ему руку, затем перед его глазами сверкнул клинок и весь вонзился под лопатку зверю; в то же время чья-то одетая в железную перчатку рука оттолкнула кабанье рыло, уже проникшее под платье короля.
Карл, успевший высвободить ногу, пока поднималась его лошадь, с трудом встал и, увидев на себе струившуюся кровь, побледнел как смерть.
– Сир! – сказал Генрих Наваррский, все еще стоя на коленях и придерживая кабана, раненного в сердце. – Это пустяки! Ваше величество не ранены – я отвел клык.
Затем он встал, оставив нож в туше зверя, и кабан упал, истекая кровью, хлынувшей не из раны, а из горла.
Карл IX, стоя среди задыхавшейся от волнения толпы, ошеломленный криками ужаса, способными поколебать мужество в самом стойком человеке, одно мгновение был готов упасть тут же, рядом с тушей издыхающего кабана. Но король взял себя в руки и, обернувшись к Генриху Наваррскому, пожал ему руку, сопровождая свое рукопожатие взглядом, где блеснуло теплое подлинное чувство, вспыхнувшее в сердце короля впервые за все двадцать четыре года его жизни.
– Спасибо, Анрио! – сказал он.
– Бедный брат! – воскликнул герцог Алансонский, подходя к Карлу.
– А-а! Это ты, Франсуа! – сказал король. – Ну, знаменитый стрелок, где твоя пуля?
– Наверное, она расплющилась о шкуру кабана.
– Что вы? Боже мой! – воскликнул Генрих, прекрасно разыгрывая изумление. – Видите, Франсуа, ваша пуля раздробила ногу лошади его величества. Как странно!
– Гм! Это правда? – спросил король.
– Возможно, – уныло ответил герцог, – у меня так дрожали руки!
– Несомненно одно: для такого искусного стрелка, как вы, Франсуа, выстрел небывалый! – сказал Карл IX, нахмурив брови. – Еще раз спасибо, Анрио! Господа, – продолжал он, обращаясь ко всем, – возвращаемся в Париж, с меня довольно.
Маргарита подъехала поздравить Генриха.
– Да, да, Марго, – сказал Карл IX, – похвали его от чистого сердца! Без него французского короля звали бы теперь Генрих Третий.
– Увы, мадам, – тихо сказал Беарнец, – герцог Анжуйский и без того мой враг, а теперь обозлится еще больше. Но как быть?! Каждый делает, что может, – спросите хоть герцога Алансонского.
Он нагнулся, вытащил из туши кабана охотничий нож и раза три всадил его в землю, чтобы счистить кровь.
III. Братство
Спасая жизнь Карлу, Генрих Наваррский не просто спас жизнь человеку: он предотвратил смену государей в трех королевствах.
Если бы Карл IX погиб, то королем Франции стал бы герцог Анжуйский, а королем Польши, по всем вероятиям, – герцог Алансонский. Но так как герцог Анжуйский был любовником жены принца Конде, то наваррская корона, возможно, пошла бы в уплату мужу за покладистость его жены.
Таким образом, из всей этой великой передряги не могло выйти ничего хорошего для Генриха Наваррского. Он получал другого господина – только и всего; но вместо Карла IX, относившегося к нему сносно, Генрих Наваррский мысленно представлял себе на троне Франции герцога Анжуйского, умом и сердцем двойника своей матери Екатерины, который поклялся уничтожить Генриха и, несомненно, сдержал бы свою клятву.
В то мгновение, когда кабан набросился на Карла IX, все эти мысли мелькнули разом в голове Генриха, и мы видели последствия быстрого, как молния, вывода, – что собственная жизнь Генриха связана с жизнью Карла.
Карл IX спасся благодаря преданности Генриха Наваррского, но настоящая ее причина осталась неизвестной королю. Однако Маргарита поняла все и подивилась неожиданной для нее смелости Генриха, блиставшего, подобно молнии, только в грозовую погоду.
Избавиться от царствования герцога Анжуйского было, к сожалению, еще не все, – надо было самому стать королем. Надо было бороться за Наварру с герцогом Алансонским и принцем Конде; а самое главное – надо было уехать от этого двора, где приходилось лавировать между двумя пропастями, но уехать под защитой брата короля.
Возвращаясь из Бонди, Генрих Наваррский обдумал положение, и, когда он входил в Лувр, план его уже созрел.
Не снимая сапог, как был – в пыли и крови, он прошел прямо к герцогу Алансонскому; герцог в сильном возбуждении ходил большими шагами по комнате. При виде Генриха на лице герцога выразилось неудовольствие.
– Да, – сказал Генрих Наваррский, беря его за обе руки, – да, брат мой, я понимаю вас! Вы сердитесь на меня за то, что я первый обратил внимание короля на пулю, попавшую в ногу королевской лошади, а не туда, куда хотели вы, то есть в кабана. Что делать! Я не сдержал чувства изумления. Но все равно, король и без меня заметил бы ваш промах, не правда ли?
– Конечно, конечно, – пробормотал герцог Алансонский, – но все же ничему другому, кроме злонамеренности, я не могу приписать сделанное вами замечание, которое, как вы видели, вызвало у моего брата Карла сомнения в искренности моих намерений и омрачило наши отношения.
– Мы сейчас вернемся к этому, – ответил Генрих. – Что же касается моих добрых или злых намерений по отношению к вам, то я нарочно и пришел сюда, чтобы вы сами могли о них судить.
– Хорошо! – ответил с обычной сдержанностью герцог Алансонский. – Говорите, Генрих, я слушаю.
– Когда я выскажу вам все, то вы увидите, каковы мои намерения, так как я пришел сделать вам признание, совершенно откровенное и очень неосторожное, после которого вы можете погубить меня одним словом.
– Что такое? – спросил Франсуа, начиная беспокоиться.
– Я долго колебался, – продолжал Генрих, – прежде, нежели сказать вам то, что привело меня сюда, особенно после того, как вы сегодня не захотели меня слушать.
– Ей-богу, я не понимаю, – сказал, бледнея, герцог, – что вы хотите сказать, Генрих?
– Мне слишком дороги ваши интересы, брат мой, – ответил Генрих, – и я не могу не сообщить вам, что гугеноты предприняли известные шаги.
– Шаги? – переспросил герцог Алансонский. – Какого же рода?
– Один из гугенотов, а именно месье де Муи де Сен– Фаль, сын храброго де Муи, убитого Морвелем, – да вы знаете…
– Да.
– Так он, рискуя жизнью, явился сюда нарочно, с целью доказать мне, что я нахожусь в плену.
– Ах, вот как! И что же вы ему ответили?
– Брат мой, вам известно, что я люблю Карла нежною любовью и что королева-мать заменила мне мою мать. Поэтому я отверг все предложения.
– А в чем заключались эти предложения?
– Гугеноты желают восстановить наваррский престол, а так как по наследству престол принадлежит мне, они и предложили мне его занять.
– Так! И де Муи вместо согласия получил отказ?
– Решительный… даже в письменной форме, – продолжал Генрих. – Но с тех пор…
– Вы раскаялись? – прервал его герцог Алансонский.
– Нет, но я заметил, что де Муи, не удовлетворенный мною, направил свои взоры куда-то в другое место.
– Куда же? – тревожно спросил герцог.
– Не знаю. Быть может, на принца Конде.
– Да, это вероятно, – ответил Франсуа.
– Впрочем, – заметил Генрих, – я имею возможность безошибочно узнать, кого наметил он в вожди.
Франсуа побледнел как смерть.
– Но гугеноты, – продолжал Генрих, – не единодушны, и де Муи, как он ни безупречен и ни храбр, все же является представителем только одной их части. Другая же часть, и немалая, не утратила надежды возвести на трон Генриха Наваррского, который вначале поколебался, но потом мог раздумать.
– Вы так полагаете?
– Я каждый день вижу доказательства этому. Вы заметили, из кого состоял тот отряд, что присоединился к нам на охоте?
– Да, из обращенных дворян-гугенотов.
– Вы узнали их начальника, который подал мне знак?
– Да, это виконт Тюрен.
– Вы поняли, чего они хотели от меня?
– Да, они предлагали вам бежать.
– Как видите, – сказал Генрих встревоженному герцогу, – есть вторая партия, которая хочет другого, а не того, что де Муи.
– Вторая партия?
– Да. И, повторяю, очень сильная. Таким образом, чтоб обеспечить себе успех, надо объединить эти две партии – Тюрена и де Муи. Заговор ширится, войска размещены и ждут только сигнала. Это крайне напряженное положение требует быстрой развязки, и у меня созрели два решения, между которыми я до сих пор колеблюсь. Я и пришел отдать их на суд вам, как своему другу.
– Скажите лучше – как своему брату.
– Да, как брату, – подтвердил Генрих.
– Говорите, я слушаю.
– Прежде всего я должен объяснить вам мое душевное состояние. Никаких стремлений, никакого честолюбия у меня нет, да и нет для этого нужных способностей, – я простой деревенский дворянин, бедный, чувствительный и робкий; деятельность заговорщика представляется мне связанной с такими неприятностями, которые не вознаграждаются даже твердой надеждой на получение короны.
– Нет, брат мой, – отвечал Франсуа, – вы заблуждаетесь относительно себя: печально положение наследника царственного дома, когда все его благосостояние ограничено межевым камнем на отцовском поле, а весь почет – почетом от одного слуги; и я не очень верю тому, что вы мне говорите.
– Но тем не менее все, что я говорю вам, – правда, и настолько, что, будь у меня настоящий друг, я готов отказаться в его пользу от власти, которую мне предлагают заинтересованные во мне люди; но, – прибавил он со вздохом, – такого друга у меня нет.
– Так ли? Вы, несомненно, ошибаетесь.
– Святая пятница! Нет! – сказал Генрих. – Кроме вас, мой брат, нет никого, кто бы любил меня. Поэтому мне не хотелось бы, чтобы ужасные междоусобия обратились в мертворожденную попытку выдвинуть на свет божий кого-нибудь… недостойного… и я предпочитаю осведомить моего брата-короля о том, что происходит. Я никого не назову, не скажу, где и когда, а только предотвращу огромное несчастье.
– Великий боже! – воскликнул герцог Алансонский, не в силах подавить чувство ужаса. – Что вы говорите!.. И кто? Вы, единственная надежда протестантской партии со времени смерти адмирала! Вы, гугенот, правда обращенный, но, как думают, плохо обращенный, – вы занесете нож над вашими собратьями! Генрих, Генрих! Неужели вы не понимаете, что, поступив так, вы устроите вторую Варфоломеевскую ночь всем гугенотам королевства? Точно вы не знаете, что Екатерина спит и видит, как бы дорезать всех, кто уцелел?
И герцог с красными пятнами на лице, в трепете, стиснул руку Генриха, умоляя отказаться от этого решения, которое губило его самого.
– Вот что! – сказал Генрих с выражением полной невинности. – Неужели вы думаете, что это повлечет за собой столько несчастий? Мне кажется, что, заручившись словом короля, я гарантирую жизнь заговорщикам.
– Слово короля Карла Девятого? Генрих, разве он не дал слово адмиралу? Разве он не дал его и Телиньи? Да наконец вам лично? Говорю вам, Генрих: поступив так, вы всех погубите; не только гугенотов, но и всех тех, кто был с ними в косвенных или прямых сношениях.
Генрих с минуту как будто размышлял.
– Если бы я был при этом дворе королевским принцем, имеющим значение, – сказал он, – я бы поступил иначе. Например, будь я на вашем месте, Франсуа, то есть принцем французского царствующего дома, возможным наследником престола…
Франсуа иронически покачал головой.
– Как бы поступили вы на моем месте? – спросил он.
– На вашем месте я бы стал во главе движения, чтобы направлять его, – ответил Генрих. – Тогда бы мое имя, мой политический вес ручались перед моею совестью за жизнь мятежников, и я бы извлек пользу прежде всего для себя, а может быть, и для короля из предприятия, которое в противном случае может нанести величайший вред Франции.
Герцог слушал Генриха с такой радостью, что всякое напряжение исчезло с его лица.
– И вы думаете, – спросил он, – что такой образ действий осуществим и избавит нас от тех бедствий, которые вы предвидите в противном случае?
– Да, думаю, – ответил Генрих. – Гугеноты любят вас. Ваша внешняя скромность, ваше высокое и в то же время внушающее участие положение, наконец, ваше всегдашнее благоволение к приверженцам протестантской веры побудят их служить вам.
– Но в протестантской партии раскол, – сказал герцог. – Будут ли за меня ваши сторонники?
– Я берусь уговорить их благодаря двум обстоятельствам.
– Каким же?
– Во-первых, благодаря доверию их вождей ко мне; во-вторых, благодаря их страху за свою участь, так как ваша светлость, зная их имена…
– Но кто же мне скажет их имена?
– Я, святая пятница!
– И вы это сделаете?
– Послушайте, Франсуа, я уже сказал вам, что из всего здешнего двора я не люблю никого, кроме вас; происходит это, несомненно, оттого, что вас преследуют так же, как и меня; да и моя жена никого так не любит, как вас…
Франсуа покраснел от удовольствия.
– Поверьте, брат мой, – продолжал Генрих, – возьмите это дело в свои руки и царствуйте в Наварре. И если вы обеспечите мне место за вашим столом и хороший лес для охоты, я почту себя счастливым.
– Царствовать в Наварре! – сказал герцог. – Но если…
– Герцог Анжуйский будет провозглашен польским королем, да? Я за вас кончаю вашу мысль.
Франсуа с некоторым страхом посмотрел на Генриха.
– Так слушайте, Франсуа! – продолжал Генрих. – Поскольку от вас ничто не скрыто, я выскажу свои соображения на эту тему: предположим, герцог Анжуйский становится королем Польским, а в это время наш брат Карл – от чего сохрани его бог! – умирает, то ведь от По до Парижа двести лье, тогда как от Варшавы до Парижа – четыреста, следовательно, вы будете здесь и наследуете Карлу, когда король Польский только еще узнает, что французский престол свободен. После этого, Франсуа, если вы будете довольны мной, вы мне вернете Наваррское королевство, которое будет лишь зубцом в вашей короне; и только при этом условии я его приму. Худшее, что может с вами быть, – это остаться королем в Наварре и сделаться там родоначальником новой династии, продолжая жить по-семейному со мной и с моей семьей. А кто вы здесь? Несчастный, преследуемый принц, жалкий третий сын, раб двух старших, которого по любой прихоти могут засадить в Бастилию.
– Да, да, – ответил Франсуа, – я это чувствую так же хорошо, как плохо понимаю, почему вы сами отказываетесь от этого плана и предлагаете его мне? Неужели у вас ничего не бьется здесь?
И герцог Алансонский положил руку на сердце Генриха.
– Бывают ноши не в подъем, – ответил, улыбаясь, Генрих, – а этот груз я даже не стану пытаться поднимать. Я так боюсь самого усилия, что у меня пропадает всякое желание завладеть грузом.
– Итак, Генрих, вы действительно отказываетесь?
– Я это сказал де Муи и повторяю вам.
– Но в таких делах, мой милый брат, не говорят одни слова, а доказывают делом.
Генрих вздохнул свободно, как борец, почувствовавший, что спина противника начинает подаваться.
– Я это и докажу сегодня же, – ответил он. – В девять часов вечера и список вождей, и план их действий будут у вас. Акт о моем отречении я уже вручил де Муи.
Франсуа взял руку Генриха и с чувством пожал ее обеими руками.
В эту минуту к герцогу Алансонскому вошла Екатерина и, как обычно, без доклада.
– Вместе! Как два хороших брата! – улыбаясь, сказала королева-мать.
– Надеюсь! – ответил Генрих с полным самообладанием, тогда как герцог Алансонский побледнел от страха.
Затем Генрих отошел на несколько шагов, чтобы дать Екатерине возможность поговорить с сыном не стесняясь.
Королева-мать вынула из своей сумочки дорогую, превосходно сделанную вещицу.
– Эта застежка сделана во Флоренции, – сказала Екатерина сыну, – я вам дарю ее, чтобы носить на поясе и пристегивать к ней шпагу. – Затем шепотом добавила: – Если сегодня вечером вы услышите шум в комнате вашего зятя Генриха, не выходите.
Франсуа сжал руку матери, говоря:
– Не разрешите ли показать ему застежку, которую вы мне подарили?
– Можете сделать еще лучше: подарите от вашего и моего имени, потому что я заказала для него такую же.
– Слышите, Генрих, – сказал Франсуа, – моя милая матушка принесла мне эту драгоценную вещичку и делает ее еще драгоценнее, разрешая подарить вам.
Генрих пришел в восторг от красоты этой вещицы и рассыпался в благодарностях. Когда его излияния кончились, Екатерина сказала сыну:
– Я чувствую себя немного нездоровой и пойду лечь в постель; брат ваш Карл очень устал после охоты и тоже ляжет спать. Поэтому сегодня вечером семейного ужина не будет, а всем подадут ужин в комнаты. Ах, Генрих! Я и забыла похвалить вас за ваше мужество и ловкость: вы спасли жизнь вашему королю и брату! Вы будете вознаграждены за это.
– Мадам, я уже вознагражден! – ответил с поклоном Генрих.
– Сознанием исполненного долга? – ответила Екатерина. – Этого недостаточно; будьте уверены, что мы с Карлом не останемся в долгу и что-нибудь придумаем…
– От вас, мадам, и от моего дорогого брата Карла все будет принято как благо.
И, раскланявшись, он вышел.
«Эге, мой братец Франсуа! – подумал, выйдя, Генрих. – Теперь я уверен, что уеду не один и что заговор, имевший пока тело, будет иметь и голову. Только необходимо быть настороже. Екатерина сделала мне подарок, Екатерина обещала мне награду: тут скрыта какая-то дьявольская штука! Надо сегодня вечером поговорить с Марго».
IV. Благодарность короля Карла IX
Морвель провел часть дня в Оружейной палате короля, но, когда подошло время возвращения с охоты, Екатерина велела отвести его и его подручных к себе в молельню. Как только Карл вернулся в Лувр, кормилица его предупредила, что какой-то человек провел часть дня в его кабинете. Карл IX сначала страшно рассердился на то, что допустили постороннего в его покои, но затем он попросил кормилицу описать наружность этого человека, и когда кормилица ему сказала, что это тот самый человек, которого она к нему вводила по его распоряжению, король догадался, что это был Морвель. Вспомнив о приказе, вырванном у него матерью сегодня утром, он понял все.
– Ого! В тот самый день, когда он спас мне жизнь! – пробурчал Карл. – Время выбрано неудачно.
Он уже сделал несколько шагов, собираясь идти к матери, но его остановила одна мысль:
«Клянусь богом! Если я с ней заговорю об этом, то конца не будет спорам! Лучше будем действовать каждый по-своему».
– Кормилица, – сказал он, – запри все двери и скажи королеве Елизавете, [35] что я плохо чувствую себя после падения и эту ночь буду спать у себя.
Кормилица пошла исполнить приказания, а Карл, так как было еще рано для осуществления его проекта, сел писать стихи.
За этим занятием время бежало для короля всего быстрее. И когда пробило девять часов вечера, он думал, что еще только семь. Карл сосчитал удары и с последним ударом встал с места.
– Черт возьми! Пора! – сказал он.
Взяв плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, пробитую по его приказу в деревянной обшивке стены и неизвестную даже самой Екатерине.
Карл IX направился в покои Генриха, но Генрих прямо от герцога Алансонского зашел к себе только переодеться и тотчас вышел.
«Наверно, он пошел ужинать к Марго, – подумал король. – Насколько я могу судить, теперь он с ней в наилучших отношениях».
И Карл направился к покоям Маргариты.
После охоты Маргарита привела к себе герцогиню Невэрскую, Коконнаса и Ла Моля и вместе с ними подкреплялась сладкими пирожками и вареньем.
Карл IX стукнул во входную дверь; ее открыла Жийона, но при виде короля так перепугалась, что едва нашла в себе силы сделать реверанс и, вместо того чтобы бегом предупредить свою госпожу о приходе августейшего гостя, только ахнула и впустила Карла.
Король прошел через переднюю и, услышав взрывы смеха, двинулся на голоса к столовой.
«Бедняга Генрих! – раздумывал король. – Он веселится, не чуя над собой беды».
– Это я, – сказал он громко, приподняв завесу и высунув свое веселое лицо.
Маргарита вскрикнула от страха; несмотря на веселое выражение королевского лица, оно подействовало на нее, как голова Медузы. Сидя против завесы, она сразу узнала короля.
Двое мужчин сидели спиной ко входу.
– Его величество! – с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места.
В то время как трое сотрапезников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, Коконнас сохранил ясное сознание. Он тоже вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол все – посуду, стаканы, кушанья и свечи.
На минуту водворилась полная темнота и мертвая тишина.
– Удирай! – сказал Коконнас Ла Молю. – Смелей! Смелей!
Ла Моль не заставил просить себя вторично: он бросился к стене и стал ощупывать ее руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в знакомом кабинете. Но только он переступил порог опочивальни, как столкнулся с другим мужчиной, который только что вошел туда потайным ходом.
– Что это значит? – спросил Карл IX тоном, в котором послышалась грозная нотка раздражения. – Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Анрио! Анрио! Где ты? Отвечай!
– Мы спасены! – прошептала Маргарита, хватая чью-то руку и принимая ее за руку Ла Моля. – Король думает, что мой муж участвует в пирушке.
– Я и оставлю его в этом заблуждении, мадам, успокойтесь, – сказал Генрих, отвечая в тон Маргарите.
– Великий боже! – произнесла Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наваррского.
– Тише! – ответил Генрих.
– Тысяча чертей! Что вы там шепчетесь? – крикнул Карл. – Генрих, отвечайте, где вы?
– Я здесь, сир, – ответил голос короля Наваррского.
– Черт возьми! – прошептал Коконнас, прижавшись в углу с герцогиней Невэрской. – Час от часу не легче!
– Теперь мы окончательно погибли, – ответила Анриетта.
Коконнас, с его отчаянной смелостью, решил, что рано или поздно, а придется зажечь свечи, и лучше это сделать раньше; пьемонтец выпустил руку герцогини Невэрской, нашел среди упавшей сервировки подсвечник, подошел к жаровне для подогревания кушаний, раздул уголек и зажег от него свечу.
Комната осветилась.
Карл IX окинул ее внимательным взором.
Генрих стоял рядом со своей женой; герцогиня Невэрская прижалась в углу одна; а Коконнас, посреди комнаты с подсвечником в руке, освещал всю сцену.
– Извините, братец, – сказала Маргарита, – мы вас не ожидали.
– Поэтому, ваше величество, как вы изволили видеть, вы нас так и напугали! – заметила Анриетта.
– Да я и сам, – ответил Генрих, догадываясь обо всем, – как видно, перепугался не на шутку, потому что, вставая, опрокинул стол.
Коконнас бросил на короля Наваррского взгляд, казалось, говоривший: «Замечательно! Вот это муж так муж – все понимает с полуслова».
– Какой переполох! – повторил Карл IX. – Анрио, твой ужин на полу. Идем со мной заканчивать ужин в другом месте; сегодня я кучу с тобой.
– Неужели, сир! – сказал Генрих. – Ваше величество делает мне честь?
– Да, мое величество делает тебе честь увести тебя из Лувра. Марго, одолжи его мне; завтра утром я тебе его верну.
– Что вы, братец?! – ответила Маргарита. – Вам не требуется разрешения – здесь вы хозяин.
– Сир, я пойду к себе взять другой плащ и через минуту вернусь сюда.
– Не надо, Анрио; тот, что на тебе, вполне хорош.
– Но, сир… – попытался возразить Беарнец.
– Говорят, не ходи к себе, тысяча чертей! Не понимаешь, что тебе говорят? Идем со мной.
– Да, да, ступайте! – вдруг спохватилась Маргарита и сжала мужу локоть, догадавшись по особенному выражению глаз Карла, что говорит он неспроста.
– Я готов, сир, – сказал Генрих.
Но Карл перевел взгляд на Коконнаса, который, продолжая выполнять обязанности осветителя, зажигал другие свечи.
– Кто этот дворянин? – спросил он у Генриха, упорно глядя на пьемонтца. – Уж не Ла Моль ли?
«Кто это ему наговорил про Ла Моля?» – подумала Маргарита.
– Нет, сир, – ответил Генрих. – Здесь нет Ла Моля, и жаль, что нет, а то бы я имел честь его представить вашему величеству вместе с его другом – месье Коконнасом; они неразлучны, и оба служат у герцога Алансонского.
– Так-так! У знаменитого стрелка! – ответил Карл. – Ну хорошо.
Потом спросил, насупив брови:
– А этот Ла Моль не гугенот?
– Обращенный, сир, – ответил Генрих, – и я отвечаю за него, как за себя.
– Если вы, Анрио, после того, что вы сегодня сделали, отвечаете за кого-нибудь, то я не имею права в нем сомневаться. Но все равно мне бы хотелось посмотреть на этого месье де Ла Моля. Ну, посмотрю когда-нибудь в другой раз.
Еще раз оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту и, взяв под руку короля Наваррского, увел его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому.
– Идем, идем! Не задерживайся, Анрио, – сказал Карл. – Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, черт тебя возьми!
«Святая пятница! – подумал Генрих. – А как же де Муи? Что будет с ним у меня в комнате? Ведь он один! Хорошо, если воздух Лувра, вредный для меня, не окажется еще вреднее для него!»
– Да, вот что! – сказал Карл IX, когда они прошли подъемный мост. – Тебе ничего, что молодцы герцога Алансонского ухаживают за твоей женой?
– В чем это выражается, сир?
– А разве этот месье Коконнас не делает глазки твоей Марго?
– Кто вам сказал, сир?
– Да уж говорили! – ответил король.
– Простая шутка, сир; месье Коконнас делает глазки, это верно, но только герцогине Невэрской.
– Вот как!
– Ручаюсь вашему величеству, что это так.
Карл IX расхохотался.
– Ладно, – сказал он, – пусть теперь герцог Гиз начнет мне сплетничать, я ему утру нос, рассказав о проделках его невестки. Впрочем, – сказал, подумав, Карл, – я не уверен, о ком он говорил, – о месье Коконнасе или о месье де Ла Моле.
– Ни тот, ни другой, сир, – ответил Генрих. – За чувства моей жены я отвечаю.
– Вот это хорошо, Анрио! Хорошо! – сказал король. – Люблю тебя, когда ты такой. Клянусь честью, ты молодец! И думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись.
Сказав это, он свистнул особенным образом, – тотчас четверо дворян, ждавших на углу улицы Бове, подошли к королю, и вся компания углубилась в город. Пробило десять часов.
Когда король и Генрих ушли от Маргариты, она сказала:
– Так как же? Сядем опять за стол?
– Нет, нет, – ответила герцогиня Невэрская, – я натерпелась такого страха! Да здравствует домик в переулке Клош– Персе! Туда не войдешь без предварительной осады, там наши молодцы-кавалеры имеют право пустить в ход шпаги. Месье Коконнас, что вы ищете в шкафах и под диванами?
– Ищу моего друга Ла Моля, – отвечал пьемонтец.
– Поищите лучше около моей опочивальни, – сказала Маргарита, – там есть такой кабинет…
– Хорошо, – ответил пьемонтец, – уже иду.
И он вошел в опочивальню.
– Ну, в каком положении наши дела? – послышалось из темноты.
– Ага! Дьявольщина! Мы дошли до десерта.
– А король Наваррский?
– Он ничего не видит. Превосходный муж! Желаю такого же моей жене. Но боюсь, что такой будет у нее только во втором браке.
– А король Карл?
– А король – другое дело; он увел мужа.
– Правда?
– Да уж говорю тебе. Кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня искоса, когда узнал, что я на службе у герцога Алансонского, и совсем косо – когда узнал, что я твой друг.
– Неужели ты думаешь, что ему говорили обо мне?
– Боюсь, не наговорили ли чересчур много. Но дело сейчас не в этом; по-видимому, наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Руа-де-Сисиль, а мы будем конвоировать паломниц.
– Нельзя! Ты же сам знаешь.
– Нельзя? Почему?
– Ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества.
– Дьявольщина! Верно! Я все забываю, что у нас есть чин и мы имели честь сделаться из дворян лакеями.
Друзья подошли к королеве и герцогине Невэрской и сказали, что они должны быть при герцоге хотя бы в то время, когда он будет укладываться спать.
– Хорошо, – сказала герцогиня Невэрская, – но мы уходим из дому.
– А можно узнать – куда? – спросил Коконнас.
– Вы слишком любопытны, – ответила герцогиня. – Quaere et invenies. [36]
Оба молодых человека раскланялись и со всех ног побежали наверх, к герцогу Алансонскому.
Герцог был в кабинете и, видимо, ждал их.
– Ай-ай! Вы очень запоздали, господа.
– Только что пробило десять, ваше высочество.
Герцог вынул из кармашка часы и посмотрел.
– Верно, – сказал он. – Но в Лувре уже все легли спать.
– Да, ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажете впустить в опочивальню вашего высочества дворян, дежурных при вашем отходе ко сну?
– Наоборот, пройдите в маленькую залу и отправьте всех по домам.
Молодые люди исполнили распоряжение, которое никого не удивило, принимая во внимание характер герцога, и затем вернулись.
– Ваше высочество, – спросил Коконнас, – вы ляжете спать или будете работать?
– Нет, вы свободны до завтрашнего дня.
– Эге! Сегодня, как видно, весь Лувр не ночует дома, – шепнул Коконнас на ухо Ла Молю, – все беса празднуют, а чем мы хуже?
И молодые люди, прыгая через ступеньки, взбежали к себе наверх, схватили ночные шпаги и плащи, кинулись вслед за своими дамами и нагнали их на углу переулка Кок-Сент– Оноре.
В это время герцог Алансонский заперся у себя в спальне и, напрягая слух и зрение, стал ждать тех чрезвычайных событий, о которых его предупреждала королева-мать.
V. Бог располагает
Как верно заметил герцог Алансонский, полная тишина царила в Лувре.
Королева Маргарита с герцогиней Невэрской отправились в переулок Тизон. Коконнас и Ла Моль пошли их провожать. Король и Генрих разгуливали где-то в городе. Герцог Алансонский затаился у себя и со смутной тревогой ждал событий, предреченных королевой-матерью. Наконец сама Екатерина улеглась в постель, а мадам де Сов, сидя у изголовья ее кровати, читала вслух итальянские новеллы, очень смешившие эту милую королеву.
Екатерина уже давно не чувствовала себя в таком хорошем настроении. С большим аппетитом поужинав в обществе своих дам, посоветовавшись с врачом, подсчитав домашние расходы за истекший день, она заказала молебен за успех некоего предприятия, важного, как она сказала, для благополучия ее детей. Это был ее обычай – впрочем, обычай общефлорентийский – заказывать при известных обстоятельствах молебны и обедни, назначение которых известно было только заказчику да богу.
Она даже успела еще раз принять Рене и выбрать несколько новинок из его душистых подушечек и обширного набора всякой парфюмерии.
– Пошлите узнать, – сказала она, – дома ли дочь моя, королева Наваррская, и если она дома, то пусть попросят ее прийти посидеть со мной.
Паж, получивший это приказание, вышел и через минуту вернулся в сопровождении Жийоны.
– Я посылала за госпожой, а не за ее фрейлиной, – строго заметила королева-мать.
– Мадам, – отвечала Жийона, – я сочла своим долгом лично явиться к вашему величеству, так как королева Наваррская вышла из дому вместе со своей подругой, герцогиней Невэрской.
– Ушла из дому так поздно? – сказала Екатерина, нахмурив брови. – Куда же она могла пойти?
– Смотреть алхимические опыты, – ответила Жийона, – они будут происходить в доме Гизов, в павильоне герцогини Невэрской.
– А когда она вернется? – спросила королева-мать.
– Опыты продлятся до глубокой ночи, – ответила Жийона, – и весьма возможно, что ее величество королева Наваррская останется у герцогини Невэрской до завтрашнего дня.
– Счастливица эта королева Наваррская, – как бы про себя заметила Екатерина, – она королева, а у нее есть друзья; она носит корону, зовется «ваше величество», а у нее нет подданных, – какая счастливица!
После этого своеобразного замечания, вызвавшего затаенную улыбку у присутствующих, Екатерина сказала Жийоне:
– Впрочем, если она ушла из дому… Ведь вы говорите, что она ушла?
– С полчаса тому назад, мадам.
– Ну, тем лучше. Ступайте.
Жийона поклонилась и вышла.
– Продолжайте чтение, Карлотта, – сказала королева– мать.
Мадам де Сов начала читать.
Минут через десять Екатерина прервала чтение, сказав:
– Ах да! Пусть удалят охрану из галереи. – Это был сигнал, которого дожидался Морвель.
Приказание королевы-матери было исполнено, и мадам де Сов снова принялась за чтение новеллы.
Она читала уже с четверть часа, и ничто не прерывало чтения, как вдруг до королевской спальни донесся протяжный и такой ужасный крик, что у присутствующих волосы встали дыбом. Вслед за ним раздался пистолетный выстрел.
– Что с вами, Карлотта? Почему вы перестали читать? – спросила Екатерина.
– Мадам, разве вы не слышали? – побледнев, сказала молодая дама.
– Что? – спросила Екатерина.
– Крик.
– И пистолетный выстрел, – добавил командир охраны.
– Крик? Пистолетный выстрел?.. Я ничего не слыхала, – сказала Екатерина. – А кроме того, и крик, и пистолетный выстрел – разве это такой редкий случай в Лувре? Читайте, Карлотта, читайте!
– Прислушайтесь, мадам, – говорила мадам де Сов, в то время как командир охраны стоял, положив руку на эфес шпаги и не смея выйти из спальни без разрешения Екатерины, – слышите? Топот, ругательства!
– Мадам, не надо ли узнать, в чем дело? – спросил командир охраны.
– Совершенно не нужно, месье, оставайтесь на своем месте, – сказала Екатерина, приподнимаясь на локте, как будто для того, чтобы подчеркнуть непреложность приказания. – А кто будет охранять меня в случае тревоги?.. Да это передрались какие-нибудь пьяные швейцарцы.
Спокойствие королевы-матери, с одной стороны, и ужас, реявший над всеми остальными, так явно противоречили друг другу, что мадам де Сов, несмотря на свою робость, пытливо посмотрела на королеву-мать.
– Мадам, но ведь похоже на то, что там кого-то убивают!
– Ну кого там могут убивать?
– Да короля Наваррского! Это шум в его покоях.
– Дура! – сказала королева-мать, которая, при всем своем самообладании, начала волноваться и забормотала какую-то молитву. – Этой дуре всюду чудится ее король Наваррский!
– Боже мой! Боже мой! – произнесла мадам де Сов, откидываясь на спинку кресла.
– Все кончилось, кончилось! – сказала Екатерина. – Командир, – продолжала она, обращаясь к де Нансе, – я надеюсь, что за этот беспорядок во дворце вы завтра сурово накажете виновных. Продолжайте чтение, Шарлотта.
Екатерина откинулась на подушку как будто с чувством равнодушия к происходящему, но это равнодушие очень походило на изнеможение, судя по крупным каплям пота, выступившим на ее лице.
Мадам де Сов повиновалась строгому приказу, но лишь ее глаза и рот участвовали в чтении; мысли же витали в другом месте, где она видела страшную опасность, нависшую над головой возлюбленного. Через несколько минут эта внутренняя борьба между взволнованными чувствами и требованиями этикета так угнетающе подействовала на мадам де Сов, что голос ее перешел в какой-то невнятный звук, книга выскользнула у нее из рук и сама она упала в обморок.
Вдруг снова раздался шум, но еще сильнее; быстрый топот ног прокатился по коридору; два выстрела громыхнули так, что задребезжали стекла. Екатерина, изумленная затянувшейся борьбой, приподнялась на постели, бледная, с широко раскрытыми глазами. Командир охраны хотел выбежать в коридор, но в тот же миг Екатерина его остановила, сказав:
– Все оставайтесь здесь, я сама пойду узнать, в чем дело.
А вот что происходило в это время или, вернее, уже произошло.
Утром де Муи получил через Ортона ключ от спальни Генриха Наваррского. В полый стержень ключа была засунута свернутая трубочкой записка. Де Муи при помощи булавки вынул записку. В записке был пароль для прохода в Лувр на ближайшую ночь.
Кроме этого, Ортон на словах передал де Муи приглашение Генриха явиться в Лувр в десять часов вечера.
В половине десятого де Муи надел крепкую, не раз испытанную кирасу, натянул сверху шелковый колет, прицепил шпагу, засунул за пояс пистолеты и все это прикрыл пресловутым вишневым плащом, таким же, как у Ла Моля.
Мы уже знаем, что Генрих, прежде чем зайти к себе, почел нужным навестить Маргариту и, пройдя к ней по потайной лестнице, успел как раз вовремя втолкнуть Ла Моля в спальню Маргариты и занять его место в столовой, куда уже вошел король. Это произошло в ту самую минуту, когда и де Муи благодаря присланному Генрихом паролю и знаменитому вишневому плащу вошел в пропускную калитку Лувра. Молодой человек, стараясь как можно лучше подражать походке Ла Моля, поднялся наверх, к королю Наваррскому. В передней он застал Ортона, который его ждал.
– Сир де Муи, – сказал горец, – король вышел из Лувра, но приказал мне провести вас к нему в спальню и просить вас подождать. Если он очень запоздает, то предлагает вам лечь спать на его кровати.
Де Муи вошел в спальню без дальнейших объяснений, так как все сказанное Ортоном было лишь повторением того, что он уже сообщил утром.
Чтобы не терять времени, де Муи взял перо и чернила и, подойдя к висевшей на стене превосходной карте Франции, стал высчитывать и вычерчивать перегоны между Парижем и По.
На эту работу ушло всего четверть часа, и, кончив ее, де Муи не знал, чем себя занять.
Он прошелся несколько раз по комнате, протер глаза, зевнул, сел, потом встал и опять сел. Наконец, воспользовавшись предложением Генриха и свободой обращения, существовавшей тогда между владетельными особами и их дворянами, де Муи положил на ночной столик пистолеты, поставил на него лампу, разлегся на кровати с темными занавесками, стоявшей в глубине комнаты, положил у бедра обнаженную шпагу и в полной уверенности, что его не застигнут врасплох, так как в соседней комнате был слуга, заснул крепким сном, и вскоре его храп стал перекатываться эхом под сводом балдахина, высившегося над кроватью. Де Муи храпел, как подобает настоящему рубаке, и мог поспорить в этом отношении с самим королем Наваррским.
В это время семь человек с кинжалами на поясах и с обнаженными шпагами в руках молча крались по коридору, в который выходила дверь из покоев короля Наваррского и маленькая дверь из покоев королевы-матери.
Один из семи шел впереди. Кроме обнаженной шпаги и большого, похожего на охотничий нож кинжала, два неизменных пистолета были прицеплены у него к поясу серебряными застежками.
Этот человек был Морвель.
Подойдя к двери Генриха Наваррского, он остановился.
– Вы уверены, что часовые удалены из коридора? – спросил он одного, видимо начальника отряда.
– Ни на одном посту нет охраны, – ответил начальник.
– Хорошо, – сказал Морвель, – теперь надо узнать, дома ли тот, кто нам нужен.
– Но ведь это покои короля Наваррского, – возразил начальник, хватая за руку Морвеля, уже взявшегося за дверной молоток.
– А кто вам говорит, что это не его покои? – спросил Морвель.
Все переглянулись в полном изумлении, а начальник даже отступил назад.
– Фью-ю-ю! – свистнул начальник. – Как? Арестовать кого-нибудь в такое время, да еще в покоях короля Наваррского?
– А что вы скажете, – спросил Морвель, – когда узнаете, что тот, кого вы должны сейчас арестовать, – сам король Наваррский?
– Скажу, что это дело очень важное, и без приказа, подписанного рукою короля Карла…
– Читайте, – прервал его Морвель. И, вынув из-под колета приказ, врученный ему Екатериной, подал его начальнику.
– Хорошо, – сказал начальник, прочитав приказ, – не могу ничего возразить.
– И вы готовы его исполнить?
– Я готов.
– А вы? – продолжал Морвель, обращаясь к пяти другим.
Они почтительно поклонились.
– Выслушайте меня, – сказал Морвель, – вот план действий: двое остаются у этой двери, двое станут у опочивальни и двое войдут туда со мной.
– Дальше? – спросил начальник.
– Слушайте внимательно: нам приказано не допускать никаких криков, ни малейшего шума; всякое нарушение этого приказа будет наказано смертью.
– Ну, ну! У него разрешение на все! – сказал начальник тому, кто был назначен идти вместе с ним за Морвелем.
– Без исключения, – сказал Морвель.
– Бедняга король Наваррский, теперь ему несдобровать. Видно, так уж ему и на роду написано.
– И на бумаге, – добавил Морвель, беря от начальника приказ и засовывая его опять за пазуху.
Морвель вставил в замочную скважину ключ, данный ему Екатериной, и, оставив двух человек у входной двери, вошел с четырьмя другими в переднюю.
– Ага! – произнес он, услышав раскатистый храп спавшего, слышный даже в передней. – Как видно, мы найдем то, что нам нужно.
Ортон, думая, что это вернулся его хозяин, тотчас вышел навстречу и столкнулся с пятью вооруженными людьми, уже вошедшими в первую комнату.
Увидев зловещее лицо Морвеля, по прозвищу Королевский Истребитель, верный слуга отступил назад и загородил собою дверь в следующую комнату.
– Кто вы такой? – спросил Ортон. – Что вам нужно?
– Именем короля – где твой господин? – ответил Морвель.
– Мой господин?
– Да, где король Наваррский?
– Короля Наваррского нет дома, – сказал Ортон, еще настойчивее заграждая дверь, – значит, вам незачем и входить.
– Отговорки! Враки! – сказал Морвель. – Ну-ка отойди!
Беарнцы вообще упрямы, и этот заворчал, как горская овчарка, и, не оробев, ответил:
– Не войдете! Короля здесь нет. – И Ортон вцепился в дверь.
Морвель подал знак. Все четверо набросились на упрямца и стали отрывать его от наличника, за который он ухватился; тогда Ортон решил крикнуть, но Морвель зажал ему рот рукой. Верный слуга жестоко укусил его в ладонь. Морвель с глухим стоном отдернул руку и ударил его по голове эфесом шпаги. Ортон зашатался и, крикнув: «К оружию! К оружию!» – упал; голос его прервался, и Ортон потерял сознание.
Убийцы перешагнули через его тело; двое остались у этой двери, а двое других под предводительством Морвеля вошли в спальню.
При свете лампы, горевшей на ночном столике, они увидели кровать, но полог был задернут.
– Ого! А он ведь перестал храпеть, – сказал начальник.
– Бери! – приказал Морвель.
При звуке его голоса из-за полога раздался хриплый крик, скорее похожий на рычание льва, чем на голос человека. Полог стремительно распахнулся, и глазам убийц предстал мужчина в кирасе и в шлеме, покрывавшем голову до самых глаз, – он сидел на кровати, положив обнаженную шпагу на колени и держа в каждой руке по пистолету.
Едва успев разглядеть лицо и узнать де Муи, Морвель почувствовал, что у него волосы на голове шевелятся и встают дыбом; лицо его страшно побледнело, рот наполнился слюной, он попятился назад, как будто перед ним было привидение.
Вдруг сидевшая фигура встала и шагнула вперед на столько же, на сколько отступил Морвель, – казалось, что тот, кому грозили смертью, наступал, а от него бежал насильник.
– Ага, злодей! – глухим голосом сказал де Муи. – Ты пришел убить и меня, как убил моего отца?!
Только двое вошедших в спальню короля вместе с Морвелем слышали эти грозные слова, и одновременно с этими словами пистолетное дуло направилось в лоб Морвеля. В то мгновение, когда де Муи нажал спуск, Морвель упал на колени; раздался выстрел; один из стражей позади Морвеля, оказавшийся на виду вследствие уловки Морвеля, свалился замертво, получив пулю в сердце. Морвель сейчас же ответил выстрелом, но пуля расплющилась о кирасу де Муи.
Де Муи, мгновенно измерив глазами расстояние, весь собрался для прыжка, одним махом своей тяжелой шпаги раскроил череп другому стражу, мгновенно сделал поворот к Морвелю и скрестил свою шпагу с его шпагой.
Бой был жестокий, но короткий. На четвертой схватке Морвель почувствовал у себя в горле холод пронзавшей стали; он сдавленно вскрикнул, упал навзничь и, падая, опрокинул лампу, которая тут же потухла.
Тогда де Муи, пользуясь внезапной темнотой, сильный и ловкий, как гомеровский герой, бросился стремглав в переднюю, сбил с ног одного стража, отпихнул другого, мелькнул как молния мимо двух стоявших у входной двери, выпустил еще две пули, оставившие выбоины на стенах коридора, и теперь уже мог считать себя спасенным, имея еще один заряд в пистолете в придачу к шпаге, наносившей такие страшные удары.
На одно мгновение де Муи задумался: бежать ли ему к герцогу Алансонскому, как будто бы открывшему в то время свою дверь, или попытаться уйти из Лувра. Он принял последнее решение, не очень быстро пробежал по галереям, одним скачком перемахнул через десять ступенек вниз, к пропускной калитке, сказал пароль и проскользнул мимо часовых, крича:
– Бегите туда: там убивают по приказанию короля!
Благодаря растерянности караульных, озадаченных этими словами, тем более что им предшествовали выстрелы, де Муи спокойно дошел до переулка Кок и скрылся в темноте, не получив ни одной царапины.
Это произошло как раз в то время, когда Екатерина остановила командира своей охраны, сказав ему:
– Побудьте здесь, я посмотрю сама, что там происходит.
– Мадам, – ответил командир, – все же опасность, которой может подвергнуться ваше величество, требует, чтобы я вам сопутствовал.
– Останьтесь здесь, месье! – сказала Екатерина уже более властным тоном. – У королей есть более мощная охрана, нежели меч.
Командир остался в комнате.
Екатерина взяла лампу, сунула ноги в бархатные ночные туфли, вышла из своей опочивальни в коридор, еще наполненный пороховым дымом, и двинулась, бесстрастная, невозмутимая, как призрак, к покоям короля Наваррского.
Всюду царила тишина. Екатерина подошла к двери, переступила через порог и прежде всего увидела в передней Ортона, лежавшего без чувств.
– Так! Вот слуга. Очевидно, дальше найдем и господина!
И она вошла в следующую дверь; здесь ее нога наткнулась на какой-то труп, она опустила лампу: это лежал стражник с разрубленной головой, он уже умер. В трех шагах от него лежал начальник, раненный пулей, и испускал последний хриплый вздох.
Наконец, еще дальше, у кровати, валялся третий, бледный как смерть; кровь лилась у него из двух ран на шее, он судорожно двигал руками, стараясь приподняться. Это был Морвель.
Дрожь пробежала по всему телу Екатерины. Она посмотрела на пустую кровать, оглядела всю комнату, тщетно стараясь найти среди этих людей, плававших в собственной крови, желанный труп.
Морвель узнал Екатерину; глаза его с ужасом расширились, и он сделал жест отчаяния протянутой к ней рукой.
– Где он? – спросила королева тихо. – Куда девался? Негодяи, вы его упустили!
Морвель попытался выговорить какие-то слова, но из его раненой гортани вырывались лишь невнятные свистящие звуки, красноватая пена окрасила его губы, он замотал головой, выражая этим и свое бессилие, и физическую боль.
– Говори же! – крикнула Екатерина. – Говори! Скажи хоть одно слово!
Морвель показал на свое горло, снова издал какие-то бессвязные звуки, попытался пересилить себя, но только захрипел и потерял сознание.
Екатерина огляделась: вокруг нее лежали одни трупы или умирающие; ручьи крови текли по комнате, и могильное безмолвие царило на месте действия.
Она попробовала еще раз спросить Морвеля, но не могла привести его в сознание. Морвель лежал не только безгласен, но и недвижим: из-под его колета высовывалась какая-то бумага – это был приказ об аресте короля Наваррского. Екатерина выхватила его и спрятала у себя на груди.
В эту минуту позади нее чуть скрипнула половица. Екатерина обернулась и увидела герцога Алансонского, стоявшего в дверях спальни, – он не удержался, пришел на шум и остолбенел от зрелища, представшего его глазам.
– Вы здесь? – спросила Екатерина.
– Да, мадам. Боже мой, что произошло? – в свою очередь, спросил герцог.
– Франсуа, идите к себе; вы скоро узнаете, что произошло.
Герцог Алансонский был не так уж неосведомлен о происшедшем, как это думала Екатерина. Едва по коридору раздались шаги солдат, он стал прислушиваться. Когда же герцог увидел людей, входивших к королю Наваррскому, то, сопоставив это со словами, сказанными ему Екатериной, он догадался, что должно было произойти, и радостно предвкушал минуту, когда рука, более сильная, чем у него, уничтожит его опасного союзника.
Вскоре выстрелы и быстрые шаги убегавшего человека привлекли внимание герцога; он увидел, как в узкой полоске света, падавшего из его чуть приоткрытой двери на лестницу, мелькнул хорошо знакомый вишневый плащ.
– Де Муи! – воскликнул он. – Де Муи у моего зятя! Но это невозможно! Неужели это Ла Моль?
Герцог встревожился. Он вспомнил, что молодой человек был ему рекомендован самой Маргаритой, и, желая убедиться, был ли бежавший человек Ла Молем, быстро поднялся в комнату молодых дворян. Там никого не было, но в одном ее углу висел знаменитый вишневый плащ. Сомнения его рассеялись: значит, это был не Ла Моль, а де Муи.
Герцог, бледный, дрожа от страха, как бы гугенот не попался и не выдал заговора, сейчас же побежал к пропускной калитке Лувра. Там он узнал, как удалось вишневому плащу благополучно проскользнуть, крикнув, что в Лувре убивают по приказанию короля.
– Он ошибся, – прошептал герцог Алансонский, – не короля, а королевы-матери!
Герцог вернулся на арену боя, где и застал Екатерину, бродившую, как гиена, среди трупов.
По приказанию матери юноша ушел к себе, притворяясь послушным и спокойным, несмотря на большое смятение в мыслях.
Екатерина была в отчаянии от неудавшегося покушения; она позвала командира своей охраны, велела убрать трупы, распорядилась отнести раненого Морвеля к нему домой и приказала не будить короля.
– Ох! И на этот раз он ускользнул! – говорила она, возвращаясь к себе в покои. – Десница божия простерлась над этим человеком, он будет царствовать! Да, будет царствовать!
Перед тем как открыть дверь в спальню, она провела рукою по лбу и сложила губы в свою обычную улыбку.
– Мадам, что там такое? – спросили в один голос все присутствующие, кроме мадам де Сов, которая была до такой степени испугана, что не могла говорить.
– Пустяки, – ответила Екатерина, – просто драка.
– Ой! – вдруг вскрикнула мадам де Сов, показывая пальцем на то место, где прошла Екатерина. – О-о! Ваше величество, вы говорите – пустяки, а каждый ваш шаг оставляет на ковре кровавый след.
VI. Королевская ночь
А в это время Карл IX, взяв под руку Генриха Наваррского, шел по Парижу в сопровождении четырех дворян, шедших сзади, и двух факельщиков – впереди.
– Когда я выхожу из Лувра, – говорил король, – я испытываю такое же наслаждение, точно попадаю в прекрасный лес; я легко дышу, я живу, я чувствую себя свободным.
Генрих улыбнулся.
– Как бы вам было хорошо в наших беарнских горах! – сказал Генрих.
– Да, Анрио, я понимаю, что тебе хочется туда вернуться; но если тебе уж очень невтерпеж, то добрый мой совет: будь очень осторожен, ибо моя мать Екатерина так тебя любит, что без тебя не может жить.
– Как ваше величество намерены провести этот вечер? – спросил Генрих, уклоняясь от этого опасного разговора.
– Хочу тебя кое с кем познакомить, а ты мне скажешь свое мнение.
– Я в полном распоряжении вашего величества.
Два короля, сопровождаемые охраной, прошли улицу Савонри и, поравнявшись с домом принца Конде, заметили, что два человека, закутанные в длинные плащи, выходят из потайной двери, которую один из них бесшумно запер за собой.
– Ого! – произнес король, обращаясь к Генриху, который тоже всматривался в них, но, по своему обыкновению, молча. – Это заслуживает внимания.
– Почему вы так думаете, сир? – спросил король Наваррский.
– Это касается не тебя, Анрио. Ты уверен в верности своей жены, – с улыбкой отвечал Карл, – но твой двоюродный братец Конде в своей жене не так уверен, а если уверен, то, черт возьми, напрасно!
– Но откуда вы взяли, что эти господа были у мадам Конде?
– Чутьем чую. Как только они нас увидали, сейчас же спрятались под ворота и стоят там не шелохнувшись, а ко всему прочему, у того, что меньше ростом, – своеобразный покрой плаща… Ей-богу, это было бы оригинально.
– Что?
– Так… ничего! Просто мне в голову пришло одно соображение. Идем.
Король пошел прямо к двум незнакомцам, которые, заметив это, стали уходить.
– Эй, господа! Остановитесь! – крикнул король.
– Это к нам относится? – спросил чей-то голос, от которого вздрогнули король Карл и его спутник.
– Ну, Анрио, узнаешь теперь, чей это голос? – спросил Карл.
– Сир, – отвечал Генрих, – если бы ваш брат был не под Ла-Рошелью, я бы побился об заклад, что это он.
– Значит, он не под Ла-Рошелью, вот и все, – ответил Карл.
– Кто же с ним?
– А ты не узнаешь?
– Нет, сир.
– Однако у него такой рост, что ошибиться трудно. Подожди, сейчас узнаешь… Эй! Вам говорят! Разве вы не слышите, черт подери?
– А вы разве патруль, что останавливаете прохожих? – спросил высокий, выпрастывая руку из-под плаща.
– Считайте, что мы патруль, и когда вам приказывают, то стойте! – сказал король и, наклонившись к Генриху, шепнул: – Сейчас увидишь извержение вулкана.
– Вас восемь человек, – сказал высокий, обнажая не только руку, но и свое лицо, – да хотя бы вас была сотня, лучше идите своей дорогой.
– Вот так так! Герцог Гиз! – прошептал Генрих.
– Наш милый родственник, герцог Лотарингский! – сказал король. – Наконец-то вы показали, кто вы такой! Очень хорошо!
– Король! – воскликнул герцог Гиз.
Его спутник, услышав это восклицание, снял было из уважения шляпу, но тотчас опять закутался в свой плащ и остался на месте.
– Сир, – сказал герцог Гиз, – я только что был у моей невестки, мадам Конде.
– Да-а… И взяли с собой одного из ваших дворян. Кого именно?
– Сир, – ответил герцог, – ваше величество его не знает.
– Ну, что ж, мы познакомимся, – ответил король и направился к закутанной фигуре, сделав знак служителю подойти с факелом.
– Простите, брат мой! – сказал герцог Анжуйский, распахивая свой плащ и кланяясь с плохо скрытой досадой.
– Ха-ха-ха! Так это вы, Генрих?.. Да нет, это невозможно! Я, верно, ошибаюсь… Мой брат, герцог Анжуйский, не пошел бы в гости, не повидавшись раньше со мной. Ему хорошо известно, что, когда принцы крови возвращаются в Париж, они входят в него только одним путем: в пропускные ворота Лувра.
– Простите, сир! – сказал герцог Анжуйский. – Прошу ваше величество извинить мне мою ветреность.
– А что, дорогой мой брат, вы делали в доме Конде? – шутливо спросил король.
– Да то, – с лукавым видом сказал король Наваррский, – о чем ваше величество сейчас говорили. – И, нагнувшись к уху короля, закончил свою мысль, после чего громко расхохотался.
– Что тут такого? – высокомерно спросил герцог Гиз, обращавшийся с бедным королем Наваррским, как и все при дворе, довольно грубо. – Почему мне не бывать у моей невестки? Ведь герцог Алансонский ходит же к своей?
Генрих слегка покраснел.
– К какой невестке? – спросил Карл. – Я знаю только одну его невестку – королеву Елизавету.
– Простите, сир, я хотел сказать – к сестре, королеве Маргарите, которую мы видели полчаса тому назад, когда шли сюда: она проследовала в своих носилках, а их сопровождали два франтика, бежавшие один с правой стороны носилок, другой с левой.
– Вот как! – сказал Карл. – Что скажете на это, Генрих?
– То, что королева Наваррская вольна ходить, куда ей хочется, но я сомневаюсь, чтобы она вышла из Лувра.
– А я в этом уверен, – ответил герцог Гиз.
– Я тоже, – добавил герцог Анжуйский, – и это подтверждается тем обстоятельством, что ее носилки стояли в переулке Клош-Персе.
– В ее прогулке, наверно, участвует и ваша невестка; не эта, – сказал Генрих Наваррский Гизу, указывая пальцем на дом Конде, – а та, – и обратил палец в ту сторону, где находился дом Гизов. – Когда мы уходили, они были вместе; да вы сами знаете, что они неразлучны.
– Я не понимаю, о чем говорит ваше величество, – ответил Гиз.
– Наоборот, все очень ясно, – возразил король, – недаром два франта были при носилках, у каждой дверцы свой.
– Хорошо, – сказал герцог Гиз, – раз королева и моя невестка явно совершают неподобающий поступок, то передадим его на суд короля, чтобы прекратить такой соблазн!
– К чему? – сказал Генрих Наваррский. – Оставьте в покое и принцессу Конде, и герцогиню Невэрскую… Король не боится за свою сестру… а я доверяю своей жене.
– Нет, нет, – возразил Карл, – я хочу вывести это дело на чистую воду, но мы займемся им сами. Так вы говорите, что носилки остановились в переулке Клош-Персе?
– Да, сир, – ответил герцог Гиз.
– А вы нашли бы то место, где они остановились?
– Да, сир.
– Тогда идем туда, и если понадобится сжечь дом, чтобы узнать, кто там находится, его сожгут.
С этими намерениями, обещавшими мало хорошего тем, о ком шла речь, четыре представителя владетельных особ христианского мира направились на улицу Сент-Антуан, а затем свернули в переулок Клош-Персе.
Карл хотел ограничить это дело семейным кругом; поэтому он отпустил сопровождавших его дворян, предоставив им провести ночь, как хотят, но приказал быть около Бастилии к шести часам утра и привести с собой двух верховых лошадей.
В переулке Клош-Персе было всего три дома, и отыскать нужный оказалось тем легче, что жильцы двух домов охотно соглашались впустить к себе; один дом примыкал к улице Сент-Антуан, а другой – к улице Руа-де-Сисиль.
Совсем по-другому показал себя третий: это был тот самый дом, который находился под охраной швейцара-немца, а немец был не из сговорчивых людей. Казалось, что в эту ночь Парижу было предназначено судьбой явить миру два образца верных слуг.
Напрасно герцог Гиз грозил немцу на самом чистом немецком языке, напрасно герцог Анжуйский предлагал кошелек, набитый золотыми, напрасно Карл решился объявить себя начальником патруля – честный немец не обращал внимания ни на угрозы, ни на золото, ни на приказ. Увидев, что непрошеные гости от него не отстают, даже наоборот – становятся еще назойливее, он просунул сквозь прутья железной решетки дуло уже знакомой аркебузы, что вызвало лишь смех у трех пришельцев (Генрих Наваррский стоял в стороне, как будто все это дело его нисколько не касалось); а смех вызывало то обстоятельство, что дуло, засунутое между прутьями решетки, нельзя было повернуть ни в ту, ни в другую сторону, и оно представляло опасность только для человека, который сам встал бы прямо против дула, то есть только для слепого.
Убедившись, что привратника нельзя ни подкупить, ни уговорить, ни запугать, герцог Гиз сделал вид, что уходит вместе со своими спутниками, но это отступление было недолгим. На углу улицы Сент-Антуан герцог нашел, что было ему нужно: камень, вроде тех, какими действовали три тысячи лет тому назад Аякс Теламонид и Диомед; герцог взвалил его себе на плечо и, сделав знак спутникам идти за ним, вернулся к дому. Как раз в эту минуту привратник, увидев, что те, кого он принимал за злоумышленников, ушли, стал запирать калитку, но не успел еще задвинуть засовы. Герцог Гиз воспользовался этим и, как живая катапульта, метнул камень. Замок вылетел вместе с куском стены, в которую был вделан, и дверь распахнулась, опрокинув немца; но, падая, он закричал изо всей мочи, чтобы поднять тревогу в гарнизоне, который подвергался большой опасности оказаться застигнутым врасплох.
В это самое время Ла Моль и Маргарита занимались переводом одной из идиллий Феокрита, а Коконнас, уверяя, что он тоже древний грек, приналег на сиракузское вино – конечно, с участием Анриетты. И разговор научный, и разговор вакхический были прерваны насильственным вторжением.
Коконнас и Ла Моль сейчас же потушили свечи, открыли окна, выбежали на балкон, увидели в темноте каких-то четверых мужчин, подняли ужасный стук шпагами, не достававшими до неприятеля, а ударявшими плашмя только по стене дома, и забросали пришельцев всем, что попадало под руку. Карла, самого ярого из осаждавших, ударило в плечо серебряным кувшином, на герцога Анжуйского свалился таз с компотом из апельсинных ломтиков и цедры, в герцога Гиза попал кабаний окорок.
Один Генрих Наваррский остался невредим. Он шепотом расспрашивал привратника, которого герцог Гиз привязал к воротам; но немец на все вопросы твердил неизменное «Verstehe nicht».
Женщины подзадоривали мужчин и подавали им метательные снаряды, которые градом сыпались на осаждающих.
– Смерть дьяволу! – крикнул Карл IX, когда упавший на голову табурет надвинул ему шляпу на нос. – Сейчас же отоприте дверь, или я велю перевешать всех, кто там, наверху!
– Брат! – шепотом сказала Маргарита Ла Молю.
– Король! – передал Ла Моль Анриетте.
– Король! Король! – шепнула Анриетта Коконнасу, в то время как пьемонтец подтаскивал к окну сундук, чтобы прикончить герцога Гиза, с которым все время имел дело, его не узнавая. – Король, говорят вам!
Коконнас бросил сундук и удивленно посмотрел.
– Король? – спросил он.
– Да, король.
– Тогда играем отступление.
– Э-э! Маргарита и Ла Моль уже бежали. Идем!
– Куда?
– Идем, раз я говорю!
И Анриетта, схватив Коконнаса за руку, увела его в потайную дверь, выходившую на соседний двор; все четверо, заперев за собой дверь, убежали другим ходом в переулок Тизон.
– Ага! Мне кажется, что гарнизон сдается! – сказал Карл.
Осаждавшие подождали несколько минут, но в доме не слышалось ни звука.
– Они придумали какую-то ловушку, – сказал герцог Гиз.
– Вернее, они узнали голос брата и удрали, – сказал герцог Анжуйский.
– Им все равно пришлось бы пройти здесь, – возразил Карл.
– Да, – заметил герцог Анжуйский, – если в доме нет второго выхода.
– Кузен, – обратился король к герцогу Гизу, – берите опять ваш камень и сделайте с другой дверью то же, что сделали вы с первой.
Герцог Гиз, определив, что вторая дверь слабее первой, решил, что не стоит прибегать к сильным средствам, и вышиб ее ногой.
– Факелов! Факелов! – крикнул король.
Слуги подбежали. Хотя факелы были погашены, но у лакеев имелось все, чтоб их разжечь, и пламя вспыхнуло. Карл IX взял один факел сам, а другой передал герцогу Анжуйскому. Впереди пошел герцог Гиз со шпагою в руке. Генрих Наваррский замыкал шествие. Все поднялись во второй этаж.
В столовой был собран ужин, или, вернее, он был «разобран», так как метательными снарядами служили главным образом его объекты. Канделябры опрокинуты, мебель перевернута вверх ногами, и вся посуда, за исключением серебряной, разбита вдребезги.
Из столовой перешли в гостиную, но и в ней нашлось не больше указаний на то, кто именно здесь был. Несколько греческих и латинских книг да несколько музыкальных инструментов – вот и все.
Спальня оказалась еще более безответной: только в алебастровом шаре, свисавшем с потолка, горел ночник; но в спальню, видимо, никто не заходил.
– В доме есть другой выход, – сказал Карл.
– Вероятно, – ответил герцог Анжуйский.
– Да, но где он? – спросил герцог Гиз.
Все начали его искать, но не нашли.
– Где привратник? – спросил король.
– Я привязал его к решетке у ворот, – ответил герцог Гиз.
– Расспросите его, кузен.
– Он не ответит.
– Ну, если ему немножко подпалить ноги, так заговорит, – смеясь, сказал король.
Генрих Наваррский поспешно заглянул в окно.
– Его уже нет, – сказал он.
– Кто же его отвязал? – спросил герцог Гиз.
– Смерть дьяволу! – воскликнул король. – Так мы ничего и не узнаем.
– Сир, как видите, – сказал Генрих Наваррский, – ничто не доказывает, что моя жена и невестка месье Гиза находились в этом доме.
– Правда, – ответил Карл. – В Библии сказано: три существа не оставляют следа: птица – в воздухе, рыба – в воде и женщина… нет, ошибся… мужчина…
– Таким образом, – прервал его Генрих Наваррский, – самое лучшее, что мы можем сделать…
– Это, – продолжал Карл, – мне заняться моим ушибом, вам, Анжу, смыть с себя апельсинный сироп, а вам, Гиз, отчистить кабанье сало.
После этого все четверо вышли из дома, даже не закрыв за собой двери.
Когда они дошли до улицы Сент-Антуан, король спросил герцога Анжуйского и герцога Гиза:
– Вы куда?
– Сир, мы идем к Нантуйе, он ждет нас, меня и моего лотарингского кузена, ужинать. Не желаете, ваше величество, присоединиться к нам?
– Нет, благодарю; мы идем в другую сторону. Не хотите ли взять одного из моих факельщиков?
– Благодарим за милостивое предложение, но нам он не нужен, – поспешил ответить герцог Анжуйский.
– Ладно… – согласился король. – Это он боится, чтоб я не велел проследить его, – шепнул Карл на ухо королю Наваррскому. Затем, взяв его под руку, сказал: – Идем, Анрио! Сегодня я угощаю тебя ужином.
– Разве мы не вернемся в Лувр? – спросил Генрих Наваррский.
– Говорю тебе – нет, чертов упрямец! Раз тебе говорят – пойдем, так иди!
И Карл повел Генриха Наваррского по улице Жоффруа– Ланье.
VII. Анаграмма
На улицу Жоффруа-Ланье выходил переулок Гарнье-сюр– Ло, а другим концом он упирался в пересекавшую его улицу Бар. В нескольких шагах от их пересечения, по направлению к переулку Мортельри, на улице Бар притаился домик, одиноко стоявший среди сада, окруженного высокой каменной стеной, где имелся только один вход, закрытый массивной дверью.
Карл вынул из кармана ключ, легко открыл дверь, запертую только на замок, затем, пропустив Генриха и двух слуг с факелами, снова запер за собою дверь.
Одно маленькое оконце светилось в доме. Карл показал на него пальцем Генриху и улыбнулся.
– Сир, не понимаю, – сказал Генрих.
– Сейчас поймешь, Анрио.
Генрих Наваррский с удивлением посмотрел на короля: и голос, и выражение лица у Карла были проникнуты нежностью, до такой степени чуждой обычному выражению его лица, что Генрих просто не узнавал своего шурина.
– Анрио, – сказал король, – я уже говорил тебе, что когда я выхожу из Лувра – я выхожу из ада. Когда я вхожу сюда – я вхожу в рай.
– Сир, – ответил Генрих, – я счастлив тем, что ваше величество удостоили взять меня с собой в путешествие на небо.
– Путь туда тесный, – сказал король, вступая на узенькую лестницу, – и вполне подходит под сравнение.
– Какой же ангел охраняет вход в ваш Эдем, сир?
– Сейчас увидишь, – ответил Карл IX.
Он сделал знак Генриху идти потише, отворил одну дверь, затем другую и остановился на пороге.
– Взгляни! – сказал он.
Генрих Наваррский подошел и замер на месте перед самой очаровательной картиной.
Женщина лет восемнадцати-девятнадцати спала, положив голову на изножье кроватки, где спал младенец, и держала обеими руками его ножки у своих губ, а ее длинные вьющиеся волосы рассыпались по одеялу золотой волной. Точь-в-точь как на картине Альбани, изображающей деву Марию и Христа-младенца.
– О сир! Кто это прелестное создание? – спросил Генрих.
– Ангел моего рая, – отвечал король, – единственное существо, которое любит меня ради меня.
Генрих улыбнулся.
– Да, ради меня самого, – сказал Карл, – она меня полюбила, когда еще не знала, что я король.
– А когда узнала?
– А когда узнала, – ответил Карл со вздохом, говорившим о том, что залитая кровью власть бывала для него тяжелым бременем, – а когда узнала, то не разлюбила. Суди сам!
Король подошел на цыпочках и прикоснулся губами к цветущей щеке молодой женщины так осторожно, как пчелка к лилии. И все-таки она проснулась.
– Шарль! – прошептала она, открыв глаза.
– Слышишь? – сказал Генриху король. – Она зовет меня просто Шарль.
– Ах! – воскликнула молодая женщина. – Сир, вы не один?
– Нет, милая Мари. Мне хотелось показать тебе другого короля, более счастливого, чем я, потому что на нем нет короны, и более несчастного, чем я, потому что у него нет Мари Туше. Бог всех равняет.
– Сир, это король Наваррский? – спросила Мари.
– Он самый, милое дитя. Подойди к нам, Анрио.
Король Наваррский подошел. Карл взял его руку.
– Мари, взгляни на его руку; это рука хорошего брата и честного друга! Знаешь ли, если бы не она…
– То что же, сир?
– Если бы не эта рука, Мари, то наш ребенок остался бы сегодня без отца.
Мари вскрикнула, упала на колени, схватила руку Генриха и поцеловала.
– Хорошо, Мари, так и надо, – сказал Карл.
– А чем вы его отблагодарили, сир?
– Тем же.
Генрих с изумлением посмотрел на Карла.
– Когда-нибудь, Анрио, ты поймешь смысл моих слов. А покуда – иди взгляни!
И Карл подошел к кроватке, в которой спал младенец.
– Да, – сказал король, – если бы этот карапуз спал в Лувре, а не в домике на улице Бар, многое было бы по-другому и теперь, а может быть, и в будущем.
– Сир, вы уж извините меня, – заметила Мари, – но мне больше по душе, что он спит здесь: тут ему спокойнее.
– Ну и дадим ему спать спокойно. Хорошо спится, когда не видишь снов! – сказал король.
– Угодно, сир? – спросила Мари, показывая рукой на дверь в другую комнату.
– Да, правильно, Мари, – ответил Карл, – будем ужинать.
– Милый мой Шарль, – сказала Мари, – вы ведь попросите вашего брата-короля извинить меня?
– За что?
– За то, что я отпустила наших слуг. Видите ли, сир, – обратилась она к королю Наваррскому, – Шарль любит, чтобы за столом ему служила одна я.
– Святая пятница! Охотно верю, – ответил Генрих.
Мужчины прошли в столовую, а заботливая и трепещущая за ребенка мать укрыла теплым одеяльцем малютку Шарля, который спал крепким детским сном, вызывавшим зависть у большого Шарля, и не проснулся.
Тогда Мари прошла к гостям.
– Здесь только два прибора! – сказал Карл.
– Разрешите мне прислуживать вашим величествам, – ответила Мари.
– Вот видишь, Анрио, из-за тебя мне неприятность! – сказал Карл.
– Какая, сир? – спросила Мари.
– А ты не понимаешь?
– Простите, Шарль, простите!
– Прощаю, садись рядом со мной – здесь, между нами.
– Хорошо, – ответила Мари.
Она принесла еще прибор, села между двумя королями и стала их угощать.
– Не правда ли, Анрио, – сказал Карл, – хорошо, когда у тебя есть такое место, где ты можешь есть и пить спокойно, не заставляя кого-нибудь другого сначала пробовать твое кушанье и твое вино?
– Сир, поверьте, что я как никто способен оценить всю прелесть такого счастья, – сказал Генрих, улыбаясь и отвечая этой улыбкой на свою мысль о собственных вечных опасениях.
– А чтобы мы продолжали чувствовать себя так же хорошо, говори с ней о чем-нибудь хорошем, не надо ее впутывать в политику; в особенности не надо ей знакомиться с моею матерью.
– Да, королева Екатерина так любит ваше величество, что может приревновать вас к другой любви, – ответил Генрих, ловко увернувшись от опасной темы разговора, затронутой королем.
– Мари, – сказал король, – рекомендую тебе самого хитрого и самого умного человека, какого я когда-либо знавал. При дворе – а это немало значит – он околпачил всех; один я, быть может, вижу ясно, что у него на уме, но не то, что у него в душе.
– Сир, меня огорчает, – ответил Генрих, – что вы сильно преувеличиваете одно и подозрительно относитесь к другому.
– Я ничего не преувеличиваю, Анрио. Впрочем, когда– нибудь все станет ясно.
Повернувшись затем к Мари, король сказал ей:
– Он замечательно составляет анаграммы. Попроси его составить анаграмму из твоего имени, ручаюсь, что он сделает.
– О! Что же может выйти из имени простой девушки вроде меня? Какую тонкую, приятную мысль можно извлечь из сочетания букв, которыми судьба случайно написала: Мари Туше?
– О, сделать анаграмму из этого имени такие пустяки, что и хвалить не за что, – ответил Генрих.
– Ага! Уже готово! – сказал Карл. – Видишь, Мари!
Генрих Наваррский вынул из кармана записную книжку, вырвал из нее листочек и под именем:
...
Marie Touchet [37]
написал:
...
Je charme tout. [38]
Затем передал листок молодой женщине.
– В самом деле, просто нельзя поверить! – воскликнула Мари.
– Что он там выискал? – спросил Карл.
– Сир, я не решаюсь повторить, – ответила Мари.
– Сир, – сказал Генрих, – если в имени Marie заменить букву i буквой j, как это делают, то получается анаграмма, буква в букву: Je charme tout.
– Верно, буква в букву! – воскликнул Карл. – Слушай, Мари, я хочу, чтоб это стало твоим девизом. Никогда ни один девиз так справедливо не бывал заслужен. Спасибо, Анрио. Мари, я велю выложить его из алмазов и подарю тебе.
Ужин кончился; на соборе Богоматери пробило два часа.
– Теперь, Мари, – сказал Карл, – в награду за его хвалу тебе ты дашь ему кресло, чтобы он мог поспать в нем до утра; только подальше от нас, а то он так храпит, что даже страшно. Затем, если проснешься раньше меня, то разбуди нас, – нам в шесть часов утра надо быть в Бастилии. Доброй ночи, Анрио. Устраивайся, как тебе любо. Но вот что, – добавил он, подойдя к королю Наваррскому и положив ему руку на плечо, – заклинаю тебя твоей жизнью, – слышишь, Генрих, твоей жизнью! – не выходи отсюда без меня и ни в каком случае не вздумай вернуться в Лувр.
Генрих если не понимал, то слишком многое подозревал, чтобы пренебречь этим советом.
Карл IX ушел в свою комнату, а Генрих, ко всему привычный горец, вполне удовлетворился креслом и очень скоро оправдал предосторожность своего шурина, который поместил его подальше от себя.
На рассвете Карл разбудил Генриха, а так как Генрих спал одетым, то туалет его не занял много времени. Король был счастлив и приветлив – таким его никто не видел в Лувре. Часы, которые он проводил в домике на улице Бар, были в его жизни часами солнечного света.
Они вдвоем прошли через спальню. Молодая женщина спала на своей кровати, младенец спал в колыбели. Во сне и она и он чему-то улыбались. Карл остановился на минуту и с бесконечной нежностью глядел на них, затем, обернувшись к Генриху, сказал:
– Анрио, если ты когда-нибудь узнаешь, какую услугу я оказал тебе сегодня ночью, а меня уже не будет на этом свете, то не забудь этого ребенка, которого ты видишь в колыбели.
Не дав Генриху времени задать вопрос, Карл поцеловал в лоб мать и ребенка, шепнув им:
– До свидания, ангелы мои.
И вышел. Генрих в раздумье последовал за ним.
Дворяне, которым Карл приказал с ним встретиться, ждали у Бастилии, держа под уздцы двух лошадей. Карл жестом предложил Генриху сесть на одну из них, сам сел на другую, проехал через Арбалетный сад и направился по кольцу внешних бульваров.
– Куда мы едем? – спросил Генрих.
– Мы едем, – ответил Карл, – посмотреть, вернулся ли герцог Анжуйский ради одной мадам Конде или у него в душе столько же честолюбия, сколько и любви? А я сильно подозреваю, что это так.
Генрих не понял ничего из этих слов и молча следовал за Карлом.
Когда они доехали до Маре, где из-за частокола укреплений открывался вид на все то место, которое в то время называлось предместьем Сен-Лоран, Карл указал Генриху в сероватой дымке утра каких-то людей в больших плащах и с меховыми шапками на голове, ехавших верхом за тяжело нагруженным фургоном. По мере того как эти люди подвигались ближе, они вырисовывались четче, и можно было различить ехавшего тоже верхом и беседовавшего с ними человека в длинном коричневом плаще и в широкополой французской шляпе, надвинутой на лоб.
– Ага, – сказал Карл, улыбаясь. – Я так и думал!
– Сир, вон тот всадник в коричневом плаще – герцог Анжуйский? Я не ошибаюсь? – спросил Генрих Наваррский.
– Он самый, – ответил Карл. – Подайся немного назад, Анрио, я не хочу, чтобы нас видели.
– А кто же эти люди в сероватых плащах и в меховых шапках? И что вон в той повозке?
– Эти люди – польские послы, – ответил Карл, – а в повозке – корона. Теперь, – сказал он, пуская лошадь в галоп по дороге к воротам Тампля, – едем, Анрио. Я видел все, что хотел видеть!
VIII. Возвращение в Лувр
Не сомневаясь, что в комнате короля Наваррского сделано все, как приказано, – трупы стражей убраны, Морвель перенесен домой, ковры замыты, – Екатерина отпустила придворных дам, так как была полночь, и попыталась заснуть. Но потрясение оказалось слишком сильным, а разочарование – слишком горьким. Проклятый Генрих, все время ускользавший из ее ловушек, обычно действовавших смертельно, казалось, был храним какой-то непреодолимой силой, которую Екатерина упорно звала случаем, хотя другой голос в глубине ее души говорил, что имя этой силы – не случай, а судьба. Мысль о том, что слух о неудачном покушении, распространившись по Лувру и вне его, внушит Генриху и гугенотам еще большую уверенность в их будущем, приводила ее в такую ярость, что, если б этот «случай», против которого она столь неудачно вела борьбу, столкнул ее в эту минуту с проклятым Генрихом, она бы не задумалась пустить в ход висевший у нее на поясе флорентийский кинжальчик, чтобы сорвать эту игру судьбы, благоприятную для Генриха Наваррского.
Ночные часы, такие тягучие для тех, кто ждет или не спит, влачились один вслед за другим, а королева-мать все не смыкала глаз. За эту ночь целый сонм новых проектов возник в ее уме, обуреваемом страшными видениями. Наконец, едва забрезжил свет, она встала с постели, сама оделась и направилась в покои Карла IX.
Стража, привыкшая к ее приходам во всякое время дня и ночи, пропустила королеву-мать. Через переднюю она прошла в Оружейную палату, но застала там одну кормилицу.
– Где мой сын? – спросила королева-мать.
– Мадам, к нему запрещено входить до восьми часов.
– Запрещение не касается меня.
– Оно для всех, мадам.
Екатерина усмехнулась.
– Да, я знаю, – продолжала кормилица, – хорошо знаю, что здесь ничто не может воспрепятствовать вашему величеству; я только молю внять просьбе простой женщины и не ходить дальше.
– Кормилица, мне надо поговорить с сыном.
– Мадам, я отопру, но только по королевскому приказу вашего величества.
– Откройте, я требую! – приказала Екатерина.
Услышав повелительный тон, внушавший больше уважения и страха, чем голос самого Карла, кормилица подала Екатерине ключ. Но Екатерина в нем не нуждалась, она вынула из кармана свой ключ и быстрым поворотом отперла дверь в покои сына.
В спальне никого не было, постель не смята; борзая Актеон, лежавшая около кровати на медвежьей шкуре, встала, подошла к Екатерине и полизала ее руки цвета слоновой кости.
– Вот как! Он ушел из дому, – сказала королева– мать. – Я подожду.
В мрачной решимости Екатерина задумчиво села у окна, выходившего на луврский двор как раз против пропускных ворот.
Просидев два часа, недвижная и белая, как мраморная статуя, она наконец увидела, что в Лувр въезжает отряд всадников с Карлом и Генрихом Наваррским во главе.
Она сразу поняла все: Карл не захотел с ней препираться из-за ареста своего зятя, а просто увел его и этим спас.
– Слепец! Слепец! Слепец! – прошептала Екатерина и стала ждать.
Минуту спустя в Оружейной палате раздались шаги.
– Сир, хотя бы теперь, когда мы уже в Лувре, – говорил голос Генриха Наваррского, – скажите мне, почему вы увели меня и какую услугу мне оказали?
– Нет, нет, Анрио! – смеясь, ответил Карл. – Когда-нибудь узнаешь; но сейчас это тайна. Знай только одно, что, по всей вероятности, у меня будет из-за тебя ссора с матерью.
Сказав это, Карл отдернул занавеску и очутился лицом к лицу с Екатериной. Из-за его плеча выглянуло встревоженное и бледное лицо Генриха Наваррского.
– А-а! Вы здесь, мадам! – сказал Карл, нахмурив брови.
– Да, сын мой. Мне надо поговорить с вами.
– Со мной?
– С вами, и наедине.
– Что делать? – сказал Карл, оборачиваясь к зятю. – Раз уж нельзя избежать этого совсем, то чем скорее, тем лучше.
– Я ухожу, сир, – сказал Генрих.
– Да, да, оставь нас одних, – ответил Карл. – Ты ведь теперь католик, Анрио, так сходи к обедне и помолись за спасение моей души, а я останусь слушать проповедь.
Генрих поклонился и вышел.
Карл сам предупредил вопросы матери.
– Итак, мадам, – сказал он, пытаясь обратить все дело в шутку, – вы меня ждали, чтобы побранить, так ведь? Я непочтительно испортил ваши планы. Но – смерть дьяволу! – не мог же я позволить арестовать и посадить в Бастилию человека, только что спасшего мне жизнь. А в то же время мне не хотелось браниться с вами: я хороший сын. Да и сам бог, – добавил Карл шепотом, – карает тех детей, которые бранятся с матерью; пример – мой брат Франциск Второй. Простите меня великодушно и признайтесь, что я неплохо пошутил.
– Ваше величество ошибается, – ответила Екатерина, – это дело совсем не шуточное.
– Так я и знал! Знал, что вы так и посмотрите на это, черт меня возьми!
– Сир, вашим легкомыслием вы разрушили целый план, который должен был открыть нам многое.
– Ба! Целый план!.. Неужели какой-то неудавшийся план может вас смутить – вас, матушка? Вместо него вы придумаете двадцать новых, и в них я уж обещаю вам свое содействие.
– Даже если бы вы и стали мне содействовать, то теперь поздно: он предупрежден и будет начеку.
– Слушайте, – сказал король, – будем говорить прямо: что вы имеете против Анрио?
– То, что он заговорщик.
– Да, понятно, в этом вы его обвиняете все время! Но кто в этом прелестном обиталище, которое зовется Лувр, кто не занимается заговорами больше или меньше?
– Но больше всех – он, и он тем более опасен, что никто об этом и не подозревает.
– По-вашему, он Лоренцино! – сказал Карл.
Екатерина нахмурилась при этом имени, напоминавшем ей одну из наиболее кровавых драм флорентийской истории.
– Слушайте, – сказала она, – у вас есть возможность доказать мне, что я не права.
– Каким образом?
– Спросите Генриха, кто был у него в спальне сегодня ночью?
– В его спальне… сегодня ночью?
– Да. И если он вам скажет…
– То что?
– Тогда я готова признать свою ошибку.
– Но если это была женщина, не можем же мы от него требовать…
– Женщина?
– Да.
– Женщина, которая убила двух ваших стражей и ранила Морвеля, быть может, насмерть?
– Ого! Это уже серьезно, – сказал король. – Значит, дело было кровавое?
– Трое легли на месте.
– А тот, кто их уложил?
– Убежал цел и невредим.
– Клянусь Гогом и Магогом! – сказал Карл. – Вот молодец! И вы правы, матушка, мне надо знать, кто он такой.
– А я заранее вам говорю, что не узнаете, – по крайней мере, от Генриха.
– А от вас? Не мог же этот человек наделать таких дел, не оставив никаких следов? Неужели никто не заметил чего-нибудь особенного в его одежде?
– Заметили только то, что на нем был очень изящный вишневый плащ.
– Так, так! Вишневый плащ! – сказал Карл. – Здесь, при дворе, мне известен только один такой, который бросается в глаза.
– Совершенно верно, – ответила Екатерина.
– А именно?
– Подождите меня здесь, сын мой, – сказала Екатерина, – я пойду узнать, как выполнены мои приказания.
Екатерина вышла, а Карл начал рассеянно ходить по комнате, насвистывая охотничью песенку, заложив одну руку за колет и свободно опустив другую, которую лизала его борзая, всякий раз когда он останавливался.
Генрих Наваррский ушел от своего шурина сильно встревоженный и, вместо того чтобы идти обычным путем – по коридору, пошел по маленькой боковой лестнице, которая уже не раз упоминалась; она вела в третий этаж. Поднявшись всего на четыре ступеньки, он увидел на первом повороте чью-то тень. Генрих остановился и взялся за рукоять кинжала, но быстро разглядел, что это была женщина; она схватила его за руку, говоря хорошо ему знакомым, милым голосом:
– Слава богу, сир, вы целы и невредимы, я так за вас боялась! Но, верно, бог услышал мою молитву.
– Что случилось? – спросил Генрих.
– Все поймете, когда войдете к себе. Не беспокойтесь об Ортоне, я его приютила у себя.
И мадам де Сов быстро сбежала вниз мимо него, как будто встретилась с ним на лестнице случайно.
– Странно! – сказал Генрих. – Что же такое произошло? Что с Ортоном?
К сожалению, мадам де Сов не слышала его вопросов, она была уже далеко.
Вслед за ней в верхнем пролете лестницы появилась другая тень, на этот раз мужчины.
– Тс-с! – произнес он.
– А-а! Это ты, Франсуа?!
– Не называйте меня по имени.
– Что случилось?
– Пройдите к себе и узнаете, а потом проскользните в коридор, хорошенько осмотритесь, не подглядывают ли за вами, и зайдите ко мне, дверь будет только притворена.
И Франсуа исчез, точно провалившись, как театральный призрак в люк.
– Святая пятница! – прошептал Беарнец. – Загадка остается загадкой; но раз отгадка находится в моих покоях, идем туда, а затем посмотрим.
Однако, продолжая свой путь, Генрих испытывал сильное волнение. Он обладал юношеской восприимчивостью: в его душе все отражалось четко, как в зеркале, а то, что он до сих пор слышал, предвещало какую-то беду.
Король Наваррский подошел к двери в свои покои и прислушался. Внутри все было тихо. Кроме того, Шарлотта посоветовала ему зайти к себе, значит, там не было ничего опасного. Он быстро заглянул в переднюю: никого! Но не было и никакого указания на то, что произошло.
«Ортона в самом деле нет», – сказал он про себя и перешел в следующую комнату. Там все стало ему ясно.
Хотя воды и не жалели, но всюду на полу виднелись большие красноватые потеки; одно кресло исковеркано; в занавесках полога – дырки от ударов шпаг; венецианское зеркало пробито пулей; окровавленная рука оставила на стене страшный отпечаток, говоривший о том, что эта безмолвная комната совсем еще недавно была свидетельницей борьбы не на жизнь, а на смерть.
Генрих Наваррский блуждающим взором пробежал по этим разнородным признакам борьбы, отер рукою выступивший на лбу пот и прошептал:
– Да-а! Теперь я понимаю, что за услугу мне оказал король; какие-то люди приходили сюда меня убить… А де Муи? Что сделали с де Муи? Мерзавцы! Они его убили!
Как герцогу Алансонскому хотелось поскорее рассказать Генриху о событиях этой ночи, так и самому Генриху не терпелось узнать то, что произошло; и, бросив на окружающее последний мрачный взор, он выбежал в коридор, убедился, что никого нет, быстро открыл приотворенную дверь, тщательно запер ее за собой и проскочил к герцогу Алансонскому.
Герцог ждал его в первой комнате. Он быстро схватил Генриха за руку и, приложив палец к своим губам в знак молчания, увлек короля Наваррского в отдельный круглый кабинетик, помещавшийся в башенке и благодаря этому совершенно недоступный для шпионства.
– Ах, брат мой, какая ужасная ночь! – сказал герцог.
– А что такое было?
– Хотели вас арестовать.
– Меня?
– Да, вас.
– Почему?
– Не знаю. Где вы были?
– Король с вечера увел меня с собою в город.
– Значит, он знал, – сказал герцог. – Но если вас не было дома, то кто же был у вас?
– А разве кто-нибудь у меня был? – спросил Генрих, будто не зная.
– Да, какой-то мужчина. Услыхав шум, я побежал к вам на помощь, но было уже поздно.
– А этого мужчину арестовали? – спросил Генрих с мучительной тревогой.
– Нет, он опасно ранил Морвеля, убил двух стражей и убежал.
– Молодец де Муи!
– Так это был де Муи? – подхватил герцог.
Генрих почувствовал свой промах.
– Я так предполагаю, – ответил он, – потому что назначал ему свидание с целью сговориться о вашем бегстве и заявить ему, что все свои права на наваррский престол я уступаю вам.
– Если это станет известно, мы погибли, – сказал герцог Алансонский, побледнев.
– Да, несомненно, Морвель скажет.
– Морвель ранен шпагой в горло; я спрашивал хирурга, который делал ему перевязку, он сказал, что раньше недели Морвель не сможет произнести ни одного слова.
– Неделя! Для де Муи это больше чем нужно, чтобы оказаться в полной безопасности.
– В конце концов, это мог быть и не де Муи, – сказал герцог Алансонский.
– Вы так думаете? – спросил Генрих.
– Да. Ведь человек так быстро скрылся, что заметили только его вишневый плащ.
– В самом деле, – ответил Генрих, – такой плащ больше подходит какому-нибудь дамскому угоднику, а не солдату. Никому в голову не придет подозревать в де Муи обладателя вишневого плаща.
– Нет, – сказал герцог, – уж если кого и заподозрят, так скорее… – Герцог запнулся.
– Ла Моля, – продолжил Генрих.
– Разумеется! Я и сам, глядя на бежавшего человека, одну минуту подумал на Ла Моля.
– Вы и сами думали? Тогда вполне возможно, что это был Ла Моль.
– Он ничего не знает? – спросил герцог Алансонский.
– Ровно ничего, во всяком случае – важного, – ответил Генрих.
– Теперь я сам уверен, что это был он.
– Черт возьми! – сказал Генрих. – Если так, то это очень огорчит королеву Наваррскую, она принимает в нем большое участие.
– Участие, говорите вы? – спросил герцог в замешательстве.
– Конечно, Франсуа. Разве вы забыли, что вам его рекомендовала ваша сестра?
– Верно, – ответил герцог упавшим голосом. – Поэтому мне и хотелось быть ему полезным, настолько, что я из опасения, как бы его вишневый плащ не навлек подозрений, поднялся к нему в комнату и унес вишневый плащ к себе.
– Что умно, то умно, – ответил Генрих. – Теперь я мог бы не только биться об заклад, но даже поклясться, что это был Ла Моль.
– Даже на суде? – спросил герцог.
– Ну конечно, – ответил Генрих. – Наверное, он приходил ко мне с каким-нибудь поручением от королевы Маргариты.
– Если бы я был уверен, что вы выступите свидетелем, я бы выступил против него как обвинитель, – сказал герцог.
– Если вы, Франсуа, выступите с обвинением, то, разумеется, я же не стану вас опровергать.
– А королева? – спросил герцог.
– Ах да! Королева!
– Надо бы узнать, как она поступит?
– Это я беру на себя.
– А знаете что, братец? Ей, пожалуй, не будет смысла опровергать нас; ведь этот молодой человек прогремит теперь как храбрец, и слава ему не будет стоить ни гроша, он купит ее в кредит, на веру. Правда, весьма возможно, что ему придется за это уплатить вместе с процентами и капитал.
– Ничего не поделаешь! – ответил Генрих. – Ничто не дается даром в этом мире.
И, с улыбкой махнув рукой герцогу Алансонскому, он осторожно высунул голову в коридор; убедившись, что никто их не подслушивал, Генрих быстро проскользнул на боковую лесенку, которая вела в покои Маргариты.
Королева Наваррская, так же, как и ее муж, была в волнении. Ее сильно тревожил ночной поход против нее и герцогини Невэрской, предпринятый королем, герцогом Анжуйским, герцогом Гизом и Генрихом Наваррским, которого она тоже узнала. Несомненно, что у них не было никаких улик против нее; привратник, которого отвязал от ворот Ла Моль, уверял, что не сказал ни слова. Но четыре высокопоставленные особы, которым два простых дворянина – Ла Моль и Коконнас – оказали сопротивление, – эти особы свернули со своего пути не случайно, а с определенной целью. Маргарита вернулась в Лувр на рассвете, проведя остаток ночи у герцогини Невэрской. Она тотчас легла в постель, но вздрагивала при малейшем шуме и не могла заснуть.
И вот среди мучительной тревоги она вдруг слышит стук в потайную дверь; узнав через Жийону, кто пришел, Маргарита велела его впустить.
Генрих остановился на пороге; он нисколько не походил на оскорбленного мужа – на тонких губах его играла обычная улыбка, ни один мускул лица не выдавал тех треволнений, которые он пережил несколько минут тому назад.
Глазами он как бы спрашивал Маргариту, не разрешит ли она ему остаться с ней наедине. Маргарита поняла его взгляд и сделала Жийоне знак уйти.
– Мадам, – обратился к ней Генрих, – я знаю, как вы любите своих друзей, и боюсь, что я принес вам неприятное известие.
– Какое, месье? – спросила Маргарита.
– Один из самых милых наших людей попал в большое подозрение.
– Кто же?
– Милый граф де Ла Моль.
– Графа де Ла Моль подозревают! В чем же?
– Как виновника событий этой ночи.
Несмотря на умение владеть собой, Маргарита покраснела. Но, сделав над собой усилие, спросила:
– Каких событий?
– Как?! Неужели вы не слыхали даже такого шума, какой был в Лувре этой ночью? – спросил Генрих.
– Нет, месье.
– Ваше счастье, мадам, – с очаровательным простодушием сказал Генрих, – это доказывает, как хорошо вы спали.
– А что же здесь произошло?
– А то, что наша добрая матушка приказала Морвелю и шести стражам арестовать меня.
– Вас, месье? Вас?!
– Да, меня.
– На каком основании?
– Ну-у! Кто может знать основания такого глубокого ума, как ум нашей матушки. Я их уважаю, но не знаю.
– Вы разве не ночевали дома? – спросила Маргарита.
– Нет, но случайно. Вы верно угадали, мадам, я не был дома. Вчера вечером король предложил мне пойти с ним в город; но пока меня не было дома, там был другой человек.
– Кто же другой?
– По-видимому, месье де Ла Моль.
– Граф де Ла Моль? – изумилась Маргарита.
– Черт возьми! И молодец же этот провансалец, – добавил Генрих. – Представьте себе, он ранил Морвеля и убил двух стражей.
– Ранил Морвеля и убил двух стражей?! Это невозможно.
– Как? Вы сомневаетесь в его храбрости, мадам?
– Нет, я только говорю, что Ла Моль не мог быть у вас.
– Почему же он не мог быть у меня?
– Да потому, что… потому, что… он был в другом месте, – смущенно ответила Маргарита.
– А-а! Если он может доказать свое алиби – тогда другое дело, – сказал Генрих. – Он просто скажет, где он был, и вопрос о нем будет исчерпан.
– Где он был?! – с волнением повторила Маргарита.
– Конечно… Сегодня же он будет арестован и допрошен. К сожалению, против него имеются улики…
– Улики! Какие же?
– Человек, оказавший такое отчаянное сопротивление, был в вишневом плаще, – ответил Генрих.
– Да, такого плаща нет ни у кого, кроме Ла Моля… хотя мне известен и другой человек…
– Мне – тоже… Но вот что получится: если у меня в спальне был не Ла Моль, то, значит, это был другой обладатель вишневого плаща. А вы знаете, кто он…
– Боже мой! – воскликнула Маргарита.
– Вот где наш подводный камень! Ваше волнение, мадам, доказывает, что вы тоже его видите. Поэтому поговорим, как говорят о вещи, самой завидной в мире, – о престоле… и… о самом драгоценном благе – о своей жизни… Если арестуют де Муи – мы погибли!
– Я понимаю.
– А граф де Ла Моль никого не может подвести, – продолжал Генрих, – если только вы не считаете его способным выдумать какую-нибудь небылицу; вдруг скажет, например, что он был там-то с дамами… да бог его знает – что…
– Если вы опасаетесь только этого, – ответила Маргарита, – то можете быть спокойны… он этого не скажет.
– Вот как! – сказал Генрих. – Ничего не скажет, даже если ему за это будет грозить смерть?
– Не скажет.
– Вы уверены?
– Ручаюсь.
– Значит, все складывается к лучшему, – сказал Генрих, вставая.
– Месье, вы уже уходите? – с волнением спросила Маргарита.
– Да. Все, что мне надо было вам сказать, я сказал.
– А вы идете к?..
– Постарайтесь вывести всех нас из того опасного положения, в которое поставил нас этот дьяволенок в вишневом плаще.
– О боже мой! Боже мой! Бедный юноша! – горестно воскликнула Маргарита, заломив пальцы.
– Этот милый Ла Моль воистину очень услужлив, – говорил Генрих, уходя.
IX. Поясок королевы-матери
Карл IX вернулся домой в самом веселом расположении духа; но после десятиминутного разговора с матерью можно было подумать, что свое раздражение и свою бледность она передала сыну, а его радостное настроение взяла себе.
– Ла Моль?! Ла Моль! – повторял Карл. – Надо вызвать Генриха и герцога Алансонского. Генриха – потому, что этот молодой человек был гугенотом; герцога Алансонского – потому, что Ла Моль у него на службе.
– Что ж, позовите их, сын мой, если хотите. Боюсь только, что Генрих и Франсуа связаны друг с другом больше, чем это кажется на вид. Допрашивать их – это только возбуждать в них подозрения; было бы надежнее подвергнуть их искусу не спеша, в течение нескольких дней. Если вы, сын мой, дадите преступникам вздохнуть свободно, если вы укрепите в них мысль, что им удалось обмануть вашу бдительность, то, осмелев и торжествуя, они дадут вам более удобный случай поступить с ними сурово; и тогда мы все узнаем.
Карл в нерешительности ходил по комнате, стараясь отделаться от чувства гнева, как лошадь от удил, и судорожным движением руки хватался за сердце, раненное подозрением.
– Нет, нет, – сказал он наконец, – не стану ждать. Вы не понимаете, каково мне ждать, когда я чувствую кругом себя присутствие каких-то призраков. Кроме того, все эти придворные франтики наглеют день ото дня: сегодня ночью двое каких-то дамских прихвостней имели дерзость сопротивляться и бунтовать против нас!.. Если Ла Моль невинен, очень хорошо; но я желал бы знать, где был он этой ночью, когда избивали мою стражу в Лувре, а меня били в переулке Клош– Персе. Пусть позовут – сначала герцога Алансонского, а потом Генриха: я хочу допросить их порознь. Вы можете остаться здесь.
Екатерина села. При том уме, какой был у нее, всякое обстоятельство, как будто и далекое от ее цели, могло быть так повернуто могучей рукой Екатерины, что повело бы к осуществлению ее замыслов. Каждый удар двух вещей друг о друга или производит звук, или дает искру. Звук указывает направление, искра светит.
Вошел герцог Алансонский. Разговор с Генрихом Наваррским подготовил его к предстоящему объяснению, и он был спокоен.
Все его ответы были очень определенны. Так как мать приказала ему не выходить из своих покоев, то он ровно ничего не знает о ночных событиях. Но его покои выходят в тот же коридор, что и покои короля Наваррского, поэтому он кое-что слышал: сначала уловил звук, похожий на взламывание двери, потом – ругательства и, наконец, выстрелы. Только тогда он осмелился приоткрыть дверь и увидел бегущего человека в вишневом плаще.
Карл и его мать переглянулась.
– В вишневом плаще? – спросил король.
– В вишневом, – ответил герцог Алансонский.
– А этот вишневый плащ не вызывает у вас подозрений на кого-нибудь?
Герцог Алансонский напряг всю силу своей воли, чтобы ответить как можно естественнее:
– Должен признаться вашему величеству: по первому взгляду мне показалось, что это плащ одного из моих дворян.
– А как зовут этого дворянина?
– Месье де Ла Моль.
– А почему же этот месье де Ла Моль был не при вас, как этого требовала его должность?
– Я отпустил его, – ответил герцог.
– Хорошо! Ступайте! – сказал Карл.
Герцог Алансонский направился к той двери, в которую входил.
– Нет, не в эту, – сказал Карл, – а вон в ту. – И он указал на дверь в комнату кормилицы.
Ему не хотелось, чтобы герцог встретился с Генрихом Наваррским. Карл не знал, что зять и шурин виделись, хотя и на минуту, но этого было достаточно, чтобы согласовать им свои действия…
Вслед за герцогом, по знаку Карла, впустили Генриха.
Генрих не стал ждать допроса и заговорил сам:
– Сир, очень хорошо, что ваше величество за мной послали, потому что я сам уже собрался идти к вам и просить вашего суда.
Карл нахмурил брови.
– Да, суда, – повторил Генрих. – Начну с благодарности вашему величеству за то, что вчера вечером вы взяли меня с собой; теперь я знаю, что вы спасли мне жизнь. Но что я такое сделал? За что хотели меня убить?
– Не убить, – поспешно сказала Екатерина, – а арестовать.
– Пусть будет – арестовать, – ответил Генрих. – Но за какое преступление? Если я в чем-нибудь виноват, то я виновен в этом и сегодня утром так же, как был виновен вчера вечером. Сир, скажите, в чем моя вина?
Карл, не зная, что ответить, посмотрел на мать.
– Сын мой, – обратилась Екатерина к Генриху Наваррскому, – у вас бывают подозрительные люди.
– Допустим, мадам. И эти подозрительные люди навлекают подозрение и на меня, не так ли, мадам?
– Да, Генрих.
– Назовите же мне их! Назовите, кто они? Сделайте мне с ними очную ставку!
– Правда, – сказал Карл, – Анрио имеет право требовать расследования.
– Я этого и требую! – продолжал Генрих, чувствуя преимущество своего положения и стремясь воспользоваться им. – Об этом я и прошу моего доброго брата Карла и мою дорогую матушку Екатерину. Со дня моего брака с Маргаритой разве я не был хорошим мужем? Спросите Маргариту. Разве я не был добрым католиком? Спросите моего духовника. Разве я не был хорошим родственником? Спросите всех, кто присутствовал на вчерашней охоте.
– Да, это правда, Анрио, – сказал король, – но все же говорят, что ты в заговоре.
– Против кого?
– Против меня.
– Сир, если бы я против вас злоумышлял, я мог бы все предоставить обстоятельствам, когда ваша лошадь с перебитой ногой не могла подняться, а разъяренный кабан набросился на ваше величество.
– Смерть дьяволу! А ведь он прав, матушка.
– Но все-таки, кто же был у вас сегодня ночью? – спросила Екатерина.
– Мадам, в такие времена, когда так трудно отвечать даже за собственные действия, я не могу брать на себя ответственность за действия других. Я ушел из моих покоев в семь часов вечера, а в десять брат мой Карл увел меня с собой; всю ночь я провел с ним. Так как все время я был с его величеством, откуда я мог знать, что происходит у меня дома?
– Да, – отвечала Екатерина, – однако остается несомненным то, что какой-то ваш человек убил двух стражей его величества и ранил Морвеля.
– Мой человек?! – спросил Генрих. – Кто же он, мадам? Назовите.
– Все обвиняют месье де Ла Моля.
– Мадам, месье де Ла Моль вовсе не мой человек, он на службе у герцога Алансонского и рекомендован ему не мной, а вашей дочерью.
– А все же, не Ла Моль ли был у тебя, Анрио? – спросил король.
– Сир, откуда же мне знать? Я этого не отрицаю и не подтверждаю… Месье де Ла Моль – человек очень милый, услужливый, очень преданный королеве Наваррской и часто приходит ко мне с поручениями от Маргариты, которой он признателен за рекомендацию герцогу Алансонскому, или же он приходит по поручению самого герцога. Я не могу утверждать, что это был не Ла Моль…
– Это был он, – сказала Екатерина. – Его узнали по вишневому плащу.
– А разве у Ла Моля есть вишневый плащ? – спросил Генрих.
– Да, – ответила Екатерина.
– И у того человека, который так расправился с двумя моими стражами и с Морвелем…
– Тоже был вишневый плащ? – перебивая короля, спросил Генрих.
– Совершенно верно, – подтвердил Карл.
– Ничего не могу сказать, – ответил Генрих. – Но мне кажется, что если у меня в покоях был не я, а, по вашим словам, Ла Моль, то следовало вызвать вместо меня Ла Моля и допросить его. Однако разрешите, ваше величество, обратить ваше внимание на одно обстоятельство.
– На какое?
– Если бы я, видя подписанный моим королем приказ, не подчинился ему и оказал сопротивление, я был бы виноват и заслужил бы любое наказание. Но ведь это был какой-то незнакомец, которого приказ нисколько не касался! Его хотели арестовать незаконно – он воспротивился; быть может, слишком рьяно, но он был вправе!
– Тем не менее… – начала Екатерина.
– Мадам, в приказе было сказано арестовать именно меня? – спросил Генрих.
– Да, – ответила Екатерина, – и его величество подписал его собственноручно.
– А значилось ли в приказе – в случае ненахождения меня арестовать всякого, кто окажется на моем месте?
– Нет, – ответила Екатерина.
– В таком случае, – продолжал Генрих, – пока не будет доказано, что я заговорщик, а человек, находившийся у меня в комнате, мой сообщник, – этот человек невинен.
Затем, обернувшись к Карлу IX, Генрих добавил:
– Сир, я никуда не выйду из Лувра. Я даже готов по одному слову вашего величества направиться в любую государственную тюрьму, какую будет вам угодно мне назначить. Но пока не будет доказано противного, я имею право называть себя самым верным слугой, подданным и братом вашего величества!
И Генрих с таким достоинством, какого от него не ожидали, раскланялся и вышел.
– Браво, Анрио! – сказал Карл, когда Генрих Наваррский вышел.
– Браво? За то, что он нас высек? – сказала Екатерина.
– А почему бы мне не аплодировать? Когда мы с ним фехтуем и он наносит мне удар, разве не говорю я «браво»? Матушка, вы напрасно так плохо относитесь к нему.
– Сын мой, – ответила Екатерина, – не плохо отношусь, а я боюсь его.
– И тоже напрасно! Анрио мне друг; он верно говорил, что, если бы он злоумышлял против меня, он дал бы кабану сделать свое дело.
– Да, чтобы его личный враг, герцог Анжуйский, стал королем Франции?
– Матушка, не все ли равно, по какому побуждению он спас мне жизнь; но что спас он, так это факт! И – смерть всем чертям! – я не позволю огорчать его. Что же касается Ла Моля, то я сам поговорю о нем с герцогом Алансонским, у которого он служит.
Этими словами он предлагал матери удалиться. Она вышла, стараясь собрать и закрепить в какой-то определенной форме бродившие в ней подозрения. Ла Моль, человек слишком незначительный, не годился для ее целей.
Войдя к себе, Екатерина застала там Маргариту, которая ее ждала.
– А-а! Это вы, дочь моя? Я посылала за вами вчера вечером.
– Я знаю, мадам, но меня не было дома.
– А сегодня утром?
– А сегодня я пришла сказать вашему величеству, что вы готовитесь совершить великую несправедливость.
– Какую?
– Вы собираетесь арестовать графа де Ла Моль.
– Вы ошибаетесь, дочь моя! Я никого не собираюсь арестовывать – приказы об аресте отдает король, а не я.
– Мадам, не будем играть словами в таком серьезном деле. Ла Моля арестуют, это верно?
– Возможно.
– По обвинению в том, что этой ночью он находился в комнате короля Наваррского, ранил Морвеля и убил двух стражей?
– Да, именно это преступление вменяется ему в вину.
– Мадам, оно вменяется ему ошибочно, – сказала Маргарита, – месье де Ла Моль в нем неповинен.
– Ла Моль в нем неповинен?! – воскликнула Екатерина, чуть не подскочив от радости и сразу почувствовав, что разговор с Маргаритой прольет ей некоторый свет на это дело.
– Нет, неповинен! – повторила Маргарита. – И не может быть повинен, потому что он был не у короля.
– А где же?
– У меня, мадам.
– У вас?!
– Да, у меня.
За такое признание наследной принцессы Франции Екатерина должна была бы наградить ее уничтожающе грозным взглядом, а она только скрестила руки на своем поясе.
– И если… – сказала Екатерина после минутного молчания, – если его арестуют и допросят…
– Он скажет, где и с кем он был, – твердо ответила Маргарита, хотя была уверена в противном.
– Если это так, то вы правы, дочь моя: Ла Моля нельзя арестовать.
Маргарита вздрогнула: ей показалось, что в тоне, каким Екатерина произнесла эти слова, заключался таинственный и страшный смысл; но делать было уже нечего, поскольку ее просьба была удовлетворена.
– Но если это был не месье де Ла Моль, – сказала Екатерина, – кто же был другой?
Маргарита промолчала.
– А этот другой вам, дочка, незнаком? – спросила Екатерина.
– Нет, матушка, – не очень твердым тоном ответила Маргарита.
– Ну же, не будьте откровенны только наполовину.
– Повторяю, мадам, что я его не знаю, – ответила Маргарита, невольно побледнев.
– Ладно, ладно, – сказала Екатерина равнодушным тоном, – это узнается. Ступайте, дочь моя! Будьте покойны: ваша мать стоит на страже вашей чести.
Маргарита вышла.
«Ага! У них союз! – говорила про себя Екатерина. – Генрих и Маргарита сговорились: жена онемела за то, что муж ослеп. Вы очень ловки, детки, и воображаете, что очень сильны; но ваша сила в единении, а я вас всех разъединю. Кроме того, настанет день, когда Морвель будет в состоянии говорить или писать, назовет имя или начертит шесть букв, – и тогда все станет известно. Да, но до того времени виновный будет в безопасности. Самое лучшее – это разъединить теперь же эту пару».
Немедля Екатерина вернулась к сыну и застала его за разговором с герцогом Алансонским.
– А-а! Это вы, матушка! – сказал он, нахмурив брови.
– Почему, Карл, вы не прибавили «опять»? Это слово было у вас на уме.
– То, что у меня на уме, мадам, это мое дело, – ответил Карл грубым тоном, который временами появлялся у него даже в разговоре с Екатериной. – Что вам надо? Говорите поскорее.
– Вы были правы, сын мой. А вы, Франсуа, ошиблись.
– В чем? – спросили оба сына.
– У короля Наваррского был вовсе не Ла Моль.
– А-а! – произнес Франсуа, бледнея.
– Кто же? – спросил Карл.
– Пока неизвестно, но это мы узнаем, как только Морвель заговорит. Итак, отложим это дело, которое вскоре разъяснится, и вернемся к Ла Молю.
– Но при чем же тогда Ла Моль, матушка, раз не он был у короля Наваррского?
– Да, он не был у короля Наваррского, но был у… королевы Наваррской.
– У королевы! – воскликнул Карл и нервически расхохотался.
– У королевы! – повторил герцог Алансонский, смертельно побледнев.
– Да нет! Нет! – возразил Карл. – Гиз говорил мне, что встретил носилки Маргариты.
– Так оно и было, – ответила Екатерина, – где-то в городе у нее есть дом.
– Переулок Клош-Персе! – воскликнул Карл.
– О-о! Это уж чересчур! – сказал герцог Алансонский, вонзая ногти себе в грудь. – И его рекомендовала она мне!
– Ага! Теперь я понял! – сказал король, вдруг останавливаясь на месте. – Так это он сопротивлялся нам сегодня ночью и сбросил мне на голову серебряный кувшин. Вот негодяй.
– Да, да! Негодяй! – повторил герцог Алансонский.
– Вы правы, дети мои, – сказала Екатерина, не подавая виду, что понимает, какое чувство побуждало каждого из них произнести этот приговор. – Вы правы! Он может погубить честь принцессы крови одним неосторожным словом. А для этого ему достаточно подвыпить.
– Или расхвастаться, – добавил Франсуа.
– Верно, верно, – ответил Карл. – Но мы не можем перенести это дело в суд, если сам Анрио не согласится подать жалобу.
– Сын мой, – сказала Екатерина, кладя свою руку Карлу на плечо и выразительно его сжимая, чтобы обратить все внимание короля на то, что она собиралась предложить, – выслушайте меня. Преступление уже налицо, но может выйти и позорная история. А за такие проступки против королевского достоинства наказывают не судьи и не палачи. Будь вы просто дворяне, мне было бы нечему учить вас, – вы оба люди храбрые, но вы принцы крови, и вам нельзя скрестить ваши шпаги со шпагою какого-то дворянчика! Обдумайте способ мести, возможный для принцев крови.
– Смерть всем чертям! – воскликнул Карл. – Вы правы, матушка! Я что-нибудь придумаю.
– Я помогу вам, брат мой, – откликнулся герцог Алансонский.
– И я, – сказала Екатерина, развязывая шелковый черный поясок, который тройным кольцом обвивал ее талию и свешивался до колен двумя концами с кисточками, – я ухожу, но вместо себя я оставляю это.
И она бросила свой поясок к ногам двух братьев.
– А-а! Понимаю, – воскликнул Карл.
– Так этот поясок… – заговорил герцог Алансонский, поднимая его с пола.
– И наказание, и тайна, – торжествующе сказала Екатерина. – Было бы недурно впутать в это дело Генриха, – добавила она и вышла.
– Чего же проще! – сказал герцог Алансонский. – Как только Генрих узнает, что жена ему неверна… – И, обернувшись к королю, спросил: – Итак, вы согласны с мнением нашей матушки?
– От слова до слова! – ответил Карл, не подозревая, что всаживает тысячу кинжалов в сердце герцога. – Это рассердит Маргариту, зато обрадует Анрио.
Затем он позвал офицера своей стражи и приказал сказать Генриху, что король просит его к себе, но тотчас раздумал.
– Нет, не надо, я сам пойду к нему. А ты, Алансон, предупреди Анжу и Гиза.
И, выйдя из своих покоев, он пошел по маленькой винтовой лестнице, которая вела в третий этаж, к покоям Генриха Наваррского.
X. Мстительные замыслы
Генрих благодаря своей выдержке при допросе получил короткую передышку и забежал к мадам де Сов. Там он застал Ортона, уже совсем оправившегося от своего обморока; но Ортон мог рассказать только то, что какие-то люди ворвались к нему и что их начальник оглушил его, ударив эфесом шпаги.
Об Ортоне тогда никто не вспомнил. Екатерина, увидев его распростертым на полу, подумала, что он убит. На самом деле Ортон, очнувшись как раз в промежуток времени между уходом Екатерины и появлением командира стражи, которому было приказано очистить комнату, сейчас же побежал к мадам де Сов.
Генрих попросил Шарлотту приютить у себя Ортона до получения вестей от де Муи, который непременно напишет из своего прибежища. Тогда он, Генрих, отправит с Ортоном ответ свой де Муи и, таким образом, будет иметь там не одного, а двух преданных ему людей.
Решив поступить так, Генрих вернулся к себе и, рассуждая сам с собой, начал ходить взад и вперед по комнате, как вдруг дверь растворилась и вошел король.
– Ваше величество! – воскликнул Генрих, бросаясь к нему навстречу.
– Собственной персоной… Честное слово, Анрио, ты молодец! Я начинаю любить тебя все больше.
– Сир, ваше величество меня захвалили, – ответил Генрих.
– У тебя только один недостаток, Анрио.
– Какой? Уж не тот ли, в котором вы упрекали меня не один раз, что я предпочитаю соколиной охоте охоту с гончими?
– Нет, нет, Анрио, я говорю не об этом, а о другом.
– Если ваше величество объясните мне, в чем дело, я постараюсь исправиться, – ответил Генрих, увидев по улыбке Карла, что он в хорошем настроении.
– Дело в том, что у тебя хорошие глаза, а видишь ты ими плохо.
– Может быть, сир, я, сам того не зная, стал близорук?
– Хуже, Анрио, хуже: ты ослеп.
– Вот что! – удивился Беарнец. – Но, может быть, это случается со мной, когда я закрываю глаза?
– Да, да! Ты так и делаешь, – сказал Карл. – Как бы то ни было, я их тебе открою.
– Господь сказал: «Да будет свет, и бысть свет». Ваше величество являетесь представителем бога на земле, следовательно, ваше величество можете сотворить на земле то, что бог творит на небе. Я слушаю.
– Когда вчера вечером Гиз сказал, что встретил твою жену в сопровождении какого-то волокиты, ты не хотел верить.
– Сир, – отвечал Генрих, – как же я мог поверить, что сестра вашего величества способна на такое безрассудство?
– Тогда он прямо указал, что твоя жена отправилась в переулок Клош-Персе, но этому ты тоже не поверил!
– А разве я мог предполагать, что принцесса Франции решится открыто ставить на карту свое доброе имя?
– Когда мы осаждали дом в переулке Клош-Персе и в меня попали серебряным кувшином, Анжу облили апельсинным компотом, а Гиза угостили кабаньим окороком, разве ты не видел там двух женщин и двух мужчин?
– Сир, я ничего не видел. Ваше величество, наверно, помните, что в это время я допрашивал привратника.
– Зато я, черт подери, видел!
– А-а! Если вы, ваше величество, видели сами, то, конечно, это так.
– Да, я видел двух женщин и двух мужчин. Теперь для меня нет сомнений, что одна из этих женщин была Марго, а один из мужчин – Ла Моль.
– Однако если Ла Моль был в переулке Клош-Персе, значит, он не был здесь, – возразил Генрих.
– Нет, нет, его здесь не было, – сказал король. – Но сейчас вопрос не в том, кто был здесь, – это узнается, когда болван Морвель сможет говорить или писать. Вопрос в том, что Марго тебя обманывает.
– Пустяки! Не верьте всяким сплетням, сир, – ответил Генрих.
– Говорю тебе, что ты не близорук, а просто слеп. Смерть дьяволу! Поверь мне хоть один раз, упрямец! Говорят тебе, что Марго тебя обманывает, и мы сегодня вечером задушим предмет ее увлечения.
Генрих даже отпрянул при такой неожиданности и с изумлением посмотрел на Карла.
– Признайся, Анрио, что в глубине души ты не против этого. Марго, конечно, раскричится, как сто тысяч ворон, но тем хуже для нее. Я не хочу, чтобы тебе причиняли горе. Пусть Анжу наставляет рога принцу Конде, я закрываю глаза: Конде – мне враг; а ты мне брат, больше того – друг.
– Но, сир…
– И я не хочу, чтобы тебя притесняли, не хочу, чтобы над тобой издевались; довольно ты служил мишенью для всяких волокит, приезжающих сюда, чтобы подбирать крошки с нашего стола и увиваться около наших жен. Пусть только посмеют заниматься таким делом, черт их возьми! Тебе изменили, Анрио, – это может случиться со всяким, – но, клянусь, ты получишь удовлетворение, которое поразит всех, и завтра будут говорить: «Тысяча чертей! Король Карл, как видно, очень любит своего брата Анрио, если сегодня ночью заставил Ла Моля вытянуть язык».
– Сир, это дело действительно решенное? – спросил Генрих.
– Решено и подписано. Этому щеголю нельзя пожаловаться на свою судьбу; исполнителями будут я, Анжу, Алансон и Гиз: один король, два принца крови и владетельный герцог, не считая тебя.
– Как – не считая меня?
– Ну да, ты-то ведь будешь с нами!
– Я?!
– Да. Мы будем его душить, а ты пырни его как следует кинжалом – по-королевски!
– Сир, я смущен вашей добротой, – ответил Генрих, – но откуда вы все это знаете?
– А-а! Ни дна ему, ни покрышки! Говорят, он этим похвалялся. Он все время бегает к ней то в Лувре, то в переулок Клош-Персе. Они вместе сочиняют стихи – хотел бы я посмотреть на стихи этого фертика: какие-нибудь пасторальчики, болтают о Гионе и о Мосхосе да перевертывают на все лады Дафниса и Коридона. Знаешь что, выбери у меня трехгранный кинжал получше.
– Сир, это надо обдумать… – сказал Генрих.
– Что?
– Вы, ваше величество, поймете, почему мне нельзя участвовать в этом деле. Мне кажется, что мое присутствие будет неприличным. Я являюсь настолько заинтересованным лицом, что мое личное участие в этом возмездии покажется жестокостью. Ваше величество мстите за честь сестры нахалу, оклеветавшему женщину своим бахвальством, – такая месть вполне естественна с вашей стороны и поэтому не опозорит Маргариту, которую я, сир, продолжаю считать невинной. Но если в это дело вмешаюсь я, получится совсем другое; мое участие превратит акт правосудия в простую месть. Это будет уже не казнь, а убийство; жена моя окажется не жертвой клеветы, а женщиной виновной.
– Черт возьми! Ты, Генрих, златоуст! Я только что говорил матери, что ты умен, как дьявол.
И Карл доброжелательно взглянул на Генриха, благодарившего поклоном за этот комплимент.
– Как бы то ни было, но ты доволен, что тебя избавят от этого франтика?
– Все, что делает ваше величество, – все благо, – ответил король Наваррский.
– Ну и отлично, предоставь мне сделать это дело за тебя и будь покоен, оно будет сделано не хуже.
– Я полагаюсь на вас, сир, – ответил Генрих.
– Да! А в котором часу он обычно бывает у твоей жены?
– Часов в девять вечера.
– А уходит от нее?
– Раньше, чем прихожу к ней я, судя по тому, что я никогда его не застаю.
– Приблизительно когда?..
– Часов в одиннадцать.
– Хорошо! Сегодня ступай к ней в полночь; все будет уже кончено.
Сердечно пожав руку Генриху и еще раз пообещав ему свою дружбу, Карл вышел, насвистывая любимую охотничью песенку.
– Святая пятница! – сказал Беарнец, провожая глазами Карла. – Весь этот дьявольский замысел исходит не иначе как от королевы-матери; она только и думает о том, как бы поссорить нас, меня и мою жену, – такую милую чету!
И Генрих рассмеялся, как смеялся лишь тогда, когда его никто не видел и не слышал.
Часов в семь вечера красивый молодой человек принял ванну, выщипал портившие лицо волоски и, напевая песенку, стал самодовольно прогуливаться перед зеркалом в одной из комнат Лувра. Рядом спал или, вернее сказать, потягивался на постели другой молодой человек. Один был тот самый Ла Моль, о котором так много говорили в этот день, другой – его друг, Коконнас.
Вся сегодняшняя гроза прошла над Ла Молем так незаметно для него, что он не слышал раскатов ее грома, не видел сверкания ее молний. Возвратясь домой в три часа утра, он до трех часов дня пролежал в постели: спал, мечтал и строил замки на том зыбучем песке, который зовется – будущее; затем он встал, провел час у модных банщиков, сходил пообедать к мэтру Ла Юрьер и по возвращении в Лувр закончил свой туалет, намереваясь совершить обычный свой визит к королеве Наваррской.
– Ты говоришь, что уже обедал? – спросил, позевывая, Коконнас.
– И с большим аппетитом.
– Какой ты эгоист, почему ты не позвал меня с собою?
– Ты так крепко спал, что мне не хотелось тебя будить. А знаешь что? Поужинай вместо обеда. Только не забудь спросить у мэтра Ла Юрьер того легкого анжуйского вина, которое он получил на днях.
– Хорошее?
– Вели подать – уж я тебе говорю.
– А куда ты?
– Я? – спросил Ла Моль, изумленный таким вопросом своего друга. – Куда я? Ухаживать за моей королевой.
– А кстати, не пойти ли мне обедать в наш домик в переулке Клош-Персе; пообедаю остатками от вчерашнего; кстати, там есть аликантское вино, которое хорошо подбадривает.
– Нет, Аннибал, после того что произошло сегодня ночью, это будет неосторожно, мой друг. А кроме того, с нас взяли слово, что мы одни туда ходить не будем. Передай мне мой плащ!
– Верно, верно, я и забыл об этом, – ответил Коконнас. – Но какого черта! Где же твой плащ?.. А-а! Вот он.
– Да нет! Ты даешь мне черный, а я прошу вишневый. Я в нем больше нравлюсь королеве.
– Честное слово, его нет, – сказал Коконнас, посмотрев во все стороны, – ищи сам, я не могу найти.
– Как не можешь найти? Куда же он девался?
– Ты, может быть, его продал…
– Зачем? У меня осталось еще шесть экю.
– Надень мой.
– Вот хорошо – желтый плащ к зеленому колету! Я буду похож на попугая.
– Уж очень ты требователен. Тогда делай как знаешь.
Но когда Ла Моль, перевернув все вверх дном, начал посылать всевозможные ругательства по адресу воров, способных пробираться даже в Лувр, в эту минуту вошел паж герцога Алансонского с драгоценным плащом в руках.
– Ага! Вот он! Наконец-то! – воскликнул Ла Моль.
– Это ваш плащ, месье? – спросил паж. – Да?.. Его высочество посылал взять его у вас, чтобы решить одно пари по поводу оттенка вашего плаща.
– О, мне он был нужен только потому, что я собираюсь уходить, но если его высочество желает его пока оставить у себя….
– Нет, граф, вопрос уже решен.
Паж вышел, а Ла Моль пристегнул свой плащ.
– Ну как? Что ты решил делать? – спросил Ла Моль.
– Сам не знаю.
– А я тебя застану здесь сегодня вечером?
– Ну разве я могу сказать это наверно?
– Так ты не знаешь, что будешь делать через два часа?
– Я знаю, что буду делать я, но не знаю, что мне велят делать.
– Герцогиня Невэрская?
– Нет, герцог Алансонский.
– В самом деле, – сказал Ла Моль, – с некоторого времени я замечаю, что он уделяет тебе много внимания.
– Ну да, – ответил Коконнас.
– Тогда твоя судьба обеспечена, – смеясь, сказал Ла Моль.
– Фу! Младший сын! – ответил Коконнас.
– О-о! У него такое желание сделаться старшим, что небо, может быть, совершит для него чудо. Так, значит, ты не знаешь, где будешь сегодня вечером?
– Нет.
– Тогда иди к черту… или, лучше, ну тебя к богу! Прощай!
«Ла Моль – ужасный человек, – рассуждал пьемонтец сам с собой, – вечно требует, чтобы ты сказал, где будешь вечером! Разве это можно знать? Впрочем, похоже на то, что мне хочется спать».
И Коконнас опять улегся в постель. Что касается Ла Моля, то он полетел к покоям королевы. В коридоре, нам уже известном, он встретил герцога Алансонского.
– А-а! Это вы, месье де Ла Моль? – сказал герцог.
– Да, ваше высочество, – ответил Ла Моль, почтительно его приветствуя.
– Вы уходите из Лувра?
– Нет, ваше высочество, я иду засвидетельствовать свое почтение ее величеству королеве Наваррской.
– В котором часу вы уйдете от нее?
– Ваше высочество желаете что-нибудь мне приказать?
– Нет, не сейчас, но мне надо будет поговорить с вами сегодня вечером.
– В котором часу?
– Так между девятью и десятью.
– Буду иметь честь явиться в этот час к вашему высочеству.
– Хорошо, я полагаюсь на вас.
Ла Моль раскланялся и продолжал свой путь.
«Иногда этот герцог вдруг бледнеет, как мертвец… странно!..» – подумал он.
Затем он постучал в дверь к королеве; Жийона, словно ждавшая его прихода, проводила Ла Моля к Маргарите.
Маргарита сидела за какой-то работой, видимо очень утомительной; перед ней лежала исписанная бумага, пестревшая поправками, и том произведений Исократа. Она сделала знак Ла Молю не мешать ей дописать раздел; довольно быстро его закончив, она отбросила перо и предложила молодому человеку сесть рядом.
Ла Моль сиял. Никогда еще не был он таким красивым и веселым.
– Греческая! – воскликнул он, посмотрев на книгу. – Торжественная речь Исократа. Зачем она вам понадобилась? Ага! Я вижу на вашем листе бумаги латинское заглавие:
...
Ab Sarmatiae legatos Margaritae contio. [39]
Так вы собираетесь держать этим варварам торжественную речь на латинском языке?
– Приходится, потому что они не говорят по-французски, – ответила Маргарита.
– Но как вы можете готовить ответную речь, не зная, что они скажут?
– Женщина более кокетливая, чем я, оставила бы вас в заблуждении, что она импровизирует; но по отношению к вам, мой Гиацинт, я на такие обманы не способна: мне заранее сообщили их речь, и я отвечаю на нее.
– А разве польские послы прибудут так скоро?
– Они уже приехали сегодня утром.
– Об этом никто не знает.
– Они прибыли инкогнито. Их торжественный въезд в Париж перенесен, кажется, на послезавтра. Во всяком случае, то, что я сделала сегодня вечером, – в духе Цицерона, вы услышите, – добавила Маргарита с легким оттенком самодовольства и собственного превосходства. – Но бросим эти пустяки. Поговорим лучше о том, что с вами было.
– Со мной?
– Да.
– А что со мной было?
– Вы напрасно храбритесь, я вижу, что вы немного побледнели.
– Вероятно, я переспал и смиренно винюсь в этом.
– Бросьте, бросьте! Не прикидывайтесь, я все знаю.
– Будьте добры, неоцененная, объяснить мне, в чем дело, потому что я ничего не знаю.
– Ответьте мне – только откровенно: о чем расспрашивала вас королева-мать?
– Королева-мать, меня?! Разве она собиралась говорить со мной?
– Как?! Вы с ней не виделись?
– Нет.
– А с королем Карлом?
– Нет.
– И с королем Наваррским?
– Нет.
– Но с герцогом Алансонским вы виделись?
– Да, сию минуту я встретился с ним с коридоре.
– Что он сказал?
– Что ему надо дать мне какие-то приказания между девятью и десятью часами.
– Больше ничего?
– Больше ничего.
– Странно.
– Что же тут странного, скажите же мне, наконец?
– Вы не слыхали никаких разговоров?
– Да что случилось?
– А случилось то, несчастный, что за сегодняшний день вы повисли над пропастью.
– Я?
– Да.
– По какому поводу?
– Слушайте. Прошедшей ночью хотели арестовать короля Наваррского, но вместо него в его комнате застали де Муи, который убил трех человек и убежал никем не узнанный; заметили только пресловутый вишневый плащ.
– Так что же?
– А то, что этот вишневый плащ, который один раз ввел в заблуждение меня, теперь ввел в заблуждение и других: вас подозревают, даже обвиняют в этом тройном убийстве. Сегодня утром собирались вас арестовать, судить и, может быть – кто знает? – приговорить к смерти; ведь вы, чтобы спасти себя, не признались бы, где вы были, не правда ли?
– Сказать, где я был?! – воскликнул Ла Моль. – Выдать вас, мою августейшую красавицу?! О, вы совершенно правы: я бы умер, распевая песни, за то, чтобы ни одной слезинки не пало из ваших прекрасных глаз!
– Увы, несчастный мой поклонник! Мои прекрасные глаза плакали бы горько.
– Но каким образом утихла эта страшная гроза?
– Догадайтесь.
– Откуда мне знать?
– Есть только одно средство доказать, что вы не были в комнате короля Наваррского.
– Какое?
– Сказать, где вы были.
– И что же?
– Я и сказала.
– Кому?
– Моей матери.
– И королева Екатерина…
– Королева Екатерина знает, что вы мой любовник.
– О мадам, после того, что вы для меня сделали, вы можете потребовать от меня чего угодно. То, что вы сделали, воистину прекрасно и велико! О Маргарита, моя жизнь принадлежит вам!
– Надеюсь! Потому что я вырвала ее у тех, кто хотел ее отнять у меня. Но теперь вы спасены.
– И вами! Моей обожаемой королевой! – воскликнул молодой человек.
В это мгновение звонкий треск заставил их вздрогнуть. Ла Моль в безотчетном страхе отпрянул назад. Маргарита вскрикнула и замерла на месте, глядя во все глаза на разбитое окно.
Пробив стекло, в комнату влетел камень величиной с куриное яйцо и покатился по паркету.
Ла Моль тоже увидел разбитое стекло и понял причину такого звука.
– Кто этот наглец? – крикнул он и бросился к окну.
– Подождите, – сказала Маргарита. – По-моему, этот камень чем-то обернут.
– В самом деле, похоже на бумагу, – заметил Ла Моль.
Маргарита подбежала к странному метательному снаряду и сорвала тонкий листок бумаги, сложенный в узенькую ленточку и обернутый вокруг камня.
Бумага была прикреплена ниткой, кончик которой уходил за окно сквозь пробитую дыру.
Маргарита развернула бумажку и прочла.
– Вот несчастный! – воскликнула она.
Ла Моль, бледный и неподвижный, стоял как воплощение страха.
Маргарита передала ему записку, и Ла Моль со сжавшимся от горького предчувствия сердцем прочел следующее:
«В коридоре, который ведет к герцогу Алансонскому, длинные шпаги ждут месье де Ла Моля. Может быть, он предпочтет прыгнуть из этого окна и присоединиться в Манте к де Муи?»
– Э, их шпаги не длиннее моей! – сказал Ла Моль.
– Да, но их может быть десять против одной.
– Кто же прислал записку? Кто этот друг? – спросил Ла Моль.
Маргарита взяла записку от молодого человека и пристально взглянула на нее горящим взором.
– Почерк короля Наваррского! – воскликнула она. – Если предупреждает он, значит, действительно есть опасность. Бегите же, Ла Моль, бегите, я вас прошу.
– А как же мне бежать? – спросил Ла Моль.
– В окно. В ней же говорится – из этого окна.
– Приказывайте, моя королева, я готов повиноваться и прыгну, хотя бы мне грозило разбиться двадцать раз, пока я буду падать!
– Постойте, постойте! – сказала Маргарита. – Мне кажется, к этой нитке что-то прикреплено.
– Посмотрим, – ответил Ла Моль.
Ла Моль и Маргарита стали подтягивать привешенный предмет и, к несказанной радости, увидели конец лестницы, сплетенной из конского волоса и шелка.
– Теперь вы спасены! – воскликнула Маргарита.
– Это какое-то чудо!
– Нет, это доброе дело короля Наваррского.
– А если, наоборот, это ловушка? – спросил Ла Моль. – Если эта лестница должна порваться подо мной? А ведь вы сегодня сами признались в ваших теплых чувствах ко мне?
Маргарита, в душе которой сама радость стала источником страдания, побледнела как полотно.
– Вы правы, возможно, это так, – ответила она и кинулась к двери.
– Куда вы? Что вы хотите делать? – крикнул Ла Моль.
– Хочу убедиться лично – правда ли, что вас поджидают в коридоре.
– Ни в коем случае! Ни за что! Чтобы они выместили свою злобу на вас?!
– Что могут сделать наследнице французских королей и принцессе королевской крови? Я вдвойне неприкосновенна.
Маргарита произнесла эти слова с таким достоинством, с такой уверенностью, что Ла Моль сам поверил и в ее неприкосновенность, и в необходимость дать ей свободу действий.
Маргарита оставила Ла Моля под охраной Жийоны, предоставив самому решить – в зависимости от обстоятельств, – бежать ли или ждать ее прихода, и вышла в коридор. Коридор имел ответвление, которое вело к библиотеке, к нескольким гостиным, затем шло, параллельно коридору, к покоям короля и королевы-матери, а также к боковой лесенке, выходившей к покоям герцога Алансонского и короля Наваррского. Хотя пробило только девять часов, лампы были везде потушены, весь коридор оказался в полной темноте и лишь из ответвления коридора чуть брезжил какой-то свет. Маргарита не успела пройти еще и трети коридора, как услышала перешептывание нескольких людей, явно старавшихся приглушить свои голоса, что придавало их шепоту таинственный и жуткий характер. Но в ту же минуту точно по команде голоса затихли, даже чуть брезживший свет почти померк, и все погрузилось в непроглядный мрак.
Маргарита продолжала свой путь прямо туда, где ее могла ждать опасность. С виду Маргарита была спокойна, но судорожно сжатые руки говорили о сильном нервном напряжении. По мере того как она двигалась вперед, тишина становилась все более зловещей, и какая-то тень, похожая на тень руки, заслонила тусклый мерцающий источник света.
Когда она подошла к ответвлению коридора, вдруг чья-то мужская тень выступила на два шага вперед, открыла серебряный, вызолоченный фонарик, осветив себя, и крикнула:
– Вот он!
Маргарита лицом к лицу столкнулась со своим братом Карлом. Сзади стоял герцог Алансонский, держа в руке шелковый шнурок. Еще две тени стояли рядом в полной темноте, и только отблеск света на их обнаженных шпагах выдавал присутствие этих двух людей.
Маргарита в мгновение ока охватила всю картину и, сделав над собой огромное усилие, с улыбкой ответила Карлу:
– Сир, вы хотите сказать: «Вот она!»
Карл отступил от нее на шаг. Все остальные продолжали стоять неподвижно.
– Марго! Ты?! Куда ты идешь так поздно? – спросил он.
– Так поздно? А разве уже такой поздний час? – сказала она.
– Я тебя спрашиваю, куда ты идешь?
– Взять книгу речей Цицерона, я ее забыла, кажется, у матушки.
– Идешь так, без света?
– Я думала, что коридор освещен.
– Ты из своих покоев?
– Да.
– Чем же ты занималась сегодня вечером?
– Я готовлю торжественную речь польским послам. Ведь собрание совета завтра, и мы условились, что каждый из нас представит свою речь вашему величеству.
– А в этой работе тебе никто не помогает?
Маргарита собрала все свои силы.
– Да, братец, месье де Ла Моль, он человек очень образованный.
– Настолько образованный, – сказал герцог Алансонский, – что я просил его, когда он кончит работу с вами, прийти ко мне, чтобы помочь и мне своим советом, так как я не могу равняться с вами моим образованием.
– Так это вы его ждали здесь? – самым естественным тоном спросила Маргарита.
– Да, – раздраженно ответил герцог Алансонский.
– Тогда я его сейчас пришлю вам, брат мой. Мы уже кончили.
– А ваша книга? – спросил Карл.
– Я пошлю за ней Жийону.
Братья переглянулись.
– Идите, – сказал Карл, – а мы продолжим наш обход.
– Ваш обход? Кого вы ищете? – спросила Маргарита.
– Красного человечка, – ответил Карл. – Разве вы не знаете красного человечка, который иногда приходит в древний Лувр? Брат Алансон уверяет, что видел его, и мы идем его разыскивать.
– Удачной охоты! – пожелала им Маргарита.
Уходя, Маргарита оглянулась. На стене коридора дрожали тени четырех мужчин, которые, видимо, совещались.
В одну минуту королева Наваррская была у своей двери.
– Жийона, впусти, впусти меня, – сказала она.
Жийона отворила дверь.
Маргарита вбежала к себе в комнату, где ждал ее Ла Моль; он стоял решительный, спокойный, держа в руке шпагу.
– Бегите, бегите, не теряя ни минуты! – сказала Маргарита. – Они ждут вас в коридоре и хотят убить.
– Вы приказываете? – спросил Ла Моль.
– Я требую! Чтобы нам свидеться потом, надо бежать сию минуту.
В отсутствие Маргариты Ла Моль успел прикрепить лестницу к железному пруту в окне; теперь он сел верхом на подоконник и, прежде чем поставить ногу на первую ступеньку лестницы, нежно поцеловал руку королевы.
– Если эта лестница – ловушка и я умру, Маргарита, ради вас, не забудьте ваше обещание!
– Это не обещание, а клятва. Не бойтесь ничего, Ла Моль. Прощайте!
Ободренный этими словами, Ла Моль не слез, а соскользнул по лестнице. В ту же минуту раздался стук в дверь.
Маргарита тревожным взглядом следила за опасным спуском и обернулась лишь тогда, когда своими глазами убедилась, что Ла Моль благополучно стал на землю.
– Мадам, мадам! – повторяла Жийона.
– Что такое? – спросила Маргарита.
– Король стучится в дверь.
– Откройте.
Жийона исполнила приказание.
Четверо высокопоставленных особ пришли, не утерпев, и стояли на пороге.
В комнату вошел только Карл. Маргарита с улыбкой на устах двинулась к нему навстречу.
Король быстрым взглядом оглядел комнату.
– Братец, что вы ищете? – спросила Маргарита.
– Я ищу… ищу… Э, черт возьми! Ищу Ла Моля!
– Ла Моля?
– Да! Где он?
Маргарита взяла Карла за руку и подвела к окну.
В отдалении два всадника уже скакали прочь от Лувра, приближаясь к Деревянной башне; один из них снял с себя шарф, белый атлас зареял в знак прощания на черном фоне ночи. То был Ла Моль, а с ним Ортон. Маргарита указала на них Карлу.
– Что это значит? – спросил король.
– Это значит, – отвечала Маргарита, – что герцог Алансонский может спрятать в карман шелковый шнурок, а герцоги Анжу и Гиз – вложить шпаги в ножны: месье де Ла Моль сегодня не пойдет по коридору.
XI. Атриды
По возвращении своем в Париж Генрих Анжуйский еще ни разу не имел возможности свободно поговорить с матерью, хотя и был ее любимцем.
Свидание с матерью являлось для него не выполнением суетного этикета, не церемонией, а приятным долгом признательного сына, который сам, быть может, и не любил матери, но был уверен в ее нежных материнских чувствах по отношению к нему.
Действительно, за храбрость ли, за красоту ли, так как в Екатерине сказывались одновременно и мать и женщина, или, наконец, за то, что Генрих Анжуйский, если верить скандальной дворцовой хронике, напоминал Екатерине одну счастливую годину ее тайных любовных приключений, но так или иначе, а королева-мать любила его гораздо больше, чем остальных своих детей.
Лишь она знала о возвращении герцога Анжуйского в Париж; даже Карл IX не подозревал бы о его приезде, если бы случайно не очутился у дома Конде в ту минуту, когда его брат оттуда выходил. Карл IX ждал его только на следующий день, но Генрих Анжуйский нарочно приехал на день раньше, надеясь сделать тайком от брата-короля два дела: во-первых, свидеться с красавицей Марией Клевской, принцессою Конде, и, во-вторых, заблаговременно переговорить с польскими послами.
Относительно этого второго дела, цель которого оставалась неясной даже Карлу, Генрих Анжуйский и хотел посоветоваться с матерью. Читатель, подобно Генриху Наваррскому, конечно, тоже заблуждавшийся относительно цели свидания герцога Анжуйского с поляками, извлечет пользу из разговора сына с матерью.
Как только долгожданный герцог Анжуйский вошел к матери, обычно холодная и сдержанная Екатерина, со времени отъезда своего любимца не обнимавшая от полноты души никого, кроме Колиньи накануне его убийства, раскрыла свои объятия любимому ребенку и прижала его к своей груди с таким порывом материнской любви, какой был совершенно неожидан в ее зачерствелом сердце.
Затем она немного отошла назад, осмотрела сына и начала снова обнимать.
– Ах, мадам! – сказал Генрих Анжуйский. – Раз уж небо дало мне счастье увидеть свою мать без свидетелей, утешьте самого злополучного человека в мире.
– Господи! Что же приключилось с вами, милый сын? – воскликнула Екатерина.
– Только то, что вам известно, матушка. Я влюблен, и я любим! Но и любовь становится моим несчастьем.
– Говорите яснее, сын мой, – сказала Екатерина.
– Эх, матушка… Все эти послы, мой отъезд…
– Да, – ответила Екатерина, – послы прибыли, и это обстоятельство потребует от вас немедленного отъезда.
– Нет, обстоятельства не потребуют немедленного выезда, но этого потребует мой брат. Он ненавидит меня за то, что я его затеняю, и хочет от меня отделаться.
Екатерина усмехнулась:
– Дав вам трон?
– А ну его, этот трон, матушка! – возразил Генрих Анжуйский с горечью. – Я не хочу уезжать. Я, наследник французского престола, воспитанный среди утонченных, учтивых нравов, под крылом лучшей из матерей, любимый лучшею из женщин, должен куда-то ехать – в холодные снега, на край света, медленно умирать между дикарями, которые пьянствуют с утра до ночи и судят о достоинствах своего короля, как о винной бочке, – сколько может он вместить в себя вина! Нет, матушка, не хочу ехать, я там умру!
– Послушай, Генрих, – сказала Екатерина, сжимая руки сына, – это настоящая причина, да?
Генрих Анжуйский потупил глаза, точно не решаясь признаться даже матери в том, что у него было на душе.
– Нет ли другой причины, – продолжала Екатерина, – не столь романтичной, а более разумной?.. Политической?
– Матушка, не моя вина, если у меня в голове засела одна мысль и занимает в ней больше места, чем следовало бы; но вы же сами мне говорили, что гороскоп, составленный при рождении моего брата Карла, предсказал ему смерть в молодом возрасте.
– Да, мой сын, но гороскоп может и солгать. В настоящее время я сама хочу надеяться, что гороскопы говорят неправду.
– Но все-таки его гороскоп говорил о ранней смерти?
– Он говорил о четверти века; но неизвестно – относилось ли это ко времени всей жизни или ко времени царствования.
– Хорошо, матушка, тогда устройте так, чтобы я остался здесь. Моему брату почти двадцать четыре года: через год вопрос будет решен.
Екатерина глубоко задумалась.
– Да, конечно, так было бы лучше, если бы могло быть так, – ответила она.
– Посудите сами, матушка, в каком я буду отчаянии, если окажется, что я променял французскую корону на польскую! Там, в Польше, меня будет терзать мысль, что я мог бы царствовать здесь, в Лувре, среди этого изящного и образованного двора, рядом с лучшей из матерей, которая своими мудрыми советами облегчила бы мне труд и заботы управления; которая, привыкнув нести вместе с моим отцом государственное бремя, согласилась бы разделить это бремя и со мною. Ах, матушка! Я был бы великим королем!
– Ля-ля, мой милый сын! Не огорчайтесь, – ответила Екатерина, всегда питавшая сладкую надежду на такое будущее. – А вы сами ничего не придумали, чтобы остаться?
– Ну конечно, да! Для этого-то я и вернулся на два дня раньше, чем меня ждали, и дал понять моему брату Карлу, что поступил так ради мадам Конде; после этого я поехал навстречу самому значительному лицу из всего посольства – пану Ласко, познакомился с ним и при первом же свидании сделал все от меня зависящее, чтобы произвести отвратительное впечатление, чего, надеюсь, и достиг.
– Ах, это дурно, милый сын, – сказала Екатерина. – Интересы Франции надо ставить выше своих предубеждений.
– Скажите, матушка, а разве в интересах Франции, чтобы в случае несчастья с моим братом Карлом в ней царствовал герцог Алансонский или король Наваррский?
– О-о! Король Наваррский! Ни за что, ни за что! – прошептала Екатерина, и ее лоб омрачила тень тревоги, набегавшая каждый раз, как только возникал этот вопрос.
– Даю слово, – продолжал Генрих Анжуйский, – что мой брат Алансон не лучше его и любит вас не больше.
– А что же говорил Ласко? – спросила Екатерина.
– Ласко сам заколебался, когда я торопил его испросить аудиенцию у короля. Ах, если бы он мог написать в Польшу и отменить это избрание!
– Глупости, сын мой, глупости!.. То, что постановил сейм, – нерушимо.
– А нельзя ли, матушка, навязать этим полякам вместо меня моего брата?
– Если это и не невозможно, то, во всяком случае, очень трудно, – ответила Екатерина.
– Все равно, попытайтесь, матушка, поговорите с королем! Свалите все на мою любовь к мадам Конде, скажите, что от любви я сошел с ума, потерял голову. А он и в самом деле видел, как я выходил из дома Конде вместе с Гизом, который в этом случае оказывает мне дружеские услуги.
– Да, чтобы составить Лигу! Вы все этого не видите, но я-то вижу.
– Верно, матушка, верно, но я им пользуюсь только до поры до времени. Когда человек, преследуя свои цели, служит нашим целям, – разве это не выгодно для нас?
– Что вам сказал король, когда вас встретил?
– Как будто поверил моим словам, то есть тому, что я вернулся в Париж только из-за своей любви.
– А он не расспрашивал вас, где вы проведете остаток ночи?
– Спрашивал, матушка, но я ужинал у Нантуйе и нарочно устроил там большой скандал, чтобы король узнал о нем и не сомневался, что я там был.
– Значит, о вашем свидании с Ласко он не знает?
– Совершенно.
– Тем лучше. Тогда я попытаюсь поговорить с ним о вас, мой милый сын. Но вы ведь знаете, что у него тяжелый характер и никакое влияние на него не действует.
– Ах, матушка, какое было бы это счастье, если бы я остался здесь! Я бы еще больше стал вас любить – если только возможно любить больше!
– Если вы останетесь здесь, вас опять пошлют на войну.
– Это неважно – лишь бы не уезжать из Франции.
– Вас могут убить.
– Смерть от оружия – не смерть… Смерть – от горя, от тоски! Но Карл не разрешит остаться; меня он не выносит.
– Он вас ревнует к славе, прекрасный победитель, это всем известно. Зачем вы так храбры и так удачливы? Зачем, едва достигнув двадцати лет, вы побеждаете в сражениях, как Александр Македонский или Цезарь?.. Покамест никому не выдавайте своих намерений, делайте вид, что вы примирились со своей судьбой, ухаживайте за королем. Сегодня соберется малый совет короля для чтения и обсуждения речей, которые будут произнесены во время торжественного приема послов, изображайте из себя короля Польского, а остальное предоставьте мне. Кстати, чем кончилось ваше вчерашнее предприятие?
– Провалилось, матушка! Этого франтика предупредили, и он улепетнул в окно.
– В конце концов, – сказала Екатерина, – я все-таки узнаю, кто этот злой гений, который разрушает все мои замыслы… Я подозреваю кто… и горе ему!
– Так как же, матушка? – спросил герцог Анжуйский.
– Предоставьте это дело мне.
И она нежно поцеловала сына в глаза, провожая его из кабинета.
Сейчас же к королеве-матери вошли вельможные дамы ее личного двора.
Карл был в хорошем настроении – своевольная смелость Маргариты не раздражила его, а скорее развеселила: он лично ничего не имел против самого Ла Моля и если накануне ночью с некоторым увлечением поджидал Ла Моля в коридоре, так только потому, что это было похоже на охоту из засады.
Наоборот, герцог Алансонский находился в очень беспокойном состоянии. Его всегдашнее чувство неприязни к Ла Молю обратилось в ненависть с той минуты, как он узнал, что Ла Моль любим его сестрой.
Маргарите приходилось одновременно и напряженно думать, и зорко смотреть, ничего не забывать и быть начеку. О вчерашней сцене с ней никто не говорил, как будто ничего и не было.
Польские послы прислали тексты своих речей для предстоящего приема. Маргарита прочла их речи, на которые каждый член королевской семьи, кроме короля, должен был произнести ответную речь. Карл разрешил Маргарите ответить, как она найдет нужным, очень строго отнесся к подбору выражений в речи герцога Алансонского, а речью герцога Анжуйского остался более чем недоволен: всю ее беспощадно исчеркал и переправил.
Это заседание хотя еще не вызвало никакой вспышки, но крайне раздражило многих.
Генриху Анжуйскому надо было почти всю свою речь переделать заново, он и пошел заняться этим делом. Маргарита, не имевшая никаких вестей от Генриха Наваррского, кроме проникшей сквозь разбитое окно, поспешила к себе в надежде найти там своего мужа.
Герцог Алансонский, подметив нерешительность в глазах своего брата Анжу и тот особый взгляд, каким Анжу и мать многозначительно обменялись, ушел к себе, чтобы обдумать это обстоятельство, в котором он видел начало каких-то новых козней.
Наконец и Карл собрался пройти в кузницу, чтобы закончить рогатину, которую он делал сам. Екатерина его остановила. Карл, подозревавший, что встретит со стороны матери сопротивление своим распоряжениям, остановился и, пристально глядя на нее, спросил:
– Что еще?
– Сир, только одно слово. Мы забыли обсудить одно обстоятельство, а между тем оно немаловажно. На какой день мы назначим торжественный прием?
– Ах да! Верно! – сказал Карл, садясь в кресло. – Давайте, матушка, поговорим. Какой бы день вам был угоден?
– Мне думалось, – ответила Екатерина, – что в самом умолчании об этом, в кажущейся забывчивости вашего величества заключался какой-то глубоко продуманный расчет.
– Нет, матушка! Почему вы так думаете?
– По-моему, сын мой, – очень кротко ответила Екатерина, – не надо показывать полякам, что мы так гонимся за их короной.
– Наоборот, матушка, – ответил Карл, – это они торопились и ехали сюда из Варшавы ускоренными переходами… Честь за честь, учтивость за учтивость!
– Ваше величество, вы, может быть, и правы с одной стороны, но с другой – могу и я не ошибаться. Итак, вы за то, чтобы поторопиться с торжественным приемом?
– Конечно, матушка! А разве вы держитесь другого мнения?
– Вы знаете, что у меня нет других мнений, кроме тех, которые могут наиболее способствовать вашей славе; поэтому я опасаюсь, не вызовет ли такая торопливость нареканий в том, что вы злоупотребили возможностью избавить королевскую семью от расходов на содержание вашего брата, хотя он, несомненно, возмещает это своею преданностью и военной славой.
– Матушка, – ответил Карл, – при отъезде брата из Франции я одарю его настолько щедро, что никому даже не придет в голову то, чего вы опасаетесь.
– Тогда я сдаюсь, – ответила Екатерина, – раз на все мои возражения у вас есть такие хорошие ответы… Но для приема этого воинственного народа, который судит о силе государства по внешним признакам, вам надо показать большую военную силу, а я не думаю, чтобы в Иль-де-Франсе было сейчас много войск.
– Извините меня, матушка, за то, что я предусмотрел события и подготовился. Я призвал два батальона из Нормандии, один из Гийени; вчера прибыл из Бретани отряд моих стрелков; легкая конница, стоявшая постоем в Тюрени, будет завтра же в Париже, и, когда все думают, что в моем распоряжении не более четырех полков, у меня двадцать тысяч человек, готовых предстать на торжестве.
– Ай-ай-ай! Тогда вам не хватает только одного, – сказала Екатерина, – но это мы достанем.
– Чего?
– Денег. Не думаю, чтобы у вас их было чересчур много.
– Наоборот, мадам, наоборот! – ответил Карл IX. – У меня миллион четыреста тысяч экю в Бастилии; мои личные сбережения дошли за последние дни до восьмисот тысяч экю, я их запрятал в погреба здесь, в Лувре; а в случае нехватки у Нантуйе хранится триста тысяч экю, и они в моем распоряжении.
Екатерина вздрогнула: до сих пор она видала Карла буйным, вспыльчивым, но никогда не замечала в нем человека дальновидного.
– Значит, ваше величество думаете обо всем? Это замечательно! И если только портные, вышивальщики и ювелиры поторопятся, то через каких-нибудь полтора месяца ваше величество будете иметь возможность принять послов.
– Полтора месяца? – воскликнул Карл. – Да портные, вышивальщики и ювелиры работают с того дня, как стало известно, что мой брат избран королем. На крайний случай все может быть готово хоть сегодня, а через три-четыре дня – уже наверно!
– О! Я даже не думала, что вы торопитесь до такой степени, сын мой.
– Я же вам сказал: честь за честь!
– Хорошо. Значит, эта честь, оказанная французской королевской семье, вам так льстит?
– Разумеется.
– И видеть французского принца на польском престоле – это ваше горячее желание, не так ли?
– Совершенно верно.
– Значит, вам важен самый факт, а не человек? И кто бы там ни царствовал, вам…
– Нет, матушка, совсем не так. Какого черта! Останемся при том, что есть! Поляки сделали хороший выбор. Это народ ловкий, сильный! Народ-вояка, народ-солдат – он и выбирает в государи полководца. Это логично, черт возьми! Брат Анжу как раз по ним: герой Жарнака и Монконтура для них скроен, как по мерке… А кого же, по-вашему, им дать? Алансона? Труса?.. Нечего сказать, хорошее представление создастся у них о Валуа! Алансон! Да он удерет от свиста первой пули; а Генрих Анжуйский – это воин! Хорош! Пеший ли, конный ли, но всегда – шпага наголо и впереди всех!.. Удалец! Колет, рубит, режет! О! Мой брат – это такой вояка, что будет водить их в битву круглый год, с утра до вечера. Правда, пьет он мало, но покорит их своей выдержкой, вот и все! Милейший Генрих будет там в своей сфере. Гой! Гой! Туда! На поле битвы! Браво трубам и барабанам! Да здравствует король! Да здравствует победитель! Его будут провозглашать «императором» по три раза в год! Это будет великолепно для славы французского двора и чести Валуа!.. Быть может, его убьют, но – черт возьми! – какая это будет восхитительная смерть!
Екатерина вздрогнула, и молния сверкнула в ее глазах.
– Скажите проще, – воскликнула она, – вы хотите удалить Генриха Анжуйского, вы не любите своего брата!
– Ха-ха-ха! – нервным смехом расхохотался Карл. – Неужели вы догадались, что я хочу его удалить? Неужели вы догадались, что я не люблю его? А если бы и так? Любить брата! А за что?! Ха-ха-ха! Вы что, смеетесь?.. – По мере того как он говорил, на щеках его все больше проступал лихорадочный румянец. – А он меня любит? А вы меня любите? Разве меня кто-нибудь когда-нибудь любил, за исключением моих собак, Мари Туше и моей кормилицы? Нет, нет! Я не люблю своего брата! Я люблю только себя, слышите?! И не мешаю моему брату поступать так же.
– Сир, раз вы раскрыли вашу душу, то придется и мне открыть свою, – сказала королева-мать, тоже разгорячаясь. – Вы действуете, как государь слабый, как монарх неразумный, вы отсылаете вашего второго брата – естественную поддержку трона, человека, во всех смыслах достойного наследовать вам на случай несчастья с вами, когда французская корона окажется свободной; вы сами же сказали, что герцог Алансонский слишком молод, неспособен, слаб духом и даже больше – трус! Вы понимаете, что за ними следом идет Беарнец?
– А-а! Смерть всем чертям! – воскликнул Карл. – А какое мне дело, что будет, когда меня не будет? Вы говорите, что следом за моими братьями идет Беарнец? Тем лучше, черт возьми!.. Я сказал, что не люблю никого, – неверно: я люблю Анрио! Да, да, люблю доброго, хорошего Анрио! Он смотрит открыто, у него теплая рука. А что я нахожу кругом себя? Лживые глаза и ледяные руки! Я готов поклясться, что он не способен на предательство против меня. Не говоря уж о том, что я обязан вознаградить Анрио за его утрату: у него отравили мать, – бедняга! – и, как я слышал, это сделал кто-то из моей семьи. А кроме всего прочего, я чувствую себя здоровым. Но если я заболею, я потребую, чтобы он не отходил от меня, ничего ни от кого не приму, а только из его рук; если буду умирать, его провозглашу королем Франции и Наварры!.. И – клянусь брюхом папы! – один он не будет радоваться моей смерти, как мои братья, а будет плакать или хоть сделает вид, что плачет.
Если бы молния ударила у самых ее ног, Екатерина не так бы ужаснулась ей, как этим словам Карла. Совершенно пришибленная, она блуждающим взором смотрела на своего сына и только через несколько секунд воскликнула:
– Король Наваррский! Генрих Наваррский – король Франции, в нарушение прав моих детей?! О, святая матерь божия! Посмотрим! Так вы для этого хотите услать моего сына?
– Вашего сына!.. А я чей? Сын волчицы, как Ромул! – воскликнул Карл, дрожа от гнева и сверкая глазами, в которых бегали злые огоньки. – Ваш сын?! Верно! Король Франции – вам не сын: у короля Франции нет братьев, у короля Франции нет матери, у короля Франции есть только подданные! Королю Франции нужны не чувства, а воля! Он обойдется и без любви, но потребует повиновения!
– Сир, вы неправильно истолковали мои слова. Я назвала своим сыном того, который должен со мной разлучиться. Сейчас я люблю его больше, потому что боюсь потерять его. Разве это преступление, если матери не хочется расстаться со своим ребенком?
– А я говорю вам, что он с вами расстанется, что он уедет из Франции, что он отправится в Польшу! И это будет через два дня! А если вы скажете еще слово – то это будет завтра; а если вы не покоритесь, если вы не перестанете грозить мне вашими глазами – я удавлю его сегодня вечером, как вы вчера хотели удавить любовника вашей дочери! Только его уж я не упущу, как упустили мы Ла Моля.
Екатерина потупила голову перед такой угрозой; но тут же подняла ее.
– О бедное мое дитя! Твой брат собирается тебя убить. Хорошо! Будь спокоен, твоя мать защитит тебя!
– А-а! Издеваться надо мной! – крикнул Карл. – Так, клянусь кровью Христа, он умрет не сегодня вечером, не в этот час, а сию минуту! Оружие! Кинжал! Нож! А-а!
И Карл, напрасно отыскивая взглядом какое-нибудь оружие около себя, вдруг увидел маленький кинжальчик на поясе Екатерины; он схватил его, выдернул из сафьяновых с серебряной инкрустацией ножен и выбежал из комнаты, чтобы заколоть Генриха Анжуйского, где бы он ни был. Но, добежав до передней, Карл сразу изнемог от сверхчеловеческого возбуждения, он протянул руку вперед, выронил кинжальчик, который вонзился в пол, жалобно вскрикнул, осел всем телом и упал на пол.
В то же мгновение кровь хлынула у него из горла и из носа.
– Господи Иисусе! – прохрипел он. – Они меня убивают! Ко мне! Ко мне!
Екатерина, последовав за ним, видела, как он упал; одну минуту она смотрела на сына безучастно, не трогаясь с места, затем, опомнившись, открыла дверь и, движимая не материнским чувством, а своим щекотливым положением, закричала:
– Королю дурно! Помогите! Помогите!
На этот крик сбежалась целая толпа слуг, придворных, офицеров и окружила короля. Растолкав их всех, вперед прорвалась женщина и приподняла бледного как смерть Карла.
– Кормилица, меня хотят убить, убить! – пролепетал Карл, обливаясь потом и кровью.
– Убить тебя, мой Шарль? – воскликнула кормилица, пробегая по окружавшим таким взглядом, от которого все, не исключая самой Екатерины, попятились назад. – Кто хочет тебя убить?
Карл тихо вздохнул и потерял сознание.
– Ай-ай! Как плохо королю! – сказал Амбруаз Паре, которого немедля привели.
«Теперь волей-неволей ему придется отложить прием», – подумала непримиримая Екатерина.
Оставив короля, она направилась к своему второму сыну, с тревогой ждавшему в ее молельне, чем кончатся переговоры, которые имели для него столь важное значение.
Часть пятая
I. Гороскоп
Рассказав Генриху Анжуйскому все, что произошло, и, выйдя из молельни, Екатерина застала у себя в комнате Рене.
Впервые после посещения лавки на мосту Святого Михаила Екатерина встретилась со своим астрологом; накануне она послала Рене записку, и теперь он лично принес ответ.
– Ну как? Вы его видели? – спросила королева-мать.
– Да.
– В каком он положении?
– Пожалуй, лучше, а не хуже.
– Он может говорить?
– Нет, шпага перерезала ему гортань.
– Но я же вам сказала – пусть в таком случае напишет.
– Я пробовал; он старался изо всех сил, но его рука успела начертить только две неразборчивые буквы, а затем он потерял сознание. У него вскрыта шейная вена, и от потери крови он совершенно обессилел.
– Вы видели эти буквы?
– Вот они.
Рене вынул из кармана бумагу и подал Екатерине; она торопливо развернула.
– Две буквы – М и О, – сказала она. – Неужели это действительно Ла Моль, а вся комедия, разыгранная Маргаритой, только для отвода глаз?
– Мадам, – сказал Рене, – если я смею высказать свое мнение в таком вопросе, в котором даже ваше величество затрудняется иметь свое, я бы сказал, что месье де Ла Моль слишком влюблен, чтобы серьезно заниматься политикой.
– Вы думаете?
– Да, и в особенности – чтобы преданно служить королю Наваррскому: Ла Моль слишком влюблен в королеву, а настоящая любовь ревнива.
– А вы думаете, что он влюбился в нее по уши?
– Уверен.
– Он прибегал к вашей помощи?
– Да.
– Он просил у вас какого-нибудь любовного напитка?
– Нет, мы занимались восковой фигуркой.
– Пронзенной в сердце?
– Да.
– И эта фигурка сохранилась?
– Да.
– У вас?
– У меня.
– Было бы любопытно, если бы все эти каббалистические заклинания имели то действие, какое им приписывают!
– Ваше величество можете лучше меня судить по результату.
– Разве королева Наваррская любит Ла Моля?
– До такой степени, что не щадит себя. Вчера она спасла его от смерти, не боясь потерять и свою честь, и жизнь. Вот видите, мадам, а вы все сомневаетесь.
– В чем?
– В науке.
– Потому что ваша наука обманула меня, – сказала Екатерина, пристально глядя на Рене.
Но флорентиец выдержал ее взгляд с поразительным спокойствием.
– В каком случае? – спросил он.
– О, вы отлично знаете, о чем я говорю! Впрочем, тут дело, может быть, и не в науке, а в самом ученом.
– Мадам, я не понимаю, о чем вы говорите, – ответил флорентиец.
– А не выдыхаются ли ваши духи, Рене?
– Нет, мадам, когда их получают из моих рук; но если они проходят через другие руки, то возможно…
Екатерина усмехнулась и покачала головой.
– Ваш опиат, Рене, подействовал чудесно: у мадам де Сов еще никогда не было таких красных, таких цветущих губ!
– Мой опиат здесь ни при чем; мадам де Сов, пользуясь правом всех хорошеньких женщин иметь капризы, больше не заговаривала со мной об опиате, а я после наставления вашего величества считал неудобным посылать его от себя лично. Все коробочки стоят у меня дома – те самые, что были и при вас; кроме одной, которая исчезла, но я не знаю, ни кто ее взял, ни с какой целью.
– Хорошо, Рене, когда-нибудь мы еще вернемся к этому, – ответила Екатерина, – а пока поговорим о другом.
– Слушаю, мадам.
– Что нужно знать, чтобы определить продолжительность жизни данного человека?
– Прежде всего день его рождения, его теперешний возраст и под каким знаком зодиака он родился.
– И что еще?
– Нужны его волосы и кровь.
– Значит, если я вам принесу его волосы и кровь, скажу, под каким знаком он родился, его возраст и день рождения, вы узнаете, когда он умрет?
– Да, с точностью до нескольких дней.
– Хорошо! Волосы у меня есть, кровь я достану.
– Этот человек родился днем или ночью?
– Вечером, в пять часов двадцать три минуты.
– Будьте у меня завтра в пять часов: время опыта должно точно совпасть со временем рождения.
– Хорошо, – ответила Екатерина, – мы будем в это время.
Рене откланялся и вышел, как будто не обратив внимания на слова «мы будем», которые указывали, что Екатерина, против своего обыкновения, собиралась явиться не одна. На рассвете следующего дня Екатерина прошла к Карлу.
В полночь она справлялась о состоянии здоровья короля, и ей ответили, что при нем находится мэтр Амбруаз Паре и собирается пустить кровь, если нервное возбуждение не прекратится.
Карл, еще бледный от потери крови и вздрагивая во сне, спал на плече верной кормилицы, которая уже три часа сидела, прислонясь к его кровати, и боялась шевельнуться, чтобы не потревожить своего питомца.
Время от времени на губах больного показывалась пена, и кормилица вытирала ее вышитым платочком из тонкого батиста. У изголовья лежал другой носовой платок, весь в пятнах крови.
Екатерине пришла было в голову мысль завладеть этим платком, но она подумала, что кровь, растворенная слюной, возможно, будет действовать слабее; тогда она спросила у кормилицы, не пускал ли доктор ее сыну кровь, как он предполагал сделать. Кормилица ответила, что кровь уже пускали, что крови вышло очень много и что поэтому Карл два раза терял сознание.
Королева-мать, имевшая, как все принцессы того времени, некоторые познания в медицине, попросила показать ей кровь; сделать это было очень просто, так как Амбруаз Паре велел сохранить кровь для наблюдений.
Кювета с кровью стояла в соседней комнате. Екатерина прошла туда и налила красной жидкости в маленький флакончик, принесенный для этой цели. Затем вернулась, пряча в карманах свои пальцы, кончики которых, испачканные кровью, могли бы выдать ее поступок, оскорблявший святость материнских чувств.
В то же мгновение, когда она появилась на пороге, Карл открыл глаза и был неприятно поражен, увидев свою мать. Припоминая, как это бывает после сна, все свои мысли, проникнутые чувством злой обиды, он сказал:
– А! Это вы, мадам? Так объявите вашему любимому сыну, вашему Генриху Анжуйскому, что прием будет завтра.
– Милый Карл, прием будет тогда, когда вы пожелаете, – ответила Екатерина. – Успокойтесь и спите.
Карл, как бы послушавшись ее совета, действительно закрыл глаза; а Екатерина, дав этот совет, как обычно дают подобные советы только для утешения больного или ребенка, вышла из комнаты. Но едва Карл услышал, что дверь за ней закрылась, он сел на постели и голосом, еще глухим от мучительного приступа болезни, вдруг крикнул:
– Канцлера! Печати! Двор! Все – сюда!
Кормилица, нежно применяя силу, вновь положила голову короля к себе на плечо и попыталась укачать его, точно он был еще ребенком.
– Нет, нет, кормилица, я больше не засну. Позови моих придворных, я хочу поработать сегодня утром.
Когда Карл говорил таким тоном, надо было слушаться. И даже сама кормилица, несмотря на то что ее царствующий питомец сохранил за ней все былые привилегии, не решалась противиться его приказам. Явились все, кого потребовал король, и прием послов был назначен не на завтра, что оказалось невозможным, а через пять дней.
Между тем в назначенный час, то есть в пять часов вечера, королева-мать и герцог Анжуйский отправились к Рене, который, как известно, был предупрежден об этом посещении и успел все приготовить для таинственного действа.
В келье для жертвоприношений стояла жаровня, на ней лежал раскалившийся докрасна стальной клинок, на поверхности которого причудливыми арабесками должны были обрисоваться грядущие события в жизни того, о ком вопрошали оракула. На жертвеннике была раскрыта Книга судеб. Ночь была ясная, и Рене легко мог наблюдать ход и положение светил.
Первым вошел герцог Анжуйский, – он был в накладных волосах, в маске и в широком ночном плаще, скрывавшем его фигуру. Вслед за ним явилась королева-мать. Не знай она заранее, что это ее сын, она его сама бы не узнала. Екатерина сняла маску; герцог Анжуйский остался в маске.
– Ты ночью делал наблюдения? – спросила Екатерина.
– Да, мадам, – ответил Рене, – и звезды уже дали мне ответ о прошлом. Тот, о ком вы вопрошаете, отличается, как и все лица, родившиеся под созвездием Рака, пылким сердцем и беспримерной гордостью. Он могуществен; он прожил почти четверть века; небо даровало ему славу и богатство. Так, мадам?
– Может быть, – ответила Екатерина.
– С вами волосы и кровь?
– Вот они.
И Екатерина передала некроманту русый локон и флакончик с кровью.
Рене взял флакончик, встряхнул его, чтобы смешать фибрин с серозной жидкостью, и капнул на раскаленный докрасна клинок большую каплю крови, которая тотчас закипела и стала испаряться фантастическими очертаниями.
– О мадам, – воскликнул Рене, – я вижу, как он корчится от жестоких болей. Слышите, как стонет он, точно зовет на помощь? Видите, как все вокруг него становится кровавым? Видите, как вокруг смертного его одра готовятся великие бои? Вот копья, вот мечи…
– И долго будет так? – спросила Екатерина, несказанно волнуясь и останавливая рукой Генриха Анжуйского, который с жадным любопытством наклонился над жаровней.
Рене подошел к жертвеннику и произнес каббалистическое заклинание с таким убеждением, с таким жаром, что на висках у него вздулись жилы, а сам он затрясся от нервной дрожи и задергался в пророческих конвульсиях, вроде тех, какие сотрясали древних пифий, восседавших на треножниках, и не оставляли их до смертного одра.
Наконец он встал и объявил, что все готово, взял одной рукой флакончик, еще на три четверти полный, а другой – локон; затем, приказав Екатерине раскрыть наугад книгу и остановить свой взгляд на первом попавшемся месте, он вылил всю оставшуюся кровь на стальной клинок, а локон бросил в жаровню, произнося каббалистическую формулу, состоявшую из еврейских слов, значения которых он сам не понимал.
Тотчас герцог Анжуйский и Екатерина увидели, как вдоль клинка протянулась какая-то белая фигура, закутанная в саван; над ней склонилась другая, как будто женская фигура. В то же время локон ярко вспыхнул красным острым языком.
– Один год! – воскликнул Рене. – Не больше чем через год этот человек умрет, и его будет оплакивать только одна женщина! Впрочем, там, на другом конце клинка, видна еще одна женщина, и на руках у нее, кажется, ребенок.
Екатерина посмотрела на сына и, казалось, спрашивала его, кто же эти две женщины. Но едва Рене успел произнести эти слова, как стальной клинок побелел, и все рассеялось.
Тогда Екатерина раскрыла книгу наугад и чужим голосом, который она была не в силах изменить, несмотря на все свое самообладание, прочла следующее двустишие:
Погибнет тот, пред кем трепещет свет,
Коль позабудет мудрости совет.
Некоторое время царила полная тишина.
– А каковы знамения в этом месяце для лица, тебе известного? – спросила Екатерина через несколько секунд.
– Как всегда, самые благоприятные, мадам. Если только не удастся преодолеть рок, вызвав единоборство одного божества с другим, то будущее обеспечено за этим человеком. Хотя…
– Хотя – что?
– Одна из звезд, входящая в его созвездие, пока я наблюдал ее, была закрыта темным облачком.
– Ага, темным облачком!.. Значит, есть некоторая надежда.
– Мадам, о ком вы говорите? – спросил герцог Анжуйский.
Екатерина отвела сына подальше от света жаровни и шепотом начала ему что-то говорить.
В это время Рене стал на колени и, капнув себе на руку последнюю каплю крови, рассматривал ее при свете горевшей жаровни.
– Странное противоречие, – говорил он, – но оно доказывает, как ненадежны заключения простой науки, которой занимаются рядовые люди! Не для меня, а для всякого другого – врача, ученого, даже для Амбруаза Паре – вот эта кровь чиста, здорова, кислотна, полна животных соков и обещает долгие годы жизни тому телу, из которого она взята; а тем не менее вся ее сила иссякнет быстро – не пройдет и года, как эта жизнь угаснет!
Екатерина и Генрих Анжуйский обернулись и прислушались. Глаза герцога блестели сквозь глазные прорези маски.
– Да, – продолжал Рене, – простым ученым доступно только настоящее, а нам открыто прошедшее и будущее.
– Итак, вы продолжаете утверждать, что он умрет не позже чем через год?
– Так же верно, как то, что и мы трое, еще живущие, когда-нибудь упокоимся в гробу.
– Однако вы говорили, что кровь чиста, здорова, что она пророчит долгую жизнь?
– Да, если бы все шло естественным путем. Но ведь всегда возможен несчастный случай…
– О да! Вы слышите, – сказала Екатерина Генриху Анжуйскому, – возможен несчастный случай…
– Увы! Тем больше оснований мне остаться, – ответил герцог.
– Об этом нечего и думать: это невозможно.
Герцог Анжуйский обернулся к Рене и сказал, изменив свой голос:
– Благодарю! Возьми этот кошелек.
– Идемте, граф, – сказала Екатерина, нарочно дав этот титул своему сыну, чтобы сбить Рене с толку.
И оба посетителя вышли из лавки парфюмера.
– Матушка, посудите, – говорил Генрих Анжуйский, – возможен несчастный случай! А если он произойдет в мое отсутствие? Ведь я же буду от вас в четырехстах милях…
– Четыреста миль, мой сын, можно проехать в одну неделю.
– Да, но пустят ли меня сюда другие? Неужели нельзя мне подождать?!
– Как знать? – ответила Екатерина. – Быть может, несчастный случай, упомянутый Рене, и есть тот самый, который со вчерашнего дня уложил короля в постель? Слушайте, мой милый сын, возвращайтесь отдельно от меня, а я пройду в калитку монастыря Августинок – моя свита ждет меня в монастыре. Ступайте, Генрих, ступайте! И если увидите своего брата, не раздражайте его ни в коем случае.
II. Признания
Первое, о чем узнал Генрих Анжуйский, было решение устроить торжественный въезд польского посольства через четыре дня. Герцога ждали портные и ювелиры с великолепными одеяниями и роскошными украшениями, заказанными для него королем.
Меж тем как герцог со слезами злости на глазах примеривал все это великолепие, Генрих Наваррский очень весело разглядывал прекрасное ожерелье из изумрудов, шпагу с золотым эфесом и драгоценный перстень, присланные ему Карлом еще с утра. Герцог Алансонский получил какое-то письмо и заперся у себя в комнате, чтобы прочесть его спокойно, без помехи. А в это время Коконнас расспрашивал о своем друге всех встречных в Лувре.
Коконнас, по понятным причинам, был не очень удивлен отсутствием Ла Моля в течение всей ночи, но утром он уже начал чувствовать некоторое беспокойство и в конце концов решил отправиться на поиски своего друга: сначала он обследовал гостиницу «Путеводная звезда», из «Путеводной звезды» прошел в переулок Клош-Персе, из переулка Клош-Персе перешел в переулок Тизон, из переулка Тизон – к мосту Святого Михаила и наконец от моста Святого Михаила вернулся в Лувр.
Расспросы, с которыми Коконнас обращался к разным лицам, отличались, как это легко себе представить, зная его эксцентрический характер, особенной манерой, – или такой своеобразной, или такой настойчивой, что вызвали между ним и тремя придворными дворянами объяснения, имевшие конец, обычный в ту эпоху, то есть дуэль. Коконнас провел все три встречи с тем добросовестным усердием, какое он вкладывал обычно в дела такого рода: убил первого и ранил двух других, каждый раз говоря:
– Бедняга Ла Моль, он так хорошо знал по-латыни!
Так что третий, барон де Буасе, упав на землю, сказал ему:
– Ну, ради бога, Коконнас, придумай что-нибудь другое, скажи хоть, что он знал по-гречески!
В конце концов слухи о засаде в коридоре дошли до Коконнаса, и он был сам не свой от горя: ему уже казалось, что все эти короли и принцы убили его друга или бросили в какую-нибудь камеру для смертников. Он узнал, что в этом деле принимал участие и герцог Алансонский. Пренебрегая почтительностью к августейшей особе, Коконнас отправился к нему и потребовал от него объяснений, как от простого дворянина.
Сначала герцог Алансонский возымел большое желание выкинуть за дверь наглеца, осмелившегося требовать отчета в его действиях, но Коконнас говорил таким резким тоном, глаза его сверкали таким огнем, да и три дуэли за одни сутки создали пьемонтцу такую славу, что герцог раздумал и, не поддавшись первому побуждению, с очаровательной улыбкой ответил своему придворному:
– Милейший мой Коконнас, совершенно верно, что и король, пришедший в ярость от удара серебряным кувшином, и герцог Анжуйский, облитый апельсинным компотом, и герцог Гиз, заполучивший себе в лицо кабаний окорок, сговорились убить месье де Ла Моля; но один благоприятель вашего друга отвел удар. Заговор не удался, даю вам слово принца!
– Уф! – произнес Коконнас, выпуская воздух из легких, как из кузнечного меха. – Уф, дьявольщина! Что хорошо, то хорошо, ваша светлость, и мне бы очень хотелось познакомиться с этим благожелателем, чтобы выразить ему мою признательность.
Герцог Алансонский ничего на это не ответил, а только улыбнулся еще приятнее, чем раньше, предоставляя Коконнасу думать, что благожелатель не кто иной, как сам герцог.
– Ваша светлость, – продолжал Коконнас, – раз уж вы были так добры, что рассказали мне начало этой истории, то завершите ваше благодеяние, рассказав и ее конец. Вы говорите, что хотели его убить, но не убили, – что же с ним сделали? Слушайте, ваше высочество, я человек мужественный, я перенесу дурную весть, говорите! Его, наверно, бросили в какой-нибудь каменный мешок, да? Тем лучше, он будет осмотрительнее, а то он никогда меня не слушался. А кроме того, мы вытащим его оттуда. Камни – помеха не для всех.
Герцог Алансонский покачал головой.
– Самое скверное во всем этом, храбрый мой Коконнас, то, что после ночного предприятия твой друг исчез; и неизвестно, куда он делся.
– Дьявольщина! – воскликнул пьемонтец, снова побледнев. – Если он делся даже в ад, так я и там его найду!
– Послушай, я дам тебе один дружеский совет, – сказал герцог Алансонский, тоже очень желавший, но совсем по другим побуждениям, знать, где находится Ла Моль.
– Давайте, ваше высочество, давайте!
– Сходи к королеве Маргарите, она наверно знает, что сталось с тем, кого ты так оплакиваешь.
– Признаться, ваше высочество, я уже об этом думал, только не решался: мадам Маргарита внушает мне почтение такое, что я не в силах выразить, а кроме того, я еще боялся застать ее в слезах. Но раз ваше высочество заверяете, что Ла Моль не умер и что ее величество королева знает, где он находится, я наберусь храбрости и схожу к ней.
– Иди, мой друг, иди. А когда узнаешь, сообщи мне; я так же беспокоюсь, как и ты. Только, Коконнас, помни об одном.
– О чем?
– Не говори, что пришел к ней от меня: если ты сделаешь эту ошибку, то, возможно, не узнаешь ничего.
– Ваше высочество, с той минуты, как вы советуете держать это в тайне, я буду нем, как рыба или как королева-мать!
– Хороший принц, замечательный принц, великодушный принц, – бормотал Коконнас по дороге к королеве Наваррской.
Маргарита ждала Коконнаса, так как слух об его отчаянии дошел и до нее, а узнав, в каких подвигах выразилось его горе, она почти простила пьемонтцу несколько грубое обращение с ее подругой, герцогиней Невэрской, с которой он не разговаривал уже дня три по случаю большой размолвки между ними. Как только доложили о приходе Коконнаса, королева распорядилась его впустить.
Коконнас вошел и не мог побороть смущения, находившего на него всякий раз перед королевой – не в силу ее высокого положения, а в силу ее умственного превосходства, но Маргарита приняла его с улыбкой и сразу успокоила.
– Ах, мадам! – сказал Коконнас. – Верните мне моего друга или хотя бы скажите, что с ним сталось, – я не могу без него жить. Представьте себе Евриала без Нисоса, Дамона без Финтия или Ореста без Пилада! Сжальтесь над моим несчастьем во имя одного из этих героев, сердца которых не превзойдут моего сердца нежностью своей любви.
Маргарита улыбнулась и, взяв с него слово сохранить тайну, рассказала о бегстве в окно. Что же касалось места пребывания Ла Моля, то, несмотря на настоятельные просьбы Коконнаса, она так и не сказала ничего. Коконнас был удовлетворен только наполовину; поэтому он прибег к дипломатическим подходам самого тонкого порядка. Из них Маргарита ясно поняла, что герцог Алансонский желал не меньше своего придворного узнать о дальнейшей судьбе Ла Моля.
– Если уж вы хотите непременно знать что-нибудь определенное о вашем друге, – посоветовала Маргарита, – спросите у короля Наваррского, только он имеет право об этом говорить; я же могу сказать вам лишь одно: друг ваш жив, верьте моему слову.
– Я верю еще более очевидному, мадам, – ответил Коконнас, – ваши прекрасные глаза не заплаканы.
Затем, полагая, что больше нечего прибавить к этой фразе, обладавшей двойной ценностью – ясностью мысли и выражением его высокого мнения о достоинствах Ла Моля, – Коконнас вышел и стал обдумывать способ примирения с герцогиней Невэрской, не ради нее лично, а с целью узнать то, чего не могла знать Маргарита.
Большая скорбь – состояние ненормальное, поэтому человек стремится стряхнуть с себя этот гнет возможно скорее. Первоначально мысль о разлуке с Маргаритой сокрушала сердце Ла Моля, и он согласился бежать не столько ради сохранения своей жизни, сколько для того, чтобы спасти доброе имя королевы. И вот уже на следующий день к вечеру Ла Моль вернулся в Париж, чтобы полюбоваться своею королевой, когда она выйдет на балкон. В свою очередь, Маргарита, точно какой-то тайный голос ей сообщил о возвращении молодого человека, провела весь вечер у окна; и оба вновь увидели друг друга с тем несказанным чувством счастья, какое обычно сопутствует запретным радостям. Склонный к романтической грусти, Ла Моль находил даже известную прелесть в постигшей их невзгоде. Но любовник, увлеченный настоящим чувством, бывает счастлив лишь в то время, когда любуется или обладает предметом своей любви, но страдает, когда с ним разлучен; поэтому Ла Моль, горя желанием опять соединиться с Маргаритой, спешно занялся подготовкой того события, которое должно было вернуть ему любимую женщину, – подготовкой бегства короля Наваррского.
Маргарита тоже отдавалась счастью быть любимой с такой чистой, бескорыстной преданностью.
Часто она сердилась на себя за то, что сама считала слабостью, презирая своим мужским умом скудость обывательской любви; она была чужда тем мелким радостям, в которых чувствительные души видят самое сладостное, самое желанное, самое утонченное счастье, а в то же время считала счастливым тот день, если часам к девяти вечера, одевшись в белый пеньюар и выйдя на балкон, вдруг замечала там, во мраке набережной, фигуру всадника, который прикладывал свою руку то к сердцу, то к губам, а она только многозначительно покашливала, пробуждая в милом воспоминание о любимом голосе. Иногда ее маленькая ручка размахивалась и бросала комок бумаги, заключавший в себе какую-нибудь драгоценную вещицу, – драгоценную не стоимостью, а тем, что принадлежала тому, кто ее бросил. Вещица звонко падала на мостовую к ногам Ла Моля, и он как коршун бросался на добычу, прижимал ее к сердцу и пускался в обратный путь; а Маргарита не уходила с заветного балкона, пока не затихал во мраке ночи топот лошади, которая скакала сюда во весь опор, а удалялась так, как будто была сделана из того же материала, что и прославленный троянский конь.
Вот почему королева Наваррская не тревожилась за участь Ла Моля, но, опасаясь, как бы его не выследили, упорно не допускала других встреч, кроме таких свиданий «по-испански», которые и продолжались каждый вечер, вплоть до приема польских послов, отложенного на несколько дней по настояниям Амбруаза Паре.
Накануне приема, около девяти часов вечера, когда все в Лувре были заняты приготовлениями к торжеству, Маргарита открыла окно и вышла на балкон; но едва она показалась, как Ла Моль, не дожидаясь, пока она бросит ему записку, и, видимо, очень торопясь, сам бросил ей письмо, которое и упало, как всегда, к ногам его возлюбленной. Маргарита сразу поняла, что послание заключает в себе что-то необычное, и вернулась к себе в комнату, чтобы прочесть. На оборотной стороне первой страницы было написано: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду».
А на обороте второй страницы, которую можно было отделить от первой: «Мадам, сделайте так, чтобы я мог поцеловать вас не воздушным, а настоящим поцелуем. Жду».
Маргарита едва успела пробежать глазами вторую часть письма, как услышала голос Генриха Наваррского, который с обычной осторожностью постучал в общую входную дверь и спрашивал Жийону, можно ли войти.
Королева разорвала письмо на две половинки, одну спрятала за корсаж, другую сунула в карман, подбежала к окну и, затворив его, быстро прошла к двери.
– Входите, сир, – сказала Маргарита.
Как ни тихо, быстро и ловко она захлопнула окно, легкий шум все-таки дошел до слуха Генриха, у которого все чувства, крайне напряженные в придворной обстановке, заставлявшей его быть постоянно начеку, приобрели в конце концов почти ту же остроту, какая развивается у дикарей. Но король Наваррский не принадлежал к числу деспотов, которые не позволяют своим женам дышать свежим воздухом и любоваться звездами.
– Мадам, – сказал он, – пока придворные примеряют торжественные одеяния, мне вздумалось обменяться с вами мыслями о моих делах, надеясь, что вы продолжаете считать их вашими, не так ли?
– Конечно! – ответила Маргарита. – Ведь наши общие интересы остаются теми же?
– Да, мадам, поэтому-то мне и хотелось вас спросить, как вы смотрите на то обстоятельство, что герцог Алансонский за последние дни нарочно избегает меня, а третьего дня даже уехал из Лувра в Сен-Жермен. Объясняется ли это намерением бежать отсюда одному – благо за ним не следят, или же намерением остаться здесь? Ваше мнение, мадам? Признаюсь, оно будет иметь большой вес для утверждения моего собственного мнения.
– Ваше величество имеете полное основание беспокоиться молчанием моего брата. Я думала об этом сегодня целый день, и мое мнение такое: изменились обстоятельства, а в связи с этим и он переменился.
– Иными словами, увидав, что король Карл заболел, а Генрих Анжуйский стал польским королем, он почел за благо оставаться в Париже и приглядывать за французской короной?
– Совершенно верно.
– Отлично, пусть остается здесь. Это все, что мне нужно. Но это меняет весь наш план, так как теперь для моего бегства мне требуется гарантий втрое больше, чем если бы я бежал вместе с вашим братом, который обеспечивал мне безопасность своим присутствием и своим именем. А что меня поражает, так это молчание де Муи. Пребывать в бездействии совсем не в его привычках. Нет ли о нем каких-нибудь известий у вас, мадам?
– У меня, сир? – удивленно спросила Маргарита. – Откуда же?
– Э, моя крошка! Это могло быть очень просто: чтобы сделать мне удовольствие, вы соблаговолили спасти жизнь Ла Молю… Этот мальчик должен был уехать в Мант… А когда люди уезжают, то могут и вернуться…
– А-а! Вот где ключ к загадке, которую я тщетно пыталась разгадать! – ответила Маргарита. – Я оставила у себя окно открытым, а когда вернулась в комнату, то нашла на ковре какую-то записку.
– Ну вот видите! – сказал Генрих Наваррский.
– Но сначала я в ней ничего не поняла и не придала ей никакого значения, – продолжала Маргарита. – Может быть, я не сообразила и она от де Муи?
– Возможно, – ответил Генрих, – я даже решаюсь утверждать, что это очень вероятно. Нельзя ли мне посмотреть вашу записку?
– Конечно, сир, – сказала Маргарита, подавая ему ту половинку, которую сунула в карман.
Король Наваррский взглянул на записку и спросил:
– А разве это почерк не Ла Моля?
– Не знаю, – ответила Маргарита, – мне показалось, что почерк только подделан под его.
– Все равно прочтем, – сказал Генрих и прочел: «Мадам, мне необходимо поговорить с королем Наваррским. Дело спешное. Жду». – Ага! Вот как! – продолжал Генрих. – Видите, он ждет!
– Конечно, вижу, – сказала Маргарита. – Но чего же вы хотите?
– Эх, святая пятница! Хочу, чтобы он пришел сюда.
– Пришел сюда?! – воскликнула Маргарита, удивленно глядя на мужа красивыми глазами. – Как можете вы говорить такие вещи, сир? Человек, которого король хотел убить, человек приговоренный, обреченный… А вы говорите, чтобы он пришел сюда? Мыслимо ли это? Двери не для тех, кому пришлось бежать…
– В окно… хотите вы сказать?
– Вы совершенно верно закончили мою мысль.
– Ну что ж! Если путь в окно ему знаком, пускай воспользуется им, раз он не может входить в двери. Ведь это очень просто.
– Вы так думаете? – спросила Маргарита, краснея от мысли свидеться с Ла Молем.
– Уверен.
– Но как же сюда влезть? – спросила Маргарита.
– Неужели вы не сохранили веревочную лестницу, которую я вам прислал? Ай-ай! Не узнаю вашей обычной дальновидности.
– Конечно, сохранила, сир.
– Тогда все превосходно! – ответил Генрих.
– Жду приказаний вашего величества, – сказала Маргарита.
– Они очень просты, – ответил Генрих. – Привяжите лестницу к балкону и спустите вниз. Если это де Муи, как хочется мне думать… то он надежный друг, и коли найдет нужным лезть, так влезет.
И, не теряя спокойствия, Генрих Наваррский взял свечу, чтобы посветить Маргарите, пока она будет искать лестницу; но искать пришлось недолго – она оказалась спрятанной в знаменитом кабинете.
– Она самая, – сказал Генрих. – Теперь, мадам, я попрошу вас, если только не слишком злоупотребляю вашей любезностью: привяжите эту лестницу к балкону.
– Почему я, а не вы, сир?
– Потому что лучшие заговорщики – это те, которые наиболее осторожны. Появление мужчины может напугать нашего друга. Понятно?
Маргарита улыбнулась и привязала лестницу.
– Так! – сказал Генрих, прячась за стенку у окна. – Покажите себя получше; теперь покажите лестницу! Чудесно! Я уверен, что де Муи будет здесь.
Действительно, минут через десять какой-то человек, вне себя от радости, уже карабкался на балкон, но, увидев, что королева не вышла к нему навстречу, остановился в нерешительности. Тогда вместо Маргариты вышел Генрих.
– Ба! Да это не де Муи, а месье де Ла Моль! – приветливо сказал он. – Добрый вечер, месье де Ла Моль, входите, прошу вас.
Ла Моль был ошеломлен. Если бы он еще висел на лестнице, а не стал твердо на балкон, то, наверно, упал бы вниз.
– Вы желали спешно поговорить с королем Наваррским, – сказала Маргарита, – я за ним послала, и он перед вами.
Генрих отошел, чтобы затворить окно.
– Люблю, – шепнула Маргарита, сжимая руку молодого человека.
– Итак, месье де Ла Моль, – сказал Генрих Наваррский, вернувшись и подставляя Ла Молю стул, – что мы скажем?
– Сир, мы скажем, – отвечал Ла Моль, – что я расстался с де Муи у заставы. Ему хочется знать, заговорил ли Морвель и стало ли известным, что он был в спальне вашего величества.
– Пока нет, но Морвель заговорит, и очень скоро; нам надо торопиться.
– Сир, де Муи того же мнения, и если герцог Алансонский готов уехать завтра вечером, то де Муи с пятьюстами всадниками будет ждать у ворот Сен-Марсель; еще пятьсот будут ждать вас в Фонтенбло: оттуда вы поедете через Блуа и Ангулем в Бордо.
– Мадам, – обратился Генрих к своей жене, – что до меня, то я буду готов уехать завтра, успеете ли вы?
Глаза Ла Моля с тоской остановились на Маргарите.
– Я дала вам слово: куда бы вы ни ехали, я еду с вами, – ответила королева, – но, как вы сами понимаете, необходимо, чтобы и герцог Алансонский ехал вместе с нами. С ним невозможен средний путь: или он наш, или он нас предаст; если он будет колебаться – мы остаемся.
– Месье де Ла Моль, ему известно что-нибудь об этом замысле? – спросил Генрих Наваррский.
– Несколько дней тому назад он должен был получить письмо от де Муи.
– Вот как! А он мне ничего не говорил об этом, – сказал Генрих.
– Берегитесь его, сир, берегитесь! – заметила Маргарита.
– Будьте покойны, я держусь настороже. Как дать ответ де Муи?
– Не беспокойтесь, сир, – ответил Ла Моль, – завтра, видимо или невидимо для вас, но где-нибудь поблизости от вашего величества, де Муи будет на приеме послов; надо только, чтобы королева какой-нибудь фразой в своей речи дала ему понять – согласны вы или нет; должен ли он вас ждать или бежать один. Если герцог Алансонский откажется, то де Муи потребуется две недели, чтобы все перестроить заново, но вашим именем.
– Честное слово, де Муи драгоценный человек! – сказал Генрих Наваррский. – Мадам, можете ли вы вставить соответственную фразу в вашу речь?
– Это очень просто, – ответила Маргарита.
– Тогда я завтра повидаю герцога Алансонского. Пусть де Муи будет на своем месте и постарается понять ответ с одного слова.
– Он будет, сир.
– В таком случае, месье де Ла Моль, отправляйтесь и передайте ему мой ответ. Вероятно, вас поблизости ждут лошадь и слуга?
– Ортон ждет меня на набережной.
– Ступайте, граф, к нему… О нет! Не в окно! Это годится только на крайний случай. Вас могут увидеть, а так как никто не будет знать, что вы это проделали ради меня, то подведете королеву.
– Сир, а как же иначе?
– Если вам нельзя было войти в Лувр одному, то выйти вы можете со мной, так как я знаю пароль; у вас есть плащ – и у меня тоже; мы в них закутаемся и выйдем. А я буду очень рад лично передать Ортону свои распоряжения. Обождите здесь, я пойду посмотрю, нет ли кого-нибудь в коридоре.
И Генрих Наваррский с самым непринужденным видом пошел разведать путь. Ла Моль остался наедине с королевой.
– О, когда же я опять увижусь с вами? – воскликнул Ла Моль.
– Если мы бежим, то завтра; а если не бежим, то на этих днях вечером, в переулке Клош-Персе.
– Месье де Ла Моль, – сказал, вернувшись, Генрих, – можете идти: никого нет.
Ла Моль почтительным поклоном простился с королевой.
– Мадам, дайте же ему поцеловать вашу руку, – заметил Генрих Наваррский, – месье де Ла Моль не просто наш слуга.
Маргарита протянула Ла Молю руку.
– Да, кстати! Спрячьте получше лестницу, – сказал Генрих. – Для заговорщиков это предмет обстановки драгоценный: он оказывается нужным, когда этого ожидаешь меньше всего. Идемте, месье де Ла Моль!
III. Послы
На следующий день с утра все население Парижа двинулось к воротам Сент-Антуан, откуда должен был состояться въезд польских послов в Париж. Цепь из швейцарцев сдерживала толпу, отряды кавалерии расчищали путь для придворных вельмож и дам, ехавших встречать послов.
Вскоре около аббатства Сент-Антуан показался отряд всадников в красно-желтых одеждах – в меховых шапках и плащах и с обнаженными кривыми, как у турок, саблями. На флангах ехали офицеры.
За этим отрядом двигался другой отряд, одетый с восточной роскошью. А вслед за ним ехали послы. Их было четверо, представлявших собой самое сказочное рыцарское королевство шестнадцатого века.
Одним из четырех послов был краковский епископ, одетый в полувоенный, полусвященнический наряд, блиставший золотом и драгоценными каменьями. Белый конь с длинной волнистой гривой, шедший величавым шагом, казалось, извергал пламя из своих ноздрей; нельзя было поверить, что это благородное животное в течение месяца делало по пятнадцати миль в день, да еще по дорогам, которые стали почти непроезжими из-за плохой погоды.
Рядом с епископом ехал палатин Ласко, могущественный вельможа, близкий к престолу, сам обладавший королевским богатством и такой же спесью.
Вслед за двумя главными послами и за сопровождавшими их еще двумя другими ехало множество польских вельмож на лошадях в роскошной сбруе из шелка, золота и драгоценных камней, что вызывало шумное одобрение народа. И в самом деле, польские гости совершенно затмили французских всадников, хотя они были тоже богато разодеты и называли поляков варварами.
Екатерина до последнего момента надеялась, что продолжающаяся физическая слабость Карла сломит его решимость и прием послов будет опять отложен. Но когда назначенный день настал и она увидела бледного как привидение Карла, надевавшего на себя великолепную королевскую мантию, она поняла, что хотя бы внешне, но надо будет подчиниться этой железной воле, и стала проникаться мыслью, что пышное изгнание, на которое осужден Генрих Анжуйский, будет для него самым безопасным выходом из создавшегося положения.
Кроме нескольких слов, произнесенных Карлом, когда он раскрыл глаза и увидел мать, выходившую из кабинета, Карл больше не разговаривал с Екатериной после той сцены, которая и вызвала припадок, едва не погубивший короля. Все в Лувре знали, что мать и сын страшно повздорили между собой, но никто не знал из-за чего, и даже самые смелые дрожали от этой холодности и этого жуткого молчания, так же как птицы приходят в трепет от тишины, когда она предшествует грозе.
Тем не менее в Лувре все было готово, но все имело такой вид, точно готовилось не празднество, а торжественные похороны. Все люди повиновались мрачно, безучастно. Стало известно, что трепещет сама Екатерина, – и трепетали все.
Для торжества привели в порядок тронный зал, а так как собрания такого рода бывали, по обычаю, народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами и народ, сколько могли вместить приемные залы и дворы.
Париж представлял собою зрелище, какое представляет в подобных обстоятельствах всякий большой город: олицетворение толкотни и любопытства. Однако в этот день внимательный наблюдатель столичной толпы заметил бы среди простодушно глазеющих почтенных горожан значительное количество людей, закутанных в широкие плащи; они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, а сходясь, перешептывались короткими многозначительными фразами. Эти люди, видимо, очень интересовались торжественным шествием послов в Лувр, шли за ними в первых рядах и, казалось, получали приказания от почтенного старика с седой бородой и седеющими бровями, но с живыми черными глазами, которые подчеркивали его бодрую подвижность. В конце концов, своими ли силами или с помощью товарищей, этому старику удалось одному из первых протиснуться в Лувр, а благодаря любезности начальника швейцарцев – уважаемого гугенота и очень плохого католика, несмотря на обращение в католическую веру, – стать позади послов, как раз против Маргариты и Генриха Наваррского.
Генрих Наваррский, предупрежденный Ла Молем о том, что переодетый де Муи будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец глаза его встретились с глазами старика и остановились в нерешительности, но де Муи одним движением глаз рассеял сомнения короля Наваррского. Де Муи был настолько неузнаваем, что сам Генрих усомнился: неужели этот старик с белой бородой – тот самый бесстрашный вождь гугенотов, который шесть дней тому назад оказал такое яростное сопротивление целому отряду!
Генрих обратил внимание Маргариты на де Муи, сказав ей на ухо только одно слово. Тогда ее красивые глаза пробежали по всему залу, ища Ла Моля, но напрасно: Ла Моля не было.
Начались речи. Первая речь была обращена к королю. От имени сейма Ласко спрашивал его, согласен ли он на то, чтобы польская корона была предложена принцу из дома французских королей.
Карл ответил коротко и точно, охарактеризовал своего брата, герцога Анжуйского, и расхвалил польским послам его храбрость. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил вслух каждую законченную фразу его ответа. Пока она переводилась, король прижимал ко рту платок, а когда отнимал его, то было видно, что платок окрашен кровью.
Как только Карл закончил свой ответ, Ласко обратился к герцогу Анжуйскому с латинской речью, предлагая ему корону от имени польского народа.
Герцог Анжуйский, тщетно пытаясь справиться с дрожавшим от волнения голосом, ответил на том же языке, что он с признательностью принимает оказанную честь. Все время, пока он говорил, Карл стоял, сжав губы, устремив на герцога взор, неподвижный и грозный, как взор орла.
После речи герцога Анжуйского Ласко взял с красной бархатной подушки корону Ягеллонов и, пока два польских вельможи надевали на герцога Анжуйского королевскую мантию, вручил корону королю Карлу.
Карл подал знак брату. Герцог Анжуйский склонил перед ним колени, и Карл собственноручно надел ему корону на голову, после чего братья поцеловались со взаимной ненавистью, пожалуй, беспримерной в истории братских поцелуев.
И в то же мгновение герольд воскликнул:
– Александр-Эдуард-Генрих Французский, герцог Анжуйский, коронован королем Польским. Да здравствует король Польский!
Все собравшиеся повторили в один голос:
– Да здравствует король Польский!
Затем Ласко обратился к Маргарите. Речь королевы Маргариты была оставлена напоследок. Поскольку право держать речь предоставлялось ей как любезность, чтобы она могла блеснуть своим умом или, как выражались тогда, своим прекрасным гением, все с большим вниманием ждали ее ответной речи на латинском языке. Как мы уже сказали, она готовила ее сама.
Речь Ласко была не столько политической, сколько хвалебной. Каким бы ни был он сарматом, но и он отдал общую дань восхищения прекрасной королеве Наваррской. Языком Овидия, но стилем Ронсара он рассказал, что он и его спутники, выехав из Варшавы в глухую ночь, наверное, сбились бы с пути, если бы их, как некогда волхвов, не вели две звезды; они сияли все ярче и ярче по мере того, как их посольство приближалось к Франции, где наконец послы увидели, что эти две звезды были не звезды, а чудесные глаза королевы Наваррской. Затем, переходя с Евангелия на Коран, из Сирии – в Аравию, из Назарета – в Мекку, он в заключение выразил готовность последовать примеру тех сектантов, ярых приверженцев пророка, которые, удостоившись счастья созерцать его гробницу, выкалывали себе глаза, ибо полагали, что после такого прекрасного зрелища уже ничем не стоит любоваться в этом мире.
Речь была покрыта рукоплесканиями тех, кто, зная по-латыни, вполне разделял мнение оратора, а также тех, которые ничего не понимали, но старались делать вид, что понимают.
Маргарита сделала реверанс любезному сармату, затем, обращаясь к послу, но посматривая на де Муи, начала речь такими словами:
– Guod nunc hac in aula insperati adestis exultaremus ego et conjux, nisi ideo immineret calamitas, scilicet non solum fratris sed etiam amici orbitas. [40]
Эти слова имели двойной смысл – один для де Муи, другой для коронации Генриха Анжуйского. Приняв их на свой счет, Генрих Анжуйский поклонился в знак признательности.
Карл не помнил такой фразы в той речи, которую ему давали на просмотр несколько дней тому назад, но он не придавал значения словам Маргариты, поскольку ее речь была простой учтивостью. Кроме того, латинский язык знал он плохо.
Маргарита продолжала:
– Adeo dolemur a te dividi ut tecum poficisci maluissemus. Sed idem fatum quod nunc sine ulla mora Lutetia cedere juberit, hac in urbe detinet. Proficiscere ergo, frater; proficiscere, amice; proficiscere sine nobis; proficiscentem sequuntur spes et desideria nostra. [41]
Само собой разумеется, что де Муи с большим вниманием прислушивался к словам, обращенным к посланникам, но предназначенным только для него. Со своей стороны, Генрих Наваррский отрицательно повертел головой, давая понять молодому гугеноту, что герцог Алансонский отказался; но одного этого жеста, который мог оказаться случайным, было бы недостаточно для де Муи, если бы его не подтвердили слова Маргариты.
В то время как он смотрел на Маргариту и слушал всем существом своим, его черные, блестевшие из-под седых бровей глаза поразили Екатерину: она вздрогнула и больше не спускала глаз с той части зала, где стояли Генрих, Маргарита и этот старик.
«Странная фигура, – говорила она себе, сохраняя выражение лица, какого требовала торжественная обстановка. – Кто этот человек? Почему он так пристально смотрит на Маргариту и Генриха Наваррского, а они так пристально смотрят на него?»
Между тем королева Наваррская продолжала свою речь, отвечая теперь на любезности польского посла, а Екатерина ломала голову над тем, кто мог быть этот красивый старик. В это время к ней подошел церемониймейстер и подал душистое саше, куда была засунута сложенная вчетверо бумажка. Она раскрыла саше, вынула записку и прочла следующие слова:
...
«Благодаря сердечному лекарству, которое я дал Морвелю, он немного окреп и смог написать имя человека, который находился в комнате короля Наваррского, – это де Муи».
«Де Муи! – подумала королева-мать. – Я так и чувствовала. Но этот старик… А-а! Cospetto! Да это и есть…»
Екатерина с открытыми остановившимися глазами замерла на месте.
Затем, нагнувшись к уху командира своей охраны, стоявшего с ней рядом, сказала ему без всякого волнения:
– Месье де Нансе, посмотрите на пана Ласко – на того, кто сейчас говорит. Сзади него… да… там… видите старика с белой бородой и в черном бархатном одеянии?
– Да, мадам, – ответил командир.
– Так не теряйте его из виду.
– Вот тот, которому король Наваррский подал сейчас какой-то знак? – спросил Нансе.
– Совершенно верно. Станьте с десятью своими людьми у ворот Лувра и, когда старик будет выходить, пригласите его от имени короля к обеду. Если он пойдет за вами, отведите его в какую-нибудь комнату и держите там под арестом. Если же он откажется идти, захватите его живым или мертвым. Идите, идите!
К счастью, Генрих Наваррский мало слушал речь Маргариты, но не спускал глаз с Екатерины, все время следя за выражением ее лица. Увидев, с какою жадностью Екатерина вглядывалась в де Муи, он забеспокоился; когда же он заметил, что королева-мать отдала какое-то приказание начальнику своей охраны, все стало ему понятно.
В это-то время он и подал де Муи знак, замеченный командиром де Нансе и на языке жестов обозначавший: «Вас узнали, немедленно спасайтесь».
Де Муи сразу понял его знак, совершенно естественно завершавший ту часть речи Маргариты, которая предназначалась для него. Ему не требовалось повторений – он замешался в толпе и скрылся.
Но Генрих Наваррский не успокоился, пока не увидел де Нансе, вновь подошедшего к Екатерине, и не догадался по злому выражению ее лица, что де Нансе попал к воротам Лувра слишком поздно. Торжественный прием закончился.
Маргарита обменялась еще несколькими, но уже неофициальными словами с Ласко.
Карл IX, шатаясь, встал, поклонился всем и вышел, опираясь на плечо Амбруаза Паре, не отходившего от короля со времени его припадка.
За ним последовали Екатерина, бледная от злобы, и Генрих Наваррский, безмолвный от огорчения.
Что касается герцога Алансонского, то на торжестве он совершенно стушевался, и Карл IX, ни на секунду не сводивший глаз с герцога Анжуйского, даже ни разу не взглянул на младшего брата.
Новый польский король чувствовал себя погибшим. Отделенный от матери обступившей его толпою северных варваров, он походил на сына Земли – Антея, терявшего все свои силы, как только Геркулес приподнимал его на воздух. Герцогу Анжуйскому все дело представлялось таким образом, что стоит ему переехать границу Франции, как французский престол уйдет от него навеки. Вот почему он не последовал за королем, а пошел прямо в покои своей матери.
Она была не менее его удручена и озабочена: ее преследовало умное, лукавое лицо, которое она не выпускала из виду во время торжества, – лицо Беарнца, этого баловня судьбы, как бы сметавшей с его пути королей, царственных убийц, врагов и все препятствия.
Увидев своего любимого сына, вошедшего к ней в короне, но бледного как смерть, в королевской мантии, но совершенно разбитого физически, молча сжимавшего с мольбой свои красивые, унаследованные от нее руки, Екатерина встала и пошла к нему навстречу.
– О матушка, теперь я осужден умереть в изгнании! – воскликнул король Польский.
– Сын мой, неужели вы так скоро забыли предсказание Рене? – сказала ему Екатерина. – Успокойтесь, вы там пробудете недолго.
– Матушка, заклинаю вас, – взмолился герцог Анжуйский, – при первом же намеке, при первом подозрении, что французский престол может освободиться, предупредите меня…
– Не тревожьтесь, сын мой, – ответила Екатерина. – Отныне и до того дня, которого мы оба ждем, в моей конюшне будет стоять и днем и ночью оседланная лошадь, а в моей передней всегда будет дежурить курьер, готовый скакать в Польшу.
IV. Орест и Пилад
Генрих Анжуйский уехал. Казалось, мир и благоденствие вновь водворились в Лувре – прибежище этой семьи Атридов.
Карл IX перестал грустить и совершенно выздоровел, все время проводя на охоте с Генрихом Наваррским, а когда нельзя было охотиться, беседуя с ним об охоте; он ставил Генриху в упрек только одно – равнодушие к соколиной охоте – и говорил, что Генрих был бы безупречным королем, если бы умел так же искусно вынашивать кречетов, соколов и ястребов, как он искусно наганивал гончих и натаскивал легавых.
Екатерина вновь стала хорошей матерью: нежной с Карлом и герцогом Алансонским, ласковой с Генрихом Наваррским и Маргаритой, милостивой с герцогиней Невэрской и мадам де Сов и даже два раза навестила Морвеля у него дома на улице Серизе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении ее приказа.
Маргарита продолжала свои свидания на испанский лад – каждый вечер раскрывала заветное окно и переговаривалась с Ла Молем жестами или записками; а Ла Моль в каждом своем послании напоминал своей прекрасной королеве, что она, в награду за его ссылку, обещала ему хоть несколько минут свидания в переулке Клош-Персе.
Только один человек в этом тихом и умиротворенном Лувре чувствовал себя одиноким и выбитым из колеи. Это был наш друг, граф Аннибал де Коконнас.
Разумеется, сознание того, что Ла Моль жив, уже кое-что значило; конечно, очень хорошо быть предметом любви герцогини Невэрской, самой веселой и самой взбалмошной из всех женщин. Но и счастье свиданий наедине с красавицей герцогиней, и все успокоительные разговоры с Маргаритой о судьбе их общего друга не стоили в глазах пьемонтца и одного часа, проведенного вместе с Ла Молем у их друга Ла Юрьера за кружкой сладкого вина, или какой-нибудь из их беспутных прогулок по таким местам, где порядочный дворянин рисковал своей шкурой, кошельком или одеждой.
К стыду человеческой природы надо признаться, что герцогиню Невэрскую очень раздражало такое соперничество с ней Ла Моля. Не то чтобы она не выносила провансальца – наоборот: повинуясь, как все женщины, помимо воли, непреодолимому влечению кокетничать с возлюбленным другой женщины, в особенности если эта женщина ее подруга, она щедро дарила Ла Моля сверкающими взглядами своих изумрудных глаз, и сам Коконнас мог бы позавидовать пожатиям рук и обилию любезностей, выпадавших на долю его друга в те дни, когда менялось ее настроение и звезда пьемонтца, казалось, тускнела на горизонте его красавицы. Но пьемонтец, готовый зарезать хоть пятнадцать человек по одному взгляду своей дамы, был настолько не ревнив к Ла Молю, что не один раз в случае подобной смены настроения у герцогини предлагал ему на ухо такие вещи, от которых бедного провансальца бросало в краску.
Так как отсутствие Ла Моля лишило герцогиню всех прелестей, которые давало ей общество пьемонтца, а именно – возможности проявлять свое неистощимое веселье и удовлетворять свою неутолимую жажду удовольствий, то в один прекрасный день Анриетта явилась к Маргарите и умоляла ее вернуть в Париж третье необходимое звено, без которого и ум, и сердце Коконнаса день ото дня все больше увядают.
Маргарита, любезная вообще, к тому же побуждаемая мольбами самого Ла Моля и влечением собственного сердца, назначила свидание Анриетте на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы обсудить все это дело основательно и так, чтобы никто их не прервал.
Коконнас без большого удовольствия прочел записку Анриетты, предлагавшей ему прийти в переулок Тизон в половине десятого вечера. Но все же он поплелся к месту свидания, где и застал Анриетту, рассерженную тем, что она явилась первой.
– Фи, месье! – сказала она. – Как это невоспитанно – заставлять ждать… не говоря уже про принцессу… а просто женщину.
– Ого! Ждать! Это по-вашему! – ответил Коконнас. – Наоборот, я бьюсь об заклад, что мы пришли рано.
– Я? Да.
– И я тоже. Уверен, что сейчас не больше десяти.
– А в моей записке сказано: половина десятого.
– Я и вышел из Лувра в девять часов, потому что я нахожусь на службе у герцога Алансонского, кстати говоря; и на этом же основании я через час должен буду вас покинуть.
– И вы от этого в восторге?
– Совсем нет, поскольку герцог Алансонский очень угрюмый и нравный господин; и я предпочитаю, чтобы меня ругали такими хорошенькими губками, как у вас, чем он своим перекошенным ртом.
– А-а! Вот это уже немного лучше, – заметила герцогиня. – Да! Ведь вы сказали, что вышли из Лувра в девять часов вечера?
– Ах, боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гренель вижу человека, похожего на Ла Моля!
– Ну вот – опять Ла Моль!
– Не опять, а всегда, с вашего или без вашего позволения.
– Грубиян!
– Прекрасно! – ответил Коконнас. – Значит, начнем обычный наш обмен любезностями.
– Нет, но довольно ваших рассказов.
– Да ведь я рассказываю не по своей охоте – вы спрашивали меня, почему я опоздал.
– Конечно, разве я должна приходить первой?
– Да, но вам не надо было никого искать.
– Вы несносны, дорогой мой! Ну уж продолжайте. Итак, на углу улицы Гренель вы заметили человека, похожего на Ла Моля… А что это у вас на колете? Кровь?
– Ах, какой-то прохвост меня опять обрызгал.
– Вы что – дрались?
– Разумеется.
– Из-за вашего Ла Моля?
– А из-за кого ж мне драться? Из-за женщины?
– Спасибо!
– Итак, я бегу следом за человеком, который имел наглость походить на моего друга, нагоняю его у переулка Кокийер, обгоняю и, пользуясь светом из дверей какой-то лавочки, заглядываю ему в лицо – не он.
– Ну что ж, все очень хорошо!
– Только не для него! «Месье, – сказал я ему, – вы бахвал; вы позволили себе походить издали на моего друга Ла Моля! Он отменный мужчина, а вы вблизи – просто какой-то бродяга!» Тогда он обнажил шпагу, ну и я тоже. После третьей схватки ему пришлось плохо – он упал и забрызгал меня кровью.
– Но вы, надеюсь, оказали ему помощь?
– Я только хотел помочь ему, как вдруг мимо проскакал всадник. О, на этот раз я был уверен, что это Ла Моль. К несчастью, он ехал вскачь. Я бросился за ним бежать, а зрители, собравшиеся посмотреть на нашу драку, побежали вслед за мной. Но так как вся эта сволочь преследовала меня по пятам и орала, меня могли принять за вора, – пришлось мне обернуться и обратить эту ораву в бегство; а пока я терял на это время, всадник куда-то скрылся. Я кинулся его разыскивать, начал разузнавать, расспрашивать, объясняя, какой масти его лошадь, но все тщетно – крышка! – никто его не приметил. Наконец, когда мне это надоело, я пришел сюда.
– Когда мне надоело! – повторила герцогиня. – Как это любезно!
– Послушайте, мой милый друг, – сказал Коконнас, небрежно раскидываясь в кресле, – вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Ла Моля? Совершенно напрасно, потому что дружба – это, знаете, это… Эх, кабы мне ум и образование моего друга, я бы нашел такое сравнение, что вы бы ощутили мою мысль… Видите ли, дружба – это звезда, а любовь… любовь… ага! – нашел сравнение! – а любовь – только свечка. Вы мне возразите, что бывают различные сорта…
– Чего? Любви?
– Нет… свечей… и среди этих сортов бывают и приятные: например, розовые; возьмем розовые… они лучше; но хотя бы и розовая, все равно – она сгорает, а звезда блистает вечно. На это вы мне возразите, что, если сгорит одна свеча, можно вставить другую.
– Месье Коконнас, вы бахвал!
– Ля!
– Месье Коконнас, вы нахал!
– Ля! Ля!
– Месье Коконнас, вы обманщик!
– Мадам, предупреждаю, вы добьетесь только того, что я буду втройне сожалеть об отсутствии Ла Моля.
– Вы меня больше не любите.
– Наоборот, герцогиня, я вас боготворю, только вы этого не понимаете. Но я могу любить вас, обожать, боготворить, а когда я ничем не занят, расхваливать моего друга.
– «Ничем не занят» – так-то называете вы время, когда бываете со мной?
– Ну как мне быть, если бедняга Ла Моль не выходит у меня из головы?!
– Он вам дороже меня! Это бессовестно! Слушайте, Аннибал: я вас ненавижу! Будьте честны, скажите, что он вам дороже. Аннибал, предупреждаю вас: если вам что-нибудь дороже меня на свете…
– Анриетта, прекраснейшая из герцогинь! Ради вашего собственного спокойствия не поднимайте скользких вопросов. Я вас люблю больше всех женщин, а Ла Моля люблю больше всех мужчин.
– Хороший ответ! – вдруг произнес чей-то голос.
Камчатная шелковая завеса перед деревянным раздвижным панно в стене, закрывавшим вход в другую комнату, вдруг приподнялась, и в раскрытом четырехугольнике панно обрисовалась фигура Ла Моля, как в золоченой раме – тициановский портрет.
– Ла Моль! – крикнул Коконнас, не обратив внимания на Маргариту и не подумав поблагодарить ее за неожиданную радость. – Ла Моль, друг мой! Милый мой Ла Моль!
И он кинулся в объятия своего друга, перевернув кресло, на котором сидел, и опрокинув попавшийся по дороге стол. Ла Моль с большим чувством ответил на его объятия; но все же, отвечая на его ласки, обратился к герцогине Невэрской:
– Простите меня, мадам, если мое имя нарушало иногда согласие в вашем очаровательном союзе с моим другом; конечно, я бы повидался с вами раньше, но это зависело не от меня, – добавил он, с невыразимой нежностью взглянув на Маргариту.
– Как видишь, Анриетта, я сдержала свое слово: вот он, – сказала Маргарита.
– Неужели я этим счастьем обязан только просьбам герцогини? – спросил Ла Моль.
– Только ее просьбам, – ответила Маргарита и, обращаясь к Ла Молю, добавила: – Но вам, Ла Моль, я разрешаю не верить ни одному слову из того, что я сказала.
После того как Коконнас раз десять прижал друга к своему сердцу, раз двадцать обошел вокруг него, даже поднес канделябр к его лицу, чтобы налюбоваться им всласть, он наконец встал на колено перед Маргаритой и поцеловал полу ее платья.
– Ах, как хорошо! – воскликнула герцогиня Невэрская. – Ну, теперь я буду сносной.
– Дьявольщина! Для меня вы будете, как всегда, обожаемой! – сказал Коконнас. – Я стану это говорить от всего сердца, и будь при этом хоть тридцать поляков, сарматов и прочих гиперборейских варваров, я их заставлю признать вас королевой всех красавиц!
– Эй, эй! Коконнас! Легче, легче, – сказал Ла Моль. – А королева Маргарита?
– О, я не отопрусь от своих слов, – ответил Коконнас свойственным ему чуть шутовским тоном, – мадам Анриетта – королева всех красавиц, мадам Маргарита – краса всех королев.
Но что бы Коконнас ни говорил, что бы он ни делал, он весь был поглощен счастьем вновь видеть Ла Моля и не сводил с него глаз.
– Идем, идем, краса всех королев! – говорила герцогиня Невэрская. – Оставим этих безупречных друзей поговорить наедине; им столько надо сказать друг другу, что они будут перебивать наш разговор. Уйти от них нам нелегко, но, уверяю вас, это единственное средство совершенно вылечить месье Аннибала. Согласитесь, милая королева, ради меня: я имею глупость любить эту буйную голову, как ее называет его же друг Ла Моль.
Маргарита шепнула несколько слов на ухо Ла Молю, которому, несмотря на все его стремление вновь видеть Коконнаса, теперь хотелось, чтобы нежность друга была не так обременительна… А в это время сам Коконнас старался при помощи всевозможных уверений вернуть на уста Анриетты ясную улыбку и ласковую речь, чего и добился без особого труда. После этого обе дамы проследовали в столовую, где был накрыт ужин.
Два друга остались теперь наедине. Само собой разумеется, что первое, о чем Коконнас расспросил своего друга, это подробности рокового вечера, который едва не стоил Ла Молю жизни; и чем больше он узнавал их из рассказа друга, тем сильнее его охватывала дрожь, а, как известно, пьемонтца взволновать рассказом было трудно.
– Почему ты бежал куда глаза глядят и причинил мне столько горя, а не укрылся у нашего главы? Герцог ведь защищал тебя, он бы тебя и спрятал. Я бы жил вместе с тобой, сделал бы вид, что горюю, и таким способом провел бы всех придворных дураков.
– У нашего главы? – тихо спросил Ла Моль. – У герцога Алансонского?
– Ну да. Судя по его разговорам, я думал, что он спас тебе жизнь.
– Жизнь спас мне король Наваррский, – ответил Ла Моль.
– Вот оно что! – сказал Коконнас. – А ты уверен в этом?
– Вполне!
– Что за добрый, что за прекрасный король! А какое же участие принимал в этом деле герцог Алансонский?
– У него-то в руках и был шнурок, чтобы задушить меня.
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Ла Моль, а ты уверен в том, что говоришь? Как, этот бледный герцог, щенок, мозгляк, хотел задушить моего друга! Дьявольщина! Завтра скажу ему, что я думаю об этом.
– Ты с ума сошел!
– Да, верно, он, пожалуй, начнет заново… Да все равно, этому не бывать!
– Ну, ну, Коконнас, успокойся и не забудь, что пробило половину двенадцатого, а ты сегодня на дежурстве.
– Плевать мне на его службу! Пускай его ждет! Моя служба! Чтобы я служил человеку, который держал в руках веревку для тебя!.. Ты шутишь? Нет!.. Это судьба! Так предначертано, что я должен был вновь встретиться с тобой и больше уже не расставаться. Я остаюсь здесь.
– Подумай, несчастный! Ведь ты не пьян.
– К счастью. Будь я пьян, я бы поджег Лувр.
– Послушай, Аннибал, будь благоразумен. Ступай в Лувр. Служба – вещь священная.
– Идем вместе.
– Немыслимо.
– Разве они еще думают тебя убить?
– Едва ли. Я слишком мало значу, чтобы против меня был настоящий заговор, какое-нибудь твердое решение. Нашла прихоть – и захотелось меня убить, вот и все. Владыки были просто в веселом настроении!
– А что ты делаешь?
– Я? Ничего. Брожу, шатаюсь где придется.
– Ладно! Я тоже буду шататься и бродить с тобой. Прекрасное занятие! К тому же, если кто нападет, нас будет двое, и мы покажем, где зимуют раки. Пусть только явится это насекомое, твой герцог! Я его пришпилю к стене как бабочку!
– Тогда хоть попроси его дать тебе отставку.
– Да, окончательно!
– В таком случае предупреди его, что ты с ним расстаешься.
– Совершенно верно. Согласен. Сейчас напишу ему.
– Знаешь, Коконнас, это будет слишком вольно – писать письмо принцу крови.
– Принцу крови! Какой крови? Крови моего друга! Погоди у меня, – крикнул Коконнас, трагически вращая глазами, – погоди! Стану еще я соблюдать с ним этикет!
«И в самом деле, – подумал Ла Моль, – через несколько дней ему не будет дела ни до принца, ни до кого другого; ведь мы возьмем его с собой, если он захочет ехать с нами».
Коконнас вооружился пером и, не встречая больше сопротивления со стороны своего друга, тут же сочинил образчик красноречия, прилагаемый здесь для прочтения:
...
«Ваше высочество!
Несомненно, что человек, столь начитанный в произведениях античной древности, как Ваша светлость, знаком с трогательной повестью об Оресте и Пиладе, двух героях, славных своей несчастною судьбой и своей дружбой. Мой друг Ла Моль несчастен не менее Ореста, а нежное чувство дружбы знакомо мне не меньше, чем Пиладу. А друг мой в данную минуту занят такими важными делами, которые требуют моего содействия. Мне невозможно его бросить. Ввиду этого я, с разрешения Вашего высочества, ухожу в отставку, решив связать свою судьбу с судьбою моего друга, куда бы она меня ни повела. Теперь Вашему высочеству понятно, сколь велика сила, отрывающая меня от Вашей службы, в рассуждении чего я не отчаиваюсь получить Ваше прощение и решаюсь с почтительностью именовать себя по-прежнему – Вашего королевского высочества нижайшим и покорнейшим слугой Аннибалом графом де Коконнас, неразлучным другом графа де Ла Моль».
Закончив это образцовое произведение, Коконнас прочел его вслух Ла Молю, который только пожал плечами.
– Что скажешь? – спросил Коконнас, не заметив или сделав вид, что не заметил этого жеста.
– Скажу, что герцог Алансонский только посмеется над нами, – ответил Ла Моль.
– Над нами?
– Совокупно.
– По-моему, это все же лучше, чем душить нас в розницу.
– У него одно не помешает другому, – смеясь, ответил Ла Моль.
– Э, пускай! Будь что будет; а письмо отправлю завтра утром! Куда же мы отсюда пойдем спать?
– К мэтру Ла Юрьер. Знаешь, туда, в ту комнатку, где ты хотел пырнуть меня кинжалом, когда мы еще не были Орестом и Пиладом.
– Ладно, я, кстати, отправлю свое письмо с нашим хозяином.
В эту минуту панно опять раздвинулось.
– Как себя чувствуют Орест и Пилад? – спросили хором обе дамы.
– Дьявольщина! Мы умираем от голода и от любви!
На следующее утро мэтр Ла Юрьер действительно отнес в Лувр всеподданнейшее послание графа Аннибала де Коконнас.
V. Ортон
Несмотря на отказ герцога Алансонского бежать, который ставил под угрозу все дело и даже самую жизнь Генриха Наваррского, последний стал еще большим другом герцога, чем раньше.
Заметив их близость, Екатерина заключила, что они не только сговорились между собой, но и составили какой-то заговор. Она решила расспросить Маргариту; но Маргарита оказалась достойной ее дочерью: главным ее талантом было умение избегать скользких разговоров, поэтому она крайне осторожно отнеслась к вопросам своей матери и так ответила на них, что королева еще больше запуталась в своих догадках.
Таким образом, этой флорентийке не оставалось ничего другого, как руководиться своим чутьем интриги, приобретенным ею еще в Тоскане, самом интриганском изо всех мелких государств той эпохи, и чувством ненависти, воспитанным на нравах французского двора, где в эти времена борьба различных интересов и воззрений кипела сильнее, чем при любом другом дворе.
Прежде всего она поняла, что сила Беарнца отчасти заключалась в его союзе с герцогом Алансонским, и решила их разъединить. Приняв это решение, она начала улавливать своего сына с терпением и талантом рыболова, который, забросив грузила невода подалее от рыбы, мало-помалу подтягивает их к одному месту, пока не окружит со всех сторон свою добычу. Герцог Франсуа заметил усиление родительской нежности и, со своей стороны, пошел навстречу матери. А Генрих Наваррский сделал вид, что ничего не замечает, и стал следить за своим союзником еще внимательнее, чем прежде.
Каждый из них ждал какого-нибудь события. А пока они ждали этого события, для одних – вполне определенного, для других – только вероятного, в это время, утром, когда вставало розовое солнце, разливая мягкое тепло и нежный аромат – предвестники ясной погоды, какой-то бледный человек, опираясь на палку, с трудом вышел из домика за Арсеналом и поплелся по улице Пти-Мюз. Близ ворот Сент– Антуан он прошел вдоль болотистого луга, окружавшего рвы Бастилии, затем, оставив влево большой бульвар, вошел в Арбалетный сад, где сторож приветствовал его низкими поклонами.
В саду не было никого, потому что сад, как показывает само название, принадлежал частному обществу – обществу любителей стрельбы из арбалета. Но если бы там оказались гуляющие, то этот человек заслуживал бы всяческого их внимания: длинные усы, походка, хотя замедленная болезнью, но сохранившая военную выправку, – все это указывало на то, что незнакомец был офицер, раненный недавно в какой-то стычке, который пробовал свои силы после болезни и вновь привыкал к жизни под открытым небом.
Человек был закутан в длинный плащ, несмотря на наступавшую жару, и казался безобидным, но странное дело: когда распахивался плащ, под ним виднелись два длинных пистолета, пристегнутые серебряными застежками к поясу, который поддерживал засунутый за него большой кинжал и шпагу такой длины, что казалось, у владельца шпаги не хватит силы обнажить ее, а кроме того, заканчивая снизу этот ходячий арсенал, она все время била ножнами по его похудевшим и дрожавшим ногам. В дополнение к этим мерам предосторожности таинственный посетитель сада, несмотря на полное одиночество, пытливо озирался при каждом шаге, точно исследуя каждый поворот дорожки, каждую канавку, каждый кустик.
Так, пробираясь потихоньку, он углубился в сад и спокойно вошел в какое-то подобие беседки, примыкавшей к самому бульвару и отделенной от него только двойной оградой в виде густой живой изгороди и небольшой канавы. Там этот человек разлегся на дерновой скамейке рядом со столом, а через минуту сторож, совмещавший с этой должностью и ремесло харчевника, принес туда какой-то напиток для укрепления сердца.
Больной лежал уже минут десять, несколько раз подносил ко рту фаянсовую чашку и пил из нее маленькими глотками принесенное питье, как вдруг лицо его, несмотря на «интересную бледность», стало страшным. Он увидел, как со стороны Круа-Фобен, по тропинке, где теперь Неаполитанская улица, подъехал всадник, закутанный в широкий плащ, остановился у бастиона и стал ждать.
Прошло минут пять; за этот срок бледный человек, в котором читатель, вероятно, уже узнал Морвеля, едва успел оправиться от волнения, вызванного появлением всадника, как в то же время по дороге, ставшей потом улицей Фосе-Сен– Николя, какой-то юноша, одетый в узенькую безрукавку, как у пажей, подошел к всаднику.
Морвель, совершенно скрытый листвой беседки, имел полную возможность все видеть и даже слышать, и если принять во внимание, что всадник был де Муи, а юноша в курточке – Ортон, то можно себе представить, как напряглись и слух, и зрение Морвеля.
Оба вновь прибывших стали тщательно осматривать все кругом. Морвель затаил дыхание.
– Месье, можете говорить, – первым заговорил Ортон, как более молодой и, следовательно, менее осторожный, – здесь никто нас не увидит и не услышит.
– Это хорошо, – ответил де Муи. – Ты пойдешь к мадам де Сов; если она дома, отдашь ей эту записку в собственные руки; если ее дома нет, засунь записку за зеркало, куда король Наваррский кладет свои записки; после этого подожди в Лувре. Если получишь ответ, отнесешь его в известное тебе место; если же ответа не будет, то захвати с собой коротенькую аркебузу и приходи ко мне туда, куда я указал тебе и откуда я сейчас выехал.
– Ладно, знаю, – ответил Ортон.
– Я поеду; у меня еще куча дел на сегодняшний день. А ты не торопись, нет смысла; тебе нечего делать в Лувре до его прихода, а он , как я думаю, берет урок соколиной охоты. Ступай и действуй открыто: ты уже здоров и пришел в Лувр просто поблагодарить мадам де Сов за ее заботы о тебе, пока ты выздоравливал. Ступай, мой мальчик.
У Морвеля, пока он это слушал, глаза впились в одну точку, волосы зашевелились на голове и пот выступил на лбу. Первым его движением было отстегнуть пистолет и прицелиться в де Муи; но, повернувшись на седле, де Муи приоткрыл полы своего плаща и обнаружил надетую на нем прочную кирасу. Могло случиться, что пуля расплющится на ней или ударит в такую часть тела, где рана будет не смертельна. Кроме того, Морвель сообразил, что здоровый, хорошо вооруженный де Муи легко одержит верх над ним, раненным, и, тяжело вздохнув, опустил свой пистолет, уже направленный на гугенота.
– Какое горе, – прошептал он, – что нельзя убить его теперь, когда нет свидетелей, кроме этого разбойника-мальчишки, который стоит второй пули!
Но у него сейчас же мелькнула мысль, что, может быть, записка, врученная Ортону для передачи мадам де Сов, важнее, чем жизнь или смерть гугенотского вождя.
– Ну ладно, сегодня ты от меня ушел! Ступай подобру-поздорову! Зато завтра я свое возьму, хотя бы пришлось лезть за тобой в самый ад, откуда ты и вышел, чтобы меня убить, если я не убью тебя.
В это время де Муи прикрыл лицо плащом и поскакал по направлению к Тампльским болотам. Ортон пошел вдоль рвов, которые вели к реке. Тогда Морвель вскочил так бодро и проворно, как сам не ожидал, добрался до улицы Серизе, вошел к себе в дом, велел оседлать лошадь и, несмотря на большую слабость и на опасность, что раны его могут открыться, поскакал по улице Сент-Антуан, затем по набережной и влетел в Лувр.
Через пять минут после того, как он мелькнул в пропускных воротах, Екатерина уже знала все, что произошло, а Морвель получил тысячу экю золотом, обещанные ему за арест короля Наваррского.
– Теперь или я ошибаюсь, – сказала Екатерина, – или де Муи будет тем самым темным пятном, которое Рене нашел в гороскопе проклятого Беарнца!
Через четверть часа после приезда Морвеля Ортон совершенно открыто, как и советовал де Муи, вошел в Лувр и, поговорив с несколькими придворными лакеями, направился к мадам де Сов.
В покоях мадам де Сов находилась одна Дариола. Минут за пять до прихода Ортона Екатерина вызвала к себе Шарлотту, чтобы переписать набело какие-то нужные письма.
– Ладно, подожду, – сказал Ортон.
Будучи своим человеком в доме, юноша прошел в спальню баронессы и, убедившись, что он один, положил записку за зеркало. В то самое мгновение, когда он отнимал руку от зеркала, вошла Екатерина.
Ортону показалось, что быстрый, пронизывающий взгляд королевы-матери направился на зеркало, и юноша побледнел.
– Мальчик, ты что здесь делаешь? Уж не ищешь ли ты мадам де Сов? – спросила Екатерина.
– Да, мадам; я уже давно ее не видел и не успел еще поблагодарить, поэтому боялся, что она сочтет меня неблагодарным.
– А ты очень любишь милую Карлотту?
– Всей душой, мадам.
– И, говорят, ты ей предан?
– Ваше величество сами поймете, что это вполне естественно, если рассказать вам, как мадам де Сов за мной ходила; а я простой слуга и не заслуживал таких забот.
– А по какому случаю она ухаживала за тобой? – спросила Екатерина, как будто не знала того, что случилось с юношей.
– Мадам, когда я был ранен.
– Ах, бедный мальчик! – сказала Екатерина. – Так ты был ранен?
– Да, мадам.
– Когда же?
– А когда приходили арестовать короля Наваррского. Я увидал солдат и так перепугался, что закричал и стал звать на помощь; один из них ударил меня по голове, и я упал в обморок.
– Бедный мальчик! Но теперь ты поправился?
– Да, мадам.
– И ты ищешь короля Наваррского, чтобы опять ему служить?
– Нет, мадам, король Наваррский узнал, что я осмелился противиться вашим приказаниям, и выгнал меня вон без всякой жалости.
– Вот как! – сказала Екатерина, изображая участие. – Хорошо! Я сама возьмусь за это дело. Но если ты ждешь мадам де Сов, то напрасно, – она занята наверху, у меня в кабинете.
У Екатерины мелькнула мысль, что Ортон, возможно, еще не успел спрятать записку за зеркало, и она ушла в кабинет мадам де Сов, чтобы предоставить юноше полную свободу действий.
В это время Ортон, встревоженный неожиданным приходом королевы-матери, мучился сомнением, не связан ли ее приход с каким-нибудь заговором против его господина. Как вдруг он услышал три легких удара в потолок: а когда король Наваррский бывал у мадам де Сов и Ортон их сторожил, то в его обязанность входило давать такой сигнал в случае опасности.
Услышав три удара, Ортон затрепетал; в силу какого-то таинственного озарения он понял, что эти три удара были предупреждением ему. Он подбежал к зеркалу и вытащил из-за него записку. Екатерина сквозь щелку между портьерами следила за всеми его движениями; она видела, как он бросился к зеркалу, но не знала – затем ли, чтобы спрятать или же вытащить записку.
«Почему же он не уходит?» – нетерпеливо спрашивала себя Екатерина.
И она быстро вошла в комнату, приветливо улыбаясь.
– Ты еще здесь, малыш? – спросила она. – Чего ты ждешь? Я же тебе сказала, что берусь сама тебя устроить. Ты не веришь тому, что я обещаю?
– О мадам! Избави боже! – ответил Ортон.
Он подошел к королеве-матери, опустился на колено, поцеловал полу ее платья и вышел.
При выходе он увидел в передней командира охраны, ожидавшего Екатерину. Это не только не ослабило подозрений Ортона, а их усилило. Не успела портьера опуститься за Ортоном, как королева устремилась к зеркалу. Но тщетно ее дрожавшая от нетерпения рука шарила за зеркалом – записки не было. А между тем она ясно видела, что мальчик подходил к зеркалу. Значит, он подходил, чтобы взять, а не положить записку! Перед лицом рока противники равны. С той минуты, как этот мальчик вступал в борьбу с Екатериной, он превращался для нее в мужчину.
Она все перевернула, пересмотрела, перерыла – ничего!
– Ах, негодяй! – воскликнула она. – Я не хотела ему зла, но раз он вытащил записку, он сам подписал свой приговор! Эй! Месье де Нансе! Эй!
Звонкий крик королевы-матери пронесся через гостиную до передней, где, как мы уже сказали, находился командир охраны.
Де Нансе прибежал на зов Екатерины.
– Я здесь, мадам! – сказал он. – Что прикажете, ваше величество?
– Вы были в передней?
– Да, мадам.
– Вы видели выходившего отсюда юношу, мальчика?
– Видел.
– Он, наверно, недалеко ушел?
– Самое большее – до половины лестницы.
– Кликните его.
– Как его зовут?
– Ортон. Если он не пойдет, приведите его силой. Только не пугайте его зря, если он не будет сопротивляться. Мне надо поговорить с ним сию же минуту.
Командир охраны побежал, и его предположение оправдалось: Ортон едва успел дойти до половины лестницы, спускаясь нарочно медленно в надежде встретить на лестнице или увидеть где-нибудь в коридорах короля Наваррского или мадам де Сов.
Ортон услышал, что его зовут, и задрожал. Первой его мыслью было бежать; но благодаря своей сметливости, развитой не по летам, он сообразил, что если побежит, то все погубит, – и остановился.
– Кто меня зовет?
– Я, месье де Нансе, – ответил командир охраны, сбегая с лестницы.
– Но я очень тороплюсь, – ответил Ортон.
– Я послан ее величеством королевой-матерью, – сказал де Нансе, подходя к Ортону.
Мальчик вытер пот, струившийся по лбу, и пошел обратно. Позади него шел командир.
Первоначально Екатерина решила арестовать Ортона, обыскать и отнять у него записку, которую он принес; для этого она придумала обвинить его в краже и уже взяла с туалетного столика алмазную застежку, с тем чтобы приписать мальчику ее исчезновение; но затем раздумала, боясь, что это возбудит подозрения у самого Ортона, который предупредит своего господина, а тогда Генрих будет осторожнее и примет меры, чтобы не попасться.
Екатерина, конечно, могла засадить юношу в одиночку, но, как ни соблюдай при этом тайну, слух об аресте все-таки распространится по Лувру, и одного слова об аресте будет достаточно, чтобы Генрих Наваррский насторожился.
Тем не менее записка де Муи к королю Наваррскому была необходима королеве-матери: в записке, отправленной с такими предосторожностями, наверное, заключался целый заговор.
Екатерина положила застежку на прежнее место.
«Нет, нет, – рассуждала она сама с собой, – выдумка с застежкой достойна полицейского агента, – никуда не годится. Но записка… А может быть, она ничего не стоит, – говорила она, нахмурив брови и так тихо, что сама еле слышала себя. – Да, впрочем, не моя вина; он сам виноват. Почему этот разбойник не положил записку, куда ему было приказано? Она должна быть у меня».
В это время вошел Ортон.
Несомненно, выражение лица Екатерины было страшно, потому что Ортон сразу побледнел и остановился на пороге. Он был чересчур молод и не умел еще владеть собой.
– Мадам, – сказал он, – вы сделали мне честь позвать меня; чем я могу служить вашему величеству?
Лицо Екатерины прояснилось, точно его озарил луч солнца.
– Я велела позвать тебя, потому что мне нравится твое лицо и я обещала заняться твоей судьбой. Я хочу сдержать свое обещание теперь же. Про нас, королев, говорят, что мы забывчивы. Но в этом виновато не наше сердце, а наш ум, занятый важными делами. Я вспомнила, что судьбы людей зависят от королевской воли, вот почему и позвала тебя. Пойдем, мальчик, идем со мной.
Де Нансе, принявший эту сцену за чистую монету, с изумлением смотрел на умилительную нежность Екатерины.
– Ты умеешь ездить верхом, мой мальчик? – спросила Екатерина.
– Да, мадам.
– Тогда пойдем ко мне в кабинет. Я дам тебе письмо, ты отвезешь его в Сен-Жермен.
– Я в распоряжении вашего величества.
– Нансе, велите оседлать ему лошадь.
Нансе ушел.
– Пойдем, мальчик, – сказала Екатерина.
Она пошла впереди, Ортон за ней. Королева-мать спустилась в следующий этаж, затем повернула в коридор, где находились покои короля и покои герцога Алансонского, дошла до витой лестницы, спустилась этажом ниже, отперла дверь в полукруглую галерею, от которой ключ был только у короля и у нее, впустила Ортона, вошла вслед за ним и затворила за собой дверь. Галерея окружала, как некое укрепление, часть покоев короля и королевы-матери. Так же, как галерея замка Святого Ангела в Риме и галерея в палаццо Питти во Флоренции, она служила убежищем в случае опасности.
Когда закрылась дверь, Екатерина и Ортон оказались в темном коридоре. Так они прошли шагов двадцать – Екатерина впереди, Ортон сзади. Вдруг Екатерина обернулась, и мальчик увидел то же страшное выражение лица, какое видел десять минут тому назад. В темноте казалось, что ее круглые, как у пантеры или кошки, глаза испускали пламя.
– Стой! – приказала она.
Ортон почувствовал, что у него по спине забегали мурашки: каменный свод обдавал холодом, как ледяной покров; пол казался мрачным, как могильный камень; взгляд королевы-матери, острый и колючий, вонзался в грудь бедного Ортона. От этого взгляда он затрепетал и отступил к стене.
– Где записка, которую тебе поручили передать королю Наваррскому?
– Передать записку? – спросил Ортон.
– Да, передать или, в случае его отсутствия, сунуть за зеркало?
– Мне, мадам? Я не понимаю, о чем вы говорите.
– Записку, которую дал тебе де Муи час тому назад за Арбалетным садом.
– У меня нет никакой записки, – ответил Ортон. – Ваше величество, наверно, ошиблись.
– Лжешь! Отдай записку, и я исполню обещание, которое тебе дала.
– Какое обещание, мадам?
– Я тебя сделаю богатым.
– У меня нет записки, мадам, – повторил мальчик.
Екатерина заскрежетала зубами, но сейчас же пересилила себя и улыбнулась.
– Отдашь записку – получишь тысячу экю золотом, – сказала она.
– У меня нет записки, мадам.
– Две тысячи экю.
– Невозможно! Коль ее нет у меня, как же я ее отдам?
– Ортон, десять тысяч!
Ортон видел, как ее злоба, поднимаясь изнутри, приливала к лицу, тогда он подумал, что единственный способ спасти своего господина – это проглотить записку. Он поднес руку к карману. Екатерина поняла намерение Ортона и остановила его руку.
– Брось, мальчик! – сказала она весело. – Хорошо, я вижу, ты человек верный! Когда короли хотят иметь при себе близкого слугу, бывает неплохо удостовериться, способна ли его душа на преданность. Теперь я знаю, как себя вести с тобой. На, возьми мой кошелек как первую награду. Ступай и отнеси эту записку твоему господину и скажи ему, что с сегодняшнего дня ты у меня на службе. Ступай, ты можешь выйти без меня в ту же дверь, в которую мы сюда вошли; она открывается к себе.
Екатерина сунула кошелек в руку ошеломленного юноши и, сделав несколько шагов вперед, приложила свою руку к стене.
Ортон продолжал стоять в нерешительности. Он не мог поверить, что налетевшая на него гроза пронеслась мимо.
– Ну, чего ж ты так дрожишь? – спросила Екатерина. – Ведь я тебе сказала, что можешь уйти свободно и совсем, а если захочешь вернуться, то место тебе обеспечено.
– Спасибо, мадам, – ответил Ортон. – Значит, вы меня прощаете?
– Больше того – я даю тебе награду! Ты хороший разносчик любовных записок, милый посланец любви; но ты забываешь, что тебя ждет твой господин.
– Ах да! Верно! – сказал юноша и побежал к двери.
Но едва он сделал три шага, как пол исчез под его ногами. Ортон оступился, распростер руки, дико вскрикнул и провалился в камеру смертников, открытую рычагом, который нажала королева-мать.
– А теперь, – сказала Екатерина, – из-за его упорства мне придется идти сто пятьдесят ступенек вниз.
Екатерина поднялась к себе, зажгла потайной фонарь, вернулась в галерею, поставила рычаг на место, отворила дверь на витую лестницу, казалось, уходившую в недра земли, и, сгорая от любопытства, разжигаемого чувством ее ненависти к Беарнцу, спустилась до железной двери, которая вела прямо на дно провала.
Там, упав с высоты ста футов, лежал разбитый, исковерканный, окровавленный, но еще трепещущий Ортон. За стеной слышалось журчание Сены, воды которой, просачиваясь под землей, подходили к самому основанию лестницы.
Екатерина ступила в эту вонючую сырую яму, видавшую немало таких падений на своем веку, обыскала тело, взяла письмо, убедилась, что это то, что было нужно ей, пнула ногой труп, нажала рычаг, дно камеры наклонилось, и труп, увлекаемый вниз собственной тяжестью, исчез по направлению к реке.
Затворив дверь, Екатерина взошла наверх, заперлась у себя в кабинете и прочла записку следующего содержания:...
«Сегодня в десять часов вечера, улица Арбр-сек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете – ответа не надо; если не придете – скажите нет подателю письма.
Де Муи де Сен-Фаль».
Читая это письмо, Екатерина только улыбалась; она думала лишь о предстоящей своей победе, совсем забыв о том, какой ценой она ее приобрела.
В конце концов, что такое Ортон? Верное сердце, преданная душа, красивый мальчик – вот и все! Само собой понятно, что это ни на одно мгновение не могло поколебать чашу холодных весов, на которых взвешиваются судьбы государств.
Закончив чтение, Екатерина сейчас же поднялась к мадам де Сов и положила за зеркало записку.
Спустившись с лестницы, она встретила у входа в коридор командира своей охраны.
– Мадам, по распоряжению вашего величества лошадь оседлана, – сказал де Нансе.
– Дорогой барон, лошадь не нужна. Я поговорила с этим мальчиком, – он оказался слишком глуп для той должности, какая ему предназначалась. Я брала его в лакеи, а он годен разве что в конюхи; я дала ему немного денег и выпустила черным ходом.
– А как же быть с поручением? – спросил де Нансе.
– С поручением? – переспросила Екатерина.
– Да, с тем, которое он должен был выполнить в Сен-Жермене; не желаете ли, ваше величество, чтобы я исполнил его сам или поручил кому-нибудь из моих подчиненных?
– Нет, нет! – возразила Екатерина. – У вас и у ваших людей будет сегодня вечером другое дело.
И Екатерина ушла в свои покои, твердо надеясь, что сегодня вечером решится участь окаянного Беарнца.
VI. Гостиница «Путеводная звезда»
Часа два спустя после описанного события, не оставившего никаких следов на лице Екатерины, мадам де Сов, закончив свою работу у королевы-матери, поднялась в свои покои. Вслед за ней вошел Генрих Наваррский и, узнав от Дариолы, что заходил Ортон, пошел прямо к зеркалу и взял записку.
Как было сказано, записка гласила следующее:
«Сегодня в десять часов вечера, улица Арбр-сек, гостиница «Путеводная звезда». Если придете – ответа не надо; если не придете – скажите нет подателю письма».
Адресат не был указан.
«Генрих непременно пойдет на свидание, – подумала Екатерина. – Если даже ему и не захочется идти, то теперь сказать нет некому!»
В этом отношении Екатерина действительно не ошиблась. Генрих спросил об Ортоне, и Дариола сказала ему, что он ушел с королевой-матерью; но, найдя записку на своем месте и зная, что Ортон не способен на предательство, Генрих Наваррский перестал беспокоиться.
Как всегда, он пообедал у короля, который все время издевался над ошибками, какие делал Генрих на соколиной охоте сегодня утром. Генрих оправдывался тем, что он житель гор, а не равнин, но обещал Карлу изучить соколиную охоту. Екатерина была очаровательна и, встав из-за стола, увела к себе Маргариту на весь вечер.
В восемь часов вечера Генрих Наваррский, взяв с собой двух дворян, вышел с ними из Парижа в ворота Сент-Оноре, сделал большой крюк, вернулся в город со стороны Деревянной башни, переправился через Сену на пароме у Нельской башни, проехал вдоль реки до улицы Сен-Жак и здесь отпустил дворян под предлогом, что у него любовное свидание. На углу улицы Де-Матюрен он увидел всадника, закутанного в плащ, и подошел к нему.
– Мант, – сказал всадник.
– По, – ответил король Наваррский.
Всадник сейчас же спешился. Генрих закутался в его плащ, забрызганный грязью, сел на его взмыленную лошадь, вернулся к улице Ла-Гарп, снова переехал через Сену по мосту в Мельниках, проехал вдоль набережной, свернул на улицу Арбр-сек и постучал в дверь мэтра Ла Юрьер.
Ла Моль сидел в знакомой нам зале и писал длинное любовное письмо, а кому писал – понятно. Коконнас пребывал в кухне вместе с мэтром Ла Юрьер, наблюдая, как жарились на вертеле шесть куропаток, и спорил со своим приятелем-трактирщиком о том, при какой степени прожаренности надо снимать их с вертела.
В это время постучался Генрих. Грегуар открыл дверь, отвел лошадь в конюшню, а приезжий вошел в залу, так топая своими сапогами об пол, точно хотел размять затекшие ноги.
– Эй! Мэтр Ла Юрьер! – крикнул Ла Моль, не поднимая головы от своего письма. – Вас тут спрашивает какой-то дворянин.
Ла Юрьер вошел, осмотрел Генриха с головы до ног, и так как плащ из грубого сукна не внушал ему большого уважения, то спросил:
– Кто вы такой?
– Вот чудак! – сказал Генрих. – Вон тот дворянин сказал же вам, что я гасконский дворянин и приехал в Париж выдвинуться при дворе.
– Что вам угодно?
– Комнату и ужин.
– Хм! У вас есть лакей? – задал Ла Юрьер обычный свой вопрос.
– Нет, – ответил Генрих, – но я возьму лакея, как только выдвинусь.
– Я не сдаю господских комнат без лакейских, – ответил Ла Юрьер.
– Даже если я предложу вам за ужин золотой, с тем чтобы за остальное рассчитаться завтра?
– Ого! Уж очень вы щедры, дворянин! – сказал Ла Юрьер, подозрительно глядя на Генриха.
– Нет. Собираясь провести вечер и ночь в вашей гостинице, которую мне очень хвалил один наш помещик, я пригласил сюда поужинать со мной моего приятеля. У вас есть хорошее арбуасское вино?
– У меня есть такое, какого не пивал и сам Беарнец.
– Отлично! Я заплачу за него отдельно. А-а! Вот и мой приятель!
В самом деле, дверь отворилась и пропустила другого дворянина, на несколько лет постарше первого, с длиннейшей рапирой на боку.
– Ага! Вы точны, мой юный друг! Явиться минута в минуту – это совершенно замечательно для человека, проделавшего двести миль, – сказал вошедший.
– Это ваш приглашенный? – спросил Ла Юрьер.
– Да, – ответил приехавший первым, подходя к молодому человеку с длинной рапирой и пожимая ему руку, – приготовьте нам поужинать.
– Здесь или в вашей комнате?
– Где хотите.
– Хозяин! – позвал Ла Моль. – Избавьте нас от этих гугенотских рож; нам с Коконнасом нельзя будет говорить при них о своих делах.
– Эй! Накройте ужин в комнате номер два, в четвертом этаже, – приказал Ла Юрьер. – Идите наверх, господа.
Двое приезжих последовали за Грегуаром, шедшим впереди и освещавшим путь.
Ла Моль смотрел им вслед, пока они не скрылись; обернувшись, он увидел, что Коконнас высунул голову из кухни. Широко раскрытые глаза и разинутый рот превращали его голову в редкостный символ удивления.
Ла Моль подошел к нему.
– Дьявольщина! Видел? – спросил Коконнас.
– Что?
– Двух дворян?
– И что же?
– Готов поклясться, что это…
– Кто?
– Да… король Наваррский и человек в вишневом плаще.
– Клянись, чем хочешь, но не громко.
– Ты тоже узнал?
– Конечно.
– Зачем они сюда пришли?
– Какие-нибудь любовные делишки.
– Ты думаешь?
– Уверен.
– Я больше люблю хорошие удары шпагой, а не любовные делишки. Сейчас я был готов поклясться, а теперь бьюсь об заклад…
– О чем?
– Что тут какой-нибудь заговор.
– Э! Ты с ума сошел.
– Я тебе говорю…
– А я тебе говорю, что если они заговорщики, то это их дело.
– Да, правда. Ведь я больше не служу у Алансона. Пускай себе разделываются, как хотят.
Между тем куропатки достигли, по-видимому, той степени прожаренности, какую любил Коконнас, поэтому пьемонтец, рассчитывающий на них как на главное блюдо своего ужина, позвал мэтра Ла Юрьер снять их с вертела.
В это время Генрих Наваррский и де Муи устроились у себя в комнате.
– Сир, вы видели Ортона? – спросил де Муи, когда Грегуар накрыл стол.
– Нет, но я получил записку, которую он положил за зеркало. Мне думается, что мальчик испугался; дело в том, что его застала там Екатерина, поэтому он убежал, не дожидаясь меня. Сначала я встревожился, когда Дариола сказала мне, что королева-мать долго разговаривала с Ортоном.
– О! Это не опасно. Он парень изворотливый, и, хотя королева-мать знает свое дело, он обернет ее вокруг пальца, я уверен.
– А вы, де Муи, видели его потом? – спросил Генрих Наваррский.
– Нет, но я его увижу сегодня: в полночь он должен зайти сюда за мной и принести мне аркебузу, а по дороге он мне все расскажет.
– Что это за человек был на углу улицы Де-Матюрен?
– Какой человек?
– Тот, что дал мне плащ и лошадь; вы в нем уверены?
– Это один из самых преданных нам людей. А кроме того, он вас не знает, сир, и остается в неведении, с кем он имел дело.
– Значит, мы можем говорить о наших делах совершенно спокойно?
– Конечно. Кроме того, нас сторожит Ла Моль.
– Чудесно. Герцог Алансонский не хочет уезжать, он очень ясно высказался на этот счет. Избрание герцога Анжуйского польским королем и нездоровье короля Карла изменили все его намерения.
– Так это он провалил наш план?
– Да.
– А он не выдаст нас?
– Пока нет, но предаст при первом удобном случае.
– Трусливая душонка! Предательский умишко! Почему он не отвечал на письма, которые я ему писал?
– Для того, чтобы иметь вещественные доказательства, но не давать их. А пока все проиграно, не так ли, де Муи?
– Наоборот, сир, все выиграно. Вы хорошо знаете, что гугенотская партия, кроме небольшой группы сторонников принца Конде, стояла за вас, а входя в сношения с герцогом Алансонским, пользовалась им только как щитом. И вот, со времени торжественного приема польских послов, я успел всех их вновь объединить и связать с вашей судьбой. Чтобы бежать с герцогом Алансонским, вам было достаточно ста человек; теперь я завербовал пятьсот, через неделю они будут готовы и расставлены отрядами вдоль дороги на По. Это будет уже не бегство, а отступление. Сир, довольно с вас пятисот человек? Будете ли вы чувствовать себя в безопасности с такою армией?
Генрих улыбнулся и, хлопнув его по плечу, сказал:
– Ты-то, де Муи, знаешь – и знаешь только ты один, – что король Наваррский, по свойству своей натуры, совсем не так пуглив, как некоторые думают.
– Э, боже мой! Мне ли не знать, сир! И я надеюсь, что уж недалеко время, когда вся Франция будет знать это не хуже меня.
– Но заговорщикам необходим успех. Первое условие успеха – решимость, а для того, чтобы действовать решительно – то есть быстро, прямо, крепко, – надо быть уверенным в удаче.
– Сир, по каким дням бывает охота?
– Каждую неделю или каждые десять дней – или с гончими, или соколиная.
– Когда была последняя охота?
– Сегодня.
– Значит, через неделю или через десять дней опять поедут на охоту?
– Несомненно, а может быть, и раньше.
– Выслушайте меня. По-моему, все успокоилось: герцог Анжуйский уехал, и о нем забыли думать; здоровье короля с каждым днем улучшается; преследования гугенотов почти прекратились. Делайте глазки королеве-матери, делайте глазки герцогу Алансонскому; все время ему твердите, что вы не можете уехать без него; постарайтесь, чтобы он вам верил, – это самое трудное.
– Будь покоен, поверит!
– А вы думаете, что он так доверяет вам?
– Совсем нет, избави боже! Но он верит всему, что говорит королева Наваррская.
– А королева нам служит искренно?
– О! У меня на это есть доказательства. Кроме того, она честолюбива – и несуществующая наваррская корона жжет ей лоб.
– Хорошо. Тогда за три дня до охоты пришлите мне сказать, где она будет – в Бонди, в Сен-Жермене или в Рамбуйе; прибавьте, что вы готовы; а когда мимо вас проскачет Ла Моль, следуйте за ним и гоните во весь мах. Лишь бы вам выехать из лесу, а там пусть королева-мать, если ей захочется вас видеть, скачет за вами вслед. Только, как я надеюсь, ее нормандские лошади не увидят даже подков наших испанских жеребцов и берберских лошадей.
– Решено, де Муи.
– У вас есть деньги, сир?
Генрих поморщился так же, как морщился всякий раз при таком вопросе.
– Не очень много, но, кажется, они есть у Марго.
– Все равно, ваши ли, ее ли, но берите с собой как можно больше.
– А что ты будешь делать до этого?
– После занятий делами вашего величества – и очень действенно, как вы видели, – надеюсь, что ваше величество разрешите мне заняться моими собственными?
– Конечно, де Муи, конечно! Но какие это у тебя «свои дела»?
– Вот какие, сир. Ортон – мальчик умный, и я особенно рекомендую его вашему величеству – вчера сказал мне, что встретил около Арсенала этого разбойника Морвеля, что он благодаря лечению Рене теперь поправился и, как подобает змее, греется на солнышке.
– Ага! Понимаю, – сказал Генрих.
– Вы понимаете? Это хорошо… Когда-нибудь вы будете королем, и если вам тоже надо будет отомстить кому-нибудь, то вы осуществите вашу месть по-королевски. Я же солдат и буду мстить по-солдатски. Поэтому, как только наши мелкие дела устроятся, что даст этому разбойнику еще пять-шесть дней на поправку, я погуляю около Арсенала, пришпилю мерзавца к земле четырьмя хорошими ударами рапиры и тогда уеду из Парижа с облегченным сердцем.
– Делай свои дела, мой друг, делай! – сказал король Наваррский. – Кстати, ты ведь доволен Ла Молем?
– О-о! Обаятельный юноша, преданный вам душой и телом, сир! Вы можете на него положиться, как на меня… Молодец!..
– А главное – умеет молчать. Мы возьмем его с собой в Наварру и там подумаем, чем сможем его вознаградить.
Едва король Наваррский с хитрой улыбкой произнес эти слова, как дверь распахнулась, точно сорвалась с петель, и появился тот, о ком шла речь, бледный, возбужденный.
– Тревога, сир! Тревога! – крикнул Ла Моль. – Дом окружен!
– Окружен?! – воскликнул Генрих, вставая с места. – Кем?
– Королевской стражей!
– Ого! Как видно, будет драка, – сказал де Муи, вытаскивая из-за пояса пистолеты.
– Какие там пистолеты, какая драка! Что вы сделаете против пятидесяти человек?! – возразил Ла Моль.
– Он прав, – сказал король Наваррский, – если бы нашелся путь к отступлению…
– Есть, – ответил Ла Моль, – я уже раз им пользовался; и если ваше величество желаете последовать за мной…
– А де Муи?
– И де Муи может пойти с нами; но только поторопитесь оба.
На лестнице раздались шаги.
– Поздно, – сказал Генрих.
– Я готов ответить за жизнь короля, лишь бы их кто-нибудь задержал минут на пять! – воскликнул Ла Моль.
– Тогда вы, месье, отвечайте за него, – сказал де Муи, – а я берусь их задержать. Идите, сир, идите!
– А как же ты?
– Не беспокойтесь, сир! Идите!
И де Муи быстро спрятал тарелку, салфетку и стакан короля, чтобы подумали, будто он ужинал один.
– Идемте, сир, идемте, – говорил Ла Моль, хватая короля за руку и увлекая его к лестнице.
– Де Муи! Мой храбрый де Муи, – сказал король Наваррский, протягивая руку молодому человеку.
Де Муи поцеловал руку Генриха, вытолкнул его из комнаты и запер за ним дверь на задвижку.
– Да, да, понимаю, – говорил Генрих, – он отдаст себя им в руки, а мы спасемся… Но какой черт нас выдал?
– Идемте, сир, идемте! Они уже на лестнице!
Действительно, свет факелов пополз вверх по узкой лестнице, и снизу донеслось бряцание шпаг.
– Быстрей, сир, быстрей! – сказал Ла Моль.
Он вел короля в полной темноте, поднялся с ним на два этажа выше, распахнул дверь в какую-то комнату, запер дверь на задвижку и отворил окно.
– Ваше величество не очень боится путешествия по крышам? – спросил он.
– Я-то? Охотник за сернами? Да что вы! – ответил Генрих.
– Тогда идите за мной; дорогу я знаю и буду вам проводником.
– Ступайте, – сказал Генрих, – я за вами.
Ла Моль первым перелез через подоконник и пошел вдоль широкого закрая крыши, служившего водосточным желобом, в конце которого две сходящиеся крыши образовали как бы ущелье; в это ущелье выходил какой-то чулан в чужом необитаемом чердаке.
– Сир, здесь вы у пристани, – сказал Ла Моль.
– Ага! Тем лучше, – ответил Генрих и вытер бледный, покрытый капельками пота лоб.
– Теперь все пойдет как по маслу, – сказал Ла Моль. – К чердаку ведет лестница, внизу она выходит в сени, а из сеней ход на улицу. Я проделал, сир, весь этот путь ночью, которая была пострашнее этой.
– Тогда вперед! – сказал Генрих.
Ла Моль первым проник в настежь раскрытое чердачное окно, дошел до двери, только притворенной, открыл ее, очутился на верхней ступеньке витой лестницы и, сунув в руку королю Наваррскому веревку, служившую поручнями, сказал:
– Спускайтесь, сир.
На середине Генрих остановился у окошка, выходившего во двор гостиницы «Путеводная звезда». Видно было, как в доме напротив бегали по лестнице солдаты – одни со шпагами в руках, другие – с факелами. Вдруг в одной их кучке король Наваррский увидел де Муи. Он отдал свою шпагу и мирно сходил с лестницы.
– Бедный юноша, – сказал Генрих, – преданная и честная душа.
– Заметьте, ваше величество, – сказал Ла Моль, – он совершенно спокоен, честное слово; смотрите, он даже смеется. А де Муи, как вам известно, смеется редко: наверняка он придумал какой-то выход.
– А этот молодой человек, который был с вами?
– Месье Коконнас? – спросил Ла Моль.
– Да, месье Коконнас, что с ним?
– О, за него, сир, я не беспокоюсь. Увидав солдат, он мне сказал только одну фразу: «Давай рискнем!» – «Головой?» – спросил я. «А ты сумеешь спастись?» – «Надеюсь». – «И я тоже!» – ответил он. Клянусь вам, сир, что он спасется. Если Коконнаса когда-нибудь и схватят, то только потому, что это будет нужно ему самому – ручаюсь вам!
– В таком случае все хорошо; постараемся добраться до Лувра.
– Боже мой, да это совсем просто, сир: закутаемся в плащи и выйдем на улицу; она полна народу, сбежавшегося на шум, и нас примут за любопытных горожан.
В самом деле, дверь оказалась отпертой, и единственное, что мешало Генриху и Ла Молю выйти, – это толпа народа, загромоздившего всю улицу.
Тем не менее им удалось протиснуться в переулок Д’Аверон; но, попав оттуда на улицу Де-Пули, они увидели, что через площадь Сен-Жермен-Л’Озеруа шел де Муи, окруженный конвоем под предводительством командира охраны де Нансе.
– Вот как! По-видимому, его ведут в Лувр, – сказал король Наваррский. – Черт возьми! Пропускные ворота будут закрыты… У всех входящих будут спрашивать имена; а если я войду после де Муи, то будет очень вероятно, что я был с ним.
– Так что же, сир, – сказал Ла Моль, – проникните в Лувр другим путем.
– Каким же чертом я туда проникну?
– А разве для вашего величества не существует окна королевы Наваррской?
– Святая пятница! – воскликнул Генрих. – Ваша правда, месье де Ла Моль. А я и позабыл об этом!.. Да, но как дать знать королеве?
– О-о! Ваше величество, – сказал Ла Моль, почтительно кланяясь, – вы бросаете камешки так метко…
VII. Де Муи де Сен-Фаль
Екатерина на этот раз предусмотрела все так хорошо, что была уверена в успехе.
Ввиду этого около десяти часов вечера, убедившись, что королева Наваррская ничего не подозревает (так оно и было) об умыслах против ее мужа, королева-мать отпустила Маргариту, а сама прошла к королю с просьбой, чтобы он не ложился спать. Заинтригованный тем, что лицо матери, вопреки ее обычной скрытности, сияло торжеством, Карл стал расспрашивать Екатерину, на что она ответила лишь следующее:
– Могу сказать вашему величеству одно: сегодня вечером вы избавитесь от двух злейших своих врагов.
Король повел бровью, как бы говоря самому себе: «Хорошо, посмотрим», и, посвистав крупной борзой собаке, которая подползла к нему на брюхе, как змея, и положила свою тонкую умную морду ему на колени, Карл стал ждать.
Спустя несколько минут, в течение которых Екатерина стояла, устремив глаза в одну точку и вся превратившись в слух, во дворе Лувра раздался пистолетный выстрел.
– Что за шум? – спросил Карл, сдвинув брови, в то время как борзая вскочила и насторожила уши.
– Пустяки, просто сигнал, – ответила Екатерина.
– А что значит этот сигнал?
– Он значит, что с этой минуты, сир, единственный ваш настоящий враг уже не может вам вредить.
– Там убили человека? – спросил Карл, глядя на свою мать взором властелина, говорившим: «Смертная казнь и помилование – два неотъемлемых атрибута королевской власти».
– Нет, сир; только арестовали двух человек.
– Ох! – пробормотал Карл. – Эти вечные тайные козни, вечные каверзы, и все без ведома короля. Смерть дьяволу! Матушка, я уже взрослый, настолько взрослый, что могу сам охранить себя и не нуждаюсь ни в няньках, ни в детских помочах. Ехали бы в Польшу с вашим сыном Генрихом, коли хотите царствовать, а здесь, говорю вам, напрасно вы играете в эту игру!
– Сын мой, – сказала Екатерина, – это в последний раз я вмешиваюсь в ваши дела. Но дело было начато давно, и вы все время обвиняли меня в напраслине, поэтому я всей душой стремилась доказать вашему величеству, что я была права.
В эту минуту несколько человек остановились в вестибюле, и слышно было, как небольшой отряд стрелков со стуком опустил мушкеты на пол.
Почти сейчас же вслед за этим месье де Нансе попросил позволения войти к королю.
– Пусть войдет, – оживившись, ответил Карл.
Месье де Нансе вошел, поклонился королю и, обращаясь к Екатерине, сказал:
– Мадам, приказание вашего величества исполнено: он взят.
– Как он ? – воскликнула Екатерина в полном смущении. – Разве вы захватили только одного?
– Он был один, мадам.
– Он защищался?
– Нет, спокойно ужинал в комнате и при первом требовании отдал свою шпагу.
– Кто такой? – спросил король.
– Сейчас увидите, – сказала Екатерина. – Месье де Нансе, введите арестованного.
Через пять минут ввели де Муи.
– Де Муи! – воскликнул король. – В чем дело?
– Сир! – совершенно спокойно отвечал де Муи. – Если ваше величество соблаговолите разрешить мне, я задам тот же вопрос.
– Вместо этого, месье де Муи, – сказала Екатерина, – будьте добры сказать моему сыну, кто недавно ночью находился в комнате короля Наваррского и в ту же ночь, не подчинившись приказу его величества, как и подобало такому мятежнику, убил двух королевских стражей и ранил Морвеля?
– Да, в самом деле, – сказал Карл, нахмурившись, – не знаете ли вы, месье де Муи, имя этого человека?
– Знаю, сир. Ваше величество желаете знать, как его зовут?
– Признаюсь, это доставило бы мне удовольствие.
– Сир, его зовут де Муи де Сен-Фаль.
– Это были вы?
– Я собственной персоной.
Екатерина, изумленная такой смелостью, сделала шаг по направлению к молодому человеку.
– А как же вы осмелились не подчиниться приказу короля? – спросил Карл.
– Прежде всего, сир, я даже не знал, что был приказ вашего величества; затем я видел только одно, вернее – только одного человека: Морвеля, убийцу адмирала и моего отца. Я вспомнил, что года полтора тому назад вот в этой комнате, где мы собрались вечером двадцать четвертого августа, ваше величество обещали всем и лично мне судить убийцу; но поскольку с тех пор произошли крупные события, я подумал, что короля помимо его воли отвлекли от его намерений. Увидав Морвеля прямо перед собой, я был убежден, что мне его послало само небо. Остальное известно вашему величеству: я ударил его шпагой, как убийцу, и стрелял в его людей, как в разбойников.
Карл не ответил ни слова; благодаря своей дружбе с Генрихом он с некоторого времени стал смотреть на многое не так, как раньше, а по-другому, и нередко – с ужасом. Королева-мать уже давно отметила у себя в памяти высказывания своего сына о Варфоломеевской ночи, похожие на угрызения совести.
– Но зачем вы приходили в такой поздний час к королю Наваррскому? – спросила Екатерина.
– Это долго рассказывать, – ответил де Муи. – Но если его величество будет иметь терпение выслушать…
– Да, – согласился Карл, – говорите, я хочу слышать.
Екатерина села, вперив в молодого человека тревожный взгляд.
– Мы слушаем, – сказал Карл. – Сюда, Актеон!
Собака подошла и снова положила голову к нему на колени.
– Сир, я приходил к королю Наваррскому в качестве уполномоченного моих собратьев, а ваших верноподданных протестантского вероисповедания.
Екатерина подмигнула Карлу.
– Не беспокойтесь, матушка, я не упускаю ни одного слова. Продолжайте, месье де Муи, продолжайте. Так зачем же вы приходили?
– Предупредить короля Наваррского, что его отречение от протестантства лишило его доверия гугенотской партии; но тем не менее в память его отца Антуана Бурбона, а главное – в память его матери, мужественной Жанны д’Альбре, имя которой нам всем дорого, представители протестантской религии считали своим долгом оказать ему снисхождение, попросив его, чтобы он сам отказался от своих прав на наваррский престол.
– Что он говорит?! – воскликнула Екатерина, которая, при всем своем самообладании, была не в силах вынести без стона такой неожиданный для нее удар.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся Карл. – Мне все-таки кажется, что эта наваррская корона, которую так свободно перекладывают, не спросив меня, с одной головы на другую, чуточку принадлежит и мне.
– Сир, гугеноты больше чем кто-либо признают феодальное право сюзеренства, которое сейчас вы предъявили как король. Поэтому они надеялись уговорить ваше величество, чтобы вы сами возложили наваррскую корону на любезную вашему сердцу голову.
– Я? На любезную моему сердцу голову?! – сказал Карл. – Смерть дьяволу! О какой голове, месье, вы говорите? Я вас не понимаю!
– На голову герцога Алансонского.
Екатерина побледнела как смерть и впилась в де Муи горящими глазами.
– А мой брат Алансон об этом знает?
– Да, сир.
– И он согласен принять эту корону?
– В случае соизволения вашего величества, поэтому он нас направил к вам.
– О! Эта корона изумительно пойдет нашему брату Алансону! А мне и в голову не приходило! Спасибо, де Муи, спасибо! Когда вас будут осенять такие мысли, добро пожаловать к нам в Лувр.
– Сир, вы были бы давно извещены об этом проекте, кабы не это несчастное столкновение с Морвелем, из-за которого я опасался, что впал в немилость вашего величества.
– А что говорил Генрих относительно этого проекта? – спросила Екатерина.
– Мадам, король Наваррский подчинился желанию своих собратьев, и его отречение готово.
– В таком случае, – возразила Екатерина, – отречение должно быть у вас на руках.
– Верно, мадам, – сказал де Муи, – случайно я захватил его с собой, оно подписано и датировано.
– А дата предшествует той сцене в Лувре? – спросила Екатерина.
– Да, мадам; помнится, это было накануне.
И де Муи вынул из кармана письменное отречение в пользу герцога Алансонского, подписанное собственной рукою Генриха и помеченное указанным числом.
– Верно, – сказал Карл, – по всем правилам.
– А что требовал Генрих взамен своего отречения? – спросила Екатерина.
– Ничего, мадам; он нам сказал, что дружба короля Карла вполне вознаградит его за потерю трона.
Екатерина от ярости закусила губы и заломила руки.
– Все, де Муи, выражено совершенно точно, – добавил король.
– А если между вами и королем Наваррским все было установлено, тогда зачем же вам понадобилось видеться с ним сегодня вечером? – возразила королева-мать.
– Кому? Мне, мадам, с королем Наваррским? – спросил де Муи. – Арестовавший меня месье де Нансе подтвердит, что я был один. Его величество может его позвать.
– Месье де Нансе! – кликнул король.
Командир королевской охраны вошел.
– Месье де Нансе, – поспешно обратилась к нему Екатерина, – в трактире «Путеводная звезда» месье де Муи был совсем один?
– В комнате – да, но в трактире – нет.
– А-а! Кто же был его товарищ? – спросила Екатерина.
– Я не знаю, мадам, был ли тот дворянин товарищ месье де Муи; знаю только, что он бежал в заднюю дверь, уложив двух моих солдат.
– Вы, конечно, узнали, кто этот дворянин?
– Не я, а мои солдаты.
– Кто же он такой?
– Граф Аннибал де Коконнас.
– Аннибал де Коконнас! – повторил король, насупившись и что-то соображая. – А-а! Это тот, что в Варфоломеевскую ночь так отчаянно резал гугенотов?
– Месье де Коконнас – дворянин при герцоге Алансонском, – напомнил де Нансе.
– Ладно, месье де Нансе, ладно, можете идти, – сказал Карл IX, – только в другой раз не забывайте одного…
– Чего, сир?
– Что вы на службе у меня и обязаны повиноваться только мне.
Де Нансе вышел, пятясь назад и почтительно кланяясь. Де Муи иронически улыбнулся Екатерине.
На мгновение воцарилось молчание. Екатерина крутила кисточки своего пояса, Карл ласкал собаку.
– Но как вы думали достигнуть цели, месье де Муи? – спросил Карл. – Стали бы вы действовать силой?
– Против кого, сир?
– Против Генриха, против Франсуа, против меня.
– Сир, мы получили отречение вашего зятя и согласие вашего брата; и, как я имел честь доложить вам, мы уже собрались просить соизволения вашего величества, но помешало это роковое происшествие в Лувре.
– Так что же, матушка? – сказал Карл. – Во всем этом я не вижу ничего плохого. Вы, месье де Муи, были вправе просить себе короля. Да, Наварра может и должна быть отдельным королевством. Больше того, это королевство точно создано для того, чтобы выделить нашего брата Алансона, которому так хочется иметь на голове корону, что когда он ее видит на нашей голове, то не сводит с нее глаз. Его восшествию на наваррский престол препятствовало одно обстоятельство, а именно – права Анрио; но раз Анрио от них отказывается добровольно…
– Добровольно, сир, – подтвердил де Муи.
– Тогда похоже, что это воля божия! Месье де Муи, вы можете свободно вернуться к вашим собратьям, которых я покарал… немного жестоко, может быть; но это дело разберется между мной и богом. А вы скажите им, что если они хотят иметь королем Наваррским моего брата, герцога Алансонского, то король пойдет навстречу их желаниям. С этого времени Наварра будет королевством, а ее король будет носить имя – Франциск Первый. Мне потребуется всего неделя, чтобы подготовить отъезд моего брата в Наварру с той пышностью и блеском, какие подобают королю. Поезжайте, месье де Муи, поезжайте!.. Месье де Нансе, выпустите месье де Муи, он свободен.
– Сир, – сказал де Муи, делая шаг вперед, – ваше величество, разрешите?
– Да, – ответил король и протянул руку молодому гугеноту.
Де Муи встал на одно колено и поцеловал королю руку.
– Кстати, – сказал король, удерживая де Муи, собиравшегося встать, – ведь вы просили моего суда над этим разбойником Морвелем?
– Да, сир…
– Не знаю, где он, – он куда-то спрятался, но если вы встретите его, то расправьтесь с ним сами, я разрешаю, и весьма охотно.
– О сир, вот это поистине великая награда! – воскликнул де Муи. – Ваше величество можете положиться на меня: я тоже не знаю, где он, но будьте покойны – я его найду.
Почтительно поклонившись Карлу и Екатерине, де Муи вышел без каких-либо препятствий со стороны конвоя, который привел его сюда. Он миновал коридоры, быстро прошел в пропускную дверь и, выйдя из Лувра, одним махом очутился с площади Сен-Жермен-Л’Озеруа в трактире «Путеводная звезда», где и нашел свою лошадь; а через три часа после описанной сцены де Муи уже чувствовал себя в полной безопасности за стенами Манта.
Екатерина, сдерживая свой гнев, удалилась к себе, а оттуда прошла к Маргарите.
Там она застала Генриха Наваррского в халате, видимо, собиравшегося ложиться спать.
– Сатана, – прошептала Екатерина, – помоги хоть ты несчастной матери, раз ей отказывается помогать бог!
VIII. Две головы под одну корону
– Попросите герцога Алансонского прийти ко мне, – распорядился Карл, отпустив мать.
Де Нансе, решивший после назидания короля повиноваться лишь ему, в одно мгновение проскочил от Карла к его брату и без всяких околичностей передал ему полученное приказание.
Герцог Алансонский затрепетал; он и всегда дрожал перед братом Карлом, а теперь с тем большим основанием, что, вступив в заговор, сам создал себе повод бояться брата. Тем не менее он побежал к брату с рассчитанной поспешностью.
Карл стоял, насвистывая сигнал «на драку!». Входя, герцог Алансонский подметил в стеклянных глазах Карла ядовитое, хорошо знакомое выражение ненависти.
– Ваше величество требовали меня к себе? – сказал он. – Что угодно вашему величеству?
– Мне угодно сказать вам, мой добрый брат, что в награду за ту большую дружбу, какую вы питаете ко мне, я сделаю для вас то, чего вы больше всего желаете.
– Для меня?
– Да, для вас. Найдите у себя в уме нечто такое, о чем мечтали вы все это время, но просить меня не смели, и что теперь я сам хочу вам подарить.
– Сир, клянусь вам, как своему брату, – сказал Франсуа, – что я желаю только одного – доброго здоровья королю.
– В таком случае, Алансон, вы должны быть довольны: нездоровье, постигшее меня во время приезда поляков, теперь прошло. Благодаря Анрио я спасся от разъяренного кабана, который чуть не вспорол меня, и теперь чувствую себя так, что не завидую самому здоровому человеку в королевстве; таким образом, вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья, которое и без этого отлично.
– Я ничего не хотел, сир.
– Нет, нет, Франсуа, – возразил Карл, начиная раздражаться, – вам хотелось наваррской короны, о чем вы сговаривались с Анрио и де Муи: с первым – для того, чтобы он отказался от нее, со вторым – чтобы он вам ее доставил. Анрио от нее отказывается, а де Муи передал мне вашу просьбу, поэтому корона, которой вы домогаетесь…
– Что же? – спросил дрожащим голосом герцог Алансонский.
– А то же – смерть дьяволу! – что она ваша.
Герцог Алансонский страшно побледнел; кровь сразу прилила к сердцу, едва не разорвав его, затем отхлынула к конечностям, а щеки густо залила румянцем: в данное время королевская милость приводила его в отчаяние.
– Но, сир, – заговорил герцог, дрожа от волнения и тщетно стараясь овладеть собой, – я же ничего не хотел, а главное, не просил ничего подобного.
– Возможно, – ответил Карл, – возможно, потому что вы очень скромны, брат мой; но другие за вас желали и просили, братец мой.
– Сир, я никогда, клянусь вам богом…
– Не оскорбляйте бога.
– Сир, значит, вы отправляете меня в изгнание?
– Вы называете это изгнанием, Франсуа? На вас не угодишь… Вы что же – надеетесь на что-нибудь лучшее?
Герцог Алансонский закусил губы от отчаяния.
– Ей-богу, Франсуа, – заговорил Карл с напускным добродушием, – я и не знал, что вы так популярны, в особенности у гугенотов! Но они требуют вас, и мне приходится сознаться, что я был в заблуждении. Да и для меня самого – чего же лучше: иметь во главе партии, воевавшей с нами тридцать лет, своего человека, родного брата, который меня любит и не способен меня предать! Это умиротворит всех как по волшебству, не говоря уже о том, что в нашей семье будет три короля. Один бедняга Анрио останется ничем – только моим другом. Но он не честолюбив и примет это звание, которого не домогается никто.
– Сир, вы ошибаетесь, я домогаюсь звания вашего друга, и у кого же на это больше прав? Генрих – только зять, родня вам по свойству, я же ваш брат по крови, а главное – по чувству… Сир, умоляю вас, оставьте меня при себе!
– Нет, нет, Франсуа, – ответил Карл, – это значило бы сделать вас несчастным.
– Почему же?
– По множеству причин.
– Но подумайте немного, сир, где вы найдете такого верного товарища, как я? С самого детства я не разлучался с вашим величеством.
– Знаю, знаю! Иногда мне даже хотелось, чтобы вы были подальше от меня.
– Что, ваше величество, хотите вы сказать?
– Так… ничего… это я про себя… А какая там охота! Завидую вам, Франсуа! Поймите – в этих дьявольских горах охотятся на медведей, как мы на кабана! Не забудьте оставлять нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом: зверя выжидают, затем дразнят, разъяряют; он идет прямо на охотника, в четырех шагах от него поднимается на задние лапы – и вот тогда ему вонзают кинжал в сердце, как сделал Генрих с кабаном в последнюю охоту. Это, конечно, опасно; но вы, Франсуа, храбрец, и такая опасность доставит вам истинное наслаждение.
– Ваше величество только усиливаете мою скорбь; я буду лишен возможности охотиться с вами вместе.
– Тем лучше, черт возьми! – сказал король. – Наши совместные охоты оказываются неудачными для нас обоих.
– Что это значит, сир?
– Охота со мной вам доставляет такое удовольствие, так вас волнует, что вы, будучи олицетворением стрелкового искусства и попадая из незнакомой аркебузы в сороку на сто шагов, – вы в последнюю охоту, когда охотились мы вместе, из собственной вашей аркебузы, из аркебузы, вам хорошо знакомой, промахнулись в кабана на двадцать шагов и вместо него попали в ногу лучшей моей лошади. Смерть дьяволу! Над этим можно призадуматься!
– О сир! Простите мне мое волнение, – взмолился герцог Алансонский, став бледно-серым.
– Ну да, волнение, я его хорошо понимаю! – продолжал Карл. – Так вот, зная настоящую цену этому волнению, я и говорю вам: поверьте мне, Франсуа, нам лучше охотиться подальше друг от друга, особенно при таком волнении, как ваше. Подумайте над этим, брат мой, но не в моем присутствии – оно смущает вас, – а когда вы будете один, и вы сами убедитесь, что у меня есть все причины опасаться, как бы при другой охоте ваше волнение не проявилось по-другому, ведь ни от чего не чешутся так руки, как от волнения, – и тогда вы вместо лошади убьете всадника, а вместо зверя – короля. Чертова штука! Пуля повыше, пуля пониже – глядишь, лицо правительства сразу изменилось; ведь в нашей собственной семье есть этому пример. Когда Монтгомери убил нашего отца Генриха Второго, случайно или от волнения, то один удар его копья вознес нашего брата Франциска Второго на престол, а нашего отца Генриха Второго унес в аббатство Сен-Дени. Богу не много надо, чтобы натворить больших дел!
Герцог Алансонский чувствовал, как по его лбу заструился пот от этого грозного непредвиденного удара.
Король яснее ясного высказал своему брату, что он все понял. Заволакивая свой гнев завесой шутки, Карл был, пожалуй, еще страшнее, чем если бы он дал свободно вылиться наружу той лаве ненависти, которая кипела у него в душе; и месть его соответствовала силе затаенной злобы. По мере того как один становился все ниже, другой вырастал все выше; и герцог Алансонский впервые почувствовал угрызения совести, вернее – сожаление о том, что задуманное преступление не удалось.
Он боролся, пока мог, но последний удар заставил герцога поникнуть головой, и Карл заметил в его глазах жгучий пламень, который у нежных созданий прожигает ту бороздку, откуда льются слезы. Но герцог Алансонский принадлежал к числу людей, плачущих только от злости.
Карл взором коршуна смотрел на него в упор, точно вбирая в себя все волнения, сменявшиеся в душе молодого человека; и, благодаря тому что Карл хорошо знал свою семью, все переживания Франсуа представлялись ему четко, как будто душа герцога была открытой книгой.
Герцог стоял раздавленный, безмолвный, недвижимый. Карл продержал его в таком состоянии с минуту, потом сказал твердым, проникнутым ненавистью тоном:
– Брат, мы объявили вам свое решение, и наше решение непреложно: вы уедете.
Герцог Алансонский собрался что-то сказать, но Карл сделал вид, что не заметил этого, и продолжал:
– Я хочу, чтобы Наварра могла гордиться тем, что ее государь – брат короля Франции. Золото, власть, почести – все, что приличествует вашему происхождению, все это вы получите, как получил их брат ваш Генрих, и так же, как он, – с усмешкой добавил Карл, – будете меня благословлять издалека. Но это все равно – для благословений не существует расстояний.
– Сир…
– Соглашайтесь или, вернее, покоряйтесь. Как только вы станете королем, вам подыщут супругу, достойную сына французских королей. И кто знает, может быть, она принесет вам другой престол.
– Но ваше величество забыли про своего друга Генриха.
– Генриха? Но я уже сказал вам, что он не хочет наваррского престола; сказал и то, что он предоставляет его вам. Генрих – жизнерадостный малый, а не такая бледная личность, как вы. Он хочет веселиться и жить в свое удовольствие, а не сохнуть под короной, на что осуждены мы.
Герцог Алансонский тяжко вздохнул.
– Так ваше величество приказываете мне озаботиться…
– Нет, нет! Ни о чем не беспокойтесь, Франсуа, я все устрою сам; положитесь на меня, как на хорошего брата. А теперь, когда мы обо всем условились, ступайте. Хотите – говорите, хотите – нет о нашем разговоре вашим друзьям; но я приму меры, чтобы это дело как можно скорее стало известно всем. Ступайте, Франсуа!
Отвечать было нечего; герцог поклонился и вышел с яростью в душе.
Ему не терпелось повидать Генриха Наваррского и поговорить с ним о том, что сейчас произошло; но увиделся он только с Екатериной: Генрих уклонялся от разговора, а королева-мать, наоборот, его искала.
Увидев Екатерину, герцог подавил скорбь и постарался улыбнуться. Он не был так находчив, как Генрих Анжуйский, и искал в Екатерине не мать, а лишь союзницу. Франсуа скрытничал и притворялся перед ней, будучи убежден, что для доброго союза необходимо слегка обманывать друг друга.
Так и теперь – он подошел к Екатерине, сделав лицо, на котором только проглядывали едва заметные следы тревоги.
– О! Какие новости, мадам! Вы не знаете?
– Я знаю, месье, что вас собираются сделать королем.
– Мой брат так добр, мадам.
– Вот как?
– Но мне хочется думать, что половину своей признательности я должен отдать вам: ведь если совет подарить мне престол дали вы, то, значит, я буду этим обязан вам; хотя признаюсь: в глубине души мне больно грабить так короля Наваррского.
– А вы, по-видимому, очень любите Анрио, мой сын?
– Да, да! С некоторых пор мы стали очень близки.
– И вы думаете, что он вас любит так же, как вы его?
– Надеюсь, мадам.
– Знаете, такая дружба очень назидательна, в особенности между принцами. Но придворные узы дружбы, милый Франсуа, считаются непрочными.
– Матушка, примите во внимание, что мы не только друзья, а почти братья.
Екатерина улыбнулась странной улыбкой.
– А разве короли бывают братьями?
– Но когда возникла наша дружба, мы королями не были; да никогда ни тот, ни другой и не должны были стать королями, вот почему мы полюбили друг друга.
– Да, но теперь обстоятельства сильно изменились.
– В чем сильно изменились?
– Несомненно! Кто может сказать, что вы оба не будете королями?
Нервная дрожь и внезапно покрасневший лоб Франсуа дали понять Екатерине, что удар ее пришелся прямо в сердце.
– Он? Анрио – король? – спросил герцог. – Какого же государства?
– Одного из самых великолепных во всем христианском мире.
– О чем вы говорите? – сказал герцог Алансонский, побледнев.
– О том, о чем хорошая мать должна сказать своему сыну, и о чем вы, Франсуа, не раз мечтали.
– Я? Я ни о чем не мечтал, мадам, клянусь вам! – воскликнул герцог.
– Охотно верю; дело в том, что ваш друг, ваш брат Генрих, как вы его зовете, прикрывается наружной откровенностью, а на самом деле очень ловкий, очень хитрый человек, который умеет хранить свои тайны гораздо лучше, чем вы ваши, Франсуа. Например, говорил ли он вам когда-нибудь, что де Муи – это его поверенный в политических делах?
Говоря эти слова, Екатерина вонзила взгляд свой, как стилет, в душу Франсуа. Но, обладая одним достоинством или, лучше сказать, одним пороком – умением притворяться, герцог Алансонский стойко выдержал взгляд королевы-матери.
– Де Муи? – удивленно сказал он, как будто впервые слышал это имя по такому поводу.
– Да, гугенот де Муи де Сен-Фаль – тот самый, который чуть не убил Морвеля и, тайно разъезжая по Франции и по столице, переодетый то так, то этак, ведет интригу и собирает армию, чтобы поддержать Генриха, вашего брата, против вашей родной семьи.
С этими словами Екатерина, не знавшая, что Франсуа осведомлен был в этом не меньше, а даже больше, чем она, встала, собираясь величественно выйти.
Франсуа удержал мать.
– Матушка, – сказал он, – прошу вас: одно слово! Раз вы уж соблаговолили посвятить меня в ваши политические мысли, скажите, как же Генрих, с такими слабыми силами и мало кому известный, окажется в состоянии вести войну настолько серьезную, что может навредить моей семье?
– Ребенок! – сказала она с улыбкой. – Поймите, что у него уже есть опора в тридцать тысяч войска, а может быть, и больше; что по одному его слову эти тридцать тысяч разом выскочат как из-под земли; не забудьте, что эти тридцать тысяч – гугеноты, иными словами – самые храбрые солдаты во всем мире. А затем… затем у него есть покровитель, которого вы не сумели примирить с собой.
– Кто же?
– Король! Король, который его любит и выдвигает; король, который из ненависти к своему брату, королю Польскому, и из презрения к вам ищет себе преемника. И только вы, слепец, не видите, что ищет он его не в своей семье.
– Сам король?.. Матушка, вы так думаете?
– Неужели вы не заметили, как он ласкает Анрио, «своего Анрио»?
– Верно, матушка, верно!
– А этот Анрио платит королю взаимностью и, забыв, что шурин хотел в Варфоломеевскую ночь пристрелить его из аркебузы, теперь ползает перед ним на брюхе и, как собака, лижет руку, которая его побила.
– Да, да, – пробормотал Франсуа, – я и сам заметил, как он покорен моему брату Карлу.
– Да, сын мой! Генрих умеет угождать ему во всем.
– И еще как! – подхватил герцог. – Анрио стало досадно, что король все время смеется над его невежеством по части соколиной охоты, так Анрио решил заняться ею и, помнится, еще вчера – да, не раньше чем вчера, – спрашивал, нет ли у меня каких-нибудь хороших руководств по соколиной охоте.
– Постойте, постойте, – сказала Екатерина, сверкнув глазами, точно озаренная какой-то мыслью, – а что вы ему ответили?
– Что поищу у себя в библиотеке.
– Отлично, – сказала Екатерина, – отлично! Надо ему дать такую книгу.
– Да я искал, мадам, но не нашел.
– Я найду!.. Найду я, а вы ее передадите как будто от себя.
– А что же из этого получится?
– Франсуа, вы мне верите?
– Да, матушка.
– Намерены вы слепо слушаться меня во всем, что будет относиться к Генриху, которого вы не любите, что бы вы там ни говорили?
Герцог Алансонский усмехнулся.
– А я не выношу, – добавила Екатерина.
– Да, буду слушаться, – ответил герцог.
– Послезавтра приходите ко мне, я дам вам книгу, а вы отнесете ее к Генриху… и…
– И?..
– И предоставьте богу, провидению или случаю довершить все остальное.
Франсуа, достаточно хорошо зная свою мать, знал также и то, что не в ее обычаях было возлагать на бога, провидение или случай осуществление своих дружественных или враждебных замыслов; но он воздержался от дальнейших разговоров на эту тему, поклонился, как бы соглашаясь исполнить поручение, и вышел.
«Что она затеяла? – думал молодой человек, поднимаясь по лестнице. – Не могу понять. Но во всем этом ясно для меня одно: она действует против нашего общего врага. Ну и пусть действует!»
В это время Маргарита получила через Ла Моля письмо от де Муи. Ввиду того что между двумя просвещенными супругами не существовало тайн в области политики, Маргарита распечатала и прочла это письмо. Видимо, письмо оказалось очень интересным, так как она сейчас же, пользуясь наступившей темнотой в коридорах Лувра, быстро пробралась потайным ходом, поднялась по витой лестнице, внимательно осмотрела все кругом и легкой тенью проскользнула в переднюю короля Наваррского.
Со времени исчезновения Ортона переднюю никто не охранял. Это исчезновение, о котором мы ничего не говорили с того момента, когда читатель наблюдал трагический конец Ортона, очень встревожило Генриха Наваррского. Он поделился своей тревогой с мадам де Сов и с Маргаритой, но и та и другая знали не более его. Только мадам де Сов дала кое-какие сведения, на основании которых в его уме сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик стал жертвою каких-то махинаций королевы-матери, и вследствие тех же махинаций он сам чуть-чуть не был захвачен совместно с де Муи в трактире «Путеводная звезда».
Всякий другой стал бы молчать, боясь проговориться, но Генрих все продумал: он понял, что молчание его погубит – ведь люди обычно не теряют своих слуг или доверенных людей так просто, а наводят справки и производят розыски. Генрих тоже наводил справки и расспрашивал в присутствии короля и самой Екатерины; спрашивал про Ортона у всех в Лувре, начиная с часового, ходившего у пропускных ворот, до командира охраны, дежурившего у короля в передней, но все было напрасно. Очевидно, Генрих был так глубоко огорчен этим событием, был так привязан к бедному слуге, что заявил о своем решении никем его не замещать, пока не убедится окончательно в бесследном исчезновении Ортона.
Как мы уже сказали, в передней было пусто, когда туда входила Маргарита. Как ни легко ступала королева, Генрих услышал ее шаги и обернулся.
– Вы, мадам?! – воскликнул он.
– Да. Читайте скорее, – сказала Маргарита и подала ему раскрытое письмо, содержавшее такие строки:
«Сир, настало время осуществить наш план. Послезавтра назначена соколиная охота вдоль Сены от Сен-Жермена до «Домиков», то есть на протяжении всего леса.
Хотя это охота соколиная, но примите в ней участие; наденьте под платье хорошую кольчугу, прихватите лучшую вашу шпагу и выберите самую резвую лошадь из вашей конюшни.
Около полудня, то есть в разгар охоты, как только король поскачет вслед за соколом, ускользните один – если поедете на охоту один, или с королевой Наваррской – если королева едет с вами.
Пятьдесят человек наших будут спрятаны в павильоне Франциска I; ключ от павильона у нас; никто не будет знать, что они там, – они приедут только ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете дорогою Фиалок, в конце которой я буду ждать вас, а на поляне будут Коконнас и Ла Моль с двумя свежими лошадьми: эти лошади предназначаются для смены, на случай если ваша лошадь и лошадь ее величества королевы Наваррской устанут.
Прощайте, сир, будьте готовы вы, – мы-то будем».
– Жребий брошен! – сказала Маргарита, повторяя через тысячу шестьсот лет слова, произнесенные Цезарем на берегах Рубикона.
– Хорошо, мадам, – ответил Генрих, – я не обману ваших ожиданий.
– Станьте героем, сир. Это не так трудно: вам только надо идти своей дорогой; а для меня создайте красивый трон, – сказала дочь Генриха II.
Неуловимая улыбка скользнула по тонким губам Беарнца. Поцеловав руку Маргарите, он вышел первым посмотреть, можно ли ей пройти, и, выходя, стал напевать припев старинной песни:Тот, кто строил крепко замок,
В нем не будет жить.
Принятая им предосторожность оказалась не напрасной: в ту минуту, когда он отворял дверь своей опочивальни, герцог Алансонский отворил дверь из своей передней; Генрих подал рукою знак Маргарите, а затем громко сказал:
– А-а! Это вы, брат мой! Добро пожаловать!
По знаку мужа Маргарита поняла, чт? надо делать, и убежала в туалетную комнату, вход в которую завешен был огромною ковровою завесой.
Герцог Алансонский вошел робкой походкой, все время озираясь.
– Мы одни, брат мой? – вполголоса спросил он.
– Совершенно одни. Что случилось? У вас такой расстроенный вид.
– Генрих, мы разоблачены!
– Каким образом?
– Захватили де Муи.
– Я знаю.
– И де Муи все рассказал королю.
– Что же он сказал?
– Что я желал занять наваррский престол и что для этого входил в заговор.
– Экое горе! – сказал Генрих. – Вы оказались в опасном положении, мой бедный брат. Почему же вы до сих пор не арестованы?
– Я сам не знаю. Король, издеваясь надо мной, предлагал мне наваррскую корону. Он, разумеется, рассчитывал вырвать у меня какие-нибудь признания; но я не выдал ничего.
– И хорошо сделали. Святая пятница! Будем держаться крепко, от этого зависит наша с вами жизнь.
– Да, дело щекотливое, – ответил Франсуа, – поэтому, брат мой, я и пришел спросить вашего совета: как вы думаете – бежать мне или оставаться?
– Ведь вы же видели короля, если он с вами говорил?
– Конечно.
– Так вы должны были прочесть ответ в его мыслях. Действуйте на основании вашего чутья.
– Я бы предпочел остаться здесь.
Как ни владел собою Генрих, на лице его мелькнуло радостное выражение, и, несмотря на всю его мгновенность, Франсуа подметил это выражение на лету.
– Тогда оставайтесь, – сказал Генрих.
– А вы?
– Помилуйте! Зачем же мне ехать, если вы остаетесь здесь. Я ведь хотел уехать вместе с вами из чувства дружбы, чтобы не расставаться с братом, которого люблю.
– Конец всем нашим планам, – сказал герцог Алансонский, – вы отступаете без боя при первом налете злого рока.
– Я не вижу злого рока в том, что останусь здесь; с моим беспечным характером мне хорошо везде.
– Ладно, пусть так, не будем больше говорить об этом, – ответил герцог Алансонский. – Но если вы примете какое– нибудь другое решение, известите меня.
– Ну разумеется! Поверьте мне, я не премину это сделать. Разве мы не условились, что у нас нет тайн друг от друга?
Герцог Алансонский прекратил свои расспросы и в раздумье удалился, заметив, что в какое-то мгновение завеса на двери туалетной комнаты чуть всколыхнулась.
Действительно, как только герцог Алансонский вышел, завеса приподнялась и Маргарита появилась снова.
– Что вы думаете об этом посещении? – спросил Генрих.
– Думаю – произошло что-то новое и важное.
– А что, по-вашему?
– Еще не знаю, но узнаю.
– А до этого?
– А до этого – непременно зайдите ко мне завтра вечером.
– Не премину, мадам! – ответил Генрих, любезно целуя жене руку.
И с теми же предосторожностями, с какими шла сюда, Маргарита вернулась в свои покои.IX. Книга о соколиной охоте
Прошло тридцать шесть часов со времени событий, описанных в предшествующей главе. День только занимался, а в Лувре все уже встали, как это бывало в дни охоты, и герцог Алансонский направился к Екатерине, помня ее наказ явиться в этот день.
Королевы-матери уже не было в ее опочивальне, но, уходя, она распорядилась на случай прихода герцога, чтобы его попросили обождать. Через несколько минут Екатерина вышла из потайного кабинета, где она уединялась для химических опытов и куда никто другой входить не смел.
Вместе с Екатериной, пристав к ее одежде или же сквозь щель только прикрытой двери, в комнату проник какой-то едкий запах, и герцог увидел в эту щель густой дым, как от сожженных ароматических курений, плававший белым облаком в лаборатории, откуда вышла королева-мать.
Герцогу не удалось скрыть свой любопытный взгляд.
– Да, – сказала Екатерина Медичи, – я сожгла кое-какие ветхие пергаменты, а от них пошла такая вонь, что пришлось подкинуть в жаровню немного можжевельника, вот от него и этот запах.
Герцог Алансонский поклонился.
– Ну, что у вас нового со вчерашнего дня? – спросила Екатерина, пряча в широкие рукава капота свои руки, кое-где покрытые красно-желтыми пятнами.
– Ничего, матушка, – ответил герцог.
– Вы не виделись с Генрихом?
– Виделся.
– И он по-прежнему отказывается уезжать?
– Наотрез.
– Жулик!
– Что вы сказали?
– То, что он уедет.
– Вы думаете?
– Уверена.
– Значит, он ускользнет от нас?
– Да, – ответила Екатерина.
– И вы дадите ему уехать?
– Не только дам ему уехать, а скажу вам больше: даже необходимо, чтобы он уехал.
– Я вас не понимаю, матушка.
– Выслушайте, Франсуа, внимательно, что я скажу. Один весьма искусный врач, давший мне книгу, которую вы отнесете Генриху, уверял меня, что у короля Наваррского – начало какой-то изнурительной болезни, одной из тех болезней, которые не милуют и против которых наука не знает никаких лекарств. Теперь для вас понятно, что если ему суждено умереть от страшного недуга, то лучше пусть умрет подальше от нас, а не при дворе.
– Да, разумеется, это сильно огорчит нас, – сказал герцог.
– В особенности вашего брата Карла, – добавила Екатерина. – Если же Генрих окажет ему неповиновение, а затем умрет, король увидит в его смерти божью кару.
– Вы правы, матушка, – ответил герцог Алансонский, восхищаясь матерью, – необходимо, чтобы он уехал. Но убеждены ли вы в том, что он уедет?
– Он уже принял для этого все меры. Встреча назначена в Сен-Жерменском лесу. Пятьдесят гугенотов должны его сопровождать до Фонтенбло, где будут ожидать еще пятьсот.
– А сестра моя Марго? – спросил герцог с некоторым колебанием и заметно побледнев. – Она тоже едет с ним?
– Да, – ответила Екатерина, – это решено. Но как только Генрих умрет, Марго вернется ко двору свободной вдовой.
– А Генрих умрет наверно?
– По крайней мере, врач, давший мне книгу об охоте, уверял, что да.
– Мадам, а где же книга?
Екатерина тихим шагом подошла к потайному кабинету, открыла дверь, вошла в глубь кабинета и через минуту появилась с книгою в руках.
– Вот она, – сказала королева-мать.
Герцог Алансонский с некоторым ужасом глядел на книгу, которую ему протягивала мать.
– Что это за книга, мадам? – спросил, дрожа от страха, герцог.
– Я уже вам сказала, сын мой, что это книга об искусстве выращивать и вынашивать соколов, кречетов и ястребов, написанная весьма ученым человеком, луккским тираном – Каструччо Кастракани.
– А как с ней быть?
– Отнести вашему другу Анрио, который, как вы говорили, просил у вас эту или какую-нибудь другую книгу того же содержания, чтобы научиться соколиной охоте. Так как на сегодня назначена королевская охота с ловчими птицами, он непременно прочтет хоть несколько страниц и не упустит случая показать королю, что он послушался его советов и взялся за учение. Все дело в том, чтобы вручить книгу самому Генриху.
– Я не посмею, – ответил герцог, весь дрожа.
– Отчего? – спросила Екатерина. – Книга как книга, только она долго лежала в шкафу, и страницы слиплись. Вы сами не пробуйте ее читать, потому что придется мусолить пальцы и отделять страницу от страницы, а это и очень долго, и очень трудно.
– Значит, только тот, кто горит желанием научиться, станет терять на это время и тратить свои силы? – спросил герцог Алансонский.
– Совершенно верно. Вы понятливы, сын мой.
– Ага! Вон Анрио уже на дворе. Давайте, мадам, давайте! Я воспользуюсь тем, что его нет дома, и отнесу книгу; он вернется и найдет ее у себя.
– Лучше бы вы отдали ее лично, Франсуа, так было бы вернее.
– Я уже сказал, мадам, что не посмею, – возразил герцог.
– Пустяки! Во всяком случае, положите ее на видном месте.
– Раскрытую? Или класть раскрытую будет хуже?
– Нет, лучше.
– Так давайте.
Герцог Алансонский трепетной рукой взял книгу из твердо протянутой руки Екатерины.
– Берите же, – сказала Екатерина, – раз я ее касаюсь, значит, не опасно, к тому же вы в перчатках.
Для герцога Алансонского этого было недостаточно, и он завернул книгу в плащ.
– Поторопитесь, Франсуа, – сказала Екатерина, – Генрих каждую минуту может вернуться.
– Верно, мадам, иду, – сказал герцог и вышел, шатаясь от волнения.
Мы уже не раз вводили нашего читателя в покои короля Наваррского и делали свидетелем происходивших там событий – то радостных, то страшных, в зависимости от того, грозил ли или улыбался гений-покровитель будущему королю Франции. Но в этих стенах, забрызганных кровью убийств, залитых вином веселых кутежей, опрысканных духами ради любовных встреч, быть может, никогда не появлялось лица более бледного, чем лицо герцога Алансонского, когда он с книгою в руке отворял дверь в опочивальню короля Наваррского.
А между тем в ней, как и ожидал герцог, не было ни одного свидетеля, который мог бы тревожным или любопытным оком подсмотреть то, что собирался сделать Франсуа. Первые лучи солнца освещали совершенно пустую комнату. На стене висела наготове шпага, которую де Муи советовал Генриху взять с собой; несколько колечек от кольчуги валялось на полу; туго набитый кошелек и маленький кинжал лежали на столе; тонкий пепел еще вился в камине – все это вместе с другими признаками ясно говорило герцогу Алансонскому, что король Наваррский надел кольчугу, потребовал от своего казначея денег и сжег компрометирующие документы.
– Матушка не ошиблась. Этот жулик предает меня! – сказал герцог Алансонский.
Несомненно, что заключение такого рода придало бодрости молодому человеку; он исследовал глазами каждый уголок комнаты, приподнял все занавески, и когда сильный шум, долетавший со двора, и полная тишина в покоях Генриха убедили герцога, что никто не думает подсматривать за ним, он вынул из-под плаща книгу, быстро положил на стол, где лежал кошелек, и прислонил ее к пюпитру из резного дуба; затем, отойдя подальше, вытянул руку в перчатке и нерешительным движением руки, выдававшим его страх, раскрыл книгу на странице с охотничьей гравюрой.
Раскрыв книгу, он тотчас отступил на три шага, сорвал с руки перчатку и бросил ее в горевшую жаровню, где Генрих сжигал письма. Мягкая кожа зашипела, свернулась и развернулась, как змея, и вскоре от нее остался лишь черный сморщенный комочек.
Герцог Алансонский дождался момента, когда пламя сожгло перчатку до конца, затем свернул плащ, в котором принес книгу, сунул его под мышку и убежал к себе. С бьющимся сердцем отворяя свою дверь, он услышал чьи-то шаги по винтовой лестнице; в твердом убеждении, что это возвращается Генрих, он быстро запер за собою дверь.
Войдя в свои покои, он бросился к окну, но вид из него открылся лишь на часть дворцового двора, и в этой части не было короля Наваррского. Это еще больше укрепило Франсуа в убеждении, что по лестнице шел Генрих, возвращаясь в свои покои.
Герцог сел, раскрыл книгу и попробовал читать. Это была история Франции, с эпохи Фарамона до Генриха II, читавшего эту книгу с особенной охотой спустя несколько дней после своего восшествия на престол Франции.
Но герцогу было не до чтения. Лихорадка ожидания горячим током разливалась по его жилам, биение в висках отдавалось в самой глубине мозга, и, как это бывает иногда во сне или в состоянии гипноза, герцогу Алансонскому казалось, что он видит сквозь стены; его взгляд проникал в комнату короля Наваррского, несмотря на тройное препятствие, отделявшее его от спальни Генриха.
Чтобы отстранить от себя страшный предмет, который чудился его мысленному взору, герцог пытался сосредоточить свою мысль на чем-нибудь другом, а не на этой ужасной книге, прислоненной к дубовому пюпитру и открытой на охотничьей гравюре; но тщетно брал он в руки то один, то другой предмет из своего оружия, перебирал свои драгоценности, сотни раз прошел взад и вперед по одной линии – все напрасно: каждая подробность гравюры, виденной лишь мельком, запечатлелась в его уме. На ней изображался какой-то помещик на коне, он сам исполнял обязанность сокольника, махал вабилом, подманивая сокола, и скакал во весь опор среди болотных трав. Как ни напрягал герцог свою волю, сила зрительной памяти брала над нею верх.
Вслед за этим ему привиделась не только книга, а вместе с ней и сам король Наваррский: вот он подходит к книге, смотрит гравюру, пытается перевернуть страницу, но, встретив препятствие в виде слипшихся листов, мусолит палец и, отлепляя упрямые страницы, листает книгу.
Как ни мнимо, как ни фантастично было подобное видение, однако герцог Алансонский зашатался, оперся одной рукой на стол, а другой прикрыл глаза, как будто, заслонив рукой глаза, он видел не так ясно то зрелище, от которого хотел бежать. А зрелище было плодом его воображения!
Вдруг герцог Алансонский взглянул во двор и увидел там Генриха, который остановился на несколько минут около людей, грузивших на двух мулов якобы охотничий запас, а на самом деле – деньги и вещи, необходимые для путешествия; потом, сделав распоряжения, наискось пересек двор, очевидно, направляясь ко входу в Лувр.
Герцог Алансонский застыл на месте. Стало быть, по винтовой лестнице всходил не Генрих? Значит, и все душевные муки, четверть часа терзавшие его, он претерпел напрасно? То, что Франсуа полагал уже конченным или близким к концу, должно было только начаться.
Герцог Алансонский отворил дверь из своей комнаты, потом затворил ее за собой и, подойдя к двери в коридор, прислушался. На этот раз по коридору шел Генрих, нельзя было обмануться: герцог Алансонский узнал его походку и даже особый, характерный звон его шпор.
Дверь в покои короля Наваррского отворилась и захлопнулась. Герцог Алансонский вернулся в свою комнату и упал в кресло.
«Да! Да! – говорил он сам с собой. – Там происходит следующее: он прошел переднюю, прошел первую комнату, вошел в опочивальню; теперь он ищет глазами свою шпагу, кошелек, кинжал – и на том же столике вдруг видит книгу. «Что это за книга? – спрашивает он себя. – Кто ее принес?» Затем подходит ближе, видит гравюру, изображающую соколиного охотника, хочет почитать книгу и старается перевернуть страницу».
Холодный пот выступил на лбу у герцога.
«Будет ли он звать на помощь? Действует ли этот яд сразу? Нет, конечно, нет! Ведь матушка говорила, что он умрет медленно, от изнурительной болезни».
Это соображение немного успокоило его. Так прошло минут десять – целая вечность из мучительных секунд, и каждая из них несла с собою все, что способен породить безумный страх в воображении человека, – целый мир видений.
Герцог не выдержал – встал, прошел через переднюю, где уже начали собираться его придворные.
– Привет вам, господа! – сказал он. – Я пройду к королю.
И чтоб отделаться от снедающей тревоги, а может быть, и подготовить свое алиби, герцог действительно сошел вниз к своему брату. Зачем он шел к нему? Он сам не знал. Что сказать брату? Неизвестно. Он шел не к Карлу, а бежал от Генриха.
Спустившись по винтовой лестнице, Франсуа увидел, что дверь в королевские покои приоткрыта. Стража пропустила его, не останавливая: в дни охоты отменялся этикет и разрешался свободный вход. Франсуа прошел переднюю, гостиную и опочивальню, не встретив никого; тогда он сообразил, что Карл, наверно, в Оружейной, и отворил дверь из опочивальни в Оружейную.
В большом высоком кресле с резной остроконечной спинкой сидел Карл, лицом к столу, спиною к двери, в которую вошел Франсуа. Он, видимо, был погружен в какое-то занятие, которое его всецело захватило.
Франсуа подошел к нему на цыпочках; Карл читал.
– Ей-богу, вот замечательная книга! – неожиданно воскликнул Карл. – Я о ней слышал, но не знал, что она есть во Франции.
Герцог Алансонский насторожился и придвинулся на один шаг.
– Проклятые страницы, – сказал король, намусолив палец и нажимая им на прочитанную страницу, чтобы отделить ее от следующей. – Можно подумать, будто нарочно склеили все страницы, желая скрыть от людских глаз чудесное содержание этой книги.
Герцог Алансонский торопливо шагнул вперед. Книга, над которой склонился Карл, была та самая, что герцог положил у Генриха! Он глухо вскрикнул.
– А-а! Это вы, Алансон? – сказал Карл. – Добро пожаловать! Подойдите и посмотрите на эту книгу о соколиной охоте – лучше ее не выходило из-под пера человека.
Первым побуждением Франсуа было вырвать книгу из рук брата, но адская мысль приковала его к месту, страшная усмешка пробежала по его бледным губам; он провел рукой по глазам, как будто ослепленный молнией, затем мало-помалу пришел в себя, но ни на шаг не двинулся ни взад, ни вперед.
– Сир, как к вам попала эта книга? – спросил герцог Алансонский.
– Очень просто. Сегодня утром я зашел к Анрио посмотреть, готов ли он, а его уже не было дома – наверно, бегал по псарням и конюшням; но взамен его я там нашел это сокровище и принес сюда, чтобы почитать вволю.
Король опять поднес палец к губам и перевернул строптивую страницу. У герцога волосы встали дыбом и во всем теле почувствовалась какая-то жуткая истома.
– Сир, – пролепетал он, – я пришел сказать вам…
– Дайте мне дочитать главу, Франсуа, а потом говорите все, что угодно, – ответил Карл. – Я читаю с такой жадностью, что прочел уже пятьдесят страниц.
«Он принял яд двадцать пять раз, – подумал Франсуа. – Мой брат уже мертвец!»
И у него мелькнула мысль, что это вовсе не случайность, а перст божий.
Франсуа трясущейся рукой вытер капли холодного пота, проступившие на лбу, и, выполняя приказание брата, стал ждать окончания главы.
X. Соколиная охота
Карл продолжал читать. Увлеченный интересным содержанием, он жадно пробегал страницу за страницей, а каждая страница – от долгого ли лежания в сырости или по другим причинам – плотно прилипла к следующей.
Герцог Алансонский угрюмо смотрел на страшное зрелище, только один предвидя его развязку.
«Ох, что же это будет? – рассуждал он с самим собой. – Как? Я уеду, пойду в изгнание на мнимый трон, а Генрих Наваррский при первой вести о нездоровье короля захватит какой-нибудь укрепленный город милях в двадцати от столицы, будет наблюдать за ниспосланной случаем добычей и одним махом очутится в Париже; не успеет король Польский получить известие о смерти своего брата, как произойдет смена династии. Это недопустимо!»
Такие мысли пересилили первое невольное чувство ужаса, побудившее Франсуа остановить Карла. Казалось, что рок неизменно охраняет Генриха Бурбона и преследует потомков Валуа, но Франсуа решил пойти еще раз против рока.
Весь план его действий по отношению к Генриху Наваррскому в одну минуту изменился. Ведь вместо Генриха отравленную книгу прочел Карл. Генрих должен был уехать, но как виновный перед королем. Если же судьба спасла его еще раз, было необходимо оставить Генриха в Париже: заключенный в Бастилию или Венсенский замок, он будет менее опасен, чем сделавшись королем Наваррским и став во главе тридцатитысячной гугенотской армии.
Итак, герцог Алансонский дал Карлу дочитать главу, а когда король поднял голову от книги, сказал:
– Брат мой, я исполнил приказание вашего величества и ждал, но с большим сожалением, потому что мне надо было сказать вам одну вещь огромной важности.
– Нет! К черту разговоры! – возразил Карл, щеки которого начали краснеть – то ли от чрезмерного напряжения при чтении, то ли от начавшего действовать яда. – К черту! Если ты пришел говорить со мной все о том же, ты уедешь так же, как брат твой Генрих. Я освободился от него, освобожусь и от тебя. Больше ни одного слова на эту тему!
– Я пришел, брат мой, поговорить не о своем отъезде, а об отъезде другого человека. Ваше величество обидели меня в самом глубоком, в самом нежном моем чувстве – в моей братской любви, в моем верноподданстве, и я стремлюсь доказать вам, что я не изменник.
Карл облокотился на книгу, положил одну ногу на другую и, посмотрев на Франсуа с видом человека, запасающегося терпением вопреки своим привычкам, сказал:
– Ну, какой-нибудь новый слух? Какое-нибудь обвинение, придуманное сегодня утром?
– Нет, сир, дело вполне достоверное. Заговор, который я только по какой-то смехотворной щепетильности не решался вам открыть.
– Заговор? – спросил Карл. – Послушаем, какой там заговор!
– Сир, пока вы будете охотиться вдоль реки и по долине Везине, король Наваррский свернет в Сен-Жерменский лес, где будет ждать отряд его друзей, и с их помощью он убежит.
– Так я и знал, – ответил Карл. – Еще новая клевета на моего бедного Анрио! Вот что! Когда вы оставите его в покое?
– Вашему величеству не надо будет долго ждать, чтобы убедиться – клевета или нет то, что я имел честь сказать вам.
– Каким образом?
– Таким, что наш зять убежит сегодня вечером.
Карл встал с места.
– Слушайте, в последний раз я делаю вид, что верю вашим вымыслам; но предупреждаю и тебя, и мать – это в последний раз.
Затем он громко крикнул:
– Позвать ко мне короля Наваррского!
Один из стражей двинулся, чтобы исполнить приказание, но Франсуа жестом остановил его:
– Так делать не годится, брат мой, так не узнаете вы ничего. Генрих отречется, предупредит своих сообщников, они все разбегутся, а тогда и меня, и мою мать обвинят не в одной игре воображения, а в клевете.
– Чего же вы тогда хотите?
– Чтобы ваше величество во имя нашего родства послушались меня, чтобы во имя моей преданности, в которой вы убедитесь, ничего не делали сгоряча. Действуйте так, чтоб настоящий преступник, тот, кто в течение двух лет изменял вашему величеству своими замыслами, рассчитывая изменить потом и делом, наконец был признан виновным на основании неопровержимых доказательств и наказан по заслугам.
Карл ничего не ответил, прошел к окну и отворил его: кровь приливала ему к мозгу. Затем, быстро обернувшись, спросил:
– Хорошо! Как поступили бы вы сами? Говорите, Франсуа.
– Сир, – начал герцог Алансонский, – я бы велел оцепить Сен-Жерменский лес тремя отрядами легкой кавалерии, с тем чтобы они в условленное время, например, часов в одиннадцать, двинулись облавой, сгоняя всех, кто окажется в лесу, к павильону Франциска Первого, который я, будто случайно, назначил бы местом сбора для обеда. Затем я лично сделал бы вид, что скачу за соколом, а как только увидал бы, что Генрих отдалился от охоты, я поскакал бы к месту сбора, где бы и застал Генриха с его сообщниками.
– Мысль хорошая, – сказал король, – велите командиру моей охраны прийти ко мне.
Герцог Алансонский вынул из-за колета серебряный свисток на золотой цепочке и свистнул. Явился командир. Карл подошел к нему и шепотом отдал ему свои распоряжения.
В это время его борзая Актеон, делая игривые скачки, схватила какую-то вещь, начала ее таскать по комнате и раздирать своими острыми зубами.
Карл обернулся и разразился ужасной руганью. Вещь, схваченная Актеоном, оказалась драгоценной книгой о соколиной охоте, существовавшей, как мы уже сказали, лишь в трех экземплярах на всем свете. Наказание соответствовало преступлению: Карл хлестнул арапником, и он со свистом обвился тройным кольцом вокруг собаки. Актеон взвизгнул и залез под стол, накрытый огромным ковром и служивший Актеону убежищем в подобных случаях.
Карл поднял книгу и очень обрадовался, увидев, что не хватало только одной страницы, да и та заключала не текст, а лишь гравюру. Он старательно поставил книгу на полку, где Актеон уже не мог ее достать. Герцог Алансонский смотрел на это с беспокойством. Ему хотелось, чтобы книга, выполнив свое страшное назначение, теперь ушла от Карла.
Пробило шесть часов. В шесть часов король должен был сойти во двор, где теснились лошади в богатой сбруе, дамы и кавалеры, одетые в богатые одежды. Сокольники держали на руке соколов в клобучках; у нескольких выжлятников висели через плечо рога, на случай если королю надоест охота с ловчими птицами и он захочет, как это не раз бывало, поохотиться на дикую козу или на лань.
Король сошел вниз, предварительно заперев дверь в Оружейную палату. Герцог Алансонский, следивший за каждым его движением горящим взглядом, видел, как он положил ключ в карман.
Сходя вниз, король остановился и приложил руку ко лбу. Ноги его дрожали, но и у герцога они дрожали не меньше, чем у короля.
– А мне кажется, – сказал герцог, – что будет гроза.
– Гроза в январе? Ты с ума сошел! – сказал Карл. – У меня кружится голова, и я чувствую какую-то сухость в коже. Нет, просто я устал. – Потом тихо про себя добавил: – Своею ненавистью и заговорами они меня убьют.
Но как только король ступил во двор, свежий воздух, крики охотников, шумные приветствия ста приглашенных на охоту произвели на Карла обычное действие. Он вздохнул радостно, свободно. Прежде всего он отыскал глазами Генриха. Генрих был рядом с Маргаритой.
Эти замечательные супруги, казалось, так любили друг друга, что не могли расстаться.
Увидев Карла, Генрих поднял на дыбы лошадь и, заставив ее сделать три курбета, очутился рядом с королем.
– Ого, Анрио, – произнес Карл, – вы выбрали такую лошадь, как будто собрались скакать за ланью, а вам известно, что сегодня охота с соколами.
Затем, не дожидаясь ответа, он повернулся к собравшимся.
– Едем, господа, едем! Нам надо быть на месте охоты к девяти часам, – сказал он почти грозным тоном, нахмурив брови.
Екатерина смотрела из окна. Из-за приподнятой занавески виднелось ее бледное, прикрытое вуалью лицо, а фигура в черном одеянии терялась в полумраке.
По сигналу Карла вся раззолоченная, разукрашенная, раздушенная компания участников охоты вытянулась лентой, чтобы проехать в пропускные ворота Лувра, и выкатилась лавиной на дорогу в Сен-Жермен, сопровождаемая криками толпы, приветствовавшей короля, который ехал впереди на белоснежной лошади, задумчивый и озабоченный.
– Что он сказал вам? – спросила Маргарита Генриха.
– Похвалил мою лошадь.
– И только?
– Только.
– Тогда он что-то знает.
– Боюсь, что да.
– Будем осторожны.
Свойственная Генриху хитрая улыбка озарила его лицо, как бы говоря Маргарите: «Будьте покойны, моя крошка».
Екатерина, как только вся охота выехала со двора, опустила занавеску. От нее не скрылись некоторые обстоятельства: бледность Генриха, и его нервные вздрагивания, и перешептывания с Маргаритой.
Но бледность Генриха происходила оттого, что его мужество носило не сангвинический характер: во всех случаях, когда жизнь его ставилась на карту, у него кровь не приливала к мозгу, как обычно, а отливала к сердцу. Нервные вздрагивания были вызваны сухим приемом Карла, настолько отличным от всегдашней его манеры, что это сильно подействовало на короля Наваррского. Наконец переговоры с Маргаритой объяснялись, как мы знаем, тем обстоятельством, что в области политики муж и жена заключили между собой оборонительный и наступательный союз.
Но Екатерина истолковала эти обстоятельства по-своему.
– На этот раз, – прошептала она со своей флорентийской улыбкой, – я думаю, что дорогому Генриху несдобровать!
Чтобы убедиться в этом, она подождала четверть часа, пока охота выедет из Парижа, затем вышла из своих покоев, проследовала коридором к винтовой лестнице, поднялась по ней наверх и с помощью второго ключа открыла дверь в покои короля Наваррского.
Однако Екатерина тщетно разыскивала книгу по всем комнатам. Жадным взглядом осматривала столы, столики, полки и шкафы – все напрасно: книги, которая ее интересовала, не было нигде.
– Наверно, Алансон уже унес ее; это умно.
Она опять прошла к себе, почти уверенная, что замысел ее на этот раз удался.
Тем временем король ехал по пути в Сен-Жермен, куда и прибыл через полтора часа быстрой езды. Все общество не стало подниматься к старому замку, мрачно и величественно стоявшему на вершине холма среди разбросанных вокруг него домов. Охота переправилась через реку по деревянному мосту, наведенному в то время против дуба, который и теперь зовется дубом Сюлли. После этого дан был сигнал разукрашенным флагами лодкам перевезти на ту сторону короля и его свиту.
Через несколько минут веселая молодежь, увлеченная разнообразной сменой впечатлений, двинулась во главе с королем по роскошной долине, которая сбегает с покрытого лесом Сен-Жерменского холма, и вся долина сразу приобрела вид какого-то огромного ковра, пестревшего изображениями многокрасочных фигур и отороченного серебристой каймой пенившейся у берега реки.
Впереди короля, ехавшего верхом на белой лошади и державшего на правой руке своего любимого сокола, шли сокольники в зеленых безрукавках, в высоких сапогах и, направляя голосом шестерых грифонов, обыскивали тростники, окаймлявшие реку.
В это время скрытое за тучами солнце выглянуло из темного облачного океана. Яркие лучи осветили все это золото, все драгоценности, все эти горящие глаза и превратились в пламенный поток.
И, точно дождавшись наконец, когда великолепное солнце озарит ее гибель, из гущи тростников с жалобным протяжным криком вылетела цапля.
– Го-го! – крикнул Карл, сняв клобучок с сокола и выпуская его на беглянку.
– Го-го! – крикнули все, подбадривая сокола.
Сокол, на мгновение ослепленный светом, перевернулся в воздухе, описал небольшой круг на месте и, вдруг заметив цаплю, быстрым взмахом крыльев понесся вслед за ней.
Но осторожная цапля поднялась шагах в ста от сокольников и за то время, пока король расклобучивал сокола, а сокол освоился со светом, успела отдалиться или, вернее, набрать высоту. Таким образом, когда сокол заметил цаплю, она уже поднялась больше чем на пятьсот футов и, найдя в верхних слоях воздуха течение, благоприятное для ее могучих крыльев, быстро шла ввысь.
– Го-го! Остроклювый, – кричал Карл, подзадоривая сокола, – покажи ей, какой ты породы! Го-го!
Благородная птица как будто поняла подбадривающий клич и понеслась стрелой по диагонали к вершине вертикальной линии полета цапли, которая шла все выше и выше, словно хотела утонуть в эфире.
– Ага! Трусиха! – крикнул Карл, как будто она могла его услышать, и, держась направления охоты, поскакал с запрокинутой головой, чтобы ни на одно мгновение не упустить из виду обеих птиц. – Ага, трусиха, удираешь! Но Остроклювый тебе покажет свою породу. Погоди! Погоди! Го-го! Остроклювый! Гой!
Действительно, борьба становилась интересной: обе птицы сближались или, лучше сказать, сокол приближался к цапле. Вопрос теперь был в том, кто из них при первой сшибке возьмет верх. У страха крылья оказались быстрее, чем у храбрости.
Сокол, вместо того чтобы взмыть над цаплей, с разлета пронесся у нее под брюхом. Цапля воспользовалась этим и клюнула его своим длинным клювом.
Получив удар точно кинжалом, сокол три раза перекувырнулся в воздухе как потерянный, и одно мгновение казалось, что он пойдет вниз. Но, подобно раненому воину, который, встав опять на ноги, делается еще страшнее, сокол издал пронзительный грозный крик и вновь полетел за цаплей.
Пользуясь достигнутым преимуществом, цапля изменила направление полета и повернула к лесу, пытаясь на этот раз выиграть расстояние и уйти по прямой, а не забираться ввысь. Но сокол был хорошей породы и обладал глазомером кречета. Он повторил прежний прием, по диагонали налетев на цаплю, которая раза три жалобно крикнула и взмыла вверх.
Через несколько минут этого благородного соревнования создалось впечатление, что обе птицы вот-вот скроются из глаз. Цапля представлялась не больше жаворонка, а сокол виднелся черной точкой и с каждым мгновением становился незаметнее.
Ни Карл, ни окружающие уже не скакали вслед за птицами. Все остановились и не спускали глаз с сокола и цапли.
– Браво! Браво, Остроклювый! – вдруг крикнул Карл. – Смотрите, смотрите, он взял верх! Го-го!
– Честное слово, не вижу ни того, ни другой, – сказал Генрих Наваррский.
– И я тоже, – сказала Маргарита.
– Но если ты не видишь, Анрио, – ответил Карл, – то можешь еще слышать, во всяком случае – цаплю. Слышишь? Слышишь? Она просит пощады.
В самом деле, три жалобных крика, уловимых только для очень развитого слуха, донеслись с неба на землю.
– Слушай! Слушай! – крикнул Карл. – Ты увидишь, как они начнут спускаться гораздо быстрее, чем поднимались.
Действительно, в то время как король произносил эти слова, показались обе птицы. Пока виднелись лишь две черные точки, но по величине точек можно было легко заметить, что сокол держит верх над цаплей.
– Смотрите! Смотрите! – крикнул Карл. – Остроклювый забьет ее.
Цапля, находясь под хищной птицей, даже не пыталась защищаться. Она быстро шла книзу, все время подвергаясь нападениям сокола, и только вскрикивала в ответ. Вдруг она сложила крылья и камнем стала падать вниз, но то же самое сделал и ее противник, а когда цапля хотела расправить крылья, чтобы лететь опять, последний удар клюва распластал ее в воздухе; она, кувыркаясь, начала падать, и как только коснулась земли, сокол пал на нее с победным криком, покрывшим собою смертный стон побежденной.
– К соколу! К соколу! – крикнул Карл, пуская галопом лошадь, и поскакал в том направлении, куда спустились обе птицы.
Вдруг он сразу осадил лошадь, вскрикнул, выпустил из рук поводья и уцепился одной рукой за гриву, а другой схватился за живот, как будто собирался вырвать внутренности.
На его крик собрались все придворные.
– Ничего, ничего, – говорил Карл с блуждающим взором и с горячечным румянцем на лице, – у меня было такое ощущение, точно мне провели по животу раскаленным железом. Едем, едем, это пустяки!
И Карл снова пустился вскачь. Герцог Алансонский побледнел.
– Что нового? – спросил Генрих у Маргариты.
– Не знаю, – ответила она. – Но вы заметили, мой брат сделался пунцовым.
– Это ему не свойственно, – ответил Генрих.
Придворные удивленно переглянулись и последовали за королем. Наконец все добрались до места, где опустились птицы; сокол уже выклевывал у цапли мозг.
Подъехав, Карл спрыгнул с лошади, чтобы поближе посмотреть на конец битвы. Но, ступив на землю, он вынужден был придержаться за седло – земля уходила у него из-под ног. Карлу непреодолимо хотелось спать.
– Брат! Брат! – воскликнула Маргарита. – Что с вами?
– У меня такое же ощущение, какое, вероятно, было у Порции, когда она проглотила горящие уголья; во мне все горит, и мне кажется, что я дышу пламенем.
Карл дыхнул и, видимо, был удивлен, что из его губ не вырвался огонь.
В это время сокола взяли, снова накрыли клобучком, и все обступили короля.
– Ну что? Ну что? Зачем вы собрались? Клянусь Христовым телом, ничего нет! Просто солнце нажгло мне голову и опалило глаза. Едем, едем, господа! На охоту! Вон целая стая чирков! Пускай всех! Пускай всех! Уж и потешимся!
Сразу расклобучили и пустили шесть соколов, которые и устремились прямо на чирков, а вся охота во главе с королем подошла к берегу реки.
– Что скажете, мадам? – спросил Генрих Маргариту.
– Время удобное; если король не обернется, мы свободно проедем в лес.
Генрих подозвал сокольника, который нес цаплю; и в то время как раззолоченная шумная лавина катилась вдоль крутого берега, где теперь устроена терраса, король Наваррский остался позади, делая вид, что разглядывает добытую птицу.
Часть шестая
I. Павильон Франциска I
Как прекрасна была королевская охота с ловчими птицами, когда сами короли казались чуть не полубогами, когда охота их являлась не простой забавой, а искусством! И все же нам придется расстаться с этим великолепным зрелищем и войти в ту часть леса, куда к нам соберутся все актеры сейчас разыгранного действа.
Вправо от дороги Фиалок идет длинный арочный свод из густо разросшейся листвы деревьев, образуя мшистый приют, где среди зарослей вереска и лаванды пугливый заяц то и дело настораживает уши, где вольная лань, поднимая голову, отягощенную рогами, прислушивается и, раздувая ноздри, нюхает воздух; в этом приюте есть полянка, расположенная так удачно, что с нее видна дорога, но сама она с дороги не заметна.
Среди полянки двое мужчин лежали на траве, подостлав под себя дорожные плащи, положив рядом свои шпаги и два мушкетона с раструбом на конце дула, тогда носившие название «пуатриналь». Издали эти мужчины, одетые в изящные костюмы, напоминали веселых рассказчиков «Декамерона», вблизи же грозное вооружение придавало им сходство с теми разбойниками, каких сто лет спустя Сальватор Роза зарисовывал с натуры и помещал в свои картины.
Один из них сидел, подперев голову рукой, а руку коленом, и прислушивался, подобно зайцу или лани, о которых мы сейчас упоминали.
– Мне кажется, – сказал он, – что сейчас охота все больше стала приближаться к нам, странно; мне даже слышно, как кричат сокольники, натравливая соколов.
– А я сейчас не слышу ничего, – сказал другой, ожидавший событий, видимо, более философски, чем его товарищ. – Вероятно, охота стала удаляться. Я говорил тебе, что это место не годится для наблюдений. Правда, тебя не видно, но и ты не видишь ничего.
– Какого черта, дорогой мой Аннибал! – возразил другой собеседник. – А куда было деть двух лошадей наших, да двух запасных, да двух мулов, настолько нагруженных, что неизвестно, как они будут поспевать за нами? Для выполнения этой задачи я не вижу ничего подходящего, кроме сени из этих столетних буков и дубов. Поэтому я не только не могу ругать де Муи, как делаешь ты, но решительно утверждаю, что во всей подготовке этого предприятия под его руководством чувствуется глубокая продуманность настоящего заговорщика.
– Отлично! – сказал второй дворянин, в котором читатель, наверное, уже признал Коконнаса. – Отлично! Слово вылетело, я его и ждал, ловлю тебя на нем. Так мы занимаемся заговором?
– Мы занимаемся не заговором, а служим королю и королеве.
– Которые составили заговор, а это совершенно одинаково относится и к нам.
– Я же говорил тебе, Коконнас, что ни на одну минуту не понуждаю тебя участвовать в этом деле вместе со мной, так как мое участие вызывается моим личным чувством, которого ты не понимаешь и понимать не можешь.
– А, дьявольщина! Кто говорит, что ты меня понуждаешь? Прежде всего я еще не знаю такого человека, который мог бы заставить графа Коконнаса делать то, чего он не хочет; но неужели ты воображаешь, что я позволю тебе идти на это дело без меня, когда вижу, что ты идешь в лапы к черту?
– Аннибал! Аннибал! – окликнул Ла Моль. – По-моему, вон там виднеется белая кобыла Маргариты. Как странно, стоит мне только подумать о возлюбленной, и сейчас же у меня начинает биться сердце.
– Странно, а вот у меня совсем не бьется! – сказал, зевнув, Коконнас.
– Нет, это не королева, – говорил Ла Моль. – Что же случилось? Ведь, кажется, было назначено в полдень.
– Случилось то, что еще нет полудня, вот и все; и, думается, у нас еще есть время немножко поспать.
И Коконнас разлегся на плаще с видом человека, готового сочетать слово с делом. Но только его ухо коснулось земли, как он замер, подняв палец кверху в знак молчания.
– Что такое? – спросил Ла Моль.
– Тише! На этот раз я действительно кое-что слышу.
– Странно, я слушаю, а ничего не слышу.
– Ничего не слышишь?
– Нет.
Коконнас приподнялся и, положив свою руку на руку Ла Моля, сказал:
– Тогда посмотри на лань.
– Где?
– Вон там, – ответил Коконнас и показал Ла Молю лань.
– И что же?
– Сейчас увидишь.
Ла Моль присмотрелся к лани. Лань, нагнув голову, как будто собиралась щипать траву, стояла неподвижно и прислушивалась, затем подняла голову с великолепными рогами и повела ухом в ту сторону, откуда доносился до нее какой-то звук, и вдруг без видимой причины с быстротой молнии ускакала в лес.
– Да-а! Лань спасается бегством. Кажется, ты прав.
– Раз она спасается бегством, значит, она слышит то, чего не слышишь ты.
Вскоре глухой, чуть слышный шорох пронесся по траве; для малоразвитого слуха это был ветер; для наших всадников – отдаленный галоп каких-то лошадей.
Ла Моль мгновенно вскочил на ноги.
– Это сюда. Берегись! – сказал он.
Коконнас встал спокойнее; казалось, живость пьемонтца переселилась в душу Ла Моля и, наоборот, его беспечность перешла в друга. Сказывалось то, что в данном случае один действовал с воодушевлением, а другой неохотно.
Наконец ритмичный, ровный топот уже отчетливо дошел до слуха их обоих; послышалось лошадиное ржание, и лошади друзей, стоявшие оседланными в десяти шагах от них, насторожили уши, а вслед за этим по тропинке промчалась белым призраком фигура всадницы, обернулась в их сторону и, подав им какой-то неопределенный знак, скрылась.
– Королева! – вскрикнули оба разом.
– Что это значит? – спросил Коконнас.
– Она сделала рукой так, – ответил Ла Моль, – что значит: «Сейчас».
– Она сделала так, – возразил Коконнас, – что значит: «Уезжайте».
– Ее знак обозначает: «Ждите меня».
– Ее знак обозначает: «Спасайтесь».
– Хорошо, – сказал Ла Моль, – будем каждый действовать по своему убеждению. Ты уезжай, а я останусь.
Коконнас пожал плечами и снова улегся на траву.
В ту же минуту со стороны, противоположной той, куда умчалась королева, по той же тропке проскакал, отдав поводья, отряд всадников, в которых оба друга узнали пылких, почти непримиримых протестантов. Их лошади скакали, как те кобылки, о которых говорится в Книге Иова. Всадники мелькнули и исчезли.
– Черт! Дело серьезное! – сказал Коконнас, вставая. – Едем в павильон Франциска Первого.
– Ни в коем случае! – ответил Ла Моль. – Если наше дело открылось, так все внимание короля будет прежде всего обращено на этот павильон! Ведь общий сбор назначен там.
– На этот раз ты вполне прав, – пробурчал Коконнас.
Едва пьемонтец произнес эти слова, как между деревьями молнией промелькнул какой-то всадник и, прыгая через водомоины, кусты, свалившиеся деревья, доскакал до молодых людей. В этой безумной скачке он правил лошадью только коленями, а в руках держал по пистолету.
– Де Муи! – тревожно крикнул Коконнас, сразу став беспокойнее Ла Моля. – Месье де Муи бежит! Значит, надо спасаться!
– Живей! Живей! – крикнул гугенот. – Удирайте; все пропало! Я нарочно сделал крюк, чтобы вас предупредить. Бегите!
Так как де Муи все это крикнул на скаку, то был уже далеко, когда Ла Моль и Коконнас вполне усвоили значение его слов.
– А королева? – крикнул ему вслед Ла Моль.
Но вопрос молодого человека повис в воздухе: де Муи уже отъехал слишком далеко, чтобы его услышать, а тем более – чтобы ответить.
Коконнас сразу принял решение. Пока Ла Моль стоял, не двигаясь и следя глазами за де Муи, мелькавшим вдалеке среди ветвей, которые то раздвигались перед ним, то вновь смыкались, Коконнас побежал за лошадьми, привел их, вскочил на свою лошадь, бросил поводья от другой на руки Ла Моля и приготовился дать шпоры.
– Ну же! Ну! Ла Моль! Повторяю тебе слова де Муи: «Бежим»! А де Муи зря не говорит! Бежим! Бежим, Ла Моль!
– Одну минуту, – ответил Ла Моль, – ведь мы сюда явились ради какой-то цели.
– Во всяком случае, не ради той, чтобы нас повесили! – возразил Коконнас. – Советую не терять времени. Догадываюсь: ты сейчас займешься риторикой и начнешь толковать на все лады понятие «бежать», говорить о Горации, бросившем свой щит, и об Эпаминонде, который вернулся на щите. Я же говорю тебе просто: где бежит де Муи де Сен-Фаль, там каждый имеет право убежать.
– Ему не поручали увезти королеву Маргариту, – возразил Ла Моль, – и де Муи де Сен-Фаль не влюблен в королеву Маргариту.
– Дьявольщина! И хорошо делает, раз эта любовь внушала бы ему те глупости, какие ты, я вижу, намерен совершить. Пусть пятьсот тысяч чертей унесут в ад любовь, которая может стоить жизни двум честным людям! «Смерть дьяволу!» – как говорит король Карл. Мы, дорогой мой, заговорщики, а когда заговорщикам не повезло – им надо утекать. Садись! Садись! Ла Моль!
– Беги, я тебе не мешаю, а даже прошу. Твоя жизнь дороже моей. Так и спасай ее.
– Лучше скажи: «Коконнас, пойдем на виселицу вместе», а не говори: «Коконнас, убегай один».
– Нет, дорогой мой, – возразил Ла Моль, – веревка – это для мужиков, а не для таких дворян, как мы.
– Начинаю думать, – сказал Коконнас, – что я недаром совершил один предусмотрительный поступок.
– Какой?
– Подружился с палачом.
– Ты стал зловещим, дорогой Коконнас.
– Ну, что мы будем делать? – раздраженно спросил пьемонтец.
– Найдем королеву.
– Где это?
– Не знаю… Найдем короля!
– Где это?
– Не знаю. Но мы найдем их и сделаем вдвоем то, чего не могли или не посмели сделать пятьдесят человек.
– Ты играешь на моем самолюбии, Гиацинт, это плохой знак!
– Тогда – на лошадей, и бежим.
– Вот так-то лучше.
Ла Моль повернулся к лошади и взялся за седельную луку, но в то мгновение, когда он вставлял ногу в стремя, чей-то повелительный голос крикнул:
– Стой! Сдавайтесь!
Одновременно из-за деревьев показалась голова, потом другая, потом – тридцать; то были легкие конники, которые спешились и, двигаясь ползком сквозь вереск, обыскивали лес.
– Что я тебе говорил? – прошептал Коконнас.
Ла Моль ответил каким-то сдавленным рычанием.
Легкие конники были еще шагах в тридцати от двух друзей.
– Слушайте, в чем дело? – крикнул Коконнас лейтенанту легких конников.
Лейтенант скомандовал взять на прицел двух друзей. В это время Коконнас шепнул Ла Молю:
– Садись! Еще есть время. Прыгай на лошадь, как делал сотни раз при мне, и скачем.
Затем, обернувшись к конникам, он крикнул:
– Какого черта, господа? Не стреляйте, вы можете убить своих друзей!
И опять шепнул Ла Молю:
– Сквозь чащу стрельба плохая; они выстрелят и промахнутся.
– Нельзя! – ответил Ла Моль. – Нам не увести с собой лошадь Маргариты и двух мулов, а они замешают ее в дело; на допросе же я отведу от нее всякое подозрение. Скачи один, мой друг, скачи!
– Господа, – крикнул Коконнас, вынимая шпагу и поднимая ее в воздух, – мы сдаемся!
Легкие конники подняли вверх дула мушкетонов.
– Но прежде разрешите спросить, почему мы должны сдаваться?
– Об этом вы спросите у короля Наваррского.
– Какое преступление мы совершили?
– Об этом вам скажет его высочество герцог Алансонский.
Коконнас и Ла Моль переглянулись: имя их общего врага не могло действовать успокоительно в подобных обстоятельствах.
Но, как бы то ни было, ни один из них не оказал сопротивления. Коконнасу было предложено слезть с лошади, что он и выполнил, не прекословя. Затем обоих поместили в середину кольца из легких конников и повели по дороге к павильону Франциска I.
– Ты хотел посмотреть на павильон Франциска Первого? – сказал Коконнас, заметив в просвет между деревьями стены очаровательной готической постройки. – Так похоже на то, что ты его увидишь.
Ла Моль ничего не ответил, а только пожал пьемонтцу руку.
Рядом с прелестным павильоном, выстроенным при Людовике XII, но получившим название в честь Франциска I, который постоянно назначал в нем сбор охотников, недавно был построен еще домик для выжлятников, но теперь, за стеной сверкавших мушкетонов, алебард и шпаг, он был почти не виден, как кротовая кучка за стеною золотистой нивы.
В этот домик и отвели пленников.
Теперь бросим свет на очень туманное, в особенности для двух пленников, положение вещей, рассказав о том, что происходило до ареста двух друзей.
Как было условленно, дворяне-гугеноты собрались в павильоне Франциска I, отперев его ключом, который, как мы знаем, был у де Муи. Вообразив себя хозяевами леса, они выставили кое-где дозорных, но легкие конники сменили белые перевязи на красные и благодаря этой хитроумной выдумке командира де Нансе неожиданным налетом сняли всех дозорных, не сделав ни одного выстрела.
После этого легкие конники продолжали двигаться облавой, окружая павильон; однако де Муи, ждавший короля Наваррского в конце дороги Фиалок, заметил, что красные перевязи не идут, а крадутся по-волчьи, и это сразу возбудило в нем подозрение. Он отъехал в сторону, чтобы его не увидели, и обратил внимание на то, как они все более сжимают круг, – очевидно, с целью прочесать лес и охватить все место сбора.
Одновременно в конце главной дороги он различил маячившие вдалеке белые эгретки и сверкающие аркебузы королевской охраны. Наконец он увидел и короля Карла IX, а в другой стороне и короля Наваррского. Тогда он взмахнул крест-накрест своей шляпой, что было условленным сигналом, означавшим: «Все пропало!»
Поняв его сигнал, король Наваррский повернул обратно и скрылся. Тотчас же де Муи вонзил шпоры в бока лошади, пустился удирать и на скаку предупредил Коконнаса и Ла Моля.
Карл IX, заметивший отсутствие Генриха и Маргариты, направился в сопровождении герцога Алансонского к павильону Франциска I, желая лично посмотреть, как будут Генрих и Маргарита выходить из домика выжлятников, куда он приказал запереть не только тех, кто находился в павильоне, но и тех, кто встретится в лесу.
Герцог Алансонский, вполне уверенный в успехе, скакал рядом с королем, страдавшим от острых болей, которые усиливали его плохое настроение.
– Ну! Ну! Давайте поскорее, – сказал король, подъехав. – Я тороплюсь домой. Тащите этих нечестивцев из их норы. Сегодня день святого Власия, а он в родстве со святым Варфоломеем.
По слову короля стена из пик и аркебуз пришла в движение: всех гугенотов, захваченных в лесу и в павильоне, вывели наружу. Но среди них не было ни Маргариты, ни короля Наваррского, ни де Муи.
– Ну а где же Генрих? Где Марго? – спросил король. – Вы, Алансон, ручались мне, что они здесь, и – смерть чертям! – подайте их!
– Сир, короля Наваррского и королевы мы даже не видали, – ответил де Нансе.
– Да вон они, – сказала герцогиня Невэрская.
Действительно, в конце тропинки, со стороны реки, вдруг появились Генрих и Маргарита – оба спокойные, как ни в чем не бывало: держа на руке по соколу и любовно прижимаясь один к другому, они скакали бок о бок с таким искусством, что создавалось впечатление, будто их лошади слюбились тоже и шли голова в голову, как бы ласкаясь.
Тогда-то разъяренный герцог Алансонский дал приказ обыскать все крутом, и легкие конники наткнулись на Коконнаса и Ла Моля, укрывшихся под сенью из плюща.
Их тоже вывели королевские телохранители, которые образовали вокруг них круг, взяв за руки друг друга. Но поскольку оба друга не были королями, то и не смогли придать себе такой же бодрый вид, как Генрих Наваррский и Маргарита: Ла Моль сильно побледнел, а Коконнас густо покраснел.
II. Расследование
Когда обоих молодых людей вводили в этот круг, их поразило зрелище действительно незабываемое.
Карл IX, как мы уже о том сказали, наблюдал проходивших перед ним дворян-гугенотов, которых его стража выводила одного вслед за другим из домика выжлятников.
Король и герцог Алансонский следили ничего не выражавшим взглядом за этим шествием, ожидая, что наконец появится оттуда и король Наваррский. Ожидание обмануло их.
Но этого было мало, оставалось неизвестным, куда же делись Генрих и Маргарита. И вот когда в конце тропинки появились молодые супруги, герцог Алансонский побледнел, у Карла же отлегло от сердца; совершенно безотчетно ему очень хотелось, чтобы вся эта затея его брата обернулась против него же.
– Опять ускользнул! – прошептал герцог.
В эту минуту приступ жестокой боли потряс Карла: он выпустил поводья, схватился за бок и дико закричал. Генрих Наваррский поспешил к нему; но пока он проскакал двести шагов, отделявших его от короля, Карл пришел в себя.
– Откуда вы приехали, месье? – спросил он таким жестким тоном, что Маргарита взволновалась.
– Откуда?.. С охоты, брат мой! – ответила она.
– Охота была у реки, а не в лесу.
– Когда я отстал от охоты, чтобы посмотреть на цаплю, мой сокол унесся за фазаном, – сказал Генрих.
– Где же фазан?
– Вот он! Красивый петух, не правда ли?
И Генрих с самым невинным видом показал Карлу птицу, отливавшую пурпуром, золотом и синевой.
– Так, так! Ну, а заполевав фазана, почему не присоединились вы ко мне?
– Потому, что фазан полетел к охотничьему парку, сир; а спустившись опять к реке, мы увидали вас уже на полмили впереди, когда вы поднимались к лесу. И мы сейчас же поскакали вслед за вами, так как, участвуя в охоте, не хотели от нее отбиться.
– А вот эти дворяне тоже приглашены на охоту? – спросил Карл.
– Какие дворяне? – сказал Генрих, с недоумением озираясь.
– Ваши гугеноты, черт их возьми! – ответил Карл. – Во всяком случае, их приглашал не я.
– Но, может быть, их пригласил герцог Алансонский, – предположил Генрих.
– Месье д’Алансон! Зачем они вам? – спросил Карл.
– Мне? – воскликнул герцог.
– Ну да, вам, брат мой, – сказал Карл. – Разве не вы заявили мне вчера, что вы король Наваррский? Очевидно, гугеноты, хлопотавшие о передаче вам наваррской короны, явились поблагодарить вас за согласие, а короля за передачу. Ведь так, господа?
– Да! Да! – крикнули двадцать голосов.
– Да здравствует герцог Алансонский! Да здравствует король Карл!
– Я не король гугенотов, – сказал Франсуа, позеленев от злости. Затем, бросив косой взгляд на Карла, добавил: – И твердо надеюсь никогда им не быть.
– Чепуха! – сказал Карл. – А вам, Генрих, да будет ведомо: я нахожу все это крайне странным.
– Сир, – твердо ответил Генрих, – да простит мне бог, но похоже на то, что мне делают допрос.
– А если я скажу: да, я допрашиваю вас, – что можете на это возразить?
– Что я такой же король, как вы! – гордо ответил Генрих. – Королевское достоинство дается не короной, а рождением, и отвечать я буду только моему брату и другу, а не судье.
– Очень желал бы знать, – тихо сказал Карл, – чему мне верить хоть раз в жизни!
– Пусть приведут месье де Муи, – сказал герцог Алансонский, – и вы узнаете. Де Муи, наверное, захвачен.
– Есть ли среди взятых месье де Муи? – спросил король.
Генрих встревожился и обменялся взглядом с Маргаритой; но это было лишь мгновение. Никто не отзывался.
– Месье де Муи нет среди захваченных, сир, – ответил де Нансе. – Нескольким моим людям показалось, что они его видели, но это не наверно.
Герцог Алансонский непристойно выругался.
– А вот, сир, два дворянина герцога Алансонского, – вмешалась Маргарита и показала королю на слышавших весь этот разговор Коконнаса и Ла Моля, уверенная в том, что может положиться на их сообразительность. – Допросите их, и они вам ответят.
Герцог почувствовал нанесенный ему удар.
– Я сам приказал их задержать в доказательство того, что они не служат у меня, – возразил герцог.
Король взглянул на двух друзей и вздрогнул, увидев Ла Моля.
– Ага, опять этот провансалец! – сказал он.
Коконнас грациозно поклонился королю.
– Что вы делали, когда вас взяли? – спросил его король.
– Сир, мы обсуждали военные и любовные вопросы.
– Верхом? Вооруженные до зубов? Готовясь бежать?
– Совсем нет, сир; вашему величеству неверно доложили. Мы лежали в тени, под буком… Sub tegmine fagi.
– А-а! Лежали под буком?
– И даже могли бы убежать, если бы думали, что чем-то навлечем на себя гнев вашего величества. Послушайте, господа, – обратился Коконнас к легким конникам, – полагаюсь на ваше честное солдатское слово: как вы думаете, могли мы удрать от вас, если бы хотели?
– Правду говоря, эти господа даже шагу не сделали, чтобы убежать, – ответил лейтенант конников.
– Потому что их лошади стояли вдалеке, – сказал герцог Алансонский.
– Прошу покорно извинить меня, ваше высочество, – ответил Коконнас, – я уже сидел на лошади, а граф Лерак де Ла Моль держал свою под уздцы.
– Это правда, господа? – спросил король.
– Правда, сир, – ответил лейтенант, – месье Коконнас даже слез с лошади, увидав нас.
Коконнас скорчил улыбку, говорившую: «Вот видите, сир!»
– А что значат две заводные лошади и два мула, нагруженные ящиками? – спросил Франсуа.
– Мы разве конюхи? Велите отыскать конюха, который был при них, и спросите.
– Его там не было! – сказал разъяренный герцог.
– Значит, он испугался и удрал, – возразил Коконнас. – Нельзя требовать от мужика такой же выдержки, как от дворянина.
– Все время один и тот же способ оправдания, – пробурчал герцог Алансонский, скрежеща зубами. – К счастью, сир, я вас предупредил, что эти господа уже несколько дней как у меня не служат.
– Как, ваше высочество! Я имею несчастье больше не служить у вас?
– А! Черт возьми! Вы знаете это лучше всех; вы же сами просили вас уволить, написав мне довольно наглое письмо, которое я, слава богу, сохранил, и, к счастью, оно при мне.
– Ах, я думал, что ваше высочество простили мне письмо, написанное в минуту плохого настроения. Это было, когда я узнал, что ваше высочество собирались задушить моего друга Ла Моля в одном из коридоров Лувра.
– Что за разговор? – перебил его король.
– Я тогда думал, что ваше высочество были только одни, – продолжал Коконнас. – Но потом оказалось, что там было еще трое.
– Молчать! – крикнул король. – Все ясно! Генрих, – обратился Карл к королю Наваррскому, – даете слово не бежать?
– Даю, ваше величество.
– Возвращайтесь в Париж вместе с месье де Нансе и ждите распоряжений в вашей комнате. А вы, господа, – сказал он двум дворянам, – сдайте ваши шпаги.
Ла Моль взглянул на Маргариту. Она улыбнулась.
Ла Моль сейчас же отдал шпагу ближайшему командиру. Коконнас последовал его примеру.
– Ну что ж, нашли мне де Муи? – спросил король.
– Нет, сир, – ответил де Нансе, – или его не было, или он бежал.
– Плохо! – сказал король. – Едем домой. Мне холодно, и я что-то неясно вижу.
– Сир, это, наверно, от раздражения, – сказал Франсуа.
– Да, возможно. У меня какое-то мерцание в глазах. Где арестованные? Я ничего не вижу. Разве сейчас ночь? О-о! Боже, сжалься! Во мне все горит! Помогите! Помогите!
Несчастный король выпустил поводья, вытянул руки и опрокинулся назад; испуганные придворные подхватили его на руки.
Франсуа, один знавший причину мучительного недуга брата, стоял в стороне и вытирал пот со лба.
Король Наваррский, стоявший по другую сторону, уже под охраной де Нансе, с возрастающим удивлением смотрел на эту сцену и благодаря непостижимой интуиции, временами превращавшей его в какого-то прозорливца, говорил себе: «Эх! Пожалуй, было бы лучше, если б меня схватили во время бегства!»
Он взглянул на Маргариту, которая широко раскрытыми от изумления глазами посматривала то на него, то на короля. На этот раз король потерял сознание. Подвезли походную тележку, положили на нее Карла, накрыли плащом, снятым с одного из конников, и весь поезд тихо направился в Париж, который утром провожал веселых заговорщиков и радостного короля, а вечером встречал короля умирающим, а мятежников – взятыми под стражу.
Маргарита, несмотря ни на что, сохранившая способность владеть собой морально и физически, обменялась в последний раз многозначительным взглядом со своим мужем, затем, проехав настолько близко от Ла Моля, что он мог ее услышать, обронила два греческих слова:
– Me d?id? – что означало: «Не бойся».
– Что она тебе сказала? – спросил Коконнас.
– Она сказала, что бояться нечего, – ответил Ла Моль.
– Тем хуже, – тихо сказал пьемонтец, – тем хуже! Это значит, что дело наше плохо. Каждый раз, как мне говорили для ободрения эту фразу, я получал или пулю, или удар шпаги, а то и цветочный горшок на голову. По-еврейски ли, по-гречески ли, по-латыни или по-французски это всегда значило для меня: «Берегись!»
– Идемте, господа! – сказал лейтенант легких конников.
– Извините мою нескромность, месье: куда вы нас ведете? – спросил Коконнас.
– Вероятно, в Венсенский замок, – ответил лейтенант.
– Я бы предпочел отправиться в другое место, – сказал Коконнас, – но, в конце концов, не всегда идешь туда, куда хочешь.
По дороге король пришел в сознание и почувствовал себя лучше. В Нантере он даже захотел сесть верхом на свою лошадь, но его отговорили.
– Пошлите за мэтром Амбруазом Паре, – сказал Карл, прибыв в Лувр.
Он слез с повозки, поднялся по лестнице, опираясь на руку Тавана, и, придя в свои покои, приказал никого к себе не пускать.
Все заметили, что король Карл был очень сосредоточен. В пути он ни с кем не говорил, не интересовался ни заговором, ни заговорщиками, а все о чем-то думал. Было очевидно, что его тревожила болезнь: заболевание внезапное, острое и странное, с теми же самыми симптомами, что и у брата короля – Франциска II незадолго до его смерти.
Поэтому приказ короля – пускать к нему одного только мэтра Паре – никого не удивил. Мизантропия, как известно, была основной чертой характера Карла IX.
Карл вошел к себе в опочивальню, сел в кресло, напоминавшее шезлонг, подложил под голову подушки и, рассудив, что мэтра Амбруаза Паре могут не застать дома и он придет не скоро, собрался провести время ожидания недаром. Он хлопнул в ладоши, и сейчас же вошел один из телохранителей.
– Скажите королю Наваррскому, что я хочу с ним говорить, – распорядился Карл.
Телохранитель поклонился и пошел исполнить приказание.
Король откинул голову назад: мысли его путались от страшной тяжести в мозгу, какой-то кровавый туман застилал глаза; во рту все пересохло, и Карл выпил целый графин воды, не утолив жажды.
Он пребывал в каком-то дремотном состоянии, когда дверь отворилась и вошел Генрих; сопровождавший его де Нансе остановился в передней и не пошел дальше.
Генрих, услышав, что дверь за ним закрылась, сделал несколько шагов к Карлу.
– Сир, вы вызывали меня? Я пришел.
Король вздрогнул при звуке его голоса и бессознательно протянул ему руку.
– Сир, – обратился к нему Генрих, стоя с опущенными по бокам руками, – ваше величество запамятовали, что я больше не брат, а узник.
– Ах да, верно, – сказал Карл, – спасибо, что напомнили. Но мне помнится еще вот что: как-то раз мы с вами были наедине, и вы мне обещали отвечать на мои вопросы чистосердечно.
– И я готов сдержать это обещание. Спрашивайте, сир.
Король смочил ладонь водою и приложил ко лбу.
– Что истинного в обвинении герцога Алансонского? Ну, отвечайте, Генрих.
– Только половина: бежать должен был сам герцог Алансонский, а я – сопровождать его.
– А зачем вам было его сопровождать? – спросил Карл. – Вы что же, недовольны мной?
– Нет, сир, наоборот; я мог только радоваться отношению вашего величества ко мне: бог, читающий в сердцах людей, видит и в моем сердце, какую глубокую привязанность питаю я к моему брату и королю.
– Мне кажется противоестественным бегать от людей, которых любишь и которые тебя любят, – ответил Карл.
– Я и бежал не от тех, кто меня любит, а от тех, кто меня терпеть не может. Ваше величество, разрешите мне говорить с открытой душой?
– Говорите, месье.
– Меня не выносят герцог Алансонский и королева-мать.
– Относительно Алансона я не отрицаю, – сказал Карл, – но королева-мать проявляет к вам всячески свое внимание.
– Вот поэтому-то я и боюсь ее, сир. И слава богу, что я ее боялся!
– Ее?
– Ее или окружающих ее. Вам, сир, известно, что иногда несчастьем королей является не то, что им чересчур плохо угождают, а то, что угождают слишком рьяно.
– Говорите яснее: вы сами обязались говорить все.
– Как видите, ваше величество, я так и поступаю.
– Продолжайте.
– Ваше величество сказали, что любите меня?
– То есть я любил вас, Анрио, до вашей измены.
– Предположите, сир, что вы продолжаете меня любить.
– Пусть так.
– Раз вы меня любите, то вы, наверно, желаете, чтобы я был жив, да?
– Я был бы в отчаянии, если бы с тобой случилось какое-нибудь несчастье.
– Так вот, ваше величество, вы уже два раза могли прийти в отчаяние.
– Как так?
– Да, сир, два раза только провидение спасло мне жизнь. Правда, во второй раз провидение приняло облик вашего величества.
– А в первый раз чей облик?
– Облик человека, который был бы очень изумлен тем, что его приняли за провидение, – облик Рене. Да, сир, вы спасли меня от стали…
Карл нахмурился, вспомнив, как он увел Генриха на улицу Бар.
– А Рене? – спросил он.
– Рене спас меня от яда.
– Фу! Тебе везет, Анрио: спасать – это не его специальность, – сказал король, пытаясь улыбнуться, но от сильной боли не улыбка, а судорога пробежала по его губам.
– Итак, сир, меня спасли два чуда: одно – раскаяние Рене, другое – доброта вашего величества. Должен сознаться, я боюсь, как бы бог не устал делать чудеса, поэтому я и решил бежать, руководясь истиной: на бога надейся, а сам не плошай.
– Отчего же ты не сказал мне об этом раньше, Генрих?
– Если бы я сказал об этом вам даже вчера, я был бы доносчиком.
– А сегодня?
– Сегодня – другое дело; меня обвиняют – я защищаюсь.
– А ты, Анрио, уверен в первом покушении?
– Так же, как во втором.
– И тебя хотели отравить?
– Пытались.
– Чем?
– Опиатом.
– А как отравляют опиатом?
– Спросите, сир, у Рене: раз отравляют и перчатками…
Карл насупился, но понемногу лицо его разгладилось.
– Да, да, – говорил он, как будто разговаривая с самим собой, – всем тварям, по самой их природе, свойственно бежать от смерти. Так почему же не делать сознательно того, что делается по инстинкту?
– Итак, довольны ли вы, ваше величество, моею откровенностью и верите ли, что я сказал вам все?
– Да, Анрио, да, ты хороший малый. И ты думаешь, что те, кто желает тебе зла, еще не угомонились и будут покушаться впредь на твою жизнь?
– Сир, каждый вечер я удивляюсь, что еще живу.
– Они знают, как я тебя люблю, Анрио, поэтому-то они и хотят тебя убить. Но будь спокоен – они понесут наказание за свою злую волю. А теперь ты свободен.
– То есть я могу уехать из Парижа, сир? – спросил Генрих.
– Нет, нет, ты знаешь, я не могу обойтись без тебя. А! Тысяча чертей! Надо же, чтобы при мне был хоть один человек, который меня любит.
– В таком случае, сир, если ваше величество хотите меня оставить при себе, то окажите мне одну милость…
– Какую?
– Оставьте меня здесь не под видом друга, а под видом узника.
– Как узника?
– Да так. Разве вы, ваше величество, не видите, что ваша дружба меня губит?
– И ты желаешь, чтобы я тебя возненавидел?
– Только для вида, сир. В такой ненависти мое спасение: до тех пор пока они будут думать, что я в немилости, они не станут торопиться умертвить меня.
– Не знаю, Анрио, каковы твои желания, – заявил Карл, – не знаю, какая у тебя цель, но если твои желания не осуществятся, если ты не достигнешь поставленной тобой цели – я буду очень удивлен.
– Значит, я могу рассчитывать на то, что король будет относиться ко мне строго?
– Да.
– Тогда я спокоен… Что прикажете сейчас, ваше величество?
– Ступай к себе, Анрио. Я болен; пойду посмотрю своих собак и лягу в постель.
– Сир, – сказал Генрих, – вашему величеству надо было бы позвать врача: ваше сегодняшнее нездоровье, может быть, серьезнее, чем вы думаете.
– Я послал за мэтром Амбруазом Паре.
– Тогда я ухожу, чувствуя себя спокойнее.
– Клянусь душой, Анрио, – сказал король, – из всей моей семьи ты, кажется, один на самом деле меня любишь.
– Это ваше искреннее убеждение, сир?
– Честное слово дворянина.
– Хорошо! В таком случае поручите месье де Нансе стеречь меня, как человека, который настолько прогневил своего короля, что не проживет и месяца: это единственное средство, чтобы я мог любить вас долго.
– Месье де Нансе! – крикнул Карл.
Вошел командир королевской охраны.
– Я отдаю вам на руки, – сказал ему король, – самого важного государственного преступника; вы мне ответите головой за его сохранность.
И Генрих с унылым видом пошел вслед за де Нансе.
III. Актеон
Оставшись один, Карл очень удивился, что к нему не пришел ни один из верных его друзей; а два верных его друга были кормилица Мадлена и борзая Актеон.
«Кормилица, наверное, пошла к какому-нибудь знакомому гугеноту петь псалмы, – подумал он. – Актеон же все еще дуется за то, что я сегодня хлестал его арапником».
Карл взял свечу и прошел к кормилице. Ее не было дома. Читатель, наверное, помнит, что из комнаты Мадлены была дверь в Оружейную палату. Карл подошел к этой двери, но пока он шел, у него опять начались боли, которые вдруг появлялись и потом сразу проходили; сейчас было такое ощущение, точно в его внутренностях ковыряли каленым железом. Неутолимая жажда мучила его; на столе он увидел чашку с молоком, выпил ее залпом и почувствовал облегчение. Затем опять взял свечу, которую поставил до этого на стол, и вошел в Оружейную палату.
К его крайнему изумлению, Актеон не бросился навстречу. Быть может, его заперли? Но тогда, почуяв, что хозяин вернулся с охоты, он стал бы выть. Карл свистел, звал – собака не являлась. Он прошел шага четыре дальше, и, когда свеча осветила дальний угол комнаты, он там увидел на полу неподвижно распростертую собаку.
– Сюда! Актеон! Сюда! – позвал Карл и еще раз свистнул.
Собака оставалась недвижима.
Карл подбежал и прикоснулся к ней: бедное животное уже закоченело. Из ее рта, перекошенного болью, вытекло на пол несколько капель желчи, смешанной с кровавой пенистой слюной. Собака нашла берет Карла и умерла, положив голову на вещь, олицетворявшую для нее хозяина.
Глядя на труп собаки, Карл забыл о своих болях и почувствовал себя бодрее; от ярости кровь закипела у него в жилах, ему хотелось закричать; но короли, скованные собственным величием, не могут поддаваться первому порыву, которым руководится обычный человек в своих страстях или в случае самозащиты. Карл сообразил, что здесь кроется какое-то предательство, и промолчал.
Он встал на колени около собаки и опытным взглядом осмотрел труп. Глаза собаки имели стекловидную окраску, язык был красный и весь в язвинах – заболевание настолько своеобразное, что Карл вздрогнул.
Король взял заткнутые за пояс перчатки, надел их, приподнял посиневшую губу собаки и в промежутках между острыми клыками заметил какие-то застрявшие беловатые кусочки. Вытащив несколько кусочков, он увидел, что это бумага; около бумаги опухоль была сильнее, десны вздулись, а слизистая оболочка разъедена, как купоросом. Он внимательно осмотрел все кругом. На ковре валялись два-три маленьких обрывка бумаги, похожей на ту, какую он обнаружил во рту собаки. На одном обрывке, побольше других, сохранились остатки гравюры. У Карла волосы на голове зашевелились, когда он разглядел эти остатки и узнал изображение соколиного охотника, которое Актеон выдрал из охотничьей книги.
– А-а! Книга была отравлена, – сказал он, побледнев.
И вдруг он вспомнил свое чтение.
– Тысяча чертей! Ведь каждую страницу я трогал своим пальцем и каждый раз его мусолил. Вот откуда мои обмороки, боли, рвота… Я отравлен!
Под гнетом этой страшной мысли Карл на одну минуту замер. Потом вскочил, глухо рыча, и метнулся к двери.
– Мэтра Рене! – крикнул он. – Мэтра Рене, флорентийца! Чтобы сейчас же сбегали на мост Святого Михаила и привели его! Чтобы через десять минут он был здесь. Пусть кто-нибудь скачет туда верхом, возьмет запасную лошадь для Рене и с ним вернется. А если придет мэтр Амбруаз Паре, велите подождать.
Один из телохранителей бросился бегом исполнять приказание.
– О-о! Если понадобится, я велю пытать хоть всех, но узнаю, кто дал эту книгу Анрио.
С каплями пота на лбу и судорожно сжатыми руками Карл стоял на месте, задыхаясь и устремив взгляд на труп собаки. Через десять минут флорентиец робко, не без тревоги, постучался в дверь. Есть люди с такой совестью, что ясной погоды не бывает в их душе.
– Войдите! – сказал Карл.
В дверях показался парфюмер. Карл подошел к нему торжественно, со сжатыми губами.
– Ваше величество требовали меня? – сказал Рене, весь дрожа.
– Вы ведь хороший химик? – спросил король.
– Сир…
– И вы знаете то, что знают лучшие врачи?
– Ваше величество преувеличиваете мои знания.
– Нет, так говорила мне моя матушка. Кроме того, я доверяю вам и предпочитаю посоветоваться с вами, а не с кем– нибудь другим. Вот, – продолжал Карл, указывая на труп собаки, – взгляните, что такое между зубами собаки, и скажите, отчего она издохла?
В то время как Рене, взяв в руку свечку, нагнулся до пола, чтобы исполнить приказание короля и скрыть свое волнение, Карл стоял, не спуская с него глаз, и ждал с понятным нетерпением его слова, которое должно было стать для Карла или смертным приговором, или залогом его выздоровления.
Рене вынул из кармана похожий на скальпель ножик, раскрыл его и кончиком отделил от десен приставшие кусочки бумаги, затем долго и внимательно разглядывал желчь и кровь, сочившиеся из каждой ранки.
– Сир, признаки очень неутешительные, – сказал он с трепетом.
Карл почувствовал, как струя похолодевшей крови пробежала по его жилам и залила сердце.
– Собака была отравлена, да? – спросил он.
– Боюсь, что так, сир.
– А каким ядом?
– Минеральным, как я предполагаю.
– Можете ли вы установить точно, была ли она отравлена?
– Да, конечно, вскрыв и исследовав желудок.
– Вскройте! Я хочу, чтоб у меня не оставалось никаких сомнений.
– Надо будет позвать кого-нибудь помочь мне.
– Я сам вам помогу, – сказал Карл.
– Вы сами, сир?
– Да, сам. А если она отравлена, что мы найдем, какие признаки?
– Красноту и древовидное поражение оболочек.
– Приступим! – сказал Карл.
Рене одним ударом скальпеля вскрыл грудь борзой и сильным нажатием рук раздвинул ее стенки, а Карл светил ему судорожно сжатой, дрожащею рукой.
– Видите, сир, – сказал Рене, – вот явные следы отравы. Вот та краснота, о которой я говорил вам, а вот и кровавые жилки, похожие на разросшийся корень растения, что я и назвал древовидным поражением. Я здесь нашел все, что искал.
– Значит, собака отравлена?
– Да, сир.
– Минеральным ядом?
– По всей вероятности.
– А если бы человек нечаянно проглотил этот яд, что бы он ощущал?
– Сильную головную боль, такое жжение внутри, точно он проглотил горячие уголья, боли во внутренностях, тошноту.
– И жажду? – спросил Карл.
– Неутолимую, – ответил Рене.
– Все так, все так! – прошептал Карл.
– Сир, я не понимаю цели ваших расспросов.
– К чему ее доискиваться? Вам незачем и знать ее. Отвечайте на мои вопросы – и только.
– Спрашивайте, ваше величество.
– Какое противоядие прописывают человеку, проглотившему то же вещество, что и моя собака?
Рене с минуту подумал.
– Есть несколько минеральных ядов, – ответил он. – Прежде чем дать ответ, я хотел бы знать, о каком яде идет речь. Ваше величество имеет представление, каким способом была отравлена собака?
– Да, – сказал Карл, – она съела страницу из одной книги.
– Страницу из книги? – переспросил Рене.
– Да.
– Ваше величество, а эта книга у вас?
– Вот она, – сказал Карл, взяв с полки книгу и показывая ее Рене.
На лице Рене выразилось изумление, что не ускользнуло от короля.
– Она съела страницу из этой книги? – пролепетал Рене.
– Из этой, – ответил Карл и указал место, откуда вырвана страница.
– Разрешите, сир, вырвать еще одну страницу?
– Хорошо.
Рене вырвал страницу и поднес ее к пламени свечи. Бумага вспыхнула, и едкий запах чеснока распространился по всей комнате.
– Книга отравлена составом из мышьяка, – сказал Рене.
– Вы уверены?
– Как если бы ее обрабатывал я сам.
– А какое противоядие?..
Рене отрицательно покачал головой.
– Как? Вы не знаете никакого средства?
– Самое лучшее – яичные белки, взбитые с молоком, но…
– Но… что?
– Но надо было их принять тотчас, а иначе…
– А иначе?..
– Сир, это страшный яд, – еще раз подтвердил Рене.
– Все же он убивает не сразу, – сказал Карл.
– Нет, зато верно: неважно, сколько времени пройдет до смерти; иногда время даже входит в расчеты отравителя.
Карл оперся на мраморный стол.
– Теперь вот что, – сказал он, кладя руку на плечо Рене, – вам знакома эта книга?
– Мне, сир?! – сказал Рене, бледнея.
– Да, вам. При взгляде на нее вы сами себя выдали.
– Сир, клянусь вам…
– Рене, – перебил его король, – послушайте меня хорошенько: вы отравили перчатками королеву Наваррскую; вы отравили дымом лампы принца Порсиан; вы пытались отравить душистым яблоком принца Конде. Рене, я прикажу содрать с вас кожу по кусочкам раскаленными щипцами, если вы мне не скажете, чья это книга.
Флорентиец увидел, что с гневом короля шутить нельзя, и решил взять смелостью.
– А если я скажу правду, сир, кто мне поручится за то, что я не буду наказан еще мучительнее?
– Я.
– Вы мне дадите ваше королевское слово?
– Честное слово дворянина, я сохраню вам жизнь.
– В таком случае – книга принадлежит мне.
– Вам? – воскликнул Карл, отступая назад и глядя на отравителя мутным взглядом.
– Да, мне.
– А как же она ушла из ваших рук?
– Ее взяла у меня ее величество королева-мать.
– Королева-мать! – воскликнул Карл.
– Да.
– С какой целью?
– Мне думается, с целью отнести ее королю Наваррскому, который просил у герцога Алансонского такого рода книгу, чтобы изучить соколиную охоту.
– А! Так, так! – воскликнул Карл. – Мне все понятно! Действительно, книга была у Анрио. От судьбы я не ушел.
В эту минуту сухой, жесткий кашель потряс Карла и снова вызвал боль во внутренностях. Карл глухо вскрикнул раза три и упал в кресло.
– Что с вами, сир? – испуганно спросил Рене.
– Ничего, – ответил Карл. – Мне только хочется пить, дайте мне воды.
Рене налил стакан воды и подал дрожащей рукой Карлу, который и выпил ее залпом.
– Теперь, – сказал король, беря перо и обмакивая его в чернила, – напишите на этой книге.
– Что написать? – спросил Рене.
– То, что я сейчас вам продиктую: «Это руководство к соколиной охоте дано мною королеве-матери, Екатерине Медичи».
Рене взял перо и написал.
– А теперь подпишитесь.
Флорентиец подписался.
– Вы обещали сохранить мне жизнь, – сказал парфюмер.
– Что касается меня, я сдержу свое слово.
– А что касается королевы-матери? – спросил Рене.
– А что касается ее, то не касается меня. Если на вас нападут, защищайтесь сами.
– Сир, если я увижу, что моей жизни грозит опасность, могу ли я уехать из Франции?
– Я дам ответ вам через две недели.
– А до этого…
Сдвинув брови, Карл приложил палец к бледным губам.
– О, будьте покойны, сир!
И, довольный тем, что отделался так дешево, флорентиец сделал поклон и вышел.
Сейчас же в дверях своей комнаты появилась кормилица.
– Что с тобой, милый Шарло?
– Кормилица, я походил по росе, и мне плохо.
– Правда, ты очень побледнел, Шарло.
– Я очень ослабел. Дай мне руку и доведи меня до моей кровати.
Кормилица подбежала к нему; Карл оперся на нее и добрался до своей опочивальни.
– Теперь я сам улягусь, – сказал Карл.
– А если придет мэтр Амбруаз Паре?
– Скажи ему, что мне стало лучше и он не нужен.
– А что тебе дать сейчас?
– Да самое простое лекарство, – ответил Карл, – яичные белки, взбитые с молоком. Кстати, кормилица, бедный Актеон издох. Надо завтра утром похоронить его где-нибудь в луврском саду. Это был мой лучший друг… Я поставлю ему памятник… если успею.
IV. Венсенский лес
На основании приказа Карла IX в тот же вечер Генрих Наваррский был препровожден в Венсенский лес. Так звали в те времена известный замок, от которого теперь остались лишь развалины, но даже они настолько грандиозны, что дают представление о былом его величии.
Генриха перенесли туда в крытых носилках; с каждой стороны их шли четыре стража, а впереди ехал верхом де Нансе, имея при себе королевский приказ, открывавший Генриху двери темницы – его убежища.
Перед подземным ходом в твердыню замка – его большую башню – процессия остановилась. Де Нансе слез с лошади, открыл дверцы носилок, запертые на замок, и почтительно предложил королю Наваррскому выйти. Генрих вышел без всяких разговоров – любое место жительства казалось ему надежнее, чем Лувр; десять дверей, затворяясь вслед за ним, отделяли его от Екатерины Медичи.
Августейший узник перешел через подъемный мост, охраняемый двумя солдатами-часовыми, прошел в три двери нижней части башни и в три двери нижней части лестницы, затем, предшествуемый де Нансе, поднялся на один этаж. Генрих собрался идти по лестнице и выше, но командир королевской охраны остановил его, сказав:
– Ваше величество, остановитесь здесь.
– Ага! Как видно, меня удостаивают второго этажа, – сказал Генрих.
– Сир, к вам относятся как к венценосной особе.
«Черт их возьми! – подумал Генрих. – Два-три этажа выше меня бы не унизили ничуть. Тут слишком хорошо, и это может вызвать подозрения».
– Ваше величество, не желаете ли последовать за мной? – спросил де Нансе.
– Святая пятница! Вам очень хорошо известно, месье, как мало значит здесь то, что я желаю и чего я не желаю; здесь значит лишь приказ моего брата Карла. Есть приказ – следовать за вами?
– Да, сир.
– В таком случае, месье, я следую за вами.
Они пошли по длинному проходу вроде коридора, пересекавшему просторный зал с темными стенами, который имел крайне мрачный вид.
Генрих не без тревожного чувства осмотрелся.
– Где мы? – спросил он.
– Мы проходили, ваше величество, по допросной палате.
– А-а! – произнес король Наваррский и стал разглядывать внимательнее.
В палате было всего понемногу: воронки и станки для пытки водой, клинья и молоты для пыток испанскими сапогами; кругом, вдоль стен почти всей комнаты, шли каменные сиденья для несчастных, ожидавших пытки, а около сидений – на их уровне и выше и ниже их – были вделаны в стены железные кольца, но не симметрично, а соответственно роду пытки. Сама близость этих колец к сиденьям указывала их назначение – привязывать к ним части тела тех, кто будет занимать эти места.
Генрих пошел дальше, не сказав ни слова, но и не упустив ни одной подробности этого мерзкого устройства, так сказать, запечатлевшего на этих стенах повесть о человеческих страданиях.
Внимательно разглядывая окружающее, Генрих не посмотрел под ноги и споткнулся.
– А это что такое? – спросил он, указывая на какой-то желоб, выдолбленный в сыром каменном настиле, заменявшем собою пол.
– Это сток, сир.
– Разве здесь идет дождь?
– Да, сир, кровавый.
– Ага! Прекрасно, – сказал Генрих. – Мы еще не скоро дойдем до моей комнаты?
– Вы уже пришли, ваше величество, – сказал какой-то призрак, смутно рисовавшийся в полутьме, но становившийся по мере приближения все более определенным и реальным. Генриху показался знакомым этот голос, а сделав несколько шагов, он узнал и самого человека.
– Ба! Да это вы, Болье! – сказал Генрих. – Какого черта вы здесь делаете?
– Сир, я только что получил назначение коменданта Венсенской крепости.
– Ваш дебют делает вам честь: вы сразу получили узника-короля. Это неплохо.
– Простите, сир, – ответил Болье, – раньше вас я принял двух дворян.
– Каких? Ах, простите, я, может быть, нескромен? В таком случае условимся, что я не спрашивал.
– Ваше величество, у меня нет предписания соблюдать относительно них тайну. Это месье де Ла Моль и месье де Коконнас.
– А, верно! Я видел, что их забрали. Как эти бедные дворяне переносят свое несчастье?
– Совершенно по-разному: один весел, другой печален; один поет, другой вздыхает.
– Какой же вздыхает?
– Месье де Ла Моль, сир.
– Мне более понятен тот, что вздыхает, чем тот, который распевает. Судя по тому, что я видел, тюрьма – место вовсе не веселое. А на каком этаже их поместили?
– На пятом, самом верхнем.
Генрих вздохнул. Ему самому хотелось попасть туда.
– Так покажите мне, месье Болье, мою комнату; я потому тороплюсь попасть в нее, что очень устал за этот день.
– Пожалуйста, ваше величество, – сказал Болье, указывая на растворенную дверь.
– Номер второй, – сказал Генрих. – А почему не номер первый?
– Он уже предназначен, ваше величество.
– Ага! Как видно, вы ждете узника познатнее меня.
– Я не сказал, ваше величество, что этот номер предназначен для узника.
– А для кого же?
– Вашему величеству лучше не настаивать на моем ответе, так как я буду вынужден промолчать и тем самым не оказать вам должного повиновения.
– Ну, это другое дело, – сказал Генрих и еще больше задумался, чем прежде: видимо, номер первый очень занимал его.
Впрочем, комендант не изменил своей первоначальной вежливости. Со всевозможными ораторскими оговорками он поместил Генриха в его комнату, всячески извинялся за могущие оказаться неудобства, поставил двух солдат у его двери и ушел.
– Теперь пойдем к другим, – сказал комендант слуге-тюремщику.
Впереди пошел слуга-тюремщик, и они двинулись в обратный путь, прошли допросную палату, коридор и очутились опять у лестницы; следуя за своим проводником, Болье поднялся на три этажа.
Оказавшись таким образом на пятом этаже, тюремщик открыл одну за другой три двери, из которых каждая запиралась двумя замками и тремя огромными засовами. Когда он начал отпирать третью дверь, из-за нее послышался веселый голос:
– Эй! Дьявольщина! Отпирайте поскорее, хотя бы для того, чтобы проветрить. Ваша печка до того нагрелась, что задохнешься.
И Коконнас, которого читатель уже признал по его любимому ругательству, одним прыжком очутился у двери.
– Одну минутку, дорогой дворянин, – сказал тюремщик, – я пришел не для того, чтобы вас вывести, а чтобы войти самому, а за мной идет комендант.
– Комендант? Зачем? – спросил Коконнас.
– Навестить вас.
– Он делает мне много чести. Милости просим! – ответил Коконнас.
Болье вошел и сразу уничтожил сердечную улыбку Коконнаса ледяной учтивостью, присущей комендантам, тюремщикам и палачам.
– Есть у вас деньги, месье?
– У меня? Ни одного экю, – ответил Коконнас.
– Драгоценности?
– Одно кольцо.
– Разрешите вас обыскать?
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас, краснея от гнева. – Ваше счастье, что я и вы в тюрьме.
– Все допустимо, раз служишь королю.
– Так, значит, – ответил пьемонтец, – те почтенные люди, которые грабят на Новом мосту, служат королю так же, как вы? Дьявольщина! Оказывается, месье, я до сих пор был очень несправедлив, считая их ворами.
– Привет мой вам, месье, – сказал Болье. – Тюремщик, заприте месье Коконнаса.
Комендант ушел, взяв у пьемонтца перстень с прекрасным изумрудом, который подарила ему герцогиня Невэрская на память о своих глазах.
– К другому, – сказал комендант.
Они миновали одну пустую камеру и опять привели в действие три двери, шесть замков и девять засовов. Когда последняя дверь отворилась, посетителей встретил только вздох.
Камера была еще унылее той, откуда сейчас вышел комендант. Четыре длинные узкие бойницы с решеткой прорезывали стену, все уменьшаясь изнутри наружу, и слабо освещали это печальное жилище. В довершение всего железные прутья перекрещивались в них так часто, что глаз повсюду натыкался на тусклые линии решетки и узник даже сквозь бойницы не видел неба. Готические нервюры, выходя из каждого угла, постепенно сближались к середине потолка и переходили там в розетку.
Ла Моль сидел в углу и, несмотря на приход посетителей, даже не шевельнулся, как будто ничего не слышал.
– Добрый вечер, месье де Ла Моль, – сказал Болье.
Молодой человек медленно приподнял голову.
– Добрый вечер, месье, – ответил он.
– Месье, я пришел вас обыскать, – продолжал комендант.
– Не нужно, – ответил Ла Моль, – я вам отдам все, что у меня есть.
– А что у вас есть?
– Около трехсот экю, вот эти драгоценности и кольца.
– Давайте, месье, – сказал комендант.
– Возьмите.
Ла Моль вывернул карманы, снял кольца и вырвал из шляпы пряжку.
– Больше нет ничего?
– Ничего, насколько мне известно.
– А что это на шелковой ленточке висит у вас на шее? – спросил Болье.
– Это не драгоценность, это образок.
– Дайте.
– Вы требуете даже это?
– Мне приказано не оставлять вам ничего, кроме одежды, а образок – не одежда.
Ла Моль чуть не набросился на тюремщиков, и гневный порыв человека, отличавшегося своею благородной, тихой скорбью, показался страшным даже этим людям, привыкшим к бурным проявлениям чувств.
Но Ла Моль тотчас взял себя в руки.
– Хорошо, – сказал он, – я сейчас покажу вам эту вещь.
Сделав вид, что поворачивается к свету, он отвернулся, вытащил мнимый образок, представлявший собой не что иное, как медальон, где вставлен был чей-то портрет, вынул портрет из медальона, несколько раз поцеловал, затем как бы нечаянно уронил его на пол и, ударив по нему изо всех сил каблуком, разбил на мельчайшие кусочки.
– Месье!.. – воскликнул комендант.
Он нагнулся и посмотрел, не осталось ли в целости чего-нибудь от неизвестного предмета, который собирался утаить от него Ла Моль, но миниатюра была разбита вдребезги.
– Королю нужна драгоценная оправа, – сказал Ла Моль, – но у него нет никаких прав на портрет, который был в нее вставлен. Вот вам медальон, можете его взять.
– Месье, я пожалуюсь на вас королю.
И, не сказав ни слова на прощание, комендант вышел в таком раздражении, что оставил тюремщика одного запирать двери.
Тюремщик пошел было к выходу, но, увидев, что Болье сходит с лестницы, вернулся и сказал Ла Молю:
– Как хорошо я сделал, месье, что сразу же предложил дать мне сто экю за то, что я устрою вам разговор с вашим товарищем, иначе комендант забрал бы их вместе с этими тремястами, а уж тогда бы совесть мне не позволила сделать что-нибудь для вас; но вы заплатили мне вперед, а я вам обещал свидание с вашим другом… Идемте… у честного человека слово крепко. Только по возможности, и ради себя, и ради меня, не говорите о политике.
Ла Моль вышел вместе с ним и очутился лицом к лицу с пьемонтцем, ходившим взад и вперед широкими шагами по своей камере.
Они бросились в объятия друг другу.
Тюремщик сделал вид, что утирает набежавшую слезу, и вышел сторожить, как бы кто не застал узников вместе, а больше для того, чтобы не попасться самому.
– А-а! Вот ты наконец! – воскликнул Коконнас. – Этот противный комендант заходил к тебе?
– Как и к тебе, надо думать.
– И отобрал у тебя все?
– Как и у тебя.
– Ну, у меня-то было немного – только перстень Анриетты, вот и все.
– А наличные деньги?
– Все, что у меня было, я отдал этому доброму тюремщику за то, чтоб он устроил нам свидание.
– Выходит, что он брал обеими руками, – сказал Ла Моль.
– А ты тоже заплатил?
– Я дал ему сто экю.
– Очень хорошо, что наш тюремщик негодяй!
– Конечно, за деньги с ним можно будет делать что угодно, а есть надежда, что в деньгах у нас не будет недостатка.
– Теперь скажи: ты понимаешь, что с нами произошло?
– Вполне… Нас предали.
– И предал этот гнусный герцог Алансонский; недаром мне хотелось свернуть ему шею.
– По-твоему, дело наше серьезное?
– Боюсь, что да.
– Так что можно опасаться… пытки?
– Не скрою от тебя, что я об этом уже думал.
– Что ты будешь говорить, если дело дойдет до этого?
– А ты?
– Я буду молчать, – ответил Ла Моль, густо краснея.
– Не скажешь ничего?
– Да, если хватит сил.
– Ну, а я, – сказал Коконнас, – если со мной учинят такую подлость, наговорю хорошеньких вещей! Это уж наверняка.
– Каких вещей? – с тревогой спросил Ла Моль.
– О, будь покоен, только таких, от которых герцог Алансонский на некоторое время лишится сна.
Ла Моль хотел ответить, но в это время прибежал тюремщик, вероятно, услышавший какой-то шум, втолкнул того и другого в их камеры и запер.
V. Восковая фигурка
Карл уже семь дней не вставал с постели, томясь от лихорадочного жара, который перемежался сильными припадками, напоминавшими падучую болезнь. Иногда во время таких припадков у него вырывались крики, похожие на вой, пугавший стражу в передней комнате и гулко разносившийся по Лувру, уже взволнованному зловещим слухом. Когда припадки проходили, Карл, совершенно разбитый, с угасшим взором, падал на руки кормилицы, храня молчание, в котором чувствовалось и презрение к людям, и скрытый страх перед роковым концом.
Рассказывать о том, как мать и сын – Екатерина Медичи и герцог Алансонский, – не поверяя друг другу своих чувств, не встречаясь и даже избегая друг друга, каждый в одиночку вынашивали в голове свои злокозненные мысли, рассказывать об этом – все равно что описывать тот омерзительный живой клубок, который копошится в гнезде гадюки.
Генрих Наваррский сидел в заключении, и на свидание с ним, по его личной просьбе к Карлу, не давалось разрешения никому, даже Маргарите. В глазах всех это являлось признаком опалы. Екатерина и герцог Алансонский дышали свободнее, считая Генриха погибшим, а Генрих ел и пил спокойнее, надеясь, что о нем забыли.
При дворе ни один человек не подозревал об истинной причине болезни короля. Амбруаз Паре и его коллега Мазилло, приняв следствие за причину, определяли воспаление желудка и только. На основании этого они прописывали мягчительные средства, лишь помогавшие действию того особого питья, которое назначил королю Рене. Карл принимал его из рук кормилицы три раза в день, оно же составляло и главное питание больного.
Ла Моль и Коконнас содержались в Венсенском замке под самым бдительным надзором. Маргарита и герцогиня Невэрская раз десять пытались проникнуть к ним или по крайней мере передать им записку, но безуспешно.
Карл, при постоянных колебаниях его здоровья то к лучшему, то к худшему, почувствовав себя однажды утром немного лучше, велел впустить к себе весь двор, который, по обычаю, являлся каждое утро ко времени вставания короля, хотя сама церемония этого обряда была отменена. Двери растворились, и все могли заметить – по бледности щек, по желтизне лба цвета слоновой кости, по лихорадочному блеску ввалившихся и обведенных черными кругами глаз – то страшное разрушение, какое произвела в юном монархе постигшая его болезнь.
Королевская опочивальня быстро наполнилась любопытными придворными. О том, что король принимает, известили Екатерину, герцога Алансонского и Маргариту. Все трое пришли порознь, один вслед за другим. Екатерина уселась у изголовья сына, не замечая взгляда, каким он ее встретил. Герцог Алансонский встал у изножья кровати. Маргарита прислонилась к столу и, посмотрев на бледный лоб, исхудалое лицо и провалившиеся глаза своего брата, тяжело вздохнула и прослезилась.
Карл, все замечавший, увидел ее слезы, услышал ее вздох и незаметно сделал Маргарите знак головой. Этот едва заметный жест успокоил Маргариту, которую Генрих не успел предупредить, а может быть, и не хотел предупреждать, и лицо ее прояснилось. Она боялась за мужа и трепетала за возлюбленного. За себя ей нечего было опасаться: она слишком хорошо знала Ла Моля и была уверена, что может положиться на него.
– Как чувствуете себя, сын мой? – спросила Екатерина.
– Лучше, матушка.
– А что говорят ваши врачи?
– Мои врачи! О, это великие ученые! – сказал Карл, расхохотавшись. – Для меня высшее удовольствие слушать их рассуждения о моей болезни. Кормилица, дай мне попить.
Кормилица принесла в чашке обычное его питье.
– Что же они дают вам принимать, сын мой?
– Мадам, ну кто же знает их кухню? – ответил Карл и с жадностью выпил принесенное питье.
– Самое лучшее для моего брата, – сказал герцог Алансонский, – было бы встать и выйти на солнце; брат так любит охоту, что она подействует на него очень хорошо.
– Да, – подтвердил Карл с усмешкой, значение которой осталось непонятным герцогу, – только в последний раз она подействовала на меня очень плохо.
Карл произнес эту фразу таким тоном, что разговор, в котором не принимали участия другие, на этом оборвался. Карл кивнул головой; придворные поняли, что прием закончен, и один за другим вышли. Герцог Алансонский хотел было подойти к брату, но какое-то неосознанное чувство его остановило. Он только поклонился и тоже вышел.
Маргарита бросилась к брату, схватила его костлявую руку, сжала ее в своих руках, поцеловала и ушла.
– Милая Марго! – прошептал Карл.
Екатерина продолжала сидеть у изголовья. Оставшись с ней вдвоем, Карл отодвинулся к противоположной стороне кровати под влиянием того же чувства, какое заставляет вас невольно отступить перед змеей. Благодаря признаниям Рене, а, пожалуй, еще больше благодаря размышлению в тишине и одиночестве у Карла не осталось даже такого успокоительного средства, как сомнение.
– Вы остаетесь, мадам? – спросил он.
– Да, сын мой, – ответила Екатерина, – мне надо поговорить с вами о важных вещах.
– Говорите, мадам, – сказал Карл, отодвигаясь еще дальше.
– Сир, вы сейчас говорили, что ваши врачи – великие ученые…
– Я это подтверждаю, мадам.
– Какую пользу принесли они с начала вашей болезни?
– По правде говоря, никакой… но если бы вы слышали, что они говорили… Честное слово, мадам, стоит заболеть, чтобы послушать их ученые рассуждения.
– Так разрешите, сын мой, сказать вам одну вещь?
– Ну конечно! Говорите, матушка.
– Я сильно подозреваю, что ваши великие ученые ровно ничего не понимают в вашей болезни.
– В самом деле, мадам?
– Да, они видят только следствия, а не причину.
– Возможно, мадам.
– Таким образом, они лечат симптомы, а не саму болезнь.
– Клянусь душой, матушка, – ответил изумленный Карл, – по-моему, вы правы!
– И вот, поскольку ваша длительная болезнь претит и моим материнским чувствам, и благу государства, а кроме того, принимая во внимание, что болезнь может вредно отразиться на вашем моральном состоянии, я собрала самых крупных ученых.
– В медицине, мадам?
– Нет, в науке более глубокой, в науке, которая дает возможность познавать не только тело, но и душу.
– Прекрасная наука, мадам, – сказал Карл, – как жаль, что этому не обучают королей! И что же? Ваши изыскания привели к какому-нибудь результату?
– Да.
– К какому же?
– К тому, какого я и ожидала. Теперь я принесла вам средство, которое наверно исцелит и ваше тело, и ваш дух.
Карл вздрогнул. Ему пришло в голову: не находит ли мать, что он умирает слишком долго, и потому решила сознательно закончить начатое неумышленно злодейство.
– А на что оно действует? – спросил Карл, приподнимаясь на локте и глядя на Екатерину.
– На самую причину болезни, – ответила она.
– А в чем причина болезни?
– Выслушайте меня, сын мой, – сказала Екатерина. – Вы когда-нибудь слышали о том, что бывают тайные враги, которые убивают на расстоянии жертву своей мести?
– Железом или ядом? – спросил Карл, ни на секунду не спуская глаз с бесстрастного лица Екатерины.
– Нет, другими средствами, но не менее надежными и не менее страшными.
– Расскажите.
– Верите вы, сын мой, в действие каббалистики и магии? – спросила флорентийка.
– Очень, – ответил Карл.
– Так вот – оттуда ваша болезнь и ваши страдания, – радостно заговорила Екатерина. – Враг вашего величества, не смея покуситься на вас прямо, замыслил погубить вас тайно. Против особы вашего величества он направил заговор, страшный в особенности тем, что в нем не было сообщников, и потому таинственные нити заговора оставались до сих пор неуловимы.
– Нет, нет! – ответил Карл, возмущенный таким лицемерием Екатерины.
– А вы поищите получше, сын мой, – сказала Екатерина, – вспомните некоторые попытки к бегству, которое должно было обеспечить безнаказанность убийце.
– Убийце?! – воскликнул Карл. – Вы говорите – убийце?! Стало быть, по-вашему, меня пытались убить?
Екатерина притворно закатила глаза, блестевшие кошачьим блеском, под верхние морщинистые веки.
– Да, сын мой, вы можете, конечно, сомневаться, но я-то знаю наверно.
– Я никогда не сомневаюсь в том, что говорите вы, – язвительно сказал король. – Очень любопытно знать, каким же способом хотели меня убить?
– Если бы заговорщик, которого я назову… Да в глубине души вы, ваше величество, и сами его себе уже назвали… Если бы он, выставив свои батареи и уверенный в успехе, успел бежать, может быть, никто и никогда бы не узнал причину болезни вашего величества; но, к счастью, сир, вас оберегал ваш брат.
– Какой брат? – спросил Карл.
– Ваш брат Франсуа.
– Ах да! Правда, я все забываю, что у меня есть брат, – с горьким смехом сказал Карл. – Так вы говорите, мадам…
– Я говорю, что, к счастью, он раскрыл вашему величеству внешние проявления заговора. Но, как мальчик еще неопытный, он искал лишь следы обычного заговора и доказал только проделку молодого человека; я же искала доказательств гораздо большего злодейства, так как я знаю, какой ум у этого преступника.
– Вот как! А ведь похоже на то, матушка, что вы имеете в виду короля Наваррского? – спросил Карл, желая знать, до каких пределов дойдет ее флорентийское притворство.
Екатерина лицемерно потупила глаза.
– Помнится, я велел его арестовать и посадить в Венсенский замок за ту проделку, о которой вы упомянули; а значит, он оказался еще преступнее, чем я думал?
– Вы чувствуете, как вас съедает лихорадка? – спросила Екатерина.
– Конечно, мадам, – ответил Карл, сдвинув брови.
– Чувствуете вы жар, который жжет вам внутренности?
– Да, мадам, – ответил Карл, все более мрачнея.
– А острые боли в голове, которые как стрелы ударяют вам в глаза и через них проникают в мозг?
– Да, да, мадам! Все это я чувствую, и даже очень! О-о! Вы отлично описываете мою болезнь!
– А достигается все это очень просто, – ответила флорентийка. – Взгляните…
Она вытащила из-под мантии какой-то предмет и подала королю.
Это была фигурка из желтоватого воска вышиною дюймов в шесть. На фигурке надето было платье с золотыми звездочками, а поверх платья – королевская мантия, все из воска.
– При чем тут эта статуэтка? – спросил Карл.
– Посмотрите, что у нее на голове? – сказала Екатерина.
– Корона, – ответил Карл.
– А в сердце?
– Иголка.
– Вы разве не узнаете в этом самого себя?
– Меня?
– Да, вас, в короне и мантии.
– А кто сделал фигурку? – спросил Карл, утомленный этой комедией. – Разумеется, король Наваррский?
– Совсем нет, сир.
– Нет?! Тогда я вас не понимаю.
– Я говорю «нет», – возразила Екатерина, – так как иначе ваше величество могли бы понять, что он сделал ее сам. Но если бы ваше величество поставили вопрос по-другому, я бы сказала – «да».
Карл не ответил. Он пытался проникнуть в мысли этой темной души, которая все время закрывалась от него в то самое мгновение, когда он был уже готов прочесть, что в ней таится.
– Сир, – продолжала Екатерина, – благодаря стараниям главного прокурора Лягеля эта статуэтка была найдена в комнате человека, который во время соколиной охоты держал наготове запасную лошадь для короля Наваррского.
– У месье де Ла Моля? – спросил Карл.
– У него самого! И будьте добры, взгляните еще раз на стальную иглу, которая прокалывает сердце, и посмотрите, какая буква написана на привязанной к ней бумажке.
– Я вижу букву М , – ответил Карл.
– Это значит – смерть, такова магическая формула. Посягатель пишет, с какою целью он наносит ранку статуэтке. Если бы он хотел навлечь безумие, как это сделал герцог Бретонский с Карлом Шестым, он бы вонзил иголку в голову и вместо М написал Ф . [42]
– Итак, – сказал Карл IX, – по вашему мнению, мадам, на мою жизнь посягал Ла Моль?
– Да… Постольку поскольку кинжал посягает на чье-нибудь сердце, но ведь кинжал направляет какая-то рука.
– Так это и есть причина моей болезни? Значит, как только чары будут уничтожены, болезнь моя пройдет? Но каким образом этого достичь? – спрашивал Карл. – Вы моя добрая мать, вы-то, конечно, знаете – как? Вы всю жизнь занимались этим делом, а я, не в пример вам, очень невежествен в каббалистике и магии.
– Со смертью посягателя чары его теряют силу; и как только его смерть разрушит чары, в тот же день пройдет болезнь. Все очень просто, – сказала Екатерина.
– Вот как? – удивленно спросил Карл.
– Да; неужели вы этого не знаете?
– Я не колдун, – ответил Карл.
– Но теперь вы убедились, что это так?
– Конечно.
– И ваше беспокойство теперь исчезнет?
– Вполне.
– Это вы говорите из любезности?
– Нет, матушка, от души.
Екатерина повеселела.
– Слава богу! – воскликнула она, как будто веря в бога.
– Да, слава богу! – иронически повторил Карл. – Теперь я знаю, кто виновник моего недуга и кого надо наказать.
– Мы и накажем…
– Месье де Ла Моля: ведь вы сказали, что виновник – он?
– Я сказала, что он – орудие.
– Хорошо, сначала Ла Моля – он самый важный, – ответил Карл. – Все эти болезненные приступы, которым я подвержен, могут вызвать при дворе опасные подозрения. Требуется спешно пролить на это дело свет и открыть истину.
– Итак, месье де Ла Моль…
– Да, – перебил ее Карл, – он вполне подходит как виновник. Я согласен, начнем с него; а если у него есть сообщник, так он его выдаст.
«Да, – сказала про себя Екатерина, – а если сам не выдаст, так его заставят это сделать. У нас для этого есть средства, которые действуют безотказно».
Затем она встала и спросила Карла:
– Вы разрешите, сир, приступить к следствию?
– И как можно скорее, я очень этого хочу, – ответил Карл.
Екатерина пожала руку сыну, не поняв, почему так дрогнула его рука, когда он пожимал ей руку, и вышла, не слыша раздавшегося ей вслед язвительного смеха, а за ним – ужасного ругательства.
Карл сейчас же спохватился: не опасно ли предоставлять свободу действия подобной женщине, которая в несколько часов натворит такого, чего уже не поправишь?
Но в ту минуту, когда Карл, следя глазами за уходившей матерью, убедился, что портьера за ней опустилась, он услышал сзади себя какой-то шорох и, обернувшись, увидел Маргариту, которая приподняла ковер, закрывавший проход в комнату кормилицы.
Бледность, блуждающий взор, тяжело дышавшая грудь выдавали сильное волнение Маргариты.
– О сир, сир! – воскликнула Маргарита, кидаясь к ложу брата. – Вы же знаете, что она лжет!
– Кто «она»? – спросил Карл.
– Слушайте, Шарль! Это, разумеется, ужасно – обвинять собственную мать! Но я подозревала, что она осталась у вас недаром, а с целью погубить их окончательно. Клянусь вам душой моей и душой вашей, душою нас обоих, что она лжет!
– Погубить?! Кого она хочет погубить?..
Оба инстинктивно говорили шепотом, точно боялись услышать самих себя.
– Прежде всего вашего Анрио, который вас любит, предан вам больше всех.
– Ты так думаешь, Марго?
– О сир, я в этом уверена.
– И я тоже, – ответил Карл.
– Брат, если вы в этом уверены, – с удивлением сказала Маргарита, – почему же вы приказали его арестовать и посадить в Венсенский замок?
– Потому что он сам просил об этом.
– Он сам просил, сир?
– Да, у Анрио своеобразные мысли. Может быть, он прав: одно из его соображений заключается в том, что ему безопаснее находиться в моей немилости, чем в милости, дальше от меня, чем ближе, в Венсенском замке, чем в Лувре.
– Ага! Понимаю, – сказала Маргарита. – Так он там в безопасности?
– Еще бы! Что может быть безопаснее, если Болье отвечает головой за его жизнь.
– О, спасибо, брат мой, спасибо за Генриха! Но…
– Но что?
– Там есть еще другой человек, сир… и, может быть, с моей стороны это проступок, но я очень озабочена его судьбой.
– А кто он?
– Сир, пожалейте меня… я едва решусь назвать его моему брату… и не посмею произнести его имя королю.
– Месье де Ла Моль, наверно? – спросил Карл.
– Увы, да! – ответила Маргарита, – Когда-то вы собирались его убить, сир, и только чудом он избег вашей королевской мести.
– Так было, Маргарита, когда он совершил только одно преступление; а теперь, когда за ним числятся два…
– Сир, во втором он неповинен.
– Бедная Марго, ты разве не слышала, что говорила наша милая матушка?
– О Шарль, я же сказала, что она лжет, – ответила Маргарита, понизив голос.
– Вам, может быть, неизвестно о существовании некоей восковой фигурки, изъятой у месье де Ла Моля?
– Известно, брат мой.
– И то, что эта фигурка проткнута иглой в сердце, и то, что к этой иголке прикреплен флажок с буквой М ?
– И это знаю.
– И то, что у этой фигурки на плечах королевская мантия, а на голове корона?
– Все знаю.
– И что скажете на это?
– Скажу, что эта фигурка с королевской мантией на плечах и с короной на голове изображает женщину, а не мужчину.
– Вот что! – сказал Карл. – А игла, пронзающая сердце?
– Это чародейство, чтобы пробудить к себе любовь женщины, а не злодейство, чтобы причинить смерть человеку.
– А буква М ?
– Она обозначает вовсе не «смерть», как утверждает королева-мать.
– Что же она обозначает? – спросил Карл.
– Она обозначает… обозначает имя женщины, которую любил Ла Моль.
– А как зовут ее?
– Братец, ее зовут Маргарита, – сказала королева Наваррская, падая на колени перед ложем короля; она охватила своими руками его руку и прижала к ней залитое слезами лицо.
– Тише, сестра! – говорил Карл, бросая вокруг сверкающие взоры из-под сдвинутых бровей. – Ведь если слышали вы, то и вас могут услыхать!
– Все равно! – ответила Маргарита, подняв голову. – Пусть меня слышит хоть весь свет! Я перед всем светом заявлю, что подло, воспользовавшись любовью дворянина, марать его честное имя подозрением в убийстве.
– Марго, а если я тебе скажу: я знаю так же хорошо, как ты, что правда и что неправда?
– Брат?!
– Если я тебе скажу, что Ла Моль невинен?
– Вы это знаете?
– Если я тебе скажу, кто истинный виновник?
– Истинный виновник?! – воскликнула Маргарита. – Так, значит, преступление все же было?
– Да. Вольно или невольно, но преступление совершено.
– Против вас?
– Против меня.
– Не может быть!
– Не может быть?… Посмотри на меня, Марго.
Маргарита вгляделась в брата и даже вздрогнула, увидев, до какой степени он бледен.
– Марго, мне не прожить и трех месяцев, – сказал Карл.
– Вам, брат мой?! Тебе, мой Шарль?! – воскликнула сестра.
– Меня отравили, Марго.
Маргарита вскрикнула.
– Молчи, – сказал Карл, – необходимо, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства.
– А вы знаете виновника?
– Знаю.
– Вы сказали, что это не Ла Моль?
– Нет, не он.
– Конечно, и не Генрих!.. Великий боже! Неужели это…
– Кто?
– Мой брат… Франсуа?.. – прошептала Маргарита.
– Возможно.
– Или же, или же… – Маргарита понизила голос, точно сама испугавшись того, что сейчас скажет, – или же… наша мать?..
Карл промолчал.
Маргарита посмотрела на него, прочла в его взгляде утвердительный ответ и, упав снова на колени, бессильно прислонилась к сиденью кресла.
– Боже мой! Боже мой! – шептала она. – Это немыслимо!
– Немыслимо! – сказал Карл с визгливым смехом. – Жаль, что здесь нет Рене, а то бы он рассказал тебе целую историю.
– Рене?
– Да. Он рассказал бы, например, как одна женщина, которой он ни в чем не смеет отказать, попросила у него охотничью книгу из его библиотеки; как каждую страницу этой книги пропитала сильным ядом; как этот яд, предназначенный не знаю для кого, проник, игрою случая или божьим попущением, в другого, а не в того, кому предназначался… Но Рене здесь нет, а если хочешь взглянуть на эту книгу, то она там, в моей Оружейной; на ее страницах осталось столько яду, что хватит уморить еще двадцать человек, а надпись, сделанная рукою флорентийца, тебе скажет, что книга дана им лично соотечественнице.
– Тише, Шарль, тише! – сказала Маргарита.
– Теперь ты сама видишь, как важно, чтобы все думали, будто я умираю от колдовства.
– Но это же несправедливо, это ужасно! Пощадите! Пощадите! Вы же знаете, что он невинен!
– Да, знаю, но надо, чтобы он был виновен. Переживи смерть своего возлюбленного: это ничто в сравнении с честью французского королевского дома. Ведь я переживаю свой конец безмолвно, чтобы со мной умерла и тайна.
Маргарита поникла головой, поняв, что от короля нельзя ждать спасения Ла Моля, и вышла вся в слезах, не возлагая больше надежды ни на кого, кроме самой себя.
Как и предвидел Карл, Екатерина не потеряла ни минуты; она сейчас же написала главному королевскому прокурору Лягелю письмо, которое, сохранившись в летописях истории дословно, бросает кровавый свет на все это дело:
...
«Господин прокурор, сегодня вечером мне сказали, что Ла Моль совершил святотатство. В его городской квартире найдено много предосудительных бумаг и книг. Прошу вас вызвать председателя суда и как можно скорее приступить к следствию по делу о восковой фигурке, пронзенной в сердце, – деяние, направленное им против короля.
Екатерина».
VI. Незримые щиты
На другой же день после письма Екатерины комендант Венсенского замка вошел к Коконнасу в самом внушительном окружении, состоявшем из двух алебардщиков и четырех личностей в черном одеянии.
Заключенному предложили сойти в залу, где его ждали прокурор Лягель и двое судей, чтобы произвести допрос на основании инструкций, данных Екатериной.
За неделю, проведенную в тюрьме, пьемонтец многое обдумал; каждый день он ненадолго виделся с Ла Молем благодаря усердию их тюремщика, который, ничего не говоря, делал им этот неожиданный подарок, – по всей вероятности, не только ради человеколюбия; но, кроме этих встреч с Ла Молем, когда они согласовали свое поведение на суде, решив отрицать все, Коконнас убедил себя, что при известной ловкости дело его примет хороший оборот; обвинения против них лично были не более серьезны, чем обвинения против других. Генрих и Маргарита не сделали никакой попытки к бегству – следовательно, ни Ла Моля, ни его нельзя было изобличать в таком деле, где главные виновники его остались на свободе. Коконнас не знал, что король Наваррский находился в том же замке, а любезность их тюремщика внушила ему мысль, что над его головой простерлись какие-то защитные покровы, и он назвал их «незримыми щитами».
До сих пор все допросы касались намерений короля Наваррского, планов бегства и того участия, какое должны были принять в этом бегстве оба друга. На все подобные вопросы Коконнас отвечал более чем туманно и очень ловко. Он и на этот раз готовился ответить в том же духе, заранее продумав свои ответы, но сразу увидел, что допрос перенесен в другую область. Разговор шел о том, один или несколько раз они были у Рене, одну или несколько фигурок заказывал Ла Моль.
Коконнас, готовивший себя к другому, решил, что обвинение становится значительно слабее, поскольку дело шло уже не об измене королю, а о том, кто делал статуэтку королевы, да и статуэтку-то вышиной каких-нибудь шесть дюймов. Поэтому он очень весело ответил, что и он, и его друг уже давно перестали играть в куклы, и с удовольствием заметил, что его ответы несколько раз возбуждали в судьях смех. Тогда еще не было сказано стихами: «Я засмеялся и стал безоружен»; но в прозе это говорилось часто. Поэтому Коконнас вообразил себе, что, заставив смеяться судей, он уже наполовину их обезоружил.
После допроса пьемонтец поднялся к себе в камеру, шумя и распевая – нарочно для того, чтобы Ла Моль вывел из этого благоприятное заключение о ходе следствия.
Ла Моля тоже отвели вниз. Подобно своему другу, и он изумился тому, что обвинение сошло с прежнего пути и направилось совсем в другую сторону. Его спросили о посещениях лавки Рене. Ла Моль ответил, что был там один раз. Его спросили, не тогда ли он заказал восковую статуэтку. Он ответил, что Рене показал ему уже готовую фигурку. Его спросили, не представляет ли собой эта фигурка мужчину. Он ответил, что это женская фигура. Его спросили, не имело ли колдовство целью причинить смерть данному лицу. Он ответил, что хотел вызвать к себе любовь изображенной женщины.
Подобные вопросы задавались ему и так и сяк – на множество ладов; но, как бы они ни задавались, Ла Моль все время давал ответы одни и те же. Судьи переглянулись в нерешительности, не зная, ни что еще сказать, ни что им делать с таким прямодушным человеком, но принесенная записка прокурору вывела их из затруднения.
В записке было сказано:
...
«Если обвиняемый будет отрицать, прибегните к пытке».
Прокурор сунул записку в карман, улыбнулся Ла Молю и учтиво отправил его обратно. Ла Моль вернулся к себе в камеру если и не такой веселый, то почти в такой же мере успокоенный, как и его друг.
– Мне думается, все идет хорошо, – сказал он.
Час спустя он услышал шаги и увидел записку, пролезавшую под дверь, но не видел, чья рука двигала ее; он глядел на нее в полной уверенности, что это послание передает тюремщик.
Вид этой записки пробудил в его душе надежду, проникнутую почти таким же горьким чувством, как разочарование: у него явилась мысль, что это пишет Маргарита, от которой он не имел никаких вестей после своего ареста. Ла Моль с трепетом схватил записку и, разглядев почерк, от радости едва не умер.
«Мужайтесь, – говорилось в ней, – я хлопочу».
– О, если заботится она, я спасен! – воскликнул Ла Моль, покрывая поцелуями бумагу, которой касалась милая рука.
Для того чтобы Ла Моль понял значение этой записки и поверил в то, что Коконнас назвал «незримыми щитами», – для этого нам надо вернуться в тот домик и в ту комнату, где столько сцен упоительного счастья, столько ароматов еще не испарившихся духов, столько чарующих воспоминаний стали теперь источником мучительной тоски, обуревавшей женщину, которая полулежала на бархатных подушках.
– Быть королевой, быть сильной, молодой, богатой, красивой – и так страдать! – восклицала женщина. – О, это нестерпимо!
От возбуждения она вставала, начинала ходить, вдруг останавливалась, прижималась горячим лбом к холодному мрамору, снова поднимала бледное заплаканное лицо, ломала руки и падала от изнеможения в кресло.
Вдруг занавеска, отделявшая покои, выходившие в переулок Клош-Персе, от покоев, выходивших в переулок Тизон, приподнялась, шелковисто прошелестела по панели, и герцогиня Невэрская явилась на пороге.
– О, наконец-то! – воскликнула Маргарита. – С каким нетерпением я ждала тебя! Ну! Какие новости?
– Плохие, плохие, милая подруга. Екатерина сама руководит следствием; она и сейчас в Венсенском замке.
– А Рене?
– Арестован.
– Прежде чем ты успела с ним поговорить?
– Да.
– А наши узники?
– О них я кое-что узнала.
– От тюремщика?
– Как всегда.
– И что же?
– Каждый день они говорят друг с другом. Позавчера их обыскали. Ла Моль разбил твой портрет, чтобы его не отдавать.
– Милый Ла Моль!
– Аннибал насмехался над инквизиторами прямо им в лицо.
– Какой хороший Аннибал! Дальше?
– Сегодня их допрашивали о бегстве короля, о планах восстания в Наварре, но они не сказали ничего.
– О, я знала, что они будут молчать; но и молчание, и признание их губит одинаково.
– Да, но мы их спасем.
– Ты что-нибудь сделала для нашего предприятия?
– Со вчерашнего дня я только этим и занималась.
– И что же?
– Сейчас я заключила сделку с Болье. Ах, милая королева, что это за несговорчивый человек и какой скряга! Дело будет стоить жизни одному человеку и триста тысяч экю.
– Ты говоришь – несговорчивый и скряга… А он требует одной человеческой жизни и триста тысяч экю… Да это даром!
– Даром?.. Триста тысяч экю? Да все твои и мои драгоценности этого не стоят.
– О! За этим дело не станет. Заплатит король Наваррский, заплатит герцог Алансонский, заплатит брат мой Карл или разве…
– Брось! Ты рассуждаешь как безумная. Эти триста тысяч у меня есть.
– У тебя?
– Да, у меня.
– Откуда же ты их достала?
– Вот достала!
– Это тайна?
– Для всех, кроме тебя.
– О боже мой! Не украла же ты их? – спросила Маргарита, улыбаясь сквозь слезы.
– Сейчас увидишь.
– Посмотрим.
– Помнишь ты этого противного Нантуйе?
– Богача, ростовщика?
– Да, если хочешь.
– Дальше?
– Дальше то, что в один прекрасный день Нантуйе увидел одну даму, блондинку с зелеными глазами, в прическе, украшенной тремя рубинами – один на лбу, два у висков, что очень шло даме; не зная, что дама – герцогиня, этот ростовщик воскликнул: «За право поцеловать туда, где горят эти три рубина, я выращу на их месте три алмаза по сто тысяч экю каждый».
– Дальше, Анриетта.
– Дальше, дорогая, алмазы выросли и… проданы!
– Ах! Анриетта! Анриетта! – пожурила Маргарита.
– Вот еще! – воскликнула герцогиня с наивным и в то же время величественным бесстыдством, характерным для женщин той эпохи. – Вот еще! Я же люблю Аннибала!
– Это верно, ты его любишь очень, и даже чересчур! – ответила Маргарита, улыбаясь и краснея, но все-таки пожала ей руку.
– И вот, – продолжала Анриетта, – благодаря нашим трем алмазам у нас есть триста тысяч экю и нужный человек.
– Человек? Какой человек?
– Ну, которого должны убить: ты забыла, что надо убить человека?
– И ты нашла такого человека?
– Конечно.
– За эту цену? – усмехнувшись, спросила Маргарита.
– За эту цену?! Да за такие деньги я нашла бы тысячу! – ответила Анриетта. – Нет, нет, всего за пятьсот экю.
– И ты отыскала человека, который согласился за пятьсот экю, чтобы его убили?
– Что поделаешь? Жить надо!
– Милый друг, я перестаю тебя понимать; наше положение не из таких, чтобы терять время на разгадки твоих загадок. Говори яснее.
– Так слушай: тюремщик, которому поручен надзор за Ла Молем и Коконнасом, – бывший солдат и знает толк в ранах; он согласен помочь нам спасти наших друзей, но не хочет терять место. Умело нанесенный удар кинжалом устроит это дело; его вознаградим мы, да и государство выплатит ему вознаграждение за увечье. Таким образом этот милый человек загребет деньги обеими руками.
– Все это хорошо, – сказала Маргарита, – но ведь удар кинжалом…
– Не беспокойся! Аннибал сумеет это сделать.
– Верно, на него можно положиться! – смеясь, ответила Маргарита. – Он нанес Ла Молю три удара и шпагой, и кинжалом, а Ла Моль не умер!
– Злая! Пожалуй, ты не стоишь того, чтобы тебе рассказывать.
– О нет, нет! Молю тебя, расскажи, что дальше. Как же мы их спасем?
– Вот как: единственное место, куда могут проникнуть женщины – не тамошние узницы, – это часовня в замке. Нас прячут в алтаре; под покровом престола они находят два кинжала; дверь в ризницу заранее будет отперта. Коконнас ударяет кинжалом своего тюремщика, тот падает и притворяется мертвым; мы выбегаем, набрасываем каждому из наших друзей плащ на плечи, бежим вместе с ними в дверь ризницы, а так как пароль будет нам известен, то беспрепятственно выходим.
– А потом что?
– У ворот их ждут две лошади; они вскакивают на лошадей, переезжают границу Иль-де-Франса и попадают в Лотарингию, откуда время от времени будут приезжать сюда инкогнито.
– О, ты вернула меня к жизни! – сказала Маргарита. – Значит, мы их спасем!
– Почти ручаюсь.
– А скоро?
– Дня через три-четыре. Болье предупредит нас.
– Но если тебя узнает кто-нибудь в окрестностях Венсена, это ведь может повредить нашему проекту?
– А как меня узнать? Я выхожу из дому в одеянии монахини, под покрывалом; и благодаря этому меня не узнаешь, даже столкнувшись нос к носу.
– Чем больше предосторожностей, тем надежней.
– Знаю. «Дьявольщина»! – как сказал бы бедный Аннибал.
– А что король Наваррский, ты справлялась?
– Разумеется, справлялась.
– И что же?
– По-видимому, он еще никогда не бывал так доволен, – поет, смеется, ест с удовольствием и просит только об одном: чтобы его получше стерегли!
– Правильно! А что моя мать?
– Я уже сказала: всеми силами торопит судопроизводство.
– Относительно нас она ничего не подозревает?
– Как она может что-нибудь подозревать? Тем, кто участвует в нашей тайне, самим необходимо соблюдать ее. Ах да! Как я узнала, она велела передать судьям города Парижа, чтобы они были наготове.
– Давай действовать быстрее, Анриетта. Если наших бедных узников переведут в другую тюрьму, придется все начинать сначала.
– Не беспокойся, я сама не меньше тебя стремлюсь увидеть их подальше от тюрьмы.
– О, это я знаю! Спасибо, сто раз спасибо за то, что ты сделала для их спасения!
– Прощай, Маргарита! Иду опять в поход.
– А Болье надежен?
– Думаю.
– А тюремщик?
– Он обещал.
– А лошади?
– Будут лучшие из всей конюшни герцога Невэрского.
– Люблю тебя, Анриетта!
И Маргарита кинулась на шею своей подруге, после чего они расстались, пообещав друг другу встречаться каждый день в том же месте и в то же время.
Вот два очаровательных и преданных создания, которых пьемонтец справедливо называл «незримыми щитами».
VII. Судьи
Когда приятели встретились после первого допроса о восковой фигурке, Коконнас сказал Ла Молю:
– Ну, дорогой друг, по-моему, все идет прекрасно, и в ближайшее время сами судьи откажутся от нас, а это совсем не то, что отказ врачей: врач тогда отказывается от больного, когда уже нет надежды его спасти; если же судья отказывается от обвиняемого – это значит, что у судьи нет надежды отрубить ему голову.
– Да, – ответил Ла Моль, – мне даже думается, что эта учтивость и обходительность тюремщиков, эти сговорчивые двери наших камер – все дело преданных нам подруг; по крайней мере, я просто не узнаю Болье – судя по тому, что я о нем слышал.
– Нет, я-то его очень узнаю, – ответил Коконнас, – но только это стоило дорого; да о чем тут говорить: одна – принцесса, другая – королева; обе богаты, а лучшего случая употребить на благо свои деньги у них не будет. Теперь вкратце повторим наше задание: нас отводят в часовню, оставляют там под охраной нашего тюремщика; в условленном месте мы находим кинжалы, я протыкаю живот тюремщику…
– О нет, нет, только не в живот, так ты его лишишь пятисот экю; бей в руку.
– В руку? Нет, так беднягу только подведешь! Сразу увидят, что у нас с ним сговор. Нет, нет, надо в правый бок, вскользь по ребрам; такой удар похож на настоящий, но безвреден.
– Ладно, пусть так, а затем…
– Затем ты завалишь входную дверь скамейками; наши принцессы выбегут из алтаря, и Анриетта откроет дверку ризницы. Честное слово, теперь я люблю Анриетту; наверно, она мне изменила, если я взялся за ум.
– А затем мы скачем в лес, – сказал Ла Моль тем вибрирующим голосом, который звучит как музыка. – Каждому из нас довольно одного поцелуя, чтобы стать веселым, сильным. Ты представляешь себе, Аннибал, как мы несемся, пригнувшись к нашим быстрым скакунам, а сердце сладко замирает? О, этот страх в предчувствии опасности! Как он хорош на воле, когда у тебя сбоку хорошая шпага, когда кричишь «ура», давая шпоры своему коню, а он при каждом крике наддает и уже не скачет, а летит!
– Да, Ла Моль, но что ты скажешь о прелестях страха в четырех стенах? Кое-что в этом роде я испытал и могу рассказать. Когда бледная физиономия Болье впервые появилась в моей камере, а позади него блеснули алебарды и лязгнула зловеще сталь о сталь, клянусь тебе, я сразу же подумал о герцоге Алансонском и так и ждал появления его мерзкой рожи между двумя противными башками алебардщиков. Я ошибся, и это было моим единственным утешением; но все же их посещение не прошло бесследно: ночью я увидал герцога во сне.
– Да, – говорил Ла Моль, следуя за своей приятной мыслью, а не за мыслью своего друга, блуждавшей в области фантазии, – да, они все предусмотрели, даже место нашего пребывания. Мы едем в Лотарингию, дорогой друг. По правде, я бы предпочел Наварру; в Наварре я был бы у «нее», но Наварра слишком далеко, Нанси удобнее, мы там будем всего в восьмидесяти милях от Парижа. Знаешь, Аннибал, когда я буду выходить отсюда, о чем я буду сожалеть?
– Нет, честное слово… Что касается меня, так все сожаления я оставлю здесь.
– Мне будет жаль, что мы не сможем взять с собой этого почтенного тюремщика, вместо того чтобы его…
– Да он сам не захочет, – возразил Коконнас, – он слишком много потеряет: подумай, пятьсот экю от нас да вознаграждение от правительства, а может быть, и повышение по службе. Как этот молодец будет хорошо жить, когда я его убью! А что с тобой?
– Так… ничего… У меня мелькнула одна мысль.
– Видно, не очень веселая, то-то ты побледнел?
– Я спрашиваю себя: а зачем нас поведут в часовню?
– Как зачем? Для причастия, – ответил Коконнас. – Думаю, что так.
– Нет, – сказал Ла Моль, – в часовню водят только осужденных на смерть или после пытки.
– Ого! Это стоит разузнать, – ответил Коконнас, тоже побледнев. – Спросим доброго человека, которого мне придется потрошить. Эй! Друг! Ключарь!
– Вы меня звали, месье? – спросил тюремщик, карауливший на верхних ступенях лестницы.
– Да, поди сюда.
– Вот я.
– Условлено, что мы бежим из часовни, так ведь?
– Тс! – произнес ключарь, с ужасом оглядываясь.
– Будь покоен, нас никто не слышит.
– Да, месье, из часовни.
– Значит, нас поведут в часовню?
– Конечно, таков обычай.
– Так это обычай?
– Да, после вынесения смертного приговора полагается осужденным провести ночь в часовне накануне казни.
Коконнас и Ла Моль вздрогнули и посмотрели друг на друга.
– Вы полагаете, что нас осудят на смерть? – спросил Ла Моль.
– Непременно… да и вы сами думаете то же.
– Почему – то же?
– Конечно… если бы вы думали иначе, вы бы не стали подготовлять себе бегство.
– А знаешь, он рассуждает очень здраво, – заметил Коконнас.
– Да… по крайней мере теперь я знаю, что мы играем, как видно, в опасную игру, – ответил Ла Моль.
– А я-то, – сказал тюремщик, – думаете, не рискую? А вдруг месье от волнения ошибется и ударит не в тот бок!..
– Э, дьявольщина! Я бы хотел быть на твоем месте, – возразил Коконнас, – чтобы иметь дело только с этой рукой и только с тем железом, которым я тебя коснусь.
– Смертный приговор! – тихо произнес Ла Моль. – Нет, это невозможно!
– Невозможно? Почему же? – простодушно спросил тюремщик.
– Тс-с! – произнес Коконнас. – Мне показалось, что внизу отворили дверь.
– Верно, – волнуясь, подтвердил тюремщик. – По камерам, месье, скорее!
– А когда, вы думаете, вынесут нам приговор? – спросил Ла Моль.
– Самое позднее – завтра. Но не беспокойтесь: тех, кого надо, предупредят.
– Тогда обнимем друг друга и простимся с этими стенами.
Друзья горячо обнялись и вернулись в свои камеры: Ла Моль – вздыхая, Коконнас – что-то напевая.
До семи часов вечера ничего нового не произошло. На Венсенскую башню надвинулась темная, дождливая ночь – самая подходящая для бегства. Коконнасу принесли обычный ужин, и он поужинал с аппетитом, предвкушая удовольствие вымокнуть на дожде, хлеставшем по стенам замка. Он уже готовился заснуть под глухой, однообразный шум ветра, к которому не раз прислушивался с неведомым до тюрьмы тоскливым чувством, но теперь ему показалось, что ветер как-то необычно стал поддувать под двери, да и печь тоже гудела с большей яростью, чем в другое время: так бывало каждый раз, когда открывали верхние камеры, а в особенности – камеру напротив. По этому признаку Коконнас всегда знал, что тюремщик выходит от Ла Моля и сейчас зайдет к нему.
На этот раз, однако, Аннибал тщетно вытягивал шею и напрягал слух. Время шло, никто к нему не приходил.
«Странно, – рассуждал Коконнас, – у Ла Моля отворили дверь, а у меня нет. Быть может, его вызвали на допрос? Или он заболел? Что это значит?»
Для узника все может стать поводом к радости, к надежде, но также к подозрению, к тревоге.
Прошло полчаса, час, полтора. Коконнас с досады начал засыпать, как вдруг услышал лязг ключа в замочной скважине и вскочил с постели.
«Эге! Неужели пришел час освобождения и нас отведут в часовню без приговора? – подумал он. – Дьявольщина! Какое наслаждение бежать в такую ночь, когда ни зги не видно: лишь бы лошади хорошо видели».
Он весело собрался расспросить обо всем тюремщика, но увидел, что тюремщик приложил палец к губам и весьма красноречиво скосил глаза. Действительно, за его спиной слышался шорох и виднелись тени. Наконец он разглядел в темноте две каски благодаря тому, что свет дымной свечи заиграл на той и на другой золотистым бликом.
– Ого! К чему бы эта ужасная свита? – шепотом спросил он. – Куда мы идем?
Тюремщик ответил только вздохом, очень похожим на стон.
– Дьявольщина! Что за несносная жизнь! Все время какие-то крайности, никакой твердой опоры, то барахтаешься в воде на глубине ста футов, то летаешь над облаками – ничего среднего! Слушайте, куда мы идем?
– Месье, следуйте за алебардщиками, – сказал картавый голос, показавший Коконнасу, что замеченных им солдат сопровождал какой-то судебный пристав.
– А месье де Ла Моль? – спросил Коконнас. – Где он? Что с ним?
– Следуйте за алебардщиками, – ответил тот же картавый голос тем же тоном.
Надо было повиноваться. Коконнас вышел из своей камеры и увидел человека в черном одеянии – обладателя неприятного голоса. Это был пристав, маленький горбун. Вероятно, он пошел по судейской части, чтобы скрыть под длинным черным одеянием другой свой недостаток: у него одна нога была короче другой.
Пьемонтец стал медленно спускаться по винтовой лестнице. Во втором этаже конвой остановился.
– Спуститься-то спустились, но не настолько, насколько нужно, – прошептал Коконнас.
Отворилась дверь. У пьемонтца было рысье зрение и чутье ищейки; он сразу почуял судей и разглядел в темноте силуэт какого-то человека с голыми руками, при виде которого у него выступил на лбу пот. Тем не менее он придал себе веселый вид, склонил голову слегка налево, как предписывалось хорошим тоном тех времен, и, подбоченясь правой рукой, вошел в зал.
Кто-то отдернул занавес, и Коконнас действительно увидел судей и повытчиков. В нескольких шагах от судей и повытчиков на скамейке сидел Ла Моль.
Коконнаса подвели к судьям. Он встал против них, с улыбкой кивнул головой Ла Молю и стал ждать вопросов.
– Как ваше имя, месье? – спросил председатель суда.
– Марк-Аннибал де Коконнас, – ответил Коконнас с предельной любезностью, – граф де Монпантье, Шено и других мест; но я думаю, что наши звания и общественное положение известны.
– Где вы родились?
– В Сен-Коломбане, близ Сузы.
– Сколько вам лет?
– Двадцать семь лет и три месяца.
– Хорошо, – сказал председатель.
«По-видимому, это ему понравилось», – сказал про себя Коконнас.
Молча дождавшись, пока повытчик запишет ответы обвиняемого, председатель спросил:
– Теперь скажите, с какой целью вы бросили службу у герцога Алансонского?
– Чтобы быть вместе с месье де Ла Молем, вот с этим моим другом, который бросил у него службу за несколько дней до меня.
– Что вы делали на охоте, когда вас арестовали?
– Как – что?.. Охотился, – ответил Коконнас.
– Король тоже был на этой охоте и там почувствовал первые приступы той болезни, которой он болен в настоящее время.
– Относительно этого я ничего не могу сказать, потому что был далеко от короля. Я даже не знал, что он чем-то заболел.
Судьи переглянулись с недоверчивой усмешкой.
– А-а! Вы не знали?.. – сказал председатель.
– Да, месье, я очень сожалею о болезни короля. Хотя французский король и не является моим королем, но я чувствую к нему большую симпатию.
– В самом деле?
– Честное слово! Не то что к его брату, герцогу Алансонскому. Признаюсь, его я…
– Герцог Алансонский тут ни при чем, – перебил его председатель, – дело идет о его величестве…
– Я уже сказал вам, что я его покорнейший слуга, – ответил Коконнас с очаровательной развязностью, принимая небрежную позу.
– Если вы, как утверждаете, действительно слуга его величества, то не скажете ли суду, что вам известно о чародейской статуэтке?
– А! Вот что! Как видно, опять мы принимаемся за статуэтку?
– Да, месье, а вам это не нравится?
– Совсем напротив! Это мне более по вкусу. Давайте.
– Почему эта статуэтка оказалась у месье де Ла Моля?
– У месье де Ла Моля? Вы хотите сказать: у Рене?
– Вы, значит, признаете, что она существует?
– Пусть мне ее покажут.
– Вот она. Это та самая, которая вам известна?
– И очень хорошо.
– Повытчик, запишите, – сказал председатель. – Обвиняемый признался, что видел эту статуэтку у месье де Ла Моля.
– Нет, нет, – возразил Коконнас, – давайте не путать! Видел у Рене.
– Пусть будет – у Рене. Когда?
– Единственный раз, когда я и месье де Ла Моль были у Рене.
– Вы, значит, признаете, что вместе с месье де Ла Молем были у Рене?
– Я этого никогда и не скрывал.
– Повытчик, запишите: обвиняемый признался, что был у Рене в целях колдовства.
– Эй, эй! Потише, потише, господин председатель! Умерьте ваш пыл, будьте любезны, об этом я не говорил ни звука.
– Вы отрицаете, что были у Рене в целях колдовства?
– Отрицаю. Колдовство имело место случайно, без предварительного умысла.
– Но оно имело место?
– Я не могу отрицать того, что происходило нечто похожее на ворожбу.
– Повытчик, пишите: обвиняемый признался, что у Рене имела место ворожба против жизни короля.
– Как против жизни короля? Это мерзкая ложь! Никогда никакой ворожбы против жизни короля не было!
– Вот видите, господа, – сказал Ла Моль.
– Молчать! – приказал председатель; затем, обернувшись к повытчику, продолжал: – Против жизни короля. Записали?
– Да нет же, нет, – возразил Коконнас. – Да и статуэтка изображает вовсе не мужчину, а женщину.
– Что я вам говорил, господа? – вмешался Ла Моль.
– Месье де Ла Моль, вы будете отвечать, когда вас спросят, – заметил ему председатель, – но не перебивайте допрос других. Итак, вы утверждаете, что это женщина?
– Конечно, утверждаю.
– Почему же на ней корона и королевская мантия?
– Да очень просто, – отвечал Коконнас, – потому что она…
Ла Моль встал с места и приложил палец к губам. «Верно, – подумал Коконнас. – Но что бы такое рассказать, что удовлетворило бы господ судей?»
– Вы продолжаете настаивать, что эта статуэтка изображает женщину?
– Да, разумеется, настаиваю.
– Но отказываетесь говорить, кто эта женщина.
– Это моя соотечественница, – вмешался Ла Моль, – которую я любил и хотел, чтобы и она меня полюбила.
– Допрашивают не вас, месье де Ла Моль! – воскликнул председатель. – Молчите, или вам заткнут рот.
– Заткнут рот?! – воскликнул Коконнас. – Как вы сказали, господин в черном? Заткнут рот моему другу?.. Дворянину? Ну-ка!
– Введите Рене, – распорядился главный прокурор Лягель.
– Да, да, введите Рене, – сказал Коконнас, – посмотрим, кто будет прав: вы ли трое или мы двое…
Рене вошел, бледный, постаревший, почти неузнаваемый, согбенный под гнетом преступления, которое он собирался совершить, – еще более тяжкого, чем совершенные им раньше.
– Мэтр Рене, – спросил председатель, – узнаете ли вы вот этих двух обвиняемых?
– Да, месье, – ответил Рене голосом, выдававшим сильное волнение.
– Где вы их видели?
– В разных местах, в том числе и у меня.
– Сколько раз они у вас были?
– Один раз.
По мере того как говорил Рене, лицо Коконнаса все больше прояснялось; лицо Ла Моля, наоборот, оставалось строгим, как будто он предчувствовал дальнейшее.
– По какому поводу они были у вас?
Рене, казалось, поколебался на одно мгновение.
– Чтобы заказать восковую фигурку, – ответил он.
– Простите, простите, мэтр Рене, – вмешался Коконнас, – вы ошибаетесь.
– Молчать! – сказал председатель, затем, обращаясь к Рене, спросил: – Эта фигурка изображает мужчину или женщину?
– Мужчину, – ответил Рене.
Коконнас подскочил, как от электрического разряда.
– Мужчину?! – спросил он.
– Мужчину, – повторил Рене, но таким слабым голосом, что даже председатель едва расслышал его ответ.
– А почему у статуэтки на плечах мантия, а на голове корона?
– Потому, что статуэтка изображает короля.
– Подлый лжец! – воскликнул Коконнас в бешенстве.
– Молчи, молчи, Коконнас, – прервал его Ла Моль, – пусть говорит: каждый волен губить свою душу.
– Но не тело других, дьявольщина! – возразил Коконнас.
– А что обозначает стальная иголка в сердце статуэтки и буква М на бумажном флажке? – спросил председатель.
– Иголка уподобляется шпаге или кинжалу, буква М обозначает – смерть .
Коконнас хотел броситься на Рене и задушить его, но четыре конвойных удержали пьемонтца.
– Хорошо, – сказал прокурор Лягель, – для суда достаточно этих сведений. Отведите узников в камеры ожидания.
– Нельзя же, – воскликнул Коконнас, – слушать такие обвинения и не протестовать!
– Протестуйте, месье, никто вам не мешает. Конвойные, вы слышали?
Конвойные завладели двумя обвиняемыми и вывели их: Ла Моля – в одну дверь, Коконнаса – в другую.
Затем прокурор поманил рукой человека, которого Коконнас заметил в темной глубине залы, и сказал ему:
– Не уходите, мэтр, у вас будет работа в эту ночь.
– С кого начать, месье? – спросил человек, почтительно снимая колпак.
– С этого, – сказал председатель, показывая на Ла Моля, удалявшегося в сопровождении двух конвойных. Затем председатель подошел к Рене, который с трепетом ожидал, что его опять отведут в Шатле, где он был заключен.
– Прекрасно, месье, – сказал ему председатель, – будьте спокойны: королева и король будут поставлены в известность о том, что раскрытием истины в этом деле они обязаны только вам.
VIII. Испанские сапоги
Когда Коконнаса отвели в другую камеру, замкнули за ним дверь и он оказался наедине с самим собой, то весь подъем духа, который поддерживался в нем борьбой с судьями и злостью на Рене, сразу исчез, и грустные мысли стали тесниться одна вслед за другой.
«Мне думается, – говорил он сам с собой, – все оборачивается самым скверным образом, сейчас бы как раз время побывать в часовне. Того гляди, приговорят нас к смерти; а то, что они сейчас выносят нам смертный приговор, не подлежит сомнению. Побаиваюсь я этих смертных приговоров при закрытых дверях в крепости, да еще со стороны таких противных рож, как те, что сидели перед нами. Они серьезно намерены отрубить нам головы… Гм-гм!.. Я возвращаюсь к своей прежней мысли – пора идти в часовню».
За тихим разговором с самим собой наступила гробовая тишина, как вдруг ее прорезал жалобный, глухой, тягучий крик, совершенно непохожий на голос человека; казалось, он пробился сквозь толщу каменной стены и прозвенел в железных прутьях ее решеток. Коконнас невольно вздрогнул, несмотря на то что мужество у подобных храбрецов – чувство врожденное, как инстинкт хищных животных; он замер в том положении, в каком его застал этот страшный вопль, сомневаясь, возможен ли у человека такой крик. Коконнас приписывал его и вою ветра, пронесшегося по деревьям, и одному из многих ночных звуков, гуляющих в пространстве между неведомыми мирами, среди которых вертится наш мир. Но вот донесся новый вопль – сильнее, жалостнее первого; и на этот раз Коконнас не только ясно различил в нем человеческий крик боли, но, как ему показалось, узнал голос самого Ла Моля.
При звуке его голоса Коконнас забыл о том, что сидит за двумя дверьми, за тремя решетками и за стеной в двенадцать футов толщиной; он ринулся всем телом на стену, как будто собираясь повалить ее и броситься на помощь с криком: «Кого здесь режут?», но, ударившись об эту им забытую преграду, Коконнас отлетел к каменной скамье и рухнул на нее.
– О-о! Его убили! Это чудовищно! А здесь и нечем защищаться… никакого оружия!
Он стал шарить вокруг себя руками.
– Ага! Вот железное кольцо! – воскликнул он. – Вырву его – и горе тому, кто подойдет ко мне!
Коконнас встал, ухватился за кольцо и первым же рывком настолько расшатал его, что казалось, еще два таких усилия – и кольцо выскочит из стены.
Вдруг дверь отворилась, свет двух факелов ворвался в камеру, и тот же картавый голос, который еще наверху так не понравился Коконнасу, да и спустившись ниже на три этажа, не стал, по мнению пьемонтца, приятнее, – этот голос произнес:
– Идемте, месье, вас ожидает суд.
– Хорошо, – ответил Коконнас, выпустив из рук кольцо. – Я сейчас выслушаю приговор, не так ли?
– Да, месье.
– Уф, стало легче! Идем.
Коконнас последовал за приставом, который пошел вперед ковыляющей походкой, держа в руках черный жезл.
Хотя Коконнас в первую минуту и выразил удовольствие, он все же с беспокойством поглядывал вперед, назад и по сторонам.
«Эх! Что-то не видать моего почтенного тюремщика! – говорил себе Коконнас. – Признаться, очень неприятно, что его нет».
Все шествие проследовало в зал, откуда только что вышли судьи, кроме одного – оставшегося у стола. Коконнас сразу узнал в нем главного прокурора, который во время допроса неоднократно выступал, и всякий раз с явной неприязнью к подсудимым. Именно ему Екатерина поручила ведение процесса.
Отдернутая завеса давала возможность разглядеть всю комнату, дальняя часть которой терялась в сумраке, а освещенный передний план наводил такой страх, что у Коконнаса стали подгибаться ноги.
– О господи! – воскликнул он.
Этот крик ужаса вырвался у него недаром: картина была действительно зловещая. Зал, в большей своей части скрытый завесой на время заседания суда, теперь казался преддверием ада. На переднем плане стоял деревянный станок с веревками, блоками и прочими принадлежностями пытки. Дальше пылал огонь в жаровне, падая красными отсветами на окружающие предметы и придавая еще более мрачный вид силуэтам людей, стоявших в пространстве между Коконнасом и жаровней. Около одного из каменных столбов, поддерживавших своды, стоял недвижно, точно статуя, какой-то человек, держа в руке веревку и прислонясь к столбу; казалось, он был высечен вместе со столбом из одного камня. По стенам, над каменными скамейками, промеж железных колец висели цепи и сверкала сталь орудий пытки.
– Ого! Зал пыток в полной готовности и как будто только ждет своей жертвы! – шептал Коконнас. – Что это значит?
– Марк-Аннибал Коконнас, на колени! – произнес чей-то голос, заставивший Коконнаса поднять голову. – Выслушайте на коленях вынесенный вам приговор.
Инстинктивно все существо Коконнаса всегда противилось такого рода предложениям. Он и теперь готов был воспротивиться, но два человека налегли на его плечи так неожиданно, а главное, так крепко, что он сразу упал обоими коленями на каменный настил.
Голос продолжал:
– «Приговор суда, вынесенный в Венсенской крепости по делу Марка-Аннибала де Коконнас, обвиненного и уличенного в преступлении против его величества, а именно: в покушении на отравление, в ворожбе и колдовстве, направленных против особы короля, в заговоре против государственной безопасности, а также в том, что своими гибельными советами он подстрекал принца крови к мятежу…»
На все эти обвинения Коконнас отрицательно мотал в такт головой, как упрямый школьник.
Судья продолжал:
– «Принимая все вышеизложенное во внимание, суд постановил: препроводить означенного Марка-Аннибала де Коконнас из тюрьмы на площадь Сен-Жан-ан-Грев и там обезглавить, имущество его конфисковать, его строевые леса срубить до высоты в шесть футов, замки его разрушить и поставить на чистом поле столб с медной доской, на коей будут указаны его вина и наказание…»
– Что касается моей головы, – сказал Коконнас, – то, думается, ее действительно отрубят, потому что она – во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, то ручаюсь, что ни пилам, ни киркам христианнейшего королевства там делать будет нечего!
– Молчать! – приказал судья и стал продолжать чтение: – «Сверх того, означенный Коконнас…»
– Как? – прервал его Коконнас. – И, срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать? О, это уж чересчур сурово.
– Нет, месье, – ответил председатель, – не после, а до… – И продолжал: – «Сверх того, означенный Коконнас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в десять клиньев».
Коконнас вскочил на ноги, сверкая глазами.
– Зачем?! – воскликнул он, не найдя, кроме этого наивного вопроса, других слов, чтобы выразить целый сонм мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу.
Действительно, пытка являлась для Коконнаса полным крушением его надежд: его отправят в часовню только после пытки, а от нее часто умирали, и умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание как на малодушие; а раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но и пытали более жестоко.
Председатель суда не удостоил Коконнаса ответом, так как конец приговора давал ответ вместо него, и продолжал читать:
– «Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях…»
– Дьявольщина! – воскликнул Коконнас. – Ведь это же бессовестно! Даже не бессовестно, а подло!
Привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв – ярости, которую затем мучения превращают в слезы, – председатель безучастно сделал только знак рукой.
Коконнаса схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками – и все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, что совершал над ним насилие.
– Негодяи! – рычал Коконнас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. – Негодяи! Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать! Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас!
– Повытчик, приготовьтесь записывать, – сказал председатель.
– Да, да, приготовляйся! – рычал Коконнас. – Будет тебе работа, если станешь записывать все, что скажу вам, мерзавцы, палачи! Пиши, пиши!
– Вам угодно сделать признания? – спросил так же спокойно председатель.
– Ни одного слова, ничего. К черту!
– Вы лучше поразмыслите, месье, покамест будут делаться приготовления. Мэтр, приладьте господину сапожки.
При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Коконнасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу.
Это был мэтр Кабош, палач парижского судебного округа. Горькое изумление выразилось на лице Коконнаса, и, вместо того чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту.
Ни один мускул не дрогнул на лице Кабоша; ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонтца, и как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему две доски меж голеней, а две такие же доски приложил к их внешней части, затем обвязал все, голени и доски, веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «испанские сапоги».
При простой пытке забивалось шесть деревянных клиньев между внутренними досками, и доски, раздвигаясь, сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали десять клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кости.
Закончив подготовку, мэтр Кабош просунул кончик клина между досками, стал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда.
– Будете вы говорить? – спросил председатель.
– Нет, – ответил Коконнас решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились.
– Начинайте, – сказал председатель, – первый простой клин.
Кабош поднял над головой тяжелый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук.
Коконнас даже не вскрикнул от первого удара, обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей. Больше того – на лице пьемонтца выразилось неописуемое изумление. Он с недоумением посмотрел на Кабоша, который стоял на одном колене вполоборота, спиной к председателю и, замахнувшись молотом, готов был повторить удар.
– Для чего скрывались вы в лесу? – спросил председатель.
– Чтобы посидеть в тени, – ответил Коконнас.
– Продолжайте, – сказал председатель Кабошу.
Кабош дал второй удар, издавший тот же звук. Но, так же как и при первом ударе, Коконнас даже не повел бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача.
Председатель нахмурился.
– Ну и крепкий мужик! – пробурчал он. – Мэтр, до конца ли вошел клин?
Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и, склоняясь над Коконнасом, шепнул ему:
– Кричите же, несчастный!
Затем, поднявшись, доложил:
– Да, до конца, месье.
– Второй простой, – хладнокровно распорядился председатель.
Слова Кабоша разъяснили все: благородный палач оказывал «своему другу» величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач, – вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенные деревом. Этим он избавлял Коконнаса не только от физических мучений, но и от позора вынужденных признаний, сверх того, он сохранял Коконнасу силы достойно взойти на эшафот.
– Добрый, хороший мой Кабош, – шептал Коконнас, – не бойся: раз это нужно, я заору так, что если будешь мною недоволен, то на тебя трудно угодить.
В это время Кабош просунул между краями досок второй клин, толще первого.
– Продолжайте, – сказал председатель. Кабош ударил так, точно собрался разрушить весь Венсенский замок.
– Ой-ой-ой! У-у-у! – заорал Коконнас на все лады. – Тысяча громов! Осторожней, вы ломаете мне кости!
– Ага! Второй сделал свое дело, – ухмыляясь, сказал председатель, – а то я уж начал удивляться.
Коконнас дышал шумно, как кузнечный мех.
– Так что же вы делали в лесу? – повторил вопрос председатель.
– А! Дьявольщина! Я уж сказал вам: дышал свежим воздухом!
– Продолжайте, – распорядился председатель.
– Признавайтесь, – шепнул Кабош.
– В чем?
– В чем хотите, хоть что-нибудь.
И Кабош дал второй удар, не слабее первого. Коконнас чуть не задохся от крика.
– Ох! Ой! Что вы хотите знать, месье? По чьему приказанию я был в лесу?
– Да, месье.
– Я был там по приказанию герцога Алансонского.
– Запишите, – распорядился председатель.
– Если я подстраивал ловушку королю Наваррскому и совершил этим преступление, – продолжал Коконнас, – так я был простым орудием, месье, я выполнял только приказание моего господина.
Повытчик принялся записывать.
«Ага, ты донес на меня, бледная рожа! – говорил про себя Коконнас. – Погоди же у меня, погоди!»
Он рассказал, как герцог Алансонский ходил к королю Наваррскому, как герцог виделся с де Муи, историю с вишневым плащом, – рассказал все, не забывая орать и время от времени давая повод возобновлять удары молотом.
Словом, он сообщил кучу всяких сведений, очень ценных, верных, неопровержимых и опасных для герцога Алансонского, делая вид, что дает эти сведения только из-за страшной боли. Коконнас так хорошо играл роль, так естественно гримасничал, выл, стонал на все лады, дал столько показаний, что наконец сам председатель испугался того количества позорных, особенно для принца крови, подробностей, которые по его же приказанию заносились в протокол пытки.
«Вот это ладно! – думал Кабош. – Моему дворянину не надо повторять одно и то же; уж и задал он повытчику работу. Господи Иисусе! А что бы было, кабы клинья были не кожаные, а деревянные?»
За эти признания Коконнасу простили последний клин чрезвычайной пытки; но и без него те девять клиньев, которые ему забили, должны были превратить его ноги в месиво.
Председатель подчеркнул, что смягчение приговора дано за признания Коконнаса, и вышел.
Коконнас остался наедине с Кабошем.
– Ну, как себя чувствуете, месье? – спросил Кабош.
– Ах, друг мой, мой хороший друг, милый мой Кабош! – сказал Коконнас. – Будь уверен, что я останусь признателен тебе… всю жизнь.
– Да-а! И будете правы, месье: кабы узнали, что я для вас сделал, то после вас на этом станке лежал бы я; но уж меня не пощадили бы, как пощадил вас я.
– Но как тебе пришло в голову устроить эти…
– А вот как, – говорил Кабош, обертывая Коконнасу ноги в окровавленные тряпки. – Я узнал, что вас арестовали, узнал, что над вами нарядили суд, узнал, что королева Екатерина добивается вашей смерти, догадался, что вас будут пытать, и принял нужные меры.
– Несмотря на то, что тебе грозило?
– Месье, вы единственный дворянин, который пожал мне руку, – ответил Кабош, – ведь у палача тоже есть память и душа, какой он там ни будь палач, а может быть, как раз оттого, что он палач. Вот завтра увидите, какая будет чистая работа.
– Завтра? – спросил Коконнас.
– Конечно, завтра.
– Какая работа?
– Как – какая? Вы, что же, забыли приговор?
– Ах да! Верно, приговор, – ответил Коконнас, – я и забыл.
В действительности Коконнас не забывал о приговоре, но занят был другим: воображал себе часовню, нож, спрятанный под покровом престола, Анриетту и королеву, дверь в ризнице и двух лошадей у опушки леса; он думал о свободе, о скачке по вольному простору, о безопасности за границей Франции.
– Теперь надо половчее переложить вас со станка на носилки. Не забудьте, что для всех, даже для моих помощников, у вас раздроблены ноги, и при каждом движении вы должны кричать.
– Ой, ой! – простонал Коконнас, увидев двух помощников палача, подходивших к нему с носилками.
– Ну, ну, подбодритесь, – сказал Кабош, – если вы стонете уже от этого, что же будет с вами сейчас?
– Дорогой Кабош, – взмолился Коконнас, – не давайте меня трогать вашим почтенным спутникам, будьте так добры… может быть, у них не такая легкая рука, как у вас.
– Поставьте носилки рядом со станком, – приказал Кабош.
Его помощники выполнили приказание. Мэтр Кабош поднял Коконнаса, как ребенка, и переложил на носилки; но, несмотря на всю его осторожность, Коконнас кричал благим матом. В эту минуту появился и добросовестный тюремщик с фонарем в руке.
– В часовню, – сказал он.
Носильщики понесли Коконнаса, пожавшего мэтру Кабошу второй раз руку.
Первое пожатие оказалось настолько благотворным для пьемонтца, что от его предубеждений не осталось и следа.
IX. Часовня
Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъемным мостам крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов.
Коконнас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой. Вглядываясь в густую темь, он радовался всей обстановке, благоприятной для их побега.
В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, все благоразумие, все самообладание, чтобы не спрыгнуть с носилок, когда он увидел у клироса, в трех шагах от алтаря, лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был Ла Моль.
Два солдата, сопровождавшие носилки, остались за дверьми часовни.
– Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас, – сказал Коконнас, придавая жалобный тон голосу, – то отнесите меня к моему другу.
Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконнаса.
Ла Моль лежал сумрачный и бледный, прислонясь головой к мраморной стене; сильный пот придавал его бледному лицу тусклый оттенок слоновой кости, а смоченные п?том волосы имели такой вид, как будто они встали у него на голове и в этом состоянии остались.
Тюремщик рукой дал знак двум носильщикам, чтобы они сходили за священником, – это было условным сигналом бегства.
Коконнас с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими носильщиками; да и не один Коконнас следил за ними: едва носильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на клирос, всколыхнув воздух, как теплый шумный порыв ветра перед грозой.
Маргарита кинулась к Ла Молю и обняла его. Ла Моль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру пьемонтца и чуть не свел его с ума.
– Боже мой! Что такое?! – воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ла Моля.
Ла Моль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая ее видеть. Его молчание и этот жест перепугали Маргариту больше, чем его крик.
– Боже, что с тобой? – воскликнула она. – Ты весь в крови.
Коконнас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетту, обернулся на ее слова.
– Вставай, вставай же, – говорила Маргарита, – разве ты не видишь? Пора бежать!
Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ла Моля, хотя ему как будто и не пристало улыбаться.
– Дорогая королева! – сказал молодой человек. – Вы не учли, на что способна Екатерина. Меня пытали, у меня раздроблены все кости, мое тело – сплошная рана, а мои старания поцеловать вас в лоб причиняют мне такую боль, что легче смерть.
Действительно, приложив свои губы ко лбу королевы, Ла Моль весь побелел от этого усилия.
– Пытали?! – воскликнул Коконнас. – Так меня тоже пытали; но разве палач обошелся с тобой не так же, как со мной?
И Коконнас рассказал, как было дело.
– Ах! Все понятно! – сказал Ла Моль. – Когда мы были у него, ты пожал ему руку; а я забыл, что все люди – братья, во мне заговорила спесь. Бог наказал меня за мою гордыню, благодарю за это бога!
И Ла Моль молитвенно сложил руки. Коконнас и обе дамы в неизъяснимом ужасе переглянулись.
– Скорей, скорей! – сказал тюремщик, вернувшись от входной двери, где он стоял на страже. – Не теряйте времени: ударяйте меня кинжалом – только по чести, как дворянин! Скорей, а то они сейчас придут!
Маргарита стояла на коленях перед Ла Молем, подобно мраморной надгробной статуе, склоненной над изображением того, кто покоится в гробнице.
– Друг, не унывай, – сказал Коконнас. – Я сильный, я унесу тебя, посажу на твою лошадь, а если не сможешь сам держаться в седле, я посажу тебя перед собой и буду держать; но едем, едем! Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни!
– Правда, от этого зависит твоя жизнь, – сказал Ла Моль.
Он сделал сверхчеловеческое, невероятное усилие и попытался встать. Аннибал взял его под мышки и поставил стоймя. Но пока он это делал, из уст Ла Моля все время слышалось какое-то глухое завывание; а как только Коконнас на одно мгновение отстранился от Ла Моля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги Ла Моля подогнулись, и, несмотря на все усилия Maргариты и Анриетты, он рухнул на пол с раздирающим душу криком, который разнесся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в ее высоких сводах.
– Видите, – скорбно произнес Ла Моль, – видите, королева? Бросьте же меня, оставьте здесь, сказав последнее «прости». Маргарита, я не произнес ни слова, ваша тайна осталась скрытой в моей любви и умрет вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте!..
Маргарита, сама чуть живая, обвила руками дорогую ей голову и поцеловала ее непорочным поцелуем, почти святым.
– Аннибал, – сказал Ла Моль, – ты избежал мучений, ты еще молод, ты можешь жить; беги, беги, мой друг! Я хочу знать, что ты на свободе, дай мне это последнее утешение.
– Время идет! – крикнул тюремщик. – Скорее, торопитесь!
В это время Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Ла Моля и плакала горючими слезами, похожая на кающуюся Магдалину, а Анриетта втихомолку старалась увести пьемонтца.
– Беги, Аннибал, – повторил Ла Моль, – не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невинных дворянина будут умирать позорной смертью.
Коконнас нежно отстранил Анриетту, тянувшую его к двери, и, сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал:
– Мадам, прежде всего отдайте этому человеку пятьсот экю, которые ему обещаны.
– Вот они, – ответила Анриетта.
Затем, грустно покачав головой, он обратился к Ла Молю:
– Милый мой Ла Моль, ты оскорбил меня, если подумал хотя на одну минуту, что я способен тебя бросить. Разве я не поклялся и жить, и умереть с тобой? Но ты так мучишься, мой бедный друг, что я тебе прощаю.
Он решительно лег рядом со своим другом, наклонил к нему голову и коснулся губами его лба. Затем тихо, осторожно, как мать берет ребенка, взял голову Ла Моля и положил ее к себе на грудь.
Маргарита стала мрачной. Она подняла кинжал, который обронил Коконнас.
– Королева моя, – говорил Ла Моль, догадываясь о ее намерении и протягивая к ней руки, – о моя королева! Не забывайте: я пошел на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло.
– Если нельзя мне даже умереть с тобой, что же другое могу я сделать для тебя? – воскликнула Маргарита.
– Можешь, – ответил Ла Моль, – ты можешь сделать так, что мне будет мила и сама смерть, что она придет за мной с приветливым лицом.
Маргарита нагнулась к нему, сложив ладони, как бы умоляя его говорить.
– Маргарита, помнишь вечер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я отдаю тебе сегодня, а ты взамен ее мне свято обещала одну вещь?
Маргарита затрепетала.
– А-а! Ты вздрогнула, значит, ты помнишь?
– Да, помню, да, и клянусь душой, мой Гиацинт, исполню то, что обещала.
Маргарита простерла руки к алтарю, как бы вторично беря бога в свидетели своей клятвы.
Лицо Ла Моля сразу просияло, как будто своды часовни вдруг разверзлись и небесный луч пал на его лицо.
– Идут! Идут! – предупредил тюремщик.
Маргарита вскрикнула и кинулась было к Ла Молю, но с трепетом остановилась из страха причинить ему боль.
Анриетта поцеловала Коконнаса и сказала:
– Понимаю тебя, мой Аннибал, и горжусь тобой. Я знаю, твой героизм ведет к смерти, но за этот героизм я и люблю тебя. Кроме бога, я буду любить тебя больше всего на свете, и хотя не знаю, в чем Маргарита поклялась Ла Молю, но клянусь сделать то же самое и для тебя!
И она протянула руку Маргарите.
– Ты хорошо сказала, благодарю тебя, – ответил Коконнас.
– Перед расставанием, королева моя, – сказал Ла Моль, – окажите последнюю вашу милость: дайте мне что-нибудь на память о вас, что я мог бы поцеловать, всходя на эшафот.
– О да! – воскликнула Маргарита. – Вот!
И она сняла с шеи маленький золотой ковчежец на золотой цепочке.
– На, возьми! Этот святой ковчежец я ношу с самого детства. Моя мать надела мне его на шею, когда я была малюткой и она меня еще любила; нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я никогда не расставалась с ним. На, возьми!
Ла Моль взял и горячо поцеловал ковчежец.
– Отпирают дверь! – крикнул тюремщик. – Бегите же! Скорей, скорей!
Обе дамы побежали и скрылись за алтарем.
Вошел священник.
X. Площадь Сен-Жан-ан-Грев
Семь часов утра. Шумная толпа заполняет улицы, площади, набережные и ждет.
В десять часов утра та же таратайка, что некогда привезла в Лувр двух лежавших без сознания друзей после их дуэли, выехала из Венсенского замка, медленно проследовала по улице Сент-Антуан, где зеваки, давя друг друга, стояли словно статуи с застывшим взглядом и с печатью молчания на устах. В этот день королева-мать показала народу действительно раздирающее душу зрелище.
В таратайке, тащившейся по улицам, два молодых человека с непокрытой головой, одетые в черное, полулежали на соломе, прижавшись один к другому. Коконнас держал у себя на коленях Ла Моля, который возвышался головой над краями таратайки и мутным взором смотрел по сторонам.
В это время толпа, стараясь проникнуть жадными глазами в самую глубину повозки, теснилась вокруг нее, приподнималась, становилась на цыпочки, влезала на тумбы, лепилась по выступам на стенах и чувствовала себя удовлетворенной лишь тогда, когда ей удавалось прощупать взглядом каждый дюйм на этих двух телах, уцелевших от пытки только для того, чтобы уйти в небытие.
Кто-то сказал, что Ла Моль умирает, не признав ни одного предъявленного обвинения. Коконнас же, как уверяли, не стерпел боли и все раскрыл.
Поэтому со всех сторон раздавались крики:
– Видите, видите рыжего? Это он все рассказал, все выболтал! Трус! Из-за него и другой идет на смерть. А другой – храбрый, не сказал ни слова.
Оба друга хорошо слышали и похвалы одному, и оскорбления другому, сопровождавшие их смертный путь. Ла Моль жал руки своему другу, а лицо пьемонтца выражало безграничное презрение, и он глядел на глупую толпу с высоты мерзкой таратайки, как с триумфальной колесницы.
– Скоро ли мы доедем? – спросил Ла Моль. – Друг, у меня больше нет сил, я чувствую, что упаду в обморок.
– Держись, Ла Моль, сейчас проедем мимо переулков Тизон и Клош-Персе. Смотри, смотри!
– Ах! Приподними меня – хочу еще раз поглядеть на этот приют блаженства!
Коконнас тронул рукой плечо Кабоша, который сидел спереди и правил лошадью.
– Мэтр, – сказал Коконнас, – окажи нам услугу и остановись на минуту против переулка Тизон.
Кабош кивнул головой в знак согласия и, доехав до переулка, остановился. Ла Моль благодаря помощи друга кое-как приподнялся, со слезами на глазах посмотрел на одинокий домик, безмолвный, наглухо закрытый, как гробница, и тяжкий вздох вырвался из его груди.
– Прощай! – шептал Ла Моль. – Прощай, молодость, любовь, жизнь!
И голова его поникла.
– Не падай духом! – сказал Коконнас. – Быть может, все это мы опять найдем на небесах.
– Ты веришь в это? – спросил Ла Моль.
– Верю, потому что так мне сказал священник, а главное, потому, что я надеюсь. Но не теряй сознания, держись, мой друг, а то нас засмеют все эти негодяи, которые на нас глазеют.
Кабош услышал его последние слова и, подгоняя одной рукой лошадь, протянул назад другую руку и незаметно передал маленькую губку, пропитанную настолько сильным возбуждающим, что Ла Моль, понюхав губку и потерев ею виски, сразу почувствовал себя свежее и бодрее.
– Уф! Я ожил, – сказал он и поцеловал висевший у него на шее золотой ковчежец.
Когда они доехали до угла набережной и обогнули очаровательное небольшое здание, построенное Генрихом II, стал виден эшафот, который возвышался над толпой и представлял собой высокий, голый, кровью залитый помост.
– Друг, я хочу умереть первым, – сказал Ла Моль.
Коконнас второй раз дотронулся рукой до плеча Кабоша.
– Что такое, месье? – спросил палач, обернувшись.
– Милый человек, ты хочешь доставить мне удовольствие? По крайней мере, ты так мне говорил.
– Да, и повторяю это.
– Вот друг мой пострадал больше меня, поэтому и сил у него меньше.
– Так что?
– Он говорит, что ему будет чересчур тяжко смотреть, как будут меня казнить. А кроме того, если я умру первым, некому будет внести его на эшафот.
– Ладно, ладно, – сказал Кабош, отирая слезу тыльной стороной руки, – не беспокойтесь, будет по-вашему.
– И с одного удара, да? – шепотом спросил Коконнас.
– Одним махом.
– Вот это хорошо… А если с одного удара трудно, так отыгрывайтесь на мне.
Таратайка остановилась; подъехав к эшафоту, Коконнас надел шляпу.
Шум, похожий на рокот морских волн, долетел до Ла Моля. Он хотел приподняться, но не хватило сил; пришлось пьемонтцу и Кабошу поддерживать его под мышки.
Вся площадь казалась вымощенной головами, ступени городской думы походили на амфитеатр, забитый зрителями. Из каждого окна высовывались лица, возбужденные, с горящими глазами. Когда толпа увидела красивого молодого человека, который не мог держаться на раздробленных ногах и сделать последнее усилие, чтобы самому взойти на эшафот, общий крик жалости потряс всю площадь, слив воедино рокочущие голоса мужчин и жалобные вопли женщин.
– Это один из самых больших придворных щеголей; таких казнят не у Сен-Жан-ан-Грев, а на Пре-о-Клерк, – говорили мужчины.
– Что за красавчик! Какой бледный! Это тот, который не захотел отвечать, – говорили женщины.
– Друг, я не могу держаться на ногах! – сказал Ла Моль. – Отнеси меня!
– Хорошо, – ответил Коконнас.
Он сделал палачу знак отстраниться, затем нагнулся, взял на руки Ла Моля, как ребенка, твердым шагом взошел с этой ношей на помост и опустил на него своего друга под неистовые крики и рукоплескания толпы.
Коконнас снял с головы шляпу и раскланялся, а затем бросил ее к своим ногам.
– Посмотри кругом, – сказал Ла Моль, – не увидишь ли где-нибудь «их».
Коконнас медленно стал обводить взглядом площадь, пока не дошел до одной точки; тогда он остановился и, не спуская с нее глаз, протянул руку и тронул за плечо Ла Моля.
– Взгляни на окно в той башенке, – сказал он.
Другой рукой он показал на окно маленького здания, существующего и до сих пор между улицей Ванри и улицей Мутон, как осколок былых времен. Две женщины, одетые в черное, стояли не у самого окна, а несколько в глубине.
– Ах! Я боялся только одного, – сказал Ла Моль, – что я умру, не повидав их. Я вижу их и могу спокойно умереть.
Не отрывая жадных глаз от этого оконца, Ла Моль поднес к губам и расцеловал зажатый в руке ковчежец.
Коконнас приветствовал обеих дам с таким изяществом, как будто щеголял манерами в гостиной.
В ответ на это обе дамы замахали платочками, мокрыми от слез.
Кабош дотронулся пальцем до плеча Коконнаса и многозначительно повел глазами на Ла Моля.
– Да, да! – ответил Коконнас и повернулся к своему другу.
– Поцелуй меня, – сказал он, – и умри достойно. Такому храбрецу, как ты, это нетрудно!
– Ах! Я так мучаюсь, что для меня невелика заслуга умереть достойно!
Подошел священник и поднес Ла Молю распятие, но Ла Моль с улыбкой показал ему ковчежец, который держал в руках.
– Все равно, – сказал священник, – просите того, кто сам претерпел то же, что и вы, укрепить вас.
Ла Моль приложился к ногам Христа.
– Поручите мою душу, – сказал он, – молитвам монахинь в монастыре благодатной Девы Марии.
– Скорей, Ла Моль, скорей, а то я так страдаю за тебя, что сам слабею, – сказал Коконнас.
– Я готов, – ответил Ла Моль.
– Можете ли вы держать голову совсем прямо? – спросил Кабош, став позади Ла Моля и готовясь нанести удар мечом.
– Надеюсь, – ответил Ла Моль.
– Тогда все будет хорошо.
– А вы не забудете, о чем я вас просил? – спросил Ла Моль. – Этот ковчежец будет вам пропуском.
– Будьте покойны. Старайтесь держать голову прямее.
Ла Моль вытянул шею и обратил глаза в сторону башенки, шепча:
– Прощай, Маргарита, благосло…
Ла Моль не кончил. Одним ударом сверкнувшего как молния меча Кабош снес ему голову, и она покатилась к ногам пьемонтца.
Тело Ла Моля тихо опустилось, как будто он лег сам.
Раздался оглушительный гул из слившихся воедино голосов множества людей, и Коконнасу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем другие.
– Спасибо, мой великодушный друг, спасибо! – сказал Коконнас, в третий раз пожимая руку палачу.
– Сын мой, – сказал священник, – не надо ли вам чего-нибудь доверить богу?
– Ей-богу, нет, отец мой! – ответил пьемонтец. – Все, что мне надо было бы ему сказать, я вам сказал еще вчера.
Затем, повернувшись к Кабошу, добавил:
– Ну, мой последний друг, палач, окажи еще одну услугу.
Но прежде чем стать на колени, Коконнас обвел глазами площадь таким спокойным, ясным взглядом, что по толпе пронесся рокот восхищения, лаская слух и самолюбие пьемонтца.
Тогда Коконнас взял голову Ла Моля, поцеловал ее в посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку; затем опустился на колени и, продолжая держать в руках голову горячо любимого друга, сказал Кабошу:
– Я гот…
Он не успел договорить, как голова его слетела с плеч.
После удара нервная дрожь охватила честного Кабоша.
– Хорошо, что все кончилось, – прошептал он, – бедный мальчик!
И он с трудом вынул ковчежец из судорожно сжатых рук Ла Моля, затем накрыл своим плащом печальные останки, которые он должен был везти к себе домой на той же таратайке.
Зрелище кончилось; толпа рассеялась.
XI. Башня позорного столба
Ночь только что сошла на город, еще взволнованный рассказами об этой казни, подробности которой, переходя из уст в уста, из дома в дом, омрачали веселое время семейных ужинов.
В противоположность унынию и тишине в городе в Лувре было шумно, весело и все освещено. Во дворце происходило большое празднество по распоряжению короля. Карл IX, назначив казнь на утро, одновременно назначил на вечер празднество.
Королева Наваррская еще накануне получила распоряжение быть на этом вечере; надеясь, что Ла Моль и Коконнас спасутся той же ночью, так как была уверена в успехе мер, принятых для их спасения, она просила передать брату, что исполнит его желание.
Но после сцены в часовне, когда исчезла всякая надежда; после того как, в порыве скорби о гибнущей любви, самой большой, самой глубокой в ее жизни, она присутствовала при казни, Маргарита дала себе слово, что ни просьбы, ни угрозы не заставят ее принять участие в веселом празднестве в тот самый день, когда ей пришлось видеть на Гревской площади такое удручающее зрелище.
В этот день Карл IX еще раз показал силу своей, быть может, беспримерной воли: в течение двух недель прикованный к кровати, слабый, умирающий, серо-бледный, как труп, он встал с постели в пять часов вечера и оделся в лучшую одежду. Правда, во время одевания он трижды падал в обморок.
В восемь часов вечера Карл осведомился о своей сестре, спрашивал, не видел ли кто-нибудь ее и не знают ли, что она делает. Никто не мог ему ответить, так как королева Наваррская вернулась к себе в одиннадцать часов утра и заперлась, воспретив пускать к ней посторонних.
Для Карла не существовало запертых дверей. Опираясь на руку де Нансе, он поплелся к покоям королевы Наваррской и неожиданно вошел в них потайным ходом.
Карл знал, что его ждет печальное зрелище, и подготовился к нему, но та плачевная картина, какую он увидел, превзошла его воображение. Маргарита, полумертвая, лежала на шезлонге, уткнувшись головой в подушки; она не плакала и не молилась, а лишь хрипела, как будто в агонии. В другом углу комнаты Анриетта Невэрская, эта бестрепетная женщина, лежала в обмороке прямо на ковре. Вернувшись с Гревской площади, она, так же как и Маргарита, лишилась сил, и бедная Жийона бегала от одной к другой, не решаясь сказать им слово утешения.
Во время нервного кризиса, после таких великих потрясений, люди ревниво относятся к своей душевной боли, как скупец к своим сокровищам, и полагают врагом всякого, кто попытается отнять у них ее малейшую частицу.
Карл IX, отворив дверь и оставив де Нансе в коридоре, бледный и дрожащий, вошел в комнату. Ни Маргарита, ни Анриетта не заметили его, только Жийона, возившаяся с Анриеттой, привстала на одно колено и в испуге смотрела на короля. Король подал ей знак рукой, она встала, сделала реверанс и вышла.
Карл подошел к Маргарите и молча глядел на свою сестру; постояв некоторое время, он обратился к ней с такою теплотой в голосе, какой нельзя было от него ждать:
– Марго! Сестричка!
Маргарита вздрогнула и приподнялась на кресле.
– Ваше величество! – сказала она.
– Сестричка, не падай духом!
Маргарита подняла глаза к небу.
– Да, понимаю, – продолжал Карл, – но выслушай меня.
Королева Наваррская кивнула головой, давая знать, что слушает.
– Ты обещала прийти на бал, – сказал Карл.
– Мне! На бал?! – воскликнула Маргарита.
– Да, ты обещала, и тебя ждут; если ты не придешь, это вызовет общее недоумение.
– Извините меня, братец, – ответила Маргарита, – вы видите, как я страдаю.
– Пересильте себя.
Маргарита, видимо, попыталась взять себя в руки, но тотчас силы оставили ее, и она снова упала головой в подушки.
– Нет, нет, не пойду, – говорила Маргарита.
Карл сел рядом с ней и, взяв ее за руку, сказал:
– Марго, я знаю – ты потеряла сегодня друга; но взгляни ты на меня: я потерял всех своих друзей! Больше того – я потерял мать! Ты всегда могла так плакать, как сейчас; а я всегда должен был улыбаться, даже при самой сильной душевной боли. Ты страдаешь; а посмотри на меня – ведь я же умираю! Ну, Марго, будь мужественной! Прошу тебя, сестричка, во имя нашей доброй славы! Честь нашего королевского дома – это наш крест, будем же нести его, подобно Христу, до Голгофы; а если и мы споткнемся на своем пути, то снова встанем, безропотно и мужественно, как он.
– О господи, господи! – воскликнула Маргарита.
– Да, – говорил Карл, отвечая на ее мысль, – да, сестричка, жертва тяжела; но каждый приносит свою жертву: один жертвует своею честью, другой – своею жизнью. Неужели ты думаешь, что я, будучи двадцати пяти лет от роду и занимая лучший престол в мире, хочу смерти и умру без сожаления? Вглядись в меня… ведь у меня и глаза, и цвет лица, и губы умирающего; но я улыбаюсь… и, глядя на мою улыбку, разве нельзя подумать, что я надеюсь жить? А на самом деле, моя сестричка, через неделю, самое большее – через месяц ты будешь оплакивать меня, как оплакиваешь сейчас того, кто умер сегодня утром.
– Братец!.. – воскликнула Маргарита, обнимая его за шею.
– Ну же, дорогая Маргарита, одевайтесь, – сказал король, – как-нибудь скройте вашу бледность и покажитесь на балу. Я сейчас приказал отнести вам новые драгоценности и наряды, достойные вашей красоты.
– Ах! Все эти алмазы, платья… О, как мне не до них! – сказала Маргарита.
– Жизнь еще впереди, Маргарита, по крайней мере для тебя, – ответил, улыбаясь, Карл.
– Нет! Нет! Ни за что!
– Сестричка, не забывай одного: иногда достойнее почтишь память мертвых, подавив или, вернее, скрыв свое горе.
– Хорошо, сир! Я приду, – с дрожью ответила Маргарита.
Слеза набежала на глаза Карла и тотчас испарилась на воспаленных веках. Он наклонился к сестре, поцеловал ее в лоб, с минуту постоял над Анриеттой, ничего не видевшей и не слышавшей.
– Бедная женщина! – сказал он и молча вышел.
Сейчас же после короля вошли пажи, которые несли укладки и футляры.
Маргарита указала пальцем, чтобы сложили все вещи на пол. Когда пажи ушли и осталась одна Жийона, Маргарита сказала ей:
– Жийона, приготовь мне все, чтобы одеться.
Девушка посмотрела на нее с изумлением.
– Да, – подтвердила Маргарита с непередаваемым оттенком горечи, – да, я оденусь и пойду на бал; меня там ждут. Только поскорее! День будет вполне закончен: торжественное утро на Гревской площади – торжественный вечер в Лувре!
– А герцогиня? – спросила Жийона.
– О! Она счастливица! Ей можно остаться здесь; можно плакать, можно горевать, сколько захочет. Она не королевская дочь, не королевская жена, не королевская сестра – она не королева! Дай мне одеться, Жийона.
Жийона помогла ей надеть великолепные украшения и пышное платье. Маргарита никогда не была так хороша. Она посмотрела на себя в зеркало.
– Брат мой прав, – сказала она. – Какое жалкое создание – человек!
В это время вернулась выходившая в переднюю Жийона.
– Мадам, вас спрашивает какой-то человек.
– Меня?
– Да, вас.
– Кто такой?
– Не знаю, но внешность у него жуткая – от одного вида берет дрожь.
– Спроси, как его зовут, – сказала Маргарита, побледнев.
Жийона вышла и через несколько секунд вернулась.
– Он не хочет говорить свое имя, мадам, но просит передать вам это. – Жийона протянула ковчежец, который Маргарита дала вчера вечером Ла Молю.
– Впусти, впусти его! – взволнованно сказала Маргарита.
Она еще больше побледнела и застыла.
Тяжелые шаги загремели по паркету, отдаваясь в деревянной обшивке стен как бы негодующим на такой шум эхом, и на пороге комнаты появился какой-то человек.
– Ведь вы?..
– Я тот, мадам, с кем вы повстречались на Монфоконе, тот, кто привез в Лувр в своей таратайке двух раненых дворян.
– Да, да, я узнаю вас, вы мэтр Кабош.
– Палач Парижского судебного округа, мадам.
Это были первые слова, расслышанные Анриеттой за последний час. Она приподняла бледное лицо из сжимавших его рук и посмотрела на палача своими изумрудными глазами, блеснувшими, как два пламенеющих луча.
– Зачем вы пришли? – с трепетом спросила Маргарита.
– Чтобы напомнить ваше обещание самому молодому из двух дворян, тому, кто поручил мне отдать этот ковчежец. Вы не забыли, мадам, про обещание?
– Ах, нет, нет, не забыла! – воскликнула Маргарита. – Это только достойное воздаяние за высокое благородство его души; но где «она»?
– «Она» у меня дома, вместе с телом.
– У вас? Отчего же вы ее не принесли?
– Меня могли остановить в пропускных воротах Лувра, могли заставить раскрыть плащ; а что было бы, если бы под плащом нашли человеческую голову?
– Хорошо, поберегите ее у себя; завтра я за ней зайду.
– Завтра, мадам? Нет, завтра, пожалуй, будет уже поздно, – сказал Кабош.
– Почему?
– Потому что королева-мать наказывала мне оставить для ее колдовских опытов головы двух первых осужденных, которых я казню.
– О, какое святотатство! Головы наших возлюбленных! Ты слышишь, Анриетта? – воскликнула Маргарита, подбегая к своей подруге, которая вскочила на ноги, точно ее подбросило пружиной. – Ты слышишь, ангел мой, что сказал этот человек?
– Да. А что нам делать?
– Надо идти с ним.
Как это бывает при резком переходе от большого горя к реальной жизни, у Анриетты вырвался крик душевной боли.
– Ах! Как мне было хорошо: я почти умерла! – воскликнула Анриетта.
В это время Маргарита набросила на голые плечи бархатный плащ и сказала своей подруге:
– Идем, идем! Взглянем на них еще раз.
Маргарита велела запереть все двери, распорядилась подать носилки к задней калитке, взяла за руку Анриетту и, сделав Кабошу знак следовать за ними, спустилась вниз потайным ходом.
У двери внизу ждали носилки, у калитки – слуга Кабоша с фонарем. Носильщики Маргариты были люди верные – когда надо, глухи и немы, и в таких случаях не менее надежны, чем домашние животные.
Носилки тронулись в путь; впереди – мэтр Кабош и его слуга с фонарем. Так они двигались минут десять, наконец все остановились. Палач отворил дверцы носилок, а его слуга куда-то побежал.
Маргарита сошла с носилок и помогла сойти герцогине Невэрской. Только сила нервного напряжения дала возможность обеим женщинам преодолеть скорбь, сжимавшую их сердца.
Перед ними высилась башня позорного столба и походила на темного, безобразного великана, бросая красноватый свет из двух круглых слуховых отверстий на самом ее верху.
Слуга Кабоша появился в дверях башни.
– Можно войти, – сказал Кабош, – в башне все легли спать.
В это время свет, пробивавшийся сквозь два отверстия, погас.
Обе женщины, прижимаясь друг к другу, прошли под стрельчатым сводом небольшой двери и в темноте нащупали ногами сырой неровный пол. В конце огибающего башню коридора они увидели свет и, следуя за страшным хозяином дома, направились в ту сторону. Кто-то притворил за ними входную дверь. Кабош зажег восковой факел и привел обеих дам в большую низкую закоптелую комнату. Посреди нее стоял накрытый на три прибора стол с остатками ужина. Вероятно, три прибора принадлежали самому палачу, его жене и главному помощнику. На самом видном месте висела прибитая к стене грамота, скрепленная королевской печатью. Это был патент на звание палача. В углу стоял большой меч с длинной рукояткой – разящий меч правосудия. Там и сям на стенах висели лубочные изображения святых, подвергаемых различным пыткам.
Войдя в комнату, Кабош низко поклонился, говоря:
– Ваше величество, простите мне, что я осмелился явиться в Лувр и привести вас сюда, но такова была последняя воля дворянина, и я был должен…
– Вы очень хорошо сделали, – ответила королева Наваррская, – и вот вам награда за ваше усердие.
Кабош печально взглянул на туго набитый кошелек, который положила Маргарита на стол.
– Золото! Всегда только золото! – прошептал он. – Увы, мадам! Если бы я сам мог искупить золотом ту кровь, которую я должен был пролить сегодня!
– Мэтр, – с болезненным смущением вымолвила Маргарита, оглядывая комнату, – мэтр, надо еще куда-нибудь идти? Я здесь не вижу…
– Нет, мадам, нет, они не здесь; но вам будет тяжело смотреть; лучше бы я вас от этого избавил, а принес бы сюда под плащом то, за чем вы пришли.
Маргарита и Анриетта переглянулись.
– Нет, – ответила Маргарита, прочитав в глазах подруги то же решение, какое возникло у нее самой, – нет, мы пойдем, ведите нас.
Кабош взял факел, отворил дубовую дверь, за которой виднелось несколько ступенек лестницы, уходившей куда-то глубоко под землю. Порыв сквозного ветра сорвал искры с факела и пахнул в лицо высокопоставленных дам тошнотворным запахом сырости и крови.
Анриетта стала белой, как алебастровая статуя, и оперлась на руку Маргариты, ступавшей более твердо, но герцогиня на первой же ступеньке зашаталась.
– Не могу! Ни за что на свете! – сказала она.
– Если любишь, люби и в смерти, – ответила Маргарита Наваррская.
И вот две женщины, блистающие молодостью, красотой и роскошью нарядов, идут, пригнувшись, под мерзким грязно-белым сводом, одна оперлась на руку другой, более мужественной и крепкой, а более крепкая – на руку палача, – жуткое, но трогательное зрелище. Наконец вот и последняя ступенька, а дальше, в погребе, два человеческих тела лежали на полу, прикрытые широким черным покрывалом.
Кабош приподнял край черной ткани, поднес ближе факел и сказал:
– Взгляните, государыня королева.
Одетые в черное, оба молодых человека лежали рядом в страшной, застывшей симметрии мертвых тел. Их головы, приставленные к туловищу, казалось, отделялись от него лишь ярко-красной полосой, огибавшей середину шеи. Смерть не разъединила двух друзей, случайно или благодаря заботе палача правая рука Ла Моля покоилась в левой руке Коконнаса. Под сомкнутыми веками Ла Моля угадывался нежный взгляд любви, а у пьемонтца чудилось выражение презрительной усмешки.
Маргарита опустилась на колени перед трупом своего возлюбленного и руками в блестящих драгоценностях нежно приподняла голову горячо любимого Ла Моля.
– Милый, милый мой Ла Моль! – шептала Маргарита.
Герцогиня Невэрская стояла, прислонясь к стене, и не могла отвести глаз от бледного лица, столько раз встречавшего ее выражением любви и радости.
– Аннибал! Аннибал! Красивый, гордый, храбрый! Ты больше не ответишь мне!.. – И слезы хлынули у нее из глаз.
Эта женщина, в дни своего благоденствия такая гордая, такая дерзновенная, такая бесстрашная, доходившая в скептицизме до предела, в страсти – до жестокости, – эта женщина никогда не думала о смерти.
Маргарита показала ей пример того, что надо делать. Раскрыв мешочек, шитый жемчугом и надушенный самыми тонкими духами, она спрятала в него голову Ла Моля, еще более красивую на фоне бархата и золота, намереваясь сохранить ее такой благодаря особым способам, употреблявшимся в те времена при бальзамировании умерших королей.
Тогда и Анриетта подошла к Коконнасу и завернула его голову в полу своего плаща.
Обе женщины, согбенные не столько под тяжестью их ноши, сколько под гнетом душевной боли, стали всходить по лестнице, бросив прощальный взгляд на бренные останки, покинутые на милость палача в этом мрачном складе для трупов самых низменных преступников.
– Не бойтесь, мадам, – сказал Кабош, угадывая смысл последнего их взгляда, – даю вам клятву, что дворяне будут погребены по-христиански.
– А вот на это закажи обедни за упокой их душ, – сказала Анриетта, срывая с шеи дорогое рубиновое ожерелье и отдавая палачу.
Прежним путем они вернулись в Лувр. У пропускных ворот Маргарита назвала себя, а перед входом на лестницу сошла с носилок и поднялась к себе в опочивальню, положила там скорбные останки в кабинете, превращенном с этого времени в молельню, поручила охрану их Анриетте и около десяти часов вечера, более бледная, но еще более красивая, чем обычно, вошла в тот зал, где два с половиной года назад зародилась первая глава нашего повествования.
Все глаза обратились на нее, но Маргарита выдержала этот взгляд с гордым, почти веселым видом, сознавая, что свято выполнила последнюю волю своего друга.
Карл, едва держась на ногах, проследовал сквозь окружавшую его раззолоченную толпу, подошел к сестре и громко приветствовал ее:
– Сестрица, благодарю вас!
А затем тихо сказал:
– Обратите внимание! У вас на руке кровавое пятно.
– Это пустяки! Важно, что у меня на губах улыбка.
XII. Кровавый пот
После жуткого события, описанного в предыдущей главе, и бала, назначенного Карлом в самый день казни молодых людей, Карл занемог на балу сильнее прежнего и переехал по предписанию врачей на свежий деревенский воздух в Венсен, куда переселился и весь двор, а через несколько дней, 30 мая 1574 года, в комнате короля неожиданно раздался сильный шум. Было восемь часов утра. В передней комнате небольшая кучка придворных что-то обсуждала с большим жаром, как вдруг послышался резкий вопль и на пороге королевской комнаты появилась кормилица короля Карла, заливаясь слезами и крича:
– Помогите! Помогите!
– Его величеству стало хуже? – спросил командир де Нансе, которого Карл, как было сказано, освободил от всякого подчинения Екатерине и прикомандировал лично к себе.
– О! Сколько крови! Сколько крови! – сказала кормилица. – Скорее врачей! Бегите за врачами!
Врачи Мазилло и Амбруаз Паре дежурили по очереди у больного короля, но дежурный в этот день Амбруаз Паре, увидев, что король заснул, отлучился от него на несколько минут.
Как раз в его отсутствие сильный пот выступил у короля, а так как капиллярные сосуды у Карла ослабли и расширились, то и кровь стала просачиваться сквозь поры кожи. Кровавый пот испугал кормилицу, которая, не понимая действительной причины такого странного явления и будучи протестанткой, уверяла Карла, что это выходит из него кровь гугенотов, пролитая в Варфоломеевскую ночь.
Все разбежались в разные стороны искать врача, находившегося где-нибудь поблизости. Каждому хотелось показать свое усердие и привести Паре, поэтому в передней комнате не оставалось никого. В это время растворилась входная дверь и появилась Екатерина. Она быстро проскользнула через переднюю и торопливо вошла в комнату к своему сыну.
С потухшими глазами он лежал навзничь на постели и прерывисто дышал, все его тело покрылось красноватым потом; одна рука, откинувшись, свисала с постели, и на конце каждого пальца скопилась капля рубинового цвета. Зрелище было ужасное.
Несмотря на такое состояние, Карл приподнялся при звуке шагов – видимо, узнав походку своей матери.
– Простите, мадам, – сказал он, глядя на мать, – мне бы хотелось умереть спокойно.
– Умереть от случайного приступа этой дрянной болезни? Да что вы, сын мой! Вы хотите довести нас до отчаяния?
– А я говорю, мадам, что у меня душа с телом расстается. Я говорю, мадам, что это смерть, черт ее побери!.. Я знаю, что я чувствую, и знаю, что говорю.
– Сир, теперь причина вашей болезни – в вашем воображении; после заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ла Моль и Коконнас, ваши телесные страдания должны исчезнуть. Но остается ваша душевная болезнь, и если бы я могла поговорить с вами всего десять минут, я доказала бы вам…
– Кормилица, – сказал Карл, – побудь у двери, чтобы никто не входил ко мне. Королева Екатерина Медичи желает поговорить со своим любимым сыном Карлом Девятым.
Кормилица встала за дверью.
– Да, – продолжал Карл, – рано или поздно этот разговор должен был произойти, и лучше сегодня, чем завтра. Завтра, возможно, будет уже поздно. Но при нашем разговоре должно присутствовать еще третье лицо.
– Почему?
– Потому что, повторяю вам, смерть уже подходит, – продолжал Карл с пугающей торжественностью, – и каждую минуту может войти сюда молча, без доклада, вот так, как вы. Сейчас наступило решительное время; ночью я распорядился своими личными делами, а теперь надо распорядиться делами государства.
– А кого третьего желаете вы видеть между нами? – спросила Екатерина.
– Моего брата, мадам. Велите его позвать.
– Сир, я вижу с удовольствием, что предубеждения, возникшие у вас не столько под влиянием физических страданий, сколько подсказанные вам чувством неприязни, начинают исчезать из вашего ума, а скоро исчезнут и из сердца. Кормилица! – крикнула Екатерина. – Кормилица!
Кормилица, стоявшая за дверью, приотворила дверь.
– Кормилица, – сказала Екатерина, – как только придет месье де Нансе, скажите ему от имени моего сына, чтобы он сходил за герцогом Алансонским.
Карл движением руки остановил кормилицу, собиравшуюся исполнить приказание.
– Мадам, я сказал – брата, – возразил Карл.
Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость, но Карл повелительным жестом остановил ее.
– Я хочу говорить с братом моим Генрихом, – сказал он. – У меня только один брат – Генрих; не тот, который царствует там, в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Он и услышит мою последнюю волю.
– Неужели вы воображаете, – воскликнула Екатерина с не свойственной ей смелостью перед страшной волей своего сына: настолько ненависть к Генриху Наваррскому вывела ее из состояния обычного притворства, – неужели вы воображаете, что если вы находитесь при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе – право королевы, право матери?
– Мадам, я еще король, – ответил Карл, – пока приказываю я, мадам! Я говорю вам, что хочу переговорить с братом моим Генрихом, а вы не зовете командира моей охраны!.. Тысяча чертей! Предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним.
И он приподнялся, чтобы сойти с кровати, раскрыв свое тело, похожее на тело Христа после бичевания.
– Сир, – воскликнула Екатерина, удерживая его, – вы оскорбляете нас всех, вы забываете обиды, нанесенные нашей семье, вы отрекаетесь от кровного родства; только наследный принц французского престола имеет право склонить колена у смертного одра французского короля. А мое место предуказано мне здесь и законами природы, и требованиями этикета; поэтому я остаюсь…
– А в качестве кого вы здесь останетесь, мадам?
– В качестве матери.
– Как герцог Алансонский мне не брат, так же и вы, мадам, – не мать!
– Вы бредите, месье! – возмутилась Екатерина. – С каких это пор женщина, давшая жизнь другому существу, перестает быть матерью того, кто получил от нее жизнь?
– С того времени, мадам, как эта бесчеловечная мать отнимает то, что она дала, – ответил Карл, вытирая кровавую пену, появившуюся у него на губах.
– О чем вы говорите? Я вас не понимаю, – пробормотала Екатерина, глядя на Карла изумленными, широко раскрытыми глазами.
– Сейчас, мадам, поймете!
Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик.
– Возьмите этот ключ, мадам, откройте мою походную шкатулку; в ней лежат документы, которые ответят вам вместо меня.
И Карл показал рукой на стоявшую на видном месте шкатулку, украшенную великолепною резьбой, с серебряным замком, чеканным так же, как и ключ.
Уступая моральной силе Карла, Екатерина повиновалась, медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и сразу отшатнулась, точно увидела на дне ее спящую змею.
– Что в этой шкатулке так испугало вас, мадам? – спросил Карл, не спускавший глаз с Екатерины.
– Ничего, – ответила Екатерина.
– А тогда, мадам, протяните вашу руку и выньте из шкатулки книгу; там ведь лежит книга, верно? – добавил Карл с бледной улыбкой, имевшей у него значение более страшное, чем любая угроза у всякого другого.
– Да, – пролепетала Екатерина.
– Книга об охоте?
– Да.
– Возьмите ее и подайте мне.
При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела, задрожала всем телом, но опустила руку в шкатулку.
– Рок! – прошептала она, беря книгу.
– Хорошо, – сказал Карл. – А теперь слушайте! Я был неосторожен… Больше всего на свете я любил охоту… эта книга об охоте… я слишком жадно ее читал… Понятно вам?
Екатерина чуть слышно охнула.
– В этом была моя слабость, – продолжал Карл. – Сожгите книгу, мадам: не надо, чтобы люди знали о королевских слабостях!
Екатерина подошла к горящему камину, бросила в огонь книгу и молча, не двигаясь с места, глядела мутным взором, как синеватое пламя съедало страницы, пропитанные ядом. Чем больше их съедало пламя, тем сильнее пахло чесноком.
Наконец книга сгорела.
– Теперь, мадам, позовите моего брата, – произнес Карл с непререкаемой властностью.
Совершенно растерявшись, подавленная множеством разнообразных чувств, которых был не в силах осознать даже ее глубокий ум и не могла преодолеть почти сверхчеловеческая сила ее воли, королева-мать сделала шаг по направлению к Карлу, собираясь что-то сказать, но остановилась. Три чувства в ней кричали громче всех: в матери – муки совести, в королеве – ужас, в отравительнице – вновь вспыхнувшая ненависть. Последнее чувство взяло верх над всеми остальными.
– Будь он проклят! – воскликнула она, бросаясь вон из комнаты. – Он торжествует, он у цели! Да, проклят! Проклят!
– Вы слышали: моего брата, брата Генриха! – крикнул ей Карл. – Моего брата Генриха, и сию минуту! Я хочу переговорить с ним о регентстве над государством.
Почти сейчас же вслед за Екатериной вошел в другую дверь Амбруаз Паре; он остановился на пороге и принюхался к чесночному запаху, наполнившему спальню короля.
– Кто жег мышьяк? – спросил он.
– Я, – ответил Карл.
XIII. Вышка Венсенской крепости
В это время Генрих Наваррский задумчиво прогуливался по вышке главной башни; он знал, что королевский двор живет шагах в ста от него, здесь, в Венсенском замке; и проницательный взор Генриха как будто видел умирающего Карла сквозь стены замка.
Вокруг все голубело, золотилось. Потоки солнечного света широко разливались по долинам и золотили верхушки леса, гордившегося великолепием молодой листвы. Мягкое, теплое дыхание неба, казалось, пропитывало даже серые камни башни; и цветы левкоя, занесенного в ее расселины восточным ветром, раскрывали свои оранжевые венчики под теплым дуновением воздуха.
Но не зеленые долины, не золотистые древесные вершины влекли к себе пристальный взор Генриха; взгляд его переносился через пространство и, светясь огнем честолюбия, смотрел упорно на тогдашнюю столицу Франции, в будущем – столицу мира.
– Вот он – Париж, – шептал король Наваррский. – Париж! В нем власть, слава, радость, торжество и счастье! В нем – Лувр, а в Лувре – трон. Что отделяет меня от столь желанного Парижа? Только одно – те камни, что громоздятся здесь у моих ног и служат жилищем моей врагине.
В то время как Генрих переносил свой взгляд с Парижа на Венсен, он вдруг заметил слева от себя, в долине, осененной миндальными деревьями в цвету, какого-то мужчину в латах, на которых играл луч солнца, и этот зайчик порхал вдали при всех передвижениях неизвестного мужчины. Незнакомец сидел верхом на горячей лошади, держа в поводу другую лошадь, по-видимому, такую же ретивую, как первая.
Король Наваррский стал всматриваться и увидел, что замеченный им всадник обнажил шпагу, надел на ее острие носовой платок и стал махать им, словно подавая кому-то знак. В ту же минуту с холма напротив ему ответили таким же знаком, а через несколько секунд везде кругом зареял целый хоровод из носовых платков.
Это был де Муи со своими гугенотами: узнав, что Карл при смерти, и опасаясь покушения на жизнь Генриха, они все собрались, готовые и нападать, и защищать.
Генрих опять перевел взгляд на первого замеченного всадника, перегнулся через ограду вышки, прикрыл глаза ладонью и, защитив их от ослепляющих солнечных лучей, узнал молодого гугенота.
– Де Муи! – крикнул король Наваррский, как будто де Муи мог услышать его.
И в радости, что окружен друзьями, Генрих снял шляпу и замахал шарфом. В ответ все белые платочки вновь замелькали с особым оживлением, говорившим о радости его друзей.
– Увы! Они ждут меня, – сказал Генрих, – а я не могу к ним присоединиться!.. Зачем я этого не сделал, когда еще была возможность!.. Теперь я опоздал.
Он жестом выразил друзьям свое отчаяние, на что де Муи ответил ему знаками, имевшими смысл: «Буду ждать».
В это мгновение Генрих Наваррский услышал шаги по каменной лестнице, ведущей на площадку. Он быстро отошел от парапета. Гугеноты поняли, что так он поступил не без причины. Шпаги опять ушли в ножны, платки исчезли.
Генрих увидел в пролете лестницы запыхавшуюся от быстрого подъема женщину и не без тайного ужаса, который он испытывал всегда при ее виде, узнал Екатерину Медичи. Сзади нее шли двое королевских стражей и остановились на верхней ступеньке лестницы.
– Ого! – прошептал Генрих. – Что-то новое и очень важное должно было произойти, если королева-мать сама пришла за мной на вышку Венсенской крепости.
Екатерина села на каменную скамейку парапета, чтобы отдышаться. Генрих подошел к ней и с самой любезной улыбкою спросил:
– Милая матушка, уж не ко мне ли вы пришли?
– Да, месье, – ответила Екатерина, – я хочу доказать вам в последний раз мое расположение. Наступила решительная минута: король умирает и хочет с вами говорить.
– Со мной? – спросил Генрих, затрепетав от радости.
– Да, с вами. Как я узнала, ему наговорили, будто вы не только сожалеете о потере наваррского престола, но простираете свое честолюбие и на престол французский.
– Ого! – произнес Генрих.
– Я-то знаю, что это не так, но король верит этому, и разговор, который он намерен вести с вами, имеет целью устроить вам ловушку.
– Мне?
– Да. Перед своей смертью Карл желает знать, чего он может опасаться и на что рассчитывать с вашей стороны. Имейте в виду, от вашего ответа на его предложения будут зависеть его последние приказания о вас, то есть ваша жизнь или ваша смерть.
– Но что он может предлагать мне?
– Откуда я знаю? Вероятно, что-нибудь немыслимое.
– А вы, матушка, не догадываетесь – что именно?
– Нет, могу только предполагать; например…
Екатерина не договорила – что.
– Что же?
– Поскольку король верит наговорам о ваших честолюбивых замыслах, я предполагаю, что он хочет услышать из собственных ваших уст доказательство вашего честолюбия. Представьте себе, что вас будут искушать – как, бывало, соблазняли преступников с целью вырвать у них признание, не прибегая к пытке. Представьте себе, – продолжала Екатерина, глядя в упор на Генриха, – что вам предложат управление государством, даже регентство.
Невыразимо радостное чувство охватило угнетенную душу короля Наваррского, но Генрих понял, куда Екатерина метит, и его крепкая, упругая душа вся напряглась от ее натиска.
– Мне? – переспросил он. – Нет, это была бы слишком грубая ловушка: предлагать мне регентство, когда есть вы, когда есть брат мой, герцог Алансонский…
Екатерина прикусила губу, чтобы скрыть чувство удовлетворения.
– Значит, вы отказываетесь от регентства? – спросила она с оживлением.
«Король уже умер, – подумал Генрих, – и это она устраивает мне ловушку». Затем ответил:
– Прежде всего я должен выслушать самого короля, так как, по вашему собственному признанию, мадам, все то, что вы сейчас сказали, – одно предположение.
– Конечно, – сказала Екатерина, – но это все же не мешает вам изъяснить свои намерения.
– Ах, боже мой! – простодушно ответил Генрих. – Поскольку я ничего не домогаюсь, у меня нет никаких намерений!
– Это не ответ, – возразила Екатерина и, чувствуя, что время уходит, дала волю своему гневу: – Говорите определенно: да или нет!
– Я не могу, мадам, давать ответ на одни предположения. Определенное решение – вещь настолько трудная, а главное – настолько серьезная, что надо подождать настоящих предложений.
– Слушайте, месье, – сказала Екатерина, – мы теряем время в бесплодных пререканиях, во взаимных увертках. Давайте играть в открытую, как подобает королю и королеве. Если вы согласитесь стать регентом, вас ждет смерть.
«Король жив», – подумал Генрих и ответил твердым тоном:
– Мадам, жизнь и простых людей, и королей в руках божиих! Бог вразумит меня. Пусть доложат его величеству, что я готов к нему явиться.
– Подумайте, месье.
– За те два года, что я жил в опале, и за месяц моего заключения здесь, мадам, у меня было время все обдумать, и я обдумал, – внушительно ответил Генрих. – Будьте добры, пройдите первой к королю и передайте ему, что я следую за вами. Два эти молодца, – добавил Генрих, указывая на двух солдат, – позаботятся, чтобы я не убежал. Кроме того, я и не собираюсь это делать.
В его словах звучала такая твердая уверенность в себе, что Екатерина сразу поняла бесплодность всех своих попыток подействовать на Генриха, чем их ни прикрывай, и стремительно ушла с площадки.
Как только она скрылась из виду, Генрих подбежал к парапету и знаками передал своему другу де Муи распоряжение: «Подъезжайте ближе к замку и будьте наготове». Де Муи, который было спешился, снова вскочил в седло, подскакал вместе с запасной лошадью ближе и остановился в удобном месте, на расстоянии двух мушкетных выстрелов от крепости. Генрих жестом поблагодарил его и сошел вниз. На первой площадке его ждали двое конвойных.
Усиленный наряд из швейцарцев и легких конников охранял вход в крепостные дворы: таким образом, чтобы войти в крепость или из нее выйти, необходимо было пройти между двумя рядами стоявших стеною протазанов. Около них Екатерина дожидалась Генриха. Она знаком остановила двух солдат, сопровождавших короля Наваррского, и, положив свою руку на его руку, сказала:
– В этом дворе двое ворот: вон у тех, что за покоями короля, вас ждет хорошая лошадь и свобода, если вы откажетесь от регентства; а если вы послушаетесь голоса вашего честолюбия, то у тех ворот, в которые вы сейчас прошли… Что говорите вы?
– Я говорю, мадам, что если король назначит меня регентом, то отдавать приказания солдатам будете не вы, а я. Я говорю, что вечером, когда я выйду от короля, все эти алебарды и мушкеты склонятся передо мной.
– Безумец! – в отчаянии прошептала Екатерина. – Верь мне и не играй с Екатериной в страшную игру на жизнь и на смерть.
– Почему нет? – спросил Генрих, глядя в упор на Екатерину. – Почему не играть с вами, как с любым другим, раз до сих пор выигрывал я?
– Если вы ничему не верите и не хотите ничего слушать, тогда взойдите к королю, – сказала Екатерина, показывая одной рукой на лестницу, а другой рукой нащупывая рукоятку одного из двух отравленных кинжальчиков, которые она носила в черных сафьяновых ножнах, ставших историческими.
– Проходите первой, мадам. Пока я не стану регентом, честь идти впереди принадлежит вам.
Екатерина, чувствуя, что все ее намерения разгаданы, не пыталась противиться и пошла первой.
XIV. Регентство
Король уже начал терять терпение, вызвал к себе де Нансе и только что приказал ему сходить за Генрихом, как Генрих появился на пороге королевской спальни. Увидев своего зятя, Карл радостно вскрикнул, а Генрих остановился в ужасе, как будто наткнулся на чей-то труп.
Врачи, стоявшие по обе стороны королевского ложа, ушли. Священник, увещевавший несчастного государя принять конец свой по-христиански, тоже удалился.
Карла IX не любили; однако многие стоявшие в передних комнатах горько плакали: в случае смерти какого-нибудь короля всегда оказываются люди, которые при этом теряют нечто и опасаются, что это «нечто» уже не вернется к ним при новом короле.
Эта скорбь, плач, слова Екатерины, мрачное и торжественное настроение, сопровождающее последние минуты королей, наконец, вид самого короля, пораженного болезнью, уже вполне определившейся, но еще неведомой науке, – все это произвело страшное действие на юный, а следовательно, и впечатлительный ум Генриха. Вопреки своему решению не возбуждать в Карле новых тревог, Генрих не мог подавить чувство ужаса, и оно отразилось на его лице при виде умирающего короля, покрытого кровавым потом.
От умирающих не ускользает ни одно выражение на лицах тех, кто окружает их, и Карл грустно улыбнулся.
– Подойди, Анрио, – сказал он, протягивая руку зятю и говоря таким нежным тоном, какого никогда не слышал у него Генрих. – Иди ко мне, я так страдал оттого, что не виделся с тобой. При своей жизни я тебя сильно мучил, мой милый друг, но верь мне, я часто корю себя за это; случалось, что я и помогал тем, кто тебя мучил, но король не властен над обстоятельствами, и, кроме моей матери и моих братьев – герцога Анжуйского и герцога Алансонского, надо мной всю мою жизнь тяготело нечто, что меня стесняло и что перестает давить на меня только теперь, когда я близок к смерти: благо государства!
– Сир, – тихо отвечал Генрих, – я помню лишь одно – мою любовь, которую я всегда питал к моему брату, и мое уважение, которое я всегда оказывал моему королю.
– Да, да, верно, – сказал Карл, – я признателен тебе, Анрио, за то, что ты говоришь так; ведь, говоря правду, ты много претерпел под моей властью, помимо того, что твоя мать умерла во время моего правления. Но ты должен был видеть, что меня толкали к этому другие. Иногда я боролся и не сдавался, иногда же я уставал сопротивляться и уступал. Но верно ты сказал, не будем поминать прошлое, сейчас меня торопит настоящее, меня пугает будущее.
И, говоря эти слова, бедный король закрыл свое мертвенно-бледное лицо костлявыми руками. С минуту Карл молчал, затем, чтобы отогнать от себя мрачные мысли, тряхнул головой, причем забрызгал все кругом себя кровавым потом.
– Надо спасать государство, – шепотом сказал он, наклоняясь к Генриху, – надо, чтобы оно не попало в руки фанатиков или баб.
Как мы сказали, Карл произнес эти слова шепотом, но Генриху почудился за ширмами около кровати как бы подавленный крик ярости. Возможно, что благодаря какому-то отверстию, проделанному в стене без ведома Карла, Екатерина подслушивала этот предсмертный разговор.
– Баб? – переспросил король Наваррский, чтобы вызвать короля на объяснение.
– Да, Анрио, – ответил Карл. – Моя мать хочет быть регентшей, пока не вернется из Польши мой брат. Но слушай, что я тебе скажу: он не вернется.
– Как! Он не вернется? – воскликнул Генрих, и его сердце забилось от тайной радости.
– Нет, не вернется, – продолжал Карл, – его не выпустят его же собственные подданные.
– Но неужели вы думаете, брат мой, – спросил Генрих, – что королева-мать не написала ему заранее?
– Конечно, да, но Нансе перехватил гонца в Шато-Тьери и привез письмо мне; в этом письме она писала, что я при смерти. Но я тоже написал письмо в Варшаву, а мое письмо дойдет, я в этом уверен, и за моим братом будут наблюдать. Таким образом, по всей вероятности, престол окажется свободным.
За альковом вторично и более явственно, чем в первый раз, послышался звук человеческого голоса.
«Несомненно, она там, – подумал Генрих, – подслушивает и ждет!»
Карл ничего не слышал и продолжал:
– Я умираю, а наследника-сына у меня нет.
Карл остановился; казалось, милая сердцу мысль озарила его лицо, и, положив руку на плечо короля Наваррского, он сказал:
– Увы! Помнишь, Анрио, того бедного ребенка, которого я показал тебе, когда он спал в шелковой колыбели, хранимый ангелом? Увы! Они его убьют!..
Глаза Генриха наполнились слезами.
– Сир, – воскликнул он, – клянусь вам богом, что его жизнь я буду охранять и день и ночь. Приказывайте, сир.
– Спасибо! Спасибо, Анрио, – произнес король с таким чувством, какое было чуждо его характеру, но вызывалось обстоятельствами. – Я принимаю твой обет. Не делай из него короля: он рожден не для трона, а для счастья. Я оставляю ему независимое состояние; пусть благородство его матери – благородство души – станет и его отличительной чертой. Может быть, для него будет лучше, если посвятить его служению церкви; тогда внушит он меньше опасений. Ах! Мне кажется, что я бы умер хоть не счастливым, но по крайней мере спокойным, если бы мог утешиться теперь ласками этого ребенка и видеть перед собою его мать.
– Сир, а разве вы не можете послать за ними?
– Что ты говоришь! Да им отсюда не уйти живыми. Вот, Анрио, положение королей: они не могут ни жить, ни умереть, как хочется. Но после твоего обещания я чувствую себя покойнее.
Генрих задумался.
– Да, сир, я правда обещал, но буду ли я в состоянии сдержать свое обещание?
– Что ты разумеешь?
– Ведь и я сам здесь человек отверженный, нахожусь под угрозой так же, как он… и даже больше: потому что он ребенок, а я мужчина.
– Нет, это не так, – ответил Карл. – С моей смертью ты будешь силен и могуществен, а силу и могущество даст тебе вот это.
С этими словами умирающий Карл вынул из-под подушки грамоту.
– Возьми, – сказал он.
Генрих пробежал глазами грамоту, скрепленную королевской печатью.
– Сир, вы назначаете меня регентом? – сказал Генрих, побледнев от радости.
– Да, я назначаю тебя регентом до возвращения герцога Анжуйского; а так как, по всей вероятности, герцог Анжуйский сюда больше не вернется, то эта грамота дает тебе не регентство, а трон.
– Трон! Мне?! – прошептал Генрих.
– Да, тебе, – ответил Карл, – тебе, единственно достойному, а главное – единственно способному справиться с этими распущенными придворными и с этими развратными девками, которые живут чужими слезами и чужой кровью. Мой брат, герцог Алансонский, – предатель и будет предавать всех. Оставь его в крепости, куда я засадил его. Моя мать будет стараться извести тебя, – отправь ее в изгнание. Через три-четыре месяца, а может быть, и через год мой брат, герцог Анжуйский, бросит Варшаву и явится оспаривать у тебя власть, ответь ему грамотой папы о твоем утверждении. Я это провел через моего посланника, герцога Невэрского, и ты немедленно получишь такую грамоту.
– О мой король!
– Берегись только одного, Генрих, – гражданской войны. Но, оставаясь католиком, ты ее минуешь, потому что и партия гугенотов может быть крепкой лишь при условии, если ты станешь во главе ее, принц же Конде не в силах вести борьбу с тобой. Франция – страна равнинная, а следовательно, должна быть страной единой, католической. Король Франции должен быть королем католиков, а не гугенотов, – так как французским королем должен быть король большинства. Говорят, будто меня мучит совесть за Варфоломеевскую ночь. Сомнения – да! А совесть – нет. Болтают, что у меня сквозь поры кожи выходит кровь гугенотов. Я знаю, что из меня выходит: не кровь, а мышьяк.
– О, что вы сказали, сир?
– Ничего. Если моя смерть требует отмщения, Анрио, то это дело только бога. Не будем говорить о моей смерти, займемся тем, что после нее будет. Я оставляю тебе в наследство хороший парламент, испытанную армию. Обопрись на парламент и на армию в борьбе с твоими единственными врагами: моей матерью и герцогом Алансонским.
Глухое бряцание оружия и слова военной команды раздались в вестибюле Лувра.
– Это моя смерть, – прошептал Генрих.
– Ты боишься, ты колеблешься? – с тревогой спросил Карл.
– Я? Нет, сир, – ответил Генрих, – я не боюсь и не колеблюсь. Я согласен.
Карл пожал ему руку. В это время к нему подошла его кормилица с питьем, которое она готовила в соседней комнате, не обращая внимания на то, что в трех шагах от нее решалась судьба Франции.
– Милая кормилица, позови мою мать и скажи, чтобы привели сюда герцога Алансонского.
XV. Король умер – да здравствует король!
Спустя несколько минут вошли Екатерина и герцог Алансонский, дрожа от ярости и бледные от страха. Генрих угадал: Екатерина знала все и рассказала Франсуа. Они сделали несколько шагов и остановились в ожидании. Генрих стоял у Карла в головах. Увидев мать и брата, Карл объявил им свою волю.
– Мадам, – сказал он матери, – будь у меня сын, регентство перешло бы к вам, а не было бы вас, то к королю Польскому, а если бы не было его, то к моему брату Франсуа. Но сына у меня нет, и после меня престол принадлежит моему брату, герцогу Анжуйскому, а он не здесь. Так как рано или поздно он может явиться и потребовать себе престол, я не хочу, чтобы он нашел на своем месте человека, который, опираясь на почти равные права, станет оспаривать престол, что грозило бы государству войною между претендентами. На том же основании я не назначаю вас регентшей, так как вам пришлось бы выбирать между двумя сыновьями, что было бы тяжко для материнского сердца. На том же основании я не остановил своего выбора и на моем брате Франсуа, так как мой брат Франсуа мог бы сказать старшему брату: «У вас есть свой престол, незачем было бросать его!» Нет! Я выбирал такого регента, который принял бы королевскую корону только на хранение и держал бы ее под своей рукой, а не надевал себе на голову. Этот регент – король Наваррский. Приветствуйте его, мадам! Приветствуйте его, мой брат!
И, подтверждая жестом свою последнюю волю, Карл сам приветствовал Генриха. Екатерина и герцог Алансонский сделали головой движение, среднее между нервной дрожью и приветствием.
– Ваше высочество регент, возьмите, – сказал Карл королю Наваррскому, – вот грамота, которой вам даруются, до возвращения короля Польского, командование всеми армиями, ключи от государственной казны, королевские права и власть.
Екатерина взглядом пожирала Генриха, Франсуа шатался, едва удерживаясь на ногах. Но и его слабость, и сдержанность Екатерины не только не успокаивали Генриха, а явно указывали на непосредственную, нависшую, уже грозящую ему опасность.
Большим напряжением воли Генрих превозмог свою боязнь и взял из рук короля свиток. Затем, выпрямившись во весь рост, он бросил на Екатерину и на Франсуа взгляд, пристальный и ясно говоривший:
«Берегитесь, я ваш господин!»
Екатерина поняла этот взгляд.
– Нет, нет, никогда! – сказала она. – Никогда мой род не склонит головы перед чужим родом! Пока жив хоть один Валуа, никогда во Франции не будет царствовать Бурбон.
– Матушка, матушка! – закричал на нее Карл, поднимаясь на окровавленной постели, страшный как никогда. – Берегитесь, я еще король! Знаю, что ненадолго, но мне не нужно много времени, чтобы отдать приказ, и не много надо времени, чтобы наказать убийц и отравителей.
– Хорошо! Отдавайте ваш приказ, если посмеете. А я пойду отдавать свои приказы. Идем, Франсуа, идем! – сказала Екатерина и быстро вышла, увлекая за собой герцога Алансонского.
– Нансе! – крикнул Карл. – Нансе, сюда, ко мне! Я приказываю, я требую, Нансе: арестуйте мою мать, арестуйте моего брата, арестуйте…
Хлынувшая горлом кровь прервала слова Карла. И в то мгновение, когда начальник охраны открыл дверь, король, задыхаясь, хрипел на своей кровати. Нансе слышал только свое имя, но приказания, произнесенные уже не так отчетливо, потерялись в пространстве.
– Охраняйте дверь, – распорядился Генрих, – и не впускайте никого.
Нансе поклонился и вышел.
Генрих снова перенес взгляд на лежавшее перед ним безжизненное тело, которое могло бы показаться трупом, если бы слабое дыхание не шевелило полоску кровавой пены, окаймлявшей его губы.
Генрих долго смотрел на Карла, потом, говоря с самим собой, сказал:
– Вот решительная минута: царство или жизнь?
В это мгновение завеса за альковом чуть приподнялась, из-за нее показалось бледное лицо, и среди мертвой тишины, царившей в королевской спальне, прозвучал голос.
– Жизнь! – сказал этот голос.
– Рене! – воскликнул Генрих.
– Да, сир.
– Значит, твое предсказание – ложь. Я не буду королем? – спросил Генрих.
– Будете, сир, но ваше время еще не приспело.
– Почем ты знаешь? Говори, я хочу знать, можно ли тебе верить!
– Слушайте.
– Слушаю.
– Нагнитесь.
Король Наваррский перегнулся над телом Карла. Рене нагнулся тоже. Их разделяла лишь кровать, но и это расстояние теперь уменьшилось благодаря их встречному движению друг к другу. Между ними лежало по-прежнему безгласное и недвижимое тело умирающего короля.
– Слушайте! – сказал Рене. – Меня здесь поместила королева-мать, чтобы вас убить, но я предпочитаю служить вам, так как верю вашему гороскопу; оказывая вам услугу тем, что я сделаю для вас сию минуту, я спасу и свое тело, и свою душу.
– А не по приказанию ли той же королевы-матери ты это говоришь? – спросил Генрих, обуреваемый сомнениями и недобрыми предчувствиями.
– Нет, – ответил Рене. – Выслушайте одну тайну.
Он наклонился еще больше. Генрих сделал то же самое, так что их головы почти соприкасались.
Разговор двух мужчин, склонившихся над умирающим королем, приобретал характер настолько жуткий, что у суеверного флорентийца зашевелились волосы на голове, а на лице у Генриха выступили крупные капли пота.
– Выслушайте, – продолжал Рене, – выслушайте тайну, известную лишь мне. Я вам ее открою, если вы поклянетесь простить мне смерть вашей матери.
– Я уже обещал простить, – ответил Генрих, лицо которого омрачилось.
– Обещали, но не клялись, – сказал Рене, отклоняясь от Генриха.
– Клянусь, – ответил Генрих, протягивая правую руку над головой Карла.
– Польский король уже едет, – торопливо проговорил Рене.
– Нет, – сказал Генрих, – король Карл задержал гонца.
– Король Карл задержал только одного, на дороге в Шато-Тьери; но королева-мать предусмотрительно послала трех, по трем разным дорогам.
– О! Тогда горе мне!
– Гонец из Варшавы прибыл сегодня утром. Король Польский выехал вслед за ним, и никому в голову не пришло его задерживать, потому что в Варшаве еще не знали о болезни короля. Гонец опередил Генриха Анжуйского всего на несколько часов.
– О, если бы в моем распоряжении было только семь дней! – воскликнул Генрих.
– Да, но вы не располагаете даже семью часами. Разве вы не слышали звона оружия, которое раздавали людям?
– Слышал.
– Это оружие – против вас. Они придут даже сюда и убьют вас хоть в спальне короля.
– Но король еще не умер.
Рене пристально посмотрел на Карла.
– Через десять минут он умрет. Итак, вам остается жить всего десять минут, а может быть, и меньше.
– Что же делать?
– Бежать, не теряя ни минуты, ни одной секунды.
– Но каким путем? Если меня поджидают в передней, то убьют, как только я отсюда выйду.
– Слушайте! Ради вас я рискую всем, не забывайте этого никогда.
– Будь покоен.
– Идемте, потайным ходом я доведу вас до задней калитки. Затем, чтобы дать вам время убежать, я пойду к королеве-матери и скажу, что вы сейчас сойдете вниз; подумают, что вы сами обнаружили этот потайной ход и воспользовались им, чтобы убежать. Идем, идем!
Генрих наклонился к Карлу и поцеловал его в лоб.
– Прощай, мой брат, – сказал он, – я не забуду, что последним твоим желанием было видеть меня твоим преемником. Я не забуду, что последним твоим желанием было сделать меня королем. Почий с миром! От имени моих собратьев прощаю тебе их пролитую кровь.
– Скорей! Скорей! – сказал Рене. – Он приходит в чувство! Бегите, пока он не раскрыл глаз, бегите!
– Кормилица! – пробормотал Карл. – Кормилица!
Генрих схватил шпагу Карла, висевшую в головах у короля и теперь ненужную ему, засунул за пазуху грамоту о назначении регентом, в последний раз поцеловал в лоб Карла, обежал вокруг кровати и бросился в проход, который закрылся вслед за ним.
– Кормилица! – крикнул Карл громче. – Кормилица!
Кормилица подбежала и спросила:
– Что тебе, Шарло?
– Кормилица, – сказал Карл, приподняв веки и раскрывая глаза с расширенными зрачками, страшно застывшими в смертной неподвижности, – кормилица, пока я спал, что-то произошло во мне: я вижу яркий свет, я вижу господа нашего бога; я вижу пресветлого Иисуса Христа и присноблаженную Деву Марию. Они просят, они молят за меня бога. Всемогущий господь меня прощает… зовет меня к себе… Господи! Господи! Прими меня в милосердии твоем… Господи! Забудь, что я был королем, ведь я иду к тебе без скипетра и без короны. Господи! Забудь преступления короля и помни лишь мои страдания как человека… Господи! Вот я!
Произнося эти слова, Карл приподнимался все больше и больше, как будто двигался на голос того, кто звал его к себе, затем с последними словами испустил дух и упал на руки кормилицы мертв, недвижим.
Пока солдаты, отряженные Екатериной, занимали коридор, по которому Генрих должен был неминуемо пройти от короля, сам Генрих, по указанию Рене, проскользнул по потайному ходу к задней калитке, вскочил на приготовленную лошадь и поскакал в том направлении, где, как он знал, его ждет де Муи.
Вдруг несколько часовых обернулись на топот лошади, скакавшей по гулкой мостовой, и крикнули:
– Бежит! Бежит!
– Кто? – закричала королева-мать, подходя к окну.
– Король Наваррский! Король Наваррский! – орали часовые.
– Стреляй! Стреляй по нему! – крикнула Екатерина.
Часовые прицелились, но Генрих был уже недосягаем.
– Бежит – значит, побежден! – воскликнула королева– мать.
– Бежит – значит, король я! – прошептал герцог Алансонский.
Но в ту самую минуту, когда Франсуа и королева-мать еще стояли у окна, подъемный мост загромыхал под лошадиными копытами, послышалось бряцание оружия, гул многих голосов, и молодой человек со шляпою в руке въехал галопом во двор Лувра, крича: «Франция!», а вслед за ним – четверо дворян, покрытых, как и он, пылью, потом и пеною взмыленных коней.
– Сын! – крикнула Екатерина, протягивая руки в раскрытое окно.
– Мама! – ответил молодой человек, спрыгивая с лошади.
– Брат! Анжуйский! – с ужасом воскликнул Франсуа, отступая от окна.
– Опоздал? – спросил свою мать Генрих Анжуйский.
– Нет, наоборот, как раз вовремя; сама десница божия не привела бы тебя более кстати. Смотри и слушай!
В это время начальник охраны де Нансе вышел на балкон королевской опочивальни. Все взоры обратились на него.
Он вынес деревянный жезл, разломил надвое, затем, держа в вытянутых руках по половинке, три раза крикнул:
– Король Карл Девятый умер! Король Карл Девятый умер! Король Карл Девятый умер!
И выпустил из рук обе половинки.
– Да здравствует король Генрих Третий! – крикнула Екатерина и перекрестилась, выражая благодарность богу. – Да здравствует король Генрих Третий!
Все повторили этот возглас, кроме Франсуа.
– А-а! Она провела меня, – прошептал он, раздирая ногтями себе грудь.
– Я одержала верх, – воскликнула Екатерина, – проклятый Беарнец не будет царствовать!
XVI. Эпилог
Прошел год со времени смерти Карла IX и восшествия на престол его преемника. Король Генрих III, благополучно царствующий по милости бога и своей матери Екатерины, отправился принять участие в пышном крестном ходе к Клерийской Божьей Матери. Он шел пешком вместе со своей женой и со всем двором.
Король Генрих III мог разрешить себе приятное времяпрепровождение: в ту пору никакая серьезная забота его не беспокоила. Король Наваррский жил в Наварре, куда он так стремился, и, как говорили, был сильно увлечен какой-то красивой девушкой из рода Монморанси, которую он звал Могильщицей. Маргарита была с ним, мрачная, печальная, и только здесь, среди красивых гор, она нашла если не отвлечение, то облегчение от двух переживаний, наиболее тяжелых в жизни: утраты и смерти близких.
В Париже было все спокойно, и королева-мать, ставшая в действительности регентшей с тех пор, как ее дорогой сын Генрих сделался королем, жила то в Лувре, то в особняке Суассон, занимавшем тогда участок, где теперь Хлебный рынок и где от этого особняка до сих пор осталась изящная колонна.
Однажды вечером Екатерина усиленно занималась изучением созвездий вместе с Рене, не зная о предательских проделках флорентийца, который опять вошел к ней в милость благодаря своим ложным показаниям в деле Коконнаса и Ла Моля; как раз в это время пришли сказать, что у нее в молельне ждет ее какой-то мужчина, желающий сообщить крайне важное известие. Екатерина спустилась к себе в молельню, где нашла Морвеля.
– Он здесь! – воскликнул отставной командир петардщиков, вопреки правилам придворного этикета не дав Екатерине времени обратиться к нему первой.
– Кто – он ?
– Кто же другой, мадам, как не король Наваррский?
– Здесь?! – сказала Екатерина. – Он … здесь… Генрих… зачем этот безумец здесь?
– Если судить по тому, что явно, – он приехал повидать мадам де Сов, только и всего. Если же судить по тому, что вероятно, – он приехал с целью заговора против короля.
– Откуда вы знаете, что он здесь?
– Вчера я видел, как он входил в один дом, а через минуту вошла туда же мадам де Сов.
– А вы уверены, что это он?
– Я ждал, пока он выйдет, потратил на это половину ночи. В три часа утра оба влюбленных отправились по домам. Король проводил мадам де Сов до самой пропускной калитки Лувра. Благодаря привратнику, несомненно подкупленному, она прошла туда без всяких неприятностей, а король, напевая песенку, пошел обратно, и так развязно, точно у себя в горах.
– Куда же он пошел?
– На улицу Арбр-сек, в гостиницу «Путеводная звезда», к тому самому трактирщику, у которого жили два колдуна, казненные в прошлом году по приказанию вашего величества.
– Почему же вы не пришли сказать об этом мне сейчас же?
– Потому, что я не был вполне уверен в своих наблюдениях.
– А теперь?
– Теперь уверен.
– Ты его видел?
– Совершенно ясно. Я сел в засаду у виноторговца, что напротив; прежде всего я увидел его, когда он входил в тот же дом, что и накануне, но мадам де Сов запоздала; тогда он имел неосторожность приложиться лицом к оконному стеклу в окне второго этажа, и на этот раз у меня не осталось никаких сомнений. А кроме того, в ту же минуту пришла к нему опять мадам де Сов.
– Так ты думаешь, они, как и прошлой ночью, пробудут там до трех часов утра?
– Вполне возможно.
– А где находится этот дом?
– У Круа-де-Пти-Шан, около улицы Сент-Оноре.
– Хорошо, – сказала Екатерина. – Мадам де Сов знает ваш почерк?
– Нет.
– Садитесь и пишите.
Морвель сел и взял перо.
– Я готов, мадам, – сказал он.
Екатерина продиктовала:
– «Пока барон де Сов дежурит в Лувре, баронесса с одним франтом из числа его друзей пребывает в доме близ Круа-де-Пти-Шан, около улицы Сент-Оноре; барон де Сов узн?ет этот дом по красному кресту, который будет начерчен на его стене».
– Дальше? – спросил Морвель.
– Сделайте копию с этого письма, – ответила Екатерина.
Морвель слепо повиновался.
– Теперь, – сказала Екатерина, – поручите эти письма какому-нибудь сметливому человеку: пусть он одно отдаст барону де Сов, а другое обронит где-нибудь в коридорах Лувра.
– Не понимаю, – сказал Морвель.
Екатерина пожала плечами.
– Неужели вы не понимаете, что муж, получив такое письмо, рассердится?
– Но, как мне кажется, мадам, во времена короля Наваррского он не сердился.
– То, что сходит с рук королю, может не пройти даром простому поклоннику. Кроме того, если не рассердится он сам, то за него рассердитесь вы.
– Я?
– Конечно. Вы возьмете с собой четверых, если надо – шестерых людей, наденете маски, вышибете дверь, как будто вас послал барон, захватите влюбленных в разгар свидания и нанесете удар во имя короля; а наутро письмо, потерянное в одном из коридоров Лувра и найденное какой-нибудь сердобольною душой, засвидетельствует, что это была месть мужа, а убитый поклонник совершенно случайно оказался королем Наваррским; но кто же мог это предвидеть, если все думали, что он живет в По?
Морвель с восхищением посмотрел на Екатерину, раскланялся и вышел.
В то время как Морвель выходил из суассонского особняка, мадам де Сов входила в домик у Круа-де-Пти-Шан. Генрих ждал у приоткрытой двери и, как только увидел ее на лестнице, спросил:
– За вами не следили?
– По-видимому, нет, – ответила Шарлотта.
– А за мной, кажется, следили, – сказал Генрих, – и не только прошлой ночью, но и сегодня вечером.
– О господи! Вы меня пугаете, сир; если то, что вы вспомнили о вашей прежней подруге, обратится против вас, я буду безутешна.
– Не беспокойтесь, моя крошка, – ответил Беарнец, – под покровом ночи нас берегут три шпаги.
– Три? Слишком мало, сир.
– Достаточно, если их имена – де Муи, Сокур и Бартельми.
– Так де Муи в Париже?
– Разумеется.
– Неужели он осмелился вернуться в столицу? Значит, и у него есть бедняжка, влюбленная в него до безумия?
– Нет, но у него есть враг, и де Муи дал клятву его убить. Только ненависть, дорогая, заставляет нас делать столько же глупостей, сколько и любовь.
– Спасибо, сир.
– О! Это относится не к тем глупостям, которые я делаю сейчас, а к прошлым и будущим. Не будем спорить на эту тему и терять время.
– Вы все-таки решили ехать?
– Сегодня ночью.
– Вы, значит, покончили с делами, ради которых вы приехали в Париж?
– Я приезжал только ради вас.
– Какой обманщик!
– Святая пятница! Я говорю правду, крошка. Не надо прошлого: мне остается два-три часа счастья, а затем – вечная разлука.
– Ах, сир! Нет ничего вечного, кроме моей любви.
Только что сказав, что у него нет времени для рассуждений, Генрих не стал с ней спорить, а поверил на слово или же, будучи скептиком, сделал вид, что верит.
Как сообщил король Наваррский, все это время де Муи и два его товарища прятались тут же, по соседству с этим домом. Было условленно, что Генрих выйдет из него не в три часа, а в полночь, затем они проводят, как вчера, мадам де Сов до Лувра, а оттуда пойдут на улицу Серизе, где жил Морвель. Де Муи только сегодня днем узнал точно, в каком доме проживает его враг.
Все трое были на своем посту уже с час времени, как вдруг заметили человека, пришедшего в сопровождении пяти других, который подошел к домику и стал подбирать ключ к его двери. Увидев это, де Муи, прятавшийся в нише соседнего дома, одним прыжком из своего укрытия подскочил к человеку и схватил его за руку.
– Одну минуту, – сказал он, – вход воспрещен!
Человек отскочил назад, и от резкого движения с него свалилась шляпа.
– Де Муи де Сен-Фаль! – воскликнул он.
– Морвель! – яростно крикнул гугенот, приподнимая вверх свою шпагу. – Я-то тебя искал, а ты сам пришел ко мне? Спасибо!
Однако при всей своей ярости де Муи не забыл о Генрихе и, повернув голову к окну, свистнул, как свистят беарнские пастухи.
– Этого довольно, – сказал он Сокуру. – Ну, а теперь подходи, убийца! Ближе, ближе!
И де Муи набросился на Морвеля.
Морвель успел за это время вытащить из-за пояса пистолет.
– Ага! На этот раз ты, кажется, умрешь, – сказал Королевский Истребитель, прицеливаясь в молодого человека.
Он выстрелил, но де Муи отскочил вправо, и пуля пролетела мимо.
– Теперь черед за мной! – крикнул молодой человек.
Де Муи нанес стремительный удар Морвелю, и хотя удар пришелся в кожаный пояс, отточенное острие прошло сквозь пояс и вонзилось в тело.
Королевский Истребитель закричал диким голосом, выражавшим такую страшную боль, что полицейские солдаты сочли его раненным насмерть и в страхе бросились бежать по направлению к улице Сент-Оноре.
Морвель был не из храбрых. Увидев, что полицейские оставили его, а перед ним такой противник, как де Муи, он тоже попытался спастись бегством и побежал в том же направлении, что и солдаты, крича: «Помогите!»
Де Муи, Сокур и Бартельми в пылу увлечения кинулись преследовать бежавших. Когда они вбегали на улицу Гренель, одно из угловых окон распахнулось, и какой-то человек спрыгнул со второго этажа на землю, только что смоченную дождем.
Это был Генрих. Свист де Муи предупредил его об опасности, а пистолетный выстрел доказывал серьезность положения и увлек Генриха на помощь своим друзьям. Пылкий, сильный, ловкий, с обнаженной шпагою в руке, он бросился по их следам. Генрих бежал на крик, доносившийся от Заставы Сержантов. Это кричал Морвель, который, чувствуя, что его настигает де Муи, опять стал звать на помощь своих людей, гонимых страхом. Ему оставалось только или обернуться лицом к врагу, или получить от него удар в спину. Морвель обернулся, скрестил свой клинок с клинком врага и почти в тот же миг очень ловко ударил де Муи, но проколол ему лишь перевязь. Де Муи тотчас ответил ударом на удар; шпага еще раз вонзилась Морвелю в раненое место, и кровь хлынула из двойной раны двойной струей.
– Попало! – крикнул, подбегая, Генрих. – Улю-лю! Улю-лю, де Муи!
Де Муи в подбадривании не нуждался. Он снова атаковал Морвеля, но Морвель не стал выжидать врага: зажав рану левой рукой, он со всех ног бросился бежать.
– Бей скорее! Бей! – кричал король Наваррский. – Вон солдаты его остановились, да эти отчаянные трусы ничто для храбрецов!
У Морвеля рвались легкие, дыхание свистело, каждый выдох выносил наружу кровавую пену, наконец, сразу потеряв силы, Морвель упал на месте, но тотчас приподнялся и, повернувшись на одном колене, выставил свою шпагу навстречу де Муи.
– Друзья! Друзья! – кричал Морвель солдатам. – Их только двое. Стреляйте, стреляйте в них!
В самом деле, Сокур и Бартельми где-то заблудились, преследуя двух полицейских, которые бежали по переулку Де-Пули, так что король Наваррский и де Муи оказались двое против четверых.
– Стреляй! – продолжал кричать Морвель, видя, что один из солдат взял на изготовку свою коротенькую аркебузу.
– Ладно, но раньше умри, предатель! Умри, мерзавец! Умри, окаянный убийца! – кричал де Муи, и, отведя левой рукой шпагу Морвеля, он правой всадил свою шпагу сверху вниз в грудь врага с такой силой, что пригвоздил его к земле.
– Берегись! Берегись! – крикнул Генрих.
Оставив шпагу в груди Морвеля, де Муи отскочил назад, так как один солдат уже прицелился и чуть не выстрелил в него в упор; и в тот же миг Генрих проткнул стрелка шпагой – стрелок вскрикнул и упал рядом с Морвелем. Два других солдата бросились бежать.
– Идем, идем, де Муи! – крикнул Генрих. – Нельзя терять ни минуты. Если нас узнают, нам конец!
– Подождите, сир! Неужели вы думаете, что я оставлю свою шпагу в теле этого мерзавца?
Он подошел к Морвелю, лежавшему, казалось, без движения; едва де Муи взялся за рукоять шпаги, торчавшей в груди Морвеля, Морвель приподнялся, схватил выроненную солдатом аркебузу и выстрелил в грудь де Муи. Молодой человек упал, даже не вскрикнув: он был убит наповал. Генрих бросился на Морвеля, но Морвель тоже упал мертвым, и шпага Генриха проткнула только труп.
Надо было бежать; шум привлек много людей и мог поднять ночную стражу. Среди сбежавшихся людей Генрих искал какое-нибудь знакомое лицо и радостно вскрикнул, вдруг увидев мэтра Ла Юрьер.
Так как вся эта сцена происходила у Трагуарского креста, то есть против улицы Арбр-сек, то наш старый знакомый, по самой своей природе человек мрачный и еще больше помрачневший после смерти Коконнаса и Ла Моля, своих любимых постояльцев, прибежал сюда, бросив свои печи и кастрюли как раз в то время, когда готовил ужин для короля Наваррского.
– Дорогой мой Ла Юрьер, поручаю вам де Муи, хотя сильно опасаюсь, что ему ничто уже не поможет. Отнесите его к себе и, если он еще жив, не жалейте для него ничего, вот вам кошелек. А того, другого, оставьте в канаве, пусть там гниет, как собака!
– А вы? – спросил Ла Юрьер.
– Мне надо еще попрощаться. Бегу и через десять минут буду у вас. Моих лошадей держите наготове.
Генрих действительно побежал к домику у Круа-де-Пти-Шан, но, выбежав из улицы Гренель, он в ужасе остановился: толпа народа собралась у двери домика.
– Кто в этом доме? Что случилось? – спросил Генрих.
– Ох! Большое несчастье, месье, – ответил спрошенный. – Сейчас одну молодую красивую даму зарезал ее муж, его запиской известили, что жена находится здесь с любовником.
– А где муж?
– Удрал.
– А жена?
– Там.
– Умерла?
– Нет еще, но, слава богу, лучшего-то с ней не будет.
– О-о! Я проклят! – воскликнул Генрих и кинулся в дом.
В комнате было полно народа, и весь этот народ окружил кровать, на которой лежала несчастная Шарлотта, раненная двумя ударами кинжала. Ее муж, в течение двух лет скрывавший свою ревность к королю Наваррскому, воспользовался случаем, чтоб отомстить.
– Шарлотта! Шарлотта! – крикнул Генрих, расталкивая толпу и падая на колени перед кроватью.
Шарлотта открыла красивые глаза, уже туманившиеся предсмертной дымкой, вскрикнула и хотела приподняться, отчего кровь брызнула из обеих ее ран.
– О, я знала, что не умру, не повидав его, – проговорила она.
В самом деле, Шарлотта будто ждала этой минуты, чтобы вручить Генриху свою душу, так сильно любившую его: как только губы умирающей коснулись лба короля Наваррского и прошептали в последний раз: «Люблю тебя», Шарлотта упала бездыханной.
Генрих не мог дольше оставаться, не губя себя. Он вынул из ножен кинжал, отрезал локон от ее прекрасных белокурых волос, которые так часто распускал, любуясь их длиной, зарыдал и вышел, сопровождаемый рыданиями других людей, не подозревавших, что они плачут над горькою судьбой столь высокопоставленных особ.
– Друг, любимая – все меня бросают, – воскликнул убитый горем Генрих, – все изменяют мне, все разом от меня уходят!
– Да, сир, – шепотом сказал какой-то человек, который отделился от толпы любопытных, теснившихся у домика, и пошел вслед за Генрихом, – но в будущем у вас – престол!
– Рене! – воскликнул Генрих.
– Да, сир, Рене, который оберегает вас. Этот мерзавец, умирая, назвал вас. Стало известно, что вы в Париже, вас всюду разыскивают стрелки. Бегите, бегите!
– А ты говоришь, что я буду королем! Это беглец-то?
– Нет, сир, – не я, глядите, – ответил флорентиец, указывая на звезду, сверкнувшую в просвете черной тучи. – Это говорит она.
Генрих вздохнул и скрылся в темноте
Фрэнсис Элиза Бёрнетт Таинственный сад
Глава I
Когда Мери Леннокс прислали жить к дяде, в Миссельтуэйт-Мэнор, все говорили, что она самый неприятный ребенок, какого им когда-либо приходилось видеть. Это была правда. У нее было маленькое худое лицо и маленькое худое тело. Волосы у нее были белокурые, жидкие, а лицо, с вечно кислым выражением, желтое, потому что она родилась в Индии и вечно хворала то тем, то другим.
Отец ее состоял на службе у английского правительства, всегда бывал очень занят и тоже часто хворал, а мать ее была красавица, которая любила только бывать в гостях и веселиться в кругу веселых людей. Ей вовсе не нужен был ребенок, и, когда родилась Мери, она поручила уход за нею туземной служанке, или айэ, которой дали понять, что если она желает угодить мем-саиб, [43] то ребенок не должен попадаться ей на глаза.
Мери не помнила, чтобы когда-либо видела близко что-нибудь, кроме смуглого лица своей айэ или других туземных слуг; а так как все они всегда повиновались ей и позволяли ей делать все по-своему, потому что мем-саиб могла рассердиться, если бы ее обеспокоил крик ребенка, то шести лет от роду Мери была величайшей эгоисткой и тиранкой.
Молодая гувернантка-англичанка, которую взяли, чтобы научить Мери читать и писать, так невзлюбила ее, что через три месяца отказалась от места, а когда являлись другие гувернантки, то они уходили через еще более короткое время, чем первая. И если бы Мери самой не захотелось выучиться читать и писать, то она никогда не имела бы возможности научиться даже азбуке.
В одно страшно жаркое утро – ей тогда было уже около девяти лет – она проснулась особенно злая и разозлилась еще больше, когда увидела, что служанка, стоявшая возле ее постели, была не ее айэ.
– Зачем ты пришла? – сказала она чужой женщине. – Я не позволю тебе остаться тут. Пришли мне мою айэ!
У женщины был испуганный вид, и она пробормотала, что айэ не может прийти, а когда Мери в неистовстве стала бить и толкать ее, она только испугалась еще больше и повторила, что айэ невозможно прийти к мисси саиб.
В это утро в самом воздухе точно носилось что-то таинственное. Ничего не делали обычным порядком, и некоторых из туземных слуг вовсе не было видно, а те, которых Мери видела, двигались торопливо или украдкой, с бледно-серыми испуганными лицами. Но ей никто ничего не говорил, и ее айэ все не являлась.
Утро проходило; скоро она осталась совсем одна, наконец вышла в сад и стала играть тоже одна под деревом, около веранды. Она делала вид, что устраивает цветочную клумбу, и втыкала большие ярко-алые цветы в маленькие кучки земли, все больше и больше раздражаясь и бормоча себе под нос все то, что собиралась сказать саиди, все те бранные слова, которыми собиралась обозвать ее, когда она вернется.
– Свинья! Свинья! Свиное отродье! – говорила она, потому что назвать туземца свиньей – это самое худшее оскорбление.
Она скрежетала зубами, повторяя эту фразу, когда услышала, что на веранду вышла ее мать еще с кем-то. Это был белокурый молодой человек, и оба они стояли и говорили какими-то странными тихими голосами.
Мери знала белокурого молодого человека, похожего на мальчика; она слышала, что он был очень молодой офицер, который недавно приехал из Англии.
Девочка глядела на них обоих, но более пристально глядела на свою мать.
Она всегда это делала, когда только представлялся случай видеть ее, потому что мем-саиб – Мери часто звала ее именно так, а не иначе – была такая высокая, стройная, красивая дама и носила прелестные наряды. У нее были волосы, как волнистый шелк, красивый маленький нос, презрительно вздернутый, и большие смеющиеся глаза. Одежда ее всегда была легкая и развевающаяся и, как выражалась Мери, «полна кружев».
В это утро на ней было больше кружев, чем всегда, но глаза ее не смеялись; они были такие большие и испуганные и умоляюще глядели в лицо молодого белокурого офицера.
– Неужели дело так плохо? Неужели? – услышала Мери ее вопрос.
– Ужасно! – дрожащим голосом ответил молодой человек. – Ужасно, миссис Леннокс! Вы должны были уехать в горы две недели тому назад.
Мем-саиб стала ломать руки.
– О, я знаю, что должна была сделать это! – воскликнула она. – Я осталась только для того, чтобы пойти на этот глупый званый обед! Как я была глупа!
В эту минуту из помещения слуг раздался такой громкий вопль, что она ухватилась за руку молодого человека, а Мери задрожала с головы до ног. Вопль становился все более диким.
– Что это? Что это? – прошептала миссис Леннокс.
– Кто-то умер, – ответил молодой офицер. – Вы не говорили, что болезнь появилась среди ваших слуг!
– Я не знала! – воскликнула мем-саиб. – О, пойдемте со мной, пойдемте со мной!
Она повернулась и убежала в дом.
После этого наступило нечто ужасающее, и Мери стало ясно, почему это утро было такое таинственное.
Появилась холера в самой тяжелой форме, и люди умирали, как мухи. Айэ заболела ночью, и слуги вопили в своих хижинах, потому что она только что умерла. Ночью умерли еще трое слуг, а остальные в ужасе бежали. Всюду царила паника, и во всех бунгало были умирающие.
На следующий день, во время тревоги и смятения, Мери спряталась в детской, и все забыли о ней. Никто не думал о ней, никому она не была нужна, и вокруг происходило нечто странное, о чем она не имела понятия.
Часы проходили, и Мери попеременно то спала, то плакала. Она знала только, что люди хворали, и слышала таинственные и пугавшие ее звуки.
Раз она прокралась в столовую, которая оказалась пустой, хотя на столе стоял недоконченный обед; стулья и тарелки имели такой вид, как будто их поспешно отодвинули в сторону, когда люди по какой-то причине внезапно поднялись из-за стола.
Мери поела фруктов и сухарей и, чувствуя сильную жажду, выпила стоявший на столе стакан вина. Оно было сладкое, но девочка не подозревала, что оно очень крепкое. Ее скоро начало клонить ко сну, и она пошла обратно в детскую и опять заперлась там, испуганная криками, которые неслись из хижин, и звуками торопливых шагов. Вино нагнало на нее такой сон, что глаза ее закрылись помимо ее воли; она легла на постель и точно потеряла сознание.
Очень многое произошло за те долгие часы, что она спала таким тяжелым сном, и ее не разбудили ни вопли, ни шум в бунгало, где что-то вносили и выносили.
Когда она проснулась, то продолжала лежать неподвижно, пристально глядя на стену. В доме была полнейшая тишина; она не помнила, чтобы когда-либо прежде в нем царило такое безмолвие. Она не слышала ни голосов, ни шагов и думала о том, все ли уже выздоровели от холеры и прошла ли беда.
Думала она и о том, кто теперь будет ухаживать за нею, ведь ее айэ умерла! Вероятно, будет новая айэ, и она, быть может, будет рассказывать новые сказки; старые сказки уже достаточно надоели Мери.
Она не плакала о том, что умерла ее нянька. Она не была любящим ребенком и никогда ни к кому не была особенно привязана.
Шум, беготня, вопли по умершим от холеры – все это испугало ее, и, кроме того, она была очень сердита, потому что никто не вспомнил, что она жива. Все так обезумели от ужаса, что никто не подумал о девочке, которую никто не любил.
Когда люди заболевали холерой, они, казалось, не могли думать ни о ком, кроме себя самих. Но если все опять выздоровели, то, конечно, кто-нибудь должен был вспомнить о ней и отыскать ее.
Но никто не приходил, и она все лежала и ждала, и в доме, казалось, становилось все тише и тише. Она услышала какой-то шорох на циновке и когда взглянула на пол, то увидела маленькую змейку, скользившую по полу и глядевшую на нее похожими на драгоценные камни глазами.
Мери не испугалась: это было безвредное маленькое существо, которое ничего не могло ей сделать. Змейка, казалось, торопилась выбраться из комнаты, и Мери видела, как она скользнула под дверь.
– Как странно и тихо! – сказала Мери. – Как будто в доме никого нет, кроме меня да змейки.
Почти в ту же минуту она услыхала шаги в саду, а потом на веранде. Это были мужские шаги: мужчины вошли в дом и о чем-то тихо заговорили. Никто не вышел им навстречу, никто не заговорил с ними; они, казалось, открывали двери и заглядывали в комнаты.
– Какое опустошение! – сказал один голос. – И эта красивая женщина… да и ребенок, я думаю, тоже! Я слышал, что был ребенок, хотя его никто никогда не видел.
Когда они несколько минут спустя открыли дверь, Мери стояла посреди детской, некрасивая и злая, нахмурив брови, потому что была голодна, и чувствовала себя как-то позорно заброшенной.
Первый человек, вошедший в комнату, был высокий офицер, которого Мери однажды видела у своего отца. У него был усталый и озабоченный вид, но, когда он увидел ее, он был так поражен, что чуть не отскочил назад.
– Барней! – крикнул он. – Здесь ребенок! Ребенок, один! В таком месте! Боже мой, да кто она такая?
– Я Мери Леннокс, – чопорно сказала девочка, выпрямляясь во весь рост. Человек этот показался ей очень грубым, потому что назвал дом ее отца «таким местом». – Я уснула, когда все были больны холерой, и только что проснулась. Отчего никто не приходит?
– Это тот ребенок, которого никто никогда не видел! – воскликнул офицер, обращаясь к своему спутнику. – О ней на самом деле все забыли!
– Почему обо мне забыли? – спросила Мери, топая ногой. – Почему никто не приходит?
Молодой человек, которого звали Барней, грустно посмотрел на нее. Мери даже показалось, что он мигнул глазами, точно смахивая слезу.
– Бедная крошка! – сказал он. – Некому прийти: никого не осталось.
Таким странным и неожиданным образом Мери узнала, что у нее не осталось ни отца, ни матери, что они умерли и были увезены ночью и что те туземные слуги, которые остались в живых, поспешно покинули дом и никто из них даже не вспомнил, что у них была мисси-саиб. Поэтому-то в доме было так тихо; в нем действительно никого больше не было, кроме самой Мери да маленькой змейки.
Глава II
Мери любила издали глядеть на свою мать и считала ее очень красивой; но так как она очень мало знала ее, то едва ли можно было ожидать, что она будет тосковать по ней, когда ее не станет.
Она ничуть не тосковала по ней и так как всегда была углублена в самое себя, то ее помыслы и теперь, как обыкновенно, были сосредоточены на себе самой. Будь она старше, она бы, вероятно, очень беспокоилась при мысли, что осталась совсем одна на свете, но еще была очень мала, и так как о ней всегда заботились, то предполагала, что это всегда будет так.
Думала она только о том, попадет ли она к хорошим людям, которые будут с ней обращаться вежливо и во всем уступать ей, как это делала ее айэ и другие туземные служанки.
Мери знала, что не останется навсегда в доме английского священника, куда ее взяли в первое время. Ей не хотелось оставаться там. Английский священник был беден, и у него было пятеро детей, чуть ли не однолеток, которые ходили в лохмотьях, всегда ссорились и таскали игрушки друг у друга. Мери ненавидела их неопрятный дом и так дурно обращалась с ними, что через два дня никто не хотел играть с нею.
– Тебя отошлют домой через неделю, – сказал ей однажды Базиль, мальчик пастора, с дерзкими голубыми глазами и вздернутым носом, которого Мери ненавидела. – Мы все очень рады этому.
– И я тоже рада, – ответила Мери. – А где это такое «домой»?
– Она не знает, где это? – презрительно сказал семилетний Базиль. – Это, конечно, Англия. Наша бабушка живет там, и в прошлом году туда послали сестру Мабель. А ты поедешь не к бабушке; у тебя ее нет. Ты поедешь к своему дяде; его зовут мистер Арчибальд Крэвен.
– Я никогда про него не слыхала, – огрызнулась Мери.
– Я знаю, что не слыхала, – ответил Базиль, – ты ничего не знаешь. Девочки обыкновенно ничего не знают. Я слышал, как папа и мама говорили про него. Он живет в громадном заброшенном старом доме в деревне, и никто к нему не ходит. Он такой сердитый, что никого к себе не пускает, а если бы и пустил, то никто бы не пришел. Он горбун и страшный-страшный.
– Я тебе не верю, – сказала Мери, отвернувшись от него и затыкая уши пальцами, потому что не хотела больше слушать.
Но она все-таки очень много думала об этом; а когда миссис Кроуфорд в тот же вечер сказала ей, что через несколько дней она поедет в Англию к своему дяде, мистеру Крэвену, который жил в Миссельтуэйт-Мэноре, у нее был такой упрямо-равнодушный, точно окаменелый вид, поэтому они не знали, что о ней и подумать. Они пытались приласкать ее, но она отвернулась, когда миссис Кроуфорд хотела поцеловать ее, и чопорно выпрямилась, когда мистер Кроуфорд потрепал ее по плечу.
– Она такой некрасивый ребенок, – сказала после этого миссис Кроуфорд тоном сожаления. – А мать ее была так красива! И манеры у нее были такие милые, а Мери самый неприятный ребенок, которого я когда-либо видела.
– Быть может, если бы ее мать почаще появлялась в детской, со своим красивым лицом и милыми манерами, Мери тоже могла бы перенять эти манеры. Грустно теперь вспоминать, когда бедная красавица уже умерла, очень многие вовсе не знали, что у нее был ребенок!
– Она, кажется, никогда не взглянула на нее, – вздохнула миссис Кроуфорд. – Когда ее айэ умерла, никто и не вспомнил о крошке. Подумай только: все слуги разбежались и оставили ее одну в пустом доме. Полковник Мак-Грю говорил мне, что был поражен, когда отворил дверь и увидел ее совершенно одну посреди комнаты.
Во время долгого переезда в Англию Мери находилась под присмотром жены одного офицера, которая везла туда своих детей, чтобы поместить их в пансион. Она была очень занята собственными детьми и очень радовалась, когда сдала Мери женщине, которую мистер Крэвен выслал в Лондон встретить ее.
Женщина эта служила экономкой в Миссельтуэйт-Мэноре, и звали ее миссис Медлок. Она была очень полная, с румяными щеками и зоркими черными глазами.
Она очень не понравилась Мери; но так как Мери редко кто-либо нравился, то в этом не было ничего удивительного; кроме того, было очевидно, что миссис Медлок тоже невысокого мнения о девочке.
– Экая она некрасивая! – сказала она. – А мы ведь слышали, что ее мать была красавица. Она, как видно, красоты-то ей в наследство не оставила, не так ли?
– Она, быть может, переменится, когда подрастет, – добродушно сказала жена офицера. – Если бы она не была такая желтая и выражение лица ее было бы поласковей. А черты лица у нее хорошие. Дети ведь так меняются!
– Ей придется измениться во многом, – ответила миссис Медлок. – А в Миссельтуэйте нет ничего такого, что могло бы изменить ребенка к лучшему, если вы спросите меня!
Обе они думали, что Мери не слушает, потому что она стояла несколько поодаль, у окна отеля, где они остановились. Она смотрела на прохожих, на проезжавшие омнибусы и кэбы, но слышала весь разговор; в ней проснулось любопытство по отношению к дяде и его жилищу. Что это был за дом и на что он был похож? Что такое горбун? Она никогда не видала горбуна; быть может, их в Индии вовсе не было.
С тех пор как она стала жить в чужих домах и у нее не было айэ, она стала чувствовать себя одинокой, и в голову ей приходили странные, совершенно новые для нее мысли.
Она думала о том, почему это она всегда была «ничья», даже когда ее отец и мать были живы. Другие дети «принадлежали» своим отцам и матерям, она же, казалось, была всем чужая. У нее были слуги, была пища и одежда, но никому не было до нее дела. Она не знала, что причиной этого было то, что она – очень неприятный ребенок; само собой разумеется, что она не знала, какая она неприятная. Она часто находила, что другие люди очень неприятны, но не подозревала, что она сама такова.
Она считала миссис Медлок самой неприятной особой, которую когда-либо видела, с ее грубым румяным лицом и безвкусной вычурной шляпой. На следующий день, когда они уезжали в Йоркшир, Мери шла по платформе к вагону с высоко поднятой головой, стараясь держаться как можно дальше от нее, как будто совсем не «принадлежала» ей. Она бы очень рассердилась, если бы узнала, что люди принимают ее за дочь миссис Медлок.
Но миссис Медлок очень мало обращала внимания и на самое Мери, и на то, что она думала. Ей вовсе не хотелось ехать в Лондон, как раз когда была свадьба ее племянницы, но у нее было удобное, выгодное место экономки в Миссельтуэйт-Мэноре, и удержать это место за собой она могла только делая то, что мистер Крэвен приказывал. Она не смела даже задавать вопросов.
– Капитан Леннокс и его жена умерли от холеры, – сказал ей мистер Крэвен своим холодным лаконическим тоном. – Капитан Леннокс был братом моей жены, и я опекун его дочери. Девочку привезут сюда. Вы должны поехать в Лондон и сами привезти ее.
И она уложила свой небольшой чемодан и отправилась в путь.
Мери сидела в углу вагона, некрасивая, с капризным выражением лица. Ей нечего было читать, не на что было смотреть, и она сидела, сложив на коленях свои маленькие руки в черных перчатках. Благодаря черному платью, она казалась еще желтее, чем всегда, и ее редкие светлые волосы торчали из-под черной креповой шляпки.
«Никогда в жизни не видывала ребенка с таким капризным видом», – подумала миссис Медлок. Она никогда не видела ребенка, который сидел бы так неподвижно, ничего не делая. Наконец ей надоело смотреть на Мери, и она заговорила быстро и резко.
– По-моему, надо тебе рассказать кое-что о том, куда ты едешь, – сказала она. – Знаешь ты что-нибудь о своем дяде?
– Нет, – сказала Мери.
– Ты никогда не слышала, что твои родители говорили о нем?
– Нет, – сказала Мери, нахмурившись. Она нахмурилась потому, что вспомнила, что ее отец и мать никогда не говорили с ней о чем-нибудь определенном и никогда ни о чем ей не рассказывали.
– Гм… гм… – проворчала миссис Медлок, пристально глядя на странное бесстрастное личико. Она несколько секунд молчала, но потом снова заговорила.
– Надо тебе все-таки кое-что рассказать, чтобы тебя подготовить. Ты едешь в очень странное место.
Мери ничего не сказала, и ее явное равнодушие несколько озадачило миссис Медлок, но, передохнув, она стала продолжать:
– Нечего сказать, поместье громадное, но мрачное, и мистер Крэвен очень гордится им… по-своему. Дом был выстроен шестьсот лет тому назад, на краю степи, и в нем почти сто комнат, хотя большинство из них заперты. А в них и картины, и красивая старинная мебель и всякие другие вещи… и все это стоит там целые века; вокруг дома громадный парк, и сады, и деревья, ветви которых достают до земли. – Она остановилась и опять вздохнула. – А больше ничего, – неожиданно закончила она.
Мери невольно начала прислушиваться. Все это было так не похоже на Индию, а все новое всегда привлекало ее. Но она не намеревалась показывать, что ее это интересует. Это была одна из ее несчастных, неприятных привычек.
Она сидела молча.
– Ну, что ты думаешь обо всем этом? – спросила миссис Медлок.
– Ничего, – ответила она. – Я ничего не знаю про такие места.
Это заставило миссис Медлок рассмеяться коротким смешком.
– Да ты похожа на старуху, – сказала она. – Разве тебя это не беспокоит?
– Это все равно, беспокоит или нет, – ответила Мери.
– Ну ты, пожалуй, права, – сказала миссис Медлок, – это все равно. Почему именно тебя надо держать в Миссельтуэйт-Мэноре, я не знаю, разве только потому, что это удобнее всего. Он не будет тобой очень заниматься, это-то верно, он никогда и никем не занимается.
Она вдруг остановилась, как будто вовремя вспомнив о чем-то.
– У него спина кривая, – сказала она. – Это его испортило. Он был угрюмый человек и не пользовался ни своими деньгами, ни своим поместьем, пока не женился.
Взгляд Мери остановился на ней, несмотря на все ее намерения не выказывать интереса. Она никогда не думала, что горбун может жениться, и была несколько удивлена. Миссис Медлок заметила это, и так как она была очень болтлива, то продолжала с большим оживлением. Во всяком случае, это был способ убить время.
– Она была такая милая, красивая, и он готов был обойти всю землю, чтобы достать ей даже былинку, которую ей хотелось… Когда она умерла…
Мери невольно вздрогнула.
– О, так она умерла! – воскликнула она почти против воли. Она только что вспомнила, что когда-то читала французскую сказку, в которой говорилось о бедном горбуне и прекрасной принцессе, и ей вдруг стало жаль мистера Крэвена.
– Да, она умерла, – ответила миссис Медлок, – и с тех пор он стал еще более странным. Он никем не интересуется. Он не хочет видеть людей. Он по большей части в разъездах, а когда он в Миссельтуэйте, то запирается в западном флигеле и не пускает к себе никого, кроме Пичера. Пичер уже старик, но он ходил за ним, когда он был еще ребенком, и знает все его привычки.
Все это очень похоже было на рассказ из книжки и не особенно ободрило Мери. Дом с сотнею комнат, двери которых заперты, дом на краю степи – что бы это ни значило, во всем этом было что-то мрачное. И человек с кривой спиной, который тоже запирается!
Мери глядела в окно, крепко сжав губы. Ей казалось в порядке вещей, что вдруг хлынули косые серые потоки дождя, ударяя в оконные стекла и стекая по ним… Если бы красивая жена мистера Крэвена была жива, она могла бы оживить мрачный дом, как ее мать: она бегала бы туда и сюда, ездила бы в гости, как она, в платьях с кружевами. Но ее уже больше не было.
– Ты не думай, что увидишь мистера Крэвена, – сказала миссис Медлок, – десять шансов против одного, что не увидишь. И не думай, что кто-нибудь в доме станет с тобой вести разговоры. Ты должна будешь играть и сама себя занимать. Тебе скажут, в какие комнаты тебе можно ходить и в какие нельзя… Садов здесь довольно, но, когда ты будешь в доме, не шатайся и не заглядывай повсюду. Мистер Крэвен этого не любит.
– Я и не захочу идти заглядывать повсюду, – кисло сказала Мери, и так же внезапно, как в ней появилась жалость к мистеру Крэвену, жалость эта исчезла; она подумала, что такой неприятный человек заслуживает всего того, что с ним случилось.
Она обернулась лицом к мокрым окнам и стала смотреть на серые потоки дождя, который, казалось, никогда не мог перестать; смотрела она так долго и пристально, что серый цвет стал сгущаться пред ее глазами; и она скоро уснула.
Глава III
Она спала долго и когда проснулась, миссис Медлок купила на одной станции корзинку с закуской, и они поели холодного мяса, хлеба с маслом и напились горячего чаю. Дождь стал еще сильнее, и на станции все ходили в мокрых блестящих непромокаемых плащах. Кондуктор зажег в вагоне лампы, и миссис Медлок очень оживилась благодаря чаю и закуске. Ела она очень много и потом сама тоже уснула; а Мери сидела, смотрела, как шляпа миссис Медлок сдвигалась набок, пока опять не уснула в углу вагона, убаюканная стуком дождя в окно.
Когда она проснулась, было уже довольно темно. Поезд стоял у станции, и миссис Медлок встряхивала ее.
– И уснула же ты! – сказала она. – Пора открыть глаза. Это станция Туэйт, и нам еще долго придется ехать на лошадях.
Мери встала, стараясь держать глаза открытыми, пока миссис Медлок собирала свои свертки. Девочка не вызвалась помочь ей, потому что в Индии туземные слуги всегда подымали и носили все, и считалось вполне естественным, чтобы одни люди прислуживали другим.
Станция была маленькая, и, кроме них, на ней никто не вышел из вагона. Возле платформы стоял экипаж, и Мери сразу увидела, что экипаж был щеголеватый; такой же щеголеватый лакей подсадил ее. Когда он захлопнул дверцу, вскочил на козлы рядом с кучером и они тронулись, Мери очутилась в уютном углу экипажа с мягкой обивкой, но спать ей уж больше не хотелось.
Она сидела и с любопытством смотрела в окно: ей очень хотелось увидеть что-нибудь на дороге, по которой ее везли в это странное место, о каком ей говорила миссис Медлок. Она не была робкой от природы и теперь не особенно пугалась… но мало ли что может случиться в доме с сотней комнат, которые почти все заперты, в доме, стоящем на краю степи?
– Что такое степь? – внезапно спросила она миссис Медлок.
– А ты выгляни в окно минут через десять и тогда увидишь, – ответила та. – Нам еще придется проехать пять миль, прежде чем мы доберемся до дома. Много теперь не увидишь, потому что ночь темная, но что-нибудь все-таки можно разглядеть.
Мери не задавала больше никаких вопросов, а сидела и ждала в своем темном углу, устремив глаза на окно. Фонари кареты бросали лучи света на небольшое расстояние вперед… и перед Мери мелькали виды дороги. Когда они выехали со станции, то проехали крохотную деревеньку, и Мери видела выбеленные коттеджи и фонари таверны.
Потом они проехали мимо церкви и дома священника, проехали мимо освещенного окна лавки, где были выставлены для продажи игрушки, сласти и еще кое-какие товары, и наконец выехали на проезжую дорогу, где Мери видела только деревья и изгороди. После этого очень долгое время ничего другого не было видно.
Наконец лошади пошли медленнее, точно подымаясь в гору, и скоро исчезли даже деревья и изгороди. Мери ничего не могла видеть, так как вокруг была непроницаемая тьма. Она наклонилась вперед и прижалась лицом к окну, как вдруг карету сильно тряхнуло.
– Вот теперь мы в степи, – сказала миссис Медлок. Фонари кареты бросали желтый свет на неровную дорогу, которая, казалось, пролегала между кустов и низких растений, уходивших куда-то в необъятное темное пространство, окружавшее их со всех сторон. Подымался ветер, в диком вое которого слышались странные низкие шелестящие звуки.
– Это… это ведь не море? – сказала Мери, обернувшись и глядя на свою спутницу.
– Нет, не море, – ответила миссис Медлок, – и это не поля и не горы, а просто целые мили дикой земли, на которой ничего не растет, кроме вереска, дрока и терновника, и где водятся только дикие пони да овцы.
– А мне кажется, что это было бы похоже на море, если б здесь была вода, – сказала Мери. – Вот теперь это шумит, точно море.
– Это ветер воет в кустах, – сказала миссис Медлок. – По-моему, это дикое, пустынное место, хотя оно многим нравится, особенно когда цветет вереск.
Они все ехали вперед в глубокой тьме; дождь перестал, но ветер продолжал завывать так же странно, как прежде. Дорога шла то в гору, то под гору, и несколько раз карета проезжала по небольшим мостикам, под которыми быстро и шумно текла вода.
Мери казалось, что этому путешествию не будет конца; широкая угрюмая степь представлялась ей широким простором темного океана, через который она проезжала по узкой полоске земли.
– Мне это не нравится, – сказала она самой себе. – Мне это не нравится. – И она еще крепче стиснула свои тонкие губы.
Лошади подымались в гору, когда Мери впервые заметила свет вдали. Заметила его и миссис Медлок и протяжно, с облегчением вздохнула.
– Я так рада видеть, что там мерцает огонек! – воскликнула она. – Это свет в окне сторожки. Мы во всяком случае получим по чашке чаю, только подожди чуточку.
Пришлось действительно подождать «чуточку», как она выразилась, потому что когда карета уже въехала за ограду парка, им оставалось еще проехать около двух миль по аллее; ветви деревьев почти сходились над головой, и приходилось ехать точно под длинным темным сводом.
Из-под этого свода они выехали на лужайку и остановились пред очень длинным, но низким домом, построенным вокруг вымощенного камнем двора. Мери сначала показалось, что в окнах вовсе не было света; но, выйдя из кареты, она увидела, что в одной комнате в углу верхнего этажа виднелся тусклый свет.
Входная дверь была громадная, сделанная из массивных дубовых досок странной формы, с большими железными гвоздями и скрепленная широкими полосами железа. Она вела в громадную переднюю, которая была очень тускло освещена, и лица портретов на стенах и фигуры в старинных доспехах произвели на Мери такое впечатление, что ей не хотелось смотреть на них.
Когда она стояла в этой комнате с каменным полом, то казалась такой маленькой странной черной фигуркой и чувствовала себя тоже какой-то маленькой странной и заброшенной.
Около слуги, отворившего им дверь, стоял еще какой-то чопорный старик.
– Вы должны отвести девочку в ее комнату, – сказал он хриплым голосом. – Он не хочет ее видеть. Он утром уезжает в Лондон.
– Очень хорошо, мистер Пичер, – ответила миссис Медлок, – если я только знаю, что от меня требуется, то я уж сумею все устроить.
– От вас вот что требуется, миссис Медлок, – сказал мистер Пичер, – чтобы вы постарались не беспокоить его и чтобы он не видел того, чего не желает видеть.
После этого Мери Леннокс повели вверх по широкой лестнице, потом по длинному коридору, опять вверх по небольшой лестнице, еще по одному коридору и еще по одному; потом в стене отворилась дверь, и Мери очутилась в комнате, где топился камин и на столе был приготовлен ужин.
– Ну, теперь конец, – бесцеремонно сказала миссис Медлок, – эта и соседняя комната отведены тебе; тут ты и должна сидеть. Не забывай этого!
Таким образом Мери попала в Миссельтуэйт-Мэнор.
Глава IV
Утром Мери открыла глаза только потому, что в комнату вошла молоденькая служанка, чтобы затопить камин. Она стояла на коленях возле камина, с шумом выгребая из него золу, и Мери лежала и смотрела на нее несколько секунд, потом стала осматривать комнату. Она никогда не видела такой комнаты, которая показалась ей очень странной и мрачной. Стены были покрыты ткаными обоями, на которых был изображен лесной вид. Там были фантастически разодетые люди под деревьями, а в отдалении виднелись башни замка. Там были охотники, дамы, собаки, лошади, и Мери казалось, что она сама тоже в лесу вместе с ними. Из глубокого окна она могла видеть обширное отлогое пространство земли, на котором вовсе не было деревьев и которое очень походило на безграничное тускло-пурпурное море.
– Что это такое? – спросила она, показывая пальцем в окно.
Молоденькая служанка, Марта, которая только что поднялась на ноги, посмотрела в окно и тоже указала пальцем.
– Вон там? – спросила она.
– Да.
– Это степь, – сказала она с широкой, добродушной улыбкой. – Она тебе не нравится?
– Нет, – ответила Мери, – я ее ненавижу.
– Это потому, что ты к ней не привыкла, – сказала Марта, идя назад к камину. – Ты думаешь, что она слишком большая и голая? Но она тебе понравится.
– А тебе нравится? – спросила Мери.
– Конечно, – весело ответила Марта, вытирая каминную решетку. – Я люблю степь. Она вовсе не голая. Весной там чудесно, когда цветет вереск и дрок; тогда там пахнет медом и столько простору и воздуху, небо кажется таким высоким-высоким! А пчелы и жаворонки поют и жужжат, и шум такой приятный. О, я бы ни за что не покинула степь!
Мери слушала ее с серьезным, озадаченным выражением лица. Туземные слуги, к которым она привыкла в Индии, были вовсе не такие, как Марта. Они всегда были раболепны и подобострастны и не смели говорить со своими господами так, как равные им. Они делали «салаам», называли их «покровителями бедных» и тому подобными именами. Индийского слугу не просили сделать то или другое, ему приказывали. Там не было обычая говорить слуге «пожалуйста» и «благодарю», и Мери всегда давала пощечины своей айэ, когда была сердита. Она невольно подумала о том, что сделала бы Марта, если бы она вздумала дать ей пощечину.
Марта была полная, румяная, добродушная на вид девушка, но в ее манерах было что-то решительное и смелое, и Мери подумала, что она, пожалуй, ответила бы тоже пощечиной, особенно если ее ударила бы маленькая девочка.
– Ты странная служанка, – довольно высокомерно проговорила Мери с подушек.
Марта присела на корточки, держа в руках щетку, и рассмеялась без всякого признака гнева.
– О, я это знаю, – сказала она. – Если бы здесь, в Миссельтуэйте, была настоящая госпожа, я бы никогда не могла быть даже второй горничной. Меня бы, пожалуй, взяли в судомойки, но никогда не пустили бы в верхние комнаты. Я слишком простая и говорю по-йоркширски. Но этот дом какой-то странный, в нем точно ни господина, ни госпожи нет, кроме мистера Пичера и миссис Медлок. Мистер Крэвен не любит, чтобы его чем-нибудь беспокоили, когда он здесь, и он почти постоянно в отъезде. Миссис Медлок по доброте своей дала мне это место. Она сказала мне, что никогда не сделала бы этого, если бы Миссельтуэйт был как другие богатые дома.
– А теперь ты будешь моя служанка? – спросила Мери все тем же высокомерным тоном, к которому она привыкла в Индии.
Марта опять начала чистить решетку.
– Я служанка миссис Медлок, – гордо сказала она, – а она служанка мистера Крэвена, но я буду убирать тут комнаты и немного прислуживать тебе. Только тебе много услуг не понадобится.
– А кто будет меня одевать? – спросила Мери.
Марта опять присела на корточки и уставилась на нее; от изумления она опять заговорила с протяжным йоркширским акцентом.
– Разве ты не можешь сама одеться? – спросила она.
– Что это значит? Я не понимаю твоего языка, – сказала Мери.
– О, я забыла, – сказала Марта. – Миссис Медлок велела мне следить за собой, а то ты не поймешь, что я говорю. Так ты не можешь сама надеть платья?
– Нет, – почти с негодованием ответила Мери. – Я никогда в жизни этого не делала. Меня всегда одевала моя айэ.
– Если так, то тебе пора научиться, – сказала Марта, очевидно, не подозревая, что говорит дерзости. – Это не слишком рано. Тебе будет очень полезно самой ухаживать за собой. Моя мать всегда говорит, что не понимает, почему это у важных бар дети не вырастают набитыми дураками: ведь у них всегда няньки и их всегда другие моют и одевают, и гулять выводят, точно щенят.
– В Индии все иначе, – презрительно сказала Мери. Она едва владела собой.
Но Марта ничуть не смутилась.
– Оно и видно, что иначе, – сказала она сочувственно. – Я думаю, это потому, что там такое множество чернокожих вместо порядочных белых людей. Когда я услышала, что ты едешь сюда из Индии, я подумала, что ты тоже чернокожая!
Мери села на постели, страшно разъяренная.
– Что! – воскликнула она. – Что! Ты думала, что я туземка! Ты… свиное отродье ты!
Марта уставилась на нее и вдруг вспыхнула.
– Кого ты бранишь? – сказала она. – Тебе не надо так сердиться. Барышне не следует так говорить. Я ровно ничего не имею против чернокожих. Когда про них читаешь в книжках, то они все такие религиозные; в книжках ведь сказано, что чернокожие тоже люди и наши братья… А я никогда не видала чернокожего человека и очень обрадовалась, потому что подумала, что увижу близко хоть одного. Когда я пришла сюда утром, чтоб затопить камин, я подкралась к твоей постели и осторожно приподняла одеяло, чтобы поглядеть на тебя. И тут-то я увидела, – добавила она разочарованно, – что ты ничуть не чернее меня, несмотря на то что такая желтая!
Мери даже не старалась сдерживать своего гнева.
– Ты думала, что я туземка! Как ты смела! Ты их совсем не знаешь! Они не люди, они слуги, которые должны кланяться! Ты ничего не знаешь про Индию! Ты совсем ничего не знаешь!
Она была так взбешена и чувствовала себя такой беспомощной пред наивным взглядом Марты, и в то же самое время вдруг почувствовала себя такой одинокой, такой далекой от всего того, что она понимала и что понимало ее, что бросилась лицом в подушки и разразилась рыданиями. Она так безудержно рыдала, что добродушная Mapта даже испугалась и ей стало жаль девочки. Она подошла к постели и наклонилась к Мери.
– Не надо так плакать! – стала она упрашивать. – Право, не надо. Я не знала, что ты так рассердишься! Я таки вовсе ничего не знаю, как ты сказала. Прошу прощения, мисс. Перестань же плакать!
В ее странной йоркширской речи и спокойных манерах было что-то успокаивающее, дружелюбное, что хорошо действовало на Мери. Она постепенно перестала плакать и затихла. Марта, видимо, почувствовала облегчение.
– А теперь пора тебе вставать, – сказала она. – Миссис Медлок сказала, чтобы я приносила в соседнюю комнату твой завтрак, обед и ужин. Там тебе устроили детскую. Я тебе помогу одеться, если ты встанешь. Если пуговицы у тебя на платье сзади, то ты их не можешь сама застегнуть.
Процесс одеванья научил их обеих кое-чему. Марта часто застегивала своих сестренок и братишек, но никогда еще не видела ребенка, который стоял бы неподвижно и ждал, пока кто-нибудь другой сделает для него все что надо, как будто у него самого не было ни рук, ни ног.
– Почему ты сама не надеваешь башмаков? – спросила она, когда Мери преспокойно подставила ей ногу.
– Моя айэ делала это, – ответила Мери, уставившись на нее. – Такой там обычай.
Она очень часто говорила: «такой был обычай». Туземные слуги всегда говорили это. Если им приказывали сделать что-нибудь, чего целые века не делали их предки, они с кротким взглядом отвечали: «Обычай не таков», – и всякий знал, что этим дело кончалось.
«Обычай был таков», что Мери ничего не делала сама, а только стояла и позволяла одеть себя, точно кукла.
Раньше чем она готова была идти завтракать, она уже начала подозревать, что жизнь в Миссельтуэйте научит ее многому, совершенно неизвестному ей: например, надевать чулки и башмаки, подымать все, что она роняла.
Если бы Марта была хорошо обученной, «настоящей» горничной, она была бы более почтительной и услужливой и знала бы, что ей полагается расчесывать волосы, застегивать башмаки, поднимать вещи и класть их на место. Но она была простая деревенская девушка, которая выросла в коттедже в степи с целой толпой братьев и сестер, которым и в голову не приходило, что можно чего-нибудь не делать самим и не ухаживать за младшими детьми, которые еще только учились ходить.
Если бы Мери Леннокс была таким ребенком, которого легко развеселить, болтливость Марты, вероятно, рассмешила бы ее; но Мери невозмутимо слушала ее, удивляясь развязности ее манер. Сначала разговор ничуть не интересовал ее, но Марта продолжала добродушно болтать, и Мери стала прислушиваться к ее речи.
– Если бы ты их всех видела! – говорила Марта. – Нас всех двенадцать человек, а отец мой получает всего шестнадцать шиллингов в неделю. Трудно матери накормить их всех, скажу я тебе. Все дети целый день играют в степи, и мать говорит, что они толстеют от степного воздуха. Она говорит, что они, должно быть, едят траву, как дикие пони. Наш Дикон, ему уже двенадцать лет, приручил молодую лошадку-пони и говорит, что она теперь его.
– А где он взял ее? – спросила Мери.
– Нашел в степи вместе с матерью, когда она была еще совсем маленькая. Он стал приручать ее, кормить хлебом, щипать для нее траву. И она так привыкла к нему, что ходит следом за ним и позволяет ему сесть ей на спину. Дикон очень добрый, и животные любят его.
У Мери никогда не было никакого животного, с которым она могла бы играть, и ей всегда очень хотелось иметь его. Она почувствовала даже некоторый интерес к Дикону; а так как она никогда никем не интересовалась, кроме самой себя, это, очевидно, было пробуждением доброго чувства.
Когда она вошла в комнату, в которой устроили для нее детскую, то увидела, что комната похожа на ту, в которой она спала. Это была комната не для ребенка, а для взрослого человека, с мрачными старыми картинами на стенах и с тяжелыми старыми дубовыми стульями. На столе посреди комнаты стоял хороший обильный завтрак. Но у Мери всегда был очень плохой аппетит, и она равнодушно взглянула на первое блюдо, которое Марта поставила пред ней.
– Я не хочу этого, – сказала она.
– Не хочешь каши?! – недоверчиво воскликнула Марта.
– Нет.
– Ты не знаешь, какая она вкусная! Положи немножко патоки или сахару!
– Я не хочу, – повторила Мери.
– Вот этого я уж не могу переносить, – воскликнула Марта, – чтобы понапрасну портили хорошую провизию! Если б за этим столом сидели наши дети, они бы его в пять минут очистили!
– Почему? – холодно спросила Мери.
– Почему? – повторила, как эхо, Марта. – Потому, что у них почти никогда в жизни не было полных желудков. Они всегда так голодны, как детеныши ястреба или лисы.
– Я не знаю, что значит быть голодной, – сказала Мери с равнодушием невежды.
Марта с негодованием поглядела на нее.
– Ну, тебе очень полезно было бы испытать такое, я это ясно вижу, – откровенно сказала она. – Я терпеть не могу людей, которые только сидят да смотрят на вкусную еду. Как бы мне хотелось, чтобы все, что тут на столе, было в желудках у Дикона, и Филя, и Джейн, и у всех остальных!
– Отчего же ты не отнесешь им всего этого? – посоветовала Мери.
– Это не мое! – гордо ответила Марта. – И сегодня не мой выходной день. Мне дают отпуск только раз в месяц, как и всем остальным, и тогда я ухожу домой и помогаю матери убирать, а она отдыхает.
Мери выпила немного чаю и съела кусочек поджаренного хлеба с вареньем.
– А теперь оденься потеплей и поди наружу поиграть, – сказала Марта. – Тебе это будет очень полезно и даст аппетит.
Мери подошла к окну. Она видела сады, дорожки и большие деревья, но все это имело какой-то тусклый зимний вид.
– Зачем мне идти наружу в такой день?
– Если не пойдешь, то придется остаться в доме, а что ты здесь будешь делать?
Мери осмотрелась вокруг; делать было нечего. Когда миссис Медлок устраивала детскую, она не подумала о развлечениях. Пожалуй, лучше было бы выйти и посмотреть сады.
– Кто пойдет со мной? – спросила она.
Марта уставилась на нее.
– Ты пойдешь одна, – ответила она. – Тебе придется научиться играть одной, как играют другие дети, у которых нет сестер и братьев. Наш Дикон уходит в степь один и по целым часам играет там. Оттого-то он и приручил пони. В степи есть овцы, которые его знают, а птицы прилетают к нему и едят у него из рук. У нас хотя мало еды, но он всегда прячет кусочек хлеба для своих любимцев.
Напоминание о Диконе заставило Мери принять решение и выйти, хотя она и не сознавала этого. Если в садах не было пони и овец, то, вероятно, были птицы, которые не похожи на птиц в Индии, и на них, быть может, стоило поглядеть.
Марта принесла ей пальто, шляпу и пару толстых ботинок и показала дорогу вниз.
– Если ты обойдешь вон там кругом, то придешь к саду, – сказала она, указывая на небольшую калитку в огороде. – Летом там уйма цветов, но теперь ничего не цветет. – Она, казалось, с минуту колебалась и потом добавила: – Один из садов заперт. Там уже десять лет никто не бывал.
– Почему? – невольно спросила Мери. Кроме сотни запертых дверей в доме оказывалась еще одна запертая калитка!
– Мистер Крэвен велел запереть его, когда его жена умерла так внезапно. Он никому не позволяет входить туда; это был ее сад. Он запер калитку, вырыл яму и закопал туда ключ… Миссис Медлок звонит – мне надо бежать.
Глава V
Когда Марта ушла, Мери свернула на дорожку, которая вела к калитке в огороде. Она невольно думала о том саде, в котором никто не бывал уже десять лет; думала о том, какой вид имеет этот сад и есть ли еще в нем какие-нибудь живые цветы.
Когда она прошла через калитку, она очутилась в большом саду с широкими лужайками и извилистыми дорожками с подчищенными краями. Там были деревья, клумбы, хвойные деревья, подстриженные в разных причудливых формах, и большой пруд со старым серым фонтаном посредине. Но клумбы были обнажены, а фонтан не бил. Это не был запертый сад. Как можно запереть сад? Ведь в сад всегда можно войти…
Она думала как раз об этом, когда увидела, что в конце дорожки, по которой она шла, находится длинная стена, вся покрытая плющом. Мери была недостаточно знакома с Англией, чтоб догадаться, что она приближалась к фруктовому саду и огороду.
Она подошла к стене и увидела зеленую калитку, которая была отворена. Это, очевидно, не был запертый сад, и сюда можно было войти.
Пройдя в калитку, она увидела, что это был сад, обнесенный вокруг стеною, и что таких садов было несколько; все они, очевидно, сообщались между собой. Потом она увидела еще одну открытую зеленую калитку, сквозь которую виднелись кусты и дорожки между грядами зимних овощей. Фруктовые деревья росли возле самой стены, а некоторые из грядок были прикрыты стеклянными рамами. Мери постояла, посмотрела вокруг и решила, что все это очень некрасиво и голо. Летом, когда все было зелено, сад, быть может, выглядел красивее, но теперь в нем ничего красивого не было.
Через несколько минут из калитки, ведшей в другой сад, вышел старик с заступом на плече. Когда он увидел Мери, на лице его выразилось изумление, и он слегка приподнял шляпу. Лицо у него было угрюмое, и ему, видно, не особенно приятно было встретить Мери; но ей не нравился его сад, выражение лица у нее тоже было неприветливое, и встрече со стариком она тоже не особенно обрадовалась.
– Что здесь такое? – спросила Мери.
– Один из огородов, – ответил он.
– А там что? – сказала она, указывая на растворенную зеленую калитку.
– Еще один, – коротко ответил он. – А по ту сторону стены еще один, а за ним еще огород.
– Можно мне туда пойти? – спросила Мери.
– Если хочешь… Только смотреть там нечего.
Мери ничего не ответила. Она направилась прямо по дорожке и прошла через вторую зеленую калитку. Там она опять увидела стены, опять зимние овощи и стеклянные рамы, но во второй стене была еще одна зеленая калитка, которая не была отперта. Быть может, она вела в тот сад, которого никто не видел уже десять лет.
Так как Мери никогда не была робкой и всегда делала все что хотела, то она подошла к зеленой калитке и повернула ручку. Она думала, что калитка не отворится, потому что ей хотелось верить, что она нашла таинственный сад, но калитка отворилась легко, и когда Мери прошла через нее, она очутилась в фруктовом саду. Он тоже был обнесен стеною, возле которой росли фруктовые деревья, но зеленой калитки там не было. Мери стала искать ее, потому что когда она дошла до другого конца сада, то заметила, что стена там не кончалась, а тянулась дальше. За стеной виднелись вершины деревьев, и, когда Мери остановилась, она увидела птичку с ярко-красной грудью, сидевшую на самой высокой ветви одного из них. Птичка вдруг запела почти в ту же самую минуту, когда увидела Мери, точно стала звать ее.
Мери остановилась и стала слушать; и почему-то такой веселый, ласкающий свист вызвал в ней приятное чувство. Даже угрюмый, неприветливый ребенок может чувствовать себя одиноким; а большой запертый дом, широкая обнаженная степь и обширные обнаженные сады вызвали в Мери такое чувство, как будто во всем свете никого не осталось, кроме нее одной. Если бы она была ласковым ребенком, который привык к тому, чтобы его любили, то она бы сильно затосковала, но даже угрюмая Мери чувствовала себя заброшенной, и веселая красногрудая птичка вызвала на ее хмуром лице нечто похожее на улыбку.
Она стояла и слушала птичку, пока та не улетела. Птичка эта вовсе не походила на птиц в Индии и очень понравилась Мери. Она подумала о том, увидит ли ее еще когда-нибудь. Быть может, она жила в таинственном саду и хорошо знала его!
Мери, вероятно, потому так много думала о запущенном саде, что ей нечего было делать. В ней проснулось любопытство, и ей захотелось увидеть, что это за сад. Почему мистер Арчибальд Крэвен зарыл ключ? Если он так любил свою жену, почему он так ненавидел ее сад? Она подумала о том, увидит ли она когда-нибудь мистера Крэвена, и решила, что если увидит, то он ей не понравится, она ему тоже не понравится, и она будет стоять и смотреть на него, не говоря ни слова, даже если ей страшно захочется спросить его, почему он сделал такую странную штуку.
«Я никогда не нравлюсь людям, и люди не нравятся мне, – подумала она. – И я никогда не умела говорить так, как дети Моррисона. Они всегда говорили, и смеялись, и шумели».
Она подумала о красношейке, как она запела будто ради нее одной, и, вспомнив о дереве, на котором сидела птичка, внезапно остановилась.
– Мне кажется, это дерево растет в таинственном саду, я уверена в этом, – сказала она. – Там была стена, но не было калитки.
Она вернулась в первый фруктовый сад и нашла там старика, который копал землю. Она подошла, остановилась возле него и несколько минут холодно смотрела на него.
Он не обратил на нее внимания, и она, наконец, заговорила с ним.
– Я была в остальных садах, – сказала она.
– Тебе ничто не помешало, – брюзгливо ответил он.
– Я зашла во фруктовый сад.
– Там у калитки собак нет, – ответил он.
– Но там больше нет калитки в другой сад, – сказала Мери.
– В какой сад? – спросил он грубо, на секунду перестав копать.
– В тот сад, по другую сторону стены, – ответила Мери. – Там есть деревья – я видела их верхушки. На одном из них сидела птичка с красной грудью и пела.
К ее великому удивлению, выражение его угрюмого обветренного лица вдруг переменилось. По лицу медленно расползлась улыбка, и у старого садовника вдруг стал совсем другой вид. Мери вдруг подумала – и это показалось ей странным, – что человек выглядит гораздо лучше, когда он улыбается. Прежде она никогда не думала об этом.
Садовник вдруг обернулся в сторону фруктового сада и начал свистеть – тихо и нежно. Мери никак не могла понять, как такой угрюмый человек мог издавать такие ласкающие звуки.
В следующую минуту произошло нечто удивительное. Она услышала мягкий шелест крыльев в воздухе – это летела к ним птичка с красной грудью. Она уселась на большой глыбе земли, очень близко к ноге садовника.
– Вот она, – ласково сказал садовник и стал говорить с птичкой, точно с ребенком: – Ты где была, маленькая попрошайка? Я тебя только сегодня увидел!
Птичка наклонила головку набок и глядела прямо на него своим блестящим глазом, похожим на капельку черной росы. Она, казалось, ничуть не боялась, она прыгала и быстро долбила клювом, отыскивая семена и насекомых. В сердце Мери шевельнулось какое-то странное чувство, потому что птичка была такая веселая и красивая и казалась настоящей особой. У нее было маленькое толстое тельце, тоненький клюв и тоненькие стройные ножки.
– Она всегда прилетает, когда вы ее зовете? – почти шепотом спросила Мери.
– Да, почти всегда. Я знаю ее с тех пор, как она была маленьким птенчиком. Она вылетела из гнезда в другом саду и когда в первый раз перелетела через стену, то была слишком слаба, чтобы улететь назад; в эти несколько дней мы и подружились. Когда она опять улетела по другую сторону стены, все остальные птицы уже покинули гнездо; она осталась совсем одна и вернулась ко мне.
– Что это за птичка? – спросила Мери.
– А ты не знаешь? Это малиновка, ласковая, любопытная птичка. Эти птички почти так же ласковы, как и собачки, если только уметь с ними обходиться. Посмотри-ка, как она тут роется и поглядывает на нас! Она знает, что мы о ней говорим!
И старик с любовью и гордостью посмотрел на красногрудую птичку.
– И любопытна же она, – продолжал он со смехом, – всегда является посмотреть, что я сажаю. Она все это знает. Мистер Крэвен ничуть об этом не заботится. Это она главный садовник.
Птичка продолжала прыгать, усердно клюя что-то и по временам поглядывая на них обоих. Мери казалось, что ее глазки, похожие на капли черной росы, смотрели на нее с большим любопытством, как будто она хотела познакомиться с нею поближе. В сердце Мери шевельнулось какое-то странное чувство.
– А куда улетели остальные птенцы? – спросила Мери.
– Неизвестно. Старые птицы выталкивают их из гнезда и учат летать, и все они очень скоро разлетаются в разные стороны. А эта вот была умница и поняла, что она одинока.
Мери подошла поближе к птице и пристально поглядела на нее.
– Я одинока, – сказала она.
Мери прежде не понимала, что именно это и делало ее такой кислой и сердитой; она, казалось, поняла это только тогда, когда поглядела на птичку, а птичка на нее.
Старый садовник сдвинул шапку со своей лысой головы и с минуту смотрел на Мери.
– Это ты – девочка из Индии? – спросил он.
Мери кивнула головой.
– Неудивительно, что ты одинока, – сказал он.
Он снова начал копать, всаживая заступ глубоко в жирную черную землю, а птичка все прыгала вокруг него с озабоченным видом.
– Как вас зовут? – спросила Мери.
Он выпрямился, чтобы ответить ей.
– Бен Уэтерстафф, – сказал он и потом добавил с кислой улыбкой: – Я тоже одинок, когда ее нет со мной! – Он ткнул пальцем в направлении птички. – Она мой единственный друг.
– А у меня совсем нет друзей, – сказала Мери, – и никогда не было. Моя айэ не любила меня, и я никогда ни с кем не играла.
Йоркширцы обычно откровенно высказывают свои мысли, а старый Бен был настоящий йоркширец.
– Ты и я очень похожи друг на друга, – сказал он. – Мы с тобой вытканы из одних и тех же нитей. Оба мы некрасивы, и оба на самом деле так же кислы, как выглядим. Бьюсь об заклад, что у нас обоих одинаково скверный характер.
Это было довольно прямо и резко, а Мери Леннокс никогда в жизни не слышала правды о себе. Слуги в Индии всегда преклонялись и подчинялись, что бы с ними ни делали. О своей наружности она вообще никогда не думала, но теперь ей пришла в голову мысль, действительно ли она так непривлекательна, как и Бен, и был ли у нее такой же кислый вид теперь, как и до появления птички. Ей стало не по себе.
Близ нее вдруг раздалась ясная, чистая трель, и она быстро обернулась. Она стояла в нескольких шагах от молодой яблони, на одной из ветвей которой уселась малиновка и начала петь. Бен рассмеялся.
– Почему она запела? – спросила Мери.
– Она решила подружиться с тобой, – ответил Бен. – Ты ей, видно, пришлась по нраву!
– Я?! – воскликнула Мери и шагнула поближе к яблоне, глядя наверх. – Хочешь подружиться со мной? – сказала она птице, как будто говорила с человеком. – Хочешь?
Она сказала это не своим обычным чопорным тоном и не повелительным «индийским» тоном, но так нежно и ласково, что старый Бен был так же изумлен, как и она, когда впервые услышала, как он свистал.
– Как ты это хорошо и ласково сказала, – воскликнул он, – как будто ты и в самом деле ребенок, а не чопорная старуха! Ты говорила почти так же, как Дикон говорит со своими любимцами в степи.
– А вы знаете Дикона? – спросила Мери, быстро обернувшись к нему.
– Его все знают. Дикон ходит повсюду. Даже ягоды и цветы его знают. Я думаю, что ему лисицы показывают, где их детеныши, и жаворонки от него не прячут гнезд.
Мери очень хотелось задать еще несколько вопросов. В ней заговорило такое же любопытство по отношению к Дикону, как и по отношению к заброшенному саду. Но в эту минуту малиновка, которая перестала петь, тряхнула крылышками, расправила их и улетела.
– Она перелетела по ту сторону стены! – воскликнула Мери, следя за ее полетом. – Она полетела во фруктовый сад… а теперь она уже за второй стеной… в том саду, где нет калитки!
– Она там живет, – сказал старый Бен, – там она вылупилась из яйца где-нибудь между розовыми кустами.
– А там есть розовые кусты? – спросила Мери.
Бен снова взялся за заступ и начал копать.
– Были… десять лет тому назад, – пробормотал он.
– Я бы хотела их увидеть, – сказала Мери. – Где зеленая калитка? Где-нибудь ведь должна быть калитка!
Бен сунул заступ глубоко в землю, и вид у него стал такой же недружелюбный, как и в первую минуту, когда Мери увидела его.
– Была… десять лет тому назад, а теперь ее нет, – сказал он.
– Нет калитки! – воскликнула Мери. – Она должна быть!
– Нет ее, и никто ее не может найти, и никого это не касается. А ты не будь надоедливой и не суй своего носа, куда не надо! Ну, мне теперь надо работать. Ступай себе играть; у меня больше нет времени!
И он перестал копать, вскинул заступ на плечо и отошел, не взглянув на нее и даже не простившись.
Глава VI
На первых порах один день был похож на другой для Мери Леннокс. Каждое утро она просыпалась в своей комнате с ткаными обоями и видела Марту, стоявшую на коленях возле камина, чтобы развести огонь; каждое утро она завтракала в своей «детской», где ей нечем было развлечься, и каждый день после завтрака смотрела в окно, на обширную степь, которая раскидывалась во все стороны и сливалась с горизонтом; посмотрев некоторое время, она приходила к заключению, что, если она не выйдет, ей придется сидеть без всякого дела, и поэтому она выходила.
Чрез несколько дней, проведенных почти исключительно на свежем воздухе, она проснулась однажды утром очень голодная. Усевшись завтракать, она уже не оттолкнула чашки с презрительным видом, но сразу взяла ложку и стала есть; ела она до тех пор, пока чашка не стала пустой.
– Ты отлично справилась с этим сегодня, – сказала Марта.
– Сегодня это было очень вкусно, – сказала Мери, сама немного удивленная.
– Это степной воздух дает тебе аппетит, – сказала Марта. – Ты счастливица: у тебя не только аппетит есть, но и еда. А у нас в коттедже – нас двенадцать человек – у всех желудки, а положить в них нечего. Ты играй на воздухе каждый день и не будешь такая желтая.
– Я не играю, – сказала Мери. – Мне нечем играть.
– Нечем играть! – воскликнула Марта. – Наши дети играют прутьями, камешками, бегают, кричат, смотрят на все кругом.
Мери не кричала, но тоже стала рассматривать все; больше ей нечего было делать. Она обходила вокруг садов, бродила по дорожкам парка. Иногда она искала старого Бена и хотя несколько раз видела его за работой, но он был или слишком занят, или слишком угрюм, чтоб поглядеть на нее. Однажды, когда она направилась к нему, он поднял свой заступ и отвернулся, как будто нарочно.
Чаще всего она гуляла по тропинке возле стены, окружавшей сады. По обе стороны тропинки были незасаженные клумбы, а стены заросли густым плющом. В одном месте вьющаяся темно-зеленая листва была особенно густа, как будто за ней долгое время никто не присматривал.
Спустя несколько дней после встречи с Беном Мери заметила это и остановилась, удивляясь, почему это так. Она стояла и смотрела на ветку плюща, качавшуюся от ветра, как вдруг перед ней блеснуло что-то красное и послышалось звучное чириканье. На стене сидела малиновка старого Бена, глядя вниз, с вытянутой шейкой и наклоненной набок головкой.
– О! Это ты! – крикнула Мери, и ей ничуть не показалось странным, что она заговорила с птичкой, как будто та могла понять ее или ответить ей.
Птичка действительно ответила ей: она защебетала и запрыгала, словно рассказывала ей о чем-то. Мери засмеялась, и когда птичка пустилась лететь вдоль стены, она побежала за ней. Бедная маленькая Мери – худая, желтая, она в эту минуту казалась почти красивой.
– Я люблю тебя! – крикнула она и даже попыталась засвистать, чего вовсе не умела делать. Но птичка казалась вполне довольной: она тоже стала свистать в ответ и, наконец, расправив крылья, смело взлетела на вершину дерева, уселась там и громко запела.
Это напомнило Мери тот день, когда она впервые увидела птичку. Тогда птичка качалась на вершине дерева, а Мери стояла в фруктовом саду. Теперь она была с другой стороны фруктового сада и стояла на тропинке возле стены, за которой виднелось то же самое дерево.
– Это тот сад, в который нельзя войти, – сказала она самой себе. – Это сад без калитки, и там живет птичка. Как бы мне хотелось посмотреть, что там такое!
Она обошла вокруг стены, тщательно осматривая ее, и убедилась, что калитки в ней не было.
– Это очень странно, – проговорила она. – Бен сказал, что калитки нет, и ее таки нет. Но десять лет тому назад была калитка, потому что мистер Крэвен зарыл ключ в землю.
Все это дало столько пищи ее уму, что она заинтересовалась и решила, что не жалеет о том, что приехала в Миссельтуэйт-Мэнор. В Индии ей всегда было жарко, и она всегда чувствовала такую истому, что ничем не могла заинтересоваться. Свежий степной ветер точно сдувал паутину с ее маленького мозга и оживлял ее.
Она почти весь день провела на свежем воздухе и когда села ужинать вечером, то была очень голодная, сонная и чувствовала приятную усталость.
Она не рассердилась, когда Марта начала болтать, и чувствовала, что ей даже приятно слушать ее; наконец она решила задать ей один вопрос. Задала она его после ужина, усевшись на ковре пред камином.
– Почему мистер Крэвен так не любит этот сад? – спросила она.
Она заставила Марту остаться после ужина, и Марта не противилась. Она была очень молода, привыкла к жизни в коттедже, полном братьев и сестер, и ей было очень скучно внизу, в огромной людской. Марта любила поговорить, а эта странная девочка, которая жила в Индии и имела черных слуг, была для Марты особенно привлекательной новинкой.
Марта уселась на ковре у камина, не дожидаясь приглашения.
– Ты все еще думаешь об этом саде? – спросила она. – Так я и знала. То же самое было и со мной, когда я впервые услышала об этом.
– Почему он его так ненавидел? – настаивала Мери.
Марта поджала под себя ноги и уселась поудобней.
– Послушай-ка, как ветер воет вокруг дома, – сказала она. – Ты теперь не могла бы устоять на ногах, если бы вышла в степь!
– Почему же он его так ненавидел? – опять спросила Мери. Она хотела узнать это, раз Марта тоже знала.
Мери стала выкладывать пред нею свой запас сведений.
– Помни, – сказала она, – миссис Медлок приказала не разговаривать об этом. Здесь есть многое, о чем нельзя разговаривать. Таковы приказания мистера Крэвена. Он говорит, что его несчастья – не наше дело. Если бы не этот сад, он бы не был таким. Это был сад миссис Крэвен; его разбили, когда они только что повенчались. Она очень любила этот сад, и они вместе ухаживали за цветами; ни одного садовника не пускали в сад. Мистер Крэвен с женой уходили в сад, затворяли за собой калитку и по целым часам сидели там, разговаривая и читая.
Она была молоденькая, совсем девочка! В саду стояло старое дерево с согнутой ветвью, вроде скамейки. Она посадила вокруг него розы и всегда сидела на этой ветви. Однажды, когда она там сидела, ветвь сломалась, она упала на землю и так сильно ушиблась, что назавтра умерла.
Доктора думали, что он сойдет с ума и тоже умрет. Поэтому-то он так ненавидит этот сад. С тех пор туда никто не заходил, и он никому не позволяет даже говорить о нем.
Мери больше не задавала вопросов. Она смотрела на красное пламя и прислушивалась к вою ветра, который завывал все громче.
В эту минуту с ней происходило нечто очень хорошее. Это случалось с нею уже в четвертый раз с тех пор, как она приехала. Первое было то, когда ей показалось, что она поняла малиновку, а малиновка ее; второе, что она бегала на свежем воздухе, пока не разгорелась ее кровь; третье, что она впервые в жизни испытала настоящий голод; четвертое, когда она поняла, что значит пожалеть кого-нибудь. Она делала успехи.
Прислушиваясь к вою ветра, она стала прислушиваться еще к чему-то. Она не знала, что это было, потому что сначала едва могла отличить это от завывания ветра. Это был странный звук – казалось, будто где-то плакал ребенок. Иногда самый звук ветра походил на плач ребенка; но Мери скоро разобрала, что звук раздавался в доме, а не вне дома. Он раздавался где-то очень далеко, но внутри дома. Она обернулась и посмотрела на Марту.
– Ты слышишь, как кто-то плачет? – спросила она.
Марта вдруг смутилась.
– Нет, – ответила она, – это ветер. Иногда кажется, как будто кто-то заблудился в степи и плачет.
– Но послушай, – сказала Мери. – Это где-то в доме, в одном из этих длинных коридоров.
В эту минуту где-то внизу, очевидно, открыли дверь: сильный ветер ворвался в коридор, и дверь комнаты, где они сидели, с треском отворилась. Обе они вскочили на ноги, но в этот момент свет погас, и звук плача пронесся по коридору, более явственный, чем прежде.
– Вот! Слышишь! – воскликнула Мери. – Я тебе говорила! Это кто-то плачет, и это не взрослый человек.
Марта подбежала к двери, затворила ее и повернула ключ; но прежде чем она успела сделать это, они услышали, как в одном из коридоров с шумом захлопнулась дверь, и потом все стихло; даже ветер на несколько секунд перестал выть.
– Это был ветер, – упрямо сказала Марта. – А если не ветер, то маленькая судомойка, Бетти. У нее целый день болели зубы.
Какое-то странное замешательство в ее манерах заставило Мери пристально взглянуть на нее. Ей показалось, что Марта не говорит правды.
Глава VII
На следующий день дождь лил ливмя, и когда Мери выглянула из окна, степи почти не видно было из-за серого тумана. В такой день нельзя было выйти.
– Что вы делаете в вашем коттедже, когда идет такой дождь? – спросила она Марту.
– Стараемся не попасть друг другу под ноги, – ответила Марта. – Ведь нас так много! Мать очень добрая, но и она теряет терпение. Старшие дети идут играть в хлев. А Дикон не обращает никакого внимания на дождь – он все равно уходит, как и в солнечный день. Он говорит, что в дождь видит все то, что не показывается в ясную погоду.
Раз он нашел маленькую лисичку, которая чуть не утонула в своей норе, и принес ее домой за пазухой, чтобы отогреть. Старую лису убили неподалеку, а нору затопило, и остальные детеныши утонули. Она и теперь у него.
А еще раз он нашел маленькую ворону, тоже принес домой и приручил. Зовут ее Сажа, потому что она очень черная, и она повсюду скачет и летает следом за ним.
К этому времени Мери уже перестала относиться недружелюбно к фамильярным разговорам Марты. Она даже стала находить их интересными и жалела, когда Марта уходила. Рассказы ее айэ, когда она жила в Индии, совершенно не походили на рассказы Марты о степном коттедже, где в четырех комнатах помещалось четырнадцать человек, которые никогда не наедались досыта.
– Если б у меня была лисичка или ворон, я бы могла играть с ними, – сказала Мери, – но у меня никого нет.
– Ты вязать умеешь? – спросила Марта.
– Нет! – сказала Мери.
– А шить умеешь?
– Нет!
– А читать умеешь?
– Да.
– Так почему же ты не читаешь или не поучишься складывать?
– У меня нет книг, – сказала Мери. – Те, что у меня были, остались в Индии.
– Очень жаль! – сказала Марта. – Если б миссис Медлок позволила тебе войти в библиотеку! Там тысяча книг!
Мери не спросила, где помещалась библиотека, потому что в голове ее блеснула новая мысль. Она решила сама отыскать библиотеку. Мысль о миссис Медлок ничуть не смущала ее. Миссис Медлок почти всегда сидела в своей уютной комнате внизу. В этом странном доме никого не было, кроме слуг, которые в отсутствие господина жили вольной жизнью в нижнем этаже, где помещалась огромная кухня, увешанная блестящей медной и оловянной посудой, и большая столовая для слуг.
Мери регулярно присылали завтрак, обед и ужин. Марта прислуживала ей, но никому не было до нее ни малейшего дела. Миссис Медлок заходила к ней раз в день или в два дня, но никто не спрашивал Мери, что она делает, и никто не говорил ей, что ей надо делать. Она думала, что это, вероятно, был английский обычай – так относиться к детям. В Индии ей всегда прислуживала ее айэ, которая ходила следом за ней и исполняла все ее желания, и очень часто ее общество надоедало Мери. Теперь же никто за нею не ходил, и она приучилась одеваться сама, потому что каждый раз, когда она хотела, чтобы ее одели или подали что-нибудь, у Марты был такой вид, как будто она считала Мери очень глупой и бестолковой.
– Разве у тебя ума нет? – спросила Марта однажды, когда Мери стояла и ждала, пока она ей наденет перчатки. – Наша Сюзан вдвое смышленее тебя, а ей всего четыре года. Иногда ты кажешься совсем глупышкой.
После этого Мери целый час дулась, но это возбудило в ней много новых мыслей.
После того как Марта подмела пол и ушла вниз, Мери еще около десяти минут стояла у окна; она была занята той новой мыслью, которая явилась у нее, когда она услышала о библиотеке. До самой библиотеки ей было мало дела, потому что ей не очень-то хотелось читать, но разговор о ней напомнил ей рассказ о сотне комнат с затворенными дверями. Она думала, на самом ли деле все они заперты и что бы она увидела, если бы могла войти в одну из комнат. Неужели их была сотня? Почему бы ей не пойти посмотреть, сколько она насчитает?
Ее никогда не учили спрашивать позволения сделать что-нибудь, она не знала, что значит авторитет, и ей не могла прийти в голову мысль спросить позволения миссис Медлок, даже если б она ее увидела.
Она отворила дверь, вышла в коридор и пустилась бродить. Это был длинный коридор, из которого шли еще другие; ей пришлось подняться на несколько ступеней, потом еще на несколько. Повсюду были двери, двери, а на стенах висели картины. Иногда на них были изображены странные темные ландшафты, но по большей части это были портреты мужчин и дам в странных пышных костюмах из атласа и бархата.
Скоро она очутилась в длинной галерее, стены которой были сплошь увешаны такими портретами. Она никогда не думала, что их может быть такое множество в одном доме.
Она медленно прошлась по галерее, глядя на лица портретов, которые, казалось, глядели на нее. Ей чудилось, будто они удивляются, что девочка из Индии очутилась у них в доме.
Там были и портреты детей – девочек в тяжелых атласных платьях, доходивших до самого пола, и мальчиков с длинными волосами, в кружевных воротниках.
Она всегда останавливалась у портретов детей, думая о том, как их звали, куда они исчезли и почему носили такую странную одежду. Один портрет изображал чопорную некрасивую девочку, похожую на нее самое. На ней было зеленое глазетовое платье, а на пальце сидел зеленый попугай. Взгляд у нее был острый и любопытный.
– Где ты теперь живешь? – громко спросила ее Мери. – Я бы хотела, чтобы ты была теперь здесь.
Ни одна девочка, вероятно, никогда не проводила время так странно. Ей казалось, что во всем громадном доме была только одна она – маленькая девочка в черном платьице, бродившая вниз и вверх по лестницам, по широким или узким коридорам, по которым никто, кроме нее, никогда не ходил.
Если было построено столько комнат, то в них, вероятно, жили люди когда-то, но теперь повсюду было так пусто, что ей не верилось, будто это могло быть так на самом деле.
Когда она добралась до второго этажа, ей вздумалось повернуть ручку одной из дверей. Все двери были затворены, как ей сказала миссис Медлок, и она взялась за ручку одной и повернула ее. Она немного испугалась, когда почувствовала, что ручка повернулась очень легко и что при первом толчке сама дверь медленно и тяжело отворилась. Это была массивная дверь, которая вела в большую спальню. На стенах были тканые обои, а около стен стояла мебель с инкрустацией – такая, какую она часто видала в Индии. Широкое окно свинцовым переплетом выходило в степь, а над камином висел еще один портрет чопорной некрасивой девочки, которая, казалось, глядела с бо́льшим любопытством, чем прежде.
– Быть может, она когда-нибудь спала здесь, – сказала Мери. – Она так смотрит на меня, что я себя чувствую как-то странно.
После этого она открыла еще несколько дверей, потом еще несколько. Она видела столько комнат, что начала уставать, и решила, что их, вероятно, была сотня, хотя она и не считала. Во всех комнатах были старые картины или старые тканые обои со странными изображениями, и почти в каждой комнате была странная мебель и странные украшения.
В одной комнате, похожей на дамский будуар, обои были бархатные, а в шкафчике стояло около сотни маленьких слонов, выточенных из слоновой кости. Все они были различной величины, и у некоторых на спинах были паланкины или погонщики. Мери видела такие вещички в Индии; открыв дверь шкафчика, она стала на маленькую скамеечку и начала играть ими. Когда ей это надоело, она расставила слонов в прежнем порядке и затворила дверь шкафчика.
Бродя по длинным коридорам и нежилым комнатам, она не встретила ни одного живого существа, но в этой комнате увидала его.
После того как девочка затворила дверцу шкафчика, она услышала какой-то легкий шорох. Она вскочила и стала осматривать стоявший у камина диван, откуда этот шорох слышался. В углу дивана лежала бархатная подушка, в которой была дыра, а из этой дыры выглядывала крохотная головка с парой испуганных глаз.
Мери осторожно подошла поглядеть. Блестящие глаза принадлежали маленькой серой мыши, которая прогрызла дыру в подушке и устроила там жилье. Возле нее лежало шестеро спящих мышат.
– Если бы они не испугались, я бы их взяла с собой, – сказала Мери.
Она так долго бродила по дому, что очень устала и вернулась обратно. Два-три раза она заблудилась, повернув не туда, куда следовало, и ей пришлось бродить взад и вперед по коридорам, пока она не попала в тот, куда ей надо было. В конце концов она очутилась на том этаже, где жила, но на некотором расстоянии от своей комнаты и не сразу могла разобрать, где она находилась.
– Мне кажется, я опять повернула не туда, куда следовало, – сказала она вслух, стоя в конце короткого коридора с ткаными обоями на стенах. – Не знаю, куда идти. Как тихо всюду!
Она еще стояла там и не успела еще кончить фразы, как тишину вдруг нарушил звук. Это опять был крик, но непохожий на тот, который она слышала прошлой ночью. Это был отрывистый крик – капризный визг ребенка, полузаглушенный стенами.
– Это ближе, чем было тогда, – сказала Мери, сердце которой забилось сильнее, – и это плач. – Она нечаянно дотронулась рукой до ковра и испуганно отскочила назад. Ковер прикрывал собою дверь, которая отворилась; за этой дверью было продолжение коридора, по которому шла миссис Медлок со связкой ключей в руке и с сердитым выражением лица.
– Ты что здесь делаешь? – спросила она, схватив Мери за руку и оттащив ее в сторону. – Я что тебе говорила?
– Я повернула не в тот коридор, – объяснила Мери. – Я не знала, куда идти, и услышала, что кто-то плачет.
В эту минуту она возненавидела миссис Медлок, но в следующую минуту возненавидела ее еще больше.
– Ты ничего такого не слыхала, – сказала экономка. – Пойди к себе в детскую, не то я тебя отдеру за уши.
Она схватила ее за руку, таща и толкая по коридору, пока, наконец, не втолкнула в ее собственную комнату.
– А теперь, – сказала она, – ты лучше сиди, где приказано, не то тебя запрут. Мистер Крэвен должен взять тебе гувернантку, как обещал. За тобой надо строго присматривать, а у меня и так работы довольно.
Она вышла из комнаты, громко хлопнув дверью. Мери села на ковер возле камина, вся бледная от гнева. Она не заплакала, но заскрежетала зубами.
– Кто-то п л а к а л… п л а к а л… п л а к а л, – сказала она себе самой.
Она дважды слышала крик и решила, что когда-нибудь узнает, в чем дело. В это утро она уже узнала многое. Она чувствовала себя так, будто совершила длинное путешествие и, во всяком случае, немного развлеклась: она успела поиграть костяными слонами и видела серую мышь с детенышами в норке в бархатной подушке.
Глава VIII
Чрез два дня после этого, когда Мери проснулась утром, она сейчас же села в постели и позвала Марту:
– Посмотри-ка на степь! Посмотри-ка.
Дождь прекратился, а облака унесло ветром. Ветер тоже утих, и над степью высился ярко-голубой свод неба. Мери никогда даже не снилось, что небо бывает такое голубое. В Индии небо всегда было точно раскаленное, а здесь оно было такого ярко-голубого цвета, что казалось каким-то чудным, блестящим, бездонным озером; там и сям, высоко в этом голубом своде, носились маленькие белые перистые облачка. Широкий простор степи тоже был мягко-голубой, а не мрачно-багряный или серый.
– Да, буря прошла, – радостно сказала Марта. – Всегда бывает так в это время года – за ночь все проходит, как будто бури никогда не было и никогда не будет. Это потому, что весна идет. Она еще далеко, но все-таки идет.
– А я думала, что в Англии всегда дождь и всегда хмуро, – сказала Мери.
– О, нет! – сказала Марта. – В Йоркшире, когда ясно, то яснее, чем везде на свете. Я тебе говорила, что ты привыкнешь и станешь любить степь. Ты только подожди – увидишь, как зацветет золотистый дрок, и вереск, и пурпурные колокольчики; станут порхать бабочки, зажужжат пчелы и запоют жаворонки. Тогда тебе захочется встать на рассвете и быть целый день в степи, как делает наш Дикон.
– А можно будет мне пойти туда? – с любопытством спросила Мери, глядя в окно на голубой простор.
– Не знаю, – ответила Марта. – Мне кажется, что ты от роду не пользовалась своими ногами, ты не могла бы пройти пяти миль. До нашего коттеджа ведь пять миль.
– Мне хотелось бы видеть ваш коттедж, – сказала Мери.
Марта с секунду пристально глядела на нее, потом снова взялась за свои щетки и стала чистить каминную решетку. Она подумала, что в эту минуту маленькое некрасивое личико девочки вовсе не казалось таким кислым, как в то утро, когда она впервые увидела ее.
– Я спрошу мою мать, – сказала она. – Она всегда найдет способ сделать что надо. Сегодня – мой день, и меня отпускают домой. Я очень рада! Миссис Медлок очень уважает мою мать, может быть, она с нею поговорит.
– Я люблю твою мать, – сказала Мери.
– Еще бы! – сказала Марта, продолжая чистить.
– Я ее никогда не видала, – сказала Мери.
– Конечно, нет, – ответила Марта, – но она такая умная, работящая, добрая, опрятная, что ее любят все, кто видел и кто не видел. Когда я иду домой по степи, я прыгаю от радости.
– Я люблю и Дикона, – добавила Мери, – а я и его никогда не видала.
– Я уже говорила тебе, – гордо сказала Марта, – что его любят и птицы, и зайцы, и дикие овцы, и даже лисицы. Знаешь ли, о чем я думаю, – добавила она, сосредоточенно глядя на девочку, – понравилась бы ты Дикону или нет?
– Не понравилась бы, – сказала Мери своим чопорным, холодным тоном. – Я никому не нравлюсь.
– А сама себе ты нравишься? – спросила Марта, как будто ей на самом деле надо было знать это.
Мери с секунду колебалась, как бы обдумывая ответ.
– Нет… совсем не нравлюсь, – ответила она. – Но до сих пор я никогда не думала об этом.
Марта ушла, как только подала Мери ее завтрак. Ей предстояло пройти пять миль по степи, чтобы добраться до своего коттеджа.
Зная, что Марта ушла, Мери почувствовала себя особенно одинокой. Она быстро выбежала в сад и сначала обежала десять раз вокруг фонтана; ей стало немного веселее. Потом она отправилась в фруктовый сад и там увидела Бена, который работал с двумя другими садовниками. Перемена погоды, очевидно, хорошо подействовала на него, и он сам заговорил с Мери.
– Весна идет, – сказал он. – Чуешь ее запах?
Мери понюхала воздух.
– Пахнет чем-то хорошим, свежим и влажным, – сказала она.
– Это землей пахнет, – объяснил Бен. – Вон там, в цветниках, скоро все зашевелится в темноте, под землей. Солнце греет, и ты увидишь, как из-под земли скоро станут показываться зеленые острия…
– А что это будет? – спросила Мери.
– Подснежники, нарциссы… Ты их когда-нибудь видела?
– Нет. В Индии все зелено, и тепло, и влажно после дождей. Мне кажется, что там все вырастает в одну ночь.
– Нет, это не вырастет в одну ночь, – сказал Бен. – Тебе придется ждать и следить!
– Буду, – ответила Мери.
Скоро она услышала мягкий шелест крыльев и сразу догадалась, что это опять прилетела малиновка. Она была очень хлопотлива и весела, прыгала возле самых ног Мери и, склонив головку набок, так хитро глядела на нее, что Мери спросила Бена:
– Вы думаете, она меня помнит?
– Помнит ли! – негодующе воскликнул Бен. – Да она знает всякую кочерыжку в овраге, не только людей. Она здесь никогда не видала маленькой девочки, и ей хочется все разузнать про тебя…
– А в том саду, где она живет, тоже все шевелится под землей? – спросила Мери.
– В каком саду? – проворчал Бен, опять став угрюмым.
– А там, где розовые кусты. – Мери не могла удержаться от этого вопроса, потому что ей страшно хотелось узнать. – Там все цветы умерли или некоторые оживают летом? А розы там есть?
– Спроси у нее, – сказал Бен, двинув плечом в направлении малиновки. – Она одна это знает. Там уже десять лет никто не бывал.
Мери подумала, что десять лет – очень долгий срок. Она родилась целых десять лет тому назад.
Она отошла, медленно соображая. Она начинала любить сад, как полюбила птичку, и Дикона, и мать Марты. Она начинала любить и Марту тоже. Ей казалось, что любит очень многих людей, в особенности потому, что не привыкла любить никого. (Она и о птичке думала, как о человеке.)
Она вышла на дорожку возле заросшей плющом стены, над которой виднелись верхушки деревьев, и, когда проходила по ней во второй раз, с ней случилось нечто интересное и удивительное, и все благодаря птичке Бена Уэтерстаффа.
Мери услышала щебетанье птицы и, посмотрев на обнаженную клумбу слева, увидела малиновку, которая прыгала и делала вид, что вытаскивает что-то из земли, как будто желая доказать Мери, что вовсе не следовала за нею. Но Мери знала, что она шла следом за нею, и это наполнило ее таким восторгом, что она даже задрожала.
– Ты помнишь меня! – воскликнула она. – Помнишь! Ты красивее всего на свете!
Мери болтала и манила птичку, а птичка прыгала и чирикала, точно разговаривая с нею.
Цветочная клумба была не совсем обнажена; на одном конце ее росла группа кустов, и когда малиновка прыгала меж ними, Мери заметила, что она перепрыгнула через маленькую кучку свежевзрытой земли. Земля была взрыта потому, что собака старалась поймать крота и вырыла довольно глубокую яму.
Мери посмотрела на это, не зная даже, каким образом там оказалась яма, и вдруг увидела нечто, почти совсем прикрытое свежевскопанной землей. Это было нечто похожее на ржавое железное или медное кольцо; когда малиновка взлетела на дерево, Мери протянула руку и подняла кольцо. Оказалось, что это не кольцо, а старый ключ, который, похоже, очень долгое время был зарыт в земле.
Мери поднялась и с испуганным лицом поглядела на ключ, висевший у нее на пальце.
– Он, может быть, был зарыт целых десять лет, – сказала она шепотом. – Это, может быть, ключ от того сада!
Глава IX
Мери долгое время смотрела на ключ, вертела его во все стороны и все думала о нем. Как уже было сказано прежде, она не была таким ребенком, которого приучили спрашивать позволения или совета старших относительно чего бы то ни было. Она думала о ключе только то, что если этот ключ от запертого сада и если она могла бы отыскать калитку, то можно было бы отпереть ее этим ключом, посмотреть, что находится за стенами и что случилось со старыми розовыми кустами.
Ей очень хотелось видеть этот сад только потому, что он был заперт такое долгое время. Ей казалось, что этот сад какой-то особенный и что в течение десяти лет там должно было произойти нечто удивительное. Кроме того, она думала, что если сад ей понравится, то можно будет ходить туда каждый день, запирать за собой калитку и играть совсем одной. Никто не знал бы, где она, потому что все думали бы, что калитка заперта и ключ зарыт в землю. Эта мысль очень понравилась ей.
Она жила почти одна в большом доме с сотней таинственных запертых комнат и не находила ничего, что могло бы занять или развлечь ее, и именно это расшевелило ее дремавший мозг и разбудило ее воображение. Этому, конечно, немало способствовал и чистый, бодрящий, свежий воздух степи. В Индии Мери всегда было жарко и она всегда была такая вялая и слабая, что у нее не возникало никаких желаний, здесь же ей хотелось сделать что-нибудь новое.
Она положила ключ в карман и стала ходить взад и вперед по дорожке. По ней, казалось, никто никогда не проходил, кроме Мери, и она могла прохаживаться очень медленно, глядя на стену или, лучше сказать, на покрывавший ее плющ. Этот плющ сбивал ее с толку: сколько она ни глядела, она ничего не видела, кроме частых блестящих темно-зеленых листьев. Она была очень разочарована; ей казалось нелепым то, что она так близко и не может войти внутрь. С ключом в кармане она отправилась домой, решив, что во время прогулок всегда будет носить его в кармане, чтобы быть готовой, если она найдет скрытую калитку.
Миссис Медлок позволила Марте ночевать в коттедже, но на следующее утро она снова была за работой, более румяная, чем всегда, и в прекрасном расположении духа.
– Я встала в четыре часа, – заговорила она. – Как славно в степи утром: солнце восходит, птицы просыпаются, зайцы снуют повсюду. Я не всю дорогу прошла пешком, меня какой-то мужчина подвез на тележке.
И она пустилась рассказывать, как хорошо она провела свой свободный день. Мать ей очень обрадовалась, и они справились и со стиркой, и с печеньем. Она даже каждому из детей испекла по сладкому пирожку.
Они были горячие, когда дети пришли из степи. И в доме так хорошо пахло горячей выпечкой, и огонь так хорошо пылал в очаге, что дети визжали от радости. Наш Дикон говорит, что у нас в коттедже так хорошо, что сам король мог бы жить в нем.
Вечером все они сидели у очага, Марта рассказывала детям про девочку, которая приехала из Индии и которой всю ее жизнь прислуживали чернокожие, так что она сама даже чулок не умела надеть.
– Им очень понравились рассказы про тебя, – сказала Марта. – Им все хотелось узнать и про чернокожих, и про корабль, на котором ты приехала. Сколько я им ни рассказывала, все было мало.
Мери на секунду задумалась.
– Я тебе расскажу еще многое, прежде чем ты пойдешь домой в следующий раз, – сказала она. – Тогда тебе будет о чем порассказать. Я уверена, что им хотелось бы услышать про езду на слонах и верблюдах и про охоту на тигров… А Дикону и твоей матери тоже нравилось слушать эти рассказы обо мне?
– Еще бы! У Дикона глаза сделались такие круглые, что чуть не выскочили из головы, – сказала Марта. – А матери моей стало жаль тебя, потому что ты живешь почти одна. «Неужели мистер Крэвен не взял ей гувернантки или няни?» – говорит она. А я говорю: «Нет, не взял, хотя миссис Медлок сказала, что возьмет, когда вспомнит; но он может года два-три не вспомнить про это».
– Не надо мне гувернантки, – резко сказала Мери.
– Но моя мать говорит, что тебе уже пора учиться по книжкам и надо к тебе приставить женщину. «Каково бы тебе было, – говорит она, – в таком громадном доме, совсем одной и без матери! Ты постарайся развеселить ее», – говорит она. Я ей обещала это.
Мери пристально и долго смотрела на нее.
– Мне с тобой веселее, – сказала она. – Я люблю слушать твои разговоры.
Скоро Марта вышла, но вернулась, держа что-то под фартуком.
– Знаешь ли, – сказала она с веселой улыбкой, – я тебе принесла подарок!
– Подарок! – воскликнула Мери.
Как можно присылать подарки из коттеджа, в котором четырнадцать человек живут впроголодь!
Марта вынула из-под фартука подарок и с гордостью показала его Мери. Это была крепкая тонкая веревочка с полосатыми деревянными ручками на обоих концах. Ее прислала мать Марты. Мери Леннокс никогда еще не видала прыгалки и с недоумением смотрела на нее.
– Для чего это? – с любопытством спросила она.
– Для чего! – воскликнула Марта. – Неужели в Индии совсем нет прыгалок, а только слоны, тигры да верблюды? Для чего это! Ты посмотри на меня!
Она выбежала на средину комнаты и, взяв в руки концы веревки, начала прыгать. Мери с удивлением глядела на нее, и странные лица старых портретов тоже, казалось, глядели на нее, точно удивляясь, как смела эта деревенская девушка делать это. Но Марта даже не замечала их. Любопытство и интерес, выражавшиеся на лице Мери, так обрадовали ее, что она продолжала прыгать и прыгала до тех пор, пока отсчитала сто.
– Я могла бы прыгать еще дольше, – сказала она, когда остановилась. – Когда мне было лет двенадцать, я однажды прыгала, пока не отсчитала пятисот!
Мери поднялась со стула, чувствуя, что и она начинает оживляться.
– Это, кажется, приятно, – сказала она. – Твоя мать добрая женщина. Как ты думаешь, могу я когда-нибудь выучиться прыгать так?
– А ты попробуй! – сказала Марта, подавая ей веревочку. – Оденься и поди попрыгай на открытом воздухе. Моя мать велела мне сказать тебе, чтобы ты побольше была на воздухе, даже когда дождь идет, – только оденься потеплее.
Мери надела пальто и шляпу и перекинула веревочку через руку. Она уже отворила дверь, чтобы выйти, как вдруг вспомнила о чем-то и медленно обернулась назад.
– Марта, – сказала она, – ведь это было твое жалованье. Это были твои два пенса. Спасибо тебе.
Она сказала это чопорным тоном, потому что не привыкла благодарить кого-нибудь или замечать, когда люди что-нибудь делали для нее.
– Спасибо тебе, – сказала она и протянула руку, потому что не знала, что ей еще надо сделать.
Марта невольно тряхнула ее руку, как будто и она тоже не привыкла к этому. Потом она рассмеялась.
– Ты какая-то странная, точно маленькая старушка, – сказала она. – Если бы ты была наша Эллен, ты бы меня поцеловала.
Мери сказала еще чопорнее:
– Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?
Марта снова засмеялась.
– О, нет, – ответила она. – Если бы ты была другая, ты бы, может быть, сама захотела это сделать… Но ты не другая… Беги в сад и играй там.
На душе у Мери было как-то странно, когда она вышла. Эти йоркширцы очень странные люди, и Марта всегда была для нее загадкой. Сначала она не нравилась Мери, а теперь начала нравиться.
Веревочка оказалась удивительной штукой. Мери считала и прыгала, прыгала и считала, пока щеки у нее не раскраснелись, и она так увлеклась этим, как никогда ничем не увлекалась.
Она забралась в фруктовый сад, где увидела Бена, который копал землю и толковал с малиновкой, прыгавшей подле него. Мери подбежала к нему, прыгая через веревочку, и он поднял голову и смотрел на нее со странным выражением. Мери думала о том, заметит он ее или нет; ей очень хотелось, чтобы он видел, как она прыгает.
– Ишь ты! – воскликнул он. – Да ты, пожалуй, на самом деле девочка, и в жилах у тебя молодая кровь, а не кислое молоко. Ишь напрыгалась, даже щеки раскраснелись! Ни за что бы не поверил.
Мери обежала вокруг всех садов и вокруг фруктового сада, отдыхая каждые несколько минут, и, наконец, направилась к своей любимой дорожке. Ей хотелось попробовать, сумеет ли она пробежать всю длину ее, прыгая через веревочку. Она начала прыгать очень медленно, но на полдороге должна была остановиться, потому что ей стало жарко и у нее перехватило дух. Она остановилась, засмеявшись от удовольствия, и вдруг заметила малиновку, качавшуюся на длинной ветке плюща. Направившись к ней, Мери почувствовала, что с каждым прыжком у нее в кармане постукивает что-то тяжелое, и снова засмеялась.
– Вчера ты мне показала, где был ключ, – сказала она. – А сегодня ты должна была бы указать калитку; но я думаю, что ты не знаешь, где она.
Птичка вспорхнула с качавшейся ветки на вершину стены, широко раскрыла клюв и залилась громкой, чудесной трелью, точно желая похвастаться.
В сказках своей айэ Мери часто слышала про волшебство, и то, что произошло с нею в следующую минуту, она потом всегда называла волшебством.
Вдоль по тропинке вдруг пронесся легкий порыв ветра, более сильный, чем прежде, – настолько сильный, что закачал ветви деревьев и длинные, неподрезанные ветви плюща, которые свешивались со стены. Мери подошла немного ближе к птичке; порывом ветра вдруг отнесло в сторону побеги плюща; Мери быстро прыгнула еще ближе и ухватилась за них рукою. Она сделала это потому, что заметила нечто под листвою – круглую ручку, почти скрытую листьями. Это была ручка калитки.
Она сунула руки под листья и стала отодвигать и отдергивать их в сторону. Хотя плющ рос очень густо, он представлял собою как бы движущийся занавес, прикрывавший дерево и железо. От радости и волнения у Мери сильно билось сердце и дрожали руки. Что это такое… у нее под рукой? Какая-то четырехугольная железная штука и в ней скважина…
Это был замок калитки, которая простояла десять лет запертой. Мери сунула руку в карман и вытащила ключ. Он подходил к замку. Она сунула ключ в замок и повернула его. Ей понадобились обе руки, чтобы сделать это, но ключ все-таки повернулся.
Мери глубоко вздохнула и оглянулась назад, на дорожку, чтобы поглядеть, не идет ли кто-нибудь. Но по дорожке, как видно, никто никогда не ходил. Она опять глубоко вздохнула, потому что не могла удержаться от этого, отвела в сторону колыхавшийся занавес листвы и толкнула дверь, которая медленно, медленно отворилась.
Она скользнула внутрь, затворив за собой калитку, прислонилась к ней спиною, оглядываясь кругом и быстро дыша от возбуждения, удивления и радости.
Она стояла в таинственном саду.
Глава X
Это было такое прелестное таинственное место, какое только можно себе представить. Высокие стены, окружавшие сад, покрыты сухими, безлистыми стеблями вьющихся роз, такими густыми, что они переплелись меж собою. Мери Леннокс знала, что это розы, потому что видела множество роз в Индии. Теперь на них не было ни листьев, ни цветов, и Мери не знала, живы ли они или мертвы; но тонкие серые или коричневые ветки и побеги представляли собой точно прозрачное покрывало, наброшенное на стены, деревья, даже на желтую траву. Это-то прозрачное покрывало и придавало всему такой таинственный вид.
– Как тихо! – прошептала Мери. – Как тихо!
Она с секунду прислушивалась к тишине. Птичка, взлетевшая на верхушку дерева, тоже притихла, как и всё вокруг. Она сидела неподвижно и глядела на Мери.
– Неудивительно, что здесь тихо! – снова шепнула Мери. – За целых десять лет я первая заговорила здесь.
Она отошла от калитки, ступая так тихо, как будто боялась разбудить кого-то. Она была рада, что под ногами у нее трава и шаги ее беззвучны.
– Неужели они совсем мертвые? – сказала она, глядя на стебли и побеги роз. – Неужели это совсем мертвый сад! Мне бы не хотелось, чтобы это оказалось так.
Но она все-таки была в с а м о м таинственном саду! Она могла проходить через калитку, скрытую плющом, во всякое время и чувствовала себя так, как будто открыла новый, ей одной принадлежащий мир.
Все вокруг было странно и тихо, и ей казалось, что она находится за сотни миль от всех, но в то же самое время она вовсе не чувствовала себя одинокой. Только одно ее смущало – желание знать, были ли все розы мертвы или некоторые могли еще ожить и зацвести, когда погода станет теплей. Если бы этот сад был живой, как чудесно было бы здесь и сколько тысяч роз росло бы повсюду!
Когда она вошла в сад, ее веревочка висела у нее на руке; пройдя некоторое расстояние, она решила, что обежит вокруг всего сада и будет останавливаться только тогда, когда ей захочется что-нибудь рассмотреть.
Там и сям виднелись заросшие травой тропинки, а в двух местах она увидела нечто вроде альковов из хвойных растений, с каменными скамьями и высокими, покрытыми мхом вазами для цветов.
Подбежав ко второму алькову, она вдруг остановилась. Там когда-то была клумба, и ей показалось, что из темной земли торчат какие-то маленькие бледно-зеленые острия. Она вспомнила, что говорил ей Бен, и стала на колени, чтобы поглядеть на них.
– Это маленькие штучки растут, и это, может быть, подснежники или нарциссы, – прошептала она.
Она нагнулась близко, вдыхая свежий запах влажной земли. Он ей очень понравился.
– Быть может, и в других местах тоже растет что-нибудь, – сказала она. – Я обойду весь сад и посмотрю!
Она пошла медленно, глядя на землю. Она осматривала старые клумбы, заглядывала в траву и скоро отыскала еще много острых бледно-зеленых игл, что снова привело ее в волнение.
– Это не совсем мертвый сад! – тихо воскликнула она. – Даже если розы умерли, тут все-таки есть что-то живое.
Она не имела никакого понятия о садоводстве, но в некоторых местах, где зеленые острия пробивались наружу, трава была очень густа, и Мери показалось, что им негде расти. Она искала до тех пор, пока не нашла острую палочку, стала на колени и начала копать и выпалывать траву, так что вокруг зеленых игл образовались маленькие расчищенные полянки.
– Теперь, кажется, им можно будет дышать, – сказала она, кончив работу. – Я буду еще чистить, вычищу везде, где только увижу. Если сегодня у меня не хватит времени, я могу прийти и завтра.
Мери работала в саду до тех пор, пока наступило время обеда. Она вспомнила об этом довольно поздно, и когда она надела пальто и шляпу и взяла свою прыгалку, ей не верилось, что она проработала целых три часа. Ей было так хорошо все это время, и теперь эти десятки зеленых игл, которые виднелись среди расчищенных полянок, имели совсем другой вид, чем тогда, когда трава и сорные растения точно душили их.
– Я опять приду после обеда, – сказала Мери, глядя вокруг на свое новое царство и обращаясь к деревьям и розовым кустам, как будто они могли ее слышать.
Она пустилась бежать по траве, толкнула медленно отворившуюся старую калитку и скользнула под листья плюща. У нее были такие румяные щеки, такие блестящие глаза и она столько ела за обедом, что Марта была в восторге.
– Два куска мяса и две порции пудинга, – сказала она. – Мать моя обрадуется, когда я ей расскажу, что для тебя сделала прыгалка!
Во время работы в саду Мери выкопала какой-то белый корешок, похожий на луковицу. Она сейчас же снова засыпала его землей, сровняла ее и только теперь вспомнила об этом. Марта, вероятно, могла бы объяснить ей, что это такое.
– Марта, – спросила она, – что это за белые корешки, похожие на лук?
– Это цветочные луковицы, – ответила Марта. – Из них весной вырастают всякие цветы. Маленькие – это подснежники и шафран, а большие – это нарциссы и жонкили. А больше всех – лилии; они очень красивые, и Дикон много их посадил у нас в садике.
– Так Дикон знает все… про цветы? – спросила Мери, в уме которой зародилась новая мысль.
– Наш Дикон умеет выращивать цветы чуть ли не на кирпичах. Мать говорит, что он заставляет их расти нашептываниями.
– А эти луковицы долго живут? Могут они жить целые годы, если им… никто не помогал?
– Они сами себе помогают, – сказала Марта. – Оттого их разводят бедные люди у себя. Если им не мешать, то они разрастаются под землей во все стороны. Возле парка в лесу есть место, где подснежники растут тысячами. Никто не знает, когда их впервые посадили там. Они очень красивые, когда наступает весна.
– Я бы хотела, чтобы наступила весна, – сказала Мери. – Я хотела бы видеть все, что растет в Англии.
Покончив с обедом, она уселась на свое любимое место – на ковре пред камином.
– Мне хотелось бы иметь маленький заступ, – сказала она.
– На что тебе заступ? – смеясь, спросила Марта.
Мери смотрела на огонь и что-то обдумывала. Она думала, что ей надо быть осторожней, если она хочет сохранить свое тайное царство. Она не делала ничего дурного, но если мистер Крэвен узнает про открытую калитку, он очень рассердится, возьмет новый ключ и запрет ее навсегда. Этого она не могла бы перенести.
– Здесь все такое громадное и пустынное, – сказала она медленно, точно соображая что-то. – И в доме пустынно и скучно, и в парке тоже, и в садах тоже. И здесь столько запертых дверей! Я в Индии тоже ничего не делала, но там было больше людей, на которых можно было смотреть, – туземцы и солдаты, которые шли мимо, иногда играл оркестр… И моя айэ рассказывала мне сказки… А здесь не с кем говорить, только с тобой и Беном; тебе надо работать, а Бен очень часто совсем не говорит со мной. Я думаю… если бы у меня был маленький заступ, я тоже могла бы копать землю где-нибудь, как Бен, и потом устроила бы себе садик, если бы он дал мне семян!
Лицо Марты вдруг точно осветилось.
– Вот, вот! – воскликнула она. – То же самое говорила моя мать. Здесь так много места, говорит она, почему же не дать девочке клочок земли!
– А сколько стоит заступ – маленький? – спросила Мери.
– В деревне есть две лавки, и я видела там маленькие садовые орудия: заступ, грабли и вилы – все за два шиллинга. И все это крепкое, чтобы можно было работать.
– У меня в кошельке есть больше двух шиллингов, – сказала Мери. – Миссис Моррисон дала мне пять шиллингов, и миссис Медлок тоже дала мне денег – это от мистера Крэвена.
– Неужели он помнит тебя! – воскликнула Марта.
– Миссис Медлок сказала, что я буду получать шиллинг в неделю, чтобы тратить. Она каждую субботу дает мне его, но я не знаю, на что его истратить.
– Да это богатство, право, – сказала Марта. – Ты можешь купить, что тебе угодно. Рента за наш коттедж – всего шиллинг и три пенса, но достать эти деньги – все равно что зуб вырвать… Я что-то вспомнила, – сказала она, упершись руками в бока.
– Что такое? – жадно спросила Мери.
– В лавке в деревне продают пакетики цветочных семян по пенни за штуку, и наш Дикон знает, какие цветы самые красивые и как их надо сажать. Он ходит в деревню очень часто, ради забавы… Ты умеешь печатать буквы? – спросила она вдруг.
– Я умею писать, – ответила Мери, но Марта покачала головой.
– Наш Дикон умеет читать только печатное. Если бы ты умела печатать, мы бы послали ему письмо и попросили бы его купить садовые инструменты и семена.
– Какая ты добрая! – воскликнула Мери. – А я этого вовсе не знала. Я думаю, что сумею написать печатными буквами, если попробую. Попросим бумаги и чернил у миссис Медлок!
– У меня есть все свое, – ответила Марта. – Я пойду и принесу.
Она выбежала из комнаты. Мери стояла возле камина и от удовольствия потирала свои худые маленькие руки.
– Если у меня будет заступ, – прошептала она, – то я хорошенько раскопаю землю, чтобы была рыхлая, и выкопаю сорные травы. А если у меня будут семена и я выращу цветы, то сад вовсе не будет мертвый – он оживет!
Написать письмо Дикону оказалось довольно трудной задачей. Мери не особенно многому учили, потому что гувернантки так не любили ее, что не хотели жить с нею. Она не умела хорошо складывать, но, когда она попробовала писать печатными буквами, это ей удалось, и Марта продиктовала ей письмо.
– Мы вложим деньги в конверт, и я попрошу мальчика мясника отвезти его. Он большой приятель Дикона, – сказала Марта.
– А как я получу все то, что Дикон купит? – спросила Мери.
– Он сам принесет. Он охотно придет сюда.
– О! – воскликнула Мери. – Так я его увижу! Я никогда не думала, что увижу Дикона.
– А ты хотела бы его видеть? – вдруг спросила Марта с очевидным удовольствием.
– Да! Я никогда не видела мальчика, которого любят лисицы и вороны. Я очень хотела бы его видеть.
Марта сделала движение, как будто вдруг о чем-то вспомнила.
– И подумать только, что я об этом чуть не забыла, – воскликнула она вдруг, – а думала рассказать тебе еще утром! Я спросила мать, и она сказала, что сама попросит миссис Медлок.
– Ты думаешь… – начала было Мери.
– О чем я говорила во вторник – можно ли будет тебе поехать как-нибудь к нам в коттедж, мы бы тебя там угостили овсяной лепешкой с маслом и молоком.
– Как она думает, пустит меня миссис Медлок? – озабоченно спросила Мери.
– Да, она думает, что миссис Медлок пустит тебя.
– Если я поеду, то увижу и твою мать, и Дикона, – сказала Мери, обдумывая все это; видно было, что эта мысль ей очень нравится. – Твоя мать совсем непохожа на матерей в Индии.
После работы в саду и после всех треволнений Мери сидела притихшая и задумчивая. Марта сидела с нею, пока не наступила пора подавать чай, но сидели они тихо и разговаривали мало. И прежде чем Марта сошла вниз за чаем, Мери вдруг задала ей вопрос.
– Марта, – спросила она, – у судомойки опять сегодня болели зубы?
Марта слегка вздрогнула:
– Почему ты спрашиваешь?
– Вот почему… Когда я ждала тебя здесь наверху, я открыла дверь и пошла по коридору, чтобы посмотреть, не идешь ли ты. И я опять услышала отчаянный крик, как в прошлый раз. Сегодня нет ветра, значит, это не мог быть ветер…
– О, ты не должна расхаживать по коридорам и подслушивать, – беспокойно сказала Марта. – Мистер Крэвен за это рассердился бы и наделал бы Бог знает чего…
– Я не подслушивала, – сказала Мери, – я только ждала тебя… и услышала это. Уже в третий раз!
– Ах, Боже мой! Миссис Медлок звонит! – сказала Марта, выбежав из комнаты.
– Это самый странный дом, в котором кто-нибудь когда-нибудь жил, – полусонно сказала Мери, положив голову на мягкое сиденье стоявшего около нее кресла.
Свежий воздух, работа в саду и прыгалка вызвали в ней такую здоровую приятную усталость, что она уснула.
Глава XI
Солнце сияло почти целую неделю, освещая и таинственный сад. Так называла его Мери, когда думала о нем. Ей очень нравилось это название, а еще больше нравилось ей сознание, что, когда она находилась внутри красивой старой ограды, никто не знал, где она. Ей казалось, что она находится в каком-то волшебном краю, в другом мире.
Мери была решительная девочка, и теперь, когда в ее жизни появилось нечто интересное, где она могла проявить свой решительный нрав, она всецело отдалась работе. Она неустанно работала, копала, выпалывала сорные травы, и работа не только не утомляла ее, но с каждым часом все больше и больше нравилась ей. Она казалась ей какой-то волшебной игрой.
Мери находила гораздо больше бледно-зеленых игл, чем ожидала; они, казалось, повсюду выглядывали из-под земли. Иногда она переставала копать, думая о том, как будет выглядеть сад, когда все это зацветет.
В течение этой недели она немножко ближе сошлась с Беном. Несколько раз она заставала его врасплох, вдруг появляясь возле него как из-под земли. Дело было в том, что она боялась, чтоб он не забрал своих инструментов и не ушел, если б увидел, что она идет к нему, и поэтому подкрадывалась как можно тише. Но он, очевидно, относился к ней менее неприязненно, чем прежде. Быть может, ему втайне льстило ее желание побыть с ним; кроме того, она стала гораздо вежливей, чем прежде. Он не знал, что когда она его увидела впервые, то заговорила с ним таким тоном, каким говорила бы с туземным слугой в Индии, не подозревая даже, что старый угрюмый йоркширец не привык преклоняться перед своими господами и только исполнять их приказания.
Он очень редко был разговорчив и иногда на все вопросы Мери отвечал одним ворчанием, но однажды утром разговорился. Он выпрямился, поставив ногу на заступ лопаты, и пристально оглядел Мери.
– Ты давно здесь? – выпалил он.
– Около месяца, кажется, – ответила она.
– Это делает Миссельтуэйту честь, – сказал он, – ты не такая худая и желтая, как была прежде. Когда ты впервые пришла сюда, в сад, ты была похожа на ощипанного галчонка; я подумал тогда, что никогда не видывал более некрасивого и кислого лица, чем твое.
Мери была не тщеславна и никогда не была высокого мнения о своей наружности, поэтому ничуть не смутилась.
– Я знаю, что я теперь не такая худая; мои чулки становятся уже… А вот малиновка, Бен!
Это действительно была малиновка, красивее чем когда-либо: ее красный «жилет» блестел, как атлас, она размахивала крыльями, склоняла головку набок и грациозно прыгала. Потом она вдруг расправила крылья и – Мери едва верила своим глазам! – взлетела прямо на ручку лопаты Бена. А Бен стоял неподвижно, затаив дыхание, пока птичка снова расправила крылья и улетела. Потом он постоял, глядя на ручку лопаты, как будто в ней было нечто волшебное, и снова начал копать, не говоря ни слова. Но так как на лице его то появлялась, то исчезала улыбка, Мери не побоялась заговорить с ним.
– А у вас есть собственный сад? – спросила она.
– Нет; я холостяк и живу у Мартина, возле заставы…
– А если бы у вас был сад, что бы вы там посадили? – спросила Мери.
– Капусту, картофель, лук…
– А если бы вы хотели посадить цветы? – настаивала Мери. – Что бы вы посадили?
– Цветочные луковицы… что-нибудь душистое, а больше всего роз.
Лицо Мери оживилось.
– А вы любите розы? – спросила она.
Бен вырвал с корнем какое-то сорное растение и бросил его в сторону, прежде чем ответил.
– Да, люблю… Меня этому научила одна молодая дама, у которой я был садовником. У нее был клочок земли в одном месте, которое ей очень нравилось… а розы она так любила, как будто это были дети… или птицы. Я сам видел, как она нагибалась и целовала их… Это было давно, лет десять тому назад.
– А где она теперь? – спросила Мери, сильно заинтересованная.
– На небе, – ответил Бен, – как говорит пастор.
– А что сделалось с розами?
– Их оставили так… на произвол судьбы.
Мери начала волноваться.
– И они совсем умерли? Розы умирают, когда их оставляют так? – осмелилась она спросить.
– Я научился любить их… Я любил ее, а она – розы, – неохотно сознался Бен. – Раза два в год я уходил туда… делал кое-что… подстригал кусты, расчищал вокруг корней. Они были запущены, но земля была хорошая, и кое-какие выжили.
– А когда на кустах нет листьев и они сухие и серые или коричневые, то как же можно узнать, живые они или мертвые? – спросила Мери.
– Подожди, пока за них возьмется весна, когда солнце светит после дождя, а дождь выпадает после солнечного света, тогда узнаешь.
– Как же, как? – крикнула Мери, забыв осторожность.
– Погляди хорошенько на ветки и, если найдешь на них кое-где коричневые комочки, следи за ними после теплого дождя… Увидишь, что будет.
Он вдруг остановился и с любопытством поглядел на ее оживленное лицо.
– А ты чего так вдруг заинтересовалась розами? – спросил он.
Мери почувствовала, что лицо ее вспыхнуло; она почти боялась ответить.
– Это я… я хочу поиграть… будто у меня есть свой сад, – пробормотала она, – я… мне… нечего делать… У меня ничего… и никого.
– Да, это верно, – медленно сказал Бен, глядя на нее, – у тебя нет ничего и никого.
Сказал он это таким странным тоном, что Мери подумала, не жалеет ли он ее немножко.
Мери никогда не жалела самое себя; она только иногда бывала утомлена и сердита, потому что никого и ничего не любила. Но теперь все как будто менялось и становилось лучше. Если только никто не узнает про ее таинственный сад, ей всегда будет весело!
Она постояла еще минут десять и задала ему еще несколько вопросов. Он ответил на каждый вопрос своим обычным ворчливым тоном, но не казался таким сердитым, чтобы взять свой заступ и отойти прочь.
– А вы теперь тоже ходите туда… взглянуть на эти розы? – спросила она.
– В этом году я еще не был… У меня суставы болят от ревматизма.
Он сказал это своим ворчливым тоном и вдруг точно рассердился на нее, хотя она никак не могла понять за что.
– Вот что, – сказал он резко, – не задавай так много вопросов. Уходи отсюда и играй себе. Я сегодня толковал достаточно!
Он сказал это так сердито, что она поняла: ей нечего оставаться здесь. Она медленно удалилась по дорожке, прыгая через веревочку и думая о том, что нашелся еще один человек, который ей нравится, несмотря на свою ворчливость. Да, старый Бен очень нравился ей.
Вокруг таинственного сада шла обнесенная лавровой изгородью дорожка, которая вела к калитке, выходившей из парка в лес. Мери хотелось добежать по этой дорожке до калитки и выглянуть в лес, чтобы посмотреть, нет ли поблизости зайцев. Прыганье через веревочку доставило ей большое удовольствие, и когда она добралась до калитки, она отворила ее и вышла в лес, потому что вдруг услышала какой-то странный тихий свист и ей захотелось узнать, что это было.
Это было нечто необыкновенное: она стояла и смотрела, затаив дыхание. Под деревом, прислонившись спиною к стволу, сидел мальчик и играл на грубо сделанной деревянной дудке. Это был мальчик лет двенадцати.
Он был очень опрятен; щеки у него были красные, как мак, нос вздернутый, а глаза такие круглые и голубые, каких Мери никогда не видывала ни у одного мальчика. На стволе дерева, к которому он прислонился, сидела коричневая белка и следила за ним; из-за кустов поблизости выглядывал фазан, вытянув шею, а подле него сидели два кролика, нюхая воздух. Казалось, будто все они собрались, чтобы быть поближе к мальчику и послушать странные тихие звуки, которые издавала его дудочка.
Увидев Мери, он поднял руку и заговорил почти таким же низким, похожим на звуки дудки, голосом.
– Не шевелись! – сказал он. – А то спугнешь их.
Мери стояла неподвижно. Он перестал играть и стал подыматься с земли. Движения его были так медленны, что он, казалось, вовсе не двигался, но, наконец, он все-таки встал на ноги; белка вскарабкалась вверх по дереву, фазан спрятал голову, а кролики пустились бежать прочь, не выказывая, впрочем, никакого испуга.
– Я – Дикон, – сказал мальчик, – и я знаю, что ты мисс Мери.
Мери только тогда сообразила, что это Дикон. Разве кто-нибудь другой умел так очаровывать фазанов и кроликов, как туземцы в Индии очаровывают змей?
У мальчика был большой румяный рот, а улыбка расползалась по всему лицу.
Глава ХII
Дикон несколько минут стоял, осматриваясь вокруг, в то время, как Мери следила за ним, потом стал ходить, ступая еще осторожнее и легче, чем Мери, когда она впервые очутилась в таинственном саду. Дикон, казалось, видел все сразу: серые деревья, серые ползучие растения, обвивавшие их и свисавшие с ветвей, зеленые альковы с каменными скамьями и высокие вазы для цветов, стоявшие внутри.
– Я не думал, что когда-нибудь увижу этот сад, – сказал он, наконец, шепотом.
– А ты разве слышал про него? – спросила Мери. Она заговорила громко, и он сделал ей знак рукою.
– Надо говорить тихо, – сказал он, – а то кто-нибудь нас услышит и подумает, что здесь такое…
– О! Я забыла! – сказала Мери испуганно и быстро прижала руку ко рту. – Ты слышал про этот сад? – снова спросила она, когда оправилась от испуга.
Дикон кивнул головой.
– Марта мне говорила, что тут есть сад, в который никто не ходит, – ответил он, – и мы, бывало, все думаем, какой он!
Он остановился и опять оглянулся вокруг; в его круглых голубых глазах выражалась радость.
– А гнезд-то сколько здесь будет весною! – сказал он. – Это самое безопасное место для гнезд во всей Англии. Никто сюда не ходит, и столько спутанных веток, кустов и деревьев, где свить гнездо! И как это в с е птицы из степи не вьют здесь гнезд!
Мери опять схватила его за рукав, сама не замечая этого.
– А розы тут будут? – шепнула она. – Ты можешь это узнать? Я думаю… может быть, все это умерло!
– О, нет, не все! – ответил он. – Посмотри-ка сюда.
Он подошел к ближайшему дереву, вынул из кармана нож и открыл его.
– Тут много мертвых сучьев, которые надо срезать, – сказал он, – но и новые есть, прошлогодние. Вот он, – и он тронул отросток зеленовато-коричневого, а не серого цвета.
Мери сама тоже как-то почтительно тронула его.
– Вот этот? – спросила она. – Он совсем живой, совсем?
Дикон широко улыбнулся.
– Такой же живой, как ты и я. Смотри-ка, – сказал он, дернув толстую серую сухую ветку, – можно подумать, что все это мертвое, но мне не верится. Я сейчас надрежу ее и посмотрю.
Он встал на колени и надрезал казавшуюся безжизненной ветку.
– Видишь! – радостно сказал он. – Я тебе говорил!
Мери тоже стала на колени, прежде чем он успел что-нибудь сказать, пристально глядя на ветку.
– Когда она внутри зеленоватая и сочная, то она живая, – объяснил он, – а когда она сухая и легко ломается, – тогда конец. Здесь, должно быть, корень живой, и если отрезать старые сучья, хорошенько вскопать землю вокруг да ухаживать, тогда… – он остановился и поднял голову, глядя на вьющиеся и свисающие ветки и побеги, – тогда здесь летом будет целый фонтан роз.
Они стали переходить от куста к кусту, от дерева к дереву. Он отлично владел ножом, умел ловко отрезать сухие, мертвые ветки и угадывал, в каких из них еще могла быть жизнь. Оба они усердно работали возле одного из больших розовых кустов, когда у Дикона вдруг вырвалось удивленное восклицание.
– Кто это сделал? – крикнул он, указывая на траву. – Вон там?
Это была одна из полянок, которые Мери расчистила вокруг бледно-зеленых игл, торчавших из земли.
– Это я сделала, – ответила Мери. – Эти иглы были такие маленькие, а трава кругом такая густая и высокая, что мне казалось, им нечем дышать. Вот я и дала им побольше места; я даже не знаю, что это за штуки.
Дикон подошел и встал на колени, широко улыбаясь.
– Хорошо, – сказал он, – никакой садовник не сделал бы лучше! Это крокусы, подснежники, а это нарциссы!
Он продолжал работать, пока говорил, а Мери помогала ему.
– Здесь много работы будет! – сказал он, возбужденно глядя вокруг.
– Ты придешь опять? – спросила Мери. – Я уверена, что сумею помогать тебе; ведь я умею копать и полоть и буду делать все, что ты скажешь. Пожалуйста, приходи, Дикон!
– Буду приходить, если захочешь, даже каждый день, – ответил он уверенно.
Он опять стал ходить, осматривая деревья, кусты, стены с озабоченным выражением лица, и вдруг остановился в недоумении, почесывая рыжую голову.
– Это тайный сад… конечно… Только мне кажется, что с тех пор, как его заперли, здесь был еще кто-то, кроме малиновки!
– Но ведь калитка была заперта, а ключ зарыт, – сказала Мери. – Никто не мог войти.
– Правда, – ответил он. – Это очень странное место. Мне кажется, что здесь кто-то чистил и подстригал… недавно, а не десять лет тому назад.
– Как же это могли сделать! – сказала Мери.
– Ну да, как же?.. – пробормотал он. – Дверь была заперта, и ключ зарыт!
Они снова радостно принялись за работу, еще с большим усердием, чем прежде. Мери встревожилась, когда услышала, что большие часы во дворе пробили час обеда.
– Мне надо идти, – печально сказала она. – А тебе тоже надо идти, не правда ли?
Дикон улыбнулся.
– Мой обед легко носить с собою, – сказал он. – Мать всегда кладет мне что-нибудь в карман.
Он поднял свою куртку, лежавшую на траве, и вытащил из кармана узелок, обернутый чистым грубым платком. Там были два толстых куска хлеба, между которыми лежал ломтик чего-то.
– Чаще всего это только хлеб, – сказал он, – но сегодня у меня тут хороший ломтик ветчины.
Мери никак не могла уйти от него, и ей вдруг показалось, что он какой-то лесной дух, который может исчезнуть, когда она снова придет в сад. Она медленно направилась к калитке, потом остановилась и вернулась обратно.
– Что бы ни случилось, ты… ты никогда ничего не расскажешь? – спросила она.
Его румяные щеки были туго набиты хлебом и ветчиной, но он все-таки ободряюще улыбнулся.
– Если бы ты была птица и указала бы мне, где твое гнездо, ты думаешь, я рассказал бы кому-нибудь? Я бы этого не сделал! Ты здесь в такой же безопасности, как птица в гнезде.
Мери была вполне уверена, что это так. Мери бежала так быстро, что никак не могла перевести дух, когда вошла к себе в комнату. Волосы ее были спутаны на лбу, и щеки раскраснелись. На столе стоял обед, а возле него, у стола, – Марта.
– Ты немножко опоздала! Где ты была? – спросила она.
– Я видела Дикона! – сказала Мери.
– Я знала, что он придет, – оживленно сказала Марта. – Нравится он тебе?
– Я думаю, что он… он прелесть! – решительно заявила Мери, и Марта просияла от удовольствия.
– А семена и инструменты понравились тебе?
– Откуда ты знаешь, что он их принес? – спросила Мери.
– Мне и в голову не пришло, что он их не принесет; он бы их принес даже из Йоркшира – он надежный мальчик!
Мери боялась, как бы Марта не начала задавать ей лишних вопросов, но она ничего не спросила. Только когда она спросила, где посадят цветы, Мери испугалась.
– Ты уже кого-нибудь спрашивала?
– Нет еще, никого, – ответила Мери, колеблясь.
– Я бы не спрашивала главного садовника; он очень важный!
– Я никогда его не видала, – сказала Мери, – я видала только младшего садовника да Бена.
– Я бы на твоем месте спросила Бена, – посоветовала Марта. – Мистер Крэвен позволяет ему делать, что ему угодно, потому что он служил здесь, когда миссис Крэвен была еще в живых, а она любила его. Быть может, он найдет тебе какой-нибудь уголок…
Мери быстро съела свой обед и, встав из-за стола, направилась было в свою комнату, чтобы надеть шляпу, но Марта остановила ее.
– Я хочу тебе сказать кое-что, – сказала она. – Мистер Крэвен вернулся сегодня утром, и мне кажется, что он хочет видеть тебя!
Мери побледнела.
– О! Зачем? Ведь он не хотел видеть меня, когда я приехала! Я слышала, как Пичер говорил…
– Миссис Медлок говорит, что это все благодаря моей матери, – пояснила Марта. – Она шла в деревню и встретила его. Она никогда в жизни не говорила с ним, но миссис Крэвен когда-то бывала у нас в коттедже; он забыл, но мать не забыла этого, вот она и осмелилась остановить его. Я не знаю, что она ему сказала про тебя, но, вероятно, сказала ему что-нибудь такое, что он решил повидать тебя, прежде чем опять уедет завтра…
– О, значит, он опять уезжает завтра! – воскликнула Мери. – Я очень рада.
– Он едет надолго; быть может, он не вернется до осени или до зимы. Он едет в чужие страны… как всегда…
– О, я очень рада, – с благодарностью сказала Мери. Если он не вернется до зимы или даже осени, она еще увидит, как оживет таинственный сад. А если даже он все узнает, тогда и отнимет у нее сад, но все-таки сад целое лето будет принадлежать ей…
– Когда он захочет меня видеть, как ты дум…
Она не успела кончить фразы, потому что дверь отворилась и вошла миссис Медлок. На ней было самое нарядное черное платье и наколка; воротник был заколот большой брошкой. Вид у нее был встревоженный и беспокойный.
– У тебя волосы растрепаны, – быстро сказала она, – поди причешись. Марта, помоги ей надеть лучшее платье. Мистер Крэвен прислал меня, чтобы привести ее к нему в кабинет.
Румянец совсем сбежал со щек Мери; сердце ее сильно забилось, и она почувствовала, что снова превращается в чопорную, угрюмую девочку. Она ничего не ответила миссис Медлок и пошла в спальню в сопровождении Марты. Она молчала, пока ее причесывали и переодевали, и все так же молча пошла за миссис Медлок по коридору. Что она могла сказать? Она должна была явиться к мистеру Крэвену… Она ему, верно, не понравится, он ей тоже. Она знала, что он о ней подумает…
Ее провели в ту часть дома, где она никогда прежде не бывала. Наконец миссис Медлок постучала в какую-то дверь, и, когда кто-то сказал: «Войдите», – они вошли вместе. Перед камином в кресле сидел мужчина, и миссис Медлок заговорила с ним.
– Это мисс Мери, сэр! – сказала она.
– Можете идти и оставить ее здесь. Я позвоню, когда надо будет увести ее, – сказал мистер Крэвен.
Когда она вышла и затворила дверь, Мери стояла и ждала, жалкая и маленькая, в черном платье, сжав худые руки. Она видела, что человек в кресле вовсе не был горбат, но у него были высокие, несколько неровные плечи; в черных волосах виднелась седина. Он повернул голову через плечо и заговорил с нею.
– Поди сюда! – сказал он.
Мери подошла. Он не был дурен собою. Лицо его было бы даже красиво, если бы не его удрученный вид. На лице было такое выражение, как будто вид Мери раздражал и беспокоил его и как будто он не знал, что с нею делать.
– Ты здорова? – спросил он.
– Да, – ответила Мери.
– И за тобой здесь ухаживают… хорошо?
– Да.
Он с досадой потер лоб, оглядывая Мери.
– Ты очень худа! – сказал он.
– Я поправлюсь, – ответила Мери натянуто.
Какой несчастный вид был у него! Его черные глаза, казалось, видели вовсе не Мери, а что-то другое, и мысли его не могли сосредоточиться на ней.
– Я забыл про тебя, – сказал он. – Как я мог забыть? Я думал прислать тебе гувернантку или няньку, или что-нибудь такое, но я забыл.
– Пожалуйста, – начала Мери, – пожалуйста… – Но какой-то ком в горле помешал ей.
– Что ты хочешь сказать? – спросил он.
– Я… я слишком велика, чтобы иметь няньку, – сказала Мери. – И пожалуйста… пожалуйста, не присылайте мне гувернантки!
Он снова потер лоб рукою и посмотрел на Мери.
– То же самое сказала и миссис Соуэрби, – рассеянно сказал он.
Мери стала немного смелее.
– Это… это мать Марты? – пробормотала она.
– Да, кажется, так, – ответил он.
– Она знает все… про детей, – сказала Мери. – У нее их двенадцать… она знает.
Он, казалось, пришел в себя.
– Что ты хочешь делать?
– Я хочу играть на открытом воздухе, – ответила Мери, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. – В Индии я никогда не любила этого. А тут… я бываю голодна от этого… и поправлюсь.
Он смотрел на нее.
– Миссис Соуэрби сказала, что тебе это будет полезно. Быть может, – сказал он, – она думает, что тебе надо окрепнуть, прежде чем у тебя будет гувернантка.
– Я становлюсь сильнее… когда играю и из степи дует ветер, – доказывала Мери.
– Где же ты играешь?
– Везде, – шепнула Мери. – Мать Марты прислала мне прыгалку… И я бегаю и гляжу, как из земли показываются зеленые… Я никакого вреда не делаю.
– Да не пугайся так! – сказал он беспокойно. – Ты не можешь сделать никакого вреда… ты еще ребенок… Можешь делать, что тебе угодно.
Мери поднесла руку к шее, потому что боялась, что он увидит ком, который подступил ей к горлу. Она подошла на один шаг поближе.
– Можно? – с трепетом спросила она. Ее маленькое встревоженное лицо вызывало в нем еще большее раздражение.
– Не пугайся же! – воскликнул он. – Конечно, можно. Я твой опекун, хотя очень плохой… для всякого ребенка. Я не могу уделить тебе ни времени, ни внимания. Я слишком болен, несчастен и рассеян, но я хочу, чтобы тебе было удобно и хорошо. Я совсем не знаю, что надо детям, но миссис Медлок позаботится, чтобы у тебя было все, что надо. Я послал за тобой сегодня, потому что миссис Соуэрби сказала, что я должен видеть тебя. Ее дочь рассказывала про тебя.
– Она знает все, что надо детям, – невольно вырвалось у Мери.
– Она должна это знать… Мне показалось слишком смелым, что она остановила меня, но она сказала, что… Миссис Крэвен была очень добра к ней. – Ему, казалось, трудно было произнести имя покойной жены. – Она порядочная женщина. Теперь, когда я вижу тебя, я понимаю, что она говорила очень благоразумно. Играй на свежем воздухе сколько хочешь. Места здесь много, и ты можешь ходить куда угодно и забавляться чем угодно. Не надо ли тебе чего-нибудь? – спросил он, как будто эта мысль внезапно пришла ему в голову. – Не хочешь ли ты игрушек, книг, кукол?
– Можно мне… можно мне получить… клочок земли? – Мери в своем увлечении не сознавала, как странно должны были звучать эти слова и что она хотела сказать вовсе не это. Мистер Крэвен был поражен.
– Земли! – повторил он. – Что ты хочешь сказать?
– Чтобы посадить семена… чтобы что-нибудь выросло… живое, – запинаясь, сказала Мери.
Он с секунду посмотрел на нее и быстро провел рукою по глазам.
– Разве ты… так любишь сады? – медленно сказал он.
– Я ничего этого не знала в Индии, – ответила Мери. – Я всегда была больная и усталая… И там было очень жарко. Я иногда делала грядки из песка и втыкала в них цветы. Но здесь все по-другому…
Мистер Крэвен встал и медленно прошелся по комнате.
– Клочок земли, – сказал он, говоря сам с собой, и Мери подумала, что она, вероятно, вызвала в нем какие-то воспоминания. Когда он остановился и заговорил с нею, его темные глаза смотрели мягче и добрее. – Можешь получить земли сколько хочешь… Ты мне напоминаешь… кое-кого… кто любил землю и то, что растет на ней… Если увидишь клочок земли, который тебе понравится, – добавил он с некоторым подобием улыбки, – возьми его, дитя, и сделай живым!
– Можно мне будет взять… где угодно… если только он не нужен?
– Где угодно, – ответил он. – А теперь поди… Я устал. – Он дотронулся до звонка, чтобы позвать миссис Медлок.
– Прощай, я уезжаю на все лето. – Миссис Медлок явилась так скоро, что Мери подумала, что она, вероятно, ждала в коридоре.
– Миссис Медлок, – обратился к ней мистер Крэвен, – теперь, когда я видел ребенка, я понял, что хотела сказать миссис Соуэрби. Она должна окрепнуть, прежде чем начнет учиться. Кормите ее простой здоровой пищей; пусть бегает на свободе в саду. Не присматривайте за нею слишком много; ей нужна свобода, свежий воздух, беготня. Миссис Соуэрби может кое-когда навещать ее… и она может когда-нибудь пойти в коттедж.
У миссис Медлок был очень довольный вид; она с облегчением услышала, что ей не надо будет много присматривать за Мери. Она считала это тягостной обязанностью и прежде обращала на нее мало внимания. Кроме того, она очень любила мать Марты.
– Благодарю вас, сэр, – сказала она. – Сюзанна Соуэрби умная и добрая женщина… У нее двенадцать человек детей, и нет лучше и здоровее их. Мисс Мери ничему дурному у них не научится. Сюзанна Соуэрби, что называется, женщина со здравым умом, если вы меня поняли…
– Я понял, – ответил мистер Крэвен. – А теперь уведите мисс Мери и пришлите мне Пичера.
Когда миссис Медлок оставила Мери одну в конце коридора, Мери пустилась бежать к себе в комнату. Там ждала ее Марта.
– У меня будет свой сад! – крикнула Мери. – Он будет, где мне угодно! Гувернантки мне не пришлют еще долго-долго! Твоя мать придет навестить меня, и мне можно будет поехать к вам в коттедж. Он говорит, что такая маленькая девочка, как я, не может сделать саду никакого вреда и я могу делать, что мне угодно, где бы то ни было!
– Это было очень хорошо с его стороны, – весело сказала Марта.
– Марта, – серьезно сказала Мери, – он на самом деле очень хороший; только лицо у него такое жалкое и лоб весь сморщенный…
Мери бегом пустилась в сад. Она знала, что пробыла дома дольше, чем рассчитывала, и что Дикону придется уйти рано, чтобы успеть пройти пять миль. Проскользнув в калитку под плющом, она увидела, что Дикона не было там, где он прежде работал, и садовые инструменты лежали под деревом. Она подбежала к дереву, оглядываясь кругом, но Дикона не было видно. Таинственный сад был пуст; только малиновка сидела на розовом кусте и следила за Мери.
– Его нет! – печально сказала она. – Неужели он был только… лесной дух?
Взгляд ее вдруг упал на что-то белое, прикрепленное к розовому кусту. Это был маленький клочок бумаги, оторванный от письма, которое она сама отправила Дикону от имени Марты. Она поняла, что это Дикон прикрепил его. На клочке бумаги было нечто вроде рисунка, под которым были коряво «напечатанные» буквы. Мери сначала ничего не могла разобрать, потом увидела, что рисунок изображал гнездо с сидевшей в нем птицей. А буквы внизу гласили: «Я опять приду».
Мери взяла рисунок домой и за ужином показала его Марте.
– О, я и не знала, что наш Дикон такой искусник! – с гордостью сказала Марта.
Мери поняла, что именно Дикон хотел сказать этой запиской. Он хотел уверить ее, что будет хранить ее тайну. Ее сад – это было гнездо, а она сама птица! Как ей нравился этот странный деревенский мальчик!
Глава XIII
Мери надеялась, что Дикон придет завтра, и с этой мыслью уснула в ожидании утра.
Но в Йоркшире погода очень переменчива, особенно весной. Ночью Мери разбудил шум дождя, крупные тяжелые капли стучали по оконным стеклам. Дождь лил ливмя, и ветер завывал снаружи и во всех трубах громадного старого дома. Мери села в постели, недовольная и сердитая.
«Этот дождь теперь точно назло, – подумала она. – Это все потому, что мне не надо дождя…»
Мери снова легла, уткнувшись лицом в подушку. Она не плакала, но не могла уснуть. О, как выл ветер и как большие капли дождя стучали в окна! «Как будто кто-то заблудился в степи, ищет дороги и плачет», – подумала она.
Мери около часу лежала, ворочаясь с боку на бок, как вдруг что-то заставило ее сесть на постели и повернуть голову к двери; она прислушивалась… и прислушивалась.
– Теперь это уж не ветер, – сказала она громким шепотом. – Это не ветер, а что-то другое. Это плач, который я слышала прежде.
Дверь ее комнаты была отворена настежь, и звук разносился по коридору – слабый отдаленный звук капризного плача. Мери прислушивалась еще несколько минут, и с каждой минутой уверенность ее все возрастала. Она чувствовала, что должна узнать, в чем дело. Это было еще более странно, чем таинственный сад и зарытый ключ. Она опустила ноги с кровати и стала на пол.
– Я узнаю, в чем дело, – сказала Мери. – Теперь все спят, а до миссис Медлок мне нет никакого дела!
Возле ее постели стояла свеча; она взяла ее и тихо вышла из комнаты. Коридор казался очень длинным и темным, но она была слишком взволнована, чтобы обратить на это внимание. Она была уверена, что знает, где именно надо повернуть, чтобы найти короткий коридор с завешенной ковром дверью – той самой, из которой вышла миссис Медлок, когда Мери заблудилась. Звуки шли из того коридора. Она шла вперед с тускло горевшей свечой, почти ощупью, и сердце ее билось так громко, что ей казалось, она слышит его биение. Слабый отдаленный звук плача все еще слышался, и Мери шла на этот звук. Иногда он затихал, потом опять слышался! Где ей надо было повернуть? Она остановилась, соображая. О, да, это здесь; надо пройти по этому коридору, повернуть опять налево, подняться на две широкие ступени, потом повернуть налево. Да, вот и дверь, завешенная ковром!
Мери тихо отворила ее и затворила за собой; очутившись в длинном коридоре, она совершенно ясно услышала плач, хотя он был негромкий. Он слышался за стеною, слева, и в нескольких футах от Мери виднелась дверь. Мери могла видеть полоску света внизу. Кто-то плакал в этой комнате, и этот «кто-то» был маленький.
Она подошла к двери и толкнула ее; дверь отворилась, и она очутилась в комнате. Это была большая комната с красивой старинной мебелью.
В камине тускло тлел огонь; возле кровати с парчовым балдахином горел ночник, а на кровати лежал мальчик и капризно плакал.
У мальчика было худое нежное лицо цвета слоновой кости; глаза его, казалось, были слишком велики для такого лица. У него были густые волосы, тяжелыми прядями падавшие ему на лоб, отчего его лицо казалось еще меньше. Он выглядел больным; но плакал он скорее от раздражения, чем от боли.
Мери стояла возле двери со свечой в руках, затаив дыхание. Потом она осторожно двинулась вперед, и, когда она подошла поближе, свет привлек внимание мальчика. Он повернул голову на подушке и уставился на Мери, причем глаза его широко раскрылись.
– Кто ты? – сказал он, наконец, испуганным шепотом. – Ты призрак?
– Нет, – ответила Мери тоже испуганным шепотом, – а ты… призрак?
Он все глядел и глядел на нее. Мери не могла не заметить его странных глаз. Они были агатово-серые и казались слишком большими для его лица, потому что были оттенены черными ресницами.
– Нет, не призрак, – ответил он, подождав секунду. – Я Колин.
– Кто такой Колин? – дрожа, спросила она.
– Я – Колин Крэвен. А ты кто?
– Я – Мери Леннокс. Мистер Крэвен – мой дядя.
– Он мой отец, – сказал мальчик.
– Твой отец! – ахнула Мери. – Мне никто не говорил, что у него есть мальчик… Почему это?
– Поди сюда! – сказал он, не сводя с нее своих странных тревожных глаз.
Она подошла к постели, и он протянул руку и тронул ее.
– Ты ведь настоящая? – спросил он. – У меня часто бывают такие настоящие сны. Быть может, и ты такой сон.
Когда Мери выходила из своей комнаты, она надела теплый шерстяной капот и теперь сунула ему в руку полу капота.
– Потрогай-ка… Видишь, какая толстая и теплая материя, – сказала она. – А если хочешь, я тебя немножко ущипну, чтобы показать тебе, какая я настоящая. Мне на минутку показалось, что ты тоже, пожалуй, сон…
– Откуда ты пришла? – спросил он.
– Из своей комнаты… Ветер так выл, что я не могла уснуть; я услышала, что кто-то плачет, и мне захотелось узнать, кто это… Почему ты плакал?
– Потому что я тоже не мог уснуть и у меня заболела голова… Скажи мне опять, как тебя зовут.
– Мери Леннокс. Разве тебе никто не говорил, что я приехала сюда жить?
Он все еще перебирал пальцами складку ее капота и, очевидно, начинал уже больше верить в то, что она настоящая.
– Нет, никто. Они не смеют, – ответил он.
– Почему? – спросила Мери.
– Потому что я боялся бы, что ты меня увидишь. Я не хочу, чтобы люди меня видали и говорили обо мне.
– Почему? – снова спросила Мери, изумление которой возрастало каждую минуту.
– Потому что я всегда такой… больной и мне всегда надо лежать. Мой отец тоже не хочет, чтоб люди говорили обо мне. Слугам не позволяют говорить про меня… Если я буду жив, я, пожалуй, буду горбатый… Только я не буду жив. Отец боится и подумать, что я буду такой, как он…
– Какой это странный дом! – сказала Мери. – Такой странный… всюду тайны! Запертые комнаты… Запертые сады… и ты… А тебя тоже запирают?
– Нет. Я всегда в этой комнате, потому что не хочу, чтобы меня уносили отсюда; это меня слишком утомляет.
– А твой отец приходит к тебе? – осмелилась спросить Мери.
– Иногда, обычно когда я сплю. Он не хочет меня видеть.
– Почему? – не удержалась Мери.
По лицу мальчика пробежала мимолетная тень гнева.
– Моя мать умерла, когда я родился, и отцу больно смотреть на меня. Он думает, что я не знаю; но я слышал, как люди говорят… Он почти ненавидит меня…
– Он ненавидит сад, потому что она умерла, – сказала Мери, точно обращаясь к самой себе.
– Какой сад? – спросил мальчик.
– О, просто сад… который она любила, – пробормотала она. – А ты всегда здесь живешь?
– Почти всегда. Иногда меня берут куда-нибудь на морской берег, но я не хочу оставаться там, потому что все люди смотрят на меня. Я прежде носил железную штуку, чтобы у меня спина была прямая, но ко мне приехал важный доктор из Лондона и сказал, что это глупо. Он велел снять ее с меня и держать меня на свежем воздухе. Я ненавижу свежий воздух… и терпеть не могу выходить.
– Я тоже не любила, когда приехала сюда, – сказала Мери. – Почему ты все смотришь на меня?
– Потому, что сны такие… настоящие, – раздраженно ответил он. – Иногда, когда я открываю глаза, я тоже не верю, что я не сплю.
– Мы оба не спим, – сказала Мери. Она окинула взглядом комнату с высоким потолком, с глубокими тенями в углах и тусклым светом камина. – Это похоже на сон… И теперь ночь… и все спят, кроме нас. А мы не спим.
– Я бы не хотел, чтоб это был сон, – беспокойно сказал мальчик.
Мери вдруг вспомнила что-то.
– Если ты не любишь, чтобы люди тебя видели, – начала она, – то хочешь, чтоб я ушла?
Он все держал в руке складку ее капота и слегка потянул ее.
– Нет, – сказал он. – Если ты уйдешь, я буду уверен, что ты была… сон. Если ты настоящая, сядь вон на тот большой табурет и расскажи мне про себя. Я хочу послушать.
Мери поставила свечу на стол возле постели и села на мягкий табурет. Ей вовсе не хотелось уходить. Ей хотелось побыть в этой таинственной отдаленной комнате и разговаривать с таинственным мальчиком.
– Что рассказать тебе? – спросила она.
Он хотел знать, сколько времени она жила в Миссельтуэйте-Мэноре; в каком коридоре была ее комната; что она делала; нравилась ли ей степь или не нравилась, как ему; где она жила, прежде чем приехала в Йоркшир. Она отвечала на все эти вопросы и на многие другие, а он лежал на подушках и слушал. Он заставил ее рассказать ему про Индию, про свое путешествие по океану. Она поняла, что он не знал того, что знали другие дети, потому что был больной. Одна из его нянек научила его читать, когда он был маленький, и он всегда читал и рассматривал картинки в роскошных книжках.
Хотя отец его редко приходил к нему, когда он не спал, все же ему давали всякие удивительные игрушки, чем позабавиться. Но ему, очевидно, никогда не было весело. Он мог иметь все, что бы он ни попросил, и его никогда не заставляли делать то, чего ему не хотелось делать.
– Всякий должен делать то, что мне угодно, – равнодушно сказал он. – Когда я сержусь, я заболеваю. Никто не думает, что я буду жить и вырасту большой.
Он сказал это так хладнокровно, как будто уже давно привык к этой мысли и это его ничуть не интересовало. Ему, казалось, очень нравился звук голоса Мери, и он как бы в дремоте слушал, что она говорила. Раза два ей пришла в голову мысль, не засыпает ли он. Но он вдруг задал вопрос.
– Сколько тебе лет? – спросил он.
– Мне десять лет, и тебе тоже, – ответила Мери, на миг забыв осторожность.
– А ты откуда это знаешь? – спросил он удивленно.
– Потому что когда ты родился, заперли калитку сада и зарыли ключ… А сад заперт уже десять лет.
Колин сел в постели, опираясь на локти, и повернулся к ней.
– Какую калитку заперли? Кто это сделал? Где они зарыли ключ? – воскликнул он, вдруг заинтересовавшись.
– Это… тот сад, который мистер Крэвен не любит, – возбужденно сказала Мери, – он велел запереть его, и никто не знал, где он зарыл ключ.
– Что это за сад? – жадно допытывался Колин.
– Туда целых десять лет никто не ходил, – был осторожный ответ.
Но осторожность явилась слишком поздно. Колин был слишком похож на Мери; ему тоже нечего было делать и не о чем было думать, и мысль о таинственном саде казалась ему привлекательной так же, как и ей. Он задавал один вопрос за другим. Где этот сад? Искала ли она когда-нибудь калитку? Спрашивала ли она когда-нибудь садовников?
– Они не хотят говорить об этом, – сказала Мери. – Я думаю, что им приказали не отвечать на вопросы.
– А я бы их заставил!
– Разве ты мог бы? – немного испуганно спросила Мери.
Если он мог заставить людей отвечать на вопросы, кто знает, что могло бы случиться!
– Мне должны угождать все; я тебе уж сказал это! Если бы я мог остаться в живых, все это когда-нибудь принадлежало бы мне. Я бы их заставил рассказать.
Мери не знала, что она и сама была избалована, но ясно понимала, что этот таинственный мальчик избалован. Он верил, что весь мир принадлежит ему! Какой это был странный мальчик и как спокойно он говорил о том, что не будет жить!
– Ты думаешь, что не будешь жить? – спросила Мери, отчасти из любопытства, отчасти из желания заставить его забыть про сад.
– Я думаю, что не буду, – ответил он так же равнодушно, как и прежде говорил об этом. – С тех пор как я себя помню, я слышал, как люди говорили, что я не буду жить. Прежде они думали, что я слишком мал, чтобы понимать это, а теперь они думают, что я не слышу… но я слышу. Мой доктор – двоюродный брат моего отца; он бедный… и если я умру, у него будет весь Миссельтуэйт… когда отец мой тоже умрет. Я думаю, ему бы не хотелось, чтоб я жил…
– А ты хотел бы жить? – осведомилась Мери.
– Нет, – ответил он сердито и устало, – но я не хочу умирать. Когда я болен, я лежу здесь и думаю об этом… я все плачу и плачу.
– Я три раза слышала, как ты плакал, но не знала, кто это, – сказала Мери. – Значит, ты об этом плакал? – Ей очень хотелось, чтобы он забыл о саде.
– Я думаю, – ответил он. – Давай говорить о чем-нибудь другом. Расскажи про этот сад… Тебе хотелось бы его видеть?
– Да, – ответила Мери тихо.
– Мне хотелось бы, – настойчиво продолжал он. – Мне, кажется, никогда не хотелось видеть что-нибудь… но мне хочется видеть этот сад. Я хочу, чтобы вырыли ключ, я хочу, чтобы отперли калитку. Я прикажу, чтобы меня туда отнесли в кресле… ведь это значит быть на свежем воздухе… Я заставлю их отпереть калитку!
Он был взволнован, и его странные глаза блестели, как звезды, и казались еще больше.
– Все они должны угождать мне, – продолжал он. – Я заставлю их взять меня туда и тебе тоже позволю прийти…
Мери крепко сжала руки. Все будет испорчено – все! Дикон никогда больше не придет, и она уж не будет никогда чувствовать себя как птица в безопасном, скрытом гнезде.
– О, не надо… не надо этого делать! – крикнула она. Он так уставился на нее, как будто думал, что она сошла с ума.
– Почему?! – воскликнул он. – Ведь ты сказала, что хотела бы видеть сад!
– Я хочу, – сказала она почти с рыданием, – но если ты заставишь их отпереть калитку и взять тебя туда, то это уже больше не будет тайной!
Он наклонился вперед.
– Тайна! – сказал он. – Что это значит? Скажи мне!
– Видишь… видишь ли, – начала Мери, тяжело дыша и путаясь, – если никто не знает, а только мы… если бы там была калитка… закрытая плющом… если бы там была… и могли бы ее найти… и мы могли бы пробраться туда… вместе… и затворить калитку… и никто не знал бы… что там кто-нибудь есть… мы бы играли… будто это наш сад, и мы сами птицы, а сад – наше гнездо… мы играли бы там каждый день, и копали бы, и сажали семена, и все ожило бы…
– А разве там все мертво? – перебил он ее.
– Скоро будет… если никто не будет присматривать, – продолжала она. – Цветочные луковицы живы, но розы…
Он снова перебил ее, такой же взволнованный, как и она сама.
– Что такое луковицы? – быстро сказал он.
– Это… лилии и подснежники… Они начинают оживать под землей… и из них выходят зеленые острия… потому что весна идет.
– Весна идет? – повторил он. – Какая она? Когда бываешь болен, то в комнатах вовсе не видишь весны.
– Это когда солнце светит после дождя… и дождь выпадает после солнца… и все тянется вверх и оживает под землей… Если бы сад остался нашей тайной и мы могли бы ходить туда и смотреть, как все растет и сколько там роз… Видишь ли… ведь было бы гораздо лучше, если бы все это была тайна?
Он снова упал на подушки и лежал неподвижно со странным выражением на лице.
– У меня никогда не было тайны, – сказал он, – кроме той, что я не буду жив и не вырасту большой. Они не знают, что я знаю об этом, значит, это тайна… Но эта тайна мне нравится больше.
– Если ты не заставишь их взять тебя в этот сад, – убеждала Мери, – то, может быть… я почти уверена, что когда-нибудь узнаю, как туда забраться. А потом… если доктор велит вынести тебя в кресле… и если ты всегда можешь делать что захочешь, то мы… может быть… нашли бы какого-нибудь мальчика, который бы вез твое кресло… мы пошли бы в сад… одни, и это было бы всегда тайной.
– Это было бы хорошо, – сказал он медленно, мечтательно глядя пред собой. – Я бы примирился со свежим воздухом… в таинственном саду.
– Я тебе расскажу… как, по-моему, там внутри… если бы могли туда войти… Он был заперт так долго, что все там перепуталось…
Колин лежал спокойно и слушал, как Мери рассказывала про вьющиеся розовые кусты, которые цеплялись за деревья, про птиц, которые, вероятно, свили там гнезда, потому что было безопасно. Потом она рассказала ему про малиновку и про старого Бена. Рассказ про птичку так понравился Колину, что он даже улыбнулся.
– Я и не знал, что есть такие птички, – сказал он. – Но когда все время бываешь в комнате, то ничего такого не видишь. А ты столько знаешь… мне все кажется, что ты была там, в этом саду!
Мери не знала, что сказать, и молчала. Колин, очевидно, не ожидал ответа.
– Я тебе покажу кое-что, – сказал он вдруг. – Видишь вон ту розовую шелковую занавеску на стене над камином?
– Вижу, – ответила она.
– Там висит шнурок, – сказал Колин. – Потяни его!
Мери, сильно заинтересованная, встала и отыскала шнурок. Когда она потянула его, шелковая занавеска отодвинулась на своих кольцах; под нею был портрет. Он изображал молодую женщину с улыбающимся лицом. У нее были светлые волосы, перевязанные синей лентой, и смеющиеся, чудные глаза, точь-в-точь как печальные глаза Колина, агатово-серые, казавшиеся вдвое больше, чем были на самом деле, благодаря длинным черным ресницам.
– Это моя мать, – жалобно сказал Колин. – Я не понимаю, почему она умерла. Иногда я ее ненавижу за это!
– Это странно! – чопорно сказала Мери.
– Если бы она была жива, я бы не был всегда болен, – ворчал он. – Я думаю, что я тогда тоже мог бы жить… И мой отец мог бы глядеть на меня… и у меня была бы прямая спина… Задерни занавеску!
Мери исполнила его желание и снова уселась на стул.
– Зачем занавеска задернута? – спросила она.
Он беспокойно задвигался.
– Это я им приказал так… Иногда… я не люблю видеть… как она на меня смотрит. Она слишком много улыбается, а я больной и… жалкий. И потом… ведь она м о я, и не хочу, чтобы все ее видели…
Несколько секунд в комнате царило молчание; потом Мери заговорила.
– Что бы сделала миссис Медлок, если бы узнала, что я здесь была? – спросила она.
– Она сделала бы, что я прикажу, – ответил он. – А я сказал бы ей, что я хочу, чтобы ты сюда ходила и разговаривала со мной… каждый день. Я рад, что ты пришла сюда!
– И я тоже! Я буду приходить часто, только… – она нерешительно остановилась, – мне ведь надо будет каждый день искать калитку… этого сада.
– О, да, ты должна… а потом ты мне все расскажешь! – Он несколько минут лежал, точно обдумывая что-то, но потом опять заговорил.
– Я думаю, что ты тоже будешь тайна, – сказал он. – Я им ничего не скажу, пока сами не узнают. Я всегда могу выслать сиделку из комнаты и сказать ей, что я хочу остаться один… Ты знаешь Марту?
– О, да, хорошо знаю! Она ухаживает за мной! – Он кивком головы указал на дверь в коридор.
– Она спит там, в другой комнате. Сиделка вчера ушла ночевать к своей сестре, а когда она уходит, она всегда заставляет Марту ухаживать за мной. Марта тебе скажет, когда прийти сюда.
Мери поняла, почему у Марты был такой смущенный вид, когда она спросила у нее, кто плакал.
– Значит, Марта знала все… про тебя? – спросила она.
– Да, она часто ухаживает за мной. Сиделка любит уходить от меня, и тогда Марта приходит.
– Я тут пробыла очень долго, – сказала Мери. – Уйти теперь? У тебя глаза сонные.
– Я бы хотел уснуть, прежде чем ты уйдешь, – робко сказал он.
– Закрой глаза, – сказала Мери, придвинув свой стул поближе, – и я сделаю то, что, бывало, делала моя айэ в Индии. Я буду гладить твою руку и спою тебе что-нибудь совсем тихонько!
– Это было бы, пожалуй, хорошо, – сказал он полусонным голосом.
Почему-то Мери было очень жаль его. Ей не хотелось, чтобы он лежал, не засыпая, и, прислонившись к постели, она стала поглаживать его руку, тихо напевая монотонную индусскую песенку.
– Это хорошо, – сказал он еще более сонным голосом. Она продолжала петь и гладить его руку, но когда взглянула на него, то увидела, что его черные ресницы опущены и глаза закрыты. Он крепко спал. Она тихо встала, взяла свою свечку и бесшумно вышла из комнаты.
Глава XIV
Когда наступило утро, степь была скрыта в тумане и дождь не переставал лить. О том, чтобы выйти, не могло быть и речи. Марта была так занята, что Мери никак не удавалось поговорить с нею, но после обеда она попросила ее прийти к ней в детскую посидеть. Марта пришла, захватив с собой чулок, который всегда вязала, когда ей больше нечего было делать.
– Что с тобой такое? – спросила она, как только они уселись. – У тебя такой вид, как будто ты хочешь что-то рассказать!
– Хочу. Я узнала, что это был за плач! – сказала Мери.
Марта уронила вязанье на колени и смотрела на нее испуганными глазами.
– Нет! – воскликнула она. – Никогда.
– Я услышала плач ночью, – продолжала Мери, – я встала и пошла посмотреть, откуда он слышится. Это был Колин. Я его отыскала.
Лицо Марты с испугу даже покраснело.
– О! Мисс Мери! – сказала она, почти плача. – Этого не следовало делать… не следовало! Ты меня доведешь до беды. Я тебе никогда ничего не рассказывала про него, а теперь беда будет… Я потеряю место… И что тогда будет делать мать?
– Ты не потеряешь места, – возразила Мери. – Он был рад, что я пришла. Мы говорили и говорили. Он сказал, что рад, что я пришла.
– Рад? – воскликнула Марта. – Правда? Ты не знаешь, какой он бывает, когда ему что-нибудь не по вкусу. Он слишком велик, чтобы плакать, как младенец, но когда он рассержен, он вопит только чтобы напугать нас. Он знает, что мы пикнуть не смеем.
– Он не был сердит, – сказала Мери. – Я его спросила, уйти ли мне, но он велел мне остаться. Потом он стал задавать мне вопросы, и я уселась на большой табурет и стала рассказывать ему про Индию, про сады, про малиновку. Он не хотел отпускать меня. Потом он показал мне портрет своей матери. А прежде чем уйти, я убаюкала его… песней!
Марта так и ахнула от изумления.
– Я не могу тебе поверить! – заявила она. – Ведь это все равно что войти прямо в львиное логовище! Если бы он был такой, как всегда, он бы взбесился и поднял весь дом. Ведь он не позволяет чужим даже посмотреть на себя!
– А мне позволил! Я все время глядела на него, а он на меня!
– Не знаю, что и делать! – воскликнула встревоженная Марта. – Если миссис Медлок узнает об этом, она подумает, что я не послушалась ее приказаний и рассказала тебе все, и тогда меня отошлют назад к матери.
– Он пока ничего не расскажет про тебя миссис Медлок. Это сначала будет как будто тайна, – твердо сказала Мери. – И он говорит, что все должны делать, как ему угодно!
– Это-то правда! Скверный мальчишка! – вздохнула Марта, отирая лоб передником.
– Он говорит, что миссис Медлок тоже должна. И он хочет, чтобы я приходила к нему каждый день; ты должна будешь передавать мне, когда я ему буду нужна.
– Я! – воскликнула Марта. – Я потеряю место, наверняка потеряю!
– Этого не случится, если ты будешь делать, что он захочет, а всем ведь приказано повиноваться ему, – убеждала Мери.
– Да неужели он был ласков с тобой! – воскликнула Марта, широко раскрыв глаза.
– Я думаю, что я ему понравилась, – ответила Мери.
– Ну, так ты, должно быть, околдовала его, – решила Марта, глубоко вздохнув.
– Ты думаешь, что это волшебство? – спросила Мери. – Я слышала про волшебство в Индии, но я не умею этого делать. Я просто вошла к нему в комнату и так удивилась, когда увидела его, что осталась на месте и все глядела на него. А потом он обернулся и стал глядеть на меня. Он думал, что я призрак или сон, а я это же думала про него… И все это было так странно, что мы были одни, среди ночи, и даже не знали друг о друге, мы и начали задавать друг другу вопросы… А потом, когда я спросила, хочет ли он, чтобы я ушла, он сказал, что нет.
– Видно, конец света наступает, – вздохнула Марта.
– Да что с ним такое? – спросила Мери.
– Никто не знает наверное, – ответила Марта. – Когда он родился, мистер Крэвен точно помешался. Доктора думали, что его надо будет отправить в… сумасшедший дом… и все потому, что миссис Крэвен умерла… Я уже тебе говорила. Он ни за что не хотел поглядеть на младенца. Он все кричал, что он вырастет горбатым, как он сам, и что ему лучше умереть…
– Разве Колин горбатый? – спросила Мери. – Он не похож на горбуна…
– Нет еще, – ответила Марта, – только у него все началось как-то не так… Моя мать говорит, что в доме было столько горя и гнева, что любой ребенок испортился бы… Они все боялись, что у него спина слаба, и все ухаживали за ним – заставляли его лежать, не давали ему ходить. Раз ему даже надели железные помочи, но он так раскапризничался, что заболел… Потом к нему приехал важный доктор и заставил их снять. А с другим доктором он говорил так строго… хотя вежливо. Он сказал, что мальчику давали слишком много лекарств и слишком много воли, чтоб делать все по-своему.
– Я думаю, что он очень избалован, – сказала Мери.
– Хуже его нет на свете! – воскликнула Марта. – Конечно, он почти всегда хворает – то простуда, то кашель… Раза два он чуть не умер. И лихорадка у него была, и тиф… Уж и испугалась тогда миссис Медлок! Он тогда бредил, а она разговаривала с сиделкой, думая, что он ничего не понимает. «Теперь он уже, наверное, умрет, – говорила она, – и это будет самое лучшее и для него, и для всех». Посмотрела она на него, а он лежит и смотрит на нее своими большими глазами, да так осмысленно… Она не знала, что и подумать, а он поглядел на нее и говорит: «Дайте мне воды и перестаньте разговаривать».
– А ты думаешь, он умрет? – спросила Мери.
– Моя мать говорит, что нельзя выжить такому ребенку, который не бывает на свежем воздухе и ничего не делает, только лежит на спине, принимает лекарства да смотрит в книжки. Он очень слаб, терпеть не может, когда его выносят на свежий воздух, и так легко простуживается, что потом говорит, что будто от воздуха…
Мери сидела и смотрела на огонь.
– А я думаю, – медленно сказала она, – что ему, может быть, хорошо бы выходить в сад и смотреть, как все растет.
– Однажды его взяли к фонтану, где растут розы, – продолжала Марта. – А он прочел в какой-то газете, что иногда люди заболевают какой-то «розовой лихорадкой»; потом он начал чихать и кричать, что у него эта самая лихорадка. А тут еще один новый садовник, который не знал правил, прошел мимо и поглядел на него как-то странно… Он взбесился и стал кричать, что садовник поглядел на него потому, что у него растет горб. Он столько плакал, что потом всю ночь был болен.
– Если он когда-нибудь рассердится на меня, то я к нему никогда больше не пойду, – сказала Мери.
– Он заставит тебя прийти, если захочет, – сказала Марта, – так ты и знай.
Скоро послышался звонок, и Марта сложила свое вязанье.
– Это, небось, сиделка. Она хочет, чтобы я с ним посидела немного, – сказала она. – Надеюсь, что он в хорошем настроении духа.
Она вышла из комнаты и вернулась минут через десять с недоумевающим выражением лица.
– Да ты, должно быть, приворожила его, – сказала она. – Он сидит на диване со своими книжками, а сиделке велел уйти до шести часов. Я должна буду сидеть в смежной комнате. Как только ушла сиделка, он позвал меня и говорит: «Я хочу, чтобы Мери Леннокс пришла ко мне; но помни, чтоб никому не рассказывать! Иди скорее!»
Мери сейчас же отправилась к нему.
Когда она вошла в комнату, в камине пылал яркий огонь, и при дневном свете она увидела, что комната была очень красива. Ковры, драпировки, книги и картины на стенах были ярких, светлых цветов, и комната имела блестящий, уютный вид, несмотря на серое небо и дождь. Колин сам тоже был похож на картину. Он был закутан в бархатный халат и сидел, прислонившись к большой глазетовой подушке. На щеках его горели яркие пятна.
– Войди же! – сказал он. – Я все утро думал о тебе.
– Я тоже думала о тебе, – ответила Мери. – Ты не представляешь, как Марта испугалась; она говорит, миссис Медлок подумает, что она рассказала мне про тебя, и ее отошлют домой.
Колин нахмурился.
– Поди скажи ей, чтобы она пришла сюда, – сказал он. – Она в соседней комнате.
Мери вышла и привела Марту, которая дрожала от страха. Колин все еще хмурился.
– Должна ты делать, что мне угодно, или не должна? – спросил он.
– Должна, сэр, – пробормотала Марта, вся вспыхнув.
– А миссис Медлок тоже?
– Все должны делать, что вам угодно, – сказала Марта.
– Так если я приказываю тебе привести ко мне мисс Мери, как же может миссис Медлок тебя отослать, если она узнает?
– Пожалуйста, не говорите ей, – умоляла Марта.
– Я е е с а м о е отошлю, если она посмеет только слово сказать, – с важностью заявил Колин. – А это ей очень не понравится, уверяю тебя!
– Благодарю вас, сэр, я только исполняю долг!
– Я только этого и хочу, – сказал Колин еще с большей важностью. – Я о тебе позабочусь! А теперь иди!
Когда Марта затворила за собою дверь, Колин увидел, что Мери пристально смотрит на него, точно удивляясь чему-то.
– Почему ты так смотришь на меня? – спросил он. – О чем ты думаешь?
– Я думаю о двух вещах…
– О чем это? Садись и расскажи мне!
– Первое… вот что, – сказала Мери, садясь на большой табурет. – Однажды в Индии я видела мальчика-раджу… На нем везде торчали рубины, изумруды и брильянты, и говорил он с людьми так же… как ты говорил с Мартой. Все должны были исполнять все, что он приказывал… сию же минуту. Я думаю, что их бы убили, если бы они не послушались…
– Я тебя после заставлю рассказать мне про раджей, – сказал он, – а теперь скажи мне, о чем ты еще думала.
– Я думала о том, как ты не похож на Дикона!
– Кто такой Дикон? Какое странное имя!
– Это брат Марты. Ему двенадцать лет, – объяснила она. – И он не похож ни на кого на свете. Он умеет привораживать лисиц, и белок, и птиц, как туземцы в Индии привораживают змей. Он насвистывает на своей дудке, и все они приходят слушать.
На столе возле Колина лежало несколько толстых книг, и он вытащил одну из них.
– Тут есть картинка… заклинатель змей! – воскликнул он. – Иди-ка, посмотри на нее!
Книга была красивая, с великолепными раскрашенными иллюстрациями, и Колин отыскал одну из них.
– Разве Дикон умеет это делать? – оживленно спросил он.
– Он играл на дудке, а они слушали, – объяснила Мери. – Но он говорит, что это вовсе не волшебство. Он говорит, это все потому, что он живет в степи и знает их обычаи. Он говорит, ему иногда кажется, что он сам птица или белка, потому что он их очень любит. Мне казалось, что он точно спрашивал что-то у малиновки, они точно разговаривали друг с другом… по-птичьи.
Колин откинулся на подушку; глаза его раскрывались все шире и шире, и на щеках горели пятна.
– Расскажи мне еще что-нибудь про него, – попросил он.
– Он все знает… о гнездах, о яйцах, – продолжала Мери. – Он знает, где живут лисицы, барсуки и выдры, но хранит это в тайне, чтобы другие мальчики не отыскали нор и не спугнули их. Он знает про все, что только живет или растет в степи.
– А он любит степь? – спросил Колин. – Как это можно любить такое место… громадное, обнаженное, пустынное!
– Это самое красивое место, – запротестовала Мери. – Там растут тысячи чудных цветов, и тысячи маленьких живых созданий хлопочут, вьют гнезда, роют норы, поют, щебечут, пищат… Они всегда заняты, и им так весело под землей, или на деревьях, или среди вереска… Это их мир.
– Откуда ты знаешь все это? – спросил Колин, повернувшись, чтобы взглянуть на нее.
– Я там ни разу не была, – сказала Мери, вдруг спохватившись, – только проезжала ночью. Мне казалось, что она отвратительна. Но мне все это рассказала Марта, а потом Дикон. А когда Дикон говорит об этом, то кажется, будто все это видишь и слышишь.
– Когда бываешь болен, то никогда ничего такого не видишь, – беспокойно сказал Колин.
Он имел вид человека, который прислушивается к каким-то новым звукам вдали и старается угадать, что это такое.
– Нельзя ничего видеть, когда сидишь в комнате!
– Я не могу пойти в степь! – сказал он обидчиво.
Мери с минуту помолчала, потом сказала нечто очень смелое.
– Мог бы пойти… когда-нибудь!
Он сделал движение, точно его испугали.
– Пойти в степь! Как я могу! Ведь я скоро умру!
– Откуда ты знаешь? – недружелюбно спросила Мери. Ей не нравился тон, которым он говорил о своей смерти. Она не чувствовала никакого сожаления; ей казалось, что он точно хвалится этим.
– О, я это слышал с тех пор, как помню себя, – сердито ответил он. – Все они вечно шепчутся об этом и думают, что я не замечаю. И им всем этого хочется…
В Мери вдруг проснулся дух противоречия. Она крепко сжала губы.
– Если бы им хотелось, чтобы я умерла, – сказала она, – я бы этого не сделала… Кому это хочется, чтоб ты умер?
– Слугам… и, конечно, доктору Крэвену, потому что он тогда получил бы Миссельтуэйт и был бы богат, а не беден. Он не смеет сказать этого, но у него всегда довольный вид, когда мне хуже… А когда у меня был тиф, он потолстел… И я думаю, что даже моему отцу этого хочется…
– А я этого не думаю, – упрямо сказала Мери.
Колин обернулся и снова посмотрел на нее.
– Ты не думаешь? – сказал он.
Он откинулся на подушки и притих, точно думая о чем-то. Наступило продолжительное молчание. Быть может, оба они думали о таких странных вещах, о которых обыкновенно дети не думают.
– Мне очень нравится важный доктор из Лондона, потому что он приказал снять с тебя эту железную штуку, – сказала наконец Мери. – Он тоже сказал, что ты скоро умрешь?
– Нет.
– Что же он сказал?
– Он не шептал, – ответил Колин, – может быть, он знал, что я терпеть не могу шепота. Я сам слышал, как он громко сказал: «Мальчик мог бы жить, если б только твердо решил сделать это. Надо возбудить в нем охоту». И он сказал это, как будто он сердился.
– Я тебе скажу, кто мог бы, пожалуй, придать тебе охоты, – сказала Мери, точно размышляя вслух. – Это Джон. Он всегда говорит о чем-нибудь живом. Он никогда не говорят про мертвое или про больное… Он всегда смотрит вверх, в небо, как летают птицы, или вниз, на землю, как растет что-нибудь… У него такие круглые голубые глаза, всегда широко раскрытые, потому что он всегда глядит на все вокруг. И смеется он так громко своим большим ртом… А щеки у него красные… точно вишни.
Она придвинула свой табурет поближе к софе, и выражение ее лица совершенно изменилось, когда она стала вспоминать о широко раскрытых глазах и большом рте.
– Вот что, – сказала она, – не будем говорить о смерти, я этого не люблю. Будем говорить о живом. Будем говорить о Диконе, а потом будем смотреть твои картинки.
Она не могла сказать ничего лучшего. Говорить о Диконе – значило говорить о степи, коттедже, в котором четырнадцать человек жили на шестнадцать шиллингов в неделю, о детях, которые толстели от степной травы, точно дикие пони. Это значило говорить о матери Дикона, о прыгалке, которую она прислала, о степи, над которой сияло солнце, о бледно-зеленых остриях, которые выглядывают из черной земли. А во всем этом было так много «живого», что Мери говорила больше, чем когда-либо прежде, а Колин и говорил, и слушал, как никогда прежде. Потом оба начали смеяться без всякой причины, как делают дети, когда им хорошо вместе.
И они столько смеялись, что, в конце концов, начали так шуметь, как будто это были самые обыкновенные, здоровые, нормальные десятилетние дети, а не черствая, никого не любящая девочка и болезненный мальчик, которому казалось, что он скоро умрет.
Им было так весело, что они забыли про картинки и забыли, что время шло, как вдруг Колин о чем-то вспомнил.
– А ты знаешь, о чем мы ни разу не подумали, – сказал он, – ведь мы двоюродные брат и сестра!
Это показалось им таким странным, что они стали смеяться еще громче. И среди этого веселья и смеха дверь вдруг отворилась, и вошли миссис Медлок и доктор Крэвен.
Доктор Крэвен вздрогнул от испуга, а миссис Медлок чуть не упала, потому что он нечаянно толкнул ее.
– Господи Боже! – воскликнула бедная миссис Медлок, глаза которой почти готовы были выскочить из орбит. – Господи Боже!
– Что это такое? – спросил доктор Крэвен, шагнув вперед. – Что это значит?
Мери вдруг снова вспомнился мальчик-раджа: Колин ответил так, как будто ни испуг доктора, ни ужас миссис Медлок ровно ничего не значили. Он был так же мало смущен или испуган, как если бы в комнату вошли кошка и собака.
– Это моя двоюродная сестра Мери Леннокс, – сказал он. – Я попросил ее прийти сюда и поговорить со мной. Она мне нравится. Теперь она должна будет приходить сюда и говорить со мной, когда я буду посылать за нею.
Доктор Крэвен с укоризной поглядел на миссис Медлок.
– О, сэр, – начала она, задыхаясь, – я не знаю, как это случилось. В доме нет ни одного слуги, который осмелился бы говорить об этом, – им всем отдано приказание…
– Ей никто не говорил, – сказал Колин. – Она услышала, как я плакал, и сама отыскала меня. Я рад, что она пришла. Не будьте же глупы, Медлок.
Мери видела, что доктор Крэвен не особенно доволен, но, очевидно, не осмеливался противоречить своему пациенту. Он сел возле Колина и пощупал его пульс.
– Я боюсь, что ты слишком много волновался. А волнение вредно тебе, мой мальчик, – сказал он.
– Я буду волноваться, если она перестанет приходить, – ответил Колин, в глазах которого появился зловещий блеск. – Мне гораздо лучше! Мне лучше, потому что она здесь. Пусть сиделка принесет нам обоим чаю; мы будем пить чай вместе.
Миссис Медлок и доктор Крэвен тревожно переглянулись; но делать, очевидно, было нечего.
– Он выглядит гораздо лучше, сэр, – осмелилась заметить миссис Медлок. – Но… – она остановилась, как бы обдумывая что-то, – он выглядел гораздо лучше сегодня утром, прежде чем она забралась в эту комнату.
– Она пришла сюда вчера ночью. Она долго сидела у меня. Она пела мне индусские песни и убаюкала меня, – сказал Колин. – Когда я проснулся, мне было лучше, я захотел завтракать. А теперь я хочу чаю… Скажите сиделке, Медлок!
Доктор Крэвен оставался недолго. Он несколько минут поговорил с сиделкой, когда она вошла в комнату, и потом сказал несколько слов Колину, в виде предостережения, что он не должен слишком много говорить, не должен забывать, что он болен, не должен забывать, что очень скоро утомляется. Мери подумала, что Колину приходится не забывать о множестве неудобств.
У Колина был капризный вид, и его странные глаза с черными ресницами были устремлены на лицо доктора Крэвена.
– Я хочу забыть обо всем этом, – сказал он, наконец. – Она заставляет меня забыть об этом… Поэтому-то я и хочу, чтобы она приходила!
Вид у доктора Крэвена был не особенно довольный, когда он вышел из комнаты, и он с недоумением посмотрел на Мери, сидевшую на большом табурете. Когда он вошел, она снова превратилась в чопорную, молчаливую девочку, и он никак не мог понять, что в ней так привлекло Колина. У мальчика действительно был более оживленный вид, и доктор тяжело вздохнул, идя по коридору.
– Они вечно заставляют меня есть, когда я не хочу, – сказал Колин, когда сиделка принесла чай и поставила его на стол возле дивана. – А теперь, если ты будешь есть, я тоже буду. А булки такие славные и горячие… Ну, расскажи мне про раджей…
Глава XV
После целой недели дождя снова открылся высокий голубой свод неба и ярко засветило солнце. Хотя Мери не имела возможности повидать ни таинственный сад, ни Дикона, ей было очень весело, и неделя вовсе не показалась ей долгой. Она по нескольку часов в день проводила в комнате Колина, рассказывая ему про раджей, про сад, про Дикона и коттедж в степи. Они рассматривали великолепные книги и рисунки; иногда Мери читала вслух Колину, а иногда он читал ей. Когда его что-нибудь забавляло или интересовало, он, как казалось Мери, вовсе не был похож на больного, только лицо его было очень бледно и он всегда лежал на диване.
– И хитрая же ты: подслушала, встала с постели и отправилась на розыски тогда ночью, – сказала однажды миссис Медлок. – Но нельзя не сказать, что это благословение для всех нас… У него не было ни припадков, ни капризов с тех пор, как вы подружились. Сиделка уже собиралась отказаться от места, потому что он ей надоел, а теперь она говорит, что останется, если ты с нею дежуришь, – добавила она со смехом.
Во время своих разговоров с Колином Мери старалась быть очень осторожной и не упоминать о таинственном саде. Ей очень хотелось выпытать кое-что у Колина, но она понимала, что не следовало задавать ему прямых вопросов. Во-первых, так как ей было приятно быть с Колином, ей хотелось узнать, можно ли ему доверить тайну. Он ничуть не походил на Дикона, но ему так нравилась мысль о саде, про который никто не знал, что, по ее мнению, ему можно было доверить. Но, с другой стороны, она недостаточно хорошо знала его, чтобы быть уверенной в этом. Во-вторых, ей хотелось узнать следующее: если ему действительно можно было доверить тайну, можно ли было как-нибудь взять его в сад, но так, чтобы никто этого не заметил. Быть может, если бы Колин был побольше на открытом воздухе, познакомился бы с Диконом, видел бы, как все вокруг растет, он бы, пожалуй, не думал столько о смерти.
За последнее время Мери иногда видела свое лицо в зеркале и сразу заметила, что у нее совершенно другой вид, чем был у той девочки, которая только что приехала из Индии.
– Почему ты всегда сердишься, когда на тебя смотрят? – спросила она однажды Колина.
– Я всегда терпеть не мог этого, – ответил он, – даже когда был маленький. Когда меня взяли на морской берег и я, бывало, лежал в своей колясочке, все смотрели на меня, а дамы даже останавливались и разговаривали с моей нянькой… Потом они начинали шептать, и я уже знал: они говорили, что я никогда не вырасту большим и умру. А иногда дамы гладили меня по щеке и говорили: «Бедное дитя». Однажды, когда одна дама сделала это, я громко закричал и укусил ее за руку. Она так испугалась, что убежала прочь.
– Она думала, что ты взбесился, как собака, – сказала Мери, ничуть не удивившись.
– Мне все равно, что б она ни думала, – нахмурившись, ответил Колин.
– Я удивляюсь, что ты не закричал и не укусил меня, когда я вошла к тебе в комнату, – сказала Мери; на лице ее медленно появилась улыбка.
– Я думал, что ты призрак или сон, – сказал он. – А призрак или сон нельзя укусить, и если закричать, то им все равно.
– А тебе бы очень не понравилось… если б на тебя посмотрел один мальчик? – неуверенно спросила Мери.
Он откинулся на подушки и задумался.
– Есть такой мальчик, – сказал он медленно, точно обдумывая каждое слово, – есть один мальчик, которому я, пожалуй, позволил бы. Это мальчик, который знает, где живут лисицы, – Дикон.
– Я уверена, что ты позволил бы ему, – сказала Мери.
– Птицы позволяют ему глядеть на них… и другие звери, – сказал он, все еще обдумывая что-то, – поэтому, может быть, и мне следует позволить. Он ведь как будто чародей, а я… мальчик-зверь.
Он рассмеялся, и она тоже – такой смешной им показалась мысль о мальчике-звере, который прячется в своей норе.
После этого Мери уже была уверена, что ей не надо бояться за Дикона.
В первое ясное утро Мери проснулась очень рано. Косые лучи солнца пробирались сквозь ставни, и Мери соскочила с постели и подбежала к окну. Когда она подняла штору и открыла окно, ее обдало свежим благоухающим воздухом. Степь была голубая; там и сям раздавались нежные мелодичные звуки, как будто множество птиц готовилось к концерту. Мери высунула руку из окна и подставила ее солнцу.
– Как тепло… тепло! – сказала она. – Должно быть, еще очень рано. Никто еще не встал. Даже мальчиков на конюшне еще не слышно.
Внезапно пришедшая ей в голову мысль заставила ее вскочить.
– Я не могу ждать… Пойду посмотрю сад.
К этому времени она уже научилась одеваться сама и оделась в пять минут. Она знала, где находилась маленькая боковая дверь, которую она сама могла отпереть, и она сбежала вниз в одних чулках, надев башмаки в коридоре.
Когда она добралась до того места, где находилась скрытая плющом калитка, странный громкий звук заставил ее вздрогнуть. Это было карканье вороны, и раздавалось оно с самого верха стены. Когда Мери взглянула вверх, она увидела сидевшую там большую иссиня-черную птицу с блестящими перьями, которая смотрела вниз, прямо на нее. Мери никогда прежде не видела ворона так близко и немного испугалась; но птица вдруг расправила крылья и понеслась над садом. Мери толкнула калитку, надеясь, что птица не останется в саду, и боясь найти ее там. Когда она вошла в сад, то увидела, что птица, очевидно, решила остаться там, потому что уселась на низкорослой яблоне; под этой яблоней лежало маленькое рыжеватое животное с пушистым хвостом, и оба они глядели на согнувшегося рыжеголового Дикона, который усердно работал, стоя на коленях в траве.
Мери подбежала к нему.
– О, Дикон, – крикнула она, – как ты мог добраться сюда так рано! Ведь солнце только что встало!
Он тоже встал, улыбающийся, оживленный, растрепанный, с глазами, похожими на клочки неба.
– О, я встал гораздо раньше солнца! – сказал он. – Разве я мог оставаться в постели! Все вокруг трудится, жужжит, поет, вьет гнезда – так и хочется выйти, вместо того чтоб лежать на боку. А когда солнце поднялось над степью, я выбежал и стал кричать и петь… Я прибежал прямо сюда!.. Никак не мог удержаться. Ведь здесь меня ждал сад…
Увидев, что Дикон толкует с кем-то, маленькое животное с пушистым хвостом поднялось со своего места под деревом и подошло к нему, а ворон, каркнув раз, слетел с ветви и преспокойно уселся на плече Дикона.
– Это маленькая лисица, – сказал он, потирая голову рыжеватого зверька. – Ее зовут Капитан. А это Сажа. Сажа летел по степи вслед за мною, а Капитан бежал, как будто за ним гнались собаки.
И у лисы и у птицы был такой вид, как будто они ничуть не боялись Мери. Когда Дикон стал ходить, Сажа продолжал сидеть у него на плече, а Капитан шел подле него.
– Посмотри-ка сюда! – сказал Дикон. – Видишь, как все это разрослось… и вот это… и это! И взгляни-ка сюда!
Они дошли до клумбы, где пышно распустились пурпурные, оранжевые и золотистые крокусы. Он опустился на колени, и Мери тоже. Мери наклонилась и стала их целовать.
Они бегали по саду и всюду находили столько чудес, что должны были напоминать друг другу, что следует говорить шепотом. Дикон указывал Мери на разбухшие почки на розовых кустах, которые казались совсем мертвыми, указывал на десятки тысяч зеленых игл, появлявшихся из-под земли. Они припадали носами к земле, вдыхая в себя ее теплый весенний запах; они копали, пололи, смеялись от восторга, и волосы Мери были так же всклокочены, как у Дикона, и щеки были так же румяны, как у него.
Вдруг что-то быстро перелетело через ограду и пронеслось между деревьями прямо в густо заросший угол сада; это была красногрудая птичка, в клюве которой что-то болталось. Дикон остановился и схватил Мери за руку, как сделал бы человек, при котором другой вздумал бы смеяться в церкви.
– Мы не должны шевелиться, – шепнул он. – Я так и знал, что она скоро начнет вить гнездо, когда я ее видел в последний раз. Это малиновка Бена. Она вьет теперь гнездо. Она останется здесь, если мы ее не спугнем.
Они медленно опустились на траву и сидели, не шевелясь.
– Сделаем вид, что мы совсем не смотрим на нее, – сказал Дикон. – А то она улетит навсегда, если заметит, что мы ей мешаем. Она теперь будет совсем другая, пока не совьет гнезда. Она будет более пуглива и сердита, и ей некогда будет летать в гости и болтать. Нам теперь надо сидеть тихонько, а когда она привыкнет к нам, я немножко почирикаю, и она поймет, что мы ей не будем мешать.
Он сидел совсем неподвижно и говорил очень тихо, почти шепотом.
– Если мы будем говорить о птичке, то я не могу не смотреть на нее, – сказала Мери тихонько. – Мы должны говорить о чем-нибудь другом. Я хочу тебе что-то рассказать.
– Что ты хочешь сказать мне? – спросил Дикон.
– Вот что… Ты знаешь… про Колина? – шепнула она. Он обернулся и посмотрел на нее.
– А ты что про него знаешь? – спросил он.
– Я видела его. Я была у него каждый день на этой неделе. Он хочет, чтобы я приходила, и он говорит, что я заставляю его забывать о том, что он болен и скоро умрет, – ответила Мери.
Когда выражение изумления сбежало с лица Дикона, на нем выразилось облегчение.
– Как я рад! – воскликнул он. – Мне теперь легче! Я знал, что о нем нельзя говорить, а я не люблю ничего скрывать.
– И про сад… тоже не любишь скрывать? – сказала Мери.
– Я никогда ничего не скажу, – ответил он. – Только матери я сказал: «Мама, у меня есть тайна, которую надо хранить. Это не что-нибудь дурное, ты ведь знаешь. Это все равно что хранить в тайне, где свито птичье гнездо. Ты ведь позволишь?»
– Что же она сказала? – спросила Мери без всякого страха. Она очень любила слушать, когда рассказывали про мать Дикона.
Дикон ласково улыбнулся.
– Мама всегда такая, – сказал он. – Она взъерошила мои волосы, засмеялась и говорит: «Храни, сколько тебе угодно, тайн! Я тебя уже двенадцать лет знаю!»
– А как ты узнал про Колина? – спросила Мери.
– Да все, которые слышали про мистера Крэвена, знали, что у него есть маленький мальчик, который вырастет калекой, и все знали, что мистер Крэвен не любит, чтобы про это говорили. Люди очень жалели мистера Крэвена, потому что миссис Крэвен была очень красивая дама и они очень любили друг друга. Миссис Медлок часто останавливается у нас в коттедже, когда идет в деревню, и всегда толкует об этом при детях, потому что знает, что нам можно доверять. А ты как узнала про него? Когда Марта была дома, она была очень огорчена. Она говорила, что ты слышала, как он плакал, и стала задавать вопросы, а она не знала, что тебе сказать.
Мери стала рассказывать ему, как в ту ночь был ветер и разбудил ее, как она услышала далекие звуки жалобного плача, как этот звук вел ее по коридорам со свечой в руке и как она открыла дверь слабо освещенной комнаты, в углу которой стояла резная кровать с балдахином. Когда она описала ему маленькое бледное лицо Колина и его странные глаза с темными ресницами, Дикон покачал головой.
– У его матери, говорят, были такие глаза, только ее глаза всегда улыбались, – сказал он. – Люди говорят, что мистер Крэвен поэтому не может видеть мальчика, когда он не спит: его глаза так похожи на глаза матери… но они совсем другие, и лицо у него такое несчастное…
– Как ты думаешь, неужели ему хочется, чтобы мальчик умер? – прошептала Мери.
– Нет. Но он думает, что мальчику лучше было не родиться на свет. Моя мать говорит, что это хуже всего для ребенка. Мистер Крэвен готов купить что угодно для бедного мальчика, но хотел бы забыть, что он есть на свете. Он одного боится – что когда-нибудь взглянет на него и увидит, что он горбатый!
– Колин и сам так боится этого, что не хочет сидеть, – сказала Мери. – Он говорит, что всегда думает об этом и если почувствует, что у него появляется горб, то сойдет с ума и будет кричать, пока не умрет.
– Не надо бы ему лежать там и думать о таких вещах, – сказал Дикон. – Ни один мальчик не мог бы выздороветь, если бы думал все об этом.
Лисичка, лежавшая на траве подле Дикона, то и дело взглядывала на него, точно прося погладить ее. Дикон нагнулся погладить ее и несколько минут сидел молча. Потом он поднял голову и осмотрелся вокруг.
– Когда мы впервые забрались сюда, все было какое-то серое. Посмотри-ка вокруг и скажи мне, замечаешь ты какую-нибудь разницу?
Мери посмотрела и ахнула.
– Смотри-ка! – воскликнула она. – Ведь серое точно меняется. На него словно надвигается зеленый туман. Он похож на зеленую газовую вуаль.
– Да, и он будет становиться зеленее и зеленее, пока все серое не исчезнет, – сказал Дикон. – А угадай-ка, о чем я думаю?
– О чем-нибудь хорошем, – оживленно сказала Мери. – Это, вероятно, что-нибудь про Колина!
– Я думал, что если бы он был здесь, в саду, то он бы не думал о горбе, который вырастет у него на спине, а думал бы о листочках, которые распускаются на розовых кустах, и, пожалуй, был бы здоровее, – объяснил Дикон. – Я все думал, нельзя ли сделать так, чтобы у него явилась охота прийти сюда и полежать под деревьями в своей колясочке.
– Я и сама думала об этом почти каждый раз, когда разговаривала с ним, – сказала Мери. – Я все думала, сумеет ли он хранить тайну и можно ли нам будет когда-нибудь привезти его сюда, но так, чтобы его никто не видел. Я думаю, ты мог бы везти его колясочку. Доктор говорил, что ему нужен свежий воздух… А если Колин захочет, чтобы мы его привезли сюда, то никто не посмеет ослушаться. Он не пойдет ради других… и они, может быть, будут довольны, если он сделает это ради нас. Он может приказать садовникам, чтобы они не показывались на глаза, и тогда никто ничего не узнает…
Дикон что-то обдумывал, почесывая спину Капитана.
– Ему было бы хорошо, я уверен в этом, – сказал он. – Мы бы не думали о том, что ему лучше было бы не родиться на свет… Нас было бы трое детей, и мы бы смотрели, как идет весна… Это было бы, пожалуй, лучше, чем лекарства…
– Он так давно лежит у себя в комнате и так боится, что у него будет горб, что стал какой-то странный. Он знает очень многое из своих книжек… а больше ничего не знает. Он говорит, что так болен, что ничего не замечает, терпеть не может выходить из дому, не любит ни садов, ни садовников. Но он любит слушать рассказы про этот сад, потому что это тайна. Я не смею рассказать ему всего, но он раз сказал, что хотел бы его видеть.
– Мы когда-нибудь привезем его сюда, – сказал Дикон. – Я мог бы везти его колясочку… А ты заметила, как обе малиновки работали, пока мы тут сидели? Посмотри-ка, вон одна на ветке точно раздумывает, куда сунуть прутик, который у нее в клюве!
Дикон тихо свистнул, и птичка повернула головку и вопросительно взглянула на него, все еще держа прутик. Дикон ласково заговорил с нею.
– Ты знаешь, что мы тебе не помешаем, – сказал он. – Мы ведь тоже строим гнездо. Смотри, никому не рассказывай про нас!
И хотя малиновка ничего не ответила. Мери была вполне уверена, что она никому на свете не выдаст их тайны.
Глава XVI
В это утро в саду было много работы, и Мери вернулась в дом несколько позже; она так торопилась снова приняться за работу, что до самой последней минуты даже не вспомнила о Колине.
– Скажи Колину, что я не могу прийти к нему, – сказала она Марте. – У меня очень много работы в саду.
На лице Марты выразился испуг.
– О, мисс Мери, – сказала она, – он, пожалуй, рассердится, когда я ему скажу это.
Но Мери не боялась его, как другие, и она не была особенно склонна к самопожертвованию.
– Я не могу остаться! Меня ждет Дикон! – И она убежала прочь.
После полудня они работали еще усердней, им было еще веселее, чем утром. Они выпололи почти все сорные травы, подрезали большинство розовых кустов и вскопали землю вокруг них. Дикон принес собственный заступ и учил Мери, как надо работать ее садовыми орудиями.
– Скоро зацветут яблони и вишни, – сказал он, усердно работая. – А вон там, у стен, зацветут персики и сливы, и трава будет… настоящий ковер из цветов…
Когда Мери захотелось отдохнуть, оба они уселись под деревом. Дикон вынул из кармана свою дудочку и заиграл на ней; звуки были нежные и странные, и на стене, окружавшей сад, вдруг появились две белки, глядя вниз и прислушиваясь.
Солнце клонилось к закату, и его ярко-золотые косые лучи проникали сквозь листву деревьев, когда дети расстались.
– Завтра будет ясно, – сказал Дикон. – Я примусь за работу на рассвете!
– И я тоже, – сказала Мери.
Она быстро понеслась к дому, желая рассказать Колину про Дикона, про ворону и лисичку, про то, что сделала весна. Она была уверена, что он захочет услышать обо всем этом, и была неприятно поражена, отворив дверь своей комнаты и увидев Марту, которая стояла и ждала ее с грустным выражением лица.
– Что случилось? – спросила она. – Что сказал Колин, когда ты его предупредила, что я не могу прийти?
– О, лучше было бы, если бы ты пошла! – сказала Марта. – С ним опять чуть не случился припадок. Мы почти целый день возились, чтобы успокоить его. Он все время глядел на часы.
Мери крепко стиснула губы. Она так же мало привыкла думать о других, как и Колин, и никак не могла понять, почему раздражительный мальчишка мешает ей делать то, что ей нравится. Она не знала, как жалки те люди, которые всегда больны и раздражены, которые не знают, что можно владеть собою и не раздражать других. В Индии, когда у нее бывала головная боль, она делала все возможное, чтобы довести и других до головной боли или чего-нибудь похуже. И она, конечно, считала, что совершенно права; но теперь, конечно, сознавала, что Колин не прав.
Когда она вошла в его комнату, его не было на диване. Он лежал в кровати, на спине, и даже не повернул к ней головы. Начало было недоброе, и Мери подошла к мальчику с самым чопорным видом.
– Почему ты не встал? – спросила она.
– Я встал сегодня утром, потому что думал, что ты придешь, – ответил он, не глядя на нее. – А после полудня я заставил их опять уложить меня в постель. У меня болела спина, болела голова, и я очень устал. Отчего ты не пришла?
– Я работала с Диконом в саду, – сказала Мери.
Колин нахмурился и, наконец, удостоил ее взглядом.
– Я не позволю этому мальчику приходить сюда, если ты будешь уходить к нему вместо того, чтобы прийти сюда и разговаривать со мной, – сказал он.
Мери вдруг вышла из себя. С ней это случалось без всякого шуму; она просто становилась упрямой и угрюмой, и ей было все равно, что бы ни случилось.
– Если ты прогонишь Дикона, я никогда больше не войду к тебе в комнату! – возразила она.
– Ты должна будешь прийти, если я захочу! – сказал Колин.
– Не приду! – сказала Мери.
– Я заставлю тебя прийти! Тебя притащат силой!
– Вот как, господин раджа! – свирепо крикнула Мери. – Меня могут притащить сюда, но не могут заставить говорить, когда я буду здесь. Я буду сидеть тут, стисну зубы и не скажу ни слова! Я даже не взгляну на тебя! Я буду смотреть в пол.
Оба они сердито глядели друг на друга; если бы они были уличными мальчишками, они бы бросились друг на друга с кулаками.
– Ты эгоистка! – крикнул Колин.
– А ты кто? – спросила Мери. – Эгоисты всегда говорят так. Всякий у них эгоист, кто не хочет делать то, что им нравится. Ты еще больший эгоист, чем я. Ты хуже всех мальчиков, которых я когда-либо видела!
– Неправда! – отрезал Колин. – Я не такой эгоист, как твой хороший Дикон! Он играет с тобой в саду, когда знает, что я здесь совсем один. Он эгоист, если хочешь знать!
Глаза Мери сверкнули.
– Он лучше всех других мальчиков! Он… он хороший, как ангел!
– Хорош ангел! – презрительно сказал Колин. – Он простой деревенский мальчишка!
– Он лучше, чем простой раджа! – возразила Мери. – В тысячу раз лучше!
Так как она была сильнее Колина, победа оказалась на ее стороне. Дело в том, что ему никогда в жизни не случалось спорить с кем-нибудь похожим на него, и это оказалось очень полезным для него, хотя ни он, ни Мери не подозревали этого. Он повернул голову на подушке, закрыл глаза, и крупная слеза покатилась по его щеке. Он начинал жалеть самого себя – но больше никого.
– Я не такой эгоист, как ты, потому что я всегда болен и я знаю, что у меня на спине растет горб, – сказал он. – И еще… я скоро умру!
– Вовсе нет! – недружелюбно заявила Мери.
Глаза его широко раскрылись от негодования. Ему никогда в жизни не приходилось слышать этого. Он был и взбешен, и в то же время немного польщен, если только такое возможно.
– Нет? – крикнул он. – Умру! Ты знаешь, что умру! Все это говорят!
– А я не верю! – угрюмо сказала Мери. – Это ты только говоришь, чтоб люди тебя жалели! По-моему, ты даже гордишься этим. Я не верю этому. Если бы ты был хороший мальчик, это бы, может быть, была правда, но ты слишком гадкий!
Несмотря на свою больную спину, Колин вдруг сел в постели, исполненный ярости.
– Убирайся отсюда! – крикнул он и, схватив свою подушку, бросил ее в Мери. Он был слишком слаб, чтобы бросить ее далеко, и она упала у ее ног, но лицо Мери сделалось каким-то острым.
– Я иду! – сказала она. – И больше не приду!
Она пошла к двери и, когда дошла до нее, обернулась и снова заговорила.
– Я хотела рассказать тебе кое-что хорошее, – сказала она. – Дикон принес свою лисичку и ворона, и я хотела тебе рассказать про них. А теперь я тебе ничего не скажу! – Она вышла и затворила за собою дверь.
К ее величайшему удивлению, она увидела сиделку, которая как будто подслушивала их; но что было еще удивительней – сиделка смеялась. Это была статная, красивая молодая женщина, которая вовсе не годилась в сиделки, потому что терпеть не могла больных. Она вечно находила предлоги, чтобы оставить Колина на попечении Марты или кого-нибудь другого. Мери очень не любила ее и теперь остановилась, в изумлении глядя на нее, как она хохотала, зажимая рот платком.
– Чему вы смеетесь? – спросила ее Мери.
– Смеюсь над вами обоими, – сказала сиделка. – Для такого хилого избалованного мальчишки – самое лучшее натолкнуться на кого-нибудь такого же избалованного, как он сам. – И она снова начала смеяться в платок. – Если бы у него была сестренка, с кем он мог бы спорить и драться, – это спасло бы его.
– Правда, что он скоро умрет?
– Я не знаю, и мне дела нет до этого. Половина его болезни – это истерика и злой нрав.
– А что такое истерика?
– Это ты узнаешь, когда у него будет припадок после всего этого. Во всяком случае, ему будет от чего беситься теперь, и я этому очень рада.
Мери ушла к себе в комнату совсем в другом настроении, чем когда она вернулась из сада. Она была зла и недовольна, но ей вовсе не жаль было Колина. Она так ждала того времени, когда можно будет рассказать ему столько всего, и собиралась решить вопрос о том, можно ли ему доверить великую тайну. Она было уже решила, что можно, но теперь переменила решение. Она никогда ничего ему не скажет; пусть себе лежит там в комнате и никогда не выходит на свежий воздух; пусть даже умирает, если ему угодно! Поделом ему будет! Она была так угрюма и озлоблена, что почти забыла про Дикона и про зеленый туман в саду.
Марта ждала ее, и выражение гнева на лице Мери на секунду сменилось выражением любопытства. На столе стоял деревянный ящик, крышка его была снята, и внутри виднелись свертки.
– Мистер Крэвен прислал это тебе, – сказала Марта.
Мери вспомнила, что он спрашивал у нее в тот день, когда она пришла к нему в кабинет: «Не надо ли тебе чего-нибудь – кукол, игрушек, книг?» Она развязала один сверток, думая о том, прислал ли он куклу, и о том, что она с ней будет делать. Но он не прислал куклы. Там было несколько прекрасных книг, таких, как у Колина; в двух из них говорилось о садах и было множество рисунков. Кроме того, там было несколько игр и прекрасный письменный прибор, с золотой монограммой, с золотым пером и чернильницей.
Все это было такое красивое, что удовольствие стало вытеснять гнев в ее душе. Она не предполагала, что мистер Крэвен будет помнить ее, и маленькое черствое сердце девочки смягчилось.
– Я пишу лучше, чем печатаю, – сказала она, – и первое, что я напишу этим пером, будет письмо, чтоб сказать ему, что я ему очень благодарна.
Если б она была дружна с Колином, она побежала бы показать ему подарки; они стали бы рассматривать рисунки, стали бы читать книжки, потом играли бы в новые игры, и Колину было бы так весело, что он ни разу не вспомнил бы, что скоро умрет, ни разу не пощупал бы спины, чтобы удостовериться, что у него не растет горб. У него была такая странная манера делать это, что она всегда пугалась, потому что у него самого бывал такой испуганный вид. Он сказал Мери, что, если он когда-нибудь нащупает на спине хоть маленький комок, он будет знать, что его горб начал расти. Нечаянно подслушанные перешептывания миссис Медлок с сиделкой навели его на эту мысль; он столько думал об этом, что она прочно засела в его голове. Он никогда не говорил никому, кроме Мери, что большинство его «припадков» было вызвано только тайным страхом. Мери было очень жаль Колина, когда он сказал ей это.
– Он постоянно начинает думать об этом, когда сердит или утомлен, – сказала она вслух. – А сегодня он очень сердит. Он, пожалуй… думал об этом весь день!
Она стояла неподвижно, глядя на ковер.
– Я сказала ему, что больше никогда не приду, – она видимо колебалась, и брови ее сдвинулись, – но может быть… может быть, я пойду, посмотрю, не нужна ли я ему… завтра утром. Может быть… он опять попробует бросить в меня подушкой… но я думаю… я пойду к нему.
Глава XVII
Так как Мери встала рано и усердно работала в саду, то была очень утомлена, и ей хотелось спать. Как только Марта принесла ей ужин и она поела, она с удовольствием отправилась спать. Положив голову на подушку, она пробормотала:
– Завтра я выйду до завтрака и буду работать с Диконом, а потом… я, пожалуй, пойду к нему.
Была уже полночь, как казалось Мери, когда ее разбудил какой-то странный шум, и она сразу соскочила с кровати. Что это было? В следующий момент она поняла, в чем дело. Где-то открывали и закрывали двери, в коридоре слышались торопливые шаги и кто-то плакал и кричал страшным голосом.
– Это Колин! – сказала она. – У него опять припадок, который сиделка называет истерикой. Какие страшные звуки!
Прислушиваясь к рыданиям и крикам, она уже больше не удивлялась, что люди так пугались их и готовы были уступить Колину во всем, чтобы только не слышать их. Она заткнула уши руками, ей было дурно, и она вся дрожала.
– Я не знаю, что делать, я не знаю, что делать, – повторяла она. – Я не могу этого слышать.
Она вдруг подумала о том, перестанет ли он кричать, если она посмеет войти к нему, или нет. Потом она вспомнила, как он прогнал ее из комнаты, и подумала, что ему, пожалуй, станет хуже, когда он увидит ее. Как крепко она ни зажимала уши руками, она все-таки не могла не слышать этих страшных звуков. Они вызывали в ней такой ужас, который вдруг перешел в гнев, ей вдруг захотелось самой закричать и напугать его так же, как он пугал ее. Она не привыкла ни к чьим вспышкам, кроме своих собственных. Она отняла руки от ушей, вскочила и затопала ногами.
– Пусть он перестанет! Пусть ему кто-нибудь велит перестать! Пусть его побьют! – кричала она.
В это время она услышала чьи-то бегущие по коридору шаги; дверь ее комнаты распахнулась, и вошла сиделка. Она уже не смеялась и была очень бледна.
– Он докричался до истерики, – поспешно сказала она. – Он наделает себе вреда, но никто с ним не может ничего сделать. Поди ты и попробуй, будь доброй девочкой! Он ведь любит тебя!
– Он сегодня вечером прогнал меня! – сказала Мери, возбужденно топая ногой.
Эта выходка Мери очень понравилась сиделке. Она боялась, что застанет Мери плачущей, со спрятанной под подушку головой.
– Отлично! – сказала она. – Ты как раз в подходящем настроении духа. Поди, побрани его. Это для него будет ново! Иди же, дитя, да поскорее.
Мери только через некоторое время поняла, что все это было не только страшно, но и смешно; смешно было то, что все взрослые люди так испугались и пришли за помощью к маленькой девочке, потому что считали ее такой же избалованной, как Колин.
Она понеслась по коридору, и чем ближе слышались крики, тем сильнее разгорался в ней гнев, и когда она добежала до двери, она была страшно зла. Одним ударом руки она распахнула дверь и подбежала прямо к кровати.
– Перестань! – крикнула она. – Перестань! Я ненавижу тебя! Все ненавидят тебя! Мне хотелось бы, чтоб все ушли из дому и оставили тебя; кричи хоть до смерти! Ты скоро докричишься до смерти! И пусть!
Очень добрый ребенок, конечно, не сказал бы и не подумал бы ничего подобного; и изумление Колина, когда он все это услышал, было самое лучшее для истеричного мальчика, которому никто не смел противоречить и которого никто не смел обуздать.
Он лежал лицом вниз, колотя руками по подушке, и чуть не выскочил из кровати – так быстро он обернулся при звуках гневного детского голоса. Лицо у него было страшное, бледное, с красными пятнами, все распухшее; он давился и задыхался; но Мери не обращала на это ни малейшего внимания.
– Если ты еще раз крикнешь, – сказала она, – я тоже закричу. А я умею кричать громче, чем ты, и я тебя испугаю, испугаю!
Он действительно перестал кричать от изумления. Крик замер у него в горле. По лицу его катились слезы, и он весь дрожал.
– Я не… могу… перестать! – всхлипнул он. – Не могу!
– Можешь! – крикнула Мери. – У тебя истерика… истерика… истерика… – И она топала ногой при каждом слове.
– Я уже нащупал ком… – прохрипел Колин. – Я это знал. У меня вырастет горб, и потом я умру!
– Ничего ты не нащупал! – гневно сказала Мери. – И твоя гадкая спина вовсе не болит! У тебя только истерика! Перевернись, дай мне посмотреть!
Ей нравилось слово «истерика», и она сознавала, что оно действует на него. Он, вероятно, никогда не слыхивал такого слова, так же, как и Мери.
– Няня! – крикнула она. – Подите сюда и покажите мне его спину, сию минуту!
Сиделка, миссис Медлок и Марта столпились у двери, глядя на нее с полуоткрытыми ртами. У всех трех не раз вырывался вздох испуга. Сиделка сделала шаг вперед, как будто боялась чего-то. Колин весь дрожал и задыхался от рыданий.
– Он… пожалуй… не позволит мне, – сказала она тихо и нерешительно.
Колин услышал это и прошептал, захлебываясь от рыданий:
– Покажите… ей! Пусть… увидит.
Спина у него была такая худая, что можно было пересчитать все ребра и позвонки. Мери наклонилась и стала осматривать ее с серьезным озлобленным видом. С минуту в комнате царило молчание; даже Колин затаил дыхание, в то время как Мери смотрела на его спину с таким вниманием, как будто бы она была важным доктором из Лондона.
– Ни одного комка нет! – сказала она, наконец. – Ни даже с булавочную головку! Это только кости у тебя торчат, потому что ты такой худой. Ни одного комка нет, даже с булавочную головку! А если ты опять скажешь, что есть, я буду смеяться!
Никто, кроме Колина, не знал, какое действие произвела на него эта гневная детская речь. Если бы он когда-нибудь мог кому-нибудь рассказать про свои тайные опасения, если бы он когда-нибудь осмелился задать вопрос, если бы у него были друзья-ровесники и если бы он не лежал на спине в огромном пустынном доме, живя в атмосфере, полной страха, среди невежественных, тяготившихся им людей, он понял бы, что его страх и его болезнь были плодом его воображения. Но он лежал – часы, дни, месяцы, годы, – лежал и думал о себе, о своих болях, усталости. И теперь, когда рассерженная черствая девочка упрямо настаивала на том, что он вовсе не так болен, как ему кажется, ему действительно показалось, что она говорит правду.
– Я вовсе не знала, – вставила сиделка, – что ему казалось, будто у него на спине шишка. У него спина слабая, потому что он не хочет попробовать сесть. Я тоже могла бы сказать ему, что у него на спине нет никакой шишки.
Колин всхлипнул и слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее.
– Правда? Могла бы? – спросил он жалобно.
– Да, сэр.
– Вот тебе! – сказала Мери и тоже всхлипнула.
Колин снова спрятал лицо и с минуту лежал неподвижно, глубоко и нервно дыша; по лицу его струились крупные слезы и смачивали подушку. Эти слезы значили, что он испытывал странное, великое облегчение. Через некоторое время он снова обернулся, взглянул на сиделку и – странное дело! – заговорил с нею вовсе не как раджа.
– Как вы думаете… я буду жить… и вырасту большой?
Сиделка не отличалась ни умом, ни добротой, но сумела повторить слова лондонского доктора:
– Вероятно, если будете делать, что вам прикажут, не будете давать себе воли и будете подолгу на свежем воздухе.
Припадок Колина прошел; он ослабел и устал от плача, и это, вероятно, несколько смягчило его. Он протянул руку Мери, вспышка которой тоже прошла, вследствие чего она тоже смягчилась, ее рука тоже потянулась к нему, так что между ними произошло в некотором роде примирение.
– Я… я буду… выходить с тобой, Мери, – сказал он. – Я буду любить свежий воздух… если можно будет найти…
Он вовремя остановился, чтоб не сказать: «таинственный сад», и докончил:
– Я бы хотел выйти с тобой, если Дикон придет и повезет мое кресло. Мне так хочется видеть Дикона и его лису и ворона.
Сиделка поправила смятую постель, взбила подушки, потом подала Колину и Мери по чашке бульона. Миссис Медлок и Марта ушли; сиделке тоже, очевидно, хотелось уйти после того, как все было прибрано. Она была здоровая женщина и не любила, чтобы ее лишали сна; она зевнула и поглядела на Мери, которая придвинула свой большой табурет к кровати Колина и держала его за руку.
– Теперь иди к себе и выспись, – сказала она. – Он скоро уснет, если не слишком взволнован. А я сама лягу в смежной комнате.
– Хочешь, я спою тебе ту песенку, которой я научилась у моей айэ? – шепнула Мери Колину.
Его руки слабо пожали ее пальцы, и он умоляюще взглянул на нее своими усталыми глазами.
– О, да! – ответил он. – Это такая нежная песенка; я через минуту усну.
– Я его убаюкаю, – сказала Мери зевавшей сиделке. – Можете идти, если угодно.
Через минуту сиделки уже не было в комнате, и как только она вышла, Колин опять потянул руки к Мери.
– Я чуть было не сказал, – сказал он, – но вовремя остановился. Я не буду разговаривать и скоро усну… Но ты сказала прежде, что хотела рассказать мне много хорошего… Ты уже… как ты думаешь… узнала ли ты что-нибудь… как найти дорогу в таинственный сад?
– Д-да! – ответила она. – Кажется, узнала. И если ты теперь уснешь, я тебе завтра скажу.
У него задрожали руки.
– О, Мери! – воскликнул он. – О, Мери, если бы я только мог попасть туда, я бы остался в живых и вырос большой! Знаешь что… вместо того, чтобы петь мне песню айэ… можешь ты мне рассказать… совсем тихонько, как тогда, в первый день… как там, по-твоему, в этом саду! Я уверен, что это меня усыпит.
– Да, закрой глаза, – ответила Мери.
Он закрыл глаза и лежал неподвижно. Она взяла его руку и начала говорить очень медленно и очень тихим голосом:
– По-моему… сад был так давно запущен, что там все одичало и красиво переплелось… По-моему… розы все тянулись вверх… все вверх… и теперь свешиваются вниз с ветвей и стен… и расстилаются по земле… как странный серый туман. Некоторые умерли… но многие живы, и когда настанет лето, там будут настоящие фонтаны и занавесы из роз. По-моему… там из глубины земли пробиваются подснежники, лилии и ирисы… Теперь, когда настала весна, там, может быть…
Ее тихий голос успокаивал его; она заметила это и продолжала:
– Может быть, там в траве виднеются крокусы, пурпурные и золотистые… даже теперь. Может быть… листья уже распускаются; может быть, серый цвет уже исчезает, и все обволакивается зеленой дымкой… все вокруг… И птицы прилетают поглядеть на сад… потому что там тихо и безопасно. И… может быть… может быть… – закончила она очень медленно и тихо, – малиновка нашла себе друга… и вьет гнездо.
И Колин уснул.
Глава ХVIII
На следующее утро Мери, конечно, проснулась не рано. Она спала долго, потому что была утомлена; а когда Марта принесла ей завтрак, она рассказала ей, что Колин был совершенно спокоен, но болен, как всегда после припадков плача. Мери слушала и медленно ела.
– Он говорит: «Пусть Мери, пожалуйста, придет ко мне поскорее», – сказала Марта. – Странно даже, как он к тебе привязался! И задала же ты ему вчера ночью! Никто другой не посмел бы этого сделать. Бедный мальчик! Его так избаловали, что теперь уже нельзя помочь. Моя мать говорит, что хуже всего для ребенка, если ему никогда не позволяют делать по-своему или всегда позволяют; она говорит, что не знает, что хуже. Да и ты сама тоже была зла! А как я сегодня вошла к нему в комнату, он говорит: «Пожалуйста, попроси мисс Мери прийти ко мне, пожалуйста!» Подумай-ка, он говорит: «Пожалуйста!» Ты пойдешь?
– Я сначала сбегаю к Дикону, – сказала Мери, – нет, я сначала пойду к Колину и скажу ему… О, я знаю, что я скажу ему! – добавила она, точно ее вдруг осенило.
Когда она вошла в комнату Колина, на ней была надета шляпа, и на ее лице мелькнуло недовольство. Он лежал в кровати, и лицо у него было жалкое, бледное, а под глазами темные круги.
– Я рад, что ты пришла, – сказал он. – У меня голова болит и все болит, потому что я очень устал. Ты куда-нибудь идешь?
Мери подошла и прислонилась к кровати.
– Я ненадолго! – сказала она. – Я иду к Дикону, но я вернусь. Колин, это… все… про тот таинственный сад…
Его лицо просветлело, и на нем появился румянец.
– Вот что! – воскликнул он. – Я всю ночь видел его во сне. Я слышал, как ты что-то говорила, что все там зеленеет, и я видел сон… будто я стою где-то, и всюду кругом трепещущие зеленые листочки… и всюду птички в гнездах… Я буду лежать и думать об этом до тех пор, пока ты не вернешься.
Через пять минут Мери уже была в саду с Диконом. Лисичка и ворон тоже были там, и на этот раз он еще принес с собою двух ручных белок.
– Я сегодня приехал на пони, – сказал Дикон. – Мой Прыжок – славная лошадка! А этих белок я принес в карманах; вот эту зовут Орех, а другую – Скорлупка.
Когда он сказал «Орех», одна белка вскочила к нему на правое плечо, а когда он сказал «Скорлупка», другая вскочила на левое плечо.
Когда они уселись на траве и Капитан свернулся у их ног, Сажа чинно уселась на дерево, а Орех и Скорлупка стали играть поблизости, Мери показалось, что она никогда не в состоянии будет расстаться со всей этой прелестью; но, когда она начала свой рассказ, выражение смешного лица Дикона заставило ее мало-помалу изменить свое намерение. Она ясно видела, что он жалел Колина гораздо больше, чем она. Он поглядел на небо, а потом кругом.
– Послушай-ка этих птиц! Как они свистят и пищат! – сказал он. – Погляди, как они носятся, и прислушайся… Как они перекликаются. Это весна… точно все зовут куда-то… И листья распускаются… А пахнет-то как славно! – И он потянул в себя воздух своим вздернутым носом. – А вот бедный мальчик лежит взаперти, и ничего этого не видит, и думает все такое… что начинает плакать… Нам надо привезти его сюда… пусть смотрит, и слушает, и нюхает… пусть солнце хорошенько согреет его… всего насквозь… И не надо терять времени.
Когда Дикон чем-нибудь увлекался, он часто говорил на протяжном йоркширском наречии, стараясь иногда смягчить его, чтобы Мери легче было понять. Но ей так нравилось это наречие, что она пробовала сама говорить на нем, и теперь тоже заговорила.
– Конечно, надо, – сказала она. – Знаешь, что мы сделаем прежде всего? – продолжала она, и Дикон улыбнулся, потому что ее попытки говорить по-йоркширски всегда забавляли его. – Ты ему очень понравился, и он хотел бы тебя видеть, и Капитана, и Сажу тоже. Когда я пойду домой, я спрошу его, можно ли тебе прийти к нему завтра утром и привести твоих зверей… А потом… когда листья еще больше распустятся и почки тоже… мы возьмем его сюда… и ты будешь везти его кресло… привезем его и покажем ему все…
Она остановилась, очень гордясь тем, что произнесла такую длинную речь по-йоркширски.
– А ты когда-нибудь поговори с Колином по-йоркширски, – со смехом сказал Дикон. – Он будет смеяться… а людям хорошо смеяться. Моя мать говорит, что полчаса хорошего смеха каждый день вылечат всякого, кто собирается заболеть.
– Я сегодня буду говорить с ним по-йоркширски, – сказала Мери, смеясь.
Наступило такое время, когда каждый день в саду происходила такая перемена, как будто там проходили волшебники, вызывая своими жезлами красоту из земли, из ветвей. Мери трудно было расстаться со всем этим, тем более что Орех уселся на ее платье, а Скорлупка спустилась вниз во стволу яблони, под которой они сидели, и уселась там, вопросительно глядя на Мери. Но она пошла домой, и когда она уселась у постели Колина, он тоже начал нюхать воздух, хотя не так умело, как Дикон.
– От тебя пахнет цветами и еще чем-то… свежим! – радостно воскликнул он. – Чем от тебя пахнет? Это что-то и прохладное, и теплое… и такое душистое!
– Это степной ветер… Это потому, что я сидела на траве под деревом с Диконом, и с Капитаном, и с Сажей, и с Орехом, и Скорлупкой. Это весной пахнет, и свежим воздухом, и солнцем.
Она сказала это по-йоркширски, очень протяжно, и Колин начал смеяться.
– Что ты делаешь? – сказал он. – Ты никогда так не говорила при мне… Как это смешно!
– Это я говорю с тобой по-йоркширски, – торжествующе заявила Мери, продолжая говорить, как прежде. – Я не умею говорить так хорошо, как Дикон и Марта, но немножко умею. А ты понимаешь, когда это слышишь? А ведь ты родился и вырос в Йоркшире! Как тебе не стыдно!
И Мери сама расхохоталась, а потом они вместе так смеялись, что никак не могли перестать. В комнате поднялся такой шум, что миссис Медлок, отворившая было дверь, чтоб войти, отступила назад и стала изумленно прислушиваться.
– Господи Боже! – воскликнула она. – Да это неслыханно! Никто на свете не поверил бы!
Колин, казалось, не мог наслушаться рассказов о Диконе, о Капитане и Саже, об Орехе и Скорлупке, о пони, которого звали Прыжок. Мери нарочно вышла с Диконом в лес, чтобы поглядеть на пони. Это была маленькая степная лошадка, с густой гривой, которая свешивалась ей на глаза, и мягкой, как бархат, мордой. Как только Прыжок завидел Дикона, он поднял голову и тихо заржал, потом подошел к нему и положил голову ему на плечо. Дикон стал что-то говорить ему на ухо, а он ржал и фыркал, точно отвечая ему. Дикон заставил его дать Мери одну из передних ног и «поцеловать» ее в щеку бархатистой мордой.
– Разве он в самом деле понимает все, что ему говорит Дикон? – спросил Колин.
– Кажется, что понимает, – ответила Мери. – Дикон говорит, что всякая тварь поймет тебя, если только ты н а с т о я щ и й друг ей; но надо быть н а с т о я щ и м другом.
Колин несколько секунд лежал молча, и его странные серые глаза смотрели на стену, но Мери видела, что он о чем-то думает.
– Я бы хотел подружиться с каким-нибудь созданием, – сказал он, – только я не умею. У меня никогда не было никого… А людей я не терплю.
– А меня тоже не терпишь? – спросила Мери.
– О, нет, – ответил Колин, – это очень смешно, но я тебя, кажется, люблю.
– Старый Бен говорит, что я на него похожа, – сказала Мери. – Он говорит, что у нас обоих, вероятно, скверный характер. Я думаю, что ты тоже похож на него… Мы все трое одинаковы: ты, я и Бен. Он говорит, что у нас обоих вид такой же кислый, как и нрав. Но я теперь уже не такая кислая, как прежде, когда я еще не знала ни малиновки, ни Дикона.
– А тебе казалось, что ты не любишь людей?
– Да, – ответила Мери без всякого притворства. – Я бы тебя терпеть не могла, если бы узнала раньше, чем малиновку и Дикона.
Колин протянул руку и дотронулся до Мери.
– Мери, – сказал он, – мне жаль, что я сказал, что прогоню Дикона. Я на тебя разозлился, когда ты сказала, что он… ангел, и я смеялся над тобой, но… может быть, это правда.
– Это, конечно, смешно, что я так сказала, – откровенно созналась она, – потому что у него нос вздернутый и рот большой, а на одежде везде заплаты… и говорит он так протяжно… Но если бы ангел пришел в Йоркшир и жил бы в степи… он бы понимал… всякие травы, знал бы, как заставить их расти… и умел бы говорить со всеми лесными тварями, как Дикон, и они знали бы, что он им н а с т о я щ и й друг.
– Я бы позволил Дикону поглядеть на меня, – сказал Колин, – мне очень хочется его видеть.
– Я рада, что ты это сказал, – ответила Мери, – потому что…
В ее голове вдруг мелькнула мысль, что именно теперь настало время сказать ему. Колин понял, что услышит нечто новое.
– Потому что… что?! – воскликнул он оживленно. Мери так увлеклась, что поднялась с табурета, подошла к нему и схватила его за обе руки.
– Можно тебе доверить? Я доверила это Дикону, потому что ему и птицы доверяют. А тебе… можно доверить, можно? – умоляла она.
Лицо ее было так серьезно, что он ответил почти шепотом:
– Да, да!
– Так вот… завтра утром к тебе придет Дикон… и приведет своих тварей…
– О! о! – с восторгом крикнул Колин.
– Но это не все, – продолжала Мери, побледнев от волнения, – остальное еще лучше. В т а и н с т в е н н о м с а д у е с т ь к а л и т к а. Я е е н а ш л а. Она скрыта под плющом в стене.
Если бы Колин был сильным, здоровым мальчиком, он, вероятно, крикнул бы: ура! ура! Но он был слаб и возбужден; глаза его раскрывались все шире и шире, и он точно задыхался.
– О, Мери! – крикнул он. – Я его увижу? Я пойду туда? Я доживу до этого? – И он крепко стиснул ее руки и притянул ее к себе.
– Конечно, ты его увидишь! – с негодованием выпалила она. – Конечно, ты доживешь! Не говори глупостей!
Она была так спокойна, так естественна – как настоящий ребенок, – что скоро образумила его, и он начал смеяться над самим собою. Через несколько минут она уже снова сидела на табурете и рассказывала ему – не о том, каким сад рисовался в ее воображении, а о том, каков он на самом деле, – и Колин забыл о своих болях и усталости и слушал, как зачарованный.
– Он такой, каким, по-твоему, должен быть сад, – сказал он, наконец. – Ты рассказываешь так, как будто ты и в самом деле видела его. Я тебе говорил это и в первый раз, когда ты мне про него рассказывала.
Мери с минуту колебалась и потом смело сказала правду:
– Я его видела! Я нашла ключ несколько недель тому назад и пошла туда. Но я не смела сказать тебе… не смела, потому что я боялась, что тебе нельзя доверять… п о – н а с т о я щ е м у!
Глава XIX
Утром, после припадка Колина, послали за доктором Крэвеном. За ним обыкновенно всегда посылали в таких случаях, и он всегда заставал его бледным, расстроенным, очень угрюмым и готовым снова разрыдаться при первом слове. Доктор Крэвен боялся и не любил этих визитов. На этот раз он явился в Миссельтуэйт только после обеда.
– Ну, как он? – с раздражением спросил он миссис Медлок. – Когда-нибудь у него лопнет кровеносный сосуд во время такого припадка. Мальчик просто полусумасшедший оттого, что истеричен и страшно избалован.
– Вы своим глазам не поверите, сэр, когда увидите его, – ответила миссис Медлок. – Эта некрасивая кислая девочка, которая, пожалуй, так же избалована, как он, просто околдовала его! Как она это сделала – невозможно понять! Бог свидетель – просто посмотреть не на что, и говорит она очень мало, но она сделала то, чего никто из вас не осмелился сделать. Она накинулась на него, как рассерженный котенок, затопала ногами и п р и к а з а л а ему перестать вопить; он был так поражен, что и на самом деле перестал. А сегодня… вы только подите взгляните! Просто невероятно!
Картина, которую увидел доктор Крэвен, когда вошел в комнату пациента, действительно поразила его. Когда миссис Медлок отворила дверь, он услышал болтовню и смех. Колин в халате сидел на диване совершенно прямо, разглядывая рисунки в книге, и говорил с некрасивой девочкой, которую в этот момент едва ли можно было назвать некрасивой, потому что лицо ее сияло оживлением.
– Видишь, вот эти голубые, как стрелы! У нас их будет много! – заявил Колин. – Они называются…
– Дикон говорит, это живокость, только цветы крупнее! – воскликнула Мери. – Там их целые клумбы!
Они увидели доктора Крэвена и умолкли. Мери сразу присмирела, а лицо Колина стало капризным.
– Очень жаль, что ты вчера опять был болен, мой мальчик, – несколько взволнованно заявил доктор Крэвен.
– Мне теперь лучше, гораздо лучше, – ответил Колин тоном раджи. – А через день, два, если будет ясно, меня вывезут в кресле. Мне нужен свежий воздух.
Доктор сел возле него, пощупал его пульс и с любопытством посмотрел на него.
– День должен быть о ч е н ь ясный, – сказал он, – и ты должен быть очень осторожен, чтоб не устать.
– От свежего воздуха я не устану, – сказал маленький раджа.
Бывали времена, когда этот маленький джентльмен громко вопил от ярости и настаивал на том, что на свежем воздухе он простудится и умрет; поэтому-то не было ничего удивительного в том, что доктор был несколько озадачен.
– Я думал, что ты не любишь свежего воздуха, – сказал он.
– Не люблю, когда я один, – ответил раджа, – но теперь со мною будет моя двоюродная сестра.
– И сиделка, конечно? – подсказал доктор.
– Нет, сиделки не надо, – сказал он так высокомерно, что Мери невольно вспомнила о маленьком радже, с его брильянтами, изумрудами и жемчугами, которые «везде торчали на нем», о его маленькой смуглой руке, украшенной рубинами, которою он давал знак своим слугам приблизиться и выслушать его приказания.
– Моя двоюродная сестра умеет ухаживать за мной; мне всегда лучше, когда она со мной. Вчера ночью она меня успокоила. А кресло мое повезет сильный мальчик… которого я знаю.
Доктор Крэвен встревожился. Если этот надоедливый истеричный мальчик выздоровеет, то он, доктор, потеряет всякую возможность унаследовать Миссельтуэйт… Но он все-таки не был бесчестным человеком и не хотел позволить мальчику подвергнуться какой-нибудь опасности.
– Этот мальчик должен быть сильный и надежный, – сказал он. – Я должен знать его. Кто он? Как его зовут?
– Это Дикон! – вдруг сказала Мери. Ей казалось, что все в степи должны знать Дикона. И она не ошиблась, она увидела, как на озабоченном лице доктора Крэвена появилась улыбка облегчения.
– О, Дикон! – сказал он. – Если это Дикон, тогда вполне безопасно. Он силен, как степной пони.
– И он самый надежный мальчик во всем Йоркшире, – сказала Мери.
– А ты принял вчера брому, Колин? – спросил доктор.
– Нет, – ответил он. – Сначала я не хотел принимать его, а потом, когда Мери меня успокоила, она убаюкала меня… она говорила так тихо… про весну, которая идет… в сад…
– Гм… это очень успокаивает, – сказал доктор, совершенно сбитый с толку, взглянув мельком на Мери, которая сидела на табурете и молча глядела на ковер. – Тебе, очевидно, гораздо лучше, но ты должен помнить…
– Я не хочу помнить, – прервал Колин опять тоном раджи. – Когда я лежу один и вспоминаю, у меня все начинает болеть, и я думаю о таких вещах, что мне хочется кричать… потому что я боюсь… Если бы где-нибудь был такой доктор, который может заставить забыть о болезни, а не помнить, я бы велел привезти его сюда… Мери заставляет меня забыть, и поэтому мне лучше, когда она тут.
Доктору Крэвену никогда не доводилось делать такого короткого визита после припадков Колина; ему обыкновенно приходилось оставаться долго и делать очень многое. На этот же раз он не прописал никакого лекарства и не дал никаких указаний. Когда он сошел вниз, у него был очень задумчивый вид, и миссис Медлок, с которой он остановился поговорить в библиотеке, сразу поняла, что он был очень озадачен.
– Ну, что, поверили ли бы вы этому, сэр? – спросила она.
– Положение вещей теперь совсем иное, – сказал доктор, – и нельзя отрицать, что оно лучше прежнего.
…В эту ночь Колин спал, ни разу не проснувшись, и когда он открыл глаза утром, то остался лежать неподвижно и улыбался, сам не подозревая этого, улыбался, потому что ему было как-то удивительно хорошо. Он повернулся на бок и с наслаждением потянулся. Доктор Крэвен, вероятно, сказал бы, что его нервы отдохнули и успокоились. Вместо того чтобы лежать и глядеть на стены и сожалеть о том, что он проснулся, он думал о планах, которые они с Мери строили вчера, о саде, о Диконе и его зверях. Минут через десять он услышал, как кто-то бежит по коридору; через секунду Мери уже была в комнате и подбежала прямо к его постели, внеся с собою запах свежего, душистого утреннего воздуха.
– Ты уже выходила! Как хорошо от тебя пахнет листьями! – воскликнул он.
Она бежала, и волосы ее распустились, и вся она точно сияла.
– О, как хорошо! – сказала она, слегка запыхавшись. – Ты никогда ничего подобного не видел! О н а п р и ш л а! Я думала, что она уже давно пришла, но она пришла только сегодня! Весна пришла! Так говорит Дикон!
– Пришла? Правда? – крикнул Колин, и хотя он ровно ничего не знал о весне, у него забилось сердце. Он сел в кровати. – Открой окно! Может быть, мы услышим трубный глас! – добавил он, смеясь не то от волнения, не то своей выдумке.
Мери тут же очутилась около окна, широко открыла его, и в комнату ворвался свежий, душистый воздух и пение птиц.
– Это свежий воздух! – сказала она. – Ложись на спину и вдыхай глубоко! Дикон всегда так делает, когда лежит в степи. Он говорит, что поэтому он такой сильный, как будто будет жить всегда… во веки веков. Дыши же! – Она повторяла слова Дикона, и они почему-то особенно понравились Колину.
– «Во веки веков»! Неужели? – сказал он и стал глубоко вдыхать в себя воздух, и ему показалось, что с ним происходит нечто новое и чудесное.
Мери опять подошла к его постели.
– Всякие растения так и спешат выглянуть из-под земли, – продолжала она, – везде распускаются цветы, везде почки, и зеленое покрывало уже почти закрыло все серое. А птицы так спешат вить гнезда, потому что боятся, что уже поздно, они даже дерутся за место в саду… А розовые кусты уже совсем ожили, и в лесу уже есть подснежники… Семена, которые мы посеяли, уже взошли, и Дикон принес с собою свою лису, и ворона, и белок, и маленького ягненка… – Она остановилась перевести дух.
Три дня тому назад Дикон нашел в степи крохотного ягненка, лежавшего подле своей мертвой матери между кустами терновника. Ему не раз случалось находить таких «сирот», и он знал, что надо делать. Завернув его в свою куртку, он принес его в коттедж, положил подле печи и напоил теплым молоком… Теперь же он всю дорогу нес его на руках; в кармане у него вместе с белкой была бутылка молока, из которой он поил ягненка; а когда Мери уселась под деревом и теплый, мягкий ягненок свернулся у нее на коленях, она не могла говорить от радости. Ягненок! Живой ягненок, который лежит на коленях, точно дитя!
Она с увлечением описывала все это Колину, а он лежал и слушал, глубоко дыша, когда вошла сиделка. При виде открытого окна она слегка вздрогнула. Не один жаркий день просидела она, задыхаясь, в этой комнате, только потому, что ее пациент был уверен, что люди простуживаются, если окна открыты.
– Вам не холодно, мистер Колин? – спросила она.
– Нет, – ответил он. – Видишь, как я глубоко вдыхаю свежий воздух. От него становишься сильным. Я буду завтракать на диване, и Мери будет завтракать со мной.
Сиделка ушла, едва скрывая улыбку, чтобы распорядиться относительно завтрака.
Когда Колин уже сидел на диване и на столе стоял завтрак для двоих, он заявил сиделке самым высокомерным тоном, как раджа:
– Сегодня утром ко мне в гости придет мальчик с лисицей, вороном, ягненком и двумя белками. Пусть их приведут наверх, как только они придут. Пусть никто не играет с животными внизу и не задерживает их там. Я хочу, чтобы они были здесь.
Сиделка тихо ахнула и закашлялась, чтобы скрыть это.
– Слушаю, сэр, – ответила она.
– Ты можешь сделать вот что, – добавил он. – Скажи Марте, чтобы она привела их сюда. Этот мальчик – брат Марты; его зовут Дикон, и он чародей: он привораживает животных.
– Надеюсь, что звери не будут кусаться, – сказала сиделка.
– Я тебе сказал, что он чародей, – строго проговорил Колин, – а звери чародеев не кусаются.
– В Индии есть заклинатели змей, – сказала Мери, – и они всовывают головы змей себе в рот!
Когда они позавтракали, Колин спросил Мери:
– Как ты думаешь, когда придет Дикон?
Он не заставил себя ждать. Минут через десять Мери подняла руку.
– Слушай! – сказала она. – Слышишь карканье? – Колин прислушался и услышал хриплое «карр-карр».
– Да, – ответил он.
– Это Сажа, – сказала Мери. – Слушай еще! Слышишь теперь блеяние… тихое такое?
– Да, да! – крикнул Колин, весь зардевшись.
– Это ягненок! – сказала Мери. – Дикон идет! – На Диконе были тяжелые, неуклюжие сапоги, и хотя он старался ступать тихо, они стучали, точно чурбаны, когда он шел по длинным коридорам. Колин и Мери слышали, как он шагал, до тех пор, пока он не миновал завешенную ковром дверь и не вошел в устланный мягким ковром коридор, ведший в комнату Колина.
– С вашего позволения, сэр, – доложила Марта, отворив дверь, – сюда пришел Дикон и его твари.
Дикон вошел, улыбаясь своей широкой, милой улыбкой. На руках у него был ягненок; вслед за ним шагала рыжая лисичка; Орех сидел у него на правом плече, Сажа – на левом, а из кармана куртки выглядывали голова и лапки Скорлупки.
Колин медленно приподнялся, сел и стал пристально глядеть на них, так же пристально, как глядел на Мери, когда впервые увидел ее, но взгляд его выражал восторг и удивление. Дело было в том, что, несмотря на все рассказы, которые он слышал, он все-таки не мог себе представить, что за мальчик Дикон; не мог представить, что его лиса, ворон, ягненок и белки держатся так близко к нему, что почти кажутся частью его самого. Колин никогда в жизни не говорил с другим мальчиком и был так поглощен любопытством и радостью, что ему и в голову не приходило сказать что-нибудь.
Дикон же не испытывал ни малейшей робости или неловкости. Он не испытывал никакого смущения, если, например, ворона, не зная его языка, не говорила с ним, а только смотрела, когда они впервые встретились: все живые создания делали то же самое, пока не узнавали друг друга. Он подошел к дивану и спокойно положил ягненка на колени Колина; маленькое животное сейчас же прижалось к теплому бархатному халату, тыча мордочку в его складки и нетерпеливо толкаясь курчавой головкой о бок Колина. Конечно, никто не мог бы удержаться, чтобы не заговорить!
– Что он делает?! – воскликнул Колин. – Чего ему надо?
– Ему надо свою мать, – сказал Дикон, улыбаясь еще шире. – Я принес его тебе голодным, потому что знал, что ты захочешь посмотреть, как его кормят.
Он стал на колени подле дивана и вынул из кармана бутылку молока.
– Иди-ка, малыш, – сказал он, осторожно поворачивая своей загорелой рукой маленькую белую головку, – ведь тебе этого хочется! – И он сунул резиновый наконечник бутылки ему в рот; ягненок стал жадно сосать.
После этого, конечно, нашлось о чем поговорить. Когда ягненок заснул, на Дикона так и посыпались вопросы, и он на все ответил. Потом он рассказал им, как нашел ягненка три дня тому назад на рассвете, когда стоял в степи, слушая пение жаворонка.
Пока он говорил, Сажа степенно вылетела и влетела в открытое окно. Орех и Скорлупка карабкались на деревья, стоявшие под окном, бегали вниз и вверх по их стволам, а Капитан свернулся клубком возле Дикона, сидевшего на ковре.
Потом они рассматривали рисунки в книгах по садоводству. Дикон знал «деревенские» названия всех цветов и знал, какие именно из них росли в таинственном саду.
– Я не могу выговорить вот этого имени, – сказал он, указывая на рисунок, под которым было написано «Aquilegia», – но у нас эти цветы называются голубки, а вот эти – жабрей, и растут они возле изгородей; только те, что в саду, – крупнее и красивее. В саду есть большие клумбы голубков; когда они распускаются, они похожи на стаи белых и голубых мотыльков.
– Я все это увижу! – крикнул Колин. – Я все это увижу!
– Конечно! Ты должен это видеть! – сказала Мери. – И не надо терять времени!
Глава XX
Детям, однако, пришлось ждать целую неделю: сначала дули сильные ветры, а потом Колин был слегка простужен. И то, и другое, вероятно, привело бы его в бешенство, если бы каждый день не приходилось строить осторожных и таинственных планов и если бы каждый день не являлся Дикон с рассказами о том, что происходит в степи, у тропинок и изгородей, на берегах ручьев.
Рассказы о жилищах выдр, барсуков, водяных крыс, не говоря уже о птичьих гнездах и норах полевых мышей, вызывали в слушателях дрожь любопытства, тем более что все подробности передавал сам «чародей».
– Они все равно что мы, – говорил Дикон, – только им приходится строить себе жилища каждый год!
Но самым всепоглощающе интересным в жизни детей были приготовления, которые приходилось сделать, прежде чем можно было с надлежащей таинственностью повезти Колина в сад. Никто не должен был видеть ни его кресла, ни Мери, ни Дикона после того, как они дойдут до известного поворота и пойдут по дорожке возле заросшей плющом стены. С каждым днем в Колине все более и более укреплялась мысль, что таинственность, окружавшая сад, была его главной прелестью. Ничто не должно было нарушать ее, никто не должен был даже подозревать, что они хранили тайну. Пусть все думают, что Мери и Дикон просто вывозят Колина, потому что он их любит и позволяет им смотреть на себя.
Дети вели длинные приятные разговоры о своем маршруте. Они решили, что сначала пойдут по известной дорожке, потом свернут на другую, перейдут через третью и обойдут все клумбы у фонтана, как будто для того, чтобы взглянуть на растения, которые там сажал старший садовник, мистер Роч. Это будет так просто, что никому не покажется таинственным. Потом они постараются исчезнуть из виду, пока не достигнут дорожки подле длинной стены. Все это было так серьезно и обстоятельно обдуманно, как план действий, созданный великими полководцами во время войны.
Слухи об удивительных вещах, которые происходили в комнате больного, дошли, конечно, до конюхов и садовников; но, несмотря на это, мистер Роч был очень изумлен, когда вдруг получил приказание от Колина, чтобы явиться к нему в комнату, в которой ни один посторонний человек никогда не бывал, так как Колин желал его видеть.
– Что такое делается? – сказал мистер Роч, торопливо переодеваясь. – Его королевское высочество, на которого никто не смел взглянуть, посылает за человеком, которого никогда в жизни не видывал?
Мистер Роч был человек довольно любопытный. Он никогда даже мельком не видел мальчика, но слышал десятки различных преувеличенных рассказов о его безобразной наружности и бешеном нраве. Чаще всего он слышал, что мальчик может умереть каждую минуту, и люди, никогда не видевшие его, красноречиво описывали его горбатую спину и парализованные ноги.
– В доме большие перемены, мистер Роч, – сказала миссис Медлок, провожая его по черной лестнице до коридора, в который выходила таинственная комната.
– Будем надеяться, что перемены к лучшему, миссис Медлок, – ответил он.
– Перемены к худшему уже не могло быть, – продолжала она. – И как все это ни странно, многим стало гораздо легче исполнять свой долг. Вы не удивляйтесь, мистер Роч, если вдруг очутитесь в настоящем зверинце и увидите Дикона, который чувствует себя там как дома больше, чем вы или я.
Дикон как будто действительно обладал какими-то чарами, как втайне была убеждена Мери, потому что, когда мистер Роч услышал его имя, он снисходительно улыбнулся.
– Он будет себя чувствовать как дома в королевском дворце и на дне каменноугольной шахты, – сказал он. – И это вовсе не дерзость! Он славный мальчуган!
Хорошо все-таки, что мистер Роч был подготовлен, не то он был бы поражен. Когда дверь спальни отворилась, большой ворон, который совершенно непринужденно сидел на спинке резного стула, возвестил о приходе гостя громким «кра-кра». Несмотря на предостережения миссис Медлок, мистер Роч чуть не отскочил назад.
Молодого раджи не было ни на кровати, ни на диване. Он сидел в кресле, а подле него стоял маленький ягненок, помахивая хвостом, и сосал молоко из бутылки, которую держал стоявший на коленях Дикон. На согнутой спине Дикона сидела белка, усердно грызя орех. Девочка из Индии сидела на большом табурете и глядела на все это.
– Вот мистер Роч, мистер Колин, – сказала миссис Медлок.
Молодой раджа обернулся и поглядел на своего слугу – так, по крайней мере, показалось старшему садовнику.
– О, это вы, Роч? – сказал он. – Я послал за вами, чтобы дать вам очень важные приказания.
– Очень хорошо, сэр, – ответил Роч, думая о том, получит ли он приказание срубить все дубы в парке или превратить огороды в озера.
– Сегодня после обеда меня вывезут в кресле, – сказал Колин. – Если свежий воздух мне не повредит, меня будут вывозить каждый день. Когда меня вывезут, ни один садовник не должен быть близ длинной тропинки возле стен сада. Чтобы там никого не было! Меня вывезут часа в два, и пусть мне никто не попадается на глаза до тех пор, пока я не дам знать, что они могут опять приняться за свою работу.
– Очень хорошо, сэр! – ответил мистер Роч.
– Мери, – сказал Колин, обернувшись к ней, – что говорят в Индии, когда разговор кончен и ты хочешь, чтобы люди ушли?
– Тогда говорят: «Я позволяю вам уйти», – ответила она.
Раджа махнул рукой.
– Я позволяю вам уйти, Роч, – сказал он. – Но помните, что это очень важно!
– Кра-кра! – хрипло сказала ворона.
– Очень хорошо, сэр! Благодарю вас! – И миссис Медлок увела его из комнаты.
Очутившись в коридоре, добродушный мистер Роч улыбнулся.
– Честное слово, – сказал он, – замашки у него, как у настоящего лорда! Можно подумать, что он один – вся королевская семья!
– Мы должны были позволять ему чуть ли не ногами топтать всех нас с тех самых пор, как у него появились ноги, – заявила миссис Медлок, – и он думает, что люди только для этого и рождены!
…Колин сидел у себя в комнате, откинувшись на подушки.
– Теперь мы в безопасности, – сказал он, – и сегодня я все это увижу, сегодня я там буду!
Дикон отправился обратно в сад со своими зверями, а Мери осталась с Колином. Он не то что устал, но как-то притих, и когда им принесли обед и они стали есть, он тоже был необыкновенно спокоен. Мери удивилась и спросила его, почему это так.
– Какие у тебя большие глаза, Колин, – сказала она. – Когда ты о чем-нибудь думаешь, они у тебя делаются большие, как блюдечки. О чем ты теперь думаешь?
– Я все думаю о том, как это все…
– Сад? – спросила Мери.
– Весна, – ответил он. – Какая она? Я все думал о том, что я никогда еще не видал ее как следует. Я почти никогда не выходил, а если и выходил, то никогда не смотрел на весну… даже не думал о ней!
– Я никогда не видала ее в Индии, потому что там ее не бывало, – сказала Мери.
Несмотря на то что он жил жизнью затворника, у Колина было гораздо больше развито воображение, чем у нее; по крайней мере, он проводил много времени, рассматривая чудесные книги и картинки.
– Тогда утром, когда ты вбежала и крикнула: «Она пришла! Она пришла!», мне стало как-то странно. Мне казалось, что это идет длинная процессия… с громкой музыкой. У меня в одной книжке есть такая картинка – толпа народу, все такие красивые… дети с гирляндами и ветвями цветов… и все смеются, пляшут и теснятся и играют на дудках… Оттого-то я сказал: «Может быть, мы услышим трубные звуки» – и велел тебе открыть окно.
– Это очень странно, – сказала Мери, – но все кажется, как будто это на самом деле так. И если бы все цветы, и листья, и зелень, и птицы, и звери – все пронеслись бы мимо, какая толпа была бы! И они все плясали бы и пели бы – и это была бы музыка!
Оба они засмеялись не потому, что это было смешно, а потому, что это им очень понравилось.
Через некоторое время пришла сиделка одеть Колина. Она заметила, что вместо того, чтобы лежать, как бревно, когда его одевали, он сел, стараясь сам одеться, и все время смеялся и разговаривал с Мери.
– Сегодня у него хороший день, сэр, – сказала она доктору Крэвену, который приехал взглянуть на Колина. – Он в таком хорошем настроении духа, что становится крепче.
– Я опять зайду под вечер, после того как он вернется, – сказал доктор. – Я должен знать, как эта прогулка подействовала на него. Мне хотелось бы, – сказал он тихо, – чтобы он позволил вам пойти с ним.
– Я скорее откажусь от места, чем буду здесь, когда вы ему это скажете, – с внезапной решимостью заявила сиделка.
– Я вовсе не решил советовать ему этого, – сказал доктор. – Попробуем сделать опыт. Дикону я бы доверил даже новорожденного ребенка.
Самый сильный лакей снес Колина вниз и посадил его в кресло на колесах, возле которого ждал Дикон. После того как лакей и сиделка обложили его подушками и пледами, маленький раджа махнул им рукою.
– Я позволяю вам уйти, – сказал он, и оба они быстро исчезли; надо сознаться, что оба расхохотались, как только очутились в доме.
Дикон начал медленно и уверенно двигать кресло; Мери шла подле него, а Колин откинулся назад и поднял голову к небу. Свод неба казался очень высоким, и маленькие белые облачка казались белыми птицами, которые носились на распростертых крыльях в его хрустальной синеве. Со степи доносился нежный ветерок, насыщенный странным сладким благоуханием. Грудь Колина подымалась, вдыхая его, и его большие глаза как будто к чему-то прислушивались – глаза, а не уши.
– Сколько тут разных звуков… что-то поет, и жужжит, и зовет, – сказал он. – А чем это так пахнет, когда дует ветер?
– Это дрок распускается в степи, – ответил Дикон.
– А пчел-то сколько сегодня, удивительно!
На дорожках, по которым они шли, не было видно ни одного человека. Все садовники и их помощники были отосланы. Но дети все-таки кружили взад и вперед между кустами, вокруг клумб у фонтана, следуя по заранее составленному маршруту, просто ради таинственности и удовольствия. Когда они, наконец, свернули на длинную тропинку подле поросшей плющом стены, то были так возбуждены наступающим моментом, что сами, не зная почему, стали вдруг говорить шепотом.
– Это вот здесь, – шепнула Мери. – Здесь я, бывало, хожу взад и вперед и все думаю, думаю!
– Да?! – воскликнул Колин, и глаза его пытливо устремились на плющ, точно ища чего-то. – Но я ничего не вижу, – шепнул он. – Здесь нет калитки!
– Я тоже так думала, – сказала Мери.
Воцарилось напряженное молчание, и кресло снова двинулось вперед.
– А вот это сад, где работает Бен, – сказала Мери.
– Да? – сказал Колин.
Они прошли еще несколько ярдов, и Мери снова шепнула:
– А вот здесь малиновка перелетела через стену.
– Да?! – воскликнул Колин. – О, как мне хотелось бы, чтоб она опять прилетела!
– А вот тут, – торжественно сказала Мери, указывая на большой куст сирени, – тут она уселась на кучку земли и указала мне на ключ!
Колин сел.
– Где? Где? Там? – крикнул он, и глаза его сделались такими большими, как у волка в сказке о Красной Шапочке. Дикон стал, и кресло остановилось.
– А вот здесь, – сказала Мери, подойдя поближе к поросшей плющом стене, – здесь я подошла поговорить с ней, когда она защебетала с верхушки стены. А вот тут плющ отнесло ветром в сторону, – и она схватила рукою зеленый занавес.
– О, да, да? – задыхаясь, шепнул Колин.
– А вот ручка… и в о т к а л и т к а! Дикон, втолкни его, втолкни его скорее.
Дикон сделал это одним сильным, уверенным толчком.
Колин снова опустился на подушки, и, хотя он задыхался от радости, закрыл глаза руками и не отнимал их до тех пор, пока они не очутились внутри; кресло остановилось точно по волшебству, и калитка затворилась. Тогда только он отнял руки и стал оглядываться вокруг, как когда-то Дикон и Мери. На стенах, на земле, на деревьях, на колебавшихся ветках и побегах точно было накинуто ярко-зеленое покрывало из нежных, крохотных листочков; на траве под деревьями, в серых каменных вазах в альковах – повсюду кругом виднелись золотистые, белые и пурпурные штрихи и пятна; над головой его высились деревья, белоснежные и розовые, слышался трепет крыльев, нежное щебетанье и жужжанье, и разливался сладкий аромат. Теплые лучи солнца ласкали его лицо, как прикосновенье нежной руки. Мери и Дикон стояли и с изумлением глядели на него – так он вдруг переменился, потому что нежная розовая краска разливалась по его бледному, точно выточенному из слоновой кости лицу, по его шее и рукам.
– Я выздоровею! Я выздоровею! – крикнул он. – Мери! Дикон! Я выздоровею! И я буду жить всегда… во веки веков.
Глава XXI
В жизни очень редко приходится испытывать уверенность, что будешь жить всегда, «во веки веков». Иногда это испытываешь, когда встаешь в торжественный час рассвета, выходишь и стоишь совершенно один, закинув голову, и смотришь вверх и видишь, как бледное небо медленно меняет цвет и рдеет, как происходит какое-то неведомое чудо. У вас почти готов вырваться крик, и сердце почти перестает биться при виде удивительного, неизменного величавого зрелища – восхода солнца, которое повторяется каждое утро целые тысячелетия. Тогда на миг испытываешь такое чувство.
Иногда его испытываешь, когда стоишь один в лесу во время заката, и таинственная тишина, и косые золотистые лучи, пробивающиеся сквозь листву и из-под ветвей, как бы медленно шепчут что-то, чего никак нельзя расслышать, сколько ни старайся. Иногда эту уверенность вызывает в вас необъятный спокойный темно-синий простор ночи, с ее миллионами звезд; иногда звук отдаленной музыки; иногда взгляд чьих-нибудь глаз.
То же самое чувство испытывал и Колин, когда он впервые увидел, услышал и почувствовал весну в высоких стенах скрытого сада. В этот день всё вокруг точно старалось быть совершеннее, красивее и добрее – ради одного мальчика; весна как будто нарочно собрала вместе все свои дары в этом саду.
…Они поставили кресло под сливовым деревом, покрытым белоснежными цветами, среди которых гудели пчелы; это был точно балдахин короля в волшебной сказке. Поблизости стояли цветущие вишневые деревья и яблони, покрытые белыми и розовыми почками, между которыми некоторые уже распустились. Меж цветущих ветвей проглядывали клочки голубого неба, точно чьи-то удивительные глаза.
Мери и Дикон понемногу работали, а Колин следил за ними. Они приносили ему разные предметы, чтоб он посмотрел: распустившиеся почки, почки, которые еще не открылись, маленькие веточки, на которых показывались зеленые листочки, перья дятла, которые упали на траву, скорлупки яиц, из которых уже вылупились птички. Он, как сказочный король, точно объезжал свою страну, и ему показывали все ее таинственные богатства.
– А малиновку мы увидим? – спросил Колин.
– Подожди немного, через несколько дней будешь часто ее видеть, – ответил Дикон. – Когда птенцы вылупятся, у нее будет столько хлопот, что голова кругом пойдет. Ты увидишь, как она летает взад и вперед, таща червяков чуть ли не с себя самое величиною, а в гнезде такой шум и писк, когда она прилетает, что она не знает, кому в рот сунуть первый кусочек; все пищат, у всех клювы раскрыты. Моя мать говорит, что, когда она видит, как трудятся птички, чтобы насытить голодные рты, ей кажется, что она барыня, которой нечего делать… Она говорит, что иногда видит птиц, и ей кажется, что с них, должно быть, катится пот, только люди этого не замечают.
Это заставило детей так расхохотаться, что они должны были закрыть рты руками, вспомнив, что их никто не должен слышать. Колина еще за несколько дней раньше уведомили, что надо говорить очень тихо, даже шепотом; ему очень нравилась вся эта таинственность, и он старался все это исполнить, но среди такого возбуждения и веселья было очень трудно не смеяться громко.
…Каждый момент был полон новых впечатлений, и лучи солнца с каждым часом, казалось, становились ярче и золотистей. Кресло снова поставили под балдахин; Дикон только что уселся на траву и вынул было свою дудку, как вдруг Колин заметил что-то, чего раньше не успел заметить.
– Вон то дерево – очень старое, не правда ли? – спросил он.
Дикон посмотрел на дерево. Мери тоже посмотрела, и на секунду все притихли.
– Да, – ответил Дикон после паузы, и его тихий голос звучал как-то особенно ласково.
Мери глядела на дерево и о чем-то думала.
– Похоже, как будто от него отломилась большая ветвь, – сказал Колин. – Как это случилось?
– Это случилось давно, много лет назад, – ответил Дикон. – О! – воскликнул он с видимым облегчением, положив руку на плечо Колина. – Погляди-ка на малиновку! Вот она! Она собирала корм для своей подруги!
Колин едва успел заметить красногрудую птичку, которая быстро пронеслась, таща что-то в клюве. Она мелькнула среди зелени и скрылась из виду в густо заросшем уголке сада. Колин опять откинулся на подушку, слегка посмеиваясь.
– Она, должно быть, несет своей подруге чаю. Вероятно, уже пять часов. Мне самому тоже захотелось чаю!..
…На этот раз опасность миновала.
– Это волшебная сила послала малиновку, – украдкой сказала Мери Дикону через некоторое время. – Я знаю, что это было волшебство! – Она и Дикон очень боялись, чтобы Колин не начал расспрашивать о дереве, ветвь которого отломилась десять лет тому назад. Оба они рассуждали об этом, и Дикон стоял с беспокойным видом, почесывая голову.
– Надо сделать вид, как будто это дерево такое же, как и все другие, – сказал он. – Мы никогда не скажем ему, как оно сломалось… Бедный мальчик! Если он опять заговорит об этом, то мы постараемся… быть повеселее.
– Да, постараемся, – ответила Мери. Но она знала, что вид у нее был вовсе не веселый, когда она смотрела на дерево.
Дикон все еще с недоумевающим видом почесывал свою рыжую голову, но в его голубых глазах появилось более довольное выражение.
– Миссис Крэвен была очень хорошая, добрая дама, – продолжал он, колеблясь, – и моя мать думает, что она, быть может, иногда здесь, в Миссельтуэйте, и присматривает за Колином, так же, как все матери делают, когда уходят из этого мира. Видишь ли… они должны вернуться… Она, быть может, заставила нас работать и велела нам привезти Колина туда…
Мери подумала, что он, вероятно, говорил о волшебной силе. Она сама глубоко верила в нее. Она втайне верила, что Дикон обладает волшебной силой, конечно, доброй, и поэтому люди любили его, а дикие животные знали, что он их друг. Она думала, что, возможно, эта сила привела малиновку как раз в то время, когда Колин задал опасный вопрос. Она чувствовала, что благодаря этой силе Колин казался совершенно другим мальчиком. Разве это был тот бешеный ребенок, который вопил, колотил и кусал подушку? Даже его странная бледность исчезла. Слабый румянец, который показался на его лице, шее и руках, когда он впервые очутился в саду, не совсем исчез. Колин был похож на живого человека, а не на фигуру из слоновой кости или воска.
Они еще раза три видели малиновку, которая несла корм своей подруге; это навело их на мысль о послеобеденном чае, и Колин решил, что надо напиться чаю.
– Поди прикажи кому-нибудь из слуг принести чайную корзинку в рододендроновую аллею, – сказал он, – а потом ты и Дикон принесете это сюда.
Это была очень удачная мысль, которую легко было привести в исполнение. Когда на траве была разостлана белая скатерть и на ней появился горячий чай, лепешки и хлеб с маслом, все это было съедено с удовольствием; пролетавшие «по домашним делам» птицы остановились разузнать, в чем дело, и усердно принялись за крошки. Орех и Скорлупка вскарабкались на дерево с кусками сладкого пирога, а Сажа, утащив в уголок целую половину лепешки, принялась клевать и переворачивать ее, пока, наконец, не решила проглотить ее всю сразу.
…День близился к закату; золотые стрелы солнечных лучей становились темнее; пчелы возвращались домой, и птицы прилетали реже. Дикон и Мери сидели на траве, уложив чайную корзинку, чтобы отнести ее назад в дом, а Колин лежал на своих подушках, откинув со лба густые волосы: цвет лица у него был совершенно нормальный.
– Мне не хочется, чтоб этот день прошел, – сказал он, – но я опять приду сюда завтра, и послезавтра, и после, и после… Теперь я видел весну, и мне хочется видеть лето… Я хочу видеть, как все будет расти здесь. Я с а м хочу здесь вырасти!
– Вырастешь, – сказал Дикон. – Ты скоро будешь здесь ходить, копать так, как другие люди…
Колин весь зарделся.
– Ходить! Копать! – сказал он. – Разве я…
Дикон как-то особенно ласково и предупредительно взглянул на него. Ни он, ни Мери никогда не спрашивали у него про его ноги.
– Конечно, будешь ходить, – храбро сказал он. – Ведь у тебя… у тебя есть свои ноги, как у других людей!
Мери на миг испугалась, пока не услышала ответ Колина.
– Они совсем не больные, – сказал он, – только такие худые и слабые… Они так дрожат, что я боюсь попробовать встать.
И Мери и Дикон с облегчением вздохнули.
– Когда перестанешь бояться, тогда и будешь стоять на ногах, – весело сказал Дикон. – А бояться ты скоро перестанешь.
– Перестану? – спросил Колин и притих, как бы размышляя о чем-то.
Некоторое время среди них царила тишина. Солнце опускалось все ниже; наступало такое время, когда все затихает, а дети очень деятельно и интересно провели этот день. У Колина был такой вид, как будто он глубоко наслаждался отдыхом. Даже «твари» Дикона перестали бегать и, собравшись вместе, отдыхали возле детей. Сажа уселась на низкой ветке, и глаза ее задернулись серой пленкой; Мери подумала про себя, что Сажа, пожалуй, сейчас захрапит.
Все они чуть не вздрогнули, когда среди этой тишины Колин, приподняв голову, вдруг воскликнул громким, тревожным шепотом:
– Кто этот человек?
Дикон и Мери вскочили на ноги.
– Человек! – приглушенно крикнули оба.
Колин указал на высокую стену.
– Посмотрите! – возбужденно шепнул он. – Посмотрите только!
Мери и Дикон обернулись и посмотрели. Поверх стены на них глядело сердитое лицо Бена Уэтерстаффа, который стоял на лестнице. Он погрозил Мери кулаком.
– Кабы я не был холостяк и ты была бы моя девчонка, я бы тебе задал встрепку! – крикнул он.
Он угрожающе поднялся еще на одну ступеньку, точно собираясь соскочить вниз и разделаться с нею; но, когда Мери направилась к нему, он, очевидно, раздумал и остался стоять на верхней ступеньке своей лестницы, все еще грозя ей кулаком.
– Ты мне никогда не нравилась! Я тебя терпеть не мог с первого раза, как увидел, – разглагольствовал он. – Этакая бледная, сухопарая, как метла, и вечно задает вопросы и сует свой нос куда не надо! Я и не заметил, как это ты ко мне пристала! Если бы не малиновка… чтобы ее…
– Бен Уэтерстафф! – воскликнула Мери, переведя дух; она стояла внизу и кричала, почти задыхаясь: – Бен Уэтерстафф, это малиновка указала мне дорогу сюда!
На этот раз Бен, казалось, на самом деле перескочит через стену, – до того он был взбешен.
– Ах ты, гадкая девчонка! – воскликнул он, глядя вниз на нее. – Сваливает всю вину на малиновку, будто она и без того не проказница! Она указала тебе дорогу! Она! Ах ты, маленькая… – Следующая фраза вырвалась у него почти невольно, потому что он сгорал от любопытства: – Как это ты сюда попала?
– Это малиновка показала мне дорогу! – упрямо заявила она. – Она сама не знала, что она это делает, но она все-таки указала… Я не могу рассказывать вам отсюда, когда вы мне грозите кулаком.
Он вдруг перестал грозить ей, рот его полураскрылся, и он с изумлением глядел через голову Мери на что-то, приближавшееся к нему.
При первом звуке этого потока речи Колин был так поражен, что сидел и слушал, точно зачарованный, но скоро оправился и сделал повелительный знак Дикону.
– Вези меня туда! – приказал он. – Подвези меня совсем близко и остановись как раз напротив него!
Это именно зрелище, которое увидел Бен, и заставило его в изумлении открыть рот. Кресло на колесах, с роскошными подушками и пледами, которое двигалось по направлению к нему, скорее напоминало какую-нибудь королевскую колесницу, потому что в ней сидел маленький раджа, откинувшись назад, с царственно-повелительным выражением в больших глазах с темными ресницами и с гордо протянутой к нему худой белой рукой. Колесница остановилась как раз пред самым носом Бена; неудивительно, что рот его так и остался открытым.
– Ты знаешь, кто я? – спросил раджа.
А Бен все глядел; его покрасневшие старческие глаза были так устремлены на него, как будто он видел пред собою призрак. Он все глядел и глядел; в горле у него появился какой-то ком, и он не говорил ни слова.
– Ты знаешь, кто я? – еще более надменно спросил Колин. – Отвечай же!
Бен поднял свою мозолистую руку, провел ею по глазам, потом по лбу и ответил каким-то странным дрожащим голосом.
– Ты-то кто? – сказал он. – Знаю, знаю… Ведь с твоего лица глядят на меня глаза твоей матери… Господь ведает, как ты сюда забрался… Это ты – бедный калека!
Колин сразу забыл, что у него есть спина. Лицо его побагровело, и он сел совершенно прямо.
– Я не калека! – гневно крикнул он. – Неправда!
– Он не калека! – воскликнула Мери с негодованием. – У него нет шишки на спине даже с булавочную головку. Я видела, там ничего нет, ничего!
Бен снова провел рукою по лбу и опять стал глядеть, точно не мог наглядеться; у него дрожали руки, дрожали губы, дрожал голос. Он был бестактный старик и повторял только то, что слышал от других.
– Разве ты… разве у тебя не кривая спина? – сказал он хрипло.
– Нет! – крикнул Колин.
– И у тебя… ноги не кривые? – спросил Бен еще более хрипло.
Это уже было слишком. Вся сила, которую Колин тратил во время своих «припадков», вдруг волною поднялась в нем. Никогда еще его не обвиняли в том, что у него кривые ноги, даже шепотом, и наивная уверенность в существовании этих кривых ног, звучавшая в голосе Бена, это было больше, чем мог стерпеть раджа. Гнев и оскорбленная гордость заставили его забыть обо всем, кроме настоящего момента, пробудили в нем какую-то неведомую, почти сверхъестественную силу.
– Иди сюда! – крикнул он Дикону и начал срывать пледы со своих колен, чтобы выпутаться из них. – Иди сюда! Иди сюда! Сию минуту!
Дикон в секунду очутился подле него. Мери ахнула и почувствовала, что бледнеет.
– Он может это сделать! Он может! Может! – бормотала она про себя скороговоркой.
После непродолжительных напряженных усилий пледы были сброшены на землю, Дикон взял руку Колина, и его худые ноги высвободились… и стояли на траве. Колин стоял, стоял прямой, как стрела, и странно высокий, откинув назад голову, и его странные глаза метали молнии.
– Погляди на меня! – бросил он Бену. – Погляди же на меня, ты! Только погляди!
– Он такой же прямой, как я! – крикнул Дикон. – Он такой же прямой, как любой мальчик в Йоркшире!
То, что произошло с Беном, показалось Мери необыкновенно странным. Он вдруг закашлялся, всхлипнул, всплеснул руками, и по его морщинистым загорелым щекам вдруг потекли слезы.
– И лгут же люди! – вдруг выпалил он. – Ты худой, как щепка, и бледный, как привидение, но на тебе ни узелка нет! Из тебя еще выйдет человек, благослови тебя Господь!
Дикон крепко держал Колина под руку, но мальчик не выказывал усталости. Он стоял так же прямо и глядел в лицо Бена.
– Я – твой господин, когда здесь нет моего отца, – сказал он, – и ты должен мне повиноваться. Этот сад мой. Не смей говорить ни слова про него. Сойди с лестницы и пойди в длинную аллею; там тебя встретит мисс Мери и приведет сюда. Я хочу поговорить с тобой. Ты нам вовсе не нужен, но теперь придется доверить тебе тайну. Скорее же!
Угрюмое лицо Бена еще было мокро от слез, и он, казалось, не мог отвести глаз от худой, прямой фигуры Колина, стоявшего на н о г а х, с закинутой назад головой.
– О, мой мальчик! – прошептал он. И потом, как будто вдруг вспомнив что-то, почтительно дотронулся до своей шляпы и сказал:
– Да, сэр! Слушаю! – послушно спустился с лестницы и исчез.
Глава ХХII
Когда голова Бена скрылась из виду, Колин обратился к Мери.
– Поди ему навстречу, – сказал он, и Мери бегом пустилась к калитке, скрытой под плющом.
Дикон зорко следил за Колином. На щеках его горели ярко-красные пятна, вид у него был удивительный, но он не выказывал и признаков усталости.
– Я могу стоять! – сказал он, все еще высоко держа голову, и сказал он это очень гордо.
– Я тебе говорил, что ты будешь стоять, как только перестанешь бояться, – ответил Дикон. – Ты и перестал бояться!
– Да, перестал, – подтвердил Колин.
Вдруг он вспомнил что-то, о чем ему рассказывала Мери.
– Ты умеешь делать чудеса? – резко спросил он.
Губы Дикона сложились в веселую улыбку.
– Ты сам делаешь чудеса, – сказал он. – Это вот тоже чудо… что все это появилось из-под земли, – и он тронул своим толстым сапогом группу цветов в траве.
– Я подойду вон к тому дереву, – сказал Колин, указывая на дерево, стоявшее в нескольких футах от него. – Я хочу стоять, когда Бен придет сюда; если мне захочется, я могу прислониться к дереву. Сяду я только тогда, когда сам захочу – не раньше; принеси плед с кресла!
Он дошел до дерева, и хотя Дикон поддерживал его под руку, шел очень уверенно. Когда он стал возле ствола, нельзя было сразу заметить, что он прислонился к нему; он держался так прямо, что казался высоким.
Когда Бен вошел в калитку, он увидел, что Колин стоит, и услышал, что Мери тихо бормочет что-то.
– Ты что говоришь? – спросил он ворчливо, потому что не хотел, чтобы что-нибудь отвлекало его внимание от длинной, худой, прямой фигуры мальчика и его гордого лица.
Мери ничего не сказала ему. А говорила она вот что: «Ты можешь это сделать! Можешь! Я тебе говорила, что можешь! Ты можешь!»
Она говорила это Колину, потому что ей хотелось сделать чудо и заставить его удержаться на ногах. Ей не хотелось, чтобы он в присутствии Бена поддался усталости. Но он не поддавался. Она вдруг заметила, что он казался почти красивым, несмотря на свою худобу. Глаза его устремились на Бена с прежним забавно-повелительным выражением.
– Посмотри на меня! – приказал он. – Осмотри меня всего! Разве я горбун? Разве у меня кривые ноги?
Бен еще не совсем оправился от волнения, но немного овладел собою и ответил почти своим обычным тоном.
– Нет, – сказал он, – ничего подобного… Что же это ты делал с собою, прятался от людей, чтобы они думали, что ты калека и полоумный?..
– Полоумный? – гневно сказал Колин. – Кто это думал?
– Всякие дураки, – ответил Бен. – Их много на свете, они и болтают… и всегда лгут. Зачем же ты заперся ото всех?
– Все думали, что я скоро умру, – лаконически ответил Колин. – А я не умру!
Он сказал это так решительно, что Бен смерил его взглядом с головы до ног.
– Ты умрешь? – сказал он сурово и радостно. – Ничего подобного! В тебе слишком много храбрости. Когда я увидел, как ты скоро соскочил на землю, я сразу понял, что ты молодец! Садись-ка на коврик, мой миленький господин, и давай мне приказания!
В его манере и тоне была странная смесь суровой нежности и лукавой догадливости. Когда он и Мери шли по длинной аллее, Мери не переставала говорить. Она сказала ему, что главным образом следовало помнить то, что Колин в ы з д о р а в л и в а е т – выздоравливает, и вылечивает его сад; никто не должен напоминать Колину, будто у него есть горб и что он умрет.
Раджа соблаговолил сесть на ковер под деревом.
– Какую работу ты делаешь в садах? – спросил он.
– Что прикажут, – ответил старый Бен. – Меня держат по ее милости, потому что о н а меня любила.
– Она? – спросил Колин. – Кто?
– Твоя мать, – ответил Бен.
– Моя мать? – сказал Колин и спокойно огляделся вокруг. – Это был ее сад, не правда ли?
– Да, так и есть, – сказал Бен, тоже оглядываясь вокруг, – и она его очень любила.
– А теперь это мой сад. Я его очень люблю и буду сюда приходить каждый день, – заявил Колин. – Но это должна быть тайна… Я приказываю, чтобы никто не узнал, что мы сюда ходим. Дикон и моя двоюродная сестра работали, чтобы сад ожил. Иногда я буду присылать за тобой, чтобы помочь им, но ты должен будешь приходить, когда тебя никто не увидит.
Лицо Бена скривилось в кислую улыбку.
– Я и прежде приходил сюда, когда меня никто не видел, – сказал он.
– Что! – воскликнул Колин. – Когда?
– В последний раз я здесь был… – он почесал подбородок и оглянулся вокруг, – кажется, года два тому назад.
– Но ведь сюда никто не ходил десять лет! – воскликнул Колин. – Ведь здесь не было калитки!
– Я и есть никто, – грубо сказал старый Бен. – И я не проходил в калитку, я перелезал через стену. А в последние два года мне ревматизм мешал…
– Ты ходил сюда и подрезал, и чистил здесь! – воскликнул Дикон. – А я никак не мог понять, кто это делал!
– Да, она очень любила сад… очень любила, – медленно сказал Бен. – И она была такая красивая, молодая. Помню я, она однажды сказала мне: «Бен, если я когда-нибудь заболею или меня здесь не будет, ухаживай за моими розами», – а сама смеется… А когда ее не стало, приказали никого не подпускать близко. Но я приходил, – добавил он упрямо. – Я перелезал через стену, пока ревматизм не стал мешать, и иногда работал там, один раз в год. Ее приказ был первый…
– Сад не был бы жив, если бы ты этого не сделал, – сказал Дикон. – А я все думал…
– Я рад, что ты это делал, – сказал Колин. – Ты уж сумеешь сохранить тайну.
– Сумею, сэр, – ответил Бен. – И больному человеку легче будет пройти в калитку.
На траве возле дерева лежал садовый скребок, который уронила Мери. Колин протянул руку и поднял его; на лице его появилось странное выражение, и он начал скрести землю. Его худая рука была слаба, но скоро он сунул конец скребка в землю и поднял немного; все следили за ним, а Мери даже притаила дыхание.
– Ты можешь это сделать! Ты можешь! – говорила она про себя. – Можешь, говорю я тебе!
В круглых глазах Дикона светилось пылкое любопытство, но он не говорил ни слова. Бен тоже смотрел с интересом. Колин продолжал копать и, выкопав несколько комков земли, радостно обратился к Дикону на йоркширском диалекте.
– Ты сказал, что я скоро буду здесь ходить, как другие люди… и потом сказал, что я буду копать. Я думал, что ты сказал это, чтобы утешить меня… Сегодня только первый день, а я уже ходил, и вот я копаю!
У Бена опять от изумления открылся рот, когда он услышал это, но потом рассмеялся:
– Похоже на то, что у тебя ума довольно, настоящий йоркширец! И копать начал! А не хочешь ли посадить что-нибудь? Я могу принести тебе розу в горшке.
– Поди принеси! – сказал Колин, усердно копая. – Скорее!
Все действительно сделалось скоро. Бен побежал, забыв про свой ревматизм; Дикон взял свой заступ и вырыл ямку побольше и поглубже, чем это мог сделать Колин своими слабыми руками; Мери побежала и принесла лейку. Когда Дикон вырыл ямку поглубже, Колин продолжал подбрасывать рыхлую землю, потом взглянул на небо, весь раскрасневшийся и оживленный.
– Я хочу сделать это раньше, чем солнце совсем зайдет, – сказал он.
Мери подумала, что солнце остановилось на несколько минут именно ради этого. Бен принес из оранжереи розу в горшке, ковыляя по траве так быстро, как только мог. Он стал на колени подле ямки и разбил горшок.
– Вот она, мой мальчик, – сказал он, подавая Колину растение, – посади ее сам в землю, как делает король, когда приезжает на новое место.
Худые, бледные руки Колина слегка дрожали и румянец на лице вспыхнул ярче, когда он опустил розу в землю и держал ее, пока Бен засыпал яму и укреплял растение. Мери вся подалась вперед, стоя на четвереньках.
– Посадил! – сказал, наконец, Колин. – А солнце еще только садится… Помоги мне встать, Дикон. Я хочу стоять, когда оно зайдет. Это надо так… это волшебство!
Дикон помог ему встать, а «волшебство» – или что-то другое – придало ему столько силы, что, когда солнце совсем скрылось и кончился этот удивительный, чудесный день, Колин стоял, с а м с т о я л н а н о г а х и смеялся.
…Когда они вернулись в дом, доктор Крэвен уже ожидал их там. Он начал уже было подумывать о том, не благоразумнее ли будет послать кого-нибудь осмотреть дорожки в саду. Когда Колина внесли обратно в его комнату, доктор серьезно поглядел на него.
– Ты не должен был оставаться там так долго, – сказал он. – Тебе не следует переутомляться.
– Я вовсе не устал, – сказал Колин. – Это меня вылечило. Завтра я выйду и утром и после обеда.
– Не знаю, позволю ли я это, – ответил доктор Крэвен. – Я боюсь, что это будет неблагоразумно.
– Будет неблагоразумно мешать мне, – очень серьезно сказал Колин. – Я пойду.
Даже Мери заметила, что одна из ярких особенностей характера Колина была та, что он вовсе не подозревал, как груба была его манера распоряжаться людьми. Он как будто всю свою жизнь прожил на пустынном острове и, так как он был там королем, завел свои собственные обычаи, и ему не с кем было сравнить себя. Сама Мери тоже была немного похожа на него, но с тех пор, как жила в Миссельтуэйте, она мало-помалу узнала, что и ее собственная манера обращаться с людьми вовсе не такая, которую часто видишь или которая очень нравится людям. Сделав это открытие, она, конечно, решила, что оно достаточно интересно, чтобы сообщить о нем Колину. После того как доктор Крэвен ушел, она уселась и в течение нескольких минут с любопытством глядела на Колина. Ей хотелось, чтобы он спросил ее, почему она это делает, и он действительно спросил:
– Почему ты на меня так смотришь?
– Я думаю о том, как мне жаль доктора Крэвена.
– И мне его жаль, – сказал Колин спокойно, но не без некоторого удовольствия, – ведь он теперь не получит Миссельтуэйта, потому что я не умру.
– Конечно, мне и поэтому жаль его, – сказала Мери, – но я думала о том, как, должно быть, противно быть целых десять лет вежливым с таким мальчиком, который всегда груб. Я бы этого никогда не сделала!
– Разве я груб? – невозмутимо спросил Колин.
– Если бы ты был его сын и он умел бы драться, он бы побил тебя, – сказала Мери.
– Но он не смеет, – ответил Колин.
– Да, не смеет, – ответила Мери, беспристрастно обсуждая вопрос. – Никто никогда не смел сделать ничего такого, что тебе не нравится, потому что ты собирался умирать… Ты был такой жалкий.
– Но теперь я уже не буду жалкий, – упрямо заявил Колин. – Я не позволю людям думать, что я жалкий! Ведь я сегодня днем сам стоял на ногах!
– Ты всегда делал все по-своему, и оттого ты такой странный, – продолжала Мери, как бы думая вслух.
Колин обернулся к ней и нахмурился.
– Разве я странный? – спросил он.
– Конечно, – ответила Мери, – очень странный. Но ты не сердись, – добавила она спокойно, – потому что и я тоже странная, и старый Бен тоже. Но я теперь не такая странная, как была прежде, когда я еще не умела любить людей… и прежде, чем я нашла сад.
– Я не хочу быть странным, – сказал Колин. – И не буду, – добавил он, нахмурившись, решительным тоном.
Колин был очень гордый мальчик. Он некоторое время лежал молча, думая о чем-то, и потом Мери увидела, как на лице его появилась милая улыбка, преобразившая все его лицо.
– Я больше не буду такой странный, – сказал он, – если буду ходить каждый день в сад. Там есть что-то волшебное… хорошее, понимаешь? Я уверен, что есть!
– И я тоже, – сказала Мери.
– Знаешь, если даже там не настоящая волшебная сила, – сказал Колин, – то мы можем… вообразить… будто она там есть… Ч т о-т о т а к о е есть там?
– Это волшебная сила, – сказала Мери, – но не злая…
С тех пор они стали называть это волшебной силой; и казалось, что произошло действительно нечто волшебное в это удивительное, лучезарное, чудесное лето! Что за перемены произошли в саду! Сначала казалось, что маленькие зеленые острия никогда не перестанут пробиваться вверх из земли, из травы на грядках, даже из щелей в стенах. Потом на зелени стали показываться почки; почки начали развертываться, и показались разные цветы: все оттенки голубого, все оттенки пурпурового, все переливы малинового. Ирисы и белые лилии целыми снопами подымались из травы, а зеленые альковы были полны синих и белых колокольчиков и голубков.
– Она их очень любила, – говорил Бен Уэтерстафф. – Она любила все, что тянется к голубому небу, как она сама говорила. Она и землей не пренебрегала, она любила ее, но она, бывало, говорит, что голубое небо всегда такое радостное.
Семена, которые посеяли Дикон и Мери, росли, как будто за ними ухаживали феи. Атласные цветы мака всевозможных цветов покачивались от ветра; а розы – розы были повсюду. Они подымались из травы, опутывали солнечные часы, обвивали стволы деревьев, свисали с их ветвей, вились длинными гирляндами по стенам, спускаясь вниз целыми каскадами; они оживали с каждым днем, с каждым часом.
Все это Колин видел, замечая каждую происходившую перемену. Его вывозили каждое утро, и он целые дни проводил в саду, когда только не было дождя. Далее серые дни нравились ему. Он лежал на траве и «следил, как все растет», как он сам выражался. Он утверждал, что если следить долго, то можно было видеть, как распускаются почки; кроме того, можно было познакомиться с странными хлопотливыми насекомыми, которые бегали, занятые какими-то неизвестными, но, очевидно, важными делами, иногда таща крохотные кусочки соломы, перышки, корм или взбираясь на какую-нибудь былинку, как будто на дерево, с верхушки которого можно было обозреть местность. Однажды Колин целое утро был занят тем, что следил за кротом, который рылся у выхода своей норы, взрывая кучки земли, и, наконец, выбрался на поверхность при помощи своих лапок, похожих на руки эльфа. Жизнь и обычаи муравьев, жуков, пчел, лягушек, птиц и растений открывали пред ним новый, неисследованный мир, а когда Дикон, вдобавок ко всему этому, рассказал ему еще о жизни лисиц, белок, хорьков, барсуков, форелей, ему всегда теперь было о чем поговорить и о чем подумать.
Но это была только половина того, что сделала «волшебная сила». Тот факт, что Колин однажды сам стоял на ногах, заставил его сильно призадуматься, и когда Мери сказала ему, что она пустила в ход чары, он очень заинтересовался и одобрил это. Потом он постоянно говорил обо всем этом.
– Конечно, на свете, должно быть, много этой волшебной силы, – глубокомысленно сказал он однажды, – только люди не знают, что это такое и как ее употреблять. Может быть, начинать надо так: надо говорить, что случится что-нибудь хорошее, до тех пор, пока не сделаешь так, что оно случится на самом деле. Я попробую провести опыт.
Глава ХХIII
На следующее утро, как только дети пришли в сад, Колин сейчас же послал за Беном. Бен скоро пришел и застал раджу стоящим под деревом, с очень гордым видом, но и с милой улыбкой на лице.
– Доброе утро, Бен Уэтерстафф, – сказал он. – Я хочу, чтобы ты, и Мери, и Дикон стали рядом и выслушали меня, потому что я хочу сказать вам нечто очень важное.
– Слушаю, сэр! – ответил Бен, дотронувшись рукою до лба. (Когда-то, мальчиком, он убежал из дому, поступил на корабль и много путешествовал, поэтому умел отвечать как матрос.)
– Я собираюсь сделать научный опыт, – пояснил раджа. – Когда я вырасту большой, я буду ученый и сделаю важные открытия; и я хочу начать теперь с этого опыта.
– Слушаю, сэр! – быстро ответил Бен, хотя в первый раз в жизни слышал о научных открытиях.
Мэри тоже в первый раз в жизни слышала об этом, но сразу же начала догадываться, что, несмотря на свои странности, Колин читал об очень многих удивительных вещах и потому умел говорить очень убедительно. Когда он подымал голову и устремлял на вас свои удивительные глаза, вы точно против воли начинали верить ему, хотя ему шел всего одиннадцатый год. В эту минуту он говорил особенно убедительно, потому что вдруг почувствовал прелесть того, что произносит речь, «как большой».
– Важные научные открытия, которые я сделаю, – продолжал он, – будут касаться волшебной силы. Волшебство – это великая вещь, про которую знает очень мало людей, да и те из старинных книжек; Мэри тоже знает немножко, потому что она родилась в Индии, где есть факиры. Я думаю, что Дикон тоже обладает волшебной силой, хотя сам не знает этого. Он привораживает животных и людей. Я никогда не позволил бы ему прийти ко мне, если бы он не был чародей, который привораживает животных… и мальчиков, потому что мальчик – животное. Я уверен, что волшебная сила есть во всем, но только мы все недостаточно умны, чтобы покорить ее и заставить служить нам, как электричество, и лошадь, и пар.
Все это звучало так внушительно, что Бен заволновался и никак не мог смолчать.
– Так, так, сэр! – сказал он, стараясь выпрямиться.
– Когда Мэри отыскала сад, он казался совсем мертвым, – продолжал оратор. – Потом что-то начало выталкивать зеленые острия вверх из земли и делать предметы… из ничего; в один день там их не было, а в другой они уже были. Я прежде никогда не следил ни за чем, и меня взяло любопытство. Ученые люди всегда любопытны, и я буду ученым. Вот я и говорю себе: что это такое, что это такое? Это нечто; не может быть, чтоб это было ничто. Я не знаю имени этому и называю это волшебной силой. Я никогда не видел, как восходит солнце, но Мэри и Дикон видели, и из их рассказов я понял, что это тоже волшебная сила. Что-то толкает солнце и тянет его. Это волшебная сила всегда что-нибудь толкает, или тянет, или делает предметы из ничего. Все создает она – листья, деревья, цветы, и птиц, и белок, и лисиц, и людей. Значит, она повсюду вокруг нас, в этом саду, во всех местах. Волшебная сила в этом саду заставила меня встать, и теперь я знаю, что буду жить и вырасту большой. Я сделаю научный опыт, постараюсь достать немного волшебной силы и вобрать в себя… а потом заставлю ее тянуть и толкать меня и сделать меня сильным. Я не знаю, как это делается… но мне кажется, что, если всегда думать о ней и звать ее, она, может быть, придет. Может быть, это только первоначальный способ найти ее… Когда я в первый раз захотел попробовать стать на ноги, Мери говорила про себя, скоро-скоро: «Ты можешь это сделать, можешь!» Я и сделал. Конечно, я и сам должен был стараться, но ее заклинания помогли мне, и Дикона – тоже. Теперь я каждое утро, каждый вечер – и днем тоже, когда только вспомню, – буду говорить: «Во мне волшебная сила! Она меня делает здоровым! Я буду такой же сильный, как Дикон!» И вы должны делать то же самое. Это мой опыт. Ты тоже поможешь, Бен?
– Слушаю, слушаю, сэр! – сказал Бен.
– Если мы будем каждый день делать это, мы увидим, что будет, и узнаем, удался ли опыт или нет. Когда учишься, ведь повторяешь одно и то же много раз и столько думаешь об этом, что оно навсегда остается у тебя в мозгу; мне кажется, что и с волшебной силой будет то же самое. Если постоянно звать ее, чтоб она пришла и помогла тебе, то она станет частью тебя самого и останется в тебе и будет все делать.
– Я однажды слышала, как один офицер в Индии рассказывал моей матери, что факиры иногда повторяют те же самые слова тысячи и тысячи раз, – сказала Мери.
– А я слышал, как жена Джима Феттльуорта повторяла одно и то же тысячу раз, называя Джема пьяницей, – сурово сказал Бен. – Конечно, из этого всегда что-нибудь выходит. Он ей задал хорошую трепку, пошел в таверну «Синий лев» и там напился, как лорд.
Колин сдвинул брови и несколько минут напряженно думал, потом вдруг ободрился.
– Видишь, что-нибудь да вышло из этого, – сказал он. – Она пустила в ход дурные чары, и сделалось так, что он ее поколотил. А если бы она пустила в ход настоящие чары, добрые, и сказала бы ему что-нибудь хорошее, он, может быть, не напился бы, как лорд, и, пожалуй… купил бы ей новый чепец.
Бен засмеялся, и в его маленьких старческих глазах виделось одобрение.
– Ты умный парень, мистер Колин, – сказал он. – Когда я в следующий раз увижу Бесс Феттльуорт, я намекну ей, что волшебная сила может для нее сделать. Она была бы очень рада, если бы удался твой ученый опыт, и Джим тоже был бы рад.
Дикон стоял и слушал «лекцию», и в его круглых глазах светилось восторженное любопытство. Орех и Скорлупка сидели на его плечах, а на руках он держал длинноухого белого кролика, нежно поглаживая его.
– Как ты думаешь, удастся опыт? – спросил его Колин.
Дикон улыбнулся своей широкой улыбкой.
– Конечно, удастся, – ответил он. – Она подействует… все равно как семена, когда их греет солнце… Подействует наверняка. Начать теперь?
Колин и Мери были в восторге. Увлекшись воспоминаниями о факирах на картинках, Колин посоветовал всем усесться, скрестив ноги, под деревом, которое образовало нечто вроде балдахина.
– Это будет похоже, как будто мы сидим в храме, – сказал Колин. – Я немного устал, и мне хочется сесть.
– Ты не должен начинать так, – сказал Дикон, – не говори, что ты устал, а то, пожалуй, все испортишь.
Колин обернулся и посмотрел прямо в его невинные голубые глаза.
– Это верно, – сказал он медленно. – Я должен думать только о волшебной силе.
Когда они уселись в кружок, все это показалось им необыкновенно важным и таинственным. Бену казалось, что его заставили присутствовать на молитвенном собрании, но так как это была затея раджи, то он не возмущался и даже был польщен, что его призвали на помощь. Мери чувствовала какой-то торжественный восторг. Дикон все еще держал на руках кролика, но, вероятно, сделал какой-нибудь волшебный, неслышный знак, потому что, когда он уселся, скрестив ноги, как все остальные, ворон, лисица, ягненок и белки медленно приблизились и преспокойно уселись, образуя часть кружка.
– «Твари» тоже пришли, – серьезно сказал Колин, – они хотят помочь нам.
Колин был прекрасен, как казалось Мери; он держал голову высоко, как будто чувствуя себя каким-то жрецом, в глазах его было удивительное выражение, лучи солнца падали на него сквозь балдахин листвы.
– Теперь мы начнем, – сказал он. – Мери, нам надо качаться взад и вперед, как дервишам?
– Я не могу качаться взад и вперед, – сказал Бен, – у меня ревматизм.
– Волшебная сила отнимет его у тебя, – сказал Колин тоном верховного жреца, – а до тех пор мы не будем качаться, мы будем только петь.
– Я не умею петь, – ворчливо сказал Бен. – Я только раз попробовал, и меня выгнали из церковного хора.
Никто не улыбнулся: все они были слишком серьезны! Ни тени улыбки не появилось на лице Колина; он думал только о волшебной силе.
– Ну, так я буду петь… Солнце сияет, солнце сияет, – заговорил он нараспев, – это волшебная сила. Цветы растут, корни шевелятся – это волшебная сила. Быть живым – это волшебство; быть сильным – это волшебство. Волшебная сила во мне; волшебная сила во мне; она во мне, она во мне. Она во всех нас. Она в спине Бена. Волшебная сила, приди и помоги!
Он повторил все это много раз. Мери слушала, как очарованная; все это казалось ей очень странным и чудесным, и ей хотелось, чтобы он продолжал. Бэн чувствовал, что на него нападает приятная сонливость; гудение пчел в цветах смешивалось с певучим голосом, сливаясь в усыпляющий, ленивый шум. Дикон сидел, скрестив ноги, со спящим кроликом на руках; одна рука его лежала на спине ягненка. Сажа столкнула белку и сидела на его плече, крепко прижавшись к нему и закрыв глаза. Наконец Колин остановился.
– Теперь я хочу обойти сад кругом, – заявил он. Голова Бена только что свесилась на грудь, и он внезапно поднял ее.
– Ты спал! – сказал Колин.
– Ничего подобного! – бормотал Бен. – Проповедь была хорошая… – Он еще не совсем очнулся от сна.
– Да ты не в церкви, – сказал Колин.
– Кто говорит, что в церкви? Я все слышал. Ты сказал, что у меня в спине волшебная сила… А доктор говорит, что это ревматизм…
Раджа махнул рукою.
– Это не та волшебная сила, это злая… Тебе станет лучше. Я не позволю тебе вернуться к твоей работе. А завтра приходи опять.
– Я бы хотел посмотреть, как ты обойдешь вокруг сада, – проворчал Бен. Он был упрямый старик и не очень верил в волшебную силу; поэтому он решил, что, если его отошлют, он взберется на свою лестницу и будет смотреть через стену, чтобы быть готовым вернуться, если бы Колин споткнулся.
Раджа разрешил ему остаться, и они образовали «процессию». Это действительно походило на процессию. Во главе ее шел Колин; рядом с ним с одной стороны шла Мери, с другой – Дикон. Бен шел позади, а за ним тянулись «твари»: овца и лисица старались держаться поближе к Дикону, белый кролик скакал за ними, иногда останавливаясь пощипать чего-нибудь, а Сажа выступала так торжественно, как будто ей поручен был надзор за всеми.
Процессия двигалась очень медленно, но с достоинством; пройдя несколько ярдов, она останавливалась отдохнуть. Колин опирался на руку Дикона, и Бен тайком следил за ним, но Колин иногда снимал свою руку и делал несколько шагов сам. Он все время высоко держал голову, и вид у него был очень важный.
– Во мне волшебная сила, – повторял он. – Она меня укрепляет. Я это чувствую!
Не было никакого сомнения, что его действительно что-то поддерживало и укрепляло. Он садился на скамьи в альковах, раза два сел на траву и несколько раз останавливался на дорожке и опирался на Дикона, но не хотел поддаваться до тех пор, пока не обошел вокруг всего сада. Когда он вернулся к дереву-балдахину, у него был торжествующий вид и щеки его горели.
– Я сделал это! Волшебная сила подействовала! – сказал он. – Это мое первое научное открытие.
– А что скажет доктор Крэвен? – вырвалось у Мери.
– Ничего он не скажет, – ответил Колин, – потому что ему ничего не расскажут. Это будет самая великая тайна. Никто ничего не должен знать до тех пор, пока я не стану такой сильный, что буду ходить и бегать, как всякий другой мальчик. Меня каждый день будут привозить сюда в кресле и увозить отсюда тоже в кресле. Я не хочу, чтобы люди шептались и задавали вопросы, и не хочу, чтобы мой отец услышал про это, пока опыт не удастся совсем. А тогда, если он приедет назад в Миссельтуэйт, я вдруг войду к нему в кабинет и скажу: «Вот я! Я такой же, как всякий другой мальчик. Я теперь совсем здоров и вырасту большой. И все это сделал… научный опыт!»
– Он подумает, что это сон! – воскликнула Мери. – Он своим глазам не поверит.
Колин сиял торжеством. Он, наконец, уверовал в то, что выздоровеет, а это значило, что битва была наполовину выиграна, хотя он этого не знал. И мысль, которая возбуждала и укрепляла его больше, чем всякая другая, – была мысль о том, какой вид будет у его отца, когда он увидит, что у него есть сын, такой же стройный и сильный, как сыновья других отцов. Одним из глубоких огорчений его болезненного прошлого было чувство отвращения к самому себе за то, что он был хилый мальчик, отец которого боялся смотреть на него.
– Он должен будет поверить, – сказал Колин. – А я еще вот что сделаю: после того, как начнет действовать волшебная сила, и прежде чем я начну делать научные открытия, я сделаюсь атлетом.
– Еще через недельку мы начнем тебя учить боксировать, – сказал Бен. – И когда-нибудь ты еще будешь первым кулачным бойцом во всей Англии!
Колин строго посмотрел на него.
– Уэтерстафф, – сказал он, – это дерзость! Ты не должен позволять себе вольностей только потому, что тебе доверили тайну. Как бы ни подействовала волшебная сила, я не буду кулачным бойцом. Я буду ученым и сделаю важные открытия.
– Прошу прощения, сэр, – ответил Бен. – Я должен был понять, что это не шутка.
Глава XXIV
Дикон работал не в одном только таинственном саду. К их степному коттеджу прилегал клочок земли, обнесенный низкой изгородью, сложенной из неотесанных камней. Рано утром, поздно в сумерки и в те дни, когда Колин и Мери не видали его, Дикон работал там, ухаживая за картофелем, капустой, репой и морковью и всякой огородной зеленью. В обществе своих «тварей» он положительно делал чудеса и, казалось, никогда не уставал. Когда он полол или копал, он насвистывал, или пел, или разговаривал с Сажей и Капитаном или с братьями и сестрами, которых он научил помогать ему.
– Нам никогда не жилось бы так, – говорила миссис Соуэрби, – если бы не огород Дикона. У него все растет; и его картофель и капуста вдвое крупнее, чем у других.
Когда у нее бывала свободная минута, она выходила туда поболтать с Диконом, особенно в сумерки после ужина: тогда она отдыхала. Она усаживалась на низкую изгородь, смотрела, как он работал, и слушала его рассказы.
В огороде росли не только овощи. Иногда Дикон покупал пачки цветочных семян и сеял их между кустами крыжовника и кочанами капусты. Изгородь была особенно красива, потому что в щелях между камнями росли разные цветы и папоротники и только кое-где просвечивали камни.
– Все, что для них надо, чтобы они росли, мама, – говорил Дикон, – это настоящая дружба с ними. Они все равно что «твари». Когда у них жажда – напои их; когда они голодны – дай им корму. Им тоже хочется жить, как и нам. Если бы они умерли, мне показалось бы, что я их убил.
Таким образом миссис Соуэрби узнала обо всем, что происходило в Миссельтуэйте. Сначала ей рассказали только, что «мистер Колин» стал выходить в сад с мисс Мери и что ему это было очень полезно. Но через некоторое время Мери и Колин решили, что мать Дикона тоже можно посвятить в тайну. Они почему-то не сомневались, что ей можно было доверять «по-настоящему».
В один прекрасный вечер Дикон рассказал ей все, включая захватывающие дух подробности о зарытом ключе, о малиновке, о тайне, которую Мери решила никому не открывать, – при этом красивое лицо миссис Соуэрби то краснело, то бледнело.
– А ведь хорошо, что эта маленькая девочка приехала в Миссельтуэйт-Мэнор, – сказала она. – И сама она переменилась, и его спасла. Сам стоял на ногах! А мы-то все думали, что бедняжка полоумный и что у него ни одной прямой кости в теле нет! А как все в доме думают о том, почему он такой веселый и ни на что не жалуется? – спросила она.
– Они не знают, что и подумать, – ответил Дикон. – У него каждый день меняется лицо: оно полнее и не такое острое и уже не похоже на восковое. Но ему иногда надо жаловаться, – добавил он, ухмыляясь.
– Почему такое? – спросила миссис Соуэрби.
– Он это делает, чтобы они не догадались, что случилось. Если бы доктор узнал, что Колин умеет стоять на ногах, он бы написал мистеру Крэвену про это. А Колин приберегает это для себя. Он каждый день будет упражняться и призывать волшебную силу, пока приедет его отец; а тогда он собирается войти к нему в комнату и показать ему, что он совсем прямой, как другие мальчики. Он и Мери думают, что всего лучше будет, если он иногда будет стонать и капризничать, чтобы сбить людей с толку.
Миссис Соуэрби засмеялась тихим, приятным смехом, прежде чем он успел кончить последнюю фразу.
– Да, этой парочке очень весело, я ручаюсь, – сказала она. – Они устраивают себе из этого настоящее представление, а дети ничего так не любят, как представлять что-нибудь. Расскажи-ка, что они там делают, Дикон!
Дикон перестал полоть и присел на корточки. Его глаза весело блестели.
– Каждый раз, когда Колин выходит, его сносят на руках в кресло, – пояснил он. – И он всегда сердится на Джона за то, что он несет его недостаточно осторожно. Он всегда притворяется таким беспомощным, что никогда не подымает головы, пока дом не скроется из виду. И когда его сажают в кресло, он ворчит и капризничает… Ему и Мери это очень нравится, и когда он стонет и жалуется, она всегда говорит: «Бедный Колин! Тебе очень больно? Неужели ты так слаб?», но иногда они с трудом удерживаются от смеха. А когда мы забираемся в сад, они хохочут до упаду и всегда прячут лица в подушки Колина, чтобы не услышали садовники, если они поблизости.
– Чем больше они смеются, тем лучше для них, – сказала миссис Соуэрби, все еще улыбаясь. – Хороший, здоровый детский смех куда лучше всяких пилюль. Эта парочка растолстеет, это верно!
– Они и так толстеют, – сказал Дикон. – Они всегда так голодны, что не знают, как бы достать еще поесть, чтобы не было подозрительно. Колин говорит, что если он будет просить еще еды, то они не поверят, что он больной…
– Знаешь, что я тебе скажу, мой мальчик, – сказала миссис Соуэрби, когда, наконец, перестала смеяться. – Я думаю, что им можно помочь. Когда ты пойдешь к ним утром, захвати с собой кувшин парного молока, и я им испеку пирог или крендель с изюмом. Нет ничего лучше хлеба с парным молоком. Этим можно будет заморить червячка, пока они будут в саду, а уж дома можно будет закончить трапезу лакомыми блюдами.
– Мама, да ты просто чудо! – с восторгом сказал Дикон. – Ты всегда придумаешь, как выпутаться из беды. А то они вчера не знали, как обойтись, чтобы не просить еще поесть.
– Эти дети теперь растут быстро и оба поправляются, а такие дети все равно что волчата: для них еда – это плоть и кровь, – сказала миссис Соуэрби, улыбаясь такой же широкой улыбкой, как Дикон. – А им теперь очень весело, это верно! – добавила она.
Она была вполне права, эта добрая женщина-мать, особенно тогда, когда говорила, что «представление» будет для них большим удовольствием. Мери и Колин находили это необыкновенно забавным. Эту идею – оградить себя от подозрений – невольно внушила им сначала сбитая с толку сиделка, а потом сам доктор Крэвен.
– Аппетит у вас заметно улучшается, мистер Колин, – сказала однажды сиделка. – Прежде вы, бывало, ничего не ели и многое вам вредило…
– А теперь мне ничего не вредит, – ответил Колин, но увидев, что сиделка с любопытством смотрит на него, он вдруг вспомнил, что ему, пожалуй, не следовало еще казаться таким здоровым. – По крайней мере, это не случается так часто, как прежде. Это от свежего воздуха, – прибавил он.
– Быть может, – сказала сиделка, все еще с недоумением глядя на него, – но мне надо об этом поговорить с доктором Крэвеном.
– Как она глядела на тебя! – сказала Мери, когда сиделка ушла. – Она как будто думала, что ей надо кое-что разузнать!
– Я не хочу, чтобы она узнала! – сказал Колин. – Никто не должен ничего знать.
Когда доктор Крэвен зашел в это же утро, он тоже казался удивленным. Он задал несколько вопросов, к великой досаде Колина.
– Ты очень долго бываешь в саду, – намекнул он. – Куда тебя возят?
Колин принял свой любимый вид – высокомерного равнодушия.
– Я никому не скажу, куда меня возят, – сказал он. – Меня везут, куда мне нравится, и всем приказано не попадаться мне на глаза. Я не хочу, чтобы меня стерегли и глазели на меня. Вы это знаете.
– Ты весь день проводишь вне дома, но мне кажется, что это тебе не повредило… Сиделка говорит, что ты теперь ешь гораздо больше, чем прежде.
– А может быть, это тоже болезнь, – сказал Колин под влиянием внезапного внушения.
– Не думаю, потому что это тебе, очевидно, не вредит, – сказал доктор. – Ты быстро поправляешься, и цвет лица у тебя стал лучше.
– А может быть… я распух и у меня лихорадка, – сказал Колин, принимая удрученный и мрачный вид. – Люди, которые собираются умирать, всегда бывают какие-то особенные.
Доктор покачал головой. Он держал руку Колина и, засучив его рукав, пощупал ее.
– У тебя нет лихорадки, – сказал он озабоченно, – и ты пополнел, как здоровый человек. Если так будет продолжаться, мой мальчик, то вовсе не надо говорить о смерти. Твой отец будет очень счастлив, когда услышит об этой удивительной перемене.
– Я не хочу, чтоб ему говорили об этом! – разразился гневом Колин. – Для него это будет только разочарование, если мне опять станет хуже… А мне, пожалуй, сегодня же ночью станет хуже. У меня может сделаться лихорадка. Я чувствую, как будто она у меня теперь начинается. Я не хочу, чтобы моему отцу писали письма, не хочу, не хочу! Вы меня раздражаете, и вы знаете, что мне это вредно! У меня начинается жар! Я терпеть не могу, чтобы про меня писали, или говорили, или глазели на меня!
– Тише, тише, мой мальчик! – успокаивал его доктор. – Твоему отцу ничего не напишут без твоего позволения. Ты слишком чувствителен ко всему!
Он больше ничего не сказал относительно писем к отцу Колина, но предупредил сиделку, что об этом даже упоминать не следует в присутствии пациента.
– Мальчик очень поправился… это просто необыкновенно, – сказал он. – Конечно, он теперь добровольно делает то, чего мы не могли заставить его сделать. Но он все-таки очень легко раздражается, и не надо говорить ничего такого, что могло бы рассердить его.
Мери и Колин очень встревожились и серьезно переговорили об этом. С этого именно времени и началось «представление».
– Мне, пожалуй, придется устроить припадок, – с сожалением сказал Колин. – А мне не хочется, и я вовсе не такой несчастный теперь, чтобы довести себя до настоящего припадка. Может быть, у меня их уже совсем не будет… у меня в горле уже больше не подымается ком, и думаю я все про хорошее, а не про страшное… Но если они опять скажут, что хотят написать отцу, то надо будет что-нибудь сделать…
Он решил есть поменьше, но, к сожалению, эту блестящую мысль нелегко было привести в исполнение, когда он каждое утро просыпался с таким удивительным аппетитом, а на столе возле дивана стоял завтрак, состоящий из свежего масла, домашнего хлеба, яиц, варенья и взбитых сливок. Мери всегда завтракала с ним, и когда они усаживались за стол, они с отчаянием взглядывали друг на друга.
Кончалось тем, что Колин обыкновенно говорил:
– Я думаю, сегодня утром придется съесть все, Мери. Мы можем отослать что-нибудь за обедом… и почти весь ужин.
Но потом оказывалось, что они ничего не отсылали обратно, кроме пустых тарелок.
– Отчего они не режут окорок более толстыми ломтиками? – замечал Колин. – И по одной булке на каждого – мало.
– Этого, пожалуй, довольно для человека, который собирается умирать, – ответила Мери, когда впервые услышала это, – но не довольно для человека, который собирается жить… Я бы иногда съела даже три…
…На следующее утро после того, как они пробыли в саду часа два, Дикон вдруг зашел за розовый куст и вытащил два жестяных ведерка: в одном было густое парное молоко, а в другом – домашние лепешки с изюмом, завернутые в чистую салфетку и еще горячие. Последовал взрыв шумного и веселого удивления. Как хорошо, что миссис Соуэрби подумала об этом! Какая она, должно быть, умная и добрая!
– Она волшебница, так же, как Дикон, – сказал Колин. – Оттого она все думает, как бы сделать что-нибудь… хорошее. Скажи ей, Дикон, что мы чрезвычайно благодарны…
Он иногда употреблял такие фразы, как взрослый человек, и ему это очень нравилось. Вот и сейчас ему так понравилось, что он добавил:
– Скажи ей, что она очень щедра и что наша признательность безгранична.
И потом, забыв всю свою важность, он стал уписывать лепешки и глотать молоко прямо из ведерка, как всякий голодный мальчик.
Все это было только началом таких же приятных сюрпризов, пока дети мало-помалу додумались до того, что так как миссис Соуэрби приходилось кормить четырнадцать человек, у нее, пожалуй, не хватит еще для двух. Поэтому они просили ее позволения прислать ей свои шиллинги, чтобы купить чего-нибудь…
В это время Дикон сделал интересное открытие, что в роще за садом, где Мери впервые увидала его, когда он играл на дудке своим «тварям», была небольшая ложбинка, в которой можно сложить из камней нечто вроде очага и печь там картофель или яйца. И то и другое можно было купить и есть сколько угодно и не думать, что отнимаешь пищу еще у четырнадцати человек.
Каждое ясное утро тайный кружок призывал волшебную силу под сливовым деревом, густая листва которого образовала балдахин. После этой церемонии Колин совершал прогулку и в течение дня тоже время от времени упражнялся в ходьбе. Он с каждым днем становился сильнее, ходил более уверенно и проходил большее расстояние. И с каждым днем все более крепла его вера в волшебную силу. Чувствуя, что его силы прибывают, он проделывал один опыт за другим, но лучше всего казалось то, чему его научил Дикон.
– Вчера мать послала меня в деревню, – сказал он однажды утром после долгого отсутствия, – и возле таверны «Синяя корова» я увидал Боба Гаворта. Он самый сильный парень по всей степи и нарочно ездил в Шотландию заниматься спортом. Он знает меня с тех пор, как я был маленьким, и сам такой ласковый, вот я и стал расспрашивать его. Его называют атлетом; я и вспомнил про тебя, Колин, и говорю ему: «Отчего это у тебя мускулы так торчат, Боб? Ты что-нибудь особенное делал, чтоб быть таким сильным?» А он говорит: «Конечно, делал, меня силач из цирка научил упражняться». Я и говорю ему: «А хрупкий мальчик тоже может этак сделаться крепким?» Он смеется. «Это ты, – говорит, – хрупкий мальчик?» – «Нет, – отвечаю я, – но я знаю маленького джентльмена, который выздоравливает от долгой болезни, и мне хотелось бы показать ему эти штуки». Он такой добрый – встал и показал мне, а я делал то же самое, пока не запомнил наизусть.
Колин возбужденно слушал.
– Ты покажешь мне? – крикнул он. – Да?
– Конечно, – ответил Дикон, вставая. – Но Боб говорит, что сначала надо это делать осторожно, чтобы не устать, и надо отдыхать понемногу…
– Я буду осторожен! – сказал Колин. – Покажи же мне! Дикон, ты самый великий мальчик-чародей во всем свете!
Дикон встал и медленно проделал целый ряд несложных упражнений для укрепления мускулов. Колин следил за ним, и глаза его раскрывались все шире и шире. Некоторые из этих движений ему удалось проделать сидя; через некоторое время он осторожно сделал еще несколько, уже стоя на своих окрепших ногах. Мери начала делать то же самое.
С тех пор упражнения эти стали такой же ежедневной обязанностью, как и «заклинания», и каждый день Мери и Колин были в состоянии проделывать все больше и больше. В результате этого появлялся такой аппетит, что, если бы не корзина Дикона, которую он ставил за кустом каждый раз, когда приходил, дело было бы плохо. Но маленькая печь в ложбине и щедрость миссис Соуэрби так удовлетворяли их, что миссис Медлок, и доктор, и сиделка стали опять удивляться. Можно пожертвовать своим завтраком и пренебречь обедом, когда досыта наешься печеными яйцами и картофелем, овсяными лепешками, медом и густым пенистым молоком.
– Они почти ничего не едят, – говорила сиделка. – Они умрут с голоду, если не уговорить их принять немного пищи. А все-таки вид у них…
– Вид! – с негодованием воскликнула миссис Медлок. – Надоели они мне до смерти! Это пара бесенят! Сегодня на них одежда трещит по швам, а завтра они отворачивают носы от самых лучших блюд, которые только может приготовить кухарка, чтобы соблазнить их… Ни до чего не дотронулись вчера, даже вилкой не ткнули, а бедная женщина нарочно выдумала пудинг для них – все прислали назад. Она чуть не плакала; она боится, что будут винить ее, если они умрут с голода!
Явился доктор Крэвен и очень долго и внимательно осматривал Колина. Выражение его лица было очень встревоженное, когда он говорил с сиделкой, показавшей ему поднос с нетронутым завтраком, который она нарочно для этого оставила, но его лицо стало еще тревожней, когда он сел возле дивана Колина и стал осматривать его. Его вызывали по делу в Лондон, и он не видел мальчика целых две недели.
Когда здоровье детей восстанавливается, это происходит очень быстро. Восковой оттенок исчез с лица Колина, и на нем виднелся легкий румянец; его прелестные глаза были ясны, и впадины под ними, на щеках и на висках исчезли; словом, он очень мало напоминал хронически больного. Доктор Крэвен держал его за подбородок и соображал.
– Я слышал, что ты ничего не ешь, и меня это огорчает, – сказал он. – Это никуда не годится; ты только испортишь то, что успел поправить… А поправился ты удивительно. Ведь недавно еще ты так много ел…
– Я вам говорил, что это ненормальный аппетит.
Мери сидела неподалеку на своем табурете, и у нее внезапно вырвался из горла звук, который она так усердно постаралась заглушить, что чуть не подавилась.
– Что такое? – спросил доктор, обернувшись к ней.
Мери вдруг сделалась очень серьезной.
– Мне вдруг захотелось чихнуть… и кашлять, – ответила она с суровой укоризной, – и мне попало в горло…
– …Но я никак не могла удержаться, – сказала она Колину через некоторое время. – У меня это вырвалось, потому что я вдруг вспомнила, какую большую картофелину ты съел в последний раз и как у тебя растянулся рот, когда ты хотел прокусить толстую корочку с вареньем.
– …Не могут ли дети доставать себе пищу тайком? – спросил доктор Крэвен у миссис Медлок.
– Никоим образом, разве только выкопать из земли или сорвать с деревьев, – ответила миссис Медлок. – Они весь день в саду и видят только друг друга. И если им не нравится то, что им подают, и хочется чего-нибудь другого, то им стоит только попросить.
– Но если голод не вредит им, – сказал доктор, – то нам нечего беспокоиться. Мальчик совершенно переродился.
– И девочка тоже, – сказала миссис Медлок. – Она даже хорошеть стала с тех пор, как пополнела, и перестала быть такой угрюмой и кислой. У нее волосы лучше растут и румянец появился. Она была такая хмурая, злая девочка, а теперь она и Колин хохочут вместе, как пара сумасшедших; может быть, они от этого и полнеют…
– Может быть, – сказал доктор Крэвен. – Пусть себе смеются.
Глава XXV
…А таинственный сад все расцветал, и каждое утро там появлялись все новые чудеса. В гнезде малиновки были яйца, на которых сидела самка, согревая их своей грудью и крыльями. Сначала она была очень пуглива, и самец тоже всегда был настороже. В это время даже Дикон не подходил близко к густо заросшему уголку сада.
Особенно зорко самец следил за Мери и Колином; он, казалось, каким-то таинственным образом понимал, что за Диконом следить не надо. Когда он впервые взглянул на него своими ясными черными глазками, он как будто понял, что Дикон не чужой, а свой, нечто вроде малиновки без клюва и перьев. Он умел говорить на птичьем языке, и движения его никогда не были так порывисты, чтобы казаться угрожающими или опасными. Всякая малиновка могла понять Дикона так, что его присутствие не мешало им.
Но за остальными двумя существами необходимо было следить.
Мери и Колину не было скучно даже в ненастные дни. Однажды утром, когда дождь лил не переставая, а Колин был несколько капризен, потому что ему пришлось весь день сидеть или лежать на диване – встать и ходить было небезопасно, – на Мери вдруг снизошло вдохновение.
– Теперь, когда я уже настоящий мальчик, – сказал Колин, – мои руки и ноги и все мое тело так полны волшебной силы, что я не могу удержать их спокойно: им всегда хочется что-нибудь делать. Знаешь, Мери, когда я просыпаюсь рано утром, и птицы кричат, и все кричит от радости – даже деревья и все другое, чего мы не слышим, – мне так и хочется выскочить из кровати и самому закричать. А если бы я это сделал… подумай-ка, что было бы!
Мери покатилась со смеху.
– Прибежала бы сюда сиделка, прибежала бы миссис Медлок, и обе подумали, что ты сошел с ума, и послали бы за доктором!
Колин даже расхохотался. Он вообразил, какой вид был бы у них у всех, как испугались бы они его вспышки, как изумились бы тому, что он стоит!
– Я хотел бы, чтоб мой отец приехал домой, – сказал он. – Я сам хочу сказать ему все. Я всегда думаю об этом, но ведь так не может больше продолжаться. Я не могу больше лежать спокойно и притворяться… И вид у меня совсем другой… Жаль, что сегодня дождь идет!
В это время на Мери и снизошло вдохновение.
– Колин, – начала она таинственно, – ты знаешь, сколько в этом доме комнат?
– Около тысячи, вероятно, – ответил он.
– В нем есть около сотни комнат, в которые никто никогда не ходит, – сказала Мери. – Однажды, в дождливый день, я пошла и заглянула во многие из них. Никто не знал, хотя миссис Медлок чуть не поймала меня. Я заблудилась, когда шла назад, и остановилась в конце твоего коридора. Тогда я во второй раз услышала, как ты плакал.
Колин вдруг сел на своем диване.
– Сто комнат, в которые никто не ходит! – сказал он. – Ведь это почти то же, что таинственный сад. А что, если мы пойдем и заглянем в них? Ты можешь повезти мое кресло, и никто не узнает, куда мы делись!
– Я так и думала, – сказала Мери. – Никто не посмеет пойти за нами… Там есть галереи, где можно бегать… Мы можем там делать упражнения… Потом, там есть индийская комната, в ней шкафчик со слонами, сделанными из слоновой кости, и еще всякие комнаты…
– Позвони, – сказал Колин.
Когда сиделка вошла, Колин стал давать ей приказания.
– Я хочу мое кресло, – сказал он. – Мери и я пойдем смотреть запертые комнаты в доме. Джон может довезти меня до картинной галереи, потому что там есть несколько ступеней… А потом пусть он уйдет и оставит нас одних, пока я опять пришлю за ним.
С этого утра ненастные дни уже больше не были страшны для них.
Когда лакей привез кресло Колина в картинную галерею и оставил детей одних, как ему было приказано, Колин и Мери радостно переглянулись. Как только Мери удостоверилась, что Джон действительно отправился к себе в комнату, в нижний этаж, Колин сошел со своего кресла.
– Теперь я побегу с одного конца галереи до другого, – сказал он, – а потом попрыгаю, а потом мы будем делать упражнения Боба Гаворта.
Они проделали все это. Когда они осматривали портреты, то нашли портрет некрасивой девочки в зеленом парчовом платье, с попугаем на пальце.
– Это все, должно быть, мои родственники, – сказал Колин. – Они жили много-много лет тому назад. Вот эта с попугаем, кажется, одна из моих двоюродных прапрапрабабушек… Она похожа немного на тебя, Мери, – не на ту, какая ты теперь, а на ту, какой ты была, когда приехала сюда… Теперь ты потолстела и стала красивее…
– И ты тоже, – сказала Мери, и оба расхохотались.
Потом они пошли в индийскую комнату и стали играть слонами, сделанными из слоновой кости. Потом отыскали будуар, обитый розовой парчой, и подушку, в которой мышь прогрызла дыру; но мыши уже выросли и разбежались, и норка была пуста. Они видели гораздо больше комнат и сделали больше открытий, чем Мери во время первого посещения. Они отыскали много новых коридоров, закоулков, лестниц, старых картин, которые им очень понравились, и странных-странных вещей, употребления которых они даже не знали. Это было удивительно интересное утро; странствуя по дому, где жили и другие люди, и в то же самое время чувствуя себя так, как будто они были за целые мили от них, дети переживали нечто обворожительно-приятное.
– Я рад, что мы пришли сюда, – сказал Колин. – Я вовсе не знал, что живу в таком странном громадном доме. Он мне очень нравится, и мы будем сюда ходить каждый дождливый день. Мы всегда отыщем какие-нибудь новые странные закоулки.
Между прочим, они в это утро нашли такой удивительный аппетит, что, когда вернулись в комнату Колина, оказалось совершенно невозможным отослать обед нетронутым.
Когда сиделка унесла поднос вниз, в кухню, она швырнула его на кухонный стол так, чтобы кухарка могла видеть совершенно чистые блюда и тарелки.
– Поглядите-ка на это! – сказала она. – В этом доме всюду тайны, но непонятнее всего эти дети!
– Если так будет каждый день, – сказал молодой сильный лакей Джон, – то неудивительно, что он теперь весит вдвое больше, чем месяц тому назад. Я должен буду заранее оставить место, а то наделаю себе вреда!
К вечеру Мери заметила нечто новое в комнате Колина. Она заметила это еще вчера, но не сказала ничего, потому что думала, перемена произошла случайно. Сегодня она тоже ничего не говорила, но сидела и пристально глядела на картину над камином, а могла она смотреть на нее, потому что занавеска была отдернута. Это и была та перемена, которую она заметила.
– Я знаю, что тебе хочется узнать, – сказал Колин, после того как она несколько минут смотрела на портрет. – Я всегда знаю, когда тебе хочется спросить у меня что-нибудь. Ты удивляешься, почему занавеска отдернута. Теперь всегда будет так.
– Почему? – спросила Мери.
– Потому что я уже больше не злюсь, когда вижу, что она улыбается. Третьего дня я проснулся поздно ночью; луна светила так ярко, и мне показалось, что волшебная сила наполняла комнату… Все было так красиво, что я не мог лежать спокойно. Я встал и выглянул в окно. В комнате было совсем светло, и пятно лунного света падало на занавеску… Что-то заставило меня подойти и дернуть шнурок… Она глядела прямо на меня и как будто смеялась, потому что была рада, что я стою там. Поэтому мне хотелось глядеть на нее. Теперь мне всегда хочется смотреть, как она смеется… Я думаю, что она сама тоже, пожалуй, была волшебница.
– Ты так похож на нее теперь, – сказала Мери, – что иногда я думаю, что ты ее дух в образе мальчика.
Эта мысль произвела сильное впечатление на Колина. Он долго думал об этом и потом медленно ответил:
– Если бы я был ее дух… мой отец любил бы меня!
– А ты хотел бы, чтобы он тебя любил? – осведомилась Мери.
– Я ненавидел портрет, потому что отец не любил меня… Если бы он полюбил меня, я, пожалуй, рассказал бы ему про волшебную силу. Может быть, он от этого стал бы веселее…
Глава XXVI
Вера детей в «волшебную силу» была непоколебима. После утренних «заклинаний» Колин иногда читал им «лекции» о ней.
– Я люблю делать это, – объяснил он, – потому что, когда я вырасту и совершу важные научные открытия, я должен буду читать о них лекции; значит, это навык. Теперь лекции мои короткие, потому что я еще маленький и еще потому, что Бен опять уснет.
– Самое лучшее в лекциях, – сказал Бен, – это то, что человек может встать и сказать все, что ему угодно, и никто другой не может ему ответить. Я бы и сам иногда не прочь был прочесть лекцию.
Когда Колин произносил свои речи под деревом, старый Бен не сводил с него глаз. Его интересовала не столько «лекция», сколько ноги мальчика, которые с каждым днем становились крепче и прямее, его голова, которая была так красиво поставлена, его щеки, которые стали полными и круглыми, и его глаза, в которых начал появляться такой же свет, как когда-то в других, памятных Бену глазах. Иногда Колин, чувствуя на себе пристальный взгляд Бена, старался догадаться, о чем он думает, и однажды спросил его об этом:
– О чем ты думаешь, Бен?
– Я думал, – ответил Бен, – что в тебе прибавилось фунта три-четыре весу на этой неделе, за это я ручаюсь… Я бы хотел посадить тебя на весы…
– Это все волшебная сила и… лепешки и молоко миссис Соуэрби! Видишь, научный опыт удался!
В это утро Дикон явился слишком поздно, чтобы слышать «лекцию». Он пришел, весь раскрасневшись от бега, и его смешное лицо сияло больше, чем обычно. После дождей им обычно приходилось много полоть, и они сейчас же принялись за работу. Колин уже умел полоть так же хорошо, как любой из них, и в то же самое время мог читать свою «лекцию».
– Волшебная сила действует всего лучше, когда сам работаешь, – сказал он. – Это чувствуешь в костях и мускулах. Я буду читать книжки о костях и мускулах, но сам напишу книжку про волшебную силу. Я теперь уже собираюсь это сделать… и все узнаю новое.
Через некоторое время он вдруг бросил скребок и встал на ноги. Мери и Дикону показалось, что какая-то внезапно пришедшая ему в голову мысль заставила его сделать это. Он вдруг выпрямился во весь рост и в каком-то упоении взмахнул руками; лицо его горело, и его странные глаза широко раскрылись от радости. Он как будто окончательно понял что-то в эту минуту.
– Мери! Дикон! – крикнул он. – Поглядите на меня!
Они перестали полоть и поглядели на него.
– Вы помните первое утро, когда вы привезли меня сюда? – спросил он.
Дикон пристально глядел на него.
– Конечно, помним, – ответил он.
Мери тоже глядела пристально, но ничего не говорила.
– Только сейчас, сию минуту, – сказал Колин, – я сам вспомнил об этом, когда поглядел на свою руку со скребком… Я поднялся на ноги, чтоб узнать, правда ли это! Это правда! Я здоров, здоров!
Он и прежде знал это, надеялся, чувствовал и думал об этом, но именно в эту минуту на него как будто сразу хлынуло что-то – радостное сознание и уверенность в этом, – а чувство это было так сильно, что он не мог не заговорить.
– Я буду жить вечно… во веки веков! – гордо воскликнул он. – Я узнаю тысячи и тысячи вещей… про людей и про тварей, и про все, что растет, как Дикон! И я всегда буду вызывать волшебную силу! Я здоров, здоров! Мне хочется крикнуть что-нибудь – что-нибудь радостное и благодарное!
Бен Уэтерстафф, который работал возле розового куста, обернулся и поглядел на него.
– Ты мог бы спеть славословие, – посоветовал он самым ворчливым тоном, хотя не имел никакого определенного мнения о славословии и напомнил об этом без особого благоговения.
Но у Колина был пытливый ум, и он никогда не слышал про славословие.
– Что это такое? – спросил он.
– Дикон может спеть тебе это, я думаю, – ответил Бен.
– Это поют в церкви, – ответил Дикон с улыбкой. – Моя мать говорит, что это, наверно, поют жаворонки, когда просыпаются утром.
– Если она так говорит, значит, это хорошая песня, – сказал Колин. – Я сам никогда не был в церкви. Я всегда был болен. Спой, Дикон, мне хочется послушать!
Дикон сделал это очень просто и непринужденно. Он понимал чувства Колина лучше его самого, понимал инстинктивно, не подозревая даже, что понимает. Он стащил шапку с головы и с улыбкой оглянулся вокруг.
– Ты должен снять шапку, – сказал он Колину, – и ты тоже, Бен, и надо встать.
Колин снял шапку. Солнечные лучи блестели на его густых волосах, и он напряженно следил за Диконом.
Дикон встал среди деревьев и розовых кустов и запел просто и непринужденно, приятным и сильным детским голосом:
– Хвалите Господа, Который ниспосылает все блага;
Хвалите Господа, все создания на земле,
Хвалите Его, все сонмы Небесные,
Хвалите Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь.
Когда он закончил, Бен остался стоять неподвижно, упрямо стиснув зубы, не сводя тревожного взгляда с Колина. Лицо Колина было задумчиво.
– Это очень хорошая песнь, – сказал он. – Она мне нравится. Может быть, это и есть то, что мне хочется сказать… когда я хочу крикнуть, что благодарен волшебной силе… – Он остановился и подумал, несколько озадаченный. – Быть может, это и есть волшебная сила… быть может, она именно это… Быть может, это одно и то же… Как можно знать точное название всему? Спой это опять, Дикон! Давай попробуем. Мери… я тоже хочу петь… это моя песнь. Как она начинается, Дикон? «Хвалите Господа, Который ниспосылает все блага»?
Они снова спели – Мери и Колин так мелодично, как умели; голос Дикона звучал довольно громко и красиво, а при второй строке Бен хрипло откашлялся и при третьей запел очень сильно, даже слишком. Когда затихло «аминь», Мери заметила, что с Беном случилось то же самое, что в тот день, когда он узнал, что Колин не калека, – его подбородок дергался, и сам он мигал, и его загрубелые старческие щеки были влажны.
– Я прежде никогда не понимал смысла в славословии, – сказал он хрипло, – а теперь, пожалуй, изменю свое мнение… Я уверен, что в тебе прибавилось пять фунтов весу на этой неделе, мистер Колин, целых пять!
Колин смотрел в саду на что-то, привлекшее его внимание, и выражение лица его вдруг стало испуганным.
– Кто-то идет сюда? – быстро спросил он. – Кто это?
Калитка в поросшей плющом стене тихо отворилась, и вошла какая-то женщина. Она вошла при последней строке их песни и остановилась, слушая и глядя на них. На фоне плюща, в длинной синей накидке, на которой пестрели пятна солнечного света, проникавшего сквозь листву, с приятным, свежим лицом, улыбавшимся издали среди зелени, она походила на иллюстрацию в какой-нибудь книге Колина. У нее были чудные ласковые глаза, которые, казалось, смотрели на все сразу – на всех детей, на Бена, на «тварей», на каждый распустившийся цветок. Как ни неожиданно было ее появление, никто из них не подумал, что она ворвалась к ним без позволения. Глаза Дикона так и светились.
– Это мать, вот кто это! – крикнул он и бегом пустился к ней.
Колин тоже направился к ней, а за ним и Мери.
– Это моя мать! – опять сказал Дикон, когда они встретились. – Я знал, что тебе хочется ее видеть, я ей сказал, где спрятана калитка.
Колин протянул ей руку с какой-то гордой застенчивостью.
– Мне хотелось видеть вас даже тогда, когда я был болен, – сказал он, – вас, и Дикона, и таинственный сад… А прежде мне никогда ничего и никого не хотелось видеть.
При виде его приподнятого лица ее лицо вдруг изменилось. Оно вспыхнуло, углы рта дрогнули, и глаза на миг точно заволоклись туманом.
– О, милый мальчик! – вырвалось у нее, и голос ее дрогнул. – Милый мальчик! – сказала она, а не «Мистер Колин». Она, вероятно, сказала бы то же самое Дикону, если бы увидела на его лице выражение, которое тронуло бы ее. Колину это очень понравилось.
– Вы удивляетесь, что я такой здоровый? – спросил он.
Она положила руку ему на плечо и улыбнулась.
– Конечно, – сказала она, – но ты так похож на свою мать, что у меня сердце дрогнуло.
– Как вы думаете, – спросил он с некоторым замешательством, – может мой отец полюбить меня за это?
– Да, конечно, милый мальчик, – ответила она, ласково погладив его по плечу. – Он должен приехать домой, должен приехать!
– Сюзанна Соуэрби, – сказал Бен, подойдя поближе к ней, – посмотри-ка на ноги мальчика, пожалуйста! Три месяца тому назад они были похожи на барабанные палочки в чулках… и люди говорили, что они кривые. А теперь посмотри-ка на них!
Сюзанна Соуэрби засмеялась ласковым смехом.
– Они скоро будут славные, крепкие, – сказала она. – Пусть себе играет и работает в саду, да пьет и ест досыта, тогда лучше их не будет во всем Йоркшире, и слава Богу за это!
Она положила обе руки на плечи Мери и окинула ее маленькое лицо материнским взглядом.
– И ты тоже, – сказала она, – ты выросла такая же крепкая, как наша Сюзанна-Элен. Ты тоже, верно, на свою мать похожа. Наша Марта говорила, будто слышала от миссис Медлок, что она была красивая… Настоящая алая роза будешь, когда вырастешь, моя девочка!
У Мери не было времени обращать много внимания на перемену в своей наружности. Она знала только, что стала «другая», но когда вспомнила, с каким удовольствием смотрела когда-то на свою мем-саиб, она очень обрадовалась, услышав, что когда-нибудь будет похожа на нее.
Сюзанна Соуэрби обошла с ними весь сад; ей рассказали всю историю его и показали каждое дерево, каждый куст, который ожил. Колин шел рядом с нею с одной стороны, а Мери – с другой; оба смотрели на ее ласковое румяное лицо и оба втайне удивлялись приятному чувству, которое она вызывала в них. Она, казалось, понимала их, как Дикон понимал своих «тварей». Она наклонялась к цветам и говорила о них так, как будто они были дети. Сажа шла следом за нею, каркнула раза два и потом взлетела ей на плечо. Когда дети рассказали ей про малиновку и про первую попытку ее детенышей полетать, она опять засмеялась тихим ласковым смехом.
– Я думаю, что учить птенцов летать – все равно что учить детей ходить… Боюсь, у меня голова кругом пошла бы, если бы у моих были крылья, а не ноги, – сказала она.
Она показалась им такой удивительной женщиной, что ей, наконец, рассказали про волшебную силу.
– Вы верите в волшебство? – спросил Колин после того, как рассказал ей про индийских факиров.
– Верю, мой мальчик, – ответила она. – Это название мне известно, но разве дело в названии? Это, пожалуй, французы зовут иначе, а немцы иначе… То самое, что заставляет семена расти и солнце сиять, сделало тебя здоровым мальчиком… и это Добрая сила… Она не как мы, бедные глупцы, которых надо звать по имени… Добрая сила об этом не беспокоится… Она делает свое… целые миры создает, такие как наш. Верь всегда в Добрую силу, верь, что ее много в мире, – и называй ее как хочешь… Это ты ей пел, когда я вошла в сад?..
– Мне было так хорошо, – сказал Колин, устремив на нее свои странные прелестные глаза. – Я вдруг почувствовал, что я совсем другой, что у меня сильные руки и ноги и я могу стоять и копать… Я вскочил, и мне захотелось крикнуть что-нибудь…
– Волшебная сила слушала, когда ты пел славословие… Она слушала бы, что бы ты ни пел; не в этом дело, а в твоей радости. О, мой мальчик, что за дело до имени Создателю радости? – И она опять слегка потрепала его по плечу.
В корзинке миссис Соуэрби в этот день было уложено столько, что можно было устроить настоящий пир. Когда они проголодались и Дикон притащил корзинку, миссис Соуэрби с детьми уселась под их деревом, глядя, как они поглощали еду, смеясь и изумляясь их аппетитам. Она была очень весела и смешила их, рассказывая им много забавного и смешного; она рассказывала им сказки на протяжном йоркширском наречии, учила их новым словам. Она никак не могла удержаться от смеха, когда дети рассказали ей, что Колину становится все труднее притворяться капризным и больным.
– Мы никак не можем удержаться от смеха, когда бываем вместе, – пояснил Колин. – Мы стараемся заглушить его, но он все-таки вырывается…
– А мне вот какая мысль часто приходит в голову, – сказала Мери, – и я никак не могу удержаться от смеха, когда вдруг вспоминаю об этом… Я все думаю, что, если у Колина лицо сделается похожим на луну! Оно пока еще не похоже, но каждый день становится все круглее… Что, если оно станет похожим на луну, что мы тогда будем делать?
– Я вижу, тебе еще придется немного притворяться, – сказала миссис Соуэрби, – но не особенно долго. Мистер Крэвен приедет домой.
– Вы думаете, что он приедет? – спросил Колин. – Почему?
Сюзанна Соуэрби тихо засмеялась.
– Я думаю, ты очень огорчился бы, если бы он узнал все прежде, чем ты сам, по-своему, сказал бы ему об этом. Ты, верно, ночи не спал и все строил планы…
– Я никому бы не позволил рассказать ему, – сказал Колин. – Каждый день я придумываю новые способы… А теперь мне кажется, что я просто вбежал бы к нему в комнату!
– Он бы порядком испугался, – сказала миссис Соуэрби. – Хотела бы я видеть его лицо, очень хотела бы! Он должен вернуться домой, непременно должен!
Потом они толковали о поездке к ней в коттедж. Все было заранее обдумано; предполагалось поехать степью и завтракать на открытом воздухе, среди вереска. Они хотели видеть всех двенадцать детей и сад Дикона.
Наконец миссис Соуэрби встала, чтобы вернуться в дом, к миссис Медлок. Колина тоже пора было везти домой. Прежде чем он уселся в свое кресло, он стал возле миссис Соуэрби, устремив на нее какой-то растерянный, но полный обожания взгляд, и вдруг крепко схватил полу ее плаща.
– Вы… вы как раз то, что мне надо, – сказал он. – Мне хотелось бы, чтобы вы были и моей матерью, и Дикона тоже…
Сюзанна Соуэрби вдруг нагнулась и своими теплыми руками крепко прижала его к груди под синим плащом. Глаза ее опять заволоклись туманом.
– О, милый мальчик! – сказала она. – Я верю, что твоя родная мать теперь в этом саду… Она не может быть далеко… Твой отец должен вернуться к тебе, непременно должен!
Глава XXVII
С самого начала мира в каждом столетии было сделано какое-нибудь чудесное открытие. В последнем столетии было сделано больше удивительных открытий, чем в каком-либо другом; а в теперешнем, новом столетии будут, вероятно, сделаны еще более удивительные открытия.
Сначала люди не хотят верить, что какая-нибудь странная новая вещь может быть сделана; потом начинают надеяться, что это можно будет сделать; потом они видят, что это можно сделать; потом это делают, и все удивляются, почему это не было сделано столетия тому назад.
Одна из новых истин, до которой люди стали добираться еще в прошлом столетии, то, что мысли – просто-напросто мысли, – так же сильны, как электрические батареи; так же полезны, как солнечный свет, или так же вредны, как яд. Позволить тяжелой или дурной мысли забраться в ваш мозг так же опасно, как позволить микробам скарлатины забраться в ваше тело. Если дать ей там остаться после того, как она забралась туда, то от нее, пожалуй, не освободишься во всю жизнь.
До тех пор пока мозг Мери был полон неприятных мыслей, недовольства, дурных мнений о людях и упорного нежелания быть довольной или заинтересованной чем-нибудь, она была желтым, болезненным и несчастным ребенком. Но судьба была очень добра к ней, хотя она и не знала этого; ее стало толкать в разные стороны – для ее же собственного блага. Когда в мозгу ее появились мысли о малиновке, о степном домике, где жило столько детей, о старом угрюмом чудаке-садовнике, о простой йоркширской девушке-горничной, о весне, о таинственном саде, который оживал с каждым днем, о степном мальчике и его «тварях», в мозгу не осталось места для неприятных мыслей, которые делали ее такой бледной и усталой.
До тех пор пока Колин лежал взаперти в своей комнате и думал только о своем страхе, о своей слабости, о том, как он не любит людей, которые глядят на него; пока он ежечасно вспоминал о своем горбе и близкой смерти, он был истеричным, полупомешанным маленьким ипохондриком, который ничего не знал ни о солнечном свете, ни о весне, не знал, что он может выздороветь и встать на ноги, если только попробует сделать это.
Когда его новые, хорошие мысли стали вытеснять старые, отвратительные, к нему стала возвращаться жизнь, по его жилам потекла здоровая кровь и стали прибывать силы. Его «научный опыт» оказался простым и удобоисполнимым, и в нем не было ничего необычайного.
…А в то время, когда оживал таинственный сад и вместе с ним оживали двое детей, далеко-далеко, среди чудных фиордов Норвегии, среди гор и долин Швейцарии скитался человек, ум которого целых десять лет наполняли только мрачные, удручающие мысли. У него не было мужества; он никогда не попытался занять своего ума какими-нибудь другими мыслями, вместо мрачных. Он скитался среди голубых озер, а мысли его были все те же; он отдыхал на склонах гор, устланных коврами ярко-голубых цветущих генциан, где воздух был насыщен благоуханием цветов, а мысли его были все те же. Страшное несчастье поразило его, когда он был счастлив; душа его наполнилась мраком, и он упрямо не позволял никакому светлому лучу проникнуть туда. Он забыл свой долг и покинул свой дом. Когда он путешествовал, вид у него был такой мрачный, что причинял неприятность другим людям, потому что он как будто все вокруг отравлял своей тоскою. Посторонние люди по большей части думали, что это или полупомешанный, или человек, у которого на совести есть какое-нибудь тайное преступление. Это был высокий мужчина, с исхудалым лицом и неровными плечами, и в книгах гостиниц он всегда вписывал имя Арчибальд Крэвен, Миссельтуэйт-Мэнор, Йоркшир, Англия.
Он много путешествовал с тех пор, когда видел у себя в кабинете Мери и сказал ей, что она может взять себе «клочок земли». Он побывал в самых красивых местах Европы, хотя нигде не оставался больше нескольких дней. Он выбирал самые тихие и заброшенные уголки. Он бывал на склонах гор, вершины которых уходили в облака, и смотрел на вершины других гор, когда восходило солнце, обливая их таким светом, что казалось, будто видишь сотворение мира.
Но этот свет, по-видимому, никогда не касался его самого, пока однажды ему не показалось, что впервые за все десять лет с ним произошло что-то странное. Он был в чудной аллее в Тироле, один, и его окружала такая красота, которая могла согреть и осветить душу любого человека. Он долго шел, но душа его не осветилась. Наконец, почувствовав усталость, он бросился отдохнуть на мягкий ковер мха возле ручья. Это был маленький прозрачный ручеек, журчавший по узкому руслу среди пышной влажной зелени. Когда ручей журчал по камням, звуки иногда напоминали тихий смех. Человек видел, как приходили птицы, наклоняли головки и пили из ручья, а потом, взмахнув крыльями, улетали прочь. Ручей казался как бы живым существом, но его журчание точно еще усиливало окружающую тишину. В долине было очень, очень тихо.
Сидя и глядя на прозрачную, куда-то бежавшую воду, Арчибальд Крэвен чувствовал, как отдыхает его тело и на душе становится так же спокойно и тихо, как спокойно было в самой долине. Он подумал, не засыпает ли он, но он не засыпал. Он все сидел и глядел на залитую лучами солнца воду, и глаза его стали замечать и растительность на берегу. Множество чудных голубых незабудок росло так близко к воде, что листья их были мокры, и он стал смотреть на них, вспоминая, как, бывало, глядел на них много лет тому назад. Он даже с нежностью подумал о том, как красиво все это и как чудесны эти крошечные голубые цветочки. Он не подозревал, что эта простая мысль медленно забиралась в его мозг, мало-помалу вытесняя другие мысли, как будто в стоячем пруду вдруг начал бить чистый, ясный родник, все расширяясь и расширяясь, пока, наконец, не вытеснил всю стоячую воду. Но он, конечно, не думал ни о чем подобном; он только заметил, что в долине как будто становилось все тише и тише в то время, как он сидел и глядел на нежные, ярко-голубые цветы. Он не знал, сколько времени он просидел так и что с ним происходило, но, наконец, шевельнулся, точно просыпаясь от сна, медленно поднялся и встал на мягком ковре мха, глубоко и медленно дыша и удивляясь самому себе. Что-то как будто тихо ожило и оттаяло в нем.
– Что это? – прошептал он, проведя рукою по лбу. – Я чувствую, что я… как будто оживаю!
Он сам ничего не понимал; но месяцы спустя, когда он уже был в Миссельтуэйте, он вспомнил этот странный час и совершенно случайно узнал, что в этот же самый день Колин воскликнул, войдя в таинственный сад:
– Я буду жить всегда, во веки веков!
Это удивительное спокойствие оставалось в его душе весь вечер, и он спал новым, мирным сном; но это оставалось недолго. Он не знал, что его можно было удержать. В следующий вечер он снова раскрыл свою душу мрачным мыслям, и они целым потоком хлынули туда. Он покинул долину и снова пустился странствовать. Но бывали минуты, даже часы, и это казалось ему очень странным, когда он, сам не зная почему, чувствовал, что его тяжелое бремя точно поднимается и что он живой человек, а не мертвый. Медленно-медленно, сам не понимая этого, он «оживал», так же, как таинственный сад.
Когда золотое лето сменилось еще более золотой осенью, он отправился на озеро Комо. Его окружала сказочная красота, и он проводил целые дни на хрустально-голубой поверхности озера или бродил среди нежной густой зелени холмов, бродил столько, чтобы устать и быть в состоянии заснуть. В это время он стал спать гораздо лучше, и сны его не были так страшны. «Быть может, – думал он, – мое тело крепнет».
Оно действительно крепло, но благодаря тем редким мирным часам, когда мысли его изменялись, крепла и его душа. Он начал думать о Миссельтуэйте и о том, не поехать ли ему домой. По временам он смутно вспоминал о своем мальчике и спрашивал себя, что он почувствует, когда снова подойдет к резной кровати и снова взглянет на острое, бледное, как слоновая кость, спящее лицо и на черные ресницы, обрамляющие крепко закрытые глаза. Эта мысль приводила его в содрогание.
В один чудесный день он зашел так далеко, что, когда возвращался, луна уже поднялась высоко и всюду вокруг были пурпурные тени и серебристый свет. На озере, на его берегах, в лесу стояла такая удивительная тишина, что он не вошел в виллу, в которой жил, а подошел к небольшой тенистой площадке возле самой воды и уселся на скамейку, вдыхая чудное благоухание ночи. Он чувствовал, как им снова овладевает странное спокойствие; оно все возрастало и возрастало до тех пор, пока он не уснул.
Он не знал, когда он уснул и когда ему начал сниться сон; сон этот был такой явственный, что ему казалось, будто он вовсе не спит. Он впоследствии вспоминал, что ему в это время казалось, будто он бодрствует и даже как-то особенно возбужден. Ему казалось, что в то время, когда он сидел, вдыхал запах осенних роз и прислушивался к плеску воды у своих ног, он услышал точно звавший кого-то голос. Голос был нежный, чистый, ласковый и звучал вдали. Это, казалось, было где-то очень далеко, но он слышал его так ясно, как будто это было где-то около него.
«Арчи! Арчи! – произнес голос, потом опять повторил еще нежнее и яснее: – Арчи! Арчи!»
Ему чудилось, что он вскочил на ноги, ничуть не удивившись. Голос был такой ясный, и ему казалось вполне естественным, что он его слышал.
– Лилиас! Лилиас! – отвечал он. – Лилиас, где ты?
– В саду! – донесся издали точно звук золотой флейты. – В саду!
И сон вдруг кончился. Но он не проснулся. Он крепко и мирно проспал всю эту чудную ночь. Когда он проснулся, было яркое, блестящее утро и подле него стоял слуга, пристально глядя на него. Слуга был итальянец и, как все слуги на вилле, привык без всякого удивления встречать все странные выходки своего иностранного господина. Никто никогда не знал, когда он уйдет или придет, будет ли он спать, или будет всю ночь ходить в саду, или лежать в лодке на озере. Слуга держал поднос с письмами и терпеливо ждал, пока мистер Крэвен возьмет их. Когда он ушел, мистер Крэвен еще несколько минут сидел, держа письма в руке и глядя на озеро. Он все еще испытывал какое-то странное спокойствие и еще нечто, какую-то легкость, как будто тот жестокий удар вовсе не случился, как казалось ему, как будто что-то переменилось. Он вспомнил свой сон, яркий, «действительный» сон.
– В саду! – сказал он, удивляясь самому себе. – В саду! Но калитка заперта и ключ глубоко зарыт!
Когда он через несколько минут взглянул на письма, он увидел, что одно из них, лежавшее сверху, было английское и пришло из Йоркшира. Адрес был написан рукой простой женщины, но почерк был незнакомый. Он открыл письмо, почти не думая о том, кто его писал, но первые слова сразу привлекли его внимание.
...
«Сэр! Я Сюзанна Соуэрби, которая однажды осмелилась поговорить с вами в степи. Я тогда говорила про мисс Мери. Теперь я снова беру на себя смелость говорить с вами. С вашего позволения, сэр, если бы я была на вашем месте, я бы приехала домой. Мне кажется, что вы будете очень рады вернуться, и я думаю, – прошу прощения, сэр, – что ваша леди попросила бы вас приехать, если бы она была теперь с нами. Готовая к услугам Сюзанна Соуэрби».
Мистер Крэвен прочел это письмо дважды, прежде чем положить его обратно в конверт. Он не переставал думать о своем сне.
– Я поеду в Миссельтуэйт, – сказал он. – Да, я поеду сейчас же.
Он пошел по саду по направлению к вилле и приказал Пичеру приготовиться к возвращению в Англию.
Через несколько дней он снова был в Йоркшире, и во время долгого путешествия по железной дороге он столько думал о своем мальчике, сколько не думал за все десять лет. За все эти годы у него было только одно желание – забыть о нем. Теперь же, хотя он не хотел думать о нем, воспоминания об этом постоянно возникали в его мозгу. Он вспоминал те мрачные дни, когда он неистовствовал, как безумный, потому что ребенок остался в живых, а мать умерла. Он не хотел его видеть, а когда, наконец, пошел взглянуть на него, то ребенок оказался таким хилым и жалким, что все были уверены, что он умрет через несколько дней. Но, к изумлению всех, кто за ним ухаживал, проходили дни, а ребенок жил; тогда все решили, что он будет уродом или калекой.
Он вовсе не хотел быть дурным отцом, но у него совершенно не было отцовских чувств. Он доставлял ребенку все – врачей, сиделок, всякую роскошь, но приходил в ужас от одной мысли о мальчике и заживо похоронил себя, весь уйдя в свое горе. Когда он впервые вернулся в Миссельтуэйт после годичного отсутствия и крохотное жалкое существо устало и равнодушно остановило на его лице свои большие серые глаза с черными ресницами – глаза, так похожие и так страшно непохожие на те радостные глаза, которые он любил, – он не мог выдержать этого зрелища и отвернулся, бледный как смерть. После этого он почти никогда не видел ребенка, разве только когда тот спал, и знал о нем лишь то, что он был неизлечимо больной, со злым, капризным, бешеным нравом. Его удерживали от вредных для него вспышек гнева только тем, что всегда и во всем уступали ему и позволяли делать по-своему.
Все эти мысли и воспоминания были не особенно ободряющие; но в то время, когда поезд мчал его по горным проходам и золотистым долинам, человек, который «оживал», начал думать как-то иначе, по-новому, и думы его были долги, беспрерывны и глубоки.
– Может быть, я был не прав все эти десять лет, – говорил он самому себе. – Десять лет – долгий срок. А теперь уже, может быть, слишком поздно, чтобы сделать что-нибудь, слишком поздно! О чем же я думал!
Конечно, это значило призвать не ту «волшебную силу», начав с того, чтоб сказать «слишком поздно». Даже Колин сказал бы ему это. Но он ничего не знал о «волшебной силе», ни о доброй, ни о злой; ему еще предстояло узнать об этом. Он подумал о том, не потому ли Сюзанна Соуэрби осмелилась написать ему, что поняла материнским инстинктом, что мальчику гораздо хуже, что он, быть может, смертельно болен. Если бы он не находился во власти этого странного спокойствия, всецело овладевшего им, он бы чувствовал себя еще более несчастным, чем прежде. Но это спокойствие несло с собой мужество и даже надежду. Вместо того чтобы поддаться тяжелым мыслям, он старался поверить в лучшее будущее.
«Быть может, она видела, что я еще в состоянии буду сделать ему добро, обуздать его? – думал он. – Я остановлюсь у нее по дороге в Миссельтуэйт».
Но когда он, проезжая по степи, велел остановить карету возле коттеджа, семеро или восьмеро игравших там детей сбились в одну группу и, ласково и вежливо поклонившись, заявили ему, что их мать рано утром ушла к жившей по другую сторону степи женщине, у которой недавно родился ребенок.
– А наш Дикон, – добавили они, – ушел в Миссельтуэйт-Мэнор работать в саду, куда ходит несколько раз в неделю.
Мистер Крэвен посмотрел на эту группу крепышей с круглыми, краснощекими лицами, из которых каждое по-своему улыбалось ему, и подумал о том, какие это здоровые, славные ребятишки. Он тоже улыбнулся в ответ на их ласковые улыбки, вынул из кармана золотой соверен и дал его «нашей Сюзанне-Элен», самой старшей из детей.
– Если вы это разделите на восемь частей, то у каждого из вас будет по полкроне, – сказал он.
Сопровождаемый улыбками, смехом и поклонами, он уехал, оставив за собой прыгавших от радости и толкавших друг друга детей.
Поездка по степи особенно успокоительно подействовала на него. Почему она теперь вызывала в нем чувство человека, который возвращается домой, чувство, которого, казалось ему, он уже больше никогда не мог испытать? Почему она будила в нем сознание красоты земли и неба, пурпурной дали и какое-то теплое чувство, когда он приближался к большому старому дому, где жили его предки целых шестьсот лет? В последний раз он уехал отсюда, дрожа при одном воспоминании о его запертых комнатах и мальчике, лежавшем на резной кровати под парчовым балдахином.
Возможно ли, что он найдет в нем хоть какую-нибудь перемену к лучшему и сумеет побороть в себе отвращение к нему? Как ярок был этот сон, как чуден и ясен голос, который ответил ему: «В саду! В саду!»
– Постараюсь найти ключ, – сказал он. – Постараюсь открыть калитку… Я должен… хотя не знаю почему.
Когда он приехал, слуги, встретившие его с обычными церемониями, заметили, что он выглядел гораздо лучше и что он не ушел в те отдаленные комнаты, которые обыкновенно занимал. Он прошел в библиотеку и послал за миссис Медлок. Она явилась несколько возбужденная, раскрасневшаяся и полная любопытства.
– Как поживает мистер Колин, Медлок? – осведомился он.
– Вот что, сэр, – ответила миссис Медлок. – Он… он совсем другой, так сказать…
– Хуже? – подсказал он.
– Видите ли, сэр, – постаралась она объяснить, – ни доктор Крэвен, ни сиделка, ни я не можем понять, что с ним такое.
– Почему же?
– По правде сказать, сэр, мистеру Колину, быть может, лучше, а быть может, это перемена к худшему. Аппетит у него просто невероятный, сэр, а выходки его…
– Он стал еще… еще более странным? – спросил мистер Крэвен, тревожно сдвинув брови.
– Вот именно! Он становится все более странным, если сравнить его с тем, каким он был прежде. Он, бывало, ничего не ест и вдруг начал есть, просто удивительно, сколько он ел… а потом вдруг опять перестал, и кушанья отсылались назад так, как прежде… Вы, вероятно, не знали, сэр, что он никогда не позволял вынести себя на открытый воздух. Чего только нам ни приходилось проделывать, чтобы уговорить его позволить вынести себя в кресле! Просто дрожишь, бывало, после этого, как лист. Он, бывало, доводил себя до такого состояния, что доктор Крэвен говорил, что не хочет брать на себя ответственности и заставлять его выходить. И вот, сэр, как-то вдруг, после одного из самых страшных припадков, он стал настаивать, чтобы его каждый день вывозили с мисс Мери и чтобы Дикон – мальчик Сюзанны Соуэрби – вез его кресло. Он очень привязался к мисс Мери и к Дикону, а Дикон приносил сюда своих ручных зверей, и, поверите ли, сэр, он теперь на открытом воздухе с утра до ночи!
– Как он выглядит? – был следующий вопрос.
– Если бы он ел… нормально, сэр, можно было бы подумать, что он полнеет, но мы боимся, что это, пожалуй, какая-нибудь опухоль. Иногда он как-то странно смеется, когда сидит один с мисс Мери. Прежде он никогда не смеялся. Если позволите, к вам сейчас придет доктор Крэвен. Он никогда в жизни не был в таком недоумении…
– А где мистер Колин теперь? – спросил мистер Крэвен.
– В саду, сэр. Он всегда в саду, хотя ни одному живому человеку не позволяет подойти близко, потому что боится, что тот на него взглянет.
Мистер Крэвен почти не слышал ее последних слов.
– В саду! – сказал он, и после того как отослал миссис Медлок, он все стоял и повторял: – В саду, в саду!
…Он должен был сделать усилие, чтобы понять, где он находится, и когда он совсем очнулся, то повернулся и вышел из комнаты.
…Он направился, как, бывало, делала Мери, к калитке между кустов и прошелся между лавровых деревьев и между клумб возле фонтана. Фонтан теперь бил, и его окружали клумбы ярких осенних цветов. Он перешел лужайку и повернул на длинную дорожку возле стены. Он шел не быстро, а медленно, и глаза его были устремлены на тропинку. Он чувствовал, как что-то влекло его к тому месту, которое он давно покинул, и он не знал почему. Чем ближе он подходил, тем медленнее становились его шаги. Он знал, где находится калитка, даже когда ее закрывал густой плющ, но не помнил, где именно лежал зарытый ключ. Он остановился и встал неподвижно. Густой плющ закрывал калитку, ключ был зарыт под кустами, ни один живой человек не прошел в эту калитку за целых десять лет, но из глубины сада доносились звуки. Это были звуки бегавших ног, как будто кто-то гонялся за кем-то под деревьями; странные звуки тихих, полузаглушенных голосов, восклицания и сдержанные веселые крики. Это было очень похоже на смех маленьких созданий, неудержимый смех детей, которые стараются не быть услышанными, но которые ежесекундно, в порыве оживления, готовы расхохотаться.
Потом наступил неизбежный момент, когда звуков нельзя было дольше заглушать. Ноги бежали все быстрее и быстрее, приближаясь к садовой калитке; послышалось быстрое и сильное дыхание и беспорядочный взрыв криков и смеха, которого нельзя было больше удержать, калитка в стене широко распахнулась, зеленый занавес плюща был отброшен в сторону, какой-то мальчик пронесся через калитку и, не видя постороннего человека, бросился вперед, попав чуть ли не в его объятия.
Мистер Крэвен успел вовремя расставить руки, чтобы не дать мальчику упасть из-за того, что он не заметил его; и когда мистер Крэвен, удивленный, что застал его там, слегка отстранил мальчика, чтобы посмотреть на него, у него буквально перехватило дыхание.
Это был высокий мальчик, очень красивый. Он так и сиял жизнью, и на лице его от быстрого бега горел яркий румянец. Он откинул со лба густые волосы и поднял свои странные серые глаза – глаза, светившиеся мальчишеским задором и обрамленные черной бахромой ресниц.
При виде этих глаз мистер Крэвен так и ахнул.
– Кто… что? Кто? – забормотал он.
Это было вовсе не то, чего ожидал Колин, вовсе не то, что он замышлял. И все-таки явиться вот так, на бегу, обогнав противника, – это, пожалуй, было еще лучше. Он вдруг выпрямился во весь рост. Мери, которая бежала с ним вместе и тоже пронеслась через калитку, показалось, что он вдруг стал выше ростом – на несколько дюймов выше.
– Папа, – сказал он, – это я, Колин. Ты не веришь? Я и сам почти не верю. Я – Колин.
Так же, как и миссис Медлок, Колин тоже не мог понять, почему его отец поспешно сказал:
– В саду, в саду!
– Ну, да, – торопливо продолжал Колин, – это все сад сделал, и Мери, и Дикон, и «твари»… и волшебная сила. Никто ничего не знает. Мы хранили тайну, чтобы рассказать тебе, когда ты приедешь. Я совсем здоров… Я могу обогнать Мери. Я буду атлетом!
Все это было сказано так, как говорит здоровый мальчик: лицо его горело, и слова точно перегоняли друг друга – так он был оживлен. Душа мистера Крэвена дрогнула от невыразимой радости.
Колин протянул руку и положил ее на руку отца.
– Разве ты не рад, папа? – закончил он. – Ты не рад? Ведь я теперь буду жить всегда, во веки веков!
Мистер Крэвен положил руки на плечи мальчика и несколько секунд держал его так. Он знал, что не сумеет скоро заговорить.
– Возьми меня в сад, мой мальчик, – сказал он, наконец. – И расскажи мне все.
Они повели его в сад.
Сад представлял собою смесь осенних тонов – золотистого, пурпурного, фиолетово-голубого, огненно-красного; повсюду виднелись целые снопы поздних лилий – белых и белых с красным; повсюду вились поздние розы, свешиваясь вниз целыми кистями, облитые лучами солнца, желтевшие деревья казались еще более золотистыми, и чудилось, будто стоишь в каком-то тенистом золотом храме. Мистер Крэвен стоял молча, как стояли дети, когда впервые вошли в этот сад. Он все оглядывался вокруг.
– Я думал, что здесь все мертво, – сказал он.
– Мери тоже так думала сначала, – сказал Колин, – но сад ожил.
Потом они уселись под своим деревом – все, кроме Колина, которому хотелось стоять, когда он рассказывал.
Это была самая странная история, которую он когда-либо слышал, – так думал мистер Крэвен, слушая беспорядочный детский рассказ. Таинственность, волшебная сила, дикие животные, странная ночная встреча, наступление весны, взрыв оскорбленной гордости, заставившей маленького раджу вскочить на ноги и бросить вызов в лицо старого Бена; дружба детей, «представление», великая тайна, которую они так бережно хранили… Их слушатель хохотал так, что у него на глазах выступали слезы; а иногда на глазах у него появлялись слезы, когда он вовсе не смеялся. Будущий атлет, лектор и ученый, который собирался делать великие открытия, был просто потешный, милый, здоровый маленький человек.
– А теперь, – сказал он, окончив свой рассказ, – это уже больше не должно быть тайной. Все они, пожалуй, смертельно испугаются, когда увидят меня, но я никогда больше не сяду в это кресло… Я пойду с тобою, папа, назад домой!
…Обязанности Бена Уэтерстаффа были таковы, что ему редко приходилось уходить из садов, но по этому случаю, под предлогом, что ему надо было отнести овощей на кухню, он пробрался в людскую, где миссис Медлок предложила ему выпить кружку пива, и, таким образом, ему удалось присутствовать, как ему хотелось, при самом интересном событии в Миссельтуэйт-Мэноре.
Из одного окна, выходившего во двор, можно было видеть часть лужайки. Миссис Медлок, зная, что Бен пришел из садов, думала, что он, быть может, случайно видел хозяина или даже его встречу с Колином.
– Вы кого-нибудь из них видели, Уэтерстафф? – спросила она его.
Бен отнял пивную кружку от рта и вытер губы рукою.
– Да, видал, видал, – ответил он с хитрым многозначительным видом.
– Обоих? – подсказала миссис Медлок.
– Обоих, – ответил Бен. – Спасибо вам, сударыня, я бы еще одну кружку выпил!
– А где был мистер Колин? Как он выглядел? Что они сказали друг другу?
– Этого я не слыхал, – сказал Бен, – потому что я стоял поодаль, на перекладине лестницы, и глядел через ограду… Но я тебе вот что скажу: тут, наруже, такие вещи творились, про которые вы, домашние, ничего и не знали… А если ты что-нибудь узнаешь, то узнаешь очень скоро.
Когда миссис Медлок взглянула в окно, она всплеснула руками и слегка вскрикнула, и все слуги, мужчины и женщины, которые были поблизости, бросились в комнату и стали глядеть в окно, причем глаза у всех чуть не выскочили из орбит.
По лужайке шел владелец Миссельтуэйта с таким выражением лица, какого многие из них никогда не видели у него, а рядом с ним, высоко держа голову, со смеющимися глазами, энергично и уверенно, как любой мальчик в Йоркшире, выступал Колин.Примечания
1
Дитя мое.
2
Отчим.
3
Дорогая Лика.
4
Андрей.
5
Это придет со временем, если она позволит.
6
Прощание с Неаполем. Популярная итальянская песнь.
7
Здравствуйте! О какое прелестное существо – это ваша дочь? Но она умопомрачительно хороша собою.
8
Тише.
9
Японский халатик.
10
Подушка для сиденья. В Японии сидят на циновках и подушках прямо на полу.
11
Жаровня огня.
12
Японцы ежедневно берут горячие ванны.
13
Красавица – гора близ Токио, считающаяся у японцев священной.
14
Колясочки, которые возят на себе люди.
15
Человек-лошадь.
16
Богиня милосердия.
17
Уже время, m-elle. Будьте любезны следовать за мною.
18
Очень хорошая девушка.
19
И свод лучезарный вещает
По всей беспредельной вселенной
О том, как велики и дивны
Деянья господней десницы (итал.).
20
Природа вся в цвету,
И веет тихий ветер
И шелестит в лесу.
Деревья зеленеют
И травка на лугу,
Лишь я в печальном сердце
Покоя не найду (итал.).
21
И вы знаете, о боги,
Как чисты мои желанья
И безвинно состраданье (итал.).
22
Иоанн преподобный!
Ты наш заступник святой, и к тебе мы взываем:
Да не впадем мы во грех, на земле пребывая,
К праведным нас сопричти после тихой кончины (лат.).
23
Стихотворные тексты в романе переведены А. Арго.
24
Настоящую богиню видно по походке (лат.) .
25
Слова летучи (лат.) .
26
Молитва в католической обедне: «Тебя, бога, славим…»
27
Дуреха (ит.) .
28
Пусть выходит (лат.) (выписать или считать здоровым).
29
Во имя отца, и сына, и святого духа… (лат.)
30
– Кто находится рядом с носилками?
– Два пажа и конюший.
– Отлично, они невежды. Скажи, Ла Моль, кого застал ты в своей комнате?
– Герцога Франсуа.
– Что он делал?
– Не знаю.
– С кем был?
– С неизвестным (лат.) .
31
В чем дело? (нем.)
32
Не понимаю! (нем.)
33
Иди к черту!.. (нем.)
34
Я одна; входите, дорогой мой.
35
Елизавета Австрийская – жена Карла IX.
36
Ищи и найдешь (лат.) .
37
Мари Туше.
38
Чарую всё (фр.) .
39
Речь Маргариты к послам Сарматии.
40
Ваше неожиданное появление среди этого двора преисполнило бы радостью меня и моего мужа, если бы не связанное с этим горе – утрата не только брата, но и друга.
41
Мы очень огорчены разлукой с вами и очень желали бы поехать с вами. Но тот же рок, который требует, чтобы вы безотлагательно покинули Париж, привязывает нас к этому городу. Отправляйтесь в путь, наш милый брат; отправляйтесь в путь без нас. Вам будут сопутствовать наши лучшие пожелания и надежды.
42
По-французски «смерть» – mort (мор); «безумие» – folie (фоли).
43
Так называют в Индии белых женщин.


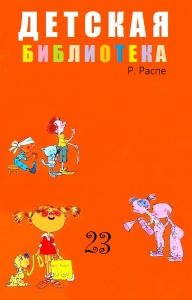



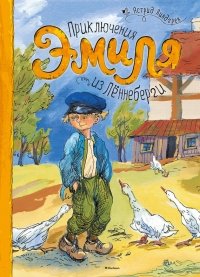
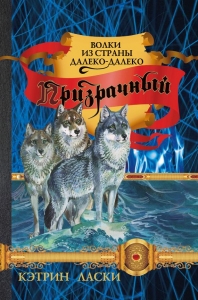
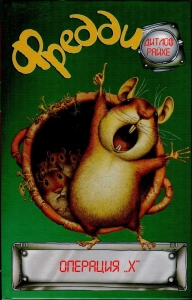



Комментарии к книге «7 историй для девочек», Александр Дюма
Всего 0 комментариев