Сергей Афоньшин Легенды и сказы лесной стороны
Сказ о счастливой подкове
В славном да Великом Новгороде при Волхве-реке жил кузнец Скоромысло, смекалистая голова, сноровистые руки. Жил— не горевал, землякам-новгородцам железо ковал, кому что надо: торговым людям — весы да запоры, ратникам — мечи да копья, а ратаям — сошники да орала. Никакое дело от рук Скоромысла не отбивалось, заморские гости, и те знали к нему дорогу. Три молодца-сына отцу в кузнечном деле помогали, всякую вещь на славу ковали, чтобы люди довольны были.
Свое ремесло кузнечное Скоромысло широко повел, железо и медь у боярина Мирошкиныча покупал, а иной раз и под запись брал. А займодавец-боярин все Кузнецовы долги на особой доске записывал и пеню-проценты к ним присчитывал. И росли долги кузнеца на деревянной доске, как тесто на хмельной опаре. Только скопит деньги, чтобы с боярином расквитаться, хвать — долги к тому часу втрое выросли! Вот так и попал честной кузнец в кабалу к боярину. Начал заимодавец старого кузнеца стращать: либо в долговой яме с железом на шее сидеть, либо работать на боярина без срока, без отдыха, ковать кандалы и цепи железные на строптивых новгородцев, на молодцов из вольницы.
Как поведал Скоромысло сыновьям о своей беде, стукнули молодцы-кузнецы по наковальням молотами тяжелыми и молвили:
— Не бывать тому, чтобы честной старик, наш отец родной, с железом на шее у Мирошкинычей в яме сидел! Не ковать нам кандалы да цепи на несчастных людей в угоду заимодавцу-боярину! Подговорили кузнецы своих дружков из вольных ушкуйников, пособрали инструмент кузнечный, баб да ребятишек да и пропали из Новгорода темной ночью, словно в воду Волхова канули. Через леса и болота, речками да озерами, а где и по суху, волоком, добрались кузнецы с ушкуйниками до истоков великой русской реки и с великим трудом до широкого русла доплыли. Тут распрощались кузнецы-новгородцы с дружками из вольницы и на трех ушкуях вниз по Волге поплыли. В конце весны причалили ко граду Радилову три ушкуя загруженные, с народом старым и молодым, с бабами и ребятишками. Княжья стража к ним навстречу повысыпала, окружила и доведываться начала, кто да откуда. Самый старый из ушкуйников таково сказал, что плывут они от самого Новгорода с Волхва-реки, а об остальном только самому князю поведает. Удивились княжьи люди-стражники:
— Вот лютой какой — с князем говорить захотел! А как ты да лихо задумал?
— Али вы басурманы какие, что русских людей до своего князя не допускаете? — ответил старый новгородец.
Потолковали между собой дружинники, окружили кузнецов с бабами и детками и на княжий двор привели, за стену частокольную, за ворота дубовые, железом кованные. Вышел на резное крыльцо терема сам князь Юрий Всеволодович, гостей окинул взглядом пытливым. Тут старый Скоромысло вперед шагнул, низенько князю поклонился и о своей беде рассказал. А закончил словом таким: «Не поднялась рука ковать железы на братьев-новгородцев, хотим ковать мечи и шеломы для твоих воинов!» Приметил князь, что старый кузнец, разговаривая, изредка головой кивал, словно носом клевал или шапку-невидимку с затылка на лоб стряхивал. И спросил по-доброму:
— А отчего ты, старик, головой, словно дятел, долбишь?
В ответ широко, от души улыбнулся старик:
— А я Дятел и есть! За привычку головой кивать сызмала так прозвали. Скоромысло по имени, Дятел по прозвищу. И все племя мое — детки со внучатами — Дятлами прозваны! Нет и не было у нас, князь, ни кубков золотых, ни ковшей заморских серебряных, ни мечей булатных дамаскинских. Но привез я тебе из Новгорода дар диковинный…
С теми словами достал кузнец из кожаной сумы подкову конскую, в походах досветла избитую, и к ногам князя положил:
— Мы, новгородцы, от заморских гостей примету переняли: кто подкову найдет, тому счастье само придет; кому подкову дарят, тому счастье в руки валят, удачу в жизни сулят!
Поднял князь Юрий Всеволодович подкову дареную, оглядел всю семью Скоромыслову и позадумался. Потом такое сказал:
— Невыгодно мне вас здесь на житье оставлять. Да и вам тут, после жизни новгородской, тесно покажется. Но поселю тебя, старый Дятел, на таком приволье, что князем во князьях будешь жить. Заморского вина вам там не пивать, в шелка своих баб не одевать, но житье будет вольготнее княжеского. Живут там рыбари, монахи да пахари, деревянными оралами землю ковыряют, голыми руками жито с поля убирают, на костяные крюки осетров ловят, а железный гвоздь да топор для них дороже золотого ковша! Будешь там жить и ковать и ремеслом своим мне, твоему князю, служить. А железом и милостью я тебя не забуду!
В тот же день кузнецы Дятлы с княжескими провожатыми вниз по Волге поплыли до диких лохматых гор, под которыми Ока в Волгу вливалась. Тут бывалые княжьи люди место для причала выбрали и высадили семью Скоромыслову при устье ручья, что промеж гор по оврагу бойко бежал. Огляделись Дятлы и начали строиться да обживаться. На помогу коренные жители пришли — и русь, и мордва, и черемисы с той стороны. Помогали и словом добрым толковым, и работой спорой. Оправдались слова князя Юрия, что кузнецам напоследок сказал: «С русскими уживайтесь и мордвой не гнушайтесь. С мордвой брататься да кумиться грех, зато лучше всех! А у черемис только онучки черные, а совесть белая!» Скоро появились на склоне горы над ручьем новые просторные избы с крохотными оконцами, а ближе к воде — кузницы. И ожили дикие берега при слиянии двух могучих рек. Пылающие горнила кузниц манили к себе людей, и со всех сторон потянулись они к поселению новгородца Скоромысла. А старый Дятел и его сыновья с темна до темна ковали и ковали все, что на потребу было русскому, мордвину и черемису-заволжанину: мечи и орала, копья и медвежьи рогатины, топоры и остроги, подковы и гвозди. И прошла о Дятловых кузнецах великая слава вверх по Оке и в оба конца Волги великой.
Дремучие горы днем хмуро вековыми деревьями зеленели, а по ночам сверкали пылающими горнилами кузниц. И дивился народ радостно: «Куют и куют наши Дятлы, рано встают, поздно ложатся и устали не знают!» А когда волжские булгары русь и мордву грабежами на полночь потеснили, кузнецам спать и вовсе некогда стало. Побросавши жилье и добро, бежал народ от булгар к Оке, новые места обживать и у Дятловых кузниц по горам, как пчелы вокруг матки, селиться и роиться начали. И первым делом в кузницу, ковать топор да мотыгу, острогу да рогатину. Кузнечихи Скоромысловы тоже сложа руки не сидели. Научили они русских и мордовских баб заморские кружева плести, цветные узоры по одежке вышивать, шерстяные рубахи-подкольчужницы искусно вязать.
Вольготно зажили кузнецы Дятловы, часто добрым словом князя Юрия вспоминали.
А для князя Юрия Всеволодовича с того дня, как Скоромысло ему подкову на счастье поднес, сплошные удачи начались. Поначалу в Суздаль на княжение перебрался, а потом и великим князем стал. Дареную подкову князь над порогом терема прибил и Скоромысла не забывал. Как узнал он, что булгары приволжский народ зорят и новым походом грозят, послал по Оке челны с железом и людей с наказом, чтобы наковали кузнецы подков и подковных гвоздей на княжий полк. И только успели Дятлы тот наказ выполнить, как от Владимира походом на булгар дружина пошла во главе со Святославом, братом князя великого.
На устье Оки остановился Святослав от пыли отряхнуться, доспехи поправить, коней перековать. Позвал князь к своему шатру всех кузнецов роду Скоромыслова и спрашивает:
— Можете ли, хватит ли вашей силушки мой полк заново перековать, боевым коням копыта подровнять, старые подковы на новые сменить?
В ответ ухмыльнулся старый Дятел хитро таково:
— На то мы и кузнецы. Кто чего заслужил, тому так и сделаем!
И тут же кузнецы за дело взялись. Не заводя в станок, с колена лихих коней ковали, сами работали и воинам показом помогали! Потом как пошла Святославова рать на булгар, кони гололедь в брызги: разбивали, из камней огонь высекали, вражьих коней острыми подковами разили. Разбил, разогнал Святослав вражью рать по чистому полю. После того булгары миру запросили, много добра уплатили и зареклись русь и мордву обижать. Княжья дружина домой ко Владимиру поворотила с победой, а кузнецы Дятлы опять за мирную работу взялись.
Лето ли, два ли прошло, как вдруг нежданно-негаданно опять дружина пришла, со князем Юрием Всеволодовичем. Весь народ с гор спустился великого князя встречать, а впереди других кузнецы Дятлы с хлебом-солью на белой скатерти. Вот тут и сказал князь Юрий старому Скоромыслу слово приветливое:
— От подарка-подковы мне удача в делах и в жизни пошла. Мастерством своим помог ты, старик, дикий край оживить, заселить и диких булгар усмирить. А теперь помогай этот край от врагов на веки веков укрепить!
И поведал князь о том, что задумал он русское поселение на приволжских горах валом да крепостью обнести. В тот же день Юрий Всеволодович сам гору обошел, осмотрел и указал, где башням быть, где крепость городить, рвы копать, валы насыпать. И зашумел народ вокруг Дятловых кузниц. Рады были люди, что их избы да клети будут городьбой обнесены, частоколом из дубняка долговечного, и старались на постройке крепости изо всей силушки. А кузнецы Дятлы всю работу намертво железом скрепляли. От весны до весны прожил князь Юрий под новым градом, доглядывал за постройкой вала и крепости с башнями на шесть углов из бревен дубовых. И, заложивши под конец на круче холма церковку, засобирался князь ко стольному граду своему Володимеру. Вот позвал Юрий Всеволодович к своему шатру всех кузнецов рода Скоромыслова, за стол княжеский пировать на прощание и молвил Дятлу старому:
— Ну, старина, попрощаемся! Ты мне подкову на счастье поднес, а я тебе на горе подкову выстроил!
И кивнул князь на городьбу с башнями. Как глянули Дятлы на ограду кремля, видят — и вправду она подковой глядит. Повеселел князь, глядя, как кузнецы дивуются.
— Это тебе за подкову, кузнец, целый Юрьев-град! Доволен ли?
Ничего не ответил старый Дятел, но задумался. Потом молвил не торопясь, раздумывая:
— Не надо, князь, града Юрьева. Не называй его своим именем. Придет супостат, покорит, разорит, над твоим именем насмеется, своим назовет. А нареки ты наш град Новгородом, будет счастливое имя и долговечное!
Тут князю Юрию Всеволодовичу пришла очередь призадуматься. Но скоро он дело смекнул и сказал:
— От тебя, старик, не только удача да счастье — и советы идут толковые. Быть граду Новгородом, а старому Дятлу в нем заместо моего воеводы и посадника!
Дремали под небом и солнцем суровые горы, в Оку да Волгу как в зеркало гляделись, словно любовались новым венцом-подковой, что чело их венчала. Дозорные воины с башен из-под руки во все стороны зорко глядели, Новеград от ворогов стерегли. А в деревянной церковке на темени горы божьи слуги молитву Михаилу-архангелу возносили, покровителю воинства православного. И с каждым годом росло население за стеной кремля и в посадах вокруг города. Булгары на Каме-реке смирно жили, издалека чувствуя сильную руку князя Юрия, мордва заодно с русским людом поближе к Новому граду теснилась, русскую веру и обычаи перенимала. Да и с левой стороны Оки народу не страшно стало на правый берег переселиться. Поредели вековые леса, кругом города поля распахивались, посады и деревни выросли, торговля и промыслы бойко пошли. Стучали, гремели, огнями сверкали Дятловы кузницы, поспевая людям служить: немало понадобилось новых сошников и топоров, копий и рогатин, подков и гвоздей. Старый Дятел от молодых кузнецов в работе старался не отставать, но и по граду пройти не забывал, крепость и посады хозяйским оком окинуть. А кремль на старика исполинской подковой глядел и князя Юрия забывать не велел.
Так прошло немало лет. Старый кузнец поседел, в кузницах его сыновья да внуки наперебой молотками стучали, а Новгород земли низовской мужал и богател на радость жителям и князю Юрию. Но настал, видно, час, подкова счастья над порогом княжьего терема вдруг служить отказалась, и пришла на Русь Суздальскую беда нечаянная, неминучая. Доплеснулась волна ордынская и до Дятловых гор, поразметала стены частокольные и в кремль-подкову ворвалась. Похватали басурманы-воины кузнецов, окружили и к своему хану Чалымбеку привели. И приказал тот Чалымбек, чтобы кузнецы Дятлы без сна, без отдыха подковы да гвозди для ханской конницы ковали. Да потребовал еще с каждой живой души по паре подков и дюжине подковных гвоздей. За это посулил хан города не зорить, не палить и людей не угонять, а кто подковами не откупится, тому плетей и неволи не миновать. И поскакали басурманы дальше, на заход солнышка, остатки Руси топтать, князей полонить.
А кузнецы Дятлы, не мешкая, принялись наказ хана исполнять. Старый Скоромысло по кузням ходил и всех учил, как подковы ковать и шипы наваривать, чтобы недолго служили, скоро разлетались. Да еще словом и делом показывал сыновьям и внукам, как умеючи подковные гвозди ковать и затачивать. Со всех сторон к Дятловым горам народ повалил, несли люди последние топоры на подковы переделывать, чтобы было чем от неволи и плетей откупиться. И ковали кузнецы-молодцы и подковы и гвозди, как их старый Дятел учил.
Порыскавши по низовской земле, басурманы у Дятловых гор станом на отдых стали, коней на новые подковы перековали и снова на Русь ринулись, на князя Юрия. Но конница ханская в пути вдруг хромать начала, редела и таяла. А когда до битвы дело дошло, подковы на части разлетались и копыта коней калечили. И разбил Юрий Всеволодович рать Чалымбекову, как сокол ясный стаю серых ворон. Собрал Чалымбек остатки своего войска, отступил и послал гонцов к хану Бурундаю за помощью. Разоривши Владимир-град, подвалил Бурундай и силой ратной, как тучей темной, окружил рать суздальскую с одной стороны, а Чалымбек — с другой. Тут и полегла дружина княжеская в сече жестокой, а с ней и сам князь Юрий Всеволодович.
Три дня пировали басурманы после победы на Сити-реке, победой и зверством похваляясь. Потом перековали всех коней на новые подковы, что с русских людей собрали, и пошли на Великий Новгород. Пошли, да недалеко ушли. Опять стали подковы на части разлетаться, разваливаться, кони захромали, обезножели, и повернула вспять вся великая рать Бурундая.
Загоревал, запечалился старый Дятел, когда узнал о гибели Юрия Всеволодовича, но воспрянул духом при вести о том, что ордынцы не пошли к Великому Новгороду из-за хромоты, напавшей на басурманских коней. А хан Бурундай с Чалымбеком догадались да дознались, отчего на их конницу беда навалилась. Созвали на совет самых старых да бывалых воинов-соратников Чингисхановых, копыта коней ощупывали, подковы да подковные гвозди разглядывали, ругались, гадали да спорили. И рассудили, разгадали дело трудное:
— Эти кузнецы из града на диких горах — колдуны русские. Видно, ковали они в час полуночный, призывая всех духов злых на погибель нашей конницы!
И послали к Новгороду низовскому отряд самых свирепых воинов с лихими кузнецами расправиться. Вот прискакали басурманы, от славянской крови озверевшие, в осиротевший град ворвались, все племя Скоромыслово похватали, по рукам и ногам связали. И рано поутру, когда из-за Волги только что солнышко выглянуло, пленников на взлобок холма вывели.
Сначала старого Дятла головорезы наособо поставили и дознаваться начали, почто и каким колдовством они, кузнецы зловредные, подковы для ханской рати ковали, много ли еще таких подков понаделано и куда отправлено. На то старый кузнец за всех отвечал:
— Слыхано от дедов-прадедов, что с Олегом в походы хаживали: «Подкова — коню не обнова, да в бою страшнее палицы. Как подковать, так и воевать!» Вот и мы вас, кровожадных псов, подковали на все четыре ноги, да так, как душа подсказывала! И с каждым часом и днем все тошнее и труднее будет вам по Руси скакать, нашу землю топтать! Тут главный злодей саблей взмахнул. И покатилась голова старого Дятла с горы в овраг, к порогу кузницы. Поотрубали вороги всем кузнецам головы, а хоронить заказали, чтобы нижегородский народ устрашить. Но в первую же ночь смелые люди всех погибших тайно похоронили, дерном прикрыли, только холмы не насыпали да кресты не поставили, чтобы басурманы о том не ведали. Так и теперь никто не знает, где те кузнецы-молодцы со старым Дятлом похоронены.
На долгие годы притихли Дятловы горы и кузницы. Сменялись князья и поколения нижегородцев, не один раз перестраивались и подновлялись стены и башни кремля. Но и сегодня этот каменный старец по форме своей напоминает огромную подкову, олицетворяя смекалку, силу и мужество народа русского.
Сказ о башне белокаменной
В то лето, как великий князь московский задумал Нижний Новгород кругом каменной стеной обнести, томились в нижегородских темницах молодцы-удальцы из новгородских ушкуйников, а с ними их земляк Данило Волховец. Совсем молодым пареньком он в Новгороде Великом на возведении детинца трудился — камни тесал, кирпичи подносил, известь месил да и мастером стал. А когда детинец построили, другие ремесла от заморских мастеров перенял и стал искусником на всякую руку — и меч выковать, и колокол отлить, палаты каменные выстроить и судно морское починить заново. И такой тот Данило Волховец был толковый да памятливый, что перенял говор заморских гостей, что в Новгород по торговым делам наезжали. Вдруг в жизни Волховцу перемена вышла. Решился он с новгородскими ушкуйниками на Волгу податься, на вольный свет поглядеть, другую жизнь повидать. Ушкуйники люди верные, но отчаянные головушки, с ними подружиться — все одно что в «орлянку» сыграть: либо орел, либо плата-расплата! Так и у Волховца получилось. Попались они в цепкие лапы стражи княжеской и очутились в темницах Нижня Новгорода. Чуть не год сидели в застенках молодцы-удальцы, солнышка не видели, жаждой, голодом мучились. Ладно, что добрые люди сквозь решетки бросали им подаяние. Но одним днем распахнулись двери тяжелые и всех узников из темниц на волю кликнули:
— Эй, вылезай на свет, кровь разбойная! Высыпали из башни каменной изнуренные новгородцы и пошли за стражей на горы высокие копать рвы глубокие, камни тесать, кирпичи таскать, стены крепостные выкладывать и башни под самые небеса поднимать. Скоро смекнул воевода Волынец, слуга князя великого, что напрасно новгородских молодцов в застенках держали, давно бы их к делу крепостному приставить — такие они сноровистые да ловкие в работе были! А первым среди них — Данило Волховец. И посулил воевода всех новгородцев за отменную работу на волю отпустить, а Волховца поставил главным мастером над всей ватагой каменщиков.
Не одно лето трудились новгородцы рука об руку с коренными нижегородцами. Крепко-накрепко строили, не простою кладкой, а крестовою, а известь так хитро да умело гасили, что схватывала камень и кирпич намертво. Знали и умели люди русские, как кремль против ворогов строить: неспешно да надежно, на веки веков! Вот и показалось князю великому Василию, что нижегородская крепость строится мешкотно. И послал он в Нижний Новгород искусника и мастера по крепостям итальянца Петруху Франческо с помощником Джовани Татти. Оба прибыли разряжены по-заморскому, в шапочках диковинных, в плащах-накидушках и при шпагах, как настоящие воины. Мастер Петро Франческо всем русским по нраву пришелся, сразу угадали в нем человека великого духа и мастерства. А помощник его, Джовани Татти, был настоящий головорез, заморский хвастун и задира. Чуть что — и за шпажонку свою хватался, на ссору, на драку напрашивался. В крепостном деле только понаслышке смекал, а своими руками и одного кирпича не вкладывал. И за все его проделки и выверты переделали русские люди имя Джовани Татти на свой русский лад — Жеваный Тать.
Начал было распоряжаться этот разбойник Жеваный Тать над артелью новгородцев, приказывал класть крепость не крестовой кладкой, а простой, чтобы скорее дело шло. Вот и стали рассуждать между собой русские мастера-каменщики, что кремль нижегородский строили: «Доколе будем терпеть ругань да понукание в убыток Руси и Нижню Новгороду? Некрепко крепость класть — в беду попасть! У иноземных мастеров одна заботушка — поскорее мошну набить и за море уплыть. А нам перед всей Русью ответ держать!»
Знал Данило Волховец, что правду говорят мастера-нижегородцы. Не раз слышал он, как Джовани Татти уговаривал Франческо крепостные дела торопить и восвояси домой спешить. Вот выбрал Данило время, когда воевода Волынец с Петром Франческо вместе мимо проходили, и рассказал им о недовольстве мастеров-нижегородцев. А Петруха Франческо и сам давно приметил, что нижегородцы да новгородцы и без подсказки и указки надежно и умело крепость кладут. Особо отличал он Данилу Волховца и часто маэстром называл-величал, это по-иноземному, а по-русски сказать — искусник и умелец большой. Вот после того и приказал он своему помощнику Татти: «Не неволь русских по нашему способу стену класть. Их кладка крестовая чуть помешкотней, зато долговечнее!»
Воевода Волынец в тот раз с Данилой тоже ласково обошелся и опять посулил всех новгородцев вольно поселить в любом посаде Нижня Новгорода, как только закончат постройку крепости. А тальяшка этот, Жеваный Тать, после того еще злей стал придираться к русским каменщикам и особо к мастеру Даниле Волховцу.
Жила в ту пору на верхнем посаде одна девка-краса, темные глаза, толстые косы, а улыбнется — словно бутон розовый раскроется. По имени звали Настасьей, а прозывали Горожаночкой, лет ей за двадцать перевалило, но замуж что-то не торопилась и отшучивалась:
— Милый не берет, а за немилого сама не иду — не миновать вековушей быть!
Жила своим домком, с матушкой родной, честным трудом. Частенько она по горе за водой спускалась, и каждый раз ей молодцы-каменщики с крепости подмигивали, ягодкой называли, на стену зазывали. Только ягодка, видно, не промах была, отвечала бойко, но по-умному. Сам Петро Франческо на ту Горожаночку заглядывался, шапочку на лысине поправлял, усы крутил, завивал и, за шпагу держась, как журавель по стене выхаживал. А подручный его Жеваный Тать, завидев Настасью, добрым притворялся и рожу свою идолову старался подделать под ангельскую. Не знали, не ведали они, дурачки заморские, да и никто другой не догадывался, что не зря Настасья Горожаночка мимо стен часто ходила, ватагу трудовую водой поила. Давным-давно через решетку темницы она с Данилом Волховцем добрым словом уж перемолвилась.
«Добьюсь воли — назову женушкой!» — так ей Данило однажды из окна темницы сказал. А теперь, не жалея сил, служил он князю московскому, надеясь дожить до обещанной воли. Молодецкая артель новгородская ничем перед девкой не бахвалилась и не охальничала, а, завидев ее, песни заводила и под песню крепость строила — камни тесала, тяжести поднимала:
Ай, ладушка, Горожаночка, Не жаль такой полушалочка! Ай, ладушка, пожалей молодца — Не жаль для такой золотого кольца! Краса молода, откуда вода? Чай, с Почайны-ручья, нам напиться бы! Али с Волги-реки, так умыться бы!С такой песней и камень легче казался, и с ношей кирпичей веселее бежалось, и крепость быстрее росла. Как пройдет мимо Настя Горожаночка — словно солнышком всех пригреет, и каждому горемыке-труженику казалось, что это ему она так радостно и по-родному улыбнулась.
Трудились люди русские на нижегородской крепости почти без сна и отдыха, подвозили кирпичи каленые, как кровь багряные, а в ямах кипела, пузырилась известь горячая, набирая силушки, чтобы камень-кирпич схватить мертвой хваткой. Согнувшись под ношами, вбегали на стену сотни людей и, сваливши груз, обратно скатывались. А ловчее, быстрее и крепче всех работали молодцы из ватаги Данилы Волховца, зарабатывая милость княжескую — волю вольную! Сам Петро Франческо, маэстро великий, не мог надивиться на мастерство и неутомимость артели новгородской, и наполнялось его сердце уважением к русскому мастеру: «Таких поучать не надо — сами любого научат!» А помощник его, этот Жеваный Тать, все придирался и подгонял, очень хотелось ему поскорее золотом мошну набить и за море удрать. Особо невзлюбил он ватагу новгородцев после того, как они его на безлюдьи окружили и посулили в горячей извести выкупать, если не перестанет докучать Настасье Горожаночке.
А матушка-Волга катилась и катилась, неудержимо, как время, волной играла, по утрам солнце с левого берега принимала, по вечерам за правым горным прятала, то стужу, то зной, то каргу-осень встречала, то весну-молодушку. А за весной и праздники весенние спешили. Ко дню праздника зачатия приурочили нижегородцы закладку сразу трех башен кремлевских: Бориса да Глеба, Зачатьевскую и Белокаменную, да всей стены между ними. Выкопали котлованы и рвы, натесали камня белого, кирпича навозили гора горой, заварили известь в ямах глиняных. И в день непорочного зачатия все нижегородцы на молебен высыпали. Под колокольный звон из церквей иконы вынесли, а передом, на полотенцах льняных, белоснежных, икону Богородицы. Все труженики кремля, простые люди и знатные, обнажили и склонили головы. Петро Франческо, мастер гордый и суровый, с непокрытой головой незаметно в сторонке стоял. Уважал он и народ и веру русскую, православную. Только Джовани Татти, этот безумный Жеваный Тать, не снимая шапчонки, среди народа важно расхаживал, на православный обряд дивился.
Под конец моления стали нижегородцы нательные крестики снимать и на дно котлованов бросать, чтобы стояли башни и стены кремля веки вечные, не поддавались вражьим осадам и приступам. Вот подошла к яме Настасья Горожаночка, расстегнула на груди пуговки, сняла с шейки крестик золотенький и в котлован бросила. Тут откуда-то Жеваный Тать подвернулся, как угорь начал вокруг девки увиваться, обнимать, да под расстегнутую кофту заглядывать. Гляди того, целовать-миловать при народе начнет. Оторопела было Горожаночка, но скоро образумилась и наотмашь охальника по роже ладошкой ударила. Попятился от нее Джовани Татти да в яму и свалился, озорник заморский, на смех всему миру нижегородскому. Свалился, а выбраться не может, злится и ругается по-иноземному: «О, Мадонна путана!» Все видел и слышал Данило Волховец, и не стерпело сердце его. Подскочил он к яме, за руку Жеваного вытащил да тут же, не откладывая, ударил того по одной щеке, потом по другой, поучая уму да разуму: «По-вашему она путана, да по-нашему матерь честная!» Стыдно стало Татти, что при народе по щекам бьют, и за шпагу схватился. Но Данила его за руки ловко поймал и, когда шпага вывалилась, в охапку супротивника сгреб. И тут от боли нестерпимой охнул новгородец, но приподнял злодея-тальяшку и в яму с кипящей известью бросил. А сам, как дуб подрубленный, медленно к земле склонился. Подбежали к яме люди — Джовани Татти вытаскивать, да нескоро достали. А Данила без дыхания лежал с заморским ножом в подреберье.
Затужили, загоревали нижегородцы, заголосили, запричитали бабы. Настасья Горожаночка в сторонке стояла и платок свой в горячих слезах молча купала. Потускнел лицом главный мастер Петро Франческо. Жалел он земляка своего, Татти шалопутного, а еще больше печалился о русском мастере Даниле Волховце. Поговорили они с воеводой и распорядились, чтобы обоих смертоубийц в подбашенных котлованах захоронили.
Невесело разошелся с молебна народ нижегородский. Недобрая примета при закладке башен получилась. Не устоять долго стенам кремля, что близко к Волге спускаются. Неохотно и каменщики за известь брались, в которой безбожный тальяшка сварился. Ватага Данилы Волховца молча работала, воздвигая башню-памятник над могилой своего товарища. Весь белый камень с берега Волги своими руками переносили, известь по-своему в яме замесили и трудились неистово, не жалея себя.
С каждым днем и часом прибывала, росла у Волги величавая суровая башня. Все остатки белого камня на нее израсходовали, и прозвал ее народ Белокаменной. А на полдень от нее, из кирпича кроваво-багряного другая башня росла, Зачатьевская. Под ней богохульник и хвастун тальяшка Тать лежал. Живые же люди, как муравушки, на стены карабкались, кирпичи, камни, известь тащили, стены лепили с верой великой, что простоят они веки вечные, никаким стихиям и бедам непокорные.
А Настасья Горожаночка не забывала своего Данилу Волховца, не затухала в ее сердце любовь к нему и ненависть к злодею Джовани Татти. Из года в год, в погоду и непогодь, каждый вечер она на откос выходила, к башне Белокаменной, и негромко свою песню пела. Налетавший с Волги ветер обнимал кремлевские стены, сердито гудел в бойницах, трепал полушалок и косы Горожаночки, но не успевал осушать ее слезы, не заглушал песни:
Горы хмурые, высокие, Воды хладные, глубокие, Сдвиньте к Волге стены тяжкие, Что сокрыли ясна сокола! Волга, реченька могучая, Проложи русло под кручами, Размечи струею быстрою Прах злодея ненавистного!И Волга, и Дятловы горы слушали ту песню, но молчали. Молчали до поры до времени, как судьба неисповедимая, что всю правду жизни знает, да не скоро сказывает. Спустя много лет, словно исполняя волю Горожаночки, подточили подземные воды склон горы вместе с крепостью и башней Зачатия, чтобы сползли они к Волге оползнем. А башню Белокаменную не тронули, оставили памятником над могилой мастера, сложившего крепость нижегородскую.
Про лебедушку Настасью
Подбросили к воротам Зачатьевской обители младенца. Ночью с Волги холодом потянуло, озябло дитя и расплакалось. Услыхали его келейницы, в тепло внесли, отогрели и при себе оставили. А когда дитя-девчоночка повыросла, отдали ее в дочки на Верхний посад. Там, у приемных родителей, и выросла краса Настенка, умелица да искусница.
В те лета Низовской землей князья Кирдяпы правили. Вот прослышали басурманы-ордынцы о неладухах между Кирдяпами и задумали Низовский Новгород захватить, людей полонить. Подошло войско ордынское, вплотную ко граду подступило и кругом обложило. Но поднялись на оборону города все горожане и посадские заодно с воинами. Вражий приступ отражая, из луков стреляли, копья метали, круглые бревна с горы на басурман скатывали. Запоет стрела — сразит ворога, просвистит копье — насквозь проткнет, к сырой земле пришьет, а бревно покатится — целую ораву, что траву, примнет! А тех, что по лестницам на стены карабкались, горячей смолой поливали. И сражались низовцы от старого до малого, помогая воинам. Но всех смелее и сноровистее в битве была Настенка-краса, посадского приемная дочь. И копья, и камни метала, и кипящей смолой супостатов поливала, билась, не жалея себя. Лицо и глаза ей огнем опалило, руки смолой обварило, но она, как здоровая, приступ врага отбивала.
Вот заметили это басурманы, сговорились, и нацелились в девчоночку разом сорок самых метких воинов. И упала Настенка, сраженная стрелами калеными. Горевать да плакать над ней было некогда, врачевать-колдовать некому. И то ладно, что не затоптали в суматохе намертво. Так и лежала до той поры, как вражья орава передохнуть отвалила. Ходила в тот час по крепости побирушка Улита, что в черной избе жила, лен пряла и полотна людям ткала. По крепости ходила, берестяной бурачок к губам раненых подносила — напиться давала, а мертвым глаза закрывала. Вот и набрела она на отроковицу-девчоночку. Лежит пластом со стрелой в щеке, руки смолой сварены, широко раскинуты, один глазок закрыт, другой кровью налился, чуть глядит. Склонилась над ней Улита, прислушалась, и слышит, стучит в теле жива душа, потукивает. Змею-стрелу из щеки девчоночки выдернула, другую из шейки, третью из плечика. Закапала, побежала из ран кровушка. Тут веки у девушки дрогнули, руки землю царапнули, и глаза сквозь опаленные ресницы глянули. Перекрестилась старая Улита радостно: «Вот и жива душа!» Из сумы черепяночку достала, пошептала над ней и три раза глотнуть Настенке дала. И в свою черную избу на Мостовую улицу на закукорках отнесла.
Побилась, побилась о стены басурманская рать да и отхлынула от города без победы и добычи. Тихо радовались тому люди старые да разумные. А озорные да шальные головы во след басурманам по-лошадиному игогокали, поросятами визжали, голышами себя показывали и срамили их всячески, кто как умел. Потом погибших хоронили, пропавших разыскивали. Только красу Настенку искать было некому. Погибли ее приемные родители от басурманских стрел. Долго искалеченная девушка в Улитиной избушке отлеживалась. Добрая старуха ее травами да наговорами лечила, а молодая кровь своей целебной силушкой. И поднялась Настенка на ноги, бродить начала. Но остались на лице багряные пятна от ожогов, от стрелы дыра в щеке, правый глаз слезой исходил, а левый чуть-чуть на свет глядел. Обваренные руки позажили, но так и остались неприглядными. Стала Настя калекой непригожей, и глядели на нее люди со страхом и жалостью. И никто не признавал в ней ту посадскую девчоночку, что на весь низовский град красой и рукодельем славилась. Выйдет убогая на откос на Волгу взглянуть, а как завидит кого, словно мышка в норку, в Улитину избу схоронится, чтобы страшным видом своим людей не пугать. А при нечаянных встречах головку низко склоняла, дыру в щеке прикрывала, либо стороной людей обегала. И больно, и страшно ей было теперь встретиться с молодым князем Кирдяпичем. Не он ли при встречах, не сходя с коня, дорогие кольца да серьги к ее ногам бросал, нежно ягодкой да касаткой величал и княгиней назвать обещал. А теперь проедет мимо и оком не поведет, словно не девица, а карга убогая да болезная: встретилась. Только в работе изнурительной и находила Настя себе радость и утешение от горьких дум. Обносились да обгорели одежкой горожане, от беды обороняясь, и теперь спохватились посадской умелицы, что всем рукодельем служила. Куда запропала девка-краса, сноровистые руки, что полмира обшивала?
Но скоро разнеслась молва о безродной умелице на Мостовой улице. «Шьет одежку нарядную, строчит и полотенца, и рушники, и столешники, а малышам: такие пошивает рубашечки, что те в них как на опаре растут и хвори не знают!» И бабы, и молодухи, горожанки и посадские — все узнали тропу к Улитиной избушке, где трудилась на радость людям добрая умелица. И радовалась старая карга Улита:
— Вот какая слава пошла о тебе, моя печальница! С твоими-то руками жить да не тужить, а что ликом стала уродлива — о том забыть пора!
Вот как-то повстречала Настя на улице молодого Кирдяпича. Борзого коня за уздечку ухватила, остановила и стала перед княжичем: «Вспомнит ли, узнает ли?» Удивился князек, по лицу тень пробежала, понахмурился. Глянул в лицо Насти-красы: из дыры в щеке слюнка бежит, глаза из-под опаленных век чуть на свет глядят, на лице от ожогов следы, и руки такие-то непригожие!
— Чего тебе надо, болезная?
Достал из сумки денежку серебряную и бросил к ногам ее, чтобы скорее коня отпустила. И поехал, не оглядываясь. Задумалась Настенка, глядя во след Кирдяпичу: «Видно, не зря про таких, как я, в народе сказано: «Такой-то красе дорога к Волге по росе!» Сбежала сирота к Волге, у самой воды на берег присела, колени руками обняла. Сидит, пригорюнившись, склонив голову. А волжская волна, гуляючи, на берег набежала, играет камешками, плещется и шепчет, да так-то явственно: «Не мудрено девице утопиться, да от греха-позора не отмыться! И обмыла бы, и полечила недуги твои, жива девчоночка, да сама не чиста: издалека свои воды качу, грязь и хворобы людские к басурманскому морю несу. Но беги ты, резвая, до моего братца Керженца, что течет из нелюдимых мест, непроходимых болот. Воды его чистые, неоскверненные, авось он вылечит!»
Очнулась Настенка от чудных грез, головкой тряхнула. «Это сама матушка-Волга со мной разговаривала!» И на рыбацкой лодочке-долбленке на левую лесную сторону Волги переправилась. Шла день да ночь, а на заре вышла на речку дикую, что из болот воду брала и нелюдимыми местами текла. Подбежала к самой воде и молвила:
— Речка быстрая, нелюдимая, полечи, исцели недуги Настенкины, чтобы добрые люди ее не сторонились, не отворачивались!
В ответ зажурчала грустно речка Керженка, лаская струей ножки девушки: «Из ржавых болот свои воды беру, через леса хмурые к Волге несу, жажду диких зверей утоляю, корни дерев обмываю, а недугов людских не исцеляю. Беги-ка ты, девица, на восход солнышка, к сыну моему побочному Яру Ясному. Живет и полнится он родниками подземными, водами глубокими, волшебными. Он и снимет с тебя хворобу с недугами!»
Послушалась Настенка, косы пышные за спину закинула, подол в руку ухватила да и побежала на восход солнышка к озеру Яру Ясному. Бежала да бежала тропами звериными, местами нелюдимыми и прибежала к дивному озеру. Спит между холмами среди дубравы, не шелохнется, и все, что вокруг, глядится в него, как в зеркало. Сбежала Настенка ко бережку, озеру с колен поклонилась и погляделась в воду до дна-песка. Увидела себя такую непригожую и расплакалась. Потом в озеро по колени зашла и старые раны на челе сполоснула. Погляделась в воду и не поверила: пропали, сгладились рубцы на челе. Другой раз водой в лицо плеснула и глазки промыла. Глянула в воду — засияли глаза синие, как лазурь, здоровые и ясные! Третий раз водой плеснула и по щекам ладошками похлопала. Погляделась в озеро — пропали дыры, разгладились щечки, стали, как бывало у Насти-красы. Только руки, сколь ни мыла их, остались неприглядными. Запечалилась девчоночка. Но дохнул ветерок, и заплескалось, зашептало озеро: «Не дано мне, девица, больше трех недугов исцелять, заживлять. Но беги ты на полдень к брату моему Яру Темному, он полон водами волшебными, авось и вылечит!»
Отняла Настя руки от лица белого, чистого, прислушалась: «Чай, не ослышалась, не померещилось?» А волны уже что-то невнятное у берега шепчут, булькают, да и затихли совсем. Поклонилась Настенка Ясному Яру низехонько да и побежала нежилыми урочищами, тропами нехожеными к Яру Темному. Бежала да бежала, в каждое озерцо и калужину гляделась, лицом любовалась, а на руки и глядеть не хотела. Вот с холма открылось ей озеро. Мелкой волной оно играет, рябит, а кругом сосны вековые обнявшись стоят, шепчутся. Сбежала Настенка на кромку берега, чтобы волшебной водой руки помыть, присела на кочку передохнуть, да и задремала от изнеможения. И слышит: заговорило волнами озеро у самых ее ног: «А почто тебе, девица, руки белые да мягкие? Рукам умелым надо радоваться, на то и даны они, чтобы делом себя украшать, доброе слово от народа заслуживать. А руки белые — хилые да неумелые, руки мягкие — не сноровисты, руки нежные — ленивые. А твои-то руки — слава всему городу!»
Вот очнулась от грез девчоночка и молвила: «Видно, правду вещало мне озеро. Не буду менять свои руки умелые на нежные да белые, поспешу-ка в обратный путь!» Поклонилась, спасибо за науку сказала Яру Темному и побежала знакомой тропой к родной стороне, добрыми руками людям помогать. И наторили люди к избе карги Улиты тропу торную. Княгини да боярыни, и те туда дорогу проведали. О чем ни попросят Настенку-рукодельницу, все исполнит быстро да сноровисто. Бабе сарафан сошьет к празднику — как цветок нарядится, мужику рубаху — не износить вовек. А столешники да рушники — всей семье на любование. Вот дошел слух до княжича Кирдяпича об искусстве сироты-умелицы, и поехал он Улитину избу разыскивать. На улице Мостовой встретилась ему девица.
— Поведай, раскрасавица, где тут живет карга Улита с девкой-рукодельницей?
А сам от красы-девчоночки не в силах глаза отвести. «Ох, видал я где-то эти глаза синие, косы густые, стан породистый, чело высокое! Али во сне снилась когда?» А девчоночка спрашивает:
— А как звать-прозывать ту девицу-рукодельницу?
— По имени Настасья, а по прозвищу Дыра в щеке. — Это князь в ответ. А сам все хмурится, вспомнить силится, где видал он эту девицу.
— Видно, забыл ты, князь, как от недужной дурнушки на этом месте деньгой отбояривался?
И подала на седло Кирдяпичу ту самую денежку, что к ее ногам была брошена.
С того дня повадился Кирдяпич бывать в избушке Улиты-побирушки с заказами к Настенке-рукодельнице. Расшила ему Настенка чепрак под седло — друзей своих удивил. Боевой стяг шелками да золотом выткала — ворогов побил, победил. А рубаху-подкольчужницу не пробивало жало стрелы. Завидовали князю и други и недруги, а молва трубила о том, что от девки-красы Насти-умелицы везенье да счастье князю пошло. «Видно, правдива людская молва, что от нее мне удача идет!» — подумывал княжич и все чаще бывал на улице Мостовой, чтобы повидать Настенку-умелицу.
Неохотно и боязно было Насте-красе с такими руками в княжий терем княгиней входить, насмешкам боярынь служить. Но старая Улита ей бодринки придавала: «Лицом да станом ты краше любой боярышни, разумом — не у княгинь занимать, а по рукоделью таких еще не сыскать. Бояр да князей робеть — век в избе просидеть!» А князь Кирдяпич и вовсе отговоров слушать не хотел. Кончилось тем, что суженой Настю назвал и свадебный пир созвал. Собрались, понаехали гости знатные, сели за столы пировать. Родные Кирдяпича невестино рукоделье на видных местах по стенам понавешали, искусством молодайки похваляясь. Только не гордилась за столом сама Настя-умелица, несмело на гостей глядела, ручки свои по привычке поджимая.
Но вот дошло до обычая, когда невесте всех гостей брагой обносить, к каждому с братиной подходить, подавать и принимать. Тут и увидели гости знатные, какие у невесты руки непригожие. Завопили истошно боярыни, глаза закатывая:
— Ой, какие руки-то у нее страшные! Запокашливали с насмешкой бояре молодые и старые:
— Кхе-хе-хе! Ладно бы на лицо не смазлива была, а тут, гляди-ка ты!.. Ну и красотку княжич высватал! С руками неприглядными, шелудивыми! Да кто из таких поганых рук будет мед-пиво пить! Замерла Настенка-краса, ручки поджавши, ждет, не замолвит ли за нее княжич слово твердое. Нет, не стукнул Кирдяпич кулаком по столу, не глянул грозно на охальников, но склонил свою бесталанную голову и молча слушал насмешки гостей. Тут Настя братину перед княжичем поставила, сама в сени выбежала, из сеней на княжий двор, вскочила на боевого коня и к Волге поскакала. Храбрый конь, в походах бывалый, смело в Волгу вошел и, прядая ушами, на другой берег поплыл. Понеслась Настя-краса тропами звериными, урочищами нелюдимыми, лесами угрюмыми. И раным-рано прискакала к озеру Яру Темному. Сошла с коня усталого, ко бережку спустилась, на колени стала и тихо с озером заговорила:
Волшебник Добрый, Темный Яр, Ты помнишь Настю — это я К тебе с бедою прибегала! Верни красу моим рукам, Чтобы корыстные да злые Не смели насмехаться там, Где надо плакать!Помолчала Настенка, прислушалась, не заговорит ли опять с ней Темный Яр. Но тихо было над озером. Только запоздалая ушастая сова бесшумно пролетела над водой и скрылась в камышах, да конь борзой звенел уздечкой на луговине. Но вот над озером ветер дохнул, волна плеснула.
Ах, кабы руки мои умелые Да стали, что крыло лебяжье, Красивыми да белыми, Проплыла бы я, Темный Яр, По груди твоей лебедушкой!С этими словами Настенка в воду вошла и руки свои сполоснула по локоть. И пропали на руках страшные следы ожогов, стали руки чистыми, пригожими и белыми, как крыло лебедя. И так ей стало радостно, что заплескала она руками по воде и нырнула в темную глубину озера до бела песка. А вынырнула белой лебедью. И уже не руками, а белыми лебяжьими крылами била по воде. Закричала, запела лебедушка, и полилась печаль лебединой песни над Темным Яром до самого синего неба.
В тот час князь Кирдяпич с дружками к озеру по следам коня прискакал. Но поздно одумался да спохватился князь! Выскочили на холм, видят, внизу озеро, темное да молчаливое. По зеленому берегу бродит конь оседланный, уздечкой звенит, в шелковых поводьях ногами путается, травой-муравой угощается. А среди озера лебедушка белая, лебединую шею дугой изгибая, себя оглядывает. И в небо кричит.
Запечалилась столица Низовской земли. Пропала добрая умелица Настенка, краса и гордость города. Некому стало чудесные полотенца да столешники вышивать, счастливые рубашки да сарафаны шить. Понахмурились нижегородские люди на Настенкиных обидчиков и всех, кто на пиру над невестой насмехался, камнями да батогами побили, а самого Кирдяпича и совсем с княжения прогнали. Бежал он от народа в землю Вятскую да там и сложил свою бесталанную голову.
Долго помнили горожане искусницу Настенку, княгиню несчастливую. Каждое лето ходили люди в глухомань заволжскую на поклон к озеру, что у глупого князя умную невесту отняло. И прозвали то озеро Настиным Яром. Потом это место люди для житья облюбовали, на холме поселение выросло. И теперь там люди живут. Знают, слыхали они сказку про лебедушку Настасью. Но никто не просит у родного озера чистоты и красоты своим трудовым рукам. Видно, не хотят менять на лебединые крылья свои руки-труженицы.
Оборотни хана Бурундая
Издавна гадают охотные люди о том, как и откуда взялись на Руси гончие псы, прославленные костромичи, от всех других пород отличные и по масти, и по стати, и по голосу. А по мертвой злобе-смелости к зверью дикому им, костромичам, и на свете равных нет и не было. Это они испокон веков русским звероловам в охоте служили, хищных зверей из непролазных чащоб под стрелу и копье выживали, на конных борзятников выставляли. И недаром завидовали на старинных русских гончих знатные иноземные охотники.
В народных сказах и преданиях сквозь выдумку завсегда правда просвечивает дорогим самоцветом-камешком. Без нее, без правды, и выдумка-сказка не живуча. В этой сказке за вымыслом тоже правда кроется. Правда о том, как умные смелые псы от злого хана-басурмана на службу к русскому пареньку-зверолову перешли. И помогали отроку не только зверя добывать, но и очищать родную землю от вражьей нечисти.
За ратью Батыевой, что на Русь грозным оболоком двигалась, бежали псы ордынские, твари злые и сварливые, до русских людей злобные. Привадили их завоеватели на славян нападать, бежавших пленников настигать и терзать. А за кибиткой хана Бурундая, что особо от Батыя шел на земли суздальские, ехал ханский ловчий Гуннхан, зверолов и наездник лихой. Под ним конь крепкий да выносливый, при седле лук тугой да колчан со стрелами, а у правой ноги копье боевое жалом в небо поглядывало. И бежали слева его коня две собаки, как песок пустыни, желтые, словно волки, высокопередые, с глазами раскосыми, кровавыми. Тех псов невиданных получил хан Бурундай в дар от владыки всех гор поднебесных, что сверкали вершинами на самом краю монгольской земли. Были они умны, бесстрашны и смекалисты, и не зря одну собаку звали Халзан, что обозначало Орел, а другую Гюрза-змея. Они выгоняли под копье Гуннхана свирепых барсов и кабанов, заганивали и душили матерых волков, но, в отличие от других монгольских собак, никогда не трогали человека. И тщетно ловчий Гуннхан в угоду своему хану старался пробудить в них злобу жестокую к людям, которых ордынцы пришли покорять.
Словно тайный голос удерживал Халзана и Гюрзу от нападения на русских людей. И вот теперь на земле Руси басурманы-воины смеялись над ханскими собаками:
— Испортились собаки! Любого зверя берут, собак наших душат, а уруса в овчине боятся!
По указке хана ловчий Гуннхан стал собак очень худо кормить и голодных напускал на русских людей. Но исхудавшие от голода Халзан и Гюрза отказывались нападать на людей. Неведомое врожденное благородство не позволяло псам опозорить себя нападением на человека. А хан Бурундай и его ловчий не понимали поведения собак и настойчиво изнуряли их голодом.
После одной битвы с русскими задумал хан Бурундай устроить пир для своих знатных воинов. Для ханского котла дичина понадобилась. И задрожала под копытами ордынских коней приволжская земля. Сам Бурундай с оравой охотников за добычей выехал, скакал по перелескам и крепям, выскакивал на опушки, топтал озимые поля. Халзан и Гюрза, худые до ужаса и страшные своей силой и смелостью, по сторонам рыскали, чутьем и смекалкой в звериных следах разбирались. За ними ловчий Гуннхан с трудом на коне поспевал. Вот прихватили псы свежий олений следок, через болота да чащобы зверя с подвываньем погнали и с глаз и со слуха ушли.
Долго басурманы по лесу метались, к шумам лесным прислушивались, к следам звериным приглядывались. Но по лесам да болотам скакать на коне не так-то привольно, как по полям да степям. И вернулся хан Бурундай со всей свитой к своим шатрам без добычи. А ловчий Гуннхан волей-неволей остался, из конца в конец по лесу метался, прислушивался, принюхивался и после долгой скачки по крепям да долам разыскал собак у крутояра широкой реки. Синей сталью просвечивала она сквозь вековой сосняк, неудержимая и полноводная от осенних дождей. Русский отрок, склонясь над поваленным оленем, искусно работал ножом, свежуя добычу. А поодаль Халзан и Гюрза лежали, голодными глазами подачки ждали, от голода и холода вздрагивали. Тут Гуннхан подскакал, рысьими глазами нацелился и пролаял визгливо:
— Мои собаки — моя добыча!
И с того визга басурманского осыпался с деревьев первый снег-пороша, притихли пичужки и зверушки лесные. Но не испугался паренек в полушубке овечьем:
— Мой зверь! — спокойно ответил отрок. Ногой на голову оленя наступил, выдернул из оленьего горла стрелу окровавленную и ордынцу ее показал. И все деревья кругом согласно кивнули мохнатыми вершинами. Долго молча с ненавистью глядел Гуннхан на русского охотника, что добычу у басурмана-воина осмелился оспаривать. Но глазом не моргнул отрок. Молча и ловко вспорол оленью тушу, достал сердце с печенью и собакам пополам разделил. Но не успели Халзан с Гюрзой проглотить добычу, как их свирепый хозяин взвизгнул яростно:
— Мои собаки — моя добыча!
И зверски ударил собак своей плеткой-нагайкой. С воем и рычанием собаки отпрянули в сторону, а Гуннхан бешеным конем на зверолова наступал. Но всего-то на три шага отступил паренек, а стрела его сама собой в тетиву уперлась, и лук тугой напружинился. И придержал тут Гуннхан своего коня. По тому, как, не дрогнув, жало стрелы в глаза ему глянуло, понял воин бывалый, что не промахнется этот урус, не спасут его от русской стрелы ни конь, ни копье, ни сабля острая. И начал незаметно коня назад осаживать, да так, словно бы сам конь, ярясь и храпя, от отрока пятился. Тут паренек проворно пудовый кусок от оленины отрубил и в торбочку свою положил. На остальное рукой махнул:
— Вот теперь все твое!
И, не торопясь, но с осторожной оглядкой, с луком и стрелой наготове, скрылся в сосновом бору. Напрасно Гуннхан улюлюкал вполголоса, посылая собак на отрока. Халзан и Гюрза не подчинились его приказам, отказались нападать на человека и не двинулись с места. Когда шаги зверолова стихли вдали, соскочил ловчий с коня, разрубил оленью тушу на части и приторочил к седлу. И в поводу повел нагруженного скакуна из хмурого леса. Собаки долго глядели вслед Гуннхану, потом нехотя поплелись за ним, продрогшие, худые и голодные.
У ханской кибитки Гуннхана ждали сам Бурундай и другие знатные воины. Слуги расседлали коня, оленину внесли в кибитку, а седло с войлочным потником и чепраком оставили на ветру, потому что все было пропитано оленьей кровью. После того басурманы забрались в жилье, наварили оленины и стали пировать. А голодные Халзан и Гюрза бродили вокруг, дрожа от холода, и наконец задремали, прижавшись к войлоку кибитки.
Ордынские воины ели оленину, запивали бузой и хвалили удалого зверобоя Гуннхана, его коня и собак, и меткое копье. Потом Гуннхан расхвастался о том, как трудно ему было поспевать лесом за зверем и собаками, какой был этот олень выносливый и хитрый и как долго он не попадал под его копье! И снова все гости хвалили охотника, и его коня, и ханских собак. Только в конце пира Гуннхан вспомнил о собаках. Он сидел покачиваясь и бормотал одно и то же:
— Надо бы накормить собак. Кто накормит собак? Но все гости и слуги хана Бурундая опьянели от сытой еды и бузы, и никому не хотелось выходить из теплой юрты на холод. Скоро хозяин и все гости войлочной юрты заснули. Люди спали в теплой кибитке, а Халзан и Гюрза сиротливо жались друг к другу и тоскливо глядели в звездное небо. Но не жаловались, не выли.
Над землей поднялся круглый месяц, стало еще холоднее, и собаки стали бродить, подыскивая место потеплее, чтобы свернуться клубком и заснуть. И набрели на брошенные у входа в кибитку седло и чепрак, пропитанные кровью оленя. Псы начали жадно вылизывать кровь, Гюрза из чепрака, а Халзан из войлочного потника. Лизали и лизали, но голод не унимался, становился невыносимее и заставлял собак прихватывать зубами то, что лизали, отрывать кусочки потника и чепрака и проглатывать. Скоро они съели все: Гюрза чепрак из черной верблюжьей шерсти, а Халзан войлочный потник, пропитанный оленьей кровью. Когда от седла и чепрака остались только отдельные клочья, собаки свернулись на земле клубочками и, зябко вздрагивая, заснули под холодным небом с круглой луной посередине.
Спали в теплой кибитке воины, спали и собаки Бурундая, а холодный желтый месяц и редкие звезды глядели на них сверху. Халзану и Гюрзе грезилось, что они преследуют дикого зверя, и они сквозь сон вполголоса взлаивали и подвывали. Кругом было светло, холодно и жутко. Месяцу сверху хорошо видно было, как постепенно менялась окраска спящих собак. Халзан, съевший окровавленный потник, становился краснее и краснее, и наконец шерсть на нем стала совсем багряной, как застывшая кровь. У Гюрзы же, съевшей чепрак, спина и бока темнели и темнели и стали совсем черными, словно покрылись черным блестящим чепраком. Только лапы и голова ее оставались желтыми.
Кончилась ночь, месяц опускался за край земли, с другой стороны показалось солнце, а собаки все спали, и шерсть на них отливала по-новому: у одной багрянцем, у другой крылом ворона. Выспавшись, вышли из кибитки ордынцы. Гуннхан хотел оседлать коня, но на месте седла увидел только клочья чепрака и войлока. А две совсем незнакомые собаки сидели поодаль и, словно насмехаясь, глядели на людей желтыми раскосыми глазами. Одна собака была вся багряная, другая черноспинная и желтомордая. Удивились Бурундай и Гуннхан и все, кто был с ними.
— Откуда взялись эти странные псы? Или это оборотни?
А Гуннхан закричал:
— Это они сожрали мое седло!
— Это русские лесные колдуны подменили моих собак! Надо расправиться с ними! — крикнул хан Бурундай.
Басурманы повскакали на коней и стали гоняться за Халзаном и Гюрзой, стараясь затоптать, захлестать нагайками. Сначала собаки спасались от конников, бегая среди кибиток, но на помощь хозяевам подоспели сторожевые псы. Увертываясь от копыт и нагаек, собаки-оборотни успели так рвануть двух-трех ордынских псов, что они поползли умирать. Тут люди начали метать в них копья и стрелы, пытались поймать арканами. «Здесь только наши враги!» — подумали Халзан и Гюрза и спорым волчьим махом поскакали к дальнему лесу. Позади гикала, визжала и лаяла погоня во главе с ловчим Гуннханом, он кричал, призывая расправиться с собаками-оборотнями, которые осмелились съесть его седло. Но зубчатая зеленая стена приближалась, обещала укрытие, и гонимые псы стремительно убегали к ней. Когда же они вынеслись на последний холм, — увидели перед собой широкую полноводную реку, а спасительный лес темнел на том берегу.
Немало ханские собаки переплыли рек и ручьев, глубоких и стремительных, пока служили Гуннхану, но никогда им не приходилось пересекать таких могучих потоков. А шум погони приближался, рос и подгонял.
— За рр-реку! — рявкнула решительная Гюрза.
— За рр-реку! — согласно рыкнул Халзан. Вода была страшно холодна, по ней плыла ледяная каша-шуга, но для собак была одна дорога — плыть и плыть к синеющему лесу на той стороне этой могучей реки. Две собаки плыли друг за другом, над водой видны были только их желтые головы да кончики хвостов, а набегавшие волны безжалостно их захлестывали и топили.
— Не вернуться ли? — спросила Гюрза, плывшая позади.
— Никогда! — отрубил Халзан.
Тогда Гюрза, стыдясь минутного малодушия, прибавила ходу, обогнала и поплыла передом. Собаки уже доплыли до середины реки, но другой берег казался очень далеким.
— Не вернуться ли? — спросил Халзан.
— Никогда! — ответила Гюрза.
Теперь Халзан обогнал Гюрзу и поплыл передом. Так ободряя друг друга и меняясь местами, собаки подплыли к другому берегу реки. Встревожена деревенька Соколиная у лесной стены над рекой. Изо дня в день с той стороны Волги далекий говор ветром доносится, чужой, басурманский, злое лошадиное ржание, а воронье летит и летит туда, как на званый пир. И совсем нерадостную весть принес вчера Савелий Обушок, зверолов, воротившись с правого берега:
— За Волгой ордынцы!
Всю ночь соколинцы скарб да жито хоронили, скотину в дебри прятали, а с рассветом затаились на берегу в ракитнике, с копьями, топорами да рогатинами. Недолго ждать пришлось. Вот с той стороны к реке конные басурманы повыскакали, за двумя собаками гонятся в диком порыве затоптать, захлестать. И тут удивились соколинцы невиданному:
— Две собаки через Волгу плывут! Посуматошились, погалдели ордынцы и ускакали. Опустел правый берег, а к левому подплывали невиданные странные псы. И когда вышли они на берег песчаный да отряхнулись от ледяной воды, шатаясь от усталости, никто не грозил им ни копьем, ни топором, ни нагайкой. Люди в овчинной одежде манили собак к себе ласковым жестом и словом, бросали кости, кусочки хлеба и мяса. Но Халзан и Гюрза теперь не доверяли людям. Только на малое время они замерли на месте, словно изучая взглядом толпу людей, один багряный, как сгусток крови, другая черноспинная, желтомордая. И рысцой скрылись в прибрежных зарослях. А соколинцы подивились дикости собак:
— Басурманской породы!
С того осеннего дня Халзан и Гюрза прижились на левой стороне Волги, в краю исконных русских звероловов, но не подходили к жилью человека, а рыскали по полям, лесам и долам, добывая себе пропитание охотой на диких животных. Только в очень холодные ночи они подходили к деревне и ночевали в ометах соломы, чтобы с рассветом снова скрыться в лесу. И дивились смерди-звероловы неслыханным голосам двух собак, когда они заливались на разные голоса, заганивая добычу до изнеможения, насмерть. Казалось, не две, а дюжина собак ревет, поет и плачет в первобытном лесу.
А зверолов Савелий Обушок, после того как в лесу с басурманом из-за добычи поразмолвился, на промысел за Волгу не ходил. Много дней и ночей в своей избушке за работой сидел, наполнял колчаны стрелами верными, убойными, чтобы хватило тех стрел и на зверей лесных, и на ворогов лихих, алчных на чужую добычу, на добро русское. Чернеет под месяцем деревенька Соколиная, словно шапка черная на холм нахлобучена. Только в крайней к лесу избушке оконце светится. При свете лучинки выскабливает отрок стрелы кленовые, наконечники подлаживает и камушком остро затачивает. А старая бабка Удола, дремоту пересиливая, внуку помогает, лучинку сменяет, чтобы огонек не угасал, не чадил, а ровненько светил. Не сидит без дела старая Удола. Каждую новую стрелу под жаром очага калит, выдерживает, чтобы лучинка, древко кленовое, была крепче кости сохатого, не гнулась, не ломалась бы, пронизывала и зверя и басурмана насквозь, как игла острая. А перед тем как в колчан положить, стрелу клочком барсучьей шкуры с пеплом протирала до светла, не переставая напевать, ворожить, внуку в охоте удачу сулить, на супостата-басурмана погибель накликала. Ой, неспроста она прошлой ночью на берег Волги выходила в час самый полуночный, босая, с волосом распущенным и, дрожа от стужи, богам своих предков молилась, глядя в лицо месяцу. И Волге, и земле кланялась, и месяцу со звездами, просила наслать напасть на ворога, что зверем напал и добычу отнял у отрока, внука сиротского. И теперь при свете лучины колдует старая с верой жестокой в свою ворожбу. После морозов уснула Волга, прошла холодная метель, засверкали под солнцем снега. Спит перед рассветом деревенька Соколиная. Но рано поднялся Савелий Обушок и на промысел собирается. Вот вышел он из избушки погоду узнать, на небо взглянуть — долго ли до солнышка, не выпала ли за ночь переновка свежая. Прислушался. А из синего леса, морозом заколдованного, набежал волнами зов заунывный, переливчатый да знакомый такой! Сразу и слухом и сердцем понял зверолов, что это грозные да певучие доносятся голоса собак, идущих по звериному следу. Собрался Обушок скоро-наскоро и пропал, растаял в морозной утренней мгле. Только стежку-дорожку оставил на снегу голубом до опушки лесной. Трудно стало Халзану с Гюрзой зимой пропитание добывать. Не скоро добыча в зубы давалась. Вот и в этот морозный день с зари до полудня молодой лось-сеголеток водит их за собой по трущобам лесным, на отстоях рогом и копытом смело обороняется. Устали собаки, но и зверь дышит тяжело, мечется, топчется на гриве сосновой. С двух сторон на него голодные псы наседают, норовят в горло вцепиться, повалить, задушить. Но не сдается лось, из последних сил за жизнь стоит. Вдруг безжалостный посвист стрелы. И не успел сраженный зверь повалиться, как Халзан и Гюрза пиявками повисли на нем, вцепившись в горло.
И только когда подоспевший Обушок приколол лося ножом, обе отпрянули в сторону.
Зверолов распахнул лосиную тушу и бросил собакам по куску внутренностей. Псы с жадностью проглотили подачку и на какой-то шаг подвинулись ближе.
Отрок свежевал зверя и бросал помощникам куски парного мяса, а они подвигались все ближе и ближе, дрожа от непривычной сытости после долгого голодания. Шерсть на них дыбилась и горела под солнцем багрянцем и золотом, янтарные глаза отливали кровью.
— Ух, как к зиме-то вырядились! — полюбовался Обушок на густые псиные шубы. И опять бросил им по куску от лосиной туши.
Когда солнышко село за лес, охотник взвалил на спину тяжелую ношу и направился к дому. Халзан и Гюрза не раздумывая пошли за ним. Усталые, истощенные лишениями и голодом, но сытые они шли за человеком, к жилью человека. Над Соколиной уже были сумерки, густые, хмурые и морозные. Пока Обушок в сенцах сваливал ношу, Халзан и Гюрза разгребли лапами соломенную завалинку и, прижавшись к стене, улеглись ночевать. И прежде чем задремать, обе глубоко-глубоко вздохнули.
После победы над Суздальской ратью начало Бурундаево войско шайками по сторонам рыскать. Пронюхали басурманы, что у заволжских звероловов в клетях да амбарах дорогих мехов полным-полно, шкурок бобровых, куньих да горностаевых. Вот дождались они, когда Волгу льдом заковало, и начали заглядывать в леса костромские да ярославские. Только мало было хану от того радости. Возвращались его воины из заволжских лесов без добычи дорогой, зато со стрелой в животе.
В ту морозную ясную ночь Халзану и Гюрзе снилась охота на страшного зверя, и сквозь сон они рычали и взлаивали. Теперь собаки не страдали от голода, налились еще большей смелостью и силой и готовы были насмерть постоять за себя и своего хозяина. Не зря по вечерам из избушки старая Удола выходила, сытно собак кормила и костлявой рукой по загривинам ласково трепала, бормоча наговоры. Потом по снегу босая за околицу выходила, руки к тощей груди прижимала и, глядя на месяц, колдовала.
При свете месяца чернела избушками деревенька Соколиная, да Волга спала под белой простыней. Мороз изредка потрескивал. А вот и первый петух прокричал. «Не тревожьте собаку, пока она спит». Так в древней пословице сказано.
Халзан и Гюрза проснулись вдруг, когда нанесло на них запахом ордынского конника. Вот дробный хруст снега под копытами, чуть слышный звон сбруи и оружия. Собаки тихо зарычали и поднялись. Вот два конных воина свернули от околицы к избушке Обушка. Халзан и Гюрза теперь их видели и чуяли, они узнали людей, которые кормили их только побоями, не позволяли съесть куска от добычи, пытались затоптать конями, захлестать нагайками. Инстинкт и разум подсказывали псам, что эти серые всадники на побелевших от инея коньках несут зло и смерть их хозяину-зверолову, его жилью и всему селению. И шерсть на собачьих спинах поднялась дыбом от хвоста до затылка. Это были уже не собаки, а умные бесстрашные звери. Неприметно перешли они с освещенной месяцем завалины и затаились у темной стены избушки. И когда конники приблизились вплотную к хижине, с рыком бросились на врага.
Увертываясь от сабельных ударов, собаки кусали всадников за ноги, а лошадей за ноздри и сухожилия. Кони храпели и пятились, басурманы визгливо кричали. С луком в руках выскочил из избы Обушок, узнал незваных гостей, и две стрелы, одна за другой, пропели со смертельной угрозой. Хрипя и визжа от ужаса, ордынцы повернули коней и скрылись в облаке снежной пыли. А Халзан и Гюрза отлично поняли, за что так ласково хозяин трепал и гладил их рукой по бокам, и обе глухо рычали, глядя в сторону ускакавших врагов. И поняли и запомнили. А старая Удола вынесла им по большому куску оленины. Целыми неделями стал Савелий Обушок в лесах пропадать, только изредка навещая Соколиную. К вечеру в избушку придет, а к рассвету Удола ему все для нового похода припасет и собак сыто-насыто накормит. А басурманы, что совались в глубину заволжских лесов разведать да пограбить, возвращались в стан Бурундая без добычи, зато с наконечником русской стрелы в животе, на лошадях с порванными ноздрями и сухожилиями. И рассказывали такие страхи, что жутко становилось ханам оставаться на русской земле. Собаками-оборотнями прозвали ордынцы Халзана и Гюрзу. Они с ужасом рассказывали, что не собаки, а багряный кровожадный барс и толстая черная змея с желтой головой кусали и рвали коней и всадников. А самое страшное было в том, что следом за оборотнями поспевал урус-невидимка с боевым луком и колдовскими стрелами. И пока всадники оборонялись от двух страшных зверей, русский стрелок посылал в них меткую каленую стрелу.
Никто в Соколиной не догадывался о тайных подвигах Обушка. Только бабка Удола стала еще усерднее колдовать над каждой стрелой, а по ночам босая, с распущенными волосами выходила за околицу поклониться земле и месяцу, вымолить удачи внуку в опасном промысле. Обушок возвращался всегда с добычей и делился свежинкой с земляками-соколинцами. И снова до рассвета уходил бродить по лесным тропам и дорогам, искать встречи с запоздавшими и отставшими басурманами-грабителями. Халзан и Гюрза послушно шли за спиной хозяина до той поры, как попадался свежий след двух-трех всадников. Собаки уже чуяли, что ненавистные им люди совсем рядом и знали, как угодить своему повелителю. Схватка всегда была недолгой, но страшной. Глубокой ночью Обушок пробирался к вражьим становищам и терпеливо ждал запоздавших воинов, затаившись в засаде при дороге. Халзан и Гюрза с двух сторон прижимались к нему, а он гладил их, ласково успокаивая:
— Тихо, милые, тихо, родные!
И прижимались умные собаки к зверолову еще плотнее, чуть слышно рычали и мелкой дрожью дрожали в ожидании схватки.
И с каждым днем воинам хана Бурундая все страшнее казалась лесная Русь с ее собаками-оборотнями и стрелками-невидимками. Задумался и сам хан Бурундай. Если на подступах к заволжской земле неведомый враг так истребляет его рать, то что ждет ее там, в глубине лесной заснеженной равнины! Подумал да и повел свое войско к открытым степным просторам, где всегда было привольно зоркому басурману. Подальше от собак-оборотней и урусов-невидимок.
А отрок Савелий Обушок продолжал очищать родную землю от остатков вражьей нечисти. Долго шел он следом за ратью Бурундая и немало ордынских воинов оставил лежать на русском снегу. И только после того как выследил и приколол меткой стрелой ханского ловчего, повернул зверолов в родные края. 3а ним, ступая по-волчьи, след в след, шли верные и Храбрые псы — багряный Халзан и черноспинная Гюрза.
Собаки, переплывшие Волгу, долго и верно служили своему хозяину. Осталось в лесном Заволжье предание о том, что от ханских собак, бесстрашных Халзана и Гюрзы, и пошла порода старинных русских гончих, ярославских и костромских. Прославленная порода собак багряной и чепрачной масти, с громовыми, но музыкальными голосами, с лютой злобой к дикому зверю, собак, которые никогда не нападают на человека, если им не угрожают плеткой-нагайкой. Вывели эту породу не какие-либо знатные и богатые охотники, а простые звероловы, как Савелий Обушок, жившие в курных бревенчатых избах. И до сих пор среди русских гончих встречаются собаки очень похожие на своих прародителей Халзана и Гюрзу: багряные либо черно-чепрачные, высокопередые, как волки, смелые, как орлы, умные и пролазистые, как змея-гюрза. Такие собаки в одиночку и парой преследуют любого зверя и волчью стаю, напевая свою безумную песню и не задумываясь о том, что, может быть, идут на верную смерть. И до сих в трудные минуты они поступают так, как их далекие предки при переправе через Волгу. Когда один из гонцов пропоет малодушно: «Не вернуться ли?» — другой обязательно гавкнет: «Никогда!» И гон по следам зверя польется с новой силой.
Про атамана Сарынь Позолоту
Искушение Федула Носатого
Жаркий да душный выпал денек. Налетавшись досыта, дремлют чайки на мокром песке. Канюк привычно, как заведенный, над лугами кружится, будто дело делает. От реки прохладой, а с берегов жарынью да цветами наносит медовыми. Накалилась от солнышка коса-грива песчаная, что Ока с Волгой наметали весной дружными силами. С каждым годом та коса и ввысь поднималась и вширь раздавалась, и не успевали озеленять ее ни таловый куст, ни сосна, ни осокорь. Зато за Волгой от лугов зеленым-зелено, от лесов листвяных, сосновых и еловых синим-сине!
А сверху по Волге плывет баржа-посудина, сама собой плывет, мимо лесов дремучих, берегов крутых, сыпучих. Два бурлака-заморыша по бортам сидят, лениво веслами шевелят, баржу по попутной воде подгоняют. Третий парень-молодец на кормовом весле посудиной управляет, чтобы не застряла на мели-перекате, не затрещала бы дном на мореном подводном дубе.
Хозяин Федул Носатый посреди опалубка на бочонке сидит, бороду радостно пальцами расправляет. Бурлаки рассчитаны, барыши-прибытки подсчитаны, а град родной — вон он, за белой стрелой-косой, рукой достать. Немало прибыли взято за соль, за хлебушко, за меха звериные с новгородских богачей-гостей, с ярославских да тверских бояр и княжичей. Старый хозяин на пустом бочонке сидит, как прирос, а сынок в холодок у борта спрятался от жар-солнышка. Оба не нарадуются, что вон за той косой, что под солнышком как соль-бузун блестит, и посад, и дом, ладят к вечеру прибыть и в баньку сходить, в квасном пару попариться, ключевой водой из Почайного ручья окатиться. И дома на пуховой постели понежиться, развалиться. Заработано! Ну-тка, от самого Николы не мымшись, не паримшись, по-домашнему не спамши, не емши! Да и бабы-хозяйки, чай, проглядели глазоньки, ожидаючи! Проходят чередой берега, то крутые, то пологие, справа глинистые, слева песчаные под кустами ракитовыми, позади косы да перекаты, а впереди сквозь марево лохматые холмы высятся, в дубняк, липняк да вязовник разодетые. А по холмам укрепа-стена утерянной подковой коня-исполина в землю вросла.
— А ну, взмахни, распаши стрежень веслами! Али плетку на ваши спины ленивые!
Двое на веслах — бурлаки-заморыши. Третий — на рулевом весле, ладный такой, расторопный, только худоват, а силушка из-под одежи просвечивает. «Видно, давно досыта не едал!» — думается хозяину. Повыше Балахны позавчера он к Федулу нанялся через балахонские мели да перекаты баржу провести. А на рулевом весле молодец. Послушна ему баржа-посудина, как умная лошадка умному хозяину. В ответ на понукание хозяйское не торопится:
— Ладно, боярин, успеется! За полудни к Почайной причалим. Только бы на Сарынь Позолоту не наскочить!
— Полно тебе каркать, озорнику! Али охота беды наворожить? Вот нанял беспутного на свою голову?
Бранится Носатый, а сам бердыш на ремне ощупывает и на бочонке пошире да поплотнее усаживается. А сыну шипит: «Ты, гляди, Гараська, топор под рукой держи, да по сторонам гляди — не вынырнули бы из-за ракитника лодки злодейские!» Расставшись с нагретым бочонком, походил хозяин по опалубку, гребцов оглядел, вдаль и по сторонам пощурился, и снова, крестясь, как филин на бочонок угнездился, не переставая на сынка ворчать: «Ты гляди в оба, Гараська, бердыш при себе держи, да и рогатины поближе положи. Оно хоть и близко, да не дома!»
И день веселый, солнечный, и небо как шелковое, а неспокойно у боярина на сердце. Полна мошна кожаная деньгой золотой да серебряной. «Ох, довезти бы до своего подворья за городьбой-стеной! С новгородскими да тверскими торговать любо, не то что с мордвой да булгарами, золотишком да серебришком за всяк товар расчет ведут. Новгородцы — они с иноземными купцами дела ведут, люди честные. У них слово кремень, не олово, не то что у басурман каких». Раздумывает так скряга боярин, между думами бурлаков понукает, на рулевого покрикивает, сынка шпыняет. А бочонок под сиденьем покоя не дает, сердце тревожит. А тут еще этот молодец на рулевом весле песню заорал на всю Волгу-матушку:
Эх, как по Волге по реке, Да молодец плыл в челноке!..Эка голосина, эко горло у непутевого! Вот распелся не на радость хозяину! Не успел Федул озорника побранить, как тот опять во всю мочь загорланил без опасения:
Как ко берегу крутому Легка лодочка плыла, У Семена Позолоты Там зазнобушка жила!Ну и глотка, ну и зык! Мертвый проснется, утопленник всплывет!
— Ладно, не бранись, боярин, приведу твою посудину не то что к Почальной — на самое подворье загоню!
Замолчал молодец, рулевым веслом посудину на стрежень направляя. Хозяину с сынком задремалось под солнышком. Вдруг заговорили бурлаки-заморыши, озорно да весело. Весла оставили и вниз по реке загляделись. Рассердился тут Федул Носатый:
— Почто весла бросили? Како тако веселье на вас наехало? Как меринье заигогокали!
Но бурлаки-заморыши, забывши о деле, на опалубок вбежали, оправдываясь со смехом:
— Да ты погляди, хозяин, какая диковина! Да не туда, а вон под лесочком на мелкотке что деется! Ох ты, мать честная! О-го-го! Вот диво-невидаль! Кричали так и вперед к левому берегу показывали. Поднялся Носатый с бочонка, к бурлакам шагнул и глянул туда, куда они глаза пучили. Не больно-то зорок уж был, а такую диковинку скоро узрел. Только глаза протер, не мерещится ли. По бережку песочком, на ходу косы расплетая, красотка шла, сарафан да поняву на руке несла. Вот остановилась, одежку на таловый кустик бросила, к воде подошла и, до того как искупаться, потянулась во весь рост, нежась под солнышком. Молодая, да такая-то стройная, словно не на земле, а в раю выросла. И у всех, кто глядел на нее, и дух и слова замерли. Потянувшись, в Волгу не торопясь вошла, поплескалась, поныряла, как белая утица перед селезнем, и, стоя по колени в воде, начала свои косы отжимать. А баржа все ближе подплывает, бортом ивняк задевая, а девка во всей красе все виднее да приманчивее.
И ожили, забыли про усталость бурлаки-заморыши:
— Ух ты, какая ладная! За такой до моря Хвалынского не диво плыть! Да повернись, покажись во всей красе, ненаглядная!
Федул Носатый с Гараськой бок о бок стоят, молча глядят, дивуются на красу-русалочку. Это не то, что их бабы дебелые, раскормленные да неуклюжие. Вот такую бы обнять да к бороде прижать! Только ангелов на иконы с такой писать! И глянул на сына боярин с ненавистью:
— Почто глаза-то пялишь? Женатый, чай!
И в первый раз не отмолчался Гараська, покорный отцовский сын:
— А ты-то, батя, али холостой? Вот скажу ужо матке, как на голых молодух заглядываешься!
А баржа совсем близко подплыла. Тут девка-краса косы насухо отжала, одежку с куста сняла, повернувшись к посудине, в ладошки похлопала, бесов потешая, и пошла мокрым песочком, на ходу одеваясь. Да и скрылась в таловых кустах. Закряхтел сердито Федул Носатый вослед русалочке:
— Ох, ладно не моя ты молодушка, походила бы по твоей спине плетка-трехвостка шелковая! Срамница озорная, греховодная!
Молодой Гараська как заколдованный истуканом стоял, а бурлаки дивились вслух:
— И откуда взялась краса такая нездешняя? Ни хором тут боярских, ни терема. Неспроста тут диво такое почудилось!
Скрылась в ракитнике проказница-русалочка. А баржа вдруг носом в отмель уперлась и начала нехотя кормой вниз разворачиваться. Тут Федул на молодца рулевого по-хозяйски закричал:
— Али и тебя дурака околдовала эта ведьма бесстыжая. Куда посудину привел? Баржой править — это тебе не песни орать!
А на кормовом весле никого. Как на небо улетел молодец с рулевого весла. Судят, гадают и бурлаки и хозяева:
— Чай, не за молодкой ли в догон убежал?
— Незря она рукой помахивала да в ладошки хлопала, красой дразня! Ну срамница, ну бесстыдница!
— И дива тут нет, за такой-то залеткой святой с иконы сбежит!
Бурлаки-заморыши за весла взялись, Гараська на кормовое навалился, и пошла посудина нехотя на средину реки. Оставалось только стрежень пересечь, а тут и Почальный ручей, и подворье боярское с клетями да житницами. Не страшен теперь и Сарынь Позолота со товарищами. Перекрестился Федул Носатый и опять на своем бочонке угнездился. Вот сидит боярин посреди своей баржи на пустом бочонке, и дом и посад на холмах видится. Но пощипывает его за сердце зубками зверушка-тоска, как мышь корку грызет. И так и подмывает богача Носатого поглядеть, цела ли под бочонком кожаная сума, полная серебра да золота, что на дальнем торгу выручено. Поднялся с оглядкой, приподнял бочонок, заглянул. Нет мошны! И грохнул бочонком о палубу так, что разлетелись по сторонам клепки и обручи.
Вот и стрелка-коса позади, бурлаки с Гараськой посудину к Почальному оврагу направляют, к почальным столбам подгоняют и канатом припутывают. А Федул Носатый как стоял на месте разбитого бочонка, так и застыл истуканом. И не смел сын Гараська в утешение отцу слова вымолвить, пока старик сам не заговорил:
— Господи, владыка живота мово! Да за что на меня беда такая, наказание богово! Украли мошну со всеми прибытками! Белым днем из-под гузна выкрали!
И понеслась молва по Волге и Оке, по воде и посуху, по посадам и городу, что первого богатея Федула Носатого атаман Сарынь Позолота на воде начисто ограбил. Полную мошну серебряных гривен и заморских золотых денег из-под гузна у хозяина выдернул! А залетка атаманова в том деле своему милому помогала, дураков бурлаков и боярина с сынком своими чарами и бесовской красой завлекая. Застучали по Новгороду низовскому, по нижним и верхним посадам дубовые запоры, загремели замки железные да засовы, замыкая накрепко терема и хоромы, дворы и клети. Имя атамана Позолоты всех знатных и богатых в дрожь вгоняло и по домам загоняло, как грозный звериный рык в час полуночный.
Как боярин блином подавился
Как забрал ордынец отца с матерью в полон, остался малолеток Семка один-одинешенек. Возле кузниц крутился, кузнецам прислуживал, горнило раздувал, в кузнице дневал и ночевал. И заодно кузнецкое дело перенимал. Да так перенял, что скоро смекалкой самых умелых перегнал. И стали старые кузнецы самое трудное дело пареньку доверять. По зову бояр да именитых людей на подворье к ним парня посылали мудреные замки-запоры починять и разные там хитрости подгонять. Где дело мудренее да неотложнее, туда и Семку, потому что был он на ногу скор и на работу спор. Вот вырос из отрока парень-паренек. И скажи ему хозяева-кузнецы: «Жениться, парень, надо, да к землице приставать. И ремесло не бросать. Для дела будет вернее, а для семьи сытнее!» Послушался парень. Добрые люди худому не научат.
Раскопал Семка Смерд в лесу за посадами кулигу под горох да жито. Одному бы не осилить, так молодая жена Оганька, пока деток не было, во всем помогала. И лес валила, и валы огнем палила, и пеньки наравне с мужиком выдирала. На нови хорошо, богато уродилось. Такой ли горох вымахал, а жито колосом земле кланялось. Но не успели урожай снять, как позавидовал бедному смерду боярин Зотей Квашня. Не вдруг сдался Семен:
— Моя кулига. По два лета вдвоем с бабой над ней кряхтели, пеньки корчевали, землю мотыгами копали, комья пятками разминали!
— Кулига-то твоя, да земля под ней моя!
Так и отобрал боярин кулигу с поспевшим горохом и житом. И никакой у боярина жалости, потому что сам жил под ордынцем, ханскому баскаку во всем услужить норовил. Осерчал Семен. И когда боярин с холопями с его кулиги урожай забирали, выдернул из земли дубок в оглобельку, да той дубинкой и отхлестал всех боярских людей заодно со боярином. После того долго боярин с ватагой холопей за Семкой гонялся, чтобы в железы мужика заковать. Только не дался им в руки Семка Смерд, за Волгу сбежал и в дальних узольских лесах в зимнице старца Аксена укрывался. Пока он там от боярской немилости хоронился, ханский баскак его жену за Суру-реку увез. Не одному Семке так «вольготно» в то доброе время на Руси жилось. Земля-кулига у боярина, жена в неволе у басурмана. Старое время — доброе время.
Куда осиротевшему смерду податься? Не жить ему своим гнездом на горном берегу, а гулять по всей Волге-реке, а лютой зимой в глухих лесных зимницах отсиживаться. Для таких горемык река могучая сулила быть и кормилицей, и родной матерью. Не напрасно прозвали Волгу матушкой.
Играет волной матушка Волга, в неведому даль спешит. Не отстает от нее время безжалостное, новизну открывает, старое прахом заносит, снегами засылает. Вот и про Семку Смерда, что с боярином насмерть поразмолвился, затихла молва. А уснула ли в непокорном сердце лютая ненависть к грабителю боярину и насильнику баскаку, о том догадывайся. Казалось людям городовым и посадским, что молодецкая вольница и людом прибывала и повадками с каждым днем смелела. Иные молодцы не только в посады, средь бела дня за городской вал-огородь заходили и бояр да торговых людей тормошили. Трясли, как по выбору: кто перед ханами и баскаками угодничал, того не обходили. Нижегородские княжичи, сыновья Борисовы, и те стали опасаться. По ночам вокруг подворья двойную стражу выставляли и в ворота никого не впускали.
Потом молва дошла о новом атамане разбойной вольницы, что сверху по Волге спустился с ватагой удальцов смелых и безжалостных. На бояр да на богатых татар налетал коршуном, баржу-посудину останавливал, грозным голосом «сарынь» кричал. И страшно стало боярам да баскакам и по Волге плыть, и посуху ходить. Только за зимними морозами пришли покой да тишина за городьбу Новгорода земли низовской.
По зиме перед масленицей пришла на боярский двор девка краса, тихая такая, в разговоре умная, сиротой назвалась и к боярину Квашне в стряпухи нанялась. И на другой же день такими-то блинами боярскую семью накормила, и полбяными, и гречушными, каких Зотей Квашня отродясь не едал. Ну, блины-то блинами, да не только из-за них боярин начал к стряпухе наведываться. Все на ее красу-породу любовался и где такая уродилась, дивовался. И по речи, и по ухваткам ее догадывался, что не холопье отродье ему блины печет. «Эх, с такой-то милашкой, чай, и старость бы погодила!»
В последнее утро масленицы к боярской стряпухе черноризник незваный ввалился. В рясе да скуфейке монашеской, с посохом и сумой для подаяния. Девка-краса в тот час как раз блины пекла, боярина поджидая. А чернец свой посох в угол поставил, тяжелый кистень из-под рясы достал и на стену повесил. И по-хозяйски за стол уселся. Только успела стряпуха чернецу пару блинков подать, как сам боярин ввалился. Молодка, не будь проста, с него шубу-охабень сняла и на крюк поверх кистеня повесила. И за стол хозяина усаживает:
— Не гнушайся монахом, боярин, он из божьих людей, вот поест блинков и уйдет восвояси!
А боярин монаха глазами так насквозь и простреливает:
— Это что тут за навозный жук за чужим столом сидит? Где-то видал я тебя. Не из Печерской ли обители?
— Как меня не видать. Передом всей братии в соборе стою, когда «Отче наш» пою! Хожу вот, брожу, на обитель подаяние прошу, грешных людей на путь наставляю!
Вот подала молодуха к блинам братину браги-медовухи, честит и монаха и хозяина. Приложился Квашня к братине, пососал, но не осилил и половины. После него чернец к братине потянулся:
Что боярин не осилит, То монаху по плечу!И осушил братину до донышка. После того как другую посудину опорожнили, боярин перед молодицей похваляться начал:
— Вот я знатный какой! Пока здесь бражничаю, под окном дюжина стрельцов стерегут, мою бороду берегут! А монаху пора и честь знать. Поел, попил — и проваливай!
В ответ усмехнулся чернец:
— После блинов да медовухи не ссорятся, а песни поют. Давай-ка, боярин, подтягивай:
Эх, как по Волге по реке Молодец плыл в челноке!..— Что не подстаешь? Про атамана Позолоту песня сложена!
Зазорно было боярину к разбойничьей песне подставать, пьяному монаху подпевать. Сердиться начал, грозился охрану позвать. Но не сдавался черноризник, не унимался:
— Ладно, не хочешь песни петь, так загадки отгадывай. По-доброму уйду, коли угадаешь одну:
— Висит шуба на стене, а что под шубой на ремне?..
Покосился боярин на свою шубу-охабень, а сказать нечего. Знай на блины налегает, что молодка ему подкидывает. А озорной монах не унимается:
— Ну как, не по разуму? Голове не по силам, так бородой смекай.
Снять бы рясу иноку, Да что под рясой на боку!..Молчит, сопит боярин, монаха взглядом прощупывает, стражу позвать собирается. Но тут стряпуха опять блинков подкинула, да таких, что самый сытый не откажется. Горячих, румяных, масленых. Боярин снова за блины, а монах из-за стола выбрался, боярскую шубу сбросил, кистень снял, из-под рясы саблю выхватил и к боярину грозно подступил:
— А помнишь, как у Семки Смерда кулигу с житом отнимал? А как бабу его Оганьку баскаку в неволю отдал? Эх, попробовать, крепка ли твоя лысина!
Тут у боярина от страха дыхание остановилось, глаза под лоб полезли, а горячий масленый блин изо рта сам собой в горло нырнул. Покраснел боярин лицом, замычал, зашипел и с лавки на пол свалился. А монах саблю в ножны, кистень под рясу, вышел на крыльцо и давай стрельцов скликать:
— Эй, дурачье! Не уберегли боярина, блином подавился! Идите, поколотите его по спине, авось отрыгнет! А я за попом побегу!
Потом краса стряпуха в одежке на крыльцо выбежала:
— Ай, батюшки-светы! Видно, не в то горлышко боярину блин попал! — И вслед за чернецом убежала.
Набежала родня да холуи боярина по спине тузить, чтобы блин назад выскочил. Блин-то не отрыгнулся, а боярин очнулся. Видно, не от блина он, а с перепугу замертво свалился. Очнулся, а умом рехнулся, и языком ни шевельнуть, ни вымолвить. Все по сторонам озирался и людей в черной одежке как огня боялся. Как завидит кого на монаха похожего, так и замычит.
Спустя какое-то время позвали к боярину целителя Макария, инока из Печерской обители. Многим недужным тот Макарий помогал, а этого не отстоял. Да и недужный на целителя как на страшного зверя глядел и за других от него прятался. Так и остался полоумком, монахов да попов до смерти боялся. Не знал тогда, не догадывался целитель Макарий, что это служка-послушник из Печерской обители на боярина падучую хворь нагнал. Тот самый, что в мороз и вьюгу за привратника стоял и на ночь печи в кельях жарко натапливал. А по весне, вслед за первым теплом, вдруг пропал, как растаял, этот служка русый, с искринками-золотинками в жесткой курчавой бороде.
Сундуки со звоном
Эту историю надо бы пораньше рассказать. Помните, чай, как боярин Квашня у Семки Смерда кулигу с житом отнял, а потом, пока мужик за Волгой скрывался, бабу его Оганьку баскаку в неволю отдал. Так вот, спустя лето либо два по Новгороду низовскому молодец ходил, ликом смугловат, волосом русоват, а по бородке искринки-золотинки порассыпаны — не рыжая, а словно позолочена. И волос и борода на вид мягкие, а тронь рукой — как белоус трава жесткие.
Парню эдак за двадцать лет, плечистый, проворный да пружинистый, а по взгляду — сокол сапсан, что добычу бьет на лету и начисто ощипывает. Вот ходил он по посадам и городу и с разным рукомеслом набивался. Топоры-бердыши остро-наостро оттачивал, рисовал по серебру и золоту, посуду медную выколачивал. А ловчее всего разные замки да запоры налаживал, чтобы не всяк лихой человек догадывался, как те потайные запоры отомкнуть. Богатому да знатному завсегда лестно было свое добро под семью замками держать. Ну и зазывали молодца-умельца на свои дворы.
Воевода Тупой Бердыш под старость немало добра накопил. Один клад в сундуке заморском, кованом, за потайными запорами, клад серебра и золота, что в ратных походах было добыто. Другой клад в светелке-горнице — дочка Олена красы невиданной, ума смекалистого, недюжинного, Оленка синеглазая, статная да ладная, с косой породистой. Дочка-клад, смелая да своенравная, вольно жила, куда вздумала — туда пошла. И стал задумываться Тупой Бердыш о судьбе Оленки-дочери. «Девка в летах, давно бы пора под замок до жениха богатого да знатного, пока боярский сынок какой под угор не заманил. Вот у ханов-басурманов с бабами строго-настрого, по воле не разгуляются. Не худо и нам такое перенять!» Вот зазвал воевода молодца-умельца и указал ему наперво кованый сундук оглядеть и замки-запоры наладить, да так, чтобы без звона не открывались. Сидит парень в боярском тереме у окна светлого, над пустым сундуком думу думает, догадывается, как замки-запоры со звоном подогнать. По наковаленке молоточком стучит, зубилом железки рубит-долбит, пружинки подгоняет, заклепками дело скрепляет. И песенку тихо, как молитву, поет. В самый полдень, когда воевода с челядью после обеда задремали, в сенцы, где молодец над сундуком колдовал, воеводина дочка впорхнула, кругом молодца раз да другой обошла, приглядываясь.
Потом подсела к нему и ручкой по русым кудрям и по бородке провела, погладила. Да и отдернула руку, как огнем обожглась:
— Ой, какие жесткие! Чай, и сам сердит, как барсук?!
— Волосом груб, да сердцем люб. Вот так-то! — сказал молодец, на девчонку глянул да и сам диву поддался:
— Эка краса писаная! И где такая уродилась! Приглядывается Оленка, дочка воеводина, к молодцу темно-русому, вспоминает вслух, где такого раньше встречала, видела?
— Как, чай, не видать, по всей Волге воеводой хожу, за порядком гляжу. Добрый человек встретится — пропускаю, боярина назад вертаю, басурмана-баскака на дно пускаю. Вот пойдем-ка за мной, покажу тебе всю мою вотчину!
Час, другой проходит, молодец к делу приглядывается, а воеводина дочка все больше на него заглядывается, о чем-то догадываясь. Поплотнее к нему подсела и тихо спрашивает:
— Слыхала я от челяди, что батюшка и на мою горенку надумал замки-запоры подвесить. Ты, чай, и тут покрепче запор смекнешь, чтобы без родительской воли шагу мне не шагнуть?
Глянул на нее молодец искоса да с жалостью: «Не сладко-то ей будет, как пичужке в клетке, жить!» Да и молвил так, что сама догадывайся:
— Это кому как понадобится. Можно со звоном, можно с простым поклоном, а то и с двойным потайным: кому прозвонит, кого так пустит!
Тут Оленка ручку на его плечо положила, головку склонила:
— Вот бы ладно-то было! Не сиди под запором, как басурманская жена под надзором, а сама себе птица вольная!
— Знамо так. Кому мило ждать, чтобы за старого боярина выдали. Выбирай сама, пока молода! Тут удалой умелец Оленку за плечики обнял, и заслушалась она говора доброго, молодецкого:
— Житье у нас будет вольное, вотчина привольная, прислуга расторопная, надежная. И над всей Волгой и землей низовской мы хозяева!
И день, и другой живет молодец на воеводском дворе. Починил заново замки на сундуках кованых, пригнал запоры со звоном на ворота и двери терема. И стало надежно на боярском дворе от воров и разбойников, спокойно у воеводы на сердце. На всех дверях и сундуках запоры со звоном, а самый певучий — на дверях Олениной светелки-горенки. Как запоет под ключом-отмычкой серебряными колокольчиками — все подворье разбудит. Тупой Бердыш спал теперь без заботушки, запоры со звоном, как псы сторожевые, всякого облают, только рукой прикоснись. Одного не ведал воевода. Под рукой Оленки без звука отмыкался запор со звоном на дубовых дверях терема. Пропал из Новгорода низовского умелец по замкам и запорам, ушел и следа не оставил. Поначалу его добрым словом поминали. Радовались и бояре бородатые и посадские богатые, что их клети да кладовухи, амбары и погребухи теперь за надежными запорами, а на сундуки да лари, где самое дорогое ухоронено, замки со звоном поставлены. Порадовались до первых темных ночей да вдруг и начали ахать да плакать. Без шума, без шороха мышиного опустошались их клети и кладовухи. Пойдут с отмычкой на погребец за медом хожалым, дедовским, а там ни замка, ни запора, ни браги-медовухи. Отомкнут сундук кованый, прозвенит он звоном протяжным да нежным, а не порадует. Замок-то со звоном, а сундук пустой. Все добро-серебро, и парчу, и шелка будто домовой на плечах утащил. И понеслись по городу и посадам брань да причитания.
Только воевода Тупой Бердыш в бороду посмеивался. Не заходили на его подворье ни тать ночной, ни разбойник дневной. Никто чужой не подходил к его погребцам и кладовухам, как завороженные стояли сундуки кованые, дополна добром набитые. Над, чужой бедой смеялся, перед челядью похвалялся: «Слово такое знаю, наговорное. Не миновать того слова ни смерду голодному, ни змею подколодному. Самому удалому молодцу не подступиться к моему терему и погребцу!» Похвалялся так, но не забывал по вечерам замки со звоном проверять, за горенкой дочки доглядывать, дубовые двери терема своей рукой на ночь закрывать. И казалось воеводе, что все ладно на его подворье и в тереме, не догадывался, что его Оленка по суткам из дома пропадает, замки со звоном неслышно открывая.
Эх ты, тупой воевода Тупой Бердыш! Вот придут вдруг в поздний неурочный час сваты от боярина именитого и попросят товар лицом показать. Снимешь ты отмычку-ключ с пояса, подойдешь к дубовым дверям Олениной горницы. Запоет звоном замок, распахнутся двери, а дочки в горнице нет! Куда на ночь глядя запропала самовольница? С утра до вечера дома была, пояс шелковый кому-то плела, а тут нет Олены во всем тереме! И начнешь ты со зла-досады теребить свою бороду, бранить свою воеводиху да корить за то, что дочь избаловала и проворонила! И не рад будешь, воевода, сундукам заморским кованым, с певучим замком-будильником, с утробой полной утвари золотой и серебряной, чистого серебра и золота! Далеко под откос тропинками глухими да знакомыми проводила Оленка молодца с бородкой позолоченной. В глуши вязовой да ясеневой, в непролазном ракитнике лодочка в одно весло ухоронена. Тут и прощались-расставались умелец с дочкой воеводиной. Достал он из сумки кожаной, что через плечо носил, три кольца золотых с камешками ярче звезды утренней. Одно на средний палец девушке, другое на безымянный, а третье на мизинец в самую пору пришлось. Покачала умной головкой Олена-краса, на парня пристально глянула:
— Почто ты с ремеслом по городу ходил, коли богатый да тароватый такой?
— За тобой, моя голубка, приходил!
Баскак Хабибула
Не напугалась и не раскаялась Олена, дочка воеводина, как узнала, с кем связала судьбу свою, кому будет верной спутницей. Грозное имя Сарынь Позолоты ее не отталкивало, а за собой влекло. Только стала она неприметнее из отчего терема пропадать и глухими тропинками к Волге сбегать. Вот в конце лета при желанной встрече и поведал атаман Позолота о задумке своей посчитаться со боярином и баскаком-басурманом за все обиды и надругательства. И о том, что не может он потушить в груди лютую ненависть к обидчикам, что у него жену отняли и кулигу-кормилицу.
Ну и пала эта исповедь Олене на сердце смелое, как искра горячая на трут огнива. От той искры затлелось, разгорелось в ней зло неистребимое на всех ворогов ее удальца молодца. И сказала под конец тихо-тихо, а на вес золота:
— Ладно, сокол сероглазый да бесстрашный мой! Оленка, дочка воеводина, знатного роду-племени, не погнушается помочь разбойнику посчитаться с корыстным боярином и баскаком-татарином. Не зря она на Волге родилась и выросла. Она, Волга, только робким страшна, а девке Оленке с малых лет мать родная. И баюкала, и укачивала, и волной ласковой окачивала!
Перед бабьим летом в золотые ризы начали одеваться берега волжские. Жара да сушь летняя поторопили дубняк багряными листочками украситься, березняк желтел, осинник румянился. В ночь на ильин день по росе ночной августовской к Волге седой олень подходил, в плесе копытце обмочил, и с той ночи похолодела вода во всех реках и роса на лугах. Примета верная, народная, временем проверена. Охладела вода волжская и стала прозрачная, что горный хрусталь.
Уже свозят смерды с полей в боярские закрома хлеб-жито, двуногие бородатые медведи с топором за поясом собирают последний мед диких пчел, холопы-рыбари заготовили бочки осетрины и стерляди. А сколь мехов еще по весне собрано со звероловов лесной стороны! Довольны бояре низовской земли, есть чем задобрить хана, да и на свою нужду всячины останется. А что до смердов, так им не привыкать голодать. Бурлак да смерд раньше пса не околеют. Заревели по зорям на заволжских моховых холмах олени сохатые. Последнее тепло над низовской землей стоит. Вот и поспешает ханский баскак Хабибула новую баржу добром загрузить, что бояре угодливо для хана припасли. Посудина надежная, утробой ненасытная, немало поглотила груза разного. Тут и бочки с осетриной да стерлядью, и дуплянки липовые с медом янтарным, мешки пеньковые с мехами куньими. И сумы кожаные с гривной серебряной. Дополна разным добром нагружает баржу ханский баскак. Хитро посмеивается: «Низовские князьки да бояре люди покладистые. Только их не тронь, а они за эту милость последнюю рубаху со своего русского стащат, деток-малолеток и жену отнимут, лишь бы хану угодить!»
Доволен и сыт баскак Хабибула. Коренастым пнем стоит он на носу посудины под нежарким солнышком. И приветливо раскрывает перед ним Волга свои берега. Но не гордись, не радуйся прежде времени, баскак Хабибула!
Провожать баскака в дорогу дальнюю вышли и бояре бородатые и княжичи бесталанные — все подлизы и угодники ханские. Но посадский люд да страдалец смерд на те сборы хмурой толпой глядят. Увозили хану немало добра, что их кровью и потом на скупой земле добыто. На посудине ни одного русского. Полдюжины басурман-воинов на веслах баржой управляют да сам баскак. Боярские холопы услужливо посудину от берега на стрежень реки оттолкнули, и поплыла она, как важная утица, на волне покачиваясь.
Вот уже град земли низовской пропал за холмами лесистыми, позади серенькая обитель печерская. Левый берег в густых ивняках, на правом дубняки глядятся в реку, что в зеркало. Баржа под грузом в воде глубоко сидит, ладно, что плыть вниз по течению, чуть веслами пошевеливай — сама идет. Только от берега подале держитесь, татары-воины, и от левого, и от правого. Середины держитесь!
Доволен и радостен на носу баржи ханский баскак Хабибула. А матушка-Волга радушно и берега и плесы навстречу раскрывает, обнять готовая. Но берегись, баскак, Волга — река русская. Может так обнять — не порадуешься! А солнышко уж на середину неба забирается. Жарковато стало татарам-воинам махать веслами, а тем, что на рулевом весле, — и подавно.
Зорок глаз Хабибулы. Издалека приметил, как сквозь ракитник к Волге бабеночка спешит, пробирается, на ходу раздевается, косы распускает. Сама статная да рослая, а походочка — что пружинками девицу подкидывает. Вот на берег выбежала, одежку на камушки бросила и с разбега в Волгу бултыхнулась. И поплыла наперерез барже нырком-гоголем: то нырнет, то вынырнет, русалкой плещется, играет с волной, что белорыбица. Вот совсем рядом с баржей это чудо-юдо выплыло: не гоголь-нырок с моря холодного, не русалка с глазами зелеными, а девка русская глаза Хабибуле слепила красой.
Плывет впереди посудины, как рыба резвая, пряди кос, что змеи живые, по спине струей разметаны. А руки сильные да белые с волной спорят легко, играючи. Вот она бочком поплыла, баскаку ручкой помахала, да так-то приветливо, что у того сердце екнуло. За всю свою жизнь не встречался басурманин с такой красой. И закричал сарычом, вцепившись руками в жидкую бороду:
— Ух, якши баба! Ух, красна, баска русска девка! Навострили уши гребцы-воины, приподнявшись, глядят на чудо речное, дивуются. А красотка плывет да плывет впереди посудины, то одним бочком, то другим, без натуги плывет, играючи, будто всю жизнь в воде прожила. И глядел на нее баскак Хабибула как зачарованный: «Ох, якши баба, самому хану в подарок ладна! За такую и золота отсыплет, и коня подарит, и шапку соболью. Ох, гром на мою голову, у самого три жены, отдал бы всех за такую одну! А как смела, как ловка, была бы на зависть всей орде!» Вот краса русалочка на спинку повернулась, в ладошки похлопала и, красой дразня, круто к берегу повернула. И завыл тут баскак Хабибула на всю Волгу, сам не зная, кому и что приказывая:
— Ай, нагнать, собаки шелудивые, поймать, заарканить!
И ногами топал баскак, и бороду теребил, и бога своего бранил. И погнали басурманы-воины свою посудину за русалкой к левому берегу, так что весла гнулись и руль кряхтел. А девка, на берег выбравшись, резво одежку с камешков подхватила и в ракитнике сокрылась. Не успела посудина к берегу пристать, как ожили кусты ракитовые, заголосили, засвистели по-разбойничьи. Из кустов ватага удальцов высыпала с бердышами да копьями, по пояс в Волгу забежали молодцы, баржу крючьями да баграми зацепили и к берегу подволокли. Как увидел баскак страшное вольное войско, первым с борта в Волгу скакнул, а за ним его воины. Да, видно, в воде нырять не то, что на коне скакать. Побарахтались, своего бога на помогу покричали да и на дно пошли, как камни тяжелые.
А молодцы-удальцы, не откладывая, принялись поклажу баржи тормошить. Первым им в руки бочонок попался, с медом пьяным, разымчивым, что бояре-угодники в подарок хану посылали. К меду бочонок стерляди выкатили, расколотили, на песке среди ракитника огонь развели, кругом сели и пировать начали. И не забыли пить за здравие Семки-смерда, Сарынь Позолоты по прозванию, атамана удалого, и за его залетку-зазнобушку из терема боярского, отважную и верную помощницу.
Скоро к берегу голодный люд набежал, баржу-посудину от снеди опорожнили и опьянели все, не столь от меда, сколь от непривычной сытости. К вечеру баржа совсем опустела, над водой поднялась, на волне покачалась, будто раздумывая. И с пустой утробой вниз по Волге поплыла. Одна-одинешенька и пустым-пуста. Принимайте, ханы-басурманы, подарки от вольницы земли низовской!
Пора невезучая
Невелика была ватага атамана Позолоты. Всего-то полдюжины молодцов, сам седьмой. Но боярам и баскакам, ханским прислужникам, казалось так, что глухомань заволжская, берега Волги низовые и горные кишат разбойной голытьбой, удальцами отчаянными. Да на то и смахивало. Как пробежит слух-молва, подобно ветру свежему — грозы предвестнику, что Семен Позолота по Волге плывет, вся голытьба и смердь голодная ждали да слушали, когда на реке бранный шум поднимется. Знали, что будет скоро для брюха еда, одежа для плеча. Ватажками и в одиночку к осиротевшей барже спешили и сноровисто ее от остатков снеди и товаров разгружали. Да не воровясь, не спеша, не кое-как, а с прибаутками да приговорами: «Боярин да хан-татарин наши избы грабят, а мы их на Волге гладим. Бог правду знает: как пришло, так и ушло!» А остатки от добычи немалые, как после сытого барса снежного.
И не укрыться, не утаиться было от грозного Сарынь Позолоты ни торговому человеку — купцу богатому, ни боярину, ни баскаку-басурману. Словно во сне-вещуне привидится, или кто невидимый на ухо атаману шепнет, что по Волге посудина с богатым грузом плывет. С ватажкой из шести соколят налетит, разобьет, вино заморское да серебро заберет, а одежу да снедь береговой голытьбе оставлял. А хозяину с охраной дорогу в Волгу указывал, рассуждая по-божески: «Коли волгарь наш коренной, так выплывет, а коли захребетник какой, боярин, баскак, так водицы хлебни, ко дну иди!» Вот так и получалось, что опознавать да предавать атамана Позолоту было некому. А перед лютой зимой, когда мать Волга мертвым сном засыпала, Семен Позолота со товарищами в Печерскую обитель приходили, да с такими дарами, что настоятели и келари вслух не дивились. Сам Позолота до весны вратарем служил, а шестеро дружков-товарищей на других делах в монастыре и по посадским людям прислуживали, как люди жизни самой праведной.
Но скучно и безрадостно было той порой житье Оленки, дочки воеводиной. Давно бы ей замужем быть, деток родить, мужу-боярину во всем угождать, а она, как трава колючая да жгучая, из-под воли отца-матери выбилась. И не хочет идти ни за боярина, ни за басурмана. Взять бы отцу-воеводе в руки плеть ременную да отхлестать голубушку по обычаю басурманскому, да под замок посадить на хлеб, на воду, на вольный свет не выпускать, солнышка не казать! Авось образумилась бы и присмирела, забыла бы, как днями и ночами из дома-терема пропадать. Да вот беда: дура воеводиха за дочку храбро заступается, грехи-проказы ее покрывает, волю дает. Не зря дочка с весны до осени по дням и ночам пропадает.
Грозится, сердится воевода Тупой Бердыш: «Ой как тоскует, тужит по ней келейка в Зачатьевской обители, давно пора упрятать туда дочь непослушную, распутную. Осрамила на весь град, опозорила!» А время катилось да катилось вслед за солнышком. И мелькали дни да недели безжалостно. Только зло-лихо не торопится. «Лихо, оно споро — не пропадет скоро!» Это пословье русское старым-старо — ровесник гнету ханскому, живет от времени засилья басурманского. Лихо спорое и живучее, да оно и прилипчивое.
Привыкли к тому лиху ордынскому и князья, и бояре именитые. Переняли обычаи басурманские, научились ползком подползать к ногам хана ордынского, и угодничать, и подличать. Мздоимство и лесть переняли. Ханов задабривали, а друг на друга, брат на брата подкопы копали, наветы придумывали. Научились в ругательствах свою честную мать поминать словами оскорбительными, непристойными, а своих дочерей под замком держать, добрым людям не казать.
Задыхался народ низовской земли между двух тяжких стен: промеж боярином и ханом. Но и задыхаясь, противился и копил в сердце ненависть. Вот и Семка-смерд и во славе своей не мог забыть, что кулига его у боярина, а жена у басурмана. В ту пору низовской землей князья Иван да Данило поначалу правили, братья Борисовичи, прислужники татарские да булгарские. Только недолго покняжили. Поднялся на них народ нижегородский: и бедный, и знатный, и голытьба да вольница к тому подстала. И бежали братья Борисовичи, князья бесталанные, как два пса, к своим хозяевам. Семен Позолота со товарищами в том правом деле первыми были.
Княжескую стражу разогнали и князей бежать поторопили. Но как узнали, что к Нижню Новгороду войско великого князя для порядка приступило, таково рассудили: «Хоть и послужили мы народу, избавляя от ханских прихвостней, но слава о нас разбойничья. Для таких молодцов у любого князя награда одинакова: два столба с перекладиной!» И к Волге родной откатились. И вовремя. По жалобам бояр воевода князя московского указал изловить всех молодцов из вольницы, тех самых, что помогли ему землю низовскую от ханской нечисти освободить. И довелось Сарынь Позолоте с удальцами в узольских лесах хорониться и пореже на Волгу выплывать. Вот так-то и обернулось одно лето для Семена Позолоты годиной несчастливой, безрадостной. А самое горшее да обидное было для атамана отступничество зазнобы Оленки, дочки воеводиной. Только потом узналось, что не отступилась она от своего сокола, а неволей пошла в обитель Зачатьевскую. Распорядился воевода Тупой Бердыш упрятать в монастырь свою дочку своевольную, чтобы не терпеть ему насмешек от знати боярской да княжеской. А среди простых людей молва о том была, что не бывать бы Оленке в заточении, кабы не охотились в ту пору за ее милым княжьи люди со стражею. А что с атаманом сталось, куда запропал, о том никто не знал. И голодала смердь да голь приволжская, доброго атамана невесть откуда поджидая.
Не устает краса Волга каждой весной свои воды далеко по сторонам разгонять, как хозяйка небережливая, добро расточать по лугам и прибрежным лесам, кустарникам. Дубье да осокорье на крутоярах безжалостной струей подмывает и с кореньями на стрежень швыряет — плыви, куда судьба вынесет! Зато как схлынут вешние воды да обогреются берега солнышком, попрет из земли зелень буйная, расцветут и луга, и ракитники красой весенней, радостной. С грустью тихой, неулыбчивой глядит на весну сквозь оконце зарешеченное Оленка, дочка воеводина. Была Оленкой, а будет Секлетеей, Хавроньей либо Евфимией во иночестве. Семь мятежных беспамятных лет как в радостном сне прожито. В беспокойном, тревожном, но радостном. И милого любила, и милому в смелых ратных делах помогала, как рука правая надежно служила. Не один боярин поплатился головой и мошной за обиды, что учинил Семке-смерду, Сарынь Позолоте по прозвищу. Так ее любимого сокола за смекалку да отвагу дружки-ватажники прозвали. Знают, души разбойные, пока с ними храбрый Сарынь Позолота — удача и везенье во всяких опасных делах.
За монастырской решеткой девка-краса, пловчиха смелая. А давно ли, кажись, с Волгой споря, с волной играючи, баскака Хабибулу, как быка дикого, ко гибели подводила? Злодею-боярину последний блин испекла, богатея-ротозея с баржой ко берегу подманила, помогла своему дружку мошну с серебром из-под сиденья боярина отнять? Семь лет жизни озорной, разбойной, радостной. Удержать ли решетке келейной Оленку, затворницу невольную! Только знать бы, ведать, что сталось с ее смелым соколом! А сны все такие небывалые. Часто снится ей Семен серым ястребом с перебитым крылом, с очами желтыми, яростными. Ох, не к доброму такие сны! А в окно кельи буен ветер с Волги врывается, несет запахи весенние, что сердце волнуют и кровь горячат и о спасении души забыть приказывают.
Аксенова закутка
Стремится вверх по Волге челн просмоленный, со встречной волной разговор ведет, к левому лесному берегу жмется, торопится, на воде быстрый след оставляя. Молчат, на весла наваливаясь, гребцы угрюмые, и злая печаль на их лицах при закатном солнышке еще злее кажется. Давно плывут. И кто бы ни встретился им из простых людей, по воде плывущий или по берегу идущий, ко всем одно слово нетерпеливое:
— Не слыхано ли про инока Макария, целителя из Печерской обители?
Так плыли шестеро молодцов до утра и, ничего не дознавшись, свернули в устье родной реки, что с Волгой сливалась. Тут им оборванный смерд на глаза попался, что в липняке по берегу лыки на лапти драл и лубки для мочала в бочажинах замачивал. В сермяжине на голо плечо, в худых портах, не унимаясь, от овода мужик отмахивался. Не сразу дошло до его разума, о чем молодцы спрашивают. Да и комар жужжал, тучей кружась, покоя не давал.
— Монахов с иноком Макарием? Не слыхано. Вот по весне, по большой воде, проплыли вверх по Узоле на двух челнах, только, кажись, не монахи, а люди вольные. Да вы, молодцы, во Аксенову зимницу наведайтесь. Место приютное, для вольных людей надежное!
Как не знать молодцам зимницы Аксеновой! Самим не раз доводилось в ней, среди леса, отсиживаться, от воевод хорониться. Притаились в приузольских лесах деревушки никому не ведомые, упрятались в глухомань далекую от засилья боярского, ярма басурманского. На смердах одежка убогая, сами круглый год полуголодные, а с вольной братией при случае последним поделятся. В просторной да приземистой зимнице старец Аксен испокон века живет, и кто летами старше: жилье или хозяин — о том мало кто помнит. В молодости с вольницей по Волге и по суху ходил, ненавистных бояр и басурман при случае как мух давил. И летела о нем слава грозная как о разбойнике безжалостном. К самой старости Аксен боговым слугой поприкинулся, в глухомани, притаясь, век доживал. А зимней порой, студеной да неудачливой, лихих молодцов у себя укрывал. И слыл среди смердов приузольских старцем божьим, праведным. Из дальнего залесного поселеньица прибежит тропами неприметными девчоночка, к зимнице подкрадется тихонечко, поставит на оконце бурачок да узелок со снедью, постучится пальчиком:
— Дедушка Аксен! Дома ли? Вот матушка тебе милостынку прислала. По дедушке година, по бабушке сорочина!
И хлебушка, и горошку, и кваску добрые люди подадут, не забудут. Ну а рыбки да медку сам добывай, пока сила насовсем не покинула. На то оно и приузолье дикое да привольное. Вот так и живет старец Аксен, не грехи своей молодости замаливает, не душу спасает, а удалых молодцов от грозы-невзгоды укрывает.
Под теплой ночью спят леса приузольские. Сквозь леса речка Узола бойко так пробивается, как на свадьбу, спешит на встречу с Волгой у Соленых грязей. Под крутым берегом плеса костер горит. Просмоленный челн у берега, а вокруг костра шестеро ватажников. Седьмой поодаль, у береговой стены, на войлоке недвижим лежит, ковром дорогим укрыт. Недвижим, но видно, как его злая хвороба трясет.
Огонь в ночи, как зелье приворотное, привораживает, издали к себе манит. А тем, кто рядом, тихое раздумье кладет на сердце. Сытого ко сну торопит, голодному ночи прибавляет.
Не спится, не дремлется шестерым у костра. По весне встретились им у Соленых грязей два челна с черноризниками. Подумалось, не монашья ли братия из Федоровской обители. Монахи-федоровцы на всю Волгу прославились угодничеством перед князьями да боярами. Не один раз попадались они с дарами, для хана припасенными, в руки атамана Позолоты со товарищами. «Подлизы басурманские, одной рукой крестятся, другой ордынца задабривают. Люди божьи, а служат аллаху да хану-басурману!» Такая о них слава была.
Вот и стакнулись молодцы узнать, что за монахи плывут, кому какое добро везут.
Да и узнали на свою голову. Позолота сам седьмой, а монахов четырнадцать. Да не в числе беда сокрыта была. Схватился на мечах с атаманом монах, что на кормовом весле стоял, как ворон черный волосом. Недолго побились, но повисла вдруг у атамана рука левая, а из плеча — кровь ручьем. С большим трудом отцепились ватажники от тех черноризников. И вот уж кою неделю свой челн из конца в конец по Волге гоняют, разыскивая инока Макария, что своим целительством Печерскую обитель прославил. Как назло к раненому атаману еще и лихоманка пристала. И плошал на глазах Сарынь Позолота. Все свою Оленку проститься зовет. И своих удальцов не узнает. А чем только не лечили! И по знахарям и по колдунам возили. И в обитель Печерскую заглядывали, да без толку, только страху на монахов нагнали. И тает свечой атаман лихой, на всю Волгу молвой прославленный.
Была бы тишина сонная на речке Узоле, кабы струя ее под берегом сама с собой не разговаривала да замолчал бы озорной соловушка. Вот совсем рядом в темени чуть слышный шорох послышался. И как пружиной подкинуло шестерых удальцов, и за мечи схватились они при страшном окрике:
— Не вешай головы! Сар-р-рынь!
Сам Позолота, откинув ковер, приподнялся на войлоке и, опираясь на здоровую руку, в темноту глядел. Вот на свет костра леший старый шагнул. Глаза, как у филина, широко поставлены. На худых костистых плечах бурый кафтан, рубаха чуть не до колен, пояском подтянута, из-под рубахи порты вокороть, по колено от росы мокрые. На голове, на ногах — ничего. Глазастый, лобастый, а волосом — белее снега белого.
— Ох, полоумные, оторви ваши головы! Знатное же местечко для ночного привала выбрали! Ваш костер с крутояра до самой Волги просвечивает! Али дуракам неведомо, что после печерского праздника, где вы огоньком божьему храму погрозили, княжья стража по всей округе рыщет, увечного атамана Позолоту разыскивая?
Не вдруг узнали молодцы старого Аксена. А бывалый атаман-разбойник не на шутку расходился:
— Развели огонь и спят сидя: вот, мол, глядите, люди воеводины, берите, хватайте нас, как курей с наседала, рубите пустые головы! Туши костер! Неси атамана в челн! Плывите вверх до старицы Аксеновой!
Подождал, пока ватажники погрузились и отчалили, и потрусил впереди челна берегом, как птаха-поночуга неприметная. Только босые ноги мелькали да седая голова маячила в утреннем сумраке. Веками было безымянным одно глухое урочище в низовьях речки Узолы. Не имело ни имени, ни прозвища. Но вот поселился тут, скрываясь от грехов мятежной молодости, старый человек и Аксеном назвался. Зажил тихо, незаметно и другим таким же буйным горемыкам в своем жилье-пристанище не отказывал. И вот стало тут все прозываться именем Аксеновым. Зимница — Аксенова, закутка — Аксенова, и озеро-старица, и сосновый бор, и куща ясеневая — все прозвано не смерда именем, хлебороба мирного, бесталанного, а именем волгаря удалого, разбойного. Народная память проста да правдива: знает, кого при себе удержать.
На рассвете Семеновы молодцы свой челн в Аксенову старицу завели, в конец проплыли и у знакомой зимницы причалили. Причалили и дивятся диву дивному. На берегу, под вязами, два больших челна вверх дном опрокинуты. В обрывистом берегу старицы землянки выкопаны, двери черной одежкой от комаров занавешены. И рыжий монах в челне вдали по озеру плавает, снасти выбирает. И сверкает в сетях серебро живое, холодное. Вот и старец Аксен из закутки встречать спешит, а с ним опять же монах. Монах, а с мечом у пояса. Тут молодцы атамана на ковре из челна подняли и под вязы на мураву вынесли. Склонился целитель Макарий над увечным атаманом и на его висок руку свою бережно положил. Живой стрункой билась неприметная жилка, билась, вздрагивая, словно сказать хотела: «Пока жив — жив пока! Пока жив — жив пока!» Стучит и бьется жилка жизни под пальцами инока, бойко, но тревожно, будто на помощь зовет. Ухватили молодцы ковер за углы и вслед за целителем в зимницу атамана понесли.
Побратимы
Атаману Позолоте в то утро снились Волга и Олена. По играющей реке плывет посудина, дополна добром нагружена, на низы плывет, в орду татарскую. Это бояре низовской земли ханам дары отправляют. Плывет баржа, сосновым опалубком под солнышком сверкает, смолеными боками похваляется. Не торопясь плывет. А он, Позолота, берегом на перехват спешит. Но по колено вязнут ноги в сыпучем речном песке, и отстали где-то его шестеро верных удальцов-товарищей. А голодные смерды кричат издали: «Хлеба нам, Позолота, хлебушка!» И сердится атаман и плакать готов, кляня свое бессилие. А ноги по песку сыпучему никак не идут. Вдруг откуда-то краса Олена взялась. Подобрала подол одежины и навстречу посудине водой пошла. Ухватила баржу за просмоленный канат и, как щепочку, к берегу приволокла. И никого-то на той посудине: ни боярина, ни баскака, а хлебушка-жита голодным людям — полным-полно! И так атаману стало легко да радостно, что руками взмахнул, как крыльями, и из песка сыпучего вырвался, — и проснулся.
Ни Волги, ни Олены, ни баржи просмоленной, ни смердов голодных. Полумрак кругом. В крохотное оконце сквозь ветхую занавесь свет пробивается. Жадный комар одиноко гудит. А в ногах — черный монах стоит. Черные и одежда, и борода, но не скрыть им силы и худобы. Вот он к изголовью шагнул, коснулся рукой атамановой головы. Бьется под пальцами целителя живая жилка, слабо, но ровно, надежно: «Жив буду — буду жив, жив буду — буду жив!» Хворобый атаман тоже чувствует, слышит это биение, а инок целитель и слышит и знает: будет жить!
С больного плеча повязку бережно снял и к ране что-то новое, прохладное да такое пахучее приложил. И снова суровым холстом повязал, поучая: — Терпи, терпи, молодец, снова атаманом будешь! После того из глиняной фляжки недужному дал глотнуть. И раз, и другой, и третий. Пьет Позолота из фляжки, и чудится ему, что не впервые он такую горечь пьет. Ох, горше полыни настой коры ясеневой! Но сладок и крепок сон под шум вот этого дерева, что нависло над кровлей избы Аксеновой. Как крепко спится, без озноба и трясения! А монах все чернее и чернее становится, пока не пропал вовсе в сумраке. Вот и спит атаман.
Пока инок Макарий атамана Позолоту от хвори выхаживал, его шестеро молодцов с монахами настоящую дружбу завели и помогали им во всяких делах. А монахи-мастера, швец да шварь, им одежку да обувку заново починили — хоть снова разбойничать иди, хоть гуляй да пляши. Рыбарь Варнава неустанно комаров на Узоле своей кровушкой поил-кормил и рыбку ловил. И с утренним солнышком в Аксенову заводь заплывал. Тут все — и монахи и удальцы — дело забывали, ко берегу сбегались на улов-добычу подивиться, рыбаря за талан похвалить.
В ту пору день да ночь как раз спор затевали о том, кому убывать, кому прибывать. Липа доцветала, шиповник розовые лепестки по земле рассыпал, калина с рябиной последний наряд донашивали. И комары от жары попритихли. Над Аксеновой старицей тепло и солнечно, и вольготно так, что не надышишься. Но не выходит, не позволено выходить на жарынь да солнышко хворобому атаману. «Лихоманка, хворь трясучая, от жары и солнышка упрямства и зла набирается и крепче за больного держится. При лихорадке надо в тени, в прохладе сидеть, вечерней сырости избегать, тогда посмирней ей быть. Да не забывать горькое ясеневое питие пить!» — так иноком-целителем сказано. А рука у Позолоты к лубку привязана, суровым холстом замотана. Черный монах не забывает в один и тот же час приходить и к порану пахучей мази прикладывать на сале барсука, зверя живучего. И крестным знамением подкреплял монах свое целительство.
До того утра, как Волга да Оленка атаману Позолоте приснились, не одну ночь мучил его бред беспамятный. Наслушался целитель Макарий от недужного Позолоты всякого: и «сарынь» он яростно кричал, топор-бердыш на боку искал, и Оленку к себе на помощь звал, и проклятия страшные сыпал князьям, боярам и баскакам-зорителям. До холодной испарины метался и гневался на знать Новгорода низовского, на бояр и княжичей, что хану басурманскому с душой и потрохами запродались. Наслушался и понял инок Макарий, в мире витязь Тугопряд, что не простой разбойник и грабитель этот недужный атаман, а супротивник яростный гнету боярскому, ярму басурманскому. И отхаживал, от смерти отстаивал атамана волжской вольницы, подкрепляя свое целительство словом божиим, следуя обычаю народному: «Без бога не до порога!»
И вот утром ясным, розовым, проснувшись, Семен Позолота всем сердцем почуял, что беды и мучения его кончаются. Лихоманка уже не трясет, отступила, беспамятство кончилось, рана еще побаливает, но заживляется. Этот монах, видно, знал что-то повыше молитвы и слова божия, надежнее всякого колдовства и знахарства. Радуется жизни Семен Позолота, а целебное ясень-дерево тихо над кровлей листвой шумит, успокаивает и сном забыться велит. И вот когда инок навестил его, чтобы рану от повязки насовсем освободить и в последний раз горечь-пойлом угостить, атаман глядел на него как на избавителя. И сказал глухо, сдерживая волнение:
— Чую, не жить бы мне без твоего умения да старания. Не Семке-смерду задумываться, чем за жизнь платить. Только, слыхано, есть на свете такое, что дороже серебра и злата. Не погнушайся быть мне братом названым, побратимом до последних дней! В ответ усмехнулся монах горько, невесело, рану ощупывая:
— А побратался бы ты, атаман, с тем чернецом, что вот это увечье тебе учинил? Помнишь, в потемках на Волге у Соленых грязей?
Не сразу нашел, что сказать, Позолота. И задумался, нахмурившись: «Четырнадцать чернецов пропало из Печерской обители. И тех, федоровцев, было столько же. Не зря мне он где-то виданным кажется. Да и не бывало такого, чтобы в схватке на мечах против Позолоты кто выстоял!» И заговорил, на правую руку приподнявшись:
— Видно, правдиво сказано, что камень с камнем: не сойдутся, а человек с человеком не чают, да встретятся. Брат мой названый, не повинен ты в крови моей, коли сам я на то напросился! За федоровских захребетников в ту ночь твою ватагу принял. Ну и поплатился, и пусть та оплошка чернобыльником порастет. И на моем плече, как пятно родимое, останется. Слыхано, бежали вы с братьями по обители на волю вольную, на жизнь привольную. Какова эта жизнь сей вот день, какова впереди — о том думай сам. Но послушай побратима своего: оставь свою задумку вольным жить. Разбойные да беспутные под старость и те в монастырские ворота стучат. А монаху под старость из кельи бежать — маху дать! Какая там вольная воля, пока правят всем князьки да бояре — угодники ханские! На откуп басурманам отдана вся земля низовская, и нет над нами человека выше баскака-басурмана. Не завидуй на вольную жизнь разбойную. Вот выйдут инок Макарий да Семен Позолота со товарищами на Волгу гулять, бояр да богатых татар обирать. А кому на пользу пойдет наша удаль молодецкая и все добро, что мечом да бердышем будет добыто? Хана, лихоимцев баскака да боярина тем не пронять. Лихо-то оно споро, не погибнет скоро! Устал Семен Позолота, на изголовье откинулся, здоровой рукой с лица пот смахнул. Тихо было вокруг, и ясень под окном не шумел.
— Эх, не Семке-смерду такую бы голову, а воеводе, князю, боярину! Давно бы люди низовские избавились от хомута басурманского! — Это старец Аксен взглянуть зашел, как-то атаман силы набирается. Вошел неслышно, как тать ночной али зверь лесной. Сказал так и опять замолчал. А Позолота, отдышавшись, снова заговорил:
— Выбрать бы тебе, иноку, побратиму моему, место-урочище для монастыря-обители к Волге поближе, от бояр и князьев подале, под боговым именем силы да богатства набираться, чтобы не кланяться ни боярину, ни хану, а служить избавлению народному от ярма-ига басурманского!
Не скоро заговорил беглый монах Макарий, в миру Иван Тугопряд:
— На пустом месте монастырь не начать, не поставить. Чтобы сильным слыть, надо богатым быть. Без помоги князей да бояр монахам не жить, и потухнет дело в самом зачатии!
И встрепенулся атаман Позолота ястребом. Снова привстал, рукой о стену опираясь:
— А побратим твой Семка-смерд на что? Да только решись! Чай, помнишь, как Печерская обитель, бывало, семерых удальцов за стенами укрывала? А какие дары за то монастырю поданы, о том только игумен да келарь знали-ведали. А ты бедности боишься. Да только начни! А какое место-урочище раздольное да привольное укажет тебе Семка-смерд, брат твой названый! Там и леса непроходимые со зверями пушными и снедными, с бортями медовыми — медовый край, и тони-заводи стерляжьи да осетриные. И рядом тропа-дорога в края хлебные, из низовской земли в даль басурманскую. Скупиться да гривны считать твоей обители будет некогда. А богатство твое там, на речке Керженке, а в каком урочище, под какой сосной, о том только Сарынь Позолота ведает!
— Эх, кабы мне твои лета-молодость да мою бывалую силушку! Не отстал бы от твоей ватаги ни на единый шаг. Послужил бы Семену Позолоте, как никому за всю жизнь не служивал! — Это старец Аксен, атамана заслушавшись, незаметно, шаг за шагом подвинулся и, стоя над ним, как на самого бога глядел. А беглый монах Макарий, инок мятежный, молчал. Но понял атаман Позолота, что они теперь и побратимы, и сподвижники.
На устье Керженки
Заходили гоголем, орлом глянули шестеро удальцов, как видно стало, что их атаман хворобу поборол. И дивно всем было, что чернец-целитель с Позолотой, как братья родные, сердцами открытыми и дружбой связаны. Да и монахи все до единого тому радовались. Вот как-то собрались чернецы и ватажники во единый круг Иванов день помянуть. И вожаки к ним подсели. И поделился Макарий со всеми раздумьем своим. Не ждал, не гадал он, что его чернецы так дружно духом поднимутся. Первыми братья-плотники рассудили веско, неторопко:
— Оно неплохо, кабы свою монашью обитель где-то обжить, подале от князей да бояр. Был бы лес под рукой — к покрову кельи выстроим из дерева самого доброго!
Подстали тут чернецы-кузнецы беглые:
— Была бы там только порода рудная, железная. На укрепу дубовую накуем и шпигрей, и чесноку острого, частокол скрепим железом-обручем намертво!
— Она, эта вольная жизнь под чистым небушком, под дождем да божьей росой, приманчива, видно, только издали. А изведавши ее, под крышу манит. Да и одежа с обувкой при вольной-то жизни скоро ветшают, изнашиваются. А где ее новую взять, коли с чужого плеча, с чужой ноги не снять? Из монахов какие уж грабители! — таково слово шварь да швец молвили.
Оглядели на себе одежку да обувку Позолотины молодцы, ничего не молвили, а подумали: «Давно и нам приодеться пора. Монахам и в барахле ходить незазорно, иные из них еще и веревкой подпоясываются, а удальцам из вольницы подай новое да ненадеванное!»
— А я одно скажу: одна сласть мне комарей кормить, что тут, на Узоле, что на другой такой реке. И одинаково ухой кормить, что своего брата чернеца, что удалого молодца из вольницы. Эх, привел бы господь, довелось бы порыбачить на Волге-матушке! То-то вольготно да радостно!
После рыбаря Варнавы позамолчали все. Монахи вольную жизнь заживо хоронили, удальцы на новую надеялись, с везеньем да удачами. А над Аксеновой зимницей и старицей, кружась, орел летал высоко, до самой Волги землю оглядывая. Старец Аксен давно за ним из-под руки следил. И за всех радовался. Видеть в небе орла — к счастью и удаче, к везенью во всяких делах. И крикнул старец, да так, что сам Макарий с Позолотой вздрогнули:
— Сар-р-рынь! Не вешай головы, молодцы! Гляди в небо! Вот орел высоко летит, птица смелая, далеко глядит, удачу сулит! Но чую старым сердцем, пригодится еще вам закутка Аксенова!
С утра челны заново просмолили и на жарком солнышке просушили. После того на воду их столкнули и разное добришко в них погрузили. Со старцем Аксеном простились, от берега оттолкнулись, веслами взмахнули, за одну ночь из Узолы выплыли и мимо Новгорода низовского проскользнули. И на низы Волги подались. Плыли день да ночь и поутру свернули в устье реки, что с левой стороны в Волгу стремилась. По берегам дубняки могучие, липы столетние и ели, как стражи-монахи угрюмые. А вода в той реке опять-таки красная. И посмеялись молодцы-чернецы, работая веслами против быстрой речной струи:
— Видно, и тут наш Варнава свою бороду помыл. Не зря вода желтым-желта, как медная!
При самом устье на берегу станом стали. Выбрали место повыше, что вешней водой не заливалось, и тут свое гнездо заложили. И чернецы и удальцы знатно работали. Не боярину с ордынцем, а себе зимовье строили. И вырастал сруб за срубом, лубяной кровлей покрывался, с подножия красным мхом да землей утеплялся. А рядом за дубняками Волга волнами катилась, к морю воды несла, только горе и беды низовской земли сбыть не могла. А за Волгой при устье речки Сундовика на горах чернел остов выжженной крепости. Кем, каким ворогом растоптана укрепа на грани низовской земли? Княжичами нижегородскими при помоге басурман — булгар да татар.
Не по дням, а по часам росла сосново-дубовая обитель у Желтых вод при устье речки Керженки — обитель гонимого мятежного чернеца Макария с братией. Радовался Семен Позолота новой жизни своего побратима. И думал о том, как будет расти и укрепляться эта обитель инока Макария от даров руки разбойничьей. Лишь бы стояла эта монашья братия против ненавистного гнета басурманского да не служила боярам, что головой запродались ордынцу проклятому. А он, атаман Позолота, их в беде не оставит. Будет чего отсыпать в копилку-кружку монастырскую опричь того, что у Темной заводи на Керженке захоронено. Не скупись, игумен Макарий, серебру да золоту и мертвый послужит!
На берег Волги выходил атаман Сарынь Позолота и оком соколиным грозился вверх и вниз по могучей реке. Как тигр, на водопойной тропе затаившись, он будет поджидать на этой большой дороге-реке богатых и знатных басурман и ненавистных бояр, ханских угодников. А матушка-Волга, она много знала, далеко вперед времени глядела, но над задумкой побратимов не насмехалась. Послужит им сколь послужится, коли задумали они для низовской земли дело доброе, честное и смелое.
Опять один остался старец Аксен. Вокруг своей закутки бродит, кряхтит, покашливает, незваных гостей вспоминает. «А пусть поплавают, на новых местах поживут, горем и радостью, удачей и бедой потешатся. Не один раз вспомнят закутку Аксенову, опять побывают. Святу месту не быть пусту. От озорного боярина да басурмана не только что на Узолу, на саму Унжу спрячешься!»
Богово — богу
Согнула старость мать Агапею, хозяйку Зачатьевской обители. Давным-давно в монастырь по доброй воле пришла да по зову самой княгини основательницы. Боярская дочь, в молодости гулливая да распутная, в зрелых летах сплетница да сводница, а под старость в святую обитель, к божьему порогу постучалась.
Заскрипели врата рая бабьего и впустили грешную с даром богатым. С дорогим-то вкладом и в монастыре не всухомятку живут: и тешатся, и винцо заморское пьют.
В миру сама гуляка да распутница, а в старости черница и ханжа, злыдня на все красивое и доброе, что в людях есть, мать Агапея молодых послушниц да черниц заживо загрызала, на вольный свет взглянуть, ветерком свежим дохнуть им не давала. Вот Олена воеводина, птаха вольная да смелая, попала послушницей в ее клетку душную. И с первых же дней возненавидела Олену карга Агапеюшка, готова была ее слопать глазами зелеными, придушить зубками желтыми, съесть, как кошка старая касатку-ласточку.
Ходит, бродит по двору старая Агапеюшка, стучит посохом, а посошок повыше ее головы. «Долгим-то батогом подале достану, покрепче, побольнее ударю!» И боятся ее посоха черницы и послушницы пуще кнута и плетки шелковой. Так с посошком она и в церковушку бредет. Одной рукой крест на цепи золотой ко груди прижимает, другой на посох опирается. А посох выше ее головы, а глаза злые да зеленые. Бродит игуменья по двору монастырскому, подожком стучит, по сторонам глядит. И чудится ей, что не высоки стены вокруг обители, не крепки ворота да запоры, широки оконца в кельи, ненадежны решетки железные, легки ставни оконные. А обитель ее к Волге крайняя, к лихим заволжским людям ближняя. Не хитро вольным людям через стену перевалить и всех монашек как кур передавить да и забрать сокровища, что годами накоплены.
Не одиново распоряжалась Агапеюшка коренного кузнеца-умельца из Кувыльного оврага позвать. Но кузнецы, как сговорясь, одно в ответ: «Повременила бы, мать игуменья. Не вернулся еще из отлучки главный умелец по решеткам, замкам да запорам. Вот как объявится, и устроит все. А со стороны, кого попало, не нанимала бы. Чай, помнишь, как один молодец по городу ходил и запоры со звоном дуракам подлаживал!»
Ну вот ждала так мать Агапея и дождалась наконец. Постучался в ворота дубовые кузнец-молодец, рожа, как у цыгана, немытая да прокопченная, одежка в дырах, окалиной в кузнице прожженная, только и видно из-под копоти, что глазами смел да волосом русоват. А так по всему — из пекла от чертей вырвался.
Впустили молодца, и сама Агапеюшка его встретила. А кузнец под ее крестное знамение поклонился и таково первое слово молвил:
— Ох, матушка игуменья! Сквозь годы старые краса твоя бывалая на свет божий пробивается! Чай, все княжичи за молодой-то вперегонки бегали да сватались!
Любо старой карге, что такой молодец разглядел-таки красу ее бывалую. Разомлела сердцем, раздобрилась, поманило похвалиться молодостью:
— Семеро княжичей на одном году один за другим ко свет батюшке сватов засылали. Да четверо боярских сынков сватались. Только охотнее было с милым за море плыть, чем с немилым да постылым в тереме жить! Ну а ты-то, статен молодец, кто таков, чем живешь, давно ли железо куешь?
И глазки свои зеленые пытливые на кузнеца уставила, словно до сердца и ума доставала.
— Сызмала по кузницам, матушка. У самых смекалистых обучался, а свою кузню завести — судьба не потешила. Вышло так, что землица у боярина, баба у басурмана, а я гол сокол. Один живу, хозяевам кузнецам служу. А о деле не сомневайтесь: устроим все по-божески да как хозяйкой будет указано!
И тут же, при глазах игуменьи, из мешка ручные мехи достал, наковаленку, молотки, зубильца да бродочки разные. В горушке-холмике горнецо из дюжины кирпичей сложил и за работу принялся. Первым делом указала Агапеюшка на оконце одной кельи решетку заново укрепить. Кует кузнец, молотком стучит, железо калит, зубилом рубит, стальным бродком дырки пробивает, горячими заклепками скрепляет. И непонятные мудреные штуковины подгоняет. А игуменья около сучится, не отходит, на окно кельи искоса поглядывает, как псина сторожевая. Вот приставил кузнец к окну келейному лесенку и начал новую решетку к дубовым косякам прилаживать. Прилаживает, молоточком реденько постукивает и странную песенку поет:
Левый — влево, правый — вправо, И злодейка вниз пойдет! А закрыть наоборот: Левый — вправо, правый — влево, Вверх злодейку потянуть И под песенку замкнуть!Слушает Олена, как кузнец у окна ее кельи стучит и песенку себе под нос гнусит. Слушает, а к окну подойти не смеет, гнева злыдни игуменьи опасается. Черный кузнец, прокопченный, и одежонка прожженная, стучит и песенку петь не перестает.
— Божье-то дело с молитвой вершат! — поучает игуменья.
— Да ведь и песенка-то моя на божий лад! Так, для души, чтобы грешные мысли в голову не шли! И снова молотком стучит и ту же песню поет. Потом неистово молотком по дубовым косякам стучал, кованые гвозди заколачивая, будто бы намертво решетку закрепляя. Вот, мол, гляди и слушай, карга, как стараемся живую душу в келье захоронить! После полуденной трапезы Агапеюшка указала кузнецу дубовую дверь на погребице железом крест-накрест оковать. А сама от кузнеца ни на шаг. Вот глядит послушница Олена в келейное оконце, пальчиками за решетку ухватившись, глядит, как насупротив чумазый кузнец дверь в погребицу железом околачивает и мудреный запор прилаживает. А песенка из ее головы никак не уходит:
Левый — влево, правый — вправо… А закрыть — наоборот…Странная, мудреная песенка. Что влево, что вправо? Кто злодейка? И не замечает пока, что пальчиками за неприметные железные головки-болтики держится. Ну, не беда, Олена, послушница подневольная, скоро догадаешься. Ох и слюбятся тебе эти холодные железинки! Вот слышится ей говор кузнеца с Агапеюшкой.
— Открывай погребицу, игуменья, надо с обеих сторон дверь оковать.
Нехотя достает мать Агапея из-под одеяния иноческого отмычку и вкладывает в скважину и с большой натугой поворачивает. Но не поддается запор рукам игуменьи. Под рукой кузнеца послушалась отмычка, щеколда глухо стукнула, и нехотя дверь отошла. Жалеет кузнец-молодец мать игуменью:
— С таким-то ключом-отмычкой да дурным запором не то что пальчики, ручки выломаешь, матушка! Позволь-ка мне над запором малость поколдовать — как святым духом будешь дверь открывать! Этой же отмычкой, но без натуги, легонечко!
Сладко было старой чернице, что такой статный молодец, хоть и чумазый, как последний цыган или кержак-углежог, ее пальчики и ручки жалеет. И позволила ему над запором поворожить, лишь бы от лихих людей да отбойных озорных келейниц надежно было.
Вот трудится кузнец, с обеих сторон двери железом обивает, запор подгоняет. И чует, как ему спину сквозняком из погреба прохватывает. Догадывается: «Сквозь дверь, в щели, этот ветерок не зря мне слышался. В погребах завсегда сыро да холодно, а сквознякам откуда тут быть?»
Спуститься бы в эту дыру-погребицу, узнать, откуда ветром дует, да игуменья около крутится. На помогу к ней еще две карги из трапезной выползли, глядят на молодца из-под клобуков, как змеи шипучие. И на келейное окно поглядывают. Это там молодая послушница, душой добрая, сердцем смелая, ликом и станом красивая и потому им ненавистная. Допоздна старался кузнец над дверью в погребицу и позвал игуменью попытать, как дверь открывается да закрывается. Ключ-отмычку подал в руки Агапеюшке:
— Ну-ка, матушка, попробуй, узнай, каково теперь открывается-закрывается.
Раз да другой замкнула да открыла игуменья погребную дверь дубовую и диву далась:
— Ох, господи, да как легко-то да просто стало супротив прежнего. И щеколды мягко, без стука падают!
— Вот и ладно, мать игуменья, теперь и ручки не натрудишь и пальчикам не больно. Ручки-то у тебя белые да мягкие, бывало, чай, и князья и бояре на них заглядывались, как медовухой гостей обносила. Такие ручки жалеть да беречь!
Ох и любо же, радостно от слов кузнеца Агапеюшке. И рукой, пропахшей ладаном, по щеке добренько его потрепала и за работу похвалила. Не догадывалась только ханжа старая, что дверь в погребицу теперь изнутри без отмычки запросто открывалась… Наложили на Олену епитимью-наказание строгое, монастырское за жизнь вольную, и сидеть ей в келье под замком затворницей, глядеть на мир сквозь окно зарешеченное. Во дворе сумерки, ушел за ворота чумазый кузнец, только песенка его диковинная не хочет из головы уходить, в ушах поет, выговаривает:
Левый — влево, правый — вправо, И злодейка вниз пойдет! А закрыть — наоборот…Уж не об этих ли двух неприметных железных головках, что торчат из углов решетки, напевал этот кузнец, что словно отроду свою рожу не мыл? Левую головку влево повела. И правая вправо послушно отошла. На решетку чуть-чуть понажала и еле в руках ее удержала. Открылось окно келейное, хоть сейчас из кельи беги, хоть погоди. Вот и река родная видна, тускло блестит в сумерках, а в ней и месяц, и первые звезды дрожат-отражаются. Текла бы Волга-матушка под самой стеной, нырнула бы она, Олена, из окна келейного да в самую глубину реки, до камней осетриных, до стерляжьего игрища!
Притаив дыхание, послушница злодейку-решетку на место подтянула, неприметные головки в свои гнезда подвинула. И никаких примет: как тут была решетка железная! А послушница Олена на тяжелый стул опустилась в смятении:
— Господи, сыну божий, добрый, праведный! Не ты ли сокола моего послал мне во спасение? Радостно думать Олене, что в любую ночь может покинуть эту душную келью, только бы знать, куда бежать, где найти своего сокола. Али ждать, когда сам придет, позовет? И снова к окну подошла, сквозь решетку в сумерки глядеть туда, где Волга струится, а в ней месяц и звезды дрожа отражаются.
Не скоро разыскал атаман Позолота потайную щель подземного лаза под частокол монастырской стены. Ощупью до погребицы добрался, наружную дверь отомкнул, что недавно железом околачивал, к Олениной келье прокрался и тихо-тихо в решетку постучал. А перед рассветом тем же путем назад, к Волге, выбрался. И отрадно было думать атаману, что оставил свою Олену с надежей великой на жизнь радостную и тревожную. Да оставил ей отмычку железную, точно такую, что игуменья на пояске под черной одежкой носит. Темны ночи бабьего лета, сентября — месяца осеннего. Но светлы и радостны думы Олены, подруги надежной Сарынь Позолоты… Долго пропадал на стороне побратим инока Макария. Загрустили шестеро молодцов да и монашья братия: «Не попался ли атаман в руки злого ворога?» И вот нежданно-негаданно появился он в новой келье инока с тяжелой сумой на плече. Из сумы ковчежец-ларец достал, дорогой цены, красы несказанной, работы мастера византийского, и на пол к ногам побратима поставил:
— Вот получай, брат, на новоселье дарю. Достраивай гнездо свое, не скупись, стеной обноси, укрепляй. Только ордынца не задабривай. От ханов не откупаться, а отбиваться надо. И мечом, и копьем, и людом простым, православным!
Склонился инок Макарий над серебряной посудиной, приоткрыл, качнул. И зазвенел ковчежец звоном золотым да серебряным. И дивится монах богатству подаренному. И дивится, и страшится:
— Кого, какую обитель ограбили?
— О том побратима не спрашивают. Принимай, не выпытывай. Рук не прожжет, грехов не прибавит. Все по святому писанию: «Кесарево — кесарю, богово — богу!» А то, что на речке Керженке захоронено — до черных дней погодим!
Падение Желтоводской обители
1
Над Волгой весенний ветер гулял, бурую волну навстречу реке гнал, последние застрявшие льдины истончал, кусты пушистой вербы на песках низко пригибал. Старался ветер, весне помогал. Сквозь редкий дубняк новая обитель инока Макария смолистыми бревнами желтела, а вокруг нее монахи как муравьи трудились, ограду-частокол укрепляя, во дворе порядок наводили. Позолотины ватажники нехотя им во всем помогали и часто по-сторонам и в небо глядели.
Ох, немила им стала жизнь спокойная, монастырская, дохнуть бы вольной волюшки, взмахнуть веслами и уплыть по Волге до самого моря Хвалынского, либо вверх по реке до ярославской земли, до вольного Новгорода!
А высоко в поднебесье сокол высоту набирал, чтобы сверху выбрать добычу из всего стада гусиного, что собралось в полет к морю холодному. Выбрать, от стаи отбить и на лету заклевать, забить, на землю посадить и позавтракать, зоб набить мясом горячим, живым. В тот час атаман Позолота на крутояре сидел, на волжскую даль-волну глядел, думу думал и невеселую тихую песню пел:
Сизый сокол, ты Птица вольная, Сердце смелое, Жизнь раздольная! Научи, подскажи, Как мне жизнь дожить, Среди ворогов Головы не сложить, Да и честь свою В чистоте сдюжить! Чтоб от ворога Никогда не бежать, Храбрым воином Под крестом лежать!Шестерым его воинам-ватажникам монастырская жизнь до некуда приелась, наскучила. И сыты, и в тепле, а не по душе им это житье спокойное. Давно построены кельи монастырские, приземистые и крепкие, из леса строевого, отборного. И все кругом обнесено частоколом-загородью. Покряхтели, поработали ватажники, помогая монахам инока Макария. И смердам окрестным покоя не дали, всем дело нашли, кому вольное, другим подневольное. По стороне ватагой ходили, смердов-умельцев искали по делу избяному и кузнечному и к Желтоводской обители зазывали.
Трудились, не жалея себя, как свой дом строили.
Со смердами-умельцами по рудным ручьям и болотам ходили, рудную землю добывали, на себе выносили и конем вывозили, из той руды железо выжигали для железных укреп на стены монастырские. И попутно окрестный народ, крещеный и некрещеный, тормошили и подгоняли, чтобы везли и несли к божьему дому на желтые воды всякую железину. А бабам и старухам наказывали холста для монастыря не жалеть, потому как ходить по земле нагишом чернецам сам бог заказал. И керженским бортникам, нелюдимам лесным, двуногим медведям, заботы прибавили, чтобы медом обитель не обходили, не забывали и до морозов на своих долбленках приплывали. А в лодочках-долбленках дуплянки липовые — кадочки их румяные — медом свежим полнехоньки. Как было не порадеть божьей обители, что стала поперек дороги лихоимцу татарину, баскаку ханскому!
По всем сторонам ходили молодцы Сарынь Позолоты, пока Желтоводский монастырь на ноги поднимался, и повсюду славили инока Макария. Молву разносили, что над Желтоводской обителью стоит монах жизни самой праведной, не распутник али скопидом какой, а инок Макарий из Печерской обители, и служит он только богу да князю московскому и крепче дуба стоит супротив басурман и ханских угодников.
Досталось ватаге Сарынь Позолоты, было поработано, погнули спинушки, досыта наломались под дубинушку, хватили и голода и холода, помогая побратиму своего атамана. Без мала два лета прожито, к вольным делам не прикасаясь, а на божьем деле так бывает невесело, что тоска наваливается смертная. Вот и начали задумываться ватажники и думой с атаманом делиться. Не пора ли вверх по Волге всей ватагой сплавать, когда здесь все трудные дела справили? В низовский Новгород заглянуть, по богатым лабазам да кладовым пройтись, на богатеев и бояр страху нагнать, пока Сарынь Позолоту там насовсем не забыли.
Целый год пробежал с той поры, как атаман со своей Оленой последний раз повидался. Это было прошлой весной, когда понадобилось сманить из Новгорода низовского мастеров по постройке частокольной стены. Всего-то три дня пробыл Позолота в родном городе, но после того присмирели игуменья Агапея и ее злые Зачатьевские подручницы. Присмирели и перестали казнить свою непокорную послушницу. Только звание, что в монастыре жила, а добилась-таки Олена жизни не в заточении. А все он, ее грозный Сарынь Позолота, монастырю карой нещадной пригрозил. Рыкнул зверем смелым на всех ее гонителей, и присмирели души подлые.
Вот при последнем-то повидании и скажи Олена своему соколу, что горька неволя монастырская, а неволя ордынская в десять крат горчей. И что пора бы ему родную жену Оганьку из неволи вызволить, а она, Олена, согласна помогать ему в том деле рисковом, сколь потребуется.
«Экая душа бескорыстная, экое сердце смелое!» — подумал тогда Сарынь Позолота про свою отважную помощницу. А себя молча корил за то, что не задумывался о том, как жену с сыном-отроком из ханской неволи выкрасть или выкупить. Чтобы выкрасть, надо трудную дорогу тайно осилить, над степной далью орлом пролететь, сквозь орду ужом проползти, и тенью в ханские палатки пройти неприметно. А на выкуп нужна деньга золотая и серебряная, рубль к рублю, золотой к золотому. Каждую денежку сам хан на зуб попробует, раскосым глазом на Позолоту поглядывая и прикидывая своим вероломным умом: «А не оставить ли у себя и этого молодца-дурачка, что столько серебра и золота за жену привез? Вот только рука у него плетью висит, а одной рукой немного наработает!»
И выкрасть, и выкупить — дело нелегкое. Ни на слово, ни на крест нельзя верить басурману. Выкуп возьмет, а бабу не вернет, да и самого не выпустит. Басурман — он басурманом и останется! Так раздумывал Семен Позолота. Но в тот же час накрепко решил свою Оганьку выкрасть либо выкупить. Деньгу на выкуп, утварь самую драгоценную, кубки золотые и серебряные одним днем не добыть, вокруг Новгорода низовского надо походить, из логова на Узоле все вызнать, выслушать, своих молодцов каждого к своему делу приставить, чтобы за сутки именитых да богатых потрясти и с добычей на низы уплыть. Для такого дела и ватагу надо бы посильней, молодцов до двенадцати и на двух челнах.
И другая забота у Сарынь Позолоты была: как побратима своего надолго оставить одного с монахами перед страшной рожей басурмана. А она, эта рожа, из-за Волги выглядывает, из-за Оленьей да Лысой горы, что при устье Сундовика. Нет-нет да и покажется эта скуластая раскосая образина, а как узнает ордынец, что ватага Позолоты в верховья уплыла, через Волгу к монастырю шагнет. Не по нутру ему гнездо православное во главе с монахом Макарием. Это он, монах Макарий, русский народ супротив басурман настораживает, мордву и черемис в свою веру переманивает и всем такой наказ дает: «Не верить обманному и льстивому слову басурманскому, не переметываться в брани на ханскую сторону. Не давать баскакам ханским ни зерна, ни меду, ни мехов дорогих, все прятать от глаз завистливых, землей закидывать, ногами притаптывать, золой от костров присыпать. Готовить к нашествию ордынскому пустыню голую вокруг поселения, ни хлеба, ни конины не видать бы злому ворогу!»
Такая слава шла про монаха Макария по всему Заволжью нагорному, по всей низовской земле от Унжи до Суры-реки, и дальше до самой орды. И стал Макарий Желтоводский у хана бельмом на глазу, супостатом и ненавистником.
2
— Почто затуманился, мой побратим? По матушке-Волге? Так вот она, плыви, погуляй! К зиме буду ждать тебя, — сказал инок Макарий побратиму своему атаману Сарынь Позолоте. — Прихвостней ханских — бояр да баскаков не жалей, а церкви да монастыри православные не обижай. Что там есть — от народа все одно не убежит. А добро боярское и басурманское у народа отнято, потому не жалей ни боярина, ни баскака-ордынца. И сам бог тебя да простит!
И дал настоятель Желтоводской обители разбойнику Позолоте трех самых молодых и смелых чернецов, да два новых челна просмоленных. И стало в ватаге Сарынь Позолоты девять молодцов, сам десятый. Собрались ватажники, попрощались с монахами. Наказали не трусить, не бояться ворога. А ближнюю инородь не обижать, в христову веру силой не загонять, для инородцев — мордвы и черемис — доброго слова не жалеть, в рыболовстве и бортничестве не притеснять. На добро они памятливы, и когда придет лихой день, все встанут за обитель Желтоводскую! И в час предрассветный от стен монастыря молодцы отчалили. От зари до зари на веслах сидели, до полудня в прибрежные тальники заплывали и там дневное многолюдье пережидали. Волгарям, кто поутру навстречу попадался, рыбарями от нового монастыря Макария сказывались. И так, издали волжскую даль оглядывая, за две зори мимо Новгорода низовского проплыли, в устье Узолы заплыли, вверх поднялись и в закутке Аксеновой ухоронились.
Как воскресенью своему, порадовался старец Аксен возвращению ватажников. Две долгих зимы один прозябал, с черствой корки на сухарь перебивался, водой из ключика запивал. И были у него праздники не по святым дням, а когда до его зимницы из ближайших поселений какая девчоночка тропинками доберется и в окно-подзоринку постучит:
— Дедка Аксен, жив ли? Вот тятенька с матушкой тебе хлебца да киселька прислали!
И выкладывала на оконце, кроме хлеба да деревянной чашки с киселем, кусок пирога с грибами, да ватрушку творожную. Скажет так, оглядит убожество Аксенова житья-бытья и убежит в свое селение, будто ее тут и не было!
Он вышел навстречу такой, каким его оставили, только бледности в лице прибыло да глаза больше потускнели и слеза неустанно по щеке бежала. Каждого обнял, как христосовался, и, оглядывая молодцов, молвил, сколь старость позволяла, бодро и весело:
— Дождался-таки Аксен своих верных дружков! Вот они, прилетели соколы, не забыли Аксенову закутку. Дай-то бог вам удачи во всяких делах. Эх, кабы не старость, поплавал бы с вами разбойник Аксен!
Рассказал старик, что теперь в Новгороде низовском про Сарынь Позолоту позабыли, подумывают, что сложил он свою голову на радость всем, у кого мошна-кубышка с серебром да золотом под гузном спрятана. И теперь коли молодцы за свое ремесло возьмутся, то бояре с воеводой не вдруг поймут, откуда на них лихие беды налетели.
Боярская дочь Олена в келье у Зачатия жила в послушницах, без пострига во иночество. Мать ее на это и не неволила и уже не казнила постами и стояниями перед иконами. Узнала карга старая, что за Оленой рука смелая, сильная. И в мир Олену охотно отпускала за дарами от богатых жен новгородских. Верила игуменья в бескорыстие послушницы, знала, что из даров на обитель не присвоит ни колечка золотого, ни сережек с камнями алмазными. А послушница Олена за эти два года много в миру вызнала — все ходы и выходы тайные и явные в теремах боярских и купеческих, потайные укромницы торговых людей. Все, что на бабий монастырь подавалось, в его сокровищницу отдавала, а приметы и лазы потайные в богатых подворьях в памяти оставляла.
В первые же дни, как в Узолу заплыли, Семен Позолота свою Олену в келье навестил. Поведал ей атаман о задумке своей в конце лета далеко вниз по Волге сплавать, до стана ханского, свою жену Оганьку из неволи выкрасть, либо на худой конец выкупить. И было бы ладно, коли Олена ему в том деле помогла. Призадумалась Олена и молвила:
— Ладно, послужу тебе чем могу, сокол мой! Рассказала Олена, по чьим дворам Позолоте походить надобно, по каким подворьям своих надежных людей в сторожа поставить. Потрепала потом белой рученькой атамана по жесткой русой бороде и закончила:
— Сам походи, погляди, послушай. Твой глаз вернее, голова смекалистей. Не полагайся на все, что баба тебе припасла! А на выкуп страдалицы Огани отдам ларец дорогой, завещанный мне матушкой. Полон доверху он колец, серег да запястий золотых, серебряных, самоцветов ярких.
И рассвело у Семена Позолоты на сердце, и верой исполнился он в задумку свою.
Пока Сарынь Позолота у Олены пропадал, его молодцы в Аксеновой зимнице жили, неводом рыбу ловили, уху варили и старика россказнями занимали о новом монастыре у Желтой воды. Бывал там Аксен и в молодости и в зрелых летах, и разбойником и праведником. Знал он и Оленью гору и Лысую, и речки Керженец да Сундовик. И молвил, молодцов наслушавшись:
— Хорошо и привольно. И рыбные тони, и звериные гоны, и мед и воск на каждой дуплистой сосне. Одно худо: не близко ли к хану? Иноку Макарию поблизости с басурманом не ужиться. Не по нутру им, когда супротив их гнета не хлеб-жито сеют, а «чеснок» перед стенами частокольными. С басурманами надо быть втрое хитрее басурмана. И хитрее, и злее, и обманчивее. А у инока Макария супротив только крест в руке да непокорность и неустрашимость. Устоять ли его обители на Желтой воде, на быстрой волжской дороге к богатству низовской земли? Может, и крепка его крепость, коль дубовая, одна беда — огнем горит! Ох, чует мое сердце старое: выкурят ордынцы нашего Макария из монастырских стен, не миновать ему с братией нашей Узолы-матушки с закуткой Аксеновой! Вот приплывут и кликнут с берега: «Принимай гостей, дедка Аксен!» Только откликнется ли он, доживет ли до той поры старик!
3
Появился вдруг в Новгороде низовском калика перехожий, слепец с поводырем. Сам чуть ноги волочит, глаза как оловянные пуговицы, только на говор да на песни бог дар не отнял. А в поводырях у него всем бы молодец — и не стар, и не вял, только одна рука плетью висит, видно, отсохла в молодости. А здоровой рукой слепца за посошок водит. На торжищах, на людных местах слепец песни поет, были из старины рассказывает певучим голосом, а песни не простые, все разбойничьи. С незапамятных времен любил народ слушать разбойничьи песни. Как запоет старик о разбойнике Кудеяре, прохожего остановит, тот другого к себе позовет. Разбойничью песню поют! А слепец, передохнувши, про атамана Аксена заведет, что за полсотни лет до того по Волге вольницу водил, богатых грабил, бедных кормил. Сойдутся люди и глядят на старца как на диво дивное, чудо чудное, и глядят, и слушают, а песня привораживала, заставляла о делах забыть. И летели в шапку поводыря гроши-денежки, подаяние за песню волшебную. А детина-поводырь низко кланялся и крестился здоровой рукой.
Ходит не торопясь по Новгороду низовскому слепец с поводырем, а за ним следом молва о том, что пришли они из самого вольного Новгорода, что орде не поддался и московскому князю не кланяется. И что слепой старик не только сказки сказывает да песни поет, но и знахарь, и ворожей, умелец зелье варить и приворотное и отворотное, кому какое надобно. Да как побормочет над тем зельем наговоры свои волшебные, сила в нем появляется страшенная. Приворотное зелье — это вдовицам да засидевшимся молодицам добрых молодцов присушивать, приваживать, а отворотное — богатым да боярам, чтобы лихого человека от своих ворот отворотить.
Молва — она молва и есть. Сорока — ворону, ворон — борову, а боров — всему городу. Дошло до того, что за слепцом нарочные боярские слуги прибегали, зазывали на боярский двор наговоренным отваром побрызгать, чтобы лихого человека отворотить. И побредет слепец на боярский двор, держась за посошок поводыря. Приплетется на то богатое подворье и самого хозяина спрашивает:
— От кого, от чего отворачивать? От беды, огня да хворобы — один корень да наговор, а от лихого разбойника другое надобно!
И по указке хозяйской двери, пороги и запоры кладовок наваром отворотного корня опрыскивал, бормоча наговоры непонятные и страшные:
Буйна трава, Буен корень! Засучай рукава, Задвигай запоры! Чтобы злого да лихого От порога воротило, Как коня медвежьим духом, Чтобы в голову стучало И по темени обухом! Буйна трава, Силен корень, Дурна голова, Дурен парень! Присохни нога, Отсохни рука! Залей глаза, Темна вода!От такого колдовства у богатея боярина мурашки по спине, по коже мороз. А поводырь ему, как брату родному, на ухо добрый совет: «Слышно, Сарынь Позолота под городом появился. Наговор наговором, да не худо бы у кладовухи на ночь сторожа ставить. Смерды изголодались, за кусок хлеба вернее цепного пса служить будут! Только надо из дальних выбирать, кто не знает достатка хозяйского и не ведает, что и от кого стережет!»
И вот на третий вечер на то же подворье парень приходил, лицом светел, разговором прост. Сразу видно, что у такого и разум и душа нараспашку. Такого-то хозяину и надобно! И порядил он парня стоять ночами у кладовухи, где самое дорогое ухоронено, чтобы задобрить хана.
Напоследок слепец с поводырем во двор богатея Федула Носатого заглянули. Песенку спели, сказку рассказали, челядь и хозяек позабавили. А мужиков Носатых, отца и сына, в ту пору дома не было. Их со дня на день с торжища поджидали. От челяди поводырь узнал, в каком урочище ждут хозяина с баржой. После того слепой со товарищем ушли и насовсем пропали из Новгорода низовского.
Отошла тихая житуха молодцам в заимке на Узоле. Приказал им Сарынь Позолота поодиночке в Новгород пробраться, по указанным подворьям разойтись и в ночные сторожа там наниматься. И не отпугивать хозяина ни ценой, ни словом, ни видом своим. А трем ватажникам из послушников Макария указал подворья самые богатые, где они с Аксеном сказки сказывали, песни пели и на ворота да запоры наговаривали. И жить там, и сторожить добро хозяйское надежнее цепного пса до той поры ночной, когда к ним на смену Сарынь Позолота придет!
Тут старец Аксен от себя словцо прибавил:
— Жить и сторожить и песенку не забывать:
Ты, Ивоха, Ивоха-мужик, Примечай, где что плохо лежит, Где хозяин на кубышке сидит, Золотишко под гузном хранит!..Песенку эту разбойничью не забывайте, а вслух не запевайте! Дело с божьим словом, с молитвой надо вести!
И вот с божьим словом да с молитвами подосланных молодцов-сторожей очистил атаман Позолота все кладовухи, укладки тайные богатейших нижегородцев за одну ночь. Завопили ограбленные бояре и торговые люди:
— За одну ночь, самую короткую и светлую! Кто бы подумал в такую ночь править дела разбойные? Не бывало такого с той поры, как пропал незнамо куда злодей Сарынь Позолота! За одну короткую ночь и светлую как день!
На торжищах и перекрестках досужие люди днем подсчет вели, кто из богачей своим добром поплатился:
— У боярина Толстогуба ларец с серебром да золотом почитай из-под гузна выдернули!
— Федула Носатого у причального столба встретили, с баржи как отца родного под руки свели, суму с барышами подхватили и — прости Христа ради!
— Рысья шапка мурзы Хусаина по Волге уплыла, а добро из посудины пропало. Да, видно, и сынок вслед за отцом на дно пошел!
Теперь Сарынь Позолоте оставалось со всей добычей вниз по Волге до побратима Макария прорваться. Но на такое дело надо было ждать ночей потемнее и подлиннее. А пока скрылся он с ватажниками в Аксеновом гнезде на Узоле. Как тигр сибирский, вышел из логова, потянулся, схватил добычу и снова в логове залег. Ватажники тут отсыпались, после бессонных дней и ночей силы набирались, рыбу ловили, уху варили. И слушали бывальщины старого Аксена. А сам он спал плохо. Все вокруг своей закутки с посошком ходил, на берег Узолы выходил и глядел, и слушал ухом привычным разбойничьим, не донесется ли с низовой стороны говор какой, али тихий плеск весла, али стук в днище челна боярского. И радовался старик тому, что поплатились-таки нижегородские богатеи, прихвостни басурманские, данью дорогой, только не хану-басурману, а Сарынь Позолоте, атаману волжской вольницы!
Вот дождутся ватажники ночей потемнее, в челны пожитки снесут и Аксена за собой позовут:
— Давай с нами, дедка Аксен! В челне места хватит!
И скажет в ответ старый разбойник, вожак волжской вольницы, о коем песни сложены:
— Куда мне старому до Макария! Налетят из-за Волги вороги, а обороняться силы нету. Пусть уж я здесь, на Узоле, помру, не от басурмана, а от своей православной смертушки!
Последние короткие и светлые ночи стоят. Пробегут еще две-три недели, и день быстрее на убыль пойдет, а ночи с каждым заходом солнышка темнее и длиннее станут. Но невесело Сарынь Позолоте у моря погоды ждать. А молодцы-ватажники день и ночь лежали да раны свои потуже перевязывали. И все были за то, чтобы до темных ночей подождать. Эх, атаман Сарынь Позолота! Знал бы да ведал ты, что вот в эту теплую ночь догорают последние головни от келий инока Макария, твоего побратима! Половина монахов порублена, другие с игуменом в полон захвачены и за Волгу переправлены до татарской орды. Не ждал бы ты, атаман, темных ночей!
4
Всего-то три дня и три ночи довелось отдохнуть молодцам атамана Позолоты, как вместе с передовыми басурманами прилетела к Новгороду низовскому недобрая весть о разгроме монастыря на Желтой воде. В ночь тронулся в путь Сарынь Позолота. Молча глядел старец Аксен вслед уходящим челнам. Нет, не согласился он поехать ко Макарию. Ждал он этой беды, чудилось ему, что так будет.
Быстро неслись челны вниз по воде. К полуночи под Дятловы горы приплыли и, крадучись, зашли в тень от берега. Пусто и тихо было в ту ночь на нижегородском берегу. Только псы завывали на верхних посадах, чуя дикий басурманский дух. У Зачатьевской обители придержали разбег челнов. Сарынь Позолота на берег вышел и обухом бердыша постучал по днищу монастырского челна. Гулко, как исполинский барабан, загрохотало дно перевернутого челнока. И так три раза пробарабанил атаман по днищу челна. И стоял, прислушиваясь. Вот в сумраке чуть слышно стукнула щеколда, скрипнули ворота. Вся в черном, под черным платком-шалью быстро спустилась тропинкой к берегу женщина. Подошла к атаману: «Вот это на выкуп страдалицы Оганьки. Не пристало русской жене у татарина ноги мыть! — сказала и совсем тихо, на самое ухо: — Ниже по берегу баржа баскака ханского. Заглянул бы».
Устремились челны вниз по течению. Вот и баржа чернеет, прижавшись к берегу. Позолота с пятерыми молодцами прямо с челнов поднялись на нее. Но чуткий баскак с двумя воинами были уже на ногах. В схватке скоро упали два воина, но храбро отбивался баскак Хайрулла. А как понял, что его живым взять хотят, в слепой ярости махнул за борт посудины. Однако достал его на лету бердыш ватажника. Скоро шапка рысья выплыла, но сам баскак так и не показался. Соскочили тогда ватажники в челны и поплыли вниз, вглядываясь в ночь. А как от зари чуть посветлело, увидели все, что на песке у самой воды человек лежит. Выскочили тут трое, подбежали к нему, повернули вверх лицом, оглядели.
— Это он, наш татарин. Живой, тащи его, молодцы!
В нос челна бросили кошму, уложили вражину, своей одежкой прикрыли и снова за весла взялись, понукая челны вниз по реке. Уже пропали позади и Дятловы и Беломошные горы, когда совсем рассвело. А два челна все стремились вниз. И только когда на Волге вдали показались первые рыбари, челны свернули в старицу и затаились в кустах. Тут им пережидать надобно было весь долгий день.
В полдень атаман Позолота хмуро взглянул на басурмана, вспомнил свою последнюю схватку на барже баскака Хайруллы, родного сына его старого врага Хабибулы, и приказал ватажникам:
— Обрядите рану, перевяжите. Смените подстилку да укройте. Берегите его пуще глаза, он нам пригодится!
И другую ночь плыли, подгоняя челны. И только успели с Волги в Желтоводье заплыть, как совсем обвиднелось. Причалили, вышли из челнов, огляделись кругом. Ничего не уцелело от гнезда инока Макария. Ни стены частокольной, ни церковушки, ни келий, ни меленки. Остался только закут земляной у воды во черемуховых зарослях, где рыбарь Варнава с челноком приставал и ночевал, когда рыба в снасти дуром шла. Чуть-чуть видна она была сквозь кусты. Заглянули туда — и землянка пуста, только дымился остаток костра, да висела на шестах мокрая сеть. «Кто-то тут ночевал!» — поняли ватажники. И негромко так позвали они тогда:
— Эй, кто тут есть? Покажись!
Но никто не откликнулся. Только с пожарища вдруг ворон взлетел и на сосну уселся, встряхнув перьями. За Волгой конь заржал, визгливо, со злом. «Басурманский конь, — подумали ватажники, — наши кони ржут радостно!» И всем на сердце печаль легла. Там, на Оленьей и Лысой горе, тоже чернели головки. И безлюдно было, словно все вымерло. Встревоженный ворон снялся с сосны, стороной людей облетел и за Волгу направил полет, скликая товарищей. А позади, из кустов черемуховых, вдруг послышалось:
— Подумалось, опять басурмане, ан наши пришли!
Хорошее место выбрал рыжий Варнава для своей закутки. Закопался в землю на крутом берегу, за черемухой, как за темным пологом. По Волге близко проплывут, а ее не увидят. И с речки Керженки не разглядеть. А ему с крыши своей земляночки далеко видать. А внутри ее и пол, и потолок, и стены сосновые тесаные, как в хорошей мордовской избе. И нары широкие вдоль стен — и себе, и помощникам из послушников. Вовремя он увидал и эти два челна, когда они по Волге подплывали и в устье Керженки заворачивали. Да не поверил глазам своим, что это челны Сарынь Позолоты, побратима Макария. Вышел он к ватажникам таким же могучим и рыжим рыбарем Варнавой, каким был в Печерской обители, только обветренным и усталым.
— Все пожгли, все порушили. Наших кого побили, кого за собой увели. А я на ту пору в Керженку далеко заплывал, там ночевал. С большим уловом домой плыл, думал своих порадовать. И приплыл к головням. Одни следы к Волге остались. Троих наших побитых захоронил. Да кого-то, видно, в огне сожгли. Плыла тут по Волге наша мордва, сказывали, что игумена Макария басурманы за собой повели. Живой, только изранен весь. На Сундовике видели. Обошел пожарище атаман Позолота, оглядел Варнавину закутку. И приказал перенести в нее баскака.
Хайрулла к тому времени был уж в памяти, но к еде не прикасался, только пить просил часто. И сказал атаман рыбарю, указав на увечного:
— Береги его, выхаживай, как ходил бы за самим Макарием. Да и тебе с ним будет охотнее, когда нас тут не будет.
Потом ватажники челны вытащили и упрятали, в берегу еще землянку выкопали и перенесли в нее свои пожитки. И свое, и то, что атаману на выкуп Оганьки раздобыли. Немалая была добыча, а убиралась всего-то в двух махоньких сундучках. Здесь и жили дружки до той поры, как видно стало, что баскак выживет. Рана его затянулась, поджила, но нога оставалась недвижной. На это Варнава сказал:
— Сам выживет, а нога высохнет. В такое уж место ему бердышом угодили.
И сделал Хайрулле костыль, чтобы он мог по землянке пройти и, когда надо, за нее сходить, на солнышке посидеть. И кормил его как сына родного и хлебушком, и ухой, и медом сотовым, приговаривая:
— Ты, может, и басурман, но душа в тебе православная. Потому как родился ты на нашей русской земле, с малых лет ешь русский хлеб, пьешь воду из русских родников и рек.
Хайрулла потому и баскаком был, что по-русски знал, но в ответ на слова Варнавы молчал. А Варнава не отставал:
— Правда, крестили тебя не по православному обычаю, а по басурманскому. Вырастили по-басурмански и к делу басурманскому приставили — у наших людей последнее отнимать, дань собирать и хану отправлять. А наш бог православный взял да тебя и наказал. И в Волге тебя искупал и ногу отнял. А не бог так судьба, едина суть. Только ты на нее, на судьбу, не серчай. Она наказала, она и помилует.
5
Пока рыбарь Варнава ордынца утешал да на православие наставлял, Сарынь Позолота с ватажниками на перевернутых челнах сидели и о том судили, как ловчее басурман обойти, инока Макария из неволи вызволить да заодно и Оганьку, что давным-давно боярином в неволю запродана. Тут и сказал Позолота своим товарищам, что на выкуп Оганьки из их общей копилки казны не потребуется. На это Олена свой ларец отдала и настрого наказала несчастную у басурман отнять. А вот где она, в каком улусе, у кого в невольницах, о том не слыхано. Инока Макария разыскать нетрудно по свежим следам ордынцев, не по тем, что пошли на Новгород низовский, а по следам за Волгу, что с добычей домой поскакали. Но в погоню за ними плыть и бежать — все одно, что в петлю голову совать. Вместо того чтобы Макария за дорогой выкуп отдать, окружат вражины ватажников, кого порубят, кого повяжут и все их добро, припасенное для выкупа, силой отберут.
И порешили ватажники не ходить далеко за Волгу, а плавать по ней в низовской земле, в реку Суру заплывать, прислушиваться к молве людской и славу распускать, что у них в руках баскак Хайрулла, племянник самого хана ордынского. И что они, ватажники, готовы отдать его в обмен на инока Макария без выкупа. А коли ко Макарию да прибавят Оганьку, жену русскую, что продана в полон лет за семь до того, то отсыплют за обоих столько выкупа, что довольны будут и сам хан, и все, кто с ним рядом сидит!
Добрая ватага была у Сарынь Позолоты и с атаманом во всем согласная. Шестеро их было, все люди разные, а как одна голова. Тут два брата родных Швыряй да Сокол, с малых лет в сиротах. Батьку с маткой у них ордынец увел, а малышей на произвол судьбы оставил. Куда дети басурману, когда своих кибитка полная! Вот выросли парнишки, возмужали да и подались на Волгу в вольницу.
Косой да Никитка тоже побрательники. Когда матку с отцом в полон погнали, они подростками были. Басурмане и их прихватили. Но бежали пареньки с речной переправы, когда ордынцы от них глаза отвернули. Побродили они вокруг разоренных сел и тоже на Волгу. Прямо в стан к Сарынь Позолоте. Последние два не братья, не побратимы, но дружба их железная. Один мордвин, другой чувашин, оба осиротели после набега вражьего. Все было так. В те страшные годы не зря в песне пелось про лихоимца-басурмана:
У кого денег нет, У того жену возьмет; У кого жены нет, Того самого головой В полон заберет!Отца и мать заберут, а деток на холод и голод оставят. Подрастали и шли такие сироты под крыла атаманов волжской вольницы. Все шестеро были молодцами удалыми и смелыми, но соглашались со своим атаманом не лезть на рожон, а выманивать у басурман инока Макария дорогими посулами. Какой же ордынский хан устоит перед ларцом серебра и золота?
Трех послушников, что с атаманом в поход до Узолы ходили, решено было с Варнавой оставить, чтобы и здесь дело складнее шло. Трое в отлучке, четвертый у землянки. Недужного татарина одного не бросишь. «Вот как ладно, — вздохнул с облегчением Позолота, — был десятым, стал опять сам седьмой. Не счастливые ли дни навстречу бегут?» А плыть было надумано на одном челне: нападать и убегать ловчее.
Рыбаря с Хайруллой переправили подальше от Волги, вверх по речке Керженке, поселили их в землянке, что монахами для Варнавы построена была до того, как басурманы монастырь сожгли. Верст за семь от устья вверх по Керженке бежит в нее с правой стороны ручей Быстрячок, холодный и бойкий, а впадает в Керженку тихо, без шума. Река здесь издавна в крепких крутых берегах, без обвалов и осыпей, бежит не торопясь плесом прямым, а крутом ни жилья не встретишь, ни голоса человечьего не услышишь до самой черемисской земли. Здесь, в крутояре скрытой старицы, землянка вырыта, с полом и с потолком, и стены тесаным деревом забраны. И тепло, и сырости нет.
Вдоль стен нары для спанья понаделаны, у выхода в стене очажок выкопан с дымоходом. Поблизости ручеек Быстрячок бежит, да так задумчиво журчит, что усталого спать поведет, а бодрому думки нашепчет тихие.
Вот сюда-то и переправил Сарынь Позолота рыбаря Варнаву с баскаком Хайруллой. Сам правил челном, Варнава на веслах сидел — часом доплыли. Помогли ордынцу из челна выбраться и до землянки подняться. Потом внесли туда же сундучок и Оленин ларец и закопали у землянки под самую крышу. Вернувшись на старое жилье, Позолота сказал троим ватажникам из послушников:
— А вы живите здесь до возвращения инока Макария. Да помните, что скоро вернется он! Ходите вокруг по знакомым селениям, где народ уцелел, собирайте на пропитание. Мимо ушей ничего не пропускайте и обо всем Варнаве сказывайте. Он будет вам и рыбку и дичину привозить, а вы с ним христарадным хлебом делитесь. А что этот Варнава с басурманом где-то на белом свете живут — о том для всех забудьте! Это я, Сарынь Позолота, вам наказываю! За Волгу плавайте, и там молву по ветру пускайте, что жив Макарий Желтоводский и не дальше как к покрову сюда, на Желтые воды, возвернется заново монастырь отстраивать и лихоимца басурмана гневным словом обличать. Чтобы не давали мужики ворогу ни коня, ни скотины, ни хлебушка. Пусть приваживаются сами для своего брюха еду припасать, кулиги расчищать, хлеб растить!
6
В тот вечер Сарынь Позолота на берегу Волги на холмике сидел, как ястреб нахохлившись, и в раздумье тихую песню пел. На том же месте, где ранней весной перед походом в верховья задумывался. Но теперь не было за его спиной в дубняках келий и стены Желтоводской обители, не маячила церковушка своим дубовым крестом. Одни головни да пепел по пескам остались, безмолвие и запустение. Все сожгла, спалила рука басурманская. Быстро, за два лета построился и ожил тут монастырь, чтобы часом сгореть, дымом, пеплом развеяться. А не оправдалась ли тут примета древняя народная: «Как в правую руку войдет, так и из левой уйдет»? Это о добре, о богатстве нажитом. Коли честно, кровью да потом нажито — прослужит веки вечные, а злом да хитростью — все как в трубу очага улетит.
Так думалось Сарынь Позолоте. Немало на монастырь из его добычи отсыпано, у бояр, у торговых людей, у баскаков-ордынцев силой да хитростью отнятой. Как нажито, так и прожито. Не впрок пошли Макарию Желтоводскому дары Сарынь Позолоты. А он как сокол, что не по себе добычу хватает. Уронит, забьет, сердце с печенью выклюет, остальное бросает. Теперь припас добычу дорогую на выкуп инока Макария. И, не жалея, отдаст все хану-татарину, все, что за короткую ночь у бояр нахватано. А за Оганьку — полный Оленин ларец. И впридачу за все Хайруллу, баскака ханского.
Ах инок Макарий, непокорный твой нрав, честь неистребимая! Живет на Желтоводье, под носом у басурман, на их главной дороге, и призывает простой народ именем бога к непокорности врагу. И доходит до хана молва без прикрас, что Макарий Желтоводский и русских, и мордву, и черемис к православию призывает и против орды наставляет, и призывы свои именем бога православного подкрепляет!
Разве хан такую обиду снесет? Как можно терпеть гнездо Желтоводское, где оттачиваются мечи на племя Чингисханово?
Направо, за волжским плесом, солнышко заходило, волну золотило и землю низовскую к ночному покою звало, когда за Волгой на Лысую гору конный ордынец вылетел и долго из-под руки вдаль глядел. И был он с конем неподвижен, как дикий камень. Одинокие челны к своему родному причалу поспешали. А Сарынь Позолота все на своем холме сидел и под раздумье свою тихую песню пел:
Сизый сокол, ты Птица вольная, Сердце смелое, Своевольное! Научи, скажи, Как мне жизнь дожить, Среди ворогов Головы не сложить! Чтоб от ворога Никуда не бежать, Храбрым воином Под крестом лежать!И перед тем как всем повалиться спать, атаман сказал своим ватажникам:
— Завтра с зарей на низы поплывем. До устья Суры. Там сходятся две главных басурманских дороги: вниз по Волге из низовской земли, и вниз по Суре из орды. Будем там глядеть, слушать и ждать. И нападать, коли нас к тому приневолят!
Поднялись затемно, челн на воду столкнули, на Волгу выплыли и пропали в тумане утреннем. Было самое начало жнитва. Из-за Волги доносился запах спелых хлебов и дымных овинов. И совсем далеко ржал одинокий басурманский конь. Ржал со злом, визгливо…
7
Тихо жили рыбарь Варнава да ордынец Хайрулла. И третий с ними сам Керженец. Над ними небо синее, какое только в конце лета бывает. И небо, и облачка, и прибрежный дубняк — все в плесо глядятся как в зеркало. И уже первые желтые листья по плесу под ветром бегут. Рыбарь Варнава только по утрам да вечерам из землянки пропадает, а день да ночь около бродит, снасти починяет. И Хайруллу на путь православный наставляет. Не скучно с ним баскаку, только вот больная нога совсем не слушается. Не стало тепла и жизни в ней.
Раз-другой в неделю Варнава на полдня отлучается. На Желтые воды послушникам рыбку везет, а от них хлеб да ржаные сухарики, что из подаяния насушены. Довольны послушники, но рассказать Варнаве пока нечего, нечем его порадовать. И, не задерживаясь, плывет рыбарь вверх по речке Керженке, до устья ручья быстрого. Любит Варнава с Хайруллой поговорить. Русское слово тот как свое понимает, не зря среди русских в баскаках ходил.
— Вот когда перестанешь ногу свою волочить, как ворон крыло перебитое, буду тебя за собой на рыбалку брать, чтобы тебе тут одному не тосковать. Ну потерпи! Вот, чай, скоро ваши из орды придут и заберут тебя, добра молодца, и за собой уведут. Дома-то, чай, жена, либо не одна, да сыновья, да дочки. По семье и затосковать не грешно. Семья — она у кого хошь семья, самим богом дана. И беречь ее, и растить по конец жизни.
Тут Хайрулла задумывался. Жена у него одна.
Лет семь назад попалась ему на глаза одна полонянка русская. Выкупил ее, к себе увел. Она ему сына родила, а других жен приводить не позволила. «Коли хочешь, чтобы с тобой жила и сына твоего пестовала, так с одной живи, как наши православные. А приведешь другую — меня не ищи!» Хайрулла о второй жене не шибко задумывался, а после такого разговора и совсем забыл. Был он смелым и не вороватым совсем, а роду именитого. И когда баскак низовской земли Хабибула воды из Волги хлебнул, на его место поставил хан Хайруллу, из того же рода Хабибулина. Немного было Хайрулле в том радости, но честно хану служил и год, и другой, и третий, вот до этой самой беды. Теперь остались у него из родни младший брат, да дядя роду ханского, да мулла-крикун. И жена с сынком-сорванцом.
— Напрасно ты на эту собачью службу пошел! — пожалел как-то Варнава Хайруллу. — Баскаком быть — все доброе забыть. Тебя хан с данью торопит, ты трясешь боярина и всех имущих людей, а они все смерда трясут дочиста, до последней крохи. Последний хлеб, последнюю клячу, последнюю овчину — все отдай хану-басурману. Ох, не по-божески и не по-человечески!
В первые дни бабьего лета надумал Варнава своего друга на рыбалку взять. Помог ему до берега спуститься и в челн усадил. И поплыл вверх по Керженке свои немудреные снасти оглядывать. Ранним утром и лес и река были как дождем умытые. Последние струйки тумана под солнышком на глазах пропадали, а по реке ни ряби от ветра, ни плеска рыбьего. Никогда еще Хайрулла не видал такой красоты! И сказал он по-русски:
— Ух, как баско! Ух, красна, хороша река! А какой стал листок на дубах! И на этой вот на осинке!
— А как дышится, чуешь? Словно мед ложкой хлебаешь! Вот погоди, поживешь да поплаваешь со мной, быстро выздоровеешь. Да и басурман своих насовсем забудешь.
Выздороветь насовсем Хайрулла был бы рад. А вот своих насовсем забыть — о том задумывался. И то правда: серебра в шапку они ему не насыплют, скакуна даром не дадут, да и шапки не сошьют. Все самому добыть надо. Но там, в орде, осталась его жена с сорванцом Хабибулой, сыном Хайруллиным. Только бы на ногу научиться чуть-чуть приступать, а там видно будет! Каждый раз, как он из низовской земли в свой улус возвращался, родные на него как голодные псы глядели, подачки ждали. Они так думали: он в русской земле свои сумы серебром набил, и не верили, что все отдано хану.
А рыбарь Варнава, как шмель, жужжал и жужжал рядом, жизнь свою с мала до велика вспоминая:
— А я вот мордвином родился, по-мордовски крещен. Не упомнил, как отца с маткой басурманы угнали. Сиротой к мордвину нанялся стадо пасти. Богатый был мордвин, сердитый, скупой. А дочка у него как цвет полевой. Я до парня вырос, тут же в работники нанялся. Вот показалось хозяину, что его дочка по-доброму на меня запоглядывала. Прогнал со двора, да не дочку, а меня. Побродил я по мордовскому краю лето, другое. Как-то ненароком на Волгу вышел и там к одной ватаге пристал. Смелые были ребята, а в атаманах у них сам Аксен. От этого Аксена страх по всей Волге бежал и до костей пронимал и боярина и лихого басурмана-татарина. Он в ту пору уже стариком был и все подумывал оставить нас, а самому в монастырь уйти. В монастырь не ударился, а зарылся в лесах заузольских, как барсук в муравьевище. После того порядка в ватаге не стало. На зиму пришел я к печерским монахам дрова колоть да печи топить. А по весне в рыбари меня поставили. И все лето в русскую веру заманивали. Ну это не хитро было, в ту пору не было во мне никакой веры, никакого бога. Осенью по льду окрестили меня по-православному. Бросили через полынью жердочку, за нее я ухватился и с головой окунулся. Только кулаки поверх воды оставались. Выходит, весь я крещеный, а кулаки не крещены. После того на меня крестик повесили и сразу в послушники. Из послушников в монахи постричь долго ли? Постригли и Варнавой нарекли. С той поры я в православных монахах и хожу. И ничего, не жалуюсь. Была бы рыба в реке — всех накормлю. С русскими жить можно, народ добрый. Только их не задевай, они первыми не заденут!
Неприметной протокой Варнава заплыл в старицу — старое русло Керженца. Здесь он струился когда-то, а теперь вот осталось на месте его только озеро, глубокое и темное, красы невиданной. Вековые деревья обступили его вплотную, нависли над ним, словно воды испить собираясь. Варнава высадил Хайруллу на пологий берег, на мягкую моховую кочку: — Посиди тут, погляди, а я снасти потрясу. Одному-то мне будет сподручнее!
И поплыл ко крутому берегу. Видел Хайрулла, как он достал из воды конец сети, как стал выбирать ее в челн. И с каждым перехватом руки в челн вместе с мокрой сетью падала рыба. Какой только тут не было! И лещ, и язь, и щука, и окунь. И ленивые озерные жильцы линь и карась. И все это трепыхалось, подскакивало в челне, сверкало под солнышком. Варнава доволен был.
— Рыбное озеро! Завтра под вечер опять в эту старицу брошу! — сказал он вернувшись. Выбрав рыбу, повесил сеть меж двух дубков для просушки, помог Хайрулле забраться в челн и поплыл протокой на Керженку. А Хайрулла долго еще оглядывался на старицу. Так приворожило его это красивое и сонное озеро. Вниз по реке плыть — играючи веслом махать. Теперь Хайрулла сидел лицом к рыбарю и глядел, как ловко он управляет челном. Огненная борода Варнавы уже серебрилась, да и лицом он поизнурился, но говорить не уставал. Бывало и на Волге так, когда от Печерской обители тони оберегал. Как пошлет судьба к его ночному костру путника какого, всю ночь проговорит, только слушай.
— Только бы отец наш Макарий из полону вырвался — опять по-православному заживем. Где-нигде, а кельи выстроим и церковушку поставим, и народ к себе приманим. Здесь, на Желтоводье, видно, место несчастливое, либо мы не ко двору пришлись. Этого с кем не бывает. Иной добрый конь, да не ко двору попадет — и сразу хиреть да худеть начнет, хвост и грива войлоком сваляются. Говорят, что в том дедушка-домовой виноват. Коли он коня полюбит, так по ночам его и моет, и чистит, и гривы косичками заплетает. А того, что невзлюбит, ночью по двору гоняет, хвост и гриву дерьмом посыпает. Ну и пропадает конь. А вот в мордве на зверушку ласку это валят, будто она у коней гривы путает, из шеи кровь сосет и коню покоя не дает. А по моему разумению, у доброго хозяина конь всегда и здоров, и в теле. Невзлюбили ваши Макария, как злой дед домовой доброго коня. А все за то, что умен да смел, перед ханом на колени не падает и своих тому поучает. Грешно, мол, православным перед басурманами раболепствовать! Не перенимайте у басурман дикие их ругательства, порядки и обычаи! Не отдавайте им ни скота, ни жита, ни пшена, ни гороха — пусть сами, отряхнувшись от лени, научатся выращивать хлеб! Как шмель жужжит и жужжит рыбарь Варнава, только слушай. По вечерам в своей землянке, до того как заснуть, Хайруллу на путь праведный наставляет. Ни словом не заманивает его в веру православную, но незаметно сводит к тому, что здесь, в низовской земле, и поля, и лес, и реки, и сами люди добрее, чем на басурманской стороне. И во всех бедах русских людей повинны они, басурманские лихоимцы, что грабят и зорят незлобивый народ, детей сиротами оставляют, у матери детей отнимают.
— Нет, ты поживи-ка с нашим народом подольше, одной семьей, тогда сам поймешь, можно ли на него руку поднимать, последнее отнимать, грабить да насильничать!
Молчал в ответ Хайрулла, но задумывался. А думалось о том, как счастливо жилось бы ему вот в этой убогой землянке с любимой русской женой и сынком Хабибулой. Сам он плавал бы в челноке по реке, бросал в старицу сети и возвращался с уловом домой. А жена с сыном выходили бы на берег и ждали, когда его челн покажется из-за далекой излучины. Либо шли берегом ему навстречу.
Потом, когда будет слушаться нога, он пошел бы в этот непроходимый лес и свалил из самострела большого рогатого зверя, больше любого коня, вкуснее конского мяса. И все привез бы сюда, к своей землянке. А в землянке жена и сын. А по весне они вдвоем с женой раскопали бы в лесу кулигу, как это делают все русские, и посеяли на ней и овес, и горох, и просо. Чтобы целый год у них был и кисель, и русская каша!..
8
Ох, высока гора при устье Суры-реки. Высоко сидеть, далеко глядеть. И сама Волга видна, сколь осилит глаз, и Сура не заслонена. По склону горы дубняки да медовый липняк, а у берегов кусты таловые непролазные. А за горой, на родной плодородной земле, селеньица чувашские в пять — десять дворов, с посевами и пастбищами, да такими, что не только ордынец позавидует. Чуваши — такой народ: сковырни его, сожги его, раздень догола, только землю-матушку не тронь, не растаптывай, и он снова поднимется, за мотыгу возьмется, и жито, и горох, и просо вырастит! И накормит, напоит всякого, кто постучит в его окошко малое или ночевать попросится. Высока гора при устье Суры.
В той горе земляночка наскоро выкопана, а под горой в тальниках у самой воды челнок убористый хоронится, только столкнуть — и плыви! Шестеро у челна, седьмой на горе, да на таком-то юру, что кругом видать. Глядит из-под руки и по Волге и по Суре, не покажется ли челнок или конный по суху, берегом. И всем, кого остановят, дают ватажники наказ донести молву до хана басурманского, что припасен ему выкуп дорогой за монаха Макария Желтоводского. А поверх выкупа будет хану молодой Хайрулла, баскак по низовской земле. Ох, высока гора при устье Суры-реки. И как птицы летят с нее вести в басурманскую сторону и с пешим, и с конным, и с быстрым челном.
На ловца и зверь бежит, от губошлепа отворачивает. Вот причалила к той горе баржа, та самая, что под Новгородом низовским данью загружалась. Захватили ее ватажники, а их сухорукий атаман дознается у охранников:
— А где ваш баскак Хайрулла, сын Хабибулы? Узнали басурманы атамана и рассказали, что после того, как их баскак в ту ночь за борт прыгнул, он так и не объявлялся. Видно, бердышом ему в самую спину угодили.
На это сказал атаман:
— Жив ваш баскак. Живет у нас на Желтоводском пожарище. Готовы мы его отдать в обмен на монаха Макария, когда вернут его на пожарище монастыря Желтоводского. Прибавим еще выкуп дорогой и за Макария, и за полонянку Оганьку с сыном-отроком. А порукой тому — слово крепкое Сарынь Позолоты, атамана волжской вольницы, что за всю свою жизнь никого неверным словом не наказывал! После того отпустили баржу с татарами и поплыли в верха, до устья речки Сундовика.
По морям да рекам вести быстрее, чем по суше, летели. Прилетели за Суру-реку до хана басурманского две вести, как птицы разные. Одна о том, что воины ханские отважные Желтоводский монастырь позорили, сожгли, а ненавистного хану монаха Макария в полон захватили и скоро приведут к ханским шатрам. И другая весть вслед за первой летит, почернее крылом. Она о том, что ханский баскак Хайрулла в Волге утоп, в тот час, как молодцы из вольницы на баржу напали, стражу разогнали и все самое дорогое из ханской дани позабрали.
Заскрежетал зубами басурманский хан и со злом нетерпеливым стал поджидать монаха с реки Керженки. Не успел того дождаться, как третья птица-весть прилетела. О том, что жив ханский баскак по низовской земле, только поранен в схватке с вольницей и в полон попал. И что атаман той волжской вольницы, Сарынь Позолота по прозвищу, готов отдать хану баскака Хайруллу живого и невредимого в обмен на Макария, монаха Желтоводского. Да просит еще тот Сарынь Позолота отдать ему за выкуп дорогой, невиданный полонянку Оганьку с сыномотроком. Ту самую, что в полон татарам продана до того за семь лет. На выкуп припасены у атамана Позолоты кольца и серьги золотые с камнями-самоцветами, да такие, каких ханши еще не видывали и не нашивали. А самому хану и его приспешникам припасены кубки дорогие и ларцы, каменьями усыпанные!
Не заскрипел тут зубами басурманский хан, но запустил пятерню в свою жиденькую бороду да так и застыл, словно конским мослом подавился. «А искать того Сарынь Позолоту на горе при устье речки Сундовика, что напротив монастыря Желтоводского, ордынцами сожженного». Потом еще одна весть, и другая, и третья. И все о том, что припасен у атамана Позолоты выкуп дорогой за полонянку Оганьку да инока Макария. А сверх выкупа вернут хану баскака честного Хайруллу, сына Хабибулина.
А тут из похода свои пришли и строптивого Желтоводского монаха привели. Нагляделся басурманский хан на своего супротивника Макария и приказал к обратному походу готовиться. Да сыскать по улусам русскую полонянку Оганьку с сыном-отроком. Не терпелось хану поскорее выкупом завладеть. Однако Огяньки не нашли, но разыскали полонянку русскую, что в женах у татарина Хайруллы жила и сына ему родила. Вспомнили тут, что будто был с нею и сын, когда в орду вели, да сбежал волчонок, как только низовскую землю прошли. Позадумался хан и таково приказал: «Ведите эту, Хайруллину. Своего баскака мы на знатной да богатой женим. А за эту дорогой выкуп сулят!»
И только-только успел инок Макарий от дальней дороги передохнуть, как пришлось в обратный путь отправляться — погнали его менять на баскака низовской земли. А с ним еще жену и сына Хайруллы, сына Хабибулина. С отрядом из басурман-воинов посланы были дядя баскака Хайруллы, да младший брат его, да мулла-крикун того же знатного рода Хабибулина. Монах Макарий худ был, изнурен, но радостен. А жена-полонянка не знала, что ждет ее впереди, и потому плакала. Сама плакала, а сынку заказала:
— Не мочи глаза! Пора воином быть!
9
Живут ватажники под Лысой горой при устье Сундовика, живут тихо, неслышно, из орды посланцев ждут. Ждут и надеются, что до заморозков вернут им Макария, главного монаха Желтоводского. И по Волге вниз из-под руки глядят, и по Сундовику, и по горной стороне из-за Лысой горы. Трудно догадаться, откуда и как татарам подойти вздумается. Смерды чуваши и русские давно жито перемолотили и в житницы ссыпали, и озимь посеяли. По зеленым всходам прошли уже первые белые утренники, на ночных полях перелетные гуси гогочут, по утрам журавли перекликаются в поднебесье. А по селениям малые басурманские отряды рыщут, последнюю дань хану собирая.
Сам атаман Позолота на той стороне побывал, у пожарища, трех послушников навестил и Варнаву с баскаком не забыл, добрыми вестями порадовал. Но что-то незаметно было, чтобы Хайрулла тому радовался. Каждый раз оживал и лицом светлел он, когда Варнава его за собой на Керженец звал, поплавать по плесам, по старицам, сетью тряхнуть, у костра посидеть в глухомани прикерженской. «Как вольно и радостно на реке этой дышится!» — думал тогда Хайрулла и чувствовал, как умиротворяет, усыпляет в нем река все дикое, оставляя доброе, человечное. А рыбарь Варнава вслух о том рассуждал, что жизнь человеку не для того дана, чтобы притеснять да изводить людей другого племени. И что над всеми один бог, одна судьба. Она, эта судьба, все видит и слышит и в памяти записывает, но не сразу о том людям сказывает. А придет время — и вспомнит, и скажет, как гром грянет!
Капля камень точит. А Хайрулла не каменным был. И слова Варнавы поострее капли были. И случалось у них так, что Варнава уже заснет под шумок дубов, а баскак не спит, лежит, думает. И многое передумывал заново.
За бабьим летом да утренниками туманы пришли, на поля и овраги легли, Волгу и Сундовик как молоком залили. Вот в такое-то утро и подвели к Лысой горе баржу-посудину ордынскую чуваши от Суры-реки. И дико было глядеть и слушать ватажникам, как басурманы-воины с баржи криком людей подгоняли, чтобы баржу веселее тянули. А на той посудине, кроме воинов, еще трое знатных и важных ордынцев из родни Хайруллы Хабибулина, да полонянка русская с сынком, да монах Макарий с цепью на ноге, чтобы за борт не прыгнул, не убежал. Помахали, покричали Позолотины молодцы, чтобы причаливали баржу к берегу. Подтянули к берегу смерды-чуваши посудину, и все на песок от устали попадали. Тут ватажники свой челн столкнули на воду и сказали тем, кто с баржи их разглядывал: — Нам так атаманом наказано, чтобы троих самых знатных да полонянку русскую, да монаха Макария на ту сторону Волги переправить, до Желтоводского пожарища. Там он ждет вас с выкупом за полонянку и Макария. А воины ваши с четырьмя нашими ватажниками здесь останутся. Худого не думайте. Дело будет честное!
Позадумались угрюмо басурманы из рода Хабибулина, но с баржи сошли и в челн забрались, монаха и полонянку оберегая. Два ватажника на весла сели, взмахнули раз, другой и третий, и пошел челнок по Волге к монастырю Желтоводскому. Только накануне Семен Позолота рыбаря с раненым баскаком в ближнюю Варнавину землянку из дальней переправил. Это на тот случай, если вдруг от хана с обменом прибудут. А в это туманное утро он вышел на пожарище монастырское и сел на плиту из камня дикого, что осталось от сгоревшей церковки.
Утро было холодное, туманное. Атаман Позолота на камне сидел, на Волгу сквозь туман глядел и тихую песню пел. Невеселую песню, что от самого сердца шла.
Вы дружки мои, Ясны соколы, Силой грозные, Безобманные, Послужите вы правде-матушке Сколько хватит Вашей силушки! Дорога бранная, Ночь туманная, Сила грозная, Безобманная!..Тут из тумана челнок показался, наискось Волги плывет и к пескам против пожарища пристает. Челн Позолотиной вольницы, а гребцы — чувашин да мордвин, крепкой дружбы невольники. И побратим атамана инок Макарий стоит посреди челна. И поднялся с дикого камня атаман, чтобы лучше видеть, кого ему ордынский хан посылает. А прибывшие уже из челна выходили и к пожарищу монастыря Желтоводского вслед за иноком Макарием направлялись. Торопился он к порогу сгоревшей церковки. Только с цепью да колодкой не побежишь, и потому все за ним поспевали.
А навстречу ему атаман шагнул. Одна рука на рукояти меча, другая недвижно висит. И когда сошлись они, игумен монастыря православного обнял атамана со словом таким:
— Мой побратим и спаситель мой!
Потом на колено опустился и к сухой недвижной руке Сарынь Позолоты припал.
А Семен Позолота на полонянку глядел. И на мальчонку, что к ней прижимался. И вспомнились ему Олена и слова ее добрые: «Пора выкупить у басурманов страдалицу, Оганьку твою. Не пристало русской жене басурману ноги мыть!» И подумал невольно: «Полно, Оганька ли это? Эта русская жена за годы неволи научилась и ноги басурману мыть, и сына ему родила!» Но, отбросив сомнения, свистнул атаман разбойничьим посвистом, так что с осины листочки красные посыпались. И тотчас из оврага послушник появился: «Что атаману надобно?»
— Скажи Варнаве, чтобы сюда шел с баскаком.
Да сундучок и ларец пусть захватит! Затуманился рыбарь Варнава, услышав атаманов наказ. Постоял, подумал, сундучок в руку взял, ларец Хайрулле подал, через порог землянки шагнул и опять что-то позамешкался.
— Привык я к тебе, Хайрулла, как к сыну родному. Чую, за тобой это пришли. Дай-ка я обниму тебя на прощание!
Поставил сундучок, обнял баскака. Потом отступил на шаг от него и трижды перекрестил. А из глаз на рыжую с серебром бороду две слезы скатились, да такие-то крупные, что дорогие жемчужины!
— Ну, пошли, дружок!
Но стоял Хайрулла в смятении. В напряженной задумчивости стоял, а потом и говорит, да так-то решительно, твердо:
— Да, пошли!
И пошел за Варнавой, опираясь на тяжелый дубовый костыль.
10
А уж их ждали у дикого церковного камня. Сарынь Позолота сидел на нем нахохлившись, монах Макарий стоя пожарище оглядывал. Ордынцы, родня Хабибулина и мулла-крикун, сухорукого атамана разглядывали, что на всю землю низовскую до самой орды силой своей прославился. А полонянка, их тихую речь слушая, сына к себе крепче прижимала: «Ох, страшен этот Сарынь Позолота, атаман волжской вольницы!» И ничто в нем не напомнило ей Семку-смерда с верхнего посада нижегородского. Рыжеватый, седоватый да сухорукий, с лицом порубленным, сидит, как ястреб перед ненастьем, сгорбившись!
А вот и они, Варнава с пленником. Рыбарь низко Макарию поклонился и перекрестился с глубоким вздохом.
— Ну вот и мы оба тут!
Так и впились глазами басурманы в баскака из рода Хабибулина. А полонянка в нем мужа узнала и, на колени опустившись, замерла, словно богу молилась.
Вот старший из рода Хабибулина шаг вперед сделал и сказал торжественно:
— Угодно было хану, чтобы выкупили мы его баскака верного Хайруллу сына Хабибулина в обмен на монаха Макария. Да посылает хан за выкуп обещанный полонянку русскую, что семь лет в орде жила.
Никто ни слова в ответ басурману. И от Хайруллы ни слова приветливого, ни благодарности. Он на жену и сына глядел, пораженный жадностью хана. И сказал вдруг Хайрулла, как саблей острой взмахнул:
— Не вернусь в орду! Как служить хану-предателю, что за ларец продал семью мою. Здесь остаюсь, с русскими. А жену и сына никому не отдам!
Тут мулла-крикун, аллаха на помощь призывая, охрипшим голосом грозное слово прокаркал:
— Подумай, Хайрулла! Хорошо подумай, пока я не сказал, что ты не татарин, а собака русская, шелудивый отступник!
— Не отступник я! — отрезал Хайрулла. — На мне нет креста. Но в орду не вернусь. Что делать мне там? На коня не вскочить, по степи не проскакать, саблей свистя. А хану баскаком служить — для того надо остатки чести своей загубить. Мой дядя, мой брат, не зовите меня!
Побледнели ордынцы от мысли вернуться к хану без выкупа.
— Не руби, Хайрулла, наши головы!
Тут атаман встрепенулся. Указав на сундучок и ларец, сказал:
— За свои головы не опасайтесь. Выкуп ваш, Хайрулла наш. А монах да полонянка всегда русскими были!
И приказал Варнаве поставить сундучок и ларец к ногам ханских посланцев.
Заглянул ордынец в сундучок и — зажмурился, призывая на помощь аллаха.
А Семен Позолота смеется:
— Ларец поменьше, но добра в нем не меньше. Пусть владеют им ханские жены. Это на выкуп полонянки от послушницы Зачатьевской обители! Уж туман над Волгой рассеялся, когда, низко кланяясь и пятясь, знатные посланцы ханские с сундучком и ларцом спустились к челну. И помчали их два ватажника по быстрине к Лысой горе до ордынской посудины. А на диком камне, что порогом церковушке служил, остались первожители разоренного монастыря Желтоводского, его строители и основатели. И Хайрулла с родной женой и сыном родным. Молча думали о жизни своей, никто друг другу в мысли не заглядывал, но, как один, дружно к одному подошли. Первым рыбарь Варнава заговорил:
— Надо нам, браты, вверх по Волге уплывать. Привольное это урочище, а невезучее. Трудно православному монастырю бок о бок с басурманами жить. И красна, и добра, и рыбная речка Керженка, да, видно, другую искать!
Немалая забота у монаха Макария. Не о том, куда голову приклонить, а о том, где новое гнездо свить, чтобы было оно вдали от ордынца и низовского боярина. Понимал, что, попади он им в руки заново, живым в гроб заколотят, на костре сожгут как еретика и гордыню ненавистную. А как гнездо вить, когда все добро монастырское басурманами разграблено, огнем спалено?
Полно, тужить ли о том монаху Желтоводскому, побратиму самого атамана волжской вольницы! В диком урочище на речке Керженке немало из добычи упрятано.
Долго молчал атаман, но вот встал с камня дикого и сказал только:
— Плыть так плыть. Ватаги у меня не убыло!
К рассвету опустело Желтоводское пожарище, осиротели зимницы Варнавины по речке Керженке. Но остался дикий камень, плита гранитная, а над ней черный ворон на опаленной сосне за вечного сторожа. Зорким глазом за Волгу глядит, серых всадников ждет на диких коньках, что несут за собой смерть и опустошение. И еду обильную вороньему племени.
11
Дед Аксен, чуя холода, вокруг своей закутки бродит, по лесу сучки да жердинки собирает и к стене под поветь приставляет. Дрова к зиме запасает, сам с собой разговаривает вполголоса. Не свалила его смертушка за теплые дни, видно, пожалела, до холодов оставила. А раздобрится ли на лето целое, до той осени — отсюда не видать. Кабы знать, что долго не заживется, так и с дровами не маялся бы. А как до весны придется жить, всю зимушку? Умирать собирайся, а рожь матушку сей, говорят. А дрова — что хлеб. Без дров умирать — в могиле до смерти побывать. И холодно, и сыро!
Рассуждает так дед Аксен и тащит к своей закутке жердочку за жердочкой, сучки да бревнышки. Принесет, сбросит с плеча, передохнет, покашляет, к стене деревинку приставит — и снова за дело. Жили летом молодцы-ватажники неделю целую, не догадался упросить их дров запасти. Сам за Позолотой по городу ходил, как настоящий слепой, за посошок держался и песни пел да сказки сказывал. Вот проходил, пропел долгие-то дни, теперь один ходи да кряхти! А солнышко-то похолодало. Ну не беда, отдохнет за зиму и с весны опять запылает.
Сегодня у деда Аксена добрый день. С утра размочил и пососал ржаной корочки. А тут, как знали, из деревушки и хлебушка, и молочка принесли. С наказом, чтобы помолился старец Аксен за раба божия, что недавно преставился. Помолился старик, как умел, потом хлебушком с молочком подкрепился. Вот и бродит теперь вокруг избушки, и храбрится больше обычного. Не поевши-то, немного бы наработалось, а тут, гляди-ко, целый костерок сучков натаскал.
Солнышко за лес, и он в закутку спать. Только задремал, как в окошечко стук. И голос, да знакомый такой, что старику не поверилось:
— Дедка Аксен, живой ли?
— Живой, братики, живой! Али это опять вы? В сумерки вечерние вышел, а там сам Сарынь Позолота да монах Макарий, тот самый, что третьим летом со своими на низы уплыл. И этот рыбарь бородатый да рыжий, что всех без разбора ухой кормил. А от берега тропой вереницей молодцы-ватажники. А за ними увечный в татарском кафтане, с костылем под рукой. Да бабеночка по виду русская с пареньком.
Никому в ту ночь не спалось. Ко восходу солнышка узнал Аксен про все беды, что на Макария Желтоводского обрушились. Слушал старик, головой покачивал:
— Чуяло мое ретивое, что не житье будет монастырю православному по соседству с басурманами! Эх, не насоветовал я тогда не на Керженку, а на Унжу-реку плыть.
С рассветом уснули все. А когда встали да огляделись, рыбаря Варнавы и Хайруллы не досчитались. Только с полуденным солнышком появились. Варнава не улову, не рыбе, а рыбалке радуется, тому, как его новая речка потешила:
— Узола-то, она, матушка, видно, никакой реке не уступит! И осетрик, и стерлядка, и всякая рыба в нее из Волги заходит! Так-то бы и пожил на ней! Эх, не погорели бы наши сети запасные, до того лета бы рыбы запас. А сольца — она вон, только Волгу переплыть!
А к низовской земле подступила осень настоящая. Нарядила осины в понявы багряные, листок дубовый посрывала, березы позолотила, ельник призадуматься заставила. А инок Макарий свою думу за собой привез да заботу о том, куда до зимы уплыть, от холодов спрятаться. И опять этот разбойник и святой человек Аксен подсказал:
— Это верно, нельзя вам тут, под носом у боярина да ордынца, обживаться. Да и федоровские монахи — люди недобрые, завистливые, все к хану подлизы такие, а своих братьев норовят ногами затоптать. Обозлятся да и пошлют к нашей закутке молодца с огоньком. Эх, одолела меня старость бессильная, заглянул бы я в их гнездо, чтобы не забывали Аксена, атамана волжской вольницы! А не махнуть ли вам, побратимы, на Унжу-реку? Давным-давно там не бывал, но как живая она в моих глазах, лесная краса! Экая там благодать божия и человеческая! Поселения там редкие, друг от друга за десять верст, а люди хоть и дикие, но русские, православные. Помогут вам и зиму перезимовать, а по весне, как возьмутся за топоры, полетят щепки выше леса. И будут у вас к лету и кельи, и церковка, помяните слово мое! Народ там не то чтобы у бога в ногах ползает, но стосковался по слову православному с той поры, как от басурман да бояр туда убежал! А земля-матушка там урожайнее, чем здешняя. Рыбу там ребятишки корзинами да понявами ловят для всей деревни. А борть пчелиная на каждой старой сосне, и некому там эти борти обхаживать! А какое жито, какой лен там растет! Ни слова не выдумал старый Аксен, не раскаетесь.
Мешкать да долго думать некогда было. Собрались ватажники, челны на воду столкнули. Тут рыбарь Варнава спохватился:
— А где мой побрательник Хайрулла?
А тот с женой и сыном стоял на берегу и спускаться к челнам не спешил.
— Не по пути честному татарину с монахами. Хайрулла здесь остается. Так ли, старик? Перекрестил тут разбойник Аксен свою грешную голову:
— Правда, браты, правда! Теперь мне и умирать не страшно!
Про Семена-Ложкаря
1
По обширной и доброй земле бежала река, такая широкая и длинная, что люди, жившие по одну ее сторону, не знали обычаев населения другой стороны, а племена, обитавшие у истоков, не ведали, какие народы населяют земли в ее низовьях. От правого берега реки до теплых морей и высоких гор простирались владения грозного царя, его бояр и опричников, а на другом берегу был сосново-березовый край, ничейная и свободная земля под дремучими лесами. А жил на ней мастер-умелец по кленовой и березовой ложке, Семен-Ложкарь по прозвищу. С ним в соседях вокруг мордва, мещера да мурома, звероловы да хлеборобы русские, что с правого берега от ярма и неволи сюда попрятались. Жил Семен-Ложкарь в просторной черной избе над дикой лесной речкой Санахтой со своей Катериной и дочкой Авдоткой. Втроем успевали они делать ложки кленовые и березовые далеко на все стороны, да такие приглядные и ловкие, что люди тюрю с квасом, горох и кисель без масла и приправы хлебали да прихваливали! И пошла про Семена слава по лесам, городам и весям Поволжья, да, на его беду, дошла она до царской вотчины.
А грозный царь в ту пору в своей столице сидел, с боярами думу думал, с опричниками по церквам да монастырям молился, а между важными делами пировал и бражничал.
Вот один раз, натешившись пирами да молитвами, надумал грозный царь воевать сразу на три стороны: с крымским ханом, турецким султаном и ливонскими рыцарями и баронами. Людей в войсках у царя было много — пушкарей, и стрельцов, и конников. Пушек да пищалей на пушечном дворе понаделали, пороху, свинцу и ядер тоже вдосталь было. Всяких припасов в царских войсках хватало, вплоть до котлов, в которых воины кашу да похлебку варили. А вот ложек, коими русские люди испокон веку щи и кашу ели, у царя в запасе не было. В те времена простые люди, что жили вокруг царской столицы, в каждой семье сами для себя ложки выскабливали, а знатные люди — князья да бояре — серебряными ложками похлебку и всякое варево хлебали. Вот поэтому-то грозный царь и опростоволосился: войну начал сразу на три стороны, а ложек у воинов не было. А горячая еда да крепкая ложка в войне — не последнее дело!
Созвал тут грозный царь всех бояр и опричников и задачу им такую задал, чтобы не далее как к весне у каждого воина, кроме оружия, за каждым голенищем по ложке было: одна коренная, другая запасная.
Чтобы бояре и верные псы-опричники веселее за это дело взялись, обещал царь того, кто дело скоро исполнит, чином отличить и наградить, а кто посулит, да не сделает, того на дыбе поневолить и в застенок упрятать.
Задумались бояре и опричники — дело это за длинным столом на царском пиру было. Но был среди них злой опричник Скирлибек. Вот и вызвался тог Скирлибек разузнать и разведать, в каком углу царства мастера-ложкари притаились.
В кабак у столичной заставы зашли в ту ночь два бродяги Шиш и Ярыга, два друга. Исходили они Русь вдоль и поперек, на царской службе и кнута и дыбы отведали, а не остепенились. Сидели они за столом, хмельное пили, севрюжиной закусывали и друг перед другом всякой всячиной похвалялись. Подсел к ним тут Скирлибек и стал допытываться, где бы ему мастеров-ложкарей для царя подыскать.
Ярыга и Шиш ответили, пусть, мол, боярин сначала кошельком тряхнет да хмельное поставит, а за отплатой дело не станет.
И сказали они Скирлибеку, как разыскать искусника и умельца Семена-Ложкаря в заволжских лесах.
Тут опричник Скирлибек мешкать не стал, кликнул своих слуг да друга Ваську Басмана. Оседлали они коней и поскакали из столицы по Владимирской дороге искать за Волгой ложкаря Семена.
2
Сквозь сосновые боры и березовые долы пробирается темной змейкой речка Санахта, бежит-торопится повидаться с соседом Керженцем. На пологом холме у реки среди сосен вековых прижалась к распаханным кулигам просторная и приземистая изба Семена-Ложкаря. Глядит она в темень осеннюю веселыми глазами, огоньком приветливо подмигивает. В избе березовая лучина горит, угольки от нее в ушат с водой падают и гаснут шипя. Не успеет догореть одна лучинка, как девчоночка Авдотка от нее другую зажигает, в железные светцы вставляет. Пока лучинка горит, девчоночка работает, Семен-Ложкарь сам-третий, согнувшись, за работой сидит, топориком из березы ложки вырубает да зытесывает. Жена Катерина из ложки-болванки скобельком нутро выбирает и тыльную сторону зачищает, а дочка Авдотка ножичком остальную басу-красу ложкам придает. Сидят на низеньких чурбаках-стульчиках, тихий разговор ведут, к ночи прислушиваясь, а готовые ложки из ловких рук, как рыбы, ныряют на дно плетеного короба.
А опричник Скирлибек с дружком Васькой Басманом и стремянным той порой уже за Волгу переплыли и скакали лесными дорогами в край заволжский сосново-березовый. Раным-рано поутру спешились опричники у Семеновой избы и в ставни стукнули. Недолго отклика ждали, вышли из избы все трое — и Семен-Ложкарь, и жена Катерина с дочкой Авдоткой, встали тесным рядком и дивятся на незваных гостей. На Семене сермяга внакидку, березовые стружки в курчавых волосах и бороде понасели, а Катерина в домотканом сарафане да кацавейке овчинной. Не шибко нарядной и Авдотка из избы выскочила — в рубашке льняной, розовой, высоко пояском подпоясана, на голове платок холстинковый узелком завязан, на ногах лапотки. Но загляделись на нее опричники, а пуще всех царский слуга Скирлибек. С большой неохотой оторвал он свой взгляд от девчонки Авдотки и грозно спросил Ложкаря:
— Чей ты раб и холоп, как прозываешься и на какого господина работаешь?
Мужик ответил опричнику, что с тех пор, как помнит себя, ничьим рабом и холопом не бывал, отца с матерью не упомнил, прозывается Семеном-Ложкарем, работает на всех русских людей, что по Волге живут и едят не руками, как басурманы какие, а с кленовой и березовой ложки. Скирлибек на это Семену сказал, что всех ничейных людей грозный царь к своим рукам прибирает, был ты ничей, а теперь стал царским. И объявил опричник грозный приказ о том, чтобы к концу зимы Семен-Ложкарь сделал для царя сто сороков ложек кленовых, а березовых во сто раз больше. Да сделал бы сначала кленовые — для царских воевод и опричников, для попов и святых отцов-монахов, что за здравие царя молятся. А после кленовых ложек принимался бы за березовые — для простых бойцов: стрельцов, пушкарей и казаков, для работных людей, кои крепости строят и пушки отливают. Так сказал Скирлибек-опричник Семену-Ложкарю, первому мастеру по деревянной ложке. Да еще для страха прибавил, что если Семен царский заказ не исполнит, то его самого царь угонит на край земли за Каменный пояс медь и свинец добывать, а жену с девчоночкой отдаст в неволю самому злому и распутному опричнику.
На такие страхи Семен спокойно ответил, что наделать столько ложек, сколько царь повелел, не ахти как мудрено, лишь не подвела бы хвороба да хватило бы вокруг берез и кленов.
Когда наелись и передохнули кони, опричники в обратный путь к царской столице ускакали, а Семен-Ложкарь с того дня сам-третий крепко за дело взялся и к концу зимы выполнил царский заказ по кленовым и березовым ложкам. Кленов вокруг осталось мало, а березняк так поредел, что сквозь него видны стали редкие поселения хлеборобов и звероловов, живших по соседству с Ложкарем. Перед весенней распутицей, по последней зимней дороге, к Семену царские обозники с думным дьяком приехали, пересчитали готовые ложки, погрузили на подводы и увезли к царю.
Семен-Ложкарь с женой и дочкой у избы стоял, вслед обозу глядел и долго слушал, как скрипят по насту сани да звенят на конях бубенцы.
3
Когда прибыл обоз с ложками на царский двор, грозный царь приказал выдать по кленовой ложке всем боярам, воеводам, опричникам и атаманам, а простым бойцам — стрельцам, пушкарям и казакам по две березовых. И стало у простых воинов за каждым голенищем по ложке: одна коренная, другая запасная.
В тот же день все царские полки в поход выступили, пошли воевать сразу на три стороны: с турками, крымчаками и ливонцами. Войскам грозного царя в той войне поначалу везде удача была, во всех трех сторонах они быстро занимали иноземные города и праздновали победу за победой. После каждой победной битвы русские воины садились у котлов, доставали из-за голенища кленовую либо березовую ложку и принимались за еду.
Поглядеть на бойцов собирался иноземный народ и дивился на них и на деревянные ложки, которыми они так ловко любую еду хлебали. Самые смелые из чужеземцев подходили ближе к котлам и просили дать им попробовать поесть с березовой ложки. А поевши, говорили, что есть с такой ложки очень сподручно и вкусно. Потом пробовали есть ложками воевод, атаманов и боярских сынков, а попробовавши, находили, что с кленовой ложки кушать еще ловчее. Понравились иноземцам деревянные ложки еще тем, что при еде не обжигали губы, как серебряные, а после еды не зеленели, как медные.
Наевшись каши, царские бойцы-молодцы начинали веселье. Лихие музыканты на ложках играли, а плясуны пели и плясали. Побежденный народ иноземный глядел и любовался на русских воинов и завидовал житью под грозным царем. Чужеземцы так думали, что русские люди у себя дома только то и делали, что у котлов с кашей сидели, на ложках музыку играли, песни пели да плясали.
И прошла великая слава о деревянных ложках по всем странам, с которыми грозный царь воевал, — по Крыму, по Туретчине и Ливонии. Дело дошло до того, что там простой народ бунтовать начал: «Не хотим войны с народом, который умеет делать такие чудесные ложки! Подайте нам ложки, которыми можно, не обжигаясь, любую пищу хлебать и, не отходя от котлов, музыку играть, чтобы петь и плясать!» Что дальше, то больше бунтовал народ во всех трех сторонах. Напугались народного гнева ханы, султаны, рыцари и бароны и послали грозному царю послов насчет мира договариваться. Те послы перед царем явились и сказали, что их правители согласны на скорый мир, все занятые города и земли за ним оставить, если он, грозный царь, на деревянные ложки не поскупится.
Обрадовался царь, что скоро и выгодно закончить войну удалось, подписал грамоту о замирении, а послам насулил приписать ежегодно деревянных ложек, сколь их правителям надо. Довольные послы домой поспешили, правителей обрадовать и народ успокоить, а грозный царь в тот же день к себе Скирлибека вызвал. Когда опричник явился, повелел ему царь немедля за Волгу отправляться к тому Семену-Ложкарю, что для войск так скоро ложек наделал. «Пусть тот Семен-Ложкарь к концу каждой зимы припасет ложек кленовых и березовых в сто раз больше, чем для мово войска сделал. За то дело награжу его так, как никого в своем царстве не жаловал!» Вышел Скирлибек на царский двор, свистнул своих стремянных да дружка Ваську Басмана, оседлали они борзых коней и поскакали ватагой по Владимирской дороге. Не один день, не одну ночь мчались опричники от царской столицы на восход солнышка сквозь леса муромские. Через Волгу у града Новгорода Нижнего переправившись, еще ночь ехали и добрались наконец до края сосново-березового, где жил Семен-Ложкарь.
Встречать незваных гостей хозяин опять сам-третий из избы вышел, оба с женой приветливые, а дочка Авдотка за год повыросла и стала еще пригожее. Прочитал Скирлибек ложкарю царскую грамоту, а от себя прибавил, что если Семен то дело не исполнит и ложек, сколь надо царю, к сроку не припасет, то его самого за Каменный пояс угонят свинец и медь из земли добывать, а бабу с дочкой самому злому басурману в неволю отдадут либо на самое непотребное дело определят.
Задумался Семен-Ложкарь, бороду в кулак ухватив, жена Катерина поскучнела, а дочка Авдотка утешает: «Не кручиньтесь, родные, хватило бы вокруг берез да кленов — наделаем царю ложек, сколь ему надо!»
И засел Семен всей семьей за работу. А Скирлибек, пока стремянные коней вываживали да кормили, к Авдотке подсел и, глядя на то, как ловко она ложки ножичком зачищала, начал ее в царскую столицу сманивать — жить в тереме, наряжаться в парчу и шелка, носить шубку из соболей сибирских. На такие хитрости и посулы Авдотка ответила: «С родным отцом да матушкой мне и в курной избе неплохо, а одежду себе сама припасу: ленку напряду, холстинки натку, сама рубашку сошью — не хуже и шелка будет!»
Покосился опричник на розовые плечики и рукава Авдоткиной рубашки, на ее проворные и ловкие руки и снова манит с собой, сулит обуть в сафьяновые сапожки, а на голову — дорогую кичку, золотом расшитую, алмазами осыпанную. Но и на эти посулы Авдотка умный ответ нашла: «По родной земле не худо и в лапотках ходить — всей ножке тепло, пальчикам просторно, а головушку самотканым платочком принакрою».
Скосил глаза Скирлибек на русую головку Авдотки и ни слова больше не молвил.
В тот же день уехали опричники в обратный путь, царю обо всем доносить, награду за службу просить, а Семен-Ложкарь с женой и дочкой еще сердитее за работу принялись и под конец зимы выполнили царский урок по кленовым и березовым ложкам.
Но клена и березняка вокруг осталось совсем мало, на месте березовых лесов появились пустоши с пеньками, а по краям сосняк вековой да ельник дремучий. Приехали царские обозники, пересчитали ложки, погрузили на сани и в царскую столицу увезли, а Семен, не отдохнувши, опять за ложки принялся. Работал без отдыха, похудел мужик, обтрепался, обносились оба с бабой, только Авдотка, как всегда, цветочком выглядела. Льна и жита Семену посеять стало некогда, хорошо, что народ из соседних лесных поселений помогал, иначе пропала бы с голоду вся Семенова семья. Наказал Семен обозникам и дьяку сказать царю, что он на царской работе с голоду и надсады умирает, но, когда те в столицу вернулись, грозного царя уже в живых не было. Поиграл он как-то на масленице с одним боярином в шахматы и проигрался. Расстроился царь и со зла да обиды со стула мертвым упал. Все бояре и опричники большой толпой, как мыши кота, грозного царя хоронили. Так вот поработал Семен-Ложкарь еще лето да зиму, все березы и клены далеко кругом дочиста на ложки срубил, а царский урок не выполнил — дерева не хватило.
Перед весной опять приехали царские обозникиг погрузили на подводы что было наделано ложек и в обратный путь тронулись. Семен не посоветовал им впредь за ложками приезжать, потому что березняка вокруг совсем не стало.
4
Но весной, как только снег растаял, лиходей Скирлибек явился опять с дружком Васькой Басманом и стражниками. Под видом царской немилости Скирлибековы стражники заковали в железы Семена-Ложкаря и погнали в гиблые места из-под земли свинец и медь добывать.
А Скирлибек с дружком Басманом тут остались. И Семенову избу сожгли, а Катерину с Авдоткой с собой повели. Мать с дочкой впереди шли, кони им в затылки горячим дыхом дышали, копытами на пятки наступали, а дружки-опричники, сидя в седлах, своему злому делу радовались. Вот улучила Катерина минутку, когда опричники зубоскалили да по сторонам глазели, и шепнула Авдотке: «Беги, дочка, хоронись, у тебя ножки резвые, только лапотки сбрось. А я их задержу, разбойников!» Смекнула это дело Авдотка и стала сначала на одну ножку припадать, потом на обе и, обернувшись к злодеям, сказала: «Не могу идти, ноги натерла, позвольте лапоточки снять!» Села девчоночка на дорогу, разулась быстренько, вспорхнула и полетела, как пичужка, редким лесом сосновым да еловым. А Катерина опричниковых коней за уздечки схватила, поводья перепутала, а опричникам в глаза песком швырнула, и никак они не могли от нее отцепиться. Авдотка тем часом что было силы лесом бежала, только розовая рубашка между деревьями мелькала. Когда устала да запыхалась, у старой дуплистой ели остановилась, головкой к седому стволу прислонилась и просит: «Голубушка ель, сумрачное дерево, дремучие ветви, укрой Авдотку от опричников!» Закряхтела старая ель и в ответ проскрипела: «И рада бы укрыть тебя, девчоночка, только вижу я, бежит сюда злодей, боюсь, изрубит секирой меня, от ран изойду я душистой смолой, жуков да червей приманю, и источат они меня и тебя. Беги к сосне, авось она ухоронит!»
Побежала Авдотка дальше, розовые плечики и рукавчики ее рубашки ярким цветком мелькали среди деревьев. Быстро бежала, скоро запыхалась девчоночка, остановилась у старой сосны, обхватила руками могучий ствол и просит: «Матушка сосна, улыбчивое дерево, укрой Авдотку от погони». Качнула, шевельнула гордой вершиной сосна, заплакала, обливаясь горючей слезой-смолой, и молвила: «Рада бы спрятать тебя, сирота-девчоночка, да боюсь, злодей с секирой сюда бежит, изрубит меня, слезой-смолой изойду, сама зачахну-высохну и тебя высушу. Беги на пустоши, не укроет ли старуха береза. Да торопись — погоня близко!» Вспомнила тут Авдотка, что на вырубках, где березняк на ложки рубили, отец одну старую дуплистую березу не тронул. И пустилась она бежать к пустошам. А Скирлибек из глаз ее не выпускает, бежит, догоняет.
Добежала Авдотка до березы, обхватила руками: «Родная мать-береза, укрой Авдотку от царского опричника!» Ни слова не говоря, затрещала береза, дала трещину, дупло ее стало шире и больше. Юркнула Авдотка в то окно, как синичка в гнездышко, а дупло стало суживаться, закрываться да и совсем захлопнулось перед носом набежавшего Скирлибека. Начал опричник березу саблей рубить. Где ударит, там мигом березовая губа — трутник вырастает.
Рубит, рубит, а береза стоит живехонька и с каждым ударом новым трутовиком, как языком, Скирлибека дразнит.
Со зла и досады плюнул опричник и побежал назад Ваське Басману помогать. А тот от Катерины никак не мог отбиться: вцепилась худыми руками намертво, коней не оторвать и самому не отцепиться. Подоспевший Скирлибек ударил женщину по голове рукоятью сабли, когда упала она, вырвали опричники из рук ее поводья, вскочили в седла и ускакали прочь от своего злого дела.
Катерина день и ночь пролежала, на заре очнулась и к пожарищу своей избы приплелась. Долго сидела она на головнях родной избы, пугливо озираясь по сторонам, ощупывала руками окровавленное темя, словно проверяя, на месте ли голова.
Вдруг Катерина повеселела, засмеялась, присела, по-птичьи взмахнула руками, как крыльями, и закуковала кукушкой. Потом она долго ходила вокруг сожженного гнезда по березовым пустошам, заходила в редкие поселения того края и куковала. Не все узнавали жену и помощницу Семена-Ложкаря, и когда люди спрашивали, кто она и откуда, Катерина отвечала: «Я бездомная кукушка с Семеновых пустошей. Мы с мужем наделали для царя целые горы ложек, за это царские люди сожгли нашу избу, а Семена угнали за Камень. Не слыхали, не видели моего птенчика Авдотку? Говорят, что ее укрыла старая береза. Полечу к березе!» И снова Катерина взмахивала руками, приседала по-птичьи и куковала кукушкой. Соседи ложкаря — следопыты и звероловы — ходили на розыски. По следам и приметам дошли до старой одинокой березы, изуродованной множеством наростов и губ. Постояли, поговорили, подумали, а дерево молчало. Хотя и добрые пришли к ней люди, но тайны своей береза не выдала. А Катерина не переставала куковать. Так ходила она по окрестностям вокруг сгоревшей избы Семена-Ложкаря и куковала до зимы. Потом пропала неизвестно куда.
5
Прошла зима, а весна принесла с собою много чудес и диковин. Манит весной человека на новые земли, в другие края. Когда прошел среди народа слух, что между Волгой и Керженцем хорошая земля под, березовыми вырубками пустует, потянулись люди на Семеновы пустоши. Узнать, разведать, местечко облюбовать, где пеньки корчевать, землю пахать, лен да жито сеять. А над речкой Санахтой на сосновом бугре среди пустошей той весной поселилась кукушка звонкая, неутомимая. Без устали куковала она, летая по ближним и дальним вырубкам. Придет ли, приедет ли новый человек, место для поселения выбирать, кукушку услышит, заслушается и невольно крикнет: «Кукушка, кукушка, сколько лет мне здесь жить?» Как начнет куковать серая! Тот человек за полета насчитает, со счета собьется, а она все кукует, ворожит ему долгие годы жизни на этой земле. И стали быстро, одна за другой вырастать на Семеновых пустошах зимницы, избы и деревни новоселов. А кукушка каждую весну появлялась на сосновом бугре у Семенового пепелища, нежным кукованием заманивала людей здесь селиться и ворожила им долгие годы жизни на новоселье.
Одинокая и уродливая береза, что в своем дупле спрятала Авдотку, в ту же весну зазеленела пышным листом и нарядилась в длинные цветы-сережки. А под ней, из того места, куда со зла плюнул Скирлибек, вырос большой гриб мухомор, нарядный и ядовитый, как царский опричник.
Когда сережки созрели, старуха береза тряхнула ветками, а ветер подхватил посыпавшиеся семена и разнес их во все стороны по Семеновым кулигам и пустошам и дальше по просторам Заволжья. Через год из ее семян пробилось буйное березовое племя, наперегонки потянулось к солнцу, и выросли вокруг распаханных полей новые березовые леса. Люди со всех сторон не переставали прибывать и заселять Семеновы пустоши. А кукушка на бугре была жива и куковала каждое лето, обещая новоселам долгую жизнь на новом месте.
Лет через тридцать — сорок после того, как царские слуги сожгли избу и погубили Семена-Ложкаря, на Семеновы пустоши издалека пришел изнуренный старик. Когда его спрашивали, откуда он, старик отвечал: «Из-за Камня!» Когда спрашивали, чей он, старец отвечал еще мудренее: «Молодым был ничей, потом стал царским, а теперь опять ничей!» И трудно было старожилам узнать в страннике Семена-Ложкаря. Глаза его выцвели от пыли и пота, кожа побурела от ветра и солнца, голова побелела от лютой невзгоды, а спина согнулась от работы не по силам. Но умелые руки Семена-Ложкаря дела не забыли. Разыскал старик заросшее лесом пожарище, построил тут себе избушку и начал делать березовые ложки. Это было очень вовремя и кстати, потому что все ложки, которые он в молодости наделал местным людям, поломались и износились, а новых наделать было некому. Взрослые и дети пользовались самодельными ложками, грубыми и тяжелыми, которые царапали язык и губы. Зато ими было очень ловко драться и озорники ребятишки, сидя за столом, не столько ели кисель и кашу, сколько стукали друг друга ложками по лбу. Только у старых людей хранились Семеновы ложки в укладах и сундучках как драгоценности. По большим праздникам хозяева подавали их на стол только для того, чтобы показать, и все гости дивились мастерству Семена-Ложкаря, которого царские стражники угнали на Каменный пояс. Поработал старец Семен в своей избушке сколько-то дней и наделал ложек всем людям, от малого до старого, что жили между Керженцем и Волгой и даже дальше. Простой народ Заволжья стал обедать новыми ложками, радоваться возвращению Семена-Ложкаря и захотел перенять его мастерство. И потянулись к избушке старого ложкаря люди из близка и далека учиться ложечному рукомеслу.
6
Старый ложкарь, не жалея сил, продолжал обучать людей делать ложки, а кукушка каждую весну прилетала на облюбованный бугор неподалеку от его избушки и без устали куковала, обещая людям долгую жизнь. И все, кто хоть раз появлялся на Семеновых пустошах, чтобы приглядеть место для новоселья, послушав кукушку, не раздумывая строили избу, распахивали кулигу, сеяли лен и жито. А пообжившись, чтобы не скучать от безделья долгой зимой, новоселец перенимал искусство Семена-Ложкаря. Так в сердце керженских лесов на березовых вырубках поблизости от Кукушкина бугра и Семеновой избушки быстро выросло большое селение Семеново, а далеко вокруг него — много деревень, где жили хлеборобы и ложкари.
Сосновый холм, на котором жила и куковала кукушка, призывая людей заселять Семеновы пустоши, народ навечно прозвал Кукушкиным бугром. Так он и до сейчас называется, а семеновские жители издавна полюбили проводить на нем веселые праздничные гулянья.
Искусница Авдотка, помогавшая отцу с матерью на всю Русь ложки делать, тоже не пропала бесследно. После того как старая береза, укрывшая девчоночку, расцвела и осеменила все Семеновы пустоши и все Заволжье, выросли здесь новые березовые леса. И стали ложкари примечать, что пеньки срубленных берез весной покрываются розовой накидкой, словно в розовую кофточку пенек одевается! Тогда старые люди, помнившие беду Семеновой семьи, сказали: «Это Авдоткины рукавчики на пеньках показываются, чтобы мы ее не забывали!» Продольный же шрам на стволах берез, укрывший либо дупло, либо нездоровую сердцевину, те старики называли Авдоткиной хоронушкой.
Здесь конец сказки про Семена-Ложкаря. За все беды, лишения и гонения от царя, за бескорыстную передачу в народ доброго и полезного ремесла сама земля и люди, не сговариваясь, надолго запомнили его имя. Там, где была избушка старца Семена, родился и вырос целый город Семенов — родина и столица ложкарного промысла.
Сказ о яростном олене
В летописях об этой истории ничего не записано. Видно, святые отцы-монахи тут промаху дали либо не успели из-за недосуга. Это они напрасно. Такие дела да случаи без внимания обходить — все одно что народ без сладких пирогов держать.
Из старых книг известно о том, как во время похода грозного царя Ивана на супротивную Казань дикие звери — лось да олень — для войска подспорьем в харчах были. Все воины с дикого мяса силы набрались, вдвое храбрее стали и поэтому под Казанью долго не задержались. Это не мудрено, такому и поверить можно. А вот кто добывал для войска тех диких зверей, о том ничего не сказано.
Если рассказывать без утайки, то дело так было.
На полдороге к царству Казанскому отрядили воеводы царские дюжину охочих стрельцов, чтобы добывали они попутно для царя, воевод и бояр свежинку к столу. Был конец лета, а по-старинному к успеньеву дню все олени — и сохатые и рогатые — дикой силы и храбрости набирались, без устали по лесам ходили и на особых боевых урочищах яростно копытом в землю били, врага на бой вызывая. В эту пору бывалому охотнику зверя добыть нетрудно. Только те двенадцать московских бородачей напрасно по лесу с пищалями ходили, ничего не видели и не слышали. Под конец нашиблись они на паренька-подростка, что сидел в лесу у костра и лосиную губу кусочками на прутике поджаривал. Подсели стрельцы к огню, парень их лосиной угостил. Поели и спрашивают:
— А где вся туша?
— Да ваши же люди порасхватали, поразнесли! Кому свежинки неохота?
Завидно стало царским людям, что подросток с луком да стрелой ловчее их и смекалистее, и стали выспрашивать, как он оленей добывает. Но парень своего секрета не выбалтывал, одно сказал:
— Видно, вы по-коровьи реветь не умеете! Переглянулись стрельцы, ничего не поняли и поволокли подростка к царским шатрам. Вышли из шатров бояре да воеводы бородатые, а один молодой, но грознее всех, в доспехах боевых. Самый старый воевода стал подростка спрашивать, какого он роду-племени, а если холоп, то какого боярина. На это ответил парень, что вырос он у самого Нижня Новгорода, отца с маткой не упомнил, племени холодаева, рода голодаева. Так и в народе его кличут — «Холодай-Голодай, по лесам шагай». Луком да стрелой себе пропитание добывает и добрых людей не забывает. Тут спросил воевода бородатый:
— А царя своего отчего забываешь? Не худо бы и к царскому столу свежинки добыть!
Удивился Холодай-Голодай:
— А почто царю на боку лежать? Пущай по-коровьи реветь научится, свежинка к нему сама придет. А как посидит ночь на ярище, дичина слаще покажется!
Тут самый грозный да молодой воевода, усмехнувшись, сказал:
— Ладно, попробует царь по-оленьи реветь, было бы у кого поучиться!
И тут же приказал коней седлать, на лосиную охоту собираться. Вот и повел подросток царя на охоту в леса нижегородские. Не доезжая до урочного места, коней со стражей оставили, а сами пешком через болото пошли до дикой сосновой гривы. Там Холодай-Голодай лосиное ярище разыскал, засидку на двоих сделал, царя рядом посадил и засветло стал учить его сохатых оленей подманивать, лосихой клохтать. Сдавит себе горло руками и охает дико: «Ох! Ох!» — как лосиха квохчет. Потом царю говорит:
— Ну, теперь ты, боярин, попробуй!
Начал царь Иван лосихой охать, да что-то плохо получалось. Сердился Холодай-Голодай:
— Эка голова скоморошья! Ты не по-гусиному охай, а по-лосиному!
И снова учил царя сохатых оленей подманивать. К ночи научился царь лосихой реветь не хуже, чем Голодай! Оба тихо сидели, урочного часа ждали. Вот и спрашивает тихонько подросток:
— Ты, боярин, хоть старый ли?
— На Иванов день двадцать два минуло.
— Вона как! А мне шестнадцать либо меньше чуть. Однолетки почти!
Когда стемнело совсем, месяц над лесом поднялся, а болото туманом окуталось, и грива сосновая островком в белом море казалась. Тихо сидели. Чуть ворохнется царь Иван, как Голодай его в бок толкал и кулаком грозился:
— Сиди, боярин, тихо, не вошкайся!
Так ждали они до полуночи, когда в разных сторонах стук да треск послышались, будто кто-то сучки ломал и по деревьям стучал. Тут Холодай-Голодай царя в бок легонько толкнул:
— Мани, боярин!
Начал царь всея Руси сохатой коровой охать-реветь. Ничего, хорошо, очень похоже получалось! Когда поохали попеременно то царь Иван, то Холодай-Голодай, вышел из тумана на гриву страшенный лосище с огромными рогами. Остановился на ярище, обнюхался, прислушался и начал копытами землю копать да бить. Загудела земля как живая, а глаза звериные при месяце разными огнями светились. И так разъярился сохатый, на смертный бой противника вызывая, что царю с непривычки жутко стало. Схватил он свою пищаль дареную аглицкую и напропалую выстрелил. Замер зверь, насторожился, глазами и слухом врага разыскивая. Тут паренек Голодай тугой лук натянул, зыкнула тетива, и задрожала стрела, пронзивши лосиное сердце. Задрожали ноги сохатого и, вздохнувши шумно, свалился он на белый мох.
Немедля, при свете месяца, начал охотник добычу свежевать, а царю сказал:
— Неча, боярин, без дела сидеть, доставай огниво, разводи костер!
Пошарил грозный царь Иван по карманам — нет огнива!
— Какой же ты вояка, без огнива на татар идешь! — попенял Голодай и живо костерок развел. Потом лосиную губу на кусочки разрезал, на прутики повтыкал и спросил:
— Нет ли сольцы, боярин?
Но и соли у царя в карманах не оказалось.
— Какой же ты охотник без соли?
Достал Голодай из сумы тряпочку, высыпал остатки соли на царское кушанье и начал обжаривать.
А тут и солнышко взошло, пригрело, и заснул царь Иван у костра на беломошнике. И приснился ему диковинный сон. Будто бы обложил он столицу Казанского царства своим немалым войском. Бьются воины русские головами о стены Казани, и колоколами гудят и звенят их шеломы. А татары со стен крепостных зубы скалят, насмехаются, гогочут и ржут по-лошадиному. Вдруг из тумана седого, что над берегами волжскими плыл облаком, показался сохатый олень, да такой большой, что вся Казань у него под брюхом оказалась. Как начал тот лось яростно копытами бить да рогами бодать, и полетели к небу камни крепости, дворцы и мечети, ханы и ханши, мурзы и воины! Проснулся царь Иван радостный, а когда поел жареной лосины с угольком да губы лосиной с вертела, почувствовал в себе силу и бодрость небывалую и сказал, что такой еды и по праздникам не едал. И в тот же день, вернувшись к шатрам, царь поставил Голодая старшим над царскими охотниками, приказал им во всем его слушаться, научиться сохатых и рогатых подманивать, чтобы мясом звериным яростным кормить воинов до самой Казани. Дело тут совсем ловко пошло. Войско вперед подвигалось, а охочие стрельцы под началом Голодая сохачей и оленей добывали. Скоро все воины, поевши вдоволь свежинки, силой и духом поправились и, придя под Казань, долго не мешкались, и в осенний день покрова за один раз приступом ее взяли. Вот так и оправдался сон грозного царя Ивана. Яростный нижегородский сохач рогами разметал, ногами растоптал вражью крепость дотла.
После победы над казанскими ханами, на обратном пути в Москву, царь Иван в Нижний Новгород заехал, а московские бояре туда же прибыли царя с победой встречать да славить. И начался в столице земли низовской великий пир. В начале пира спохватился царь, про Холодая-Голодая вспомнил и разыскать его приказал. А когда того сыскали да привели, рядом с собой за стол посадил. Не по губе это боярам да царским слугам пришлось. Охотник не ведал о том, что простому человеку рядом с сильными мира посидеть не на радость да счастье выходит.
На пиру мед-брагу ковшами пили да вина заморские, студнем-холодцом лосиным закусывали. А как отведали московские гости-бояре жареной лосиной губы, сказали, что за всю жизнь слаще ничего не пробовали. На том пиру заморские гости были, своими землями, городами и гербами похвалялись. Вспомнил тут царь Иван, что обширные земли низовские никаким гербом не отмечены. И задумался сурово, очи прикрывши. В глазах его как живой стоял зверь красоты дикой, невиданной, яростно рогами угрожал и ногой в землю бил. И тут же на пиру указал грозный царь, что быть Нижнему Новгороду и всей земле низовской под гербом сохача яростного, что помог ему казанскую твердыню взять. И вскоре появился на царских печатях и воротах Нижегородского кремля буйный сохатый олень, бьющий в землю копытом. Прибыв в Москву, царь с боярами еще пир на всю столицу задали. Но казалось царю Ивану, что не так хороши были яства на том пиру, как оленье мясо с угольков и прутиков у костра в нижегородских лесах. И гневался грозный царь на своих стольников и поваров.
А Холодай-Голодай опять по приволжским лесам ходил, стрелой да копьем пропитание добывал. Но, через год либо два после казанского похода налетела с востока вместе с ветрами-суховеями язва моровая на всяких копытных зверей и домашнюю животину. Стали олени сохатые и рогатые от той язвы валиться, а самые разумные на полночь за Волгу пошли. Но и там не все спаслись от гибели, совсем мало в живых осталось. И стало пусто в нижегородских лесах, не гонялись по гривам и болотам разъяренные сохачи и олени, только кости да рога валялись. Охотника Голодая эта беда тоже за Волгу прогнала. Трудно в те годы было людям Заволжья жить, после моровой язвы скота не осталось, а олени долго не распложались. Теперь уже не помнят люди, сколько лет эта беда тянулась. Только получилось так, что понадобились грозному царю Ивану на праздничный пир лосиная губа да студень-холодец олений, чтобы было чем хмельную медовую брагу заедать. Поехали царские охотники в Лосиный остров под Москвой, но и там после мора в лесу пусто было. Вспомнились тут царю леса нижегородские, и послал гонцов-стрельцов в Нижний Новгород за олениной и лосиной губой. Струхнули тут нижегородские знатные — и бояре, и воеводы, и торговые люди. И рады были царю угодить, да не знали как. Вот дознались они, что охотник Холодай-Голодай за Волгой на моховых буграх живет, где оленей всегда было полно, стрелой да копьем пропитание добывает, в зимнице спит, у костра обогревается. И послали к нему людей с наказом, чтобы добыл для царского стола лося сохатого да оленя рогатого. Походил, побродил Голодай по заволжским лесам, воротился к боярам и сказывает:
— Нетути за Волгой ни лося, ни оленя. Одна матка олениха с малыми оленятами ходит!
— Ну, ино матку бей! — приказали бояре. — К царскому столу еды надо!
Заупрямился тут Холодай-Голодай:
— Не трону матку, она одна осталась на всю сторону! И холуям вашим погубить не позволю, а коли нахрапом полезут, так стрелой проколю! Рассердились воеводы и бояре на упрямца, кнутом отхлестали и послали со стрельцами за Волгу оленины к царскому столу добывать. Но Холодай со своими дружками-охотниками, вместо того чтобы боярским людям помогать, на них же самострелов насторожили, ям накопали, чтобы до оленей не добрались. И вернулись боярские горькие охотники без добычи, зато калеками хромыми да одноглазыми. Насовсем тут разозлились бояре и слуги царские, поймали Голодая, в город приволокли и в темницу кремля затолкали.
После того не одно лето пришлось царю с боярами и опричниками пировать без дичинки-свежинки нижегородской, поэтому, наверное, и дела царские хуже пошли. Холодай-Голодай в застенке томился, всеми забытый, а благодаря ему олениха ушла с детками бродить по далеким краям, по хлыновским и удмуртским лесам, по Вятке да Каме рекам, нигде не останавливаясь. И все олени, и сохатые и рогатые, смекали своим догадливым звериным умом: «Видно, к привольным кормным местам старуха с дочками спешит либо зиму небывало суровую чует!» И, послушные непонятному зову, шли за оленихой на заход солнышка, к Волге широкой, к привольным моховым горам. И десятка лет не прошло, как в нижегородских лесах снова расплодилось племя оленей.
Не один год Холодай-Голодай в темнице пропадал, томился и остался бы там до смертного часа, да, видно, судьба надумала иначе. Под старость грозный царь Иван затосковал вдруг, от войны, пиров и молитвы его отворачивать начало, хотел отдохнуть духом и телом, но не находил покоя. Вот приснился как-то царю Ивану сон, что месячной ночью с отроком-охотником в лесу на гриве сидит, пищаль наготове держит, зверя поджидая. И в радостной тревоге билось сердце царское усталое, замирая сладостно. Когда же проснулся царь, поманило его не на пиры и безумные радости, не в церковь грехи замаливать, а позвало неудержимо в леса нижегородские зело веселой утехи в последний раз изведать. Приказал он своим прислужникам коней седлать и отправился по дороге Муромской в Нижний Новгород.
Там грозный царь Иван дознаваться стал у бояр и служивых людей о том, жив ли, проживает ли в нижегородской земле ничейный человек Холодай-Голодай, что в походе на Казань помогал охотой войско кормить. Перепугались хозяева города, немедля из застенка Голодая выпустили, помыли, накормили и чуть живого перед царские очи привели. Не вдруг они друг друга признали. Удивился царь:
— Видно, ты и вправду холодал да голодал, пока меня не видал?
— Ну и ты, надежа-царь, не добрым молодцем глядишь! Не сладко, знать, на Москве тебе живется! Так Голодай царю сказал, но жаловаться на пережитое не стал. Не откладывая надолго, царь с Голодаем за Волгу отправились, бояр да прислужников на берегу ждать оставили, а сами на моховые бугры да гривы пошли, где звери водились. Долго ходили, наконец выбрал Голодай одну гриву, на которую, по приметам, ночами сохатые яриться приходили, и тут засидку на двоих устроили. Засели и стали ночи ждать, а чтобы не скучать, тихий разговор повели. Спрашивает царя Голодай:
— Ты, надежа-царь, чай, старый стал?
— Скоро умру, — ответил грозный царь.
— Оно и пора, — согласился охотник. — Заживаться на белом свете — оно невыгодно. Как пораньше умрешь, кто-то да пожалеет, а до немощи дотянешь, так только рады все будут, что бог старика прибрал.
Усмехнулся горько-горько грозный царь Иван, припечалился и ничего в ответ не сказал.
В половине ночи, когда месяц круглый бугры и гривы осветил, начали они попеременно рогачей подманивать. Вот откликнулся один, на бугор вышел и стал яростно копытами в землю бить, рогами деревья бодать, глазами и слухом врага разыскивать. За первым зверем другой да третий вышли, копытами землю копали, врага на бой вызывали. И затрепыхалось, затукало по-новому измученное сердце царя Ивана, и казалось ему, что за всю жизнь он не знал, не испытывал такой тревожной радости.
До зимних заморозков охотился грозный царь в нижегородских лесах. Бояре на Москве уже радоваться начали, надеялись, что государь совсем сгинул. А он и прибыл вдруг, а следом за ним привезли на санях добычу царскую, бурых сохачей и оленей седых. Когда бояре, воеводы и гости заморские отведали у царя на пиру оленины жареной да студня лосиного, не знали, что больше хвалить, чтобы угодить царю, — лосину или оленину. А грозный царь Иван только одно вымолвил, что до конца жизни не забудет охоту в нижегородской земле на зверя столь красивого и храброго!
Тогда, на пиру, никто не понял, какую охоту царь хвалил, оленью или лосиную. Но чиновные люди, чтобы царю угодить, задумали переделать на скорую руку герб земли нижегородской: вместо сохатого, буйного да яростного, изобразить оленя рогатого, бьющего в землю копытом. Только ничего у них в тот раз не получилось, и зверь на царских печатях и на лося и на оленя стал смахивать. Наверное, потому, что те чиновники в заволжских лесах не бывали, в засидке с Голодаем не сиживали и ни оленя рогатого, ни лося сохатого живым не видывали.
После отъезда царя Ивана нижегородские бояре Голодая-Холодая в темницу больше не прятали. Поселился он в своей избе на Студеном посаде, по зимам за Волгой сохатых и рогатых оленей добывал и через нижегородских мясников в Москву на царский двор отправлял. И была у грозного царя на пирах дичина до самой его кончины. Помнил и согласен был царь Иван со словами охотника Голодая о том, что заживаться на белом свете невыгодно, и умер не очень старым. Но жалеть и плакать о нем было уже некому.
В годы лихолетья, когда задумали нижегородцы воровских ляхов из Москвы выкурить, стали они войско набирать, оружие и продовольствие запасать. А всю скотину вокруг ляхи да казаки разбойные загубили. Дикие звери сохатые и олени недалеко за Волгой табунами паслись, только взять их не просто было; лямку на рога не накинешь, на двор не приведешь. Зверя добыть — не дерево подрубить. Тут вспомнили старожилы, что на Студеном посаде старик Холодай-Голодай живет, тот самый, что, бывало, с царем на оленей хаживал. Разыскали старика и за Волгу охотой промышлять послали. Давали было ему охочих людей в помощники, но Голодай от них отказался:
— Старых дружков да лесовиков-охотников позову, а ваше дело добычу к месту прибирать!
До конца зимы Голодай с товарищами сохатых да оленей добывали. Нижегородцы для своего ополчения дичины впрок запасли и перед трудным походом ополченцев свежинкой кормили, чтобы все воины силы набрались. По весне, перед выходом ополчения из кремля, вернулся из-за Волги сам Холодай-Голодай, а с ним за полсотни охотников разных племен, с рогатинами, копьями да пищалями. Только что отгудели колокола, народ Михаилу-архангелу помолился, русского воинства покровителю, и все войско ополченное, готовое к походу, под хоругвями нижегородскими стояло.
Когда подвел старый Голодай свой отряд к воеводам, тот, которого народ запросто Минычем звал, спросил старика:
— Ну как, дед Голодай, сам свое войско на ляхов поведешь или под мое начало отдашь?
— Не будет худа, коли и сам пойду! — ответил старик. Потом глянул на хоругви ополчения нижегородского со крестом и оленем яростным и такое сказал:
— Нашему-то олешку да ярославского медвежка на помогу бы позвать!..
Сразу смекнули воеводы ополченские, на что старый Голодай намекает, посоветовались между собой и порешили не прямо на Москву идти, а через Ярославль, город под медведем. И не напрасно они так надумали. Ярославцы да костромичи изрядно помогли нижегородцам, ратной силы в ополчении прибавилось. Тогда и на вражьих ляхов двинулись.
Дело в конце лета было, когда все олени, и сохатые и рогатые, силы набрались и рога вырастили, без устали по лесам ходили, землю копали и ярились, врага на бой поджидая. Пока войско до Москвы добиралось, Холодай-Голодай со своей ватагой не плошали, попутно яростных оленей добывали и той свежинкой всех воинов кормили. С мяса лосиного да оленьего силы и храбрости у воинов вьявь прибавилось, и под Москвой с ляхами-захватчиками они скоро расправились.
А дикий олень на хоругвях и стягах войска нижегородского, гордый своей породой, в благородной ярости угрожал и копытом и рогами, радуясь победной битве над врагом-супостатом.
Сказ о городецком прянике
Само царствие небесное валится в рот…
АВВАКУМ ПЕТРОВВ каком-то году царю всея Руси Алексею Михайлову понадобилось церковные книги и обряды пересмотреть, чтобы у народов православной веры в церковных порядках разнобоя не было. Вот и взялись за это дело церковники под началом двух главных попов — Никона и Аввакума. Поначалу все попы заодно старались. Правда, часто они спорили, например о том, какой кашей ангелы в раю праведников кормят, на каких углях черти в аду грешников поджаривают — на сосновых или березовых, какой распорядок дня в раю и какой в аду. И много у них было других, не менее важных спорных вопросов. Пока спорили, Никон-поп не плошал, монастыри со всем добром к своим рукам прибирал, на божьем деле богател и все больше зазнавался. А чтобы царя Алексея на своей стороне держать, Никон всячески его задабривал. Скоро понял протопоп Аввакум, что надо не книги да порядки, но и самих церковников заново переделывать.
И начался между Аввакумом и Никоном великий и жестокий спор. «Надо не книги да обряды поправлять, а унять распутство да корысть бояр и церковников, чтобы не столь жестоко народ угнетали, людей бы в железы не ковали и в ямы не бросали». Так протопоп Аввакум говорил. И доспорились главные попы до того, что протопоп всю церковь православную разбойничьим вертепом обозвал, трехперстное крещение — кукишем, Никоново благословение — каракулей, а самого Никона — царским ярыжкой и блюдолизом. Никон же обругал Аввакума еретиком, бунтовщиком и слугой антихриста.
С того дня и стали они врагами на всю жизнь, до самой смерти.
А нижегородец Аввакум и вправду не столько попом был, сколько бунтовщиком и мятежником. Ему бы не в церкви протопопом служить, а у Степана Разина в помощниках. Тут Аввакум Петров оплошку дал, не додумался. Сам царь Алексей его побаивался, но был на стороне Никона, сделал того патриархом Руси и во всех церковных делах ему помогал. А протопопа Аввакума не любил за прямоту и строптивость.
Незадолго до того, как по велению царя в Сибирь угодить, довелось протопопу Аввакуму в царские палаты по святым делам зайти. В тот час царь Алексей с молодой царицей и царятами за трапезой сидели и сладкие пряники с начинкой ели. Самодержец в добром духе был и сказал Аввакуму: «Вот ты все на Никона наскакиваешь, еретиком и всяко бранишь. А попробуй — каких пряников он к нашему столу из Вязьмы привозит!» И с теми словами царь один пряник протопопу подал. Впору сказать, что вяземские хлебопеки тогда по пряничной части большие мастаки были, пряники пекли отличные. Откусил Аввакум от пряника уголок, пожевал-пожевал да и сказал сердито: «Ремень!» Удивился царь, спрашивает: «Что такое ты молвил?» — «Говорю — ремень, сыромятина! Таким пряником только зубы да брюхо портить. Попробовал бы ты, царь-государь, пряники, какие одна баба-просвирня в Заволжье, бывало, пекла, — не захотел бы эту глину вяземскую в рот брать!» Когда ушел Аввакум из царских палат, царица с царятами просить стали царя, чтобы послал он этого сердитого попа к заволжской просвирне за пряниками. Но царь шибко расстроен был и о пряниках говорить и слушать не стал. А протопоп Аввакум, домой идучи, таково думал: «Хитрец Никон простачка царя пряниками задабривает. Хоть пряником, но дойму, досягу пса Никона!»
Пономарь Ерофеич, Заноза по прозвищу, с протопопом Аввакумом издавна друзьями были. Из Юрьевца их в одно лето выгнали: протопопа за нетерпимость к слабостям боярским, а пономаря за питие хмельного, за песни окаянные да безбожные. Когда Аввакум на Москве протопопить стал, своего дружка Ерофеича в беде не забыл и в одну церковь звонарем посадил, а пономариху просвирней в той же церкви поставил. Теперь Ерофеич в церковной избушке жил, когда надо — в колокола лихо названивал, а его старуха, Ерофеиха, просвиры для богомольцев пекла. Да жила с ними приемная дочка Дарья — ее все Данькой звали, — сирота девчоночка из дальней лесной деревни.
Печка в избушке была такая большая да такая жаркая и умелая, что часом по сотне просвир-колобушек выпекала. Пономарь-звонарь свои гроши с дружками пропивал да прогуливал, зато и было у него в Городце сто друзей. А сто друзей бывают дороже ста рублей. Чтобы как-то прокормиться, старуха Ерофеиха к базарным дням корзину пряников выпекала и с Данькой на базар отсылала. Пряники были хороши, да и торговка им под стать, девчонка бедовая, с песнями пряниками торговала: «Ой, пряники медовые, мягкие, фунтовые! То и малым ребятишкам, то и старым старикам! Сами печем, отдаем нипочем — с пылу, с жару, алтын за пару!» Как споет Данька свою песенку, кому надо улыбнется да глазком подмигнет — часом расхватывались пряники!
Как-то нежданно-негаданно к Городецкому звонарю знатный гость — протопоп Аввакум нагрянул. И не знали Ерофеичевы, где гостя посадить, чем напоить, накормить. Звонарь на радостях зеленый шкалик осушил, а Ерофеиха подала на стол блюдо расписное деревянное с приглядными да пригожими пряниками. Отведал Аввакум пряников и как-то непонятно похвалил: «Хорош Федот, да лицом не тот!» После того они со звонарем долго в задней горенке сидели и тихо-тихо беседовали. Потом протопопа с дороги спать повалило, а звонарь по Городцу пошел знакомых мастеров-умельцев разыскивать. Сначала попался ему Лука Гром, кузнец и жестянщик, умелец по жести, по меди, по олову и лужению. Как возьмет Лука, к примеру, меди кусок да постучит по нему молотком часок, и получался котелок либо другая какая посудина. Оловянной лудой посудину изнутри протрет — тогда в ней хоть печево пеки, хоть варево вари: не позеленеет, не заржавеет. А противни из жести для просвир и хлебов-ситников такие выстукивал, что без подмазки любое тесто пеки — не пригорит, не присохнет.
Поговоривши о деле, Ерофеич с Лукой пошли к Фоке Каленому, известному резчику по дубу и рисовальщику. Рисовать да вырезать по дереву Фока большой мастак был, а прялки для баб такие мастерил, что как жар-птицы разными огнями да цветами полыхали и прясть на них было сплошное удовольствие. Сядет баба-пряха за такую прялку, и как приворожит ее к делу, век бы сидела и лен пряла. Разыскавши Фоку в знакомой харчевне, звонарь с жестянщиком к нему подсели и тихий разговор повели. Ерофеич Аввакумовы грамотки достал и мастерам показал. После того как дело со всех сторон обсудили, по рукам друг другу хлопнули, хмельного выпили и без лишних слов по домам разошлись.
Ровно через сутки, вечерком, в избушку звонаря заявились Лука Гром да Фока Каленый и диковинные противни и пряничные доски принесли. На противнях для каждого пряника свое место-гнездышко, на печатных досках картинки с узорами. Подмигнувши Даньке, молодые мастера восвояси отправились. Аввакум и Ерофеич спать полегли, а звонариха с Данькой печь затопили и стали тесто для пряников припасать. Сначала старуха перед иконами свечку зажгла, потом из сеней муку внесла, достала коробочки с приправами, бочонок с медом из-под лавки выдвинула и принялась тесто разводить да месить, напевая тихонько свою песню-раздумье:
Ярый мед, хожалый мед, Дар лесов и дар полей, С добрым хлебом яровым Воедино силы слей!..К середине песни тесто поспело, и Ерофеиха молча и ловко его по гнездам противня разложила и печатными крышками прикрыла. Потом угли в печи к сторонке подгребла, печной под помелом подмела и водой ключевой спрыснула. После того противни с пряниками в печь посовала, чело печное тяжелым заслоном заслонила и села на скамейку свою песню-раздумье допевать. А усталая Данька в углу на кутнике свернулась и под стряпухину песню заснула. Утром протопоп Аввакум на мастерство Ерофеихи удивился. На лавочках и залавочках лежали-нежились теплые пряники, как загорелые кирпичики, бронзой отливали, и все картинки и слова на них отпечатались такие четкие да ясные, что слепые могли разобрать. Оглядел Аввакум пряники с двух сторон, на вкус попробовал и молвил, ухмыляясь в бороду: «Что лицо, что нутро — пряники истинно царские!» Это были самые первые городецкие пряники и по виду и по вкусу. Тут звонариха большую городецкую корзину внесла, льняную городецкую скатерть-самобранку в нее раскинула и все пряники ловко уложила и завернула. И помчался протопоп на ямских лошадях в столицу, царя с царскими чадами и домочадцами расписными городецкими пряниками угощать.
А звонарю с просвирней наказал таких пряников больше печь и ему на Москву посылать.
Как-то сумел Аввакум корзину с пряниками к царскому столу доставить. На том праздничном пиру у царя, кроме родни, все знатные князья, бояре и попы с Никоном сидели. После щей, каши да осетрины на стол блюдо с городецкими пряниками подали. Тут царь и гости на них навалились и не вдруг разглядели, что на них нарисовано и написано, а кто и разглядел да смолчал: говорить некогда было. Как ни хороши были пряники, всей корзины гости не осилили, сколько-то пряников осталось. После сытной трапезы царь с царицей и все гости спать завалились, а царские сыновья Петька с Ванькой остатки пряников делить начали, чтобы из них, как из кирпичиков, на полу крепости строить. Пряники поровну никак не делились, и стали озорники громко спорить. Проснулся царь от шума и слышит, как сынки перекоряются: «Дай мне одного черта Никона!» — «А ты дашь мне царя в котле?» — «Давай поменяем кукиш на каракулю!»
Встал царь с постели, к сыновьям пришел: «Что вы тут раскричались, матушке-царице спать не даете?» — «Да вот, батюшка, пряники пополам никак не поделим. С рогатым Никоном пять штук, а с царем в котле — три. Кукишей да каракулей тоже нечет!»
Забрал царь у сынков пряники, стал у окна разглядывать. Батюшки светы, что он увидел! Каждый пряник с разных сторон был расписан да разрисован. Вот патриарх Никон с хвостом и рогами. И слова для ясности: «Собака Никон бедных грызет!» Вот сам царь в аду сидит, в котле кипит. И подпись внизу: «Царю Алексею в аду сидеть, в котле кипеть!» Вот кукиш на прянике и слова для понятности: «Не крестись кукишем!» И на каждом прянике разные картинки непотребные и слова безбожные, богохульные. Больше всего разгневался царь на пряники с изображением самого себя. В короне и с державой в руке он сидел в котле под охраной двух рогатых чертей. В тот же день собрал царь всех попов, и стали они судить да рядить, что с еретиком и богохульником Аввакумом делать. Вызвали протопопа и стали его всячески стращать. Но на все их пугания Аввакум отвечал, что придет время, когда не в аду, а наяву бедный будет из богатого сок выжимать, достанется тогда и князьям и боярам, а паче всех отступнику Никону. Тут царь и все церковники еще пуще разошлись, повелели схватить Аввакума и в далекую Сибирь угнать.
А среди простого народа молва пошла, что Аввакум царя с Никоном пряниками с «кукишем» накормил, за это и в Сибирь отправлен. Мятежный протопоп в далекой ссылке от голода и холода погибал, а пряничное дело в Городце не затухало. Звонариха без устали пряники пекла и приемыша Даньку своему искусству научила. А умельцы Лука Гром да Фока Каленый новые гнезда-формочки и печатные пряничные доски готовили. Пряники городецкие стали еще вкуснее, рисунки на них задиристее и злее, а слова такие, что царь, бояре и попы сна лишились. Любо было людям на картинки поглядеть, как черти бояр поджаривают, узнать, что попов клеймят грабителями и распутниками. Потому и раскупались пряники нарасхват, не столько для еды, сколько для души. Посоветовался царь с попами да боярами и распорядился торговлю зловредными пряниками запретить, а народу не дозволять их покупать и есть. Стали царские шиши да ярыжки по базарам шнырять, у людей из рук крамольные пряники отнимать, народ в застенки сажать и батожьем бить. Но проще было запретить людям воздухом дышать, чем те городецкие пряники покупать. Как узнали люди, что их любимый пряник под опалой, стали без удержу его покупать, а неизвестно кто и где не уставал его выпекать. Народ все больше волновался и бунтовал. Поневоле пришлось царю попа Никона из патриархов прогнать, а непокорного Аввакума из Сибири вернуть, чтобы простой народ утешить.
Только не на радость себе царь и церковники Аввакума вернули. С возвращением протопопа совсем запустели церкви в столице, потому что народу была желанна и мила не вера, а воля. На церковном соборе Аввакум паки возмущал народ, церковь православную опять бранил вертепом разбойничьим, а попов прощелыгами и распутниками. За такое буйство Аввакума в цепи заковали, к студеному морю увезли и в бревенчатую клетку-тюрьму на погибель бросили.
А на городецких пряниках появились новые злые картинки и слова против царя, бояр и попов. Царь опять боярскую думу собрал. И решили не ловить тех людей, кто пряники покупает да ест, а разыскать лиходеев, что те зловредные пряники пекут. Поначалу все царские шиши и ярыги по столице рыскали, вынюхивали, откуда пряники привозят. Потом самый хитрый, Старый Ярыга, с десятком шишей да ярыжек за Волгу в Городец поехал, чтобы доподлинно разузнать, кто пряниками народ мутит и будоражит. Городецкий звонарь Ерофеич все в той же избушке у церковушки жил, когда надо, в колокола звонил. Ерофеиха неустанно пряники пекла, а Данька ей в том деле помогала — и на базаре торговала, и через надежных дружков в столицу отправляла. Пряничное дело бойко пошло. Мать-звонариха купила Даньке за раденье новый сарафан цветной, да платок огневой, да коты-башмаки с подковами. Городецкие умельцы Фока и Лука не забывали вечерами в избушку звонаря заглянуть, Даньке подмигнуть и лишние пряники для отправки забрать.
Вот как-то перед весенним праздником Ерофеиха с Данькой много пряников напекли. Три корзины для отправки в столицу сдали, а с остатками Данька на свой базар вышла. Как раз в тот день по Городцу царские шиши да ярыги рыскали, узнавали, кто печет запретные пряники. Вот видят они, что люди откуда-то пряники несут, не столь едят, сколь на них глядят да царя с боярами ругают. Вдруг песенку в калашном ряду услыхали:
Ой, пряники медовые, Мягкие, фунтовые, Не жуй, не глотай, Только брови поднимай! Ой, для малых ребятишек, Для девчонок и парнишек, Шалунам, озорникам И беззубым старикам! Сами печем, отдаем нипочем — С пылу, с жару, алтын за пару!Окружили царские ярыги прянишницу, схватили и в приказ на допрос поволокли. Как нарочно, им навстречу Лука да Фока подвернулись, на харчевню ярыгам кивнули и шепнули, что в том доме уха из стерлядей и осетрина заливная хороши и дешевы, а сусло-брагу и совсем задаром можно пить. Ярыжки и шиши все голодные были, в харчевню ввалились Даньку в угол посадили и столом задвинули. И, пока им еду да питье припасали, стали у девки допытываться, кто в Городце незаконные пряники печет. Не испугалась Данька и смело Старому Ярыге такое выпалила: «Да, чай, сама не маленькая. Чай, сама пекла!» Но хитрый старик не унимался: «А где та изба да печка, что на всю Русь озорные непотребные пряники печет?» Данька и тут не сробела и так Ярыге ответила: «На родине моей родной матушки, в родном селе, за синим лесом, под синим небом, у чиста поля, у Синя камня. Утром выйдешь, к ночи добредешь!»
Пока прянишница ярыгам зубы заговаривала, Лука да Фока с хозяйкой харчевни словом перекинулись, с хозяином перешепнулись. Потом к ярыгам подсели и сказали, что эта девка с пряниками и вправду откуда-то из-за леса появляется. Тут царским людям на стол уху подали, и осетрину, и вино зеленое, и брагу-сусло ядреную. Когда все наелись да напились, Старый Ярыга приказал лошадей в повозки запрягать, чтобы всем скакать туда, где девка пряники печет. А Лука Гром да Фока Каленый глиняную бутыль в прутяной корзине из харчевни вынесли и в повозку Старому Ярыге поставили, на тот случай, если в дороге жажда доймет.
И поскакали царские люди за синий лес, туда, где, по слухам, пряничное заведение было. Даньку на переднюю повозку рядом со Старым Ярыгой посадили, чтобы дорогу показывала. На сороковой версте лесной дороги захмелевшим ярыжкам из глиняной посудины испить захотелось, быстро ее опорожнили и, проехавши деревню да поле, в еловый лес уперлись. Среди седых елей большой Синий камень лежал, а вокруг далеко мелкие камни россыпью поразбросаны. Тут Данька-прянишница из повозки выпрыгнула, подвела ярыжек к тому Синему камню величиной с баню и такое молвила: «Вот здесь из песочка да глины пряники мешу, в солнышке на камне пеку, а те, что неудачами получаются, кругом по лесу да по полю раскидываю». И на камни-голыши рукой показывает. Нахмурился Старый Ярыга и грозно сказал: «Ты, девка, нам головы не морочь, а указывай заведение, в коем пряники пекут. А ино как заголим сарафан, да растянем на камне, да почнем лозой парить!..»
Данька в ответ на Синий камень скакнула, башмаком притопнула и прикрикнула: «Да вот тут! Вот здесь, на этом камне, пряники пеку!» И начала она на том камне плясать да припевать. Так заплясала, закружилась, что сарафан на ней колоколом стал, от ее круженья у царевых холуев в глазах зарябило и в голове помутилось. Старому Ярыге подумалось: «Что-то неладное со мной деется… Выпил лишнего а ли девка эта пляской своей околдовывает?»
Хотел приказать Ярыга, чтобы Даньку схватили и связали, да не успел, от круженья в голове на четвереньки упал, и язык отнялся. Каждый раз, как Данька башмаком притопывала, из-под каблука искры летели, а камень в землю оседал. Все ниже и ниже прятался камень, а искры не переставали сыпаться. Ярыги и шиши от того все больше жмурились, в глазах у них земля вдруг к небу пошла, и все они один за другим у Синего камня на луговину повалились. А Данька еще раз, последний, притопнула, приухнула и, видя, что ярыжки валяются как убитые, быстро разулась, башмаки в руки взяла, сарафан подобрала да и побежала в родной Городец.
Царские холуи, провалявшись полдня, чуть очухались, к ручью напиться приползли да тут опять досыпать свалились. Рано поутру их местные жители нашли, разбудили, спросили: «Откуда вы?» А у ярыжек в головах все перемешалось, потому отвечали они что-то несуразное: «Из-за синя леса, от Чиста поля, от Синя камня!» Переглянулись люди, лошадей с повозками в лесу разыскали, упряжь поправили, помогли царевым слугам в телеги забраться и обратную дорогу показали. Когда ярыги в приказ вернулись, родня, сватья да кумовья, их виду удивились: «Где вы были, бедные?» А ярыжки отвечали как одурелые: «За синим лесом, под синим небом, у Чиста поля, у Синя камня!»
А на базарах Руси опять появились свежие да пригожие печатные пряники. И не было для народа заманчивее лакомства. По велению царя и святых отцов-церковников сожгли вместе с тюрьмой бесстрашного и грозного узника Аввакума. Его прах вместе с пеплом по мерзлой тундре ветер развеял, а «грамотки аввакумовы» да расписные пряники городецкие продолжали нести в народ мятеж и крамолу.
Одна изба в Городце по утрам и вечерам трубой дымила, русская печь с широким челом жаром дышала, а перед ней молодая прянишница Данька хлопотала. А старая мать-звонариха в сторонке сидела, глядела и радовалась. И тихо напевала свою песню-раздумье:
Ярый мед, хожалый мед, Дар лесов и дар полей, С Добрым хлебом яровым Воедино силы слей! Чтобы пряник городецкий, Расписной да озорной, Гоголем ходил в народе, Как Бова-силач герой! Чтобы пряник, наш сударик, Расходился по рукам, На потеху добрым людям И на славу землякам!Потом и другие умелые люди переняли и перехватили пряничное дело. Еще сильнее запахло над Заволжьем и всей Русью городецкими мятежными пряниками. Синий камень, на котором Данька-прянишница плясала, царских ярыжек обморочивая, и сейчас прячется в заволжских лесах у села Чистого Поля. Как втоптала его плясунья, так и лежит, только макушка из земли видна. Ручей, что мимо Синего камня бежит, люди исстари речкой Пьяной зовут. А вокруг Синего камня, по полям и перелескам, «Данькины неудачи» — мелкие голыши пораскиданы. В старину на чистопольщине их «городецкими пряниками» звали и, чтобы пахать не мешали, на меже в кучки собирали.
Сказание о Керженце
Это было в пору, когда на заброшенных славянских идолищах истлевали осиротевшие деревянные боги-истуканы, а на смену им уже появлялись убогие церковушки на смолистых столбах с дубовым крестом на островерхом шатре. Суровый воин Чингис еще не успел проскакать по Руси на своем страшном коне, сотрясая землю от края до края. Северные племена славян пахали и сеяли, охотились и рыбачили по соседству с племенами мордвы и черемис. Тогда-то и родились такие русские приметы-пословицы: «С мордвой водиться грех, зато лучше всех!», «У черемис только онучки черные, а совесть белая!» Люди разных племен жили по-разному, имели разные обычаи и молились разным богам, но старались жить мирно, пока их князьков не одолевала корысть и зависть.
1
Жили между Волгой и Ветлугой труженики-хлеборобы. Охота, рыболовство да пчелки дикие от их рук тоже не отбивались. Сами пахали и сеяли, лен да жито выращивали, сами одежку и обувку мастерили. Старый скряга Ширман тем племенем управлял и всему головой был. Слово его было законом неписаным: как Ширман скажет, так оно и будет. И это не потому, что он был умнее всех, а своим богатством да упрямством осиливал.
А у охотника Черкана все богатство по лесу гуляло. Что луком да копьем в лесу добывал, тем и семью свою кормил, одевал. Жена охотницкая Кокшага да три дочки по дому хозяйничали — горох да кисель варили, лен пряли, холстину и онучи ткали да еще успевали богатею Ширману помогать. Потом маленький Чур в семье вдруг появился. По такому случаю да по обычаю надо было всех соседей за праздничным столом дичиной лесной досыта накормить. Вот и пошел Черкан в лес за добычей, но повстречал на тот раз медведя себе и рогатине не по силам. Затрещала рукоять копья-рогатины под медвежьими лапами — и погиб тут охотник заодно со зверем.
Вдова Кокшага сама медведя свежевала и на поминках по мужу всех соседей тушеной медвежатиной накормила. Челюсти медвежьи в печи распарила, клыки из них повыдергала, до блеска очистила и в потайное место спрятала, а шкуру медвежью выдубила, выскребла и мехом кверху на полу разостлала, чтобы малютке Чуру не холодно было зимой по полу на четвереньках ползать.
Но, на удивление всем, маленький Чур до наступления зимы научился через порог избы переползать и по задворкам ползать. Заберется в крапиву, в бурьян, исколется весь до красноты, а не плачет, только почесывается. Мать Кокшага и дивилась, и бранилась, и шлепками сына угощала, но дочкам наказывала: — Глядите за братцем, берегите, он один мужик растет на всю нашу семью. Без мужика в доме жить худо!
Пяти лет Чур с большими парнишками в лосиные косточки-бабки играл. Как нацелится костяной битой да ударит по кону, так и разлетятся из-под биты все бабки, на удивление взрослым: «Ну и рука у парня! Ну и глаз!»
Пока сын подрастал, вдова Кокшага сама охотой промышляла, но не всегда удачно, поэтому бывали для семьи голодные дни. Тогда Чур уходил в соседний бор на ягодники, а за ним трусцой бежал черный как уголь щенок, тоже голодный. Два малыша уходили в лес с каждым разом все дальше, к нехоженым местам. Большие тяжелые птицы с белыми носами и красными бровями с шумом взлетали с брусничников и рассаживались на деревьях. Чур уже знал, что взрослые охотники добывают этих птиц стрелой из лука, особенно в пору, когда они так глупеют и глохнут от весенней радости, что можно любого достать и заколоть копьем. А самые хитрые сородичи, такие, как скряга Ширман, настораживают особые ловушки: из тяжелых плах, которые придавливают птицу к земле. Только он, маленький Чур, пока не знал, как добыть такую большую, но осторожную птицу. И малыш и молодой песик подолгу глядели на дичь, совсем забывая о голоде. Вдвоем они ходили по сосновым гривам и брусничникам, щенок принюхивался к птичьим следам-набродам, а мальчик с любопытством разглядывал места, где кормились эти птицы, клевали мелкие камешки и купались в пыльных ямках. И вот однажды, вернувшись из леса, Чур попросил сестер отрезать из своих кос по самой длинной пряди волос. Дивно это показалось дочкам Кокшаги, стали допытываться:
— Скажи, Чур, что ты задумал?
Но брат не выдавал своей придумки и настойчива просил у сестер по пряди волос. Помогла мать Кокшага:
— Порадуйте братца, он что-то доброе задумал! Когда сестры отрезали по пряди самых длинных волос, Чур сразу принялся за дело. За один вечер он свил дюжину тонких волосяных шнурков, а с утра ушел в лес и пропадал там целый день. А через три дня поутру сбегал в сосновый бор и принес двух темных птиц с белыми клювами и красными бровями, да таких тяжелых, что горбился под тяжестью ноши. Это было очень вовремя, семья голодала, потому что мать Кокшага давно ничего не добывала, работая на поле у скряги, который не спешил с ней расплатиться своим хлебом. Ободренный удачной охотой, Чур догадался свить еще дюжину шнурков, но уже из конского волоса, и снова на целый день ушел в лес.
И так через каждые два-три дня приносил больших краснобровых птиц. А мать радовалась, что растет добычливый сын.
Слава об удачливости маленького Чура разнеслась по всему племени. Старые охотники усомнились, не из их ли западней Кокшагин парнишка достает дичь. А мальчик все бродил по своим потайным урочищам и каждый раз возвращался с добычей. И вот как-то под вечер в избу Кокшаги пришел старый Ширман. Пытливо разглядывая мальчика, спросил, как это он ухитряется ловить столько осторожной дичи, что приносит ее из леса целыми ношами? Чур был мал, но у него хватило ума ответить, как ответил бы взрослый:
— Да, мы теперь не голодаем. Походите за мной, поглядите, сами увидите!
Недоверчивые старики охотники уже следили за Чуром, чаще обычного проверяя свои западни, но их ловушки никто другой не тревожил. Свои же силки-петли на дичь мальчик настораживал так неприметно, что их трудно было увидеть. Завистливый Ширман дольше других старался разгадать искусство удачливого птицелова. Часто по вечерам он бродил по лесу, пытливо приглядываясь ко всему на своем пути. Один раз он запоздал, а сумерки были пасмурные и ветреные. Старику стало жутко одному в темном лесу, вот он и подумал: «Все злые духи к ночи проснулись и сердятся, надо поспешать домой!» Ширман уже выбирался на знакомую тропинку, как вдруг его больно, до искорок в глазах ударило по переносице, дернуло за ногу, и он упал. Не один раз старик вскакивал, пытался бежать, но его дергало за ногу, и он опять падал. Наконец Ширман как-то вырвался и что было силы побежал к дому. Не добегая до селения, он стал кричать и звать на помощь, а у своего дома упал и принялся стонать и охать. Долго он так притворялся и дурачился, и только когда собрались все соседи, рассказал, как в лесной чаще на него напал злой ночной дух, ударил по переносью дубинкой, схватил за ногу и пытался утащить на дерево. И не будь он, Ширман, таким хитрым и ловким, не вырваться бы ему от коварного лесного врага! Старик совсем расхвастался, и многие ему верили. Чур тоже был тут. Он разглядел на ноге старого враля обрывок волосяной петли и смекнул, что тот невзначай наступил на сторожок силка, деревце выпрямилось и ударило его по носу, а петлей захлестнуло ногу. После того как Ширман, притворно охая, уплелся в избу, люди тоже пошли по домам, рассуждая о том, что лесные духи знают, кого надо подогом стукнуть и за ноги подергать. И что не надо было этому скряге завидовать сиротской семье.
С того дня старые охотники перестали дознаваться, как Кокшагин малыш добывает дичь. А маленький Чур как умел помогал матери в охотничьем промысле, и это было очень кстати, потому что Кокшага часто недомогала от старости. Так прошло сколько-то лет, и вот, когда Чуру минуло тринадцать годков и ему под силу стало носить отцовский лук и копье, Кокшага повесила ему на шею медвежий клык на шнурке для удачи и счастья и отпустила на промысел.
Была глубокая осень, звери и птицы уже оделись по-зимнему и стали осторожными, поэтому Чур отправился на далекую Дикую реку, в крепи багряных дубняков и сонных хвойных боров — в край непуганых диких животных. Много дней охотился Чур на той Дикой реке, ночуя у костра под крутыми берегами. Раньше, на охоте вокруг дома, он пользовался легким самодельным луком, поэтому отцовское оружие ему казалось поначалу тяжелым. Чтобы пустить стрелу, он опирался концом лука в землю и стрелял с колена, а колоть копьем смогал только обеими руками. Но скоро он привык, и потом, когда вернулся домой, его маленький лук показался игрушкой. Умение делать луки и самоловы и здесь, на Дикой реке, пригодилось Чуру. В первые же дни охоты он насторожил на звериных тропах лучки-самострелы и западни-самоловы с приманками, а сам бродил по окрестным лесам, выслеживая и стреляя зверьков, которых находил и облаивал верный Уголек, теперь уже взрослый пес, но по-прежнему черный как уголь. Дикая река с каждым днем становилась для Чура роднее, место ночлега у костра в глинистом крутояре стало обжитым домом, а лесные урочища, речные берега и песчаные отмели радовали тишиной и безлюдьем. Ни голоса, ни следа человеческого. Он засыпал под ночной шепот леса и тихий ропот речной струи, а просыпался от утреннего мороза, звона первых льдинок, от гомона запоздавших перелетных птиц. Питался Чур свежей дичиной, поджаренной на костре, и только изредка доставал из мешка хлебный сухарь либо колобок. Умный и верный Уголек надежно помогал ему в охоте, а по ночам чутко дремал у костра, изредка поднимая голову и глухо рыча в сторону подозрительных шорохов, чтобы хозяин не чувствовал себя одиноким.
Чур вернулся домой уже по снегу, изголодавшийся по хлебу, усталый, но здоровый и сильный, с полным мешком дорогих звериных шкурок. Мать Кокшага встретила его с удивлением и радостью:
— Вот как помог тебе медвежий клык! Видно, не напрасно я над ним пошептала!
Она сняла с плеч сына мешок и вытряхнула добычу на пол, чтобы полюбоваться. Вслед за мехами из мешка выпал плоский треугольный камень величиной с гусиную лапу, с дыркой в одном округлом уголке. Чур поднял его, подал матери:
— Посмотри, мать, какую диковинку нашел я на песках Дикой реки!
Пока сестры любовались куньими и собольими шкурками, мать Кокшага внимательно разглядывала камень. Это был кремниевый скребок, орудие ее пращуров. Долго и упорно, до изнурения и пота трудился человек, чтобы из камня сделать острый и удобный для работы скребок. Не одну ночь при неровном свете костра он склонялся над работой, тер камень о камень, шлифовал его до блеска о жесткую звериную шкуру, протирал концами своих длинных волос.
— На этом камне есть рисунки! — воскликнула Кокшага. — Вот лисица с пышным хвостом, а здесь, на другой стороне, женщина с длинными волосами. Наверное, это хозяйка скребка. Она выскабливала им шкуры зверей, снимала бересту для кровли, разрезала мясо, потрошила дичь и рыбу. Вот ведь как ловко, камень так и липнет к руке!
При этом мать Кокшага очень живо показывала, как умело действовала скребком та неведомая хозяйка кремня. Потом она отвернулась в самый темный угол хижины, пошептала над скребком, поплевала и подула в разные стороны и подвесила его на шею сына, рядом с медвежьим клыком.
— Носи этот камень с изображением лисицы и женщины. Думается мне, что эта женщина — хозяйка всей Дикой реки и всех диковинных камней, что там есть. Она принесет тебе удачу и в охоте, и во всяком другом деле!
В тот же вечер Кокшага отнесла все добытые сыном меха богатею Ширману, чтобы расплатиться с ним за старые долги. Хитрый старик сразу подобрел и посулил и впредь давать хлеба под будущую добычу. Кокшага чуть осмелела, похвалила Ширманову дочку Рутку и намекнула, что с радостью пустила бы такую расторопную красотку в свой дом, когда ее дочки выпорхнут из родного гнезда и оставят ее одну с сыном. На это ничего не сказал ни сам Ширман, ни его старуха. Тогда Кокшага откланялась и ушла.
Пока мать отлучалась, Чур отдыхал у горячего очага. Слова матери о хозяйке Дикой реки не уходили из его головы. Он снял с шеи шнурок с медвежьим клыком и скребком и долго разглядывал рисунки, высеченные на камне. Ему даже казалось, что на скребке остались следы пальцев хозяйки, а на ее шее изображено ожерелье. Контуры лисицы были неясны, но головка ее выглядела как живая.
Наконец, когда женщина начала улыбаться и таять, а лисица заметать хвостом свои следы, Чур крепко заснул со скребком в руке. И опять видел хозяйку Дикой реки. Она шла по колени в воде вверх по реке, одетая только в юбочку из звериной шкуры, а ее длинные волосы прядями лежали на загорелых плечах. Женщина шла быстро, пересекая реку на перекатах, изредка оглядывалась и манила Чура за собой. Длинные тени деревьев падали на воду, в реке дрожало солнце, а крутые берега краснели рябиной и первыми багряными листьями.
Утром Чур рассказал матери о том, что видел во сне.
— Разве не говорила я, что она принесет тебе счастье? Но не торопись, Чур, впереди зима. Ты говоришь, что видел ее идущей вверх по реке, а по берегам краснела рябина? Значит, надо идти в конце будущего лета. А рыбу в реке ты видел? Это хорошо, что не видел: рыба во сне — к худому!
Этой зимой Чур охотился по ближним лесным урочищам и речкам. Бродил за Угольком по куньим следам, обухом топора стучал по дуплистым деревьям и, когда потревоженный зверек, покидая теплое гайно, замирал на самое короткое время на ветке, чтобы оценить опасность, Чур успевал его сбить меткой стрелой. В конце зимы ходил по сугробам на лыжах за сохатыми, ночуя там, где застанет ночь, и наконец закалывал утомленного зверя копьем под неистовый лай собаки. И с каждым днем охоты Чур наливался удалью и силой, ловкость его родила удачу за удачей к тихой радости Кокшаги:
— Это она, хозяйка Дикой реки, и ее скребок помогают тебе в добыче, посылают удачу и счастье.
И как хорошо, что я догадалась повесить тебе на шею медвежий клык для отворота злых духов и всяких напастей!
Сыну очень хотелось сказать, что носить на шнуре у голой груди каменный скребок и медвежий зуб не очень-то приятно. В мороз от них холодно, а на охоте, когда надо бесшумно подходить к зверю, приходится придерживать амулет рукой, чтобы кремень и клык не стучали друг о друга. Но он промолчал, чтобы не огорчать Кокшагу.
Вот так и прожила осиротевшая семья зверобоя Черкана до той весны, когда Чуру перевалило за четырнадцать лет, а сестры повыросли и на них уже начали заглядываться парни. Но Рутка, дочь Ширмана, была самой миловидной и смелой девушкой в племени. И не зря вдова Кокшага таила думку о ней: «Вот как поразбегутся дочки в разные стороны, научу Чура, чтобы Ширманову дочку в хозяйки и помощницы позвал. А мне, старой вороне, и на покой пора!»
2
В середине лета, когда поспела в лесу всякая ягода, а пчелиные соты наполнились медом, началась у медведей бродячая пора, шальная и драчливая. Одна буйная медведица повадилась в селение ходить, страх на людей наводить. Старых и малых по избам загоняла и, ловко от собак обороняясь, по селению хозяйкой бродила. И не успевали люди за топоры да рогатины взяться, как она в лесу пропадала. Всем понятно стало, что дело худо кончится, примется озорной зверь за людей да за скотину.
Первой в лапы медведицы попала корова богатея Ширмана.
Разгневался старик, не столько на зверя, сколь на незадачливых следопытов:
— Видно, не стало в нашем племени смелых охотников, чтобы встретиться с медведицей! Теперь она, крови отведавши, за людей примется!
И принялась бы, но не успела. Пока Чур оттачивал отцовское копье-рогатину, Кокшага кожаный мешочек сшила, скребок да медвежий клык в него положила и опять на грудь сына повесила, бормоча слова непонятные против злых духов и оборотней. Потом в раздумье посидела, пригорюнившись. «Сын молод и неопытен, хватит ли силенки, чтобы сразить копьем медведицу?» Пошла в сени, достала из угла железину, на пятиконечный якорек похожую, очистила ее от ржавчины и сыну подала.
— Это придумка моего отца, твоего дедушки. С этой распоркой он на любого медведя смело ходил.
Только надо уметь зверя на дыбы поднять и втолкнуть ему в пасть эту железину. Как схватит он ее в ярости, так не выплюнет! А хозяйка Дикой реки в смелом деле тебя не забудет!
По совету матери Чур обернул коварную распорку ветхим тряпьем, взял копье да лук охотничий и отправился ждать медведицу. Вот спряталось на ночь солнышко, и пришла крадучись к зарезанной корове косолапая гостья, есть-пировать, пир довершать. Тут Чур из засады в медведицу стрелу метнул и во весь рост поднялся, чтобы видел зверь, кто ему боль причинил. И пошел навстречу ревущей медведице с копьем-рогатиной в правой руке, а в левой — железина. Редко бывает добрым дикий зверь медведь, а тут, со стрелой в боку, совсем в ярость ударился, заревел и на дыбы поднялся. Не испугался Чур и ловко всунул острую распорку в пасть медведицы. Как сундук захлопнулись ее челюсти. Поздно поняла косолапая, что не за руку цапнула охотника. Тут острая рогатина ей под ребра впилась и достала до самого медвежьего сердца.
С восходом солнышка Чур принялся за свежевание заколотой медведицы, а Кокшага высвободила из пасти зверя распорку, промыла ее, насухо протерла и спрятала до поры до времени. Поглядеть, как Чур снимает шкуру со страшного зверя, собрались и старые и малые. Только скряга Ширман сидел дома, словно в селении ничего не случилось. Зато его жена Ширманиха шепнула на ухо дочке:
— В когтях шалой медведицы большая приворотная сила! Иди, Рутка, выпроси у этого парня коготок медведицы!
Вот прибежала девушка, протиснулась сквозь народ, обступивший охотника, выбрала время и тихонько сказала:
— Послушай, Чур, не подаришь ли мне один коготок хотя бы с медвежьего мизинчика?
В ответ улыбнулся Чур:
— А на что тебе, Рутка, коготок с мизинчика? Я дам тебе по самому большому когтю с каждой лапы! Когда радостная Рутка прибежала домой, мать Ширманиха три когтя спрятала в лубяную укладку, а над четвертым долго шептала наговоры и заклинания. Потом подала его дочке с таким наставлением:
— Береги, не теряй! Как полюбится умный да пригожий парень, шепни ему на ухо поласковее, а коготком за одежку поближе к сердцу задень. Навек присушишь паренька!
Рутка надежно спрятала медвежий коготок в рукав и каждый день думала, кого бы тронуть коготком. Из всех парней девушке больше всех по сердцу был Чур, но ей казалось, что он и без приворота от нее не уйдет. К тому же она знала, что этот сирота хотя и прославил себя смекалкой и смелостью, но чем-то не нравится ее родителям. Но испытать приворотную силу коготка Рутке не терпелось. И вот при встрече с парнем она подходила к нему поближе, шептала на ухо ласковое слово и незаметно задевала медвежьим коготком поближе к сердцу. Так перебрала она многих парней, и каждому из них думалось, что только одному ему девушка пошептала на ухо такое хорошее и заманчивое. И каждый спешил поскорее вновь ее увидеть.
Как грачи на иву, слетались парни к дому богатея Ширмана. Каждый думал, что только с ним была приветлива девушка, все наперебой похвалялись удалью и силой, совсем одурели и делали разные глупости. Но Рутка парням была уже не рада и сердилась, что среди них не было охотника Чура. И вот, как-то встретившись с ним, она шепнула ему что-то ласковое, но непонятное, погладила левой ручкой по щеке и незаметно задела медвежьим коготком против сердца. Она ведь не знала, что Чур носит на груди амулет-скребок, подарок хозяйки Дикой реки, и совсем не заметила, как коготок наткнулся на что-то твердое. Может быть, поэтому приворотная сила тут не подействовала, и она так и не дождалась Чура на свое крыльцо.
Рассердилась и расстроилась Рутка. «Этот нелюдим Чур только и знает пропадать в лесу. Ну и пусть! Было бы на то мое желание, вот задену коготком поглубже, тогда придет и будет день и ночь сидеть на моем крыльце, как пугало воронье!» Так, гневаясь на Чура, девчонка разогнала от своего дома всех парней и посулила облить помоями из поганого ведра того, кто появится на ее крыльце.
А лето быстро катилось к осени. Уже взматерели молодые тяжелые тетерева и храбро шли в западни. Притихли, отъедаясь к зиме, медведи. Забеспокоился, забегал по урочищам сохатый олень-лось в непонятной тревоге безрассудной поры. Люди убрали с полей хлеб и ссыпали в бревенчатые житницы. Домашний скот еще гулял по воле, но не уходил далеко, прижимался к селению. В эту пору спелой рябины и морозных утренников в сердце Чура поселилась тревожная радость, манившая его оставить дом и спешить в нехоженые лесные крепи на Дикой реке. И когда он заговорил об этом с Кокшагой, она согласно кивнула головой и помогла сыну собраться в далекий путь. Неприметными звериными тропами, обходя топи, гари и болота, Чур вышел к устью Дикой реки, к тому месту, где она вливалась в другую реку, широкую и полноводную, с крутым берегом в туманной дали. Здесь, при слиянии двух потоков, он посидел на песчаном холме среди старых приземистых сосен. Этот недолгий отдых у водных просторов, неоглядная даль безлюдной реки укрепили в нем дух следопыта и стремление идти и идти, увидеть невиданное, найти неведомое. Чур поднялся и пошел в сторону мокрых ветров, откуда приходила ненастная и холодная погода. Вверх по Дикой реке Чур шел то правым, то левым берегом, пересекая реку вброд на мелких перекатах. Впереди него бежал храбрый пес Уголек, а кремниевый скребок и медвежий клык в кожаном мешочке под одеждой у самого сердца мерно стучали друг о друга в такт его спорым шагам.
Местами берега были так круты и обрывисты, что надо было идти кромкой воды, опасливо поглядывая вверх, на нависшие над рекой подмытые деревья и глыбы земли. Совсем безлюдная Дикая река жила своей жизнью. С берега на берег перелетали доверчивые кулички. Большие хищные рыбы таились у самого берега, подстерегая добычу, и, потревоженные шагами охотника, с плеском скрывались в глубину. Огромные серебристые рыбы с темной спиной стадами поднимались из глубокого плеса и, лениво шевеля плавниками, дремали под солнцем. К осени вода в реке стала совсем прозрачной, и в глубине можно было разглядеть табуны широких горбатых рыб, а ниже, у самого дна, призрачно извивались длинноносые осетры и стерляди с частыми горбинками по спине. Чур знал, что они жирны и вкусны, а вместо костей у них только хрящ, и он добыл одну себе на ужин метким броском копья. Потом выбрал место для ночлега и развел огонь.
Черный и блестящий, как ворон, Уголек дремал за спиной хозяина, глухо рыча, когда кто-то нарушал покой Дикой реки. Вот сверху по течению вдруг накатилась волна, зашуршала во мраке, лизнула песчаный пологий берег. Это косолапый хозяин-медведь вплавь перебрался на другой берег своих владений.
Слышно было, как он отряхивался от воды и, шлепая лапами, побрел по мелководью. Чуть пониже, за излучиной, целая семья сохатых шумно спустилась с Крутояра, вброд перешла реку и удалилась, щелкая копытами. Усатый сом, водяной ночной разбойник с жуткими змеиными глазами, разгуливал по плесу, выбирая себе добычу. В страхе мечется рыбная молодь, выскакивает из воды и падает серебряным дождем. Вот филин молча пролетает низко над берегом и пропадает во тьме. Только по писку потревоженных птиц можно догадаться, куда он направился.
Чур лежал у костра с луком за спиной, обнимая руками копье, и сквозь дремоту грезил о будущем дне. Завтра к вечеру он доберется до той излучины, где охотился прошлой осенью и нашел кремниевый скребок хозяйки Дикой реки. Там, в крутом берегу, он выкопает себе землянку для будущей осенней и зимней охоты, запасет дров для очага, заранее подготовит западни на пушных зверьков. Да постарается добыть оленя и навялить мяса и для себя, и для собаки, и для приманки, чтобы потом напрасно времени не терять в короткие зимние дни, а только охотиться. Потом он уйдет домой до той поры, как по-зимнему оденутся пушные звери. С этой думой он заснул. Перед рассветом ему приснилась хозяйка Дикой реки. Она шла вверх по реке, изредка оглядывалась и манила его за собой. Низкое вечернее солнце заливало светом обрывистые берега, купалось в реке и слепило Чуру глаза. Вот она вброд перешла перекат, еще раз оглянулась и махнула рукой. Но Чур не видел, куда пропала женщина. Помешала эта солнечная полоса не реке. Она и разбудила его. Утреннее солнышко, играя с рекой, будило и бодрило все живое. До полудня Чур прошел все знакомые урочища Дикой реки — отмели, излучины и крутояры. Вот и обжитый берег при впадении в Дикую реку другой небольшой речки. Здесь он прошлой осенью не одну ночь провел у костра, А вот у этого обрыва в песке у самой воды попался ему на глаза каменный скребок. Теперь он оглядывал берег, выбирая место для жилья-зимницы. Речной берег здесь был словно обрезан, весенняя вода подточила его и сделала почти отвесным. Вверху различался нетолстый слой песка, пониже — мощный пласт зеленоватой глины с серыми и темными прожилками, а ниже опять были напластованы желтые, красные и белые пески. По верхнему песку и глине проходила, перемежаясь, тонкая лента сероватой земли, а местами она была черной как уголь. Камней не было, только из одного серого пятна торчал небольшой серо-зеленый камень. Чур тронул его копьем, и он свалился к ногам. Это был каменный топорик с круглым отверстием для рукоятки. Рукоять сгнила, камень остался.
Какое-то время Чур постоял в раздумье. «Вот здесь я и выкопаю себе жилье. Это хорошо, что тут глина, она не обсыпается!» Потом сложил на берегу сумку и оружие, вытесал из сухого дуба острую лопатку и начал вкапываться в стену берега. До темноты он успел выкопать столько, что можно было ночевать не под открытым небом. Чур перенес в пещеру свои пожитки, развел внизу у входа огонь и заснул в обнимку с отцовским копьем-рогатиной. Уголек свернулся клубком у костра и чутко оберегал новое жилье хозяина. А с рассветом Чур снова работал топором и лопатой. Чтобы потолок землянки был надежен и не обрушивался, он сделал его острым сводом, не подрубая древесных корней. А в стене у входа выкопал очаг-печурку со сквозным выходом для дыма.
Потом Чур сколько-то дней бродил по лесным угодьям, припасая западни для зверей, а на малой речке, что впадала в Дикую реку, заплел ивовую загородку и прутяные самоловы для рыбы. После того он добыл оленя, нажарил свежинки для себя и собаки, а остатки развесил провялить на солнце. Чуру оставалось только собраться в обратный путь, как надумал он расширить свое земляное жилье и сделать в стене нишу с лежанкой. Начал он снова работать. Вверху стена имела рыхлый серый прослоек, и надо было его убрать, чтобы добраться до глины. «Далеко ли тут глина?» — с досадой подумал Чур и глубоко ударил лопатой. И вслед за ударом что-то, как град, посыпалось ему под ноги. Склонясь, он долго разглядывал то, что вывалилось из стены. Потом глянул вверх. Не из укладки ли кто вытряхнул столько разноцветных камней, костяшек, колец и разных мелких красивых вещичек?
Камешки разной формы и цвета — красные, зеленые, голубые. Бусины рассыпавшегося ожерелья цветом как жидкий мед с поздних цветов. Были тут браслеты, и кольца, и серьги камешковые и костяные. Каменная ступка откатилась к стене, костяной гребень прятался под грудой бусин, кремниевый нож и костяные иглы лежали отдельной семьей. «Это сокровища хозяйки Дикой реки. Среди них не хватает только скребка, что висит у меня на груди!» Так подумалось Чуру.
3
В эту ночь Чур трудно засыпал. По молодости, по своему уму и сметливости он совсем не был суеверным, подобно пожилым людям его племени. Ему не слышалось ничего зловещего в хохоте совы, летающей над рекой, завывание ветра в дупле дерева не казалось песней злых духов, а огненно-рыжая белка, перебежавшая дорогу, не служила недоброй приметой. Страх перед всем непонятным покорялся его уму и смелости. Он был молод и не успел еще поверить ни в богов, ни в духов, не боялся колдовских чар, не надеялся на помощь ворожбы. Зато верил, что черный пес Уголек не пустит в его землянку ни зверя, ни злого духа. А если который из них и покажется у входа, то вот оно, отцовское копье, что бьет всех без промаха.
Но Чур верил своей матери Кокшаге, в ее охотничьи приметы и поверья. А теперь еще поверил, что вот здесь, на берегу при слиянии двух рек, жила со своим племенем женщина, хозяйка всех этих украшений и кремниевого скребка, который мать Кокшага повесила ему на грудь для счастья, против всякого зла и хворобы. В очаге догорали головни, освещая землянку неровным светом. Тревога и радость уступили место грезам, и Чур крепко уснул.
…Эта женщина никуда не спешила и не звала Чура за собой. Она сидела у огня, обхватив руками колени, и, покачиваясь, тихо напевала песню. Ее странная одежда была перехвачена узорным поясом, а на нем висели: кривой нож в расшитом чехле, костяной гребень и маленький мешочек из цветной кожи. Три ожерелья разных цветов, обнимая ее шею, сползали на грудь. На руках повыше кистей — зеленоватые браслеты-запястья, а в ушах — сережки из продолговатых ярких камней. А длинные волосы, заплетенные в косы, спускались по смуглым плечам до земли. Слова песни были непонятны, но напев ее, то жуткий, то нежный, будил неодолимое желание понять, о чем поет хозяйка Дикой реки. И от этого желания Чур проснулся.
В землянку уже глядело утро. Чур собрал свои пожитки, загородил вход в жилье еловыми ветками и оставил его до холодной охотничьей поры. Он шел к дому уже не берегом реки, а ближайшим путем, прямо на восход солнышка, и к вечеру второго дня был в родном селении. Всплеснула руками Кокшага, глазам своим не поверила, а дочки оторопели от радости, когда Чур высыпал на пол сокровища своей кожаной сумки.
— Вот глядите, как наградила меня хозяйка Дикой реки!
Шустрые сестры сразу разглядели, что за сокровища высыпались из сумки охотника:
— Ах, да тут есть и кержи! И сколько их, разных, красивых! А какие кольца и запястья! Девушки проворно повыкидывали из ушей самодельные сережки-кержи. Новые сережки сделали их лица миловиднее, а на щеках от камней разгорелся румянец. Потом сестры собрали из бусин по ожерелью. И сразу их шейки стали полнее и белее, кожа на них свежее и нежнее. Когда же они надели запястья и кольца, их натруженные руки стали красивыми и мягкими. И радовалась, глядя на них, матка Кокшага:
— Это хозяйка Дикой реки делает моих дочек красивыми и счастливыми! Чудится мне, что не забудет она и сына!
Для себя Кокшага выбрала из всего добра только костяной гребень. Да собрала на шнурок ожерелье из бусинок цвета позднего меда, а к ожерелью подобрала еще кержи-сережки. И все припрятала для той, которая придет жить в ее избу, когда дочки разлетятся за мужьями в разные стороны.
С того дня, как сестры охотника Чура стали самыми нарядными девушками и только на них стали заглядываться парни, кончилась приятная жизнь для скряги Ширмана. Старая Ширманиха упрекала мужа с утра до вечера:
— Долго ли будет так, что дочки вдовы Кокшаги будут наряднее и моднее нашей Рутки? Это ты во всем виноват! Не сумел вовремя приветить парня, который оказался гораздо смышленее и смелее иного старого хвастуна! Иди-ка взгляни, сколько разного добра принес с Дикой реки сын Кокшаги, от которого ты, старая спесь, отворачивался. Вот увидишь, он еще нарядит в дорогие кержи и бусы всех девчонок племени, кроме нашей дочки!
И вот, наслушавшись перепалки между отцом и матерью, Рутка решила встретиться с Чуром. Как-то под вечер она пришла к жилью Кокшаги и, дождавшись, когда Чур возвращался из леса, подошла к нему и шепнула:
— А что, Чур, не подаришь ли ты мне кержи, какие носят твои сестры? Не отказалась бы я и от ожерелья!
И незаметно задела его медвежьим коготком поближе к сердцу. И Чур сразу подобрел. Он взял девушку за руку, привел в избу и сказал матери, чтобы показала Рутке все сережки и бусы, кольца и браслеты. И сам помогал девушке подбирать бусины для ожерелья, примерять к ушкам кержи. Рутка вернулась домой довольная и счастливая.
Скоро все девушки разузнали о находке Чура и повадились ходить к дому Кокшаги за кержами и колечками. И ни разу, даже на самое малое время, не задумывалась старуха о том, не отказать ли неведомо чьей дочке в подарке и радости. Не только девчонки, молодайки бабы и те стали форсить в невиданных украшениях.
Приближалась зима. Чур каждый день пропадал в лесу, запасая мед и дичь для семьи, чтобы с наступлением холодов уйти на дальний промысел и без заботы о доме там жить и добывать дорогие звериные меха. Как-то на досуге Кокшага навестила семью Ширмана и там, разговорившись, сказала:
— Боюсь, что скоро мои дочки уйдут за мужьями, их уже выбрали добрые парни. А сын надолго пропадет в лесу. А я стара, и мне трудно будет одной в зимнюю пору. Не отдадите ли свою Рутку жить в моем доме?
На это хотела ответить мать Рутки, но старик перебил:
— А зачем твой сын нарядил в дорогие бусы и кержи всех девчонок без разбора? Теперь любая девчонка и бабенка носит в ушах кержи не хуже, чем у нашей дочки. Вот и зови в свою избу из них любую. Твой сын простофиля. Вот когда он станет хитрее, тогда наша дочь придет тебе помогать! Старый Ширман до того расходился, что бранился как попало. Гневался на то, что счастье слепо и балует не тех, кого бы следовало, что всех девок радовать — на то ума не надо, не зря есть пословица: «Курчонку не прокормишь, девчонку не нарядишь!» Если бы сын Кокшаги вовремя посоветовался с ним, Ширманом, то стал бы самым богатым человеком!
Вернувшись домой, Кокшага обо всем поведала сыну. В ответ Чур усмехнулся:
— Не огорчайся, мать! Ведь ты сама говорила, что хозяйка Дикой реки не оставит нас. И кажется мне, что я не смогу быть хитрее. Припаси сухарей, скоро я пойду на промысел.
В одну месячную ночь, пока Чур спал перед походом, Кокшага заботливо уложила в заплечный мешок сухари, легкую, но теплую зимнюю одежду, а в кожаную сумку, которую сын носил на ремне через плечо, положила топорик, разные мелкие охотничьи снасти и запасное огниво. В то утро Чур проснулся рано и, пока спали сестры, собрался в дорогу. За порогом избы ждала Кокшага. На прощанье она вновь пошептала над мешочком с медвежьим клыком и скребком, призывая всех добрых духов и днем и ночью безотказно служить ее сыну.
Знакомыми тропинками с луком и колчаном за спиной, с копьем-рогатиной в правой руке Чур спешил на промысел к Дикой реке. И все деревья под утренним ветром кланялись ему вершинами. Чуткий Уголек бежал впереди, загоняя на деревья тяжелых взматеревших птиц и проворных зверьков с пушистым хвостом и кисточками на ушах. Старые белки были уже одеты по-зимнему, а молодые только начали голубеть со спины. Рыжими бочками, как огоньками, мелькали они по деревьям и дразнили охотника урчаньем и цоканьем: чур-р-р, чур-р-р, чка, чка, чка! Наклевашись спелых желудей, хрипели нарядные сойки, синицы пинькали и тенькали на все лады, приветливо и смело: пинь, пинь, тарарах! пинь, пинь, татарах! И радостно было Чуру забираться все дальше в лесную нехоженую глухомань, слушая редкие голоса осеннего леса.
На другой день он добрался до земляного жилья в крутом берегу Дикой реки. Сухой сентябрьский ветерок, забираясь в дверь и вылетая в трубу очага, хорошо просушил землянку. Стены и потолок стали светлее, стойки и подпорки высохли, а трава и древесные ветки на лежанке источали нежный запах увядания и прошедшего лета. В тот вечер ветер дул с верховья реки, а закат был бледный и зеленоватый. Приметы обещали холода, поэтому Чур развел в очаге жаркий огонь, чтобы прогреть землянку, и, когда дрова прогорели, заснул без заботы.
Первые три дня Чур ходил по своим охотничьим владениям, проверяя исправность западней и самострелов на пушных зверей и настораживая силки на боровую дичь. И каждый вечер, возвратившись в землянку, разводил в очаге огонь, чтобы в жилье было тепло и сухо. После крепких ночных заморозков и ледяных закраин на реке нашла полоса тихой пасмурной погоды с утренними густыми туманами. Одним таким утром Чура поманило вдруг пойти вверх по Дикой реке, пройти по нехоженым ее берегам и урочищам, узнать и увидеть новое. Он взял с собой только оружие да кожаную сумку и пошел вверх по реке с верным псом впереди.
Чур шел без отдыха целый день, ночевал у костра и опять шел и шел под пасмурным осенним небом. А Дикая река в награду ему каждый час открывала новые нехоженые урочища, крутояры, излучины, устья малых речек, песчаные отмели и глинистые обрывы. Только следы диких зверей и птиц радовали его до той поры, как на речном песке приметил след человека. Еще в детстве от матери Чур слышал, что в далеких верховьях Дикой реки живут люди иного племени, совсем другие по росту, по речи и по обычаям. Приглядываясь к следам, он приметил, что походка была мелкая, а следок небольшой, короткий. «Это девушка!» — подумал Чур и пошел ее следом. Сметливый пес, по знаку хозяина, послушно пошел сзади.
Влажный мох хорошо сохранял следы, отдельные примятые моховинки нехотя выпрямлялись, как живые. И вот среди моховых кочек, усыпанных спелыми ягодами, Чур увидел ее, ягодницу. Он знал, как приятно поесть таких ягод зимним вечером после ужина. Мать Кокшага и все женщины его племени тоже запасали эти ягоды на зиму еще потому, что они помогают от угара, а если поесть их с горячим медом, то вылечивают от простуды и кашля.
Чур подкрался к девушке совсем неслышно. Стоя в трех шагах за ее спиной, он видел, как проворно работала она обеими руками, наполняя берестяную набирушку спелыми темно-красными ягодами, а поодаль стоял уже полный лубяной кузов. Чтобы не испугать девушку, Чур осторожно, чуть-чуть тронул ее плечо рукояткой копья. Она обернулась, удивилась, но не заголосила на весь лес от страха, а зачуралась негромко, как от лешего, духа лесного: — Ох, чур меня, чур меня!
И сидела на холмике, не сводя с пришельца больших синих глаз.
А Чур не поверил своим ушам. Не почудилось ли ему, что девушка дважды назвала его по имени? Это было неожиданным и непонятным.
— Да, я охотник Чур, сын Черкана и Кокшаги. А ты чья? Ты Рутка?
Ягодница глядела на него по-прежнему со страхом, повторяя вполголоса:
— Ой, чур меня, чур меня!
С минуту Чур стоял в раздумье, потом не торопясь достал из сумки овсяный колобок и осторожно бросил на колени девушке. А овсяный колобок, испеченный женщиной, это уже не шиш болотный, не леший, не дух лесной. С незапамятных времен он — верный спутник человека в близких и дальних походах, на работе, на промысле. Этот пресный круглый хлебец до надобности держали под одеждой, возле бока. Коло бока, как говорили в старину. Исподлобья взглянув на Чура, девушка бережно взяла колобок. Он был еще совсем мягкий, этот колобок, от него шел чудесный и родной запах липового меда, хмеля и пихтовых веток, которыми Кокшага подметала горячий под печки перед тем, как посовать туда колобки. Снова глянула на Чура. «Нет, это не оборотень, не шиш лесной и совсем не леший, а человек, только не нашего роду-племени!» А он, этот лесной дух, не глядя на девушку, начал быстро-быстро собирать с моховых кочек темно-красные ягоды и полными пригоршнями ссыпать в набирушку. Очень скоро он набрал ее дополна, поставил к ногам ягодницы и помахал рукой в сторону реки.
— Домой пора, пойдем вместе!
Не понимая речи, девушка сообразила, о чем говорит этот простодушный парень, уже вскинувший на свои плечи тяжелый кузов с ягодами. Ей оставалось, только взять набирушку и идти следом за ним до реки. Когда вышли на берег, Чур обернулся, взглядом спрашивая, куда идти. И она пошла передом вверх по реке, по знакомой ей чуть приметной тропе. На ходу она жевала овсяный колобок, изредка отламывая по кусочку для Уголька. Шли молча и быстро, и спелые желуди, опавшие с пожелтевших дубов, хрустели под их ногами.
Потом на солнечном крутояре присели отдохнуть. Она смотрела теперь на Чура совсем без страха, оглядывала с любопытством с ног до головы. А колобок с запахом пихты оказался таким вкусным и сытным, какие в ее доме пекли только по праздникам. Девушка погладила рукой Уголька, а Чур, показывая на нее пальцем, спросил:
— Ты Рутка, да?
Но девушка, не зная его языка, не вдруг поняла, о чем ее спрашивают. Тогда он указал на себя:
— Я — Чур, сын Черкана и Кокшаги. Я — Чур. А ты Рутка?
И при последнем слове опять указал на нее рукой. Теперь и она начинала понимать и тряхнула головой:
— Нет, я Устинья. Устя, Устя!
Тут широко улыбнулся Чур:
— Так ты Устя? Устя — это хорошо! А я Чур! Чур!
И каждый раз показывал себе на грудь. И она поняла, что Чур — это его имя. Имя не лесного бога, которым она чуралась от злых шишей и леших, а вот этого доброго увальня с черными глазами и бровями, чуть скуластого и приземистого.
После такого объяснения они снова тронулись в путь: Устя впереди, а Чур за ней, а там, где позволяла тропинка, шли рука об руку, изредка спрашивая друг друга, каждый по-своему:
— Так ты Устя, да? Это хорошо!
— Да, я Устя. А ты Чур? Это ладно!
И обоим было радостно, хотя и говорили по-разному, и кузовок с ягодами совсем не казался тяжелым, а путь незаметно подходил к концу.
Берега Дикой реки здесь были еще выше и поднимались над ней крутыми глинистыми обрывами, а хвойный лес перемежался лиственным и пустошами. Вот из-за одной излучины показались бревенчатые избы большого селения, а к нему от реки вилась по крутояру тропинка. Здесь девушка взяла у спутника кузов с ягодами, взвалила на свои плечи и, подхватив набирку, быстро пошла вверх по тропе к родному селу.
Взобравшись на кручу, она сверху призывно помахала рукой, чтобы Чур следовал за ней, и пропала за берегом. И он, не раздумывая, пошел в селение русов.
Но медленно и осторожно подходил Чур к чужому поселку. Избы стояли в один ряд лицом к реке, а позади них чернели нежилые приземистые постройки. В конце селения, впритык к лесистому берегу, высилось одинокое строение с несколькими крышами, одна другой выше, с тесовым шатром над самым высоким срубом. А на вершине шатра — странное изображение из дерева. Вот из одной избы вышли люди, а с ними и она, его первая знакомая в этом крае. Незнакомые люди, старые и молодые, мужчины и женщины, высыпали из домов, окружили Чура и с любопытством разглядывали нежданного гостя, его одежду, оружие и Уголька, прижавшегося к ноге хозяина.
Пока чужие люди на него дивились, острый глаз Чура успел приметить, что все они тоже носили амулеты, подвешенные на шнуре через шею. Эти штучки из желтого и белого металла похожи были на летящего жучка. У одного толстого старика, одетого в длинную черную одежду, большой такой амулет болтался на груди поверх одежды.
Этот старик появился из избы, стоявшей вплотную к большому странному дому под островерхой крышей, и сразу не понравился Чуру своей тучностью и недобрым взглядом.
Люди долго слушали рассказ Усти. По тому как она живо говорила, всплескивая руками и поглядывая на Чура, он понял, что она рассказывает о своей нечаянной встрече в лесу и как она испугалась. Вдоволь наглядевшись, люди разбрелись по домам, а отец и братья Усти позвали Чура в свою избу, посадили за стол на широкую скамью, а старая женщина, мать Усти, подала ужин. Но прежде чем сесть за стол, все стали лицом в передний угол, помахали перед собой руками и покивали головами, словно кланяясь кому-то невидимому. Для Чура это было в диковинку и занятно, он оглянулся в тот угол, но в сумраке ничего не увидел. После еды, поднявшись из-за стола, все опять помахали перед носом руками и покивали головами. Чтобы угодить хозяевам за добрый ужин, Чур тоже хотел за всеми повторить то же самое, но Устя легонько ударила его по руке и покрутила головой: «Не надо!» Потом она принесла сноп свежей соломы и постелила гостю постель на мужской половине избы, где спали отец и братья.
Утром за завтраком Чур опять спросил девушку: «Ты Устя?» И когда та повторила свое имя, он переспросил всех ее семейных и запомнил их имена. Всей семье русов Чур пришелся по душе своей смелой простотой и бесхитростным нравом, а старая женщина не забыла и его собаку накормить. Потом каждый взялся за свое дело.
Пока Устя просеивала на ветру ягоды, очищая их от лесных былинок и моховинок, Чур сидел на завалинке избы и смотрел, как она работает. И все казалось ему, что эта девушка очень похожа на Рутку, дочь Ширмана, только ростом повыше да волосы посветлее.
Не один день Чур прожил в новой семье. Братьев он научил делать отличные легкие лыжи и ставить западни на зверей, отцу показал, как плести из лыка крепкую и удобную обувь, какую носят люди его племени, а матери помогал во всех ее нелегких делах по хозяйству. И от всех, а больше всего от Усти перенимал их родную речь и обычаи. Он уже знал, что амулеты, которые русы носят на шее, они называют крестами, а большой дом под высокой крышей служит местом, где эти люди задабривают своего бога и просят у него удачи в разных делах.
За ночь выпал настоящий зимний снег, сухой, скрипучий. Утро народилось ясное и морозное, и все сверкало под солнышком. Большой угрюмый дом под островерхой крышей с крестом и тот глядел веселее. Никто из людей не прошел еще по заснеженной улице, только от одной избы уходил одинокий след человека вниз по Дикой реке. Это охотник Чур вышел на промысел в свое урочище, к земляному жилью на крутом берегу. Старая женщина напекла ему в дорогу колобков и помахала вслед рукой, а Устя крикнула звонко с крыльца: «Опять приходи!» Скрипит под ногами снежок.
Кремниевый скребок и медвежий клык в кожаном мешочке на груди чуть слышно стучат друг о друга, предвещая удачную охоту. А черный пес Уголек на синеватом снегу казался чернее самого черного угля.
4
Землянка на Дикой реке встретила Чура поздним вечером. Огонь очага обсушил и согрел одежду, а лежанка в нише стены показалась уютнее и теплее любой постели под крышей деревянного дома. Он поднялся с рассветом и отправился в обход по своим охотничьим тропам. Много дней с темна до темна, не зная усталости, стрелой, западнями и самострелами Чур добывал пушных зверей — куниц, горностаев, норок, белок и соболей, умело расправлял и сушил их дорогие шкурки. И когда мехов накопилось столько, что с трудом убирались в мешок, пошел к родному племени. К той поре накрепко замерзли реки и болота, он шел, сокращая путь, и вернулся домой вовремя. Две старшие сестры уже оставили мать и родной дом и ушли за мужьями, только младшая жила еще с матерью, но и она собиралась уходить в другую семью.
В тот же день Кокшага отнесла все меха богатею Ширману, чтобы рассчитаться с долгами и задобрить его на будущее. Старик обрадовался и удивился. Он ощупывал каждую шкурку руками и алчными глазами, встряхивал, расправлял и раскладывал меха по сортам, прикидывая в уме, как много получит он разного товара, когда по Большой реке приплывут люди выменивать у его племени мед и меха. Но когда Кокшага вновь спросила, не отпустит ли он свою дочку Рутку на житье в ее дом, Ширман ответил, что пусть она подождет до той поры, когда ее сын научится умело распоряжаться всем, что посылают ему добрые духи. А он, Ширман, будет давать ей все, что нужно для жизни, пока сын пропадает в лесу. При этом старый скряга не заметил, как сердито поглядела на него из дальнего угла дочка Рутка. А Кокшага ушла с такой думой: «Вот как! Этот жесткий скряга вспомнил добрых духов! Уж кто-кто, а она, мать Кокшага, знает, кто посылает удачу за удачей ее сыну. Нет, не напрасно повесила она ему на грудь подарок хозяйки Дикой реки!»
А дома она бранила Ширмана вслух. Ведь из всего племени только Чур так добычлив, уходит надолго и далеко и приносит целые вороха дорогих мехов! Видно, этот старый хрыч задумал без конца пользоваться добычей ее сына!
В этот вечер Кокшага опять помогла сыну собраться в далекий путь, и через два дня он уже ночевал в землянке на Дикой реке. В первый же день он обошел и проверил все западни, силки и самострелы, забрал добычу и снова насторожил на свежих тропах. Потом ходил с Угольком по звериным следам, добывал куниц и соболей стрелой из лука. Стояли морозы, какие бывают, когда солнышко только в полдень нехотя и недолго оглядывает заснеженную землю, выглядывая из-за леса. По вечерам Чур жарко натапливал очажок, и землянка все больше просыхала, стены ее согрелись, а от еловых корней, оплетавших потолок, исходил приятный смолистый запах. Одним вечером, сидя перед очагом, он достал из-за одежды мешочек с амулетом и долго разглядывал каменный скребок и рисунки на нем. При неровном свете пылающего очага изображение женщины словно оживало, а лисица казалась совсем огненно-рыжей. Чур попробовал скоблить им древко копья и рукоять топора, и получалось не хуже, чем железным ножом.
От очага камень нагрелся, и когда Чур сунул его в мешочек и спрятал под одежду, он приятно согревал грудь. Тут сын Кокшаги стал дремать и грезить: «Завтра пойду к русам!» Когда в очаге прогорели дрова, он заснул на лежанке, укрывшись одеждой. И, засыпая, опять грезил будущим днем: «Утром пойду к Усте!»
А в конце ночи в землянку опять заглянула хозяйка Дикой реки. Теперь она похожа была на Устю и держала в руке берестяную набирушку со спелыми красными ягодами. Она смело перешагнула спящего у входа Уголька, с тихим напевом подошла к лежанке и высыпала на ноги Чура ворох ягод, которые с шумом раскатились по землянке. Тут Чур проснулся, а Уголек навострил уши. «С потолка земля упала», — подумал Чур и заснул до рассвета. Хозяйка Дикой реки ему больше не снилась и не будила. И только при свете дня он разглядел в обсыпавшейся земле россыпь большого ожерелья из бусин разной величины, полупрозрачных, цвета позднего меда, а среди них — две пары голубоватых сережек. «Это бусы и кержи для Усти», — подумал Чур и, бережно очистив каждую бусинку, сложил на дно охотничьей сумки.
Ему не хотелось оставлять в землянке добытые за неделю меха, и он поместил их в походный мешок, а самые дорогие — в сумку. Потом наглухо закрыл дверь землянки и пошел уже знакомыми тропами вверх по Дикой реке.
Ночь застала Чура на середине пути, но старая ель и костер из сухих кряжей помогли ему дождаться утра. Остаток пути он шел по льду Дикой реки спорой походкой, а иногда и трусцой, прижимая к груди мешочек со скребком и клыком. И после полудня уже был в селении русов. Семья Усти встретила его радостно, а соседи заходили с приветливым словом. Сначала Чур выложил из сумки меха, а потом вытряхнул бусины ожерелья. Потом разыскал в ворохе бусин две пары продолговатых голубых камней и подал их девушке.
— Ах, это сережки! — обрадовалась Устя и приложила по камешку к каждому уху, показывая, как будут к лицу ей эти серьги.
— Это кержи! — по-своему сказал Чур. — Бусы и кержи хозяйки Дикой реки.
Бусины были тут же нанизаны на шнурок и обняли шею девушки тяжелым красивым ожерельем. И все были очень довольны и радостны, и мужчины и женщины. Но тут в избу вошел старик с крестом поверх длинной одежды. Его маленькие глазки сразу разглядели шкурки, вытряхнутые из кожаной сумки. Он молча их переглядел, перещупал, сложил аккуратно и спрятал под одеждой. Тут Чур возмутился и сердито сказал:
— Не трогай, это мое!
Но отец и братья растолковали ему, что все, что облюбует этот старик, отбирать у него не принято, потому что он хозяин большого божьего дома. И Чур согласился, но обида его на старика не потухла. И когда этот длинноволосый хозяин божьего дома начал было допытываться, откуда взялись ожерелье и сережки, нехотя сказал, что это подарок Усте от его матки Кокшаги. И замолчал.
В этот раз Чур надумал остаться в селе до конца зимы. Он уже начинал понимать речь русов и говорить на их языке и скоро привык ко всем жителям. Как и люди его племени, русы жили в деревянных избах с маленькими оконцами и большими глинобитными печами. Осенью они выжигали и раскорчевывали большие лесные поляны, а весной сеяли на них разное жито, лен и просо. Все держали скот и запасали для него на зиму сено. И между важными летними работами успевали еще обхаживать лесных диких пчел, собирать мед и воск и оборонять эти ульи-борти от косолапых сластников-медведей. А глубокой осенью и зимой опять каждый брался за свое ремесло: гнули колесные ободья, делали сани, выкуривали смолу и деготь, мастерили и обжигали глиняную посуду, добывали в лесу дичину, а в реке рыбу. А женщины пряли пряжу и ткали льняные холсты-полотна. Все, как в родном его племени, в низовьях двух больших рек.
Зато здесь никто лучше Чура не стрелял из лука, никто так быстро не ходил на лыжах. Только он умел так искусно настораживать западни-самоловы и луки-самострелы на зверей и больше всех добывал дорогих мехов. Но русы были люди независтливые и, не считая охоту средством к жизни, искусству его дивились, а удачами восхищались. И семья Усти, и все другие жители селения были с ним добрыми и честными. Только один раз заметил Чур, что по его лесным тропам и урочищам кто-то ходит из селения и уносит из западней самую ценную добычу. Но не зря он был сыном догадливой Кокшаги и следопыта Черкана и давно научился узнавать человека по его следу, не столько по величине и форме следа, сколь по походке. Стоило ему пройти несколько шагов, ступая точно в след неизвестного человека, как в его представлении возникала походка этого незнакомца. Так и в этот раз Чур пошел, ступая строго след в след, наблюдая за собой: он шел теперь, как слегка косолапый человек, неловкой и грузной походкой, раскачиваясь как утица. И остановился, раздумывая: «Чья же это походка? Кто из селения русов ходит так вразвалку и ставит ступни пальцами слегка внутрь следа?» И вдруг вспомнил: «Это он! Надо проучить эту двуногую росомаху!» В тот же час Чур насторожил на своем следу у куньей ловушки нетолстую сосновую лесинку-жердь. Стоило вору невзначай тронуть ногой волосяной шнур и спустить сторожок, как эта жердь обрушивалась ему на шею. Он нарочно выбрал такую жердь, чтобы не придавила вора, а только больно ударила по шее. Не прошло и недели, как жадный старик из божьего дома стал ходить сгорбившись, по-волчьи, глядеть исподлобья, словно шея его совсем не гнулась. С той поры никто не ходил по тропам и урочищам Чура и никто не тревожил его западни и самострелы.
После первой половины зимы налетели на Дикую реку метели, навалило много снегу, и промысел пошел вяло. Зато у русов началась веселая пора, один за другим пошли праздники. По утрам люди толпами и вереницами ходили в большой дом, где жгли восковые палочки и кланялись и кланялись, крутя правой рукой вокруг своего носа, либо размашисто стучали себя по плечам, животу и по лбу. Для Чура все это было диковинно, интересно, но в большой дом он не заходил, а наблюдал сквозь открытые двери и окна. От безделья и праздников жизнь в поселке для него вдруг поскучнела, и он засобирался домой, к матке Кокшаге. Но Устя, проведав о том, шепнула ему:
— А зачем тебе уходить? Ведь ты сам говорил, что там тебя никто не ждет!
А отец и братья девушки сказали:
— Оставайся с нами. Мы построим тебе просторную избу из самых толстых бревен, и ты будешь жить в нем вместе с Устей. Ты смекалистый и добрый парень, и мы охотно тебе во всем поможем.
И Чур согласился, но с уговором, что мать Кокшага будет жить с ним. Потом семейные Усти, посоветовавшись между собой, решили поговорить с отцом Никодимом, хозяином божьего дома. Из их разговора Чур понял, что если с этим стариком не сговориться, то он может причинить много зла. Тут он ощупал на груди кожаный мешочек и усмехнулся: не так-то легко и просто кому бы то ни было поспорить с волей хозяйки Дикой реки и наговорами его матки Кокшаги!
Позвали в свою избу и посадили за стол хозяина божьего дома и долго всякой всячиной угощали. Он сказал, что можно оставить Чура в семье русов навсегда, но надо сначала его окрестить. Чур понял, что для этого придется ему искупаться в речной полынье и трижды окунуться с головой, пока старик бормочет над ним свои заклинания и наговоры. За это он, Чур, должен будет отдать старику все меха, что добыл на Дикой реке, а Устя подаренное ей ожерелье и серьги. После этого их обвенчают в божьем доме. Так понял Чур. И сказал, что он готов искупаться в полынье хоть пять, хоть десять раз, но не понимает, за что он должен отдать с таким трудом добытые меха? Не за то ли, что будет купаться зимой в реке на потеху всем русам? На это ему сказали, что так надо, так велит их бог.
И в день крещения все пошли к реке. Когда Чуру объяснили, что надо делать, он быстро разделся и, придерживая рукой мешочек с амулетом, нырнул в полынью. И три раза погружался в воду с головой, пока хозяин божьего дома говорил непонятные слова. После того он выбрался из полыньи, оделся, и все ушли в избу. Там этот старик, отец Никодим, украдкой сверкнув на Чура недобрым взглядом, строго спросил:
— А научили ли вы этого парня молиться и креститься? — И поднес к его лицу свой тяжелый медный амулет. Чур не знал, что делать, и стоял в недоумении. Тут Устя показала ему, как надо перекреститься и приложиться губами к медному кресту. За ней все это повторил и Чур.
— Вот хорошо! — сказал старик. — А теперь сбрось свои побрякушки и надень святой крест, как христианин!
И подал медный крестик на шнурке, какие носили все русы. Чур с готовностью распахнул одежду и хотел повесить крест рядом с кожаным мешочком. Но хозяин божьего дома рассердился:
— Свой мешочек брось в огонь, а крест носи!
Только тогда тебе позволят жить в одном доме с крещеным народом. Нельзя, грешно носить божий крест с разными бесовскими побрякушками!
Вслед за попом то же самое повторили родные Усти. Чур понял, чего от него требует хозяин божьего дома, взглянул на него и встретился с тяжелым и хитрым взглядом. Тут он отступил от попа на два шага, словно собираясь с ним биться или поддеть его на рогатину:
— Э, нет! Никогда не сниму я со своей груди того, что повесила матка Кокшага! Ни в огонь, ни в воду не брошу подарка хозяйки Дикой реки!
После этого Чур замолчал, не поддавался уговорам и был тверд в своем упорстве, как наконечник стрелы. А хозяин божьего дома перед уходом сказал, что чем скорее этот дикарь уберется из селения, тем лучше для родных Усти и всех, кто за него заступается. Но, не глядя на угрозы попа, никто не поторопил Чура уходить из поселка, и он жил в семье Усти как родной сын до той поры, как сам вдруг надумал идти в родной край. Наверное, это хозяйка Дикой реки позаботилась послать на помощь ему раннюю и дружную весну.
За одну неделю потемнел и огрубел снег, затенькала капель, запели первые ручейки, а лед на реке приподнялся и посинел.
Русы провожали Чура как родного и на прощанье говорили:
— Опять приходи!
Мать Усти в то утро напекла мягких колобков, завернула их в чистую тряпочку и уложила в его охотничью сумку. Устя ушла за Чуром до самого крутояра, до той тропинки, по которой осенью впервые привела за собой этого парня. И было ей невесело, как в самый пасмурный и холодный осенний день. Она долго стояла на откосе реки и глядела вслед Чуру до того, как услыхала зов отца:
— Устинья!
Тут Чур обернулся и последний раз помахал ей рукой. И пошел по льду вниз по Дикой реке. И в такт его шагам кремниевый скребок и медвежий клык тихо стучали друг о друга.
С каждым шагом в родную сторону сердце Чура наливалось радостью, а зима в поселке русов казалась чудным сном с невеселым пробуждением. И все живое на его пути радовалось скорой весне. Черные пичужки в красных шапках дробно барабанили по сухим деревьям. Сохатые олени табунами нежились под солнцем среди боров. А тяжелые птицы с красными бровями и белой бородой по утрам напевали так самозабвенно, что любую можно было запросто заколоть копьем или стрелой. Изредка попадался след, похожий на человеческий: будто прошел кто в растрепанных лаптях — это хозяин берлоги уходил со своего логова, подмоченный весенней водой. У землянки уже вытаяли все зимние следы и тропы, словно жил он тут только вчера. Здесь Чур передохнул, накормил Уголька, просушил лыжи и обувь и, выспавшись, утром снова отправился в путь. Еще день и ночь — и он подходил к родному селению.
Чур издали приметил, что тропинка к дому Ширмана была еле заметна, не торнее, чем к дому Кокшаги. Откуда он мог знать, что после его ухода на промысел Рутка очень загрустила. Чтобы развлечься, она снова взялась за привороты. Встретившись с парнем, она шептала ему на ухо приветливое слово и незаметно задевала железным коготком поближе к сердцу. Парни опять повалили на ее крыльцо как на праздник, и сидели, и дурачились, поджидая, не выйдет ли к ним дочка Ширмана. И стали для Рутки совсем постылыми. В середине зимы многие девушки облюбовали себе парней и ушли жить в новые семьи, а Чур все не возвращался. Тут Рутка рассердилась. Нет, не на Чура — на себя и на своих родителей.
Она прогнала от своего дома всех привороженных парней, разыскала приворотные медвежьи коготки и бросила их в печку. Потом, проплакавши целый день, отмахнувшись от родительских уговоров, собралась и ушла жить в избушку Кокшаги. И вот Чур, войдя в свою избу, радостно удивился: «А, Рутка, ты здесь!» Он подал матери тяжелый мешок и кожаную сумку и стал раздеваться, а Рутка развешивала его одежду и обувь для просушки. На шее у нее было ожерелье, а в ушах — кержи-сережки, те самые, что хранились в берестяной укладке Кокшаги.
Вот так богатею и скряге Ширману, голове всего племени, довелось породниться с Кокшагой, вдовой следопыта Черкана. Долго-долго потом не было между Волгой и Ветлугой смелее и славнее охотника Чура. Изредка ему снилась хозяйка Дикой реки и звала за собой, обещая удачу. Сердце охотника начинало биться тревожно и радостно, он просыпался, уходил искать счастья на Дикую реку. А река не уставала отваливать пласты берега, открывая все новые диковинные вещички и сокровища: оружие, утварь, украшения. И каждый раз вместе с охотничьей добычей Чур приносил женщинам племени новые бусы, кольца и кержи. И прозвали ту лесную реку рекой Кержей.
Прошло много-много лет, и Дикая река, прокладывая среди лесных дебрей все новые и новые пути-излучины, ушла от древних стоянок и обеднела сокровищами. И теперь уже редко-редко находят на Керженце наконечники для стрел, каменные скребки, бусы и сережки-кержи.
Горностаевая шапочка
Родилась и выросла у князя-боярина дочка, и лицом красна, и станом ладна. Только стало казаться родителям, что доченька умом и сердцем проста. С челядью да холопьями обходится ласково, величая по имени и свет-батюшке, своих нянек-мамок ручкой не ударит, ножкой не пнет. Словно и роду не боярского. Забредет во двор голодный смерд, готова за стол усадить, накормить его, напоить. Шибко печалились боярин с боярыней. Росла дочка, а боярского ума да гонора не набиралась. Вот и до невесты боярышня выросла, но молва о простоте да доброте и женихам, и сватьям дорогу загораживала. Пробовали родители колдунов да знахарей на дом зазывать, разное наговорное пойло для дочки добывать, а пользы все не было. «Одна дочка, да и та без хитрости. Ну чисто юродивая!» Вот прослышали они, что в Кувыльном овраге знахарь-ворожец живет, недужным да хворобым на еду и на одежку наговаривает, чтобы выздоравливали, а глупым боярским деткам умные шапки шьет, и тоже с наговорами. Как поносит такую шапку боярский сынок-недотепа, сразу ума набирается.
По приказу боярина побежали слуги-холуи за тем колдуном в Кувыльный овраг. И приволокли старикашку горбатого, как поганый гриб, бледного да чахлого, а глазами так насквозь и простреливает? Вот показали ему боярин с боярыней свою дочку-боярышню и просят, кланяясь: «Уж больно добра да смирна у нас доченька. Поворожи, чтобы умом взматерела, а сердцем очерствела!» Пытливо глянул старик на девицу, в глаза заглянул, словом перемолвился. Потом на родителей поглядел с насмешкой неприветливой и таково сказал:
— Надо ей умную шапку сшить. Для того добыть вам зверушек полдюжины самых шустрых да смекалистых, в земле, в воде и в снегу пролазистых, нравом смелых и безжалостных. Как поносит девка такую шапочку, не узнать вам будет родную дочь! Сказал так — и со двора долой. А боярин с боярыней, челядь и холуи о том задумались, каких мехов-зверушек боярышне на шапку добыть. И на хоря, и на куницу, и на соболя думали, а до настоящего не догадывались. Тут, как по зову, показался на боярском дворе парень с речки Керженки с дорогими мехами звериными. Тряхнул связками, мехами куньими да соболиными, и раскинул у ног князя-боярина. Вот отобрали боярин с боярыней меха самолучшие, а зверолову наказ дают, чтобы принес он на боярский двор полдюжины зверушек самых шустрых и смекалистых, в земле, в воде и в снегу пролазистых и безжалостных.
Позадумался малость парень с речки Керженки: «Наказали, как загадку загадали!» А дочка боярская тут как тут, добрая да радостная. Парень-то давно ей по сердцу был. Его кудри-колечки на пальчик навивала, кудряшками играла. Прикрикнули на нее отец с матерью, а она в ответ только пуще к парню льнет, по щеке легонько треплет, гляди того расцелует… Отец с маткой сердятся, а она в ответ:
— Ну что раскричались? Али не видите, что это мой суженый!
Не успели бояре еще больше накричать, как парень заговорил:
— Ладно, добуду вам зверушек полдюжины, каких наказывали — смелых и безжалостных, и принесу к зимним праздникам!
И ушел на свою речку Керженку. Не один морозный день, не одну долгую ночь зимнюю охотился он в урочищах, где водились звери как снег белые, и в земле, и в воде, и в снегу, словно змеи, пролазистые, смелые и безжалостные. И в срок принес князю-боярину полдюжины диковинных шкурок. Залюбовались боярин с боярыней на меха горностаевы. А их дочка к парню прильнула и незаметно колечко ему на палец мизинчик надела. Колечко дорогое, золотое, тяжелое. Ну и ушел парень довольный и радостный. В тот же день приказал боярин отнести горностаевы шкурки горбуну в Кувыльный овраг, чтобы он, не мешкая, умную шапку сшил. И трех дней не прошло, как старикашка готовую шапку в боярские хоромы принес и своими руками на головку боярышни надел. Пошептал, поколдовал — и со двора долой. Вот поносила боярская дочка новую шапочку день да другой, погуляла в ней — и как подменили девицу! Пропали простота и доброта сердечная, засверкали глаза гневом и немилостью. Прислужниц своих норовит и ручкой ударить, и ножкой пнуть. Вместо доброй улыбки только зубки показывает. И от гордости и спеси боярской так и пыжится. На всех шипит, царапнуть да ущипнуть норовит каждого. Настоящая стала недотрога-боярышня. Поначалу радовались боярин с боярыней:
— Ай да доченька! Умнеть начала! Сразу видно стало, что роду боярского! Теперь только жениха ей подыскать знатной крови, богатого.
Только недолго они так радовались. И до родителей добралась поумневшая доченька. Начала она отца с матушкой пощипывать, поколачивать, ноготками царапать, а то и зубками норовит прихватить! Стали сторониться ее родители. Слова дочке боятся сказать — гляди того глаза выцарапает. Так с грехом да со страхом дожили бояре до праздника Ярилы-солнышка с блинами да пирогами, кострами да игрищами. В последний вечер на боярском дворе костер зажгли, парни с девушками хороводом ходили, песни пели, через огонь прыгали. И боярская дочка в горностаевой шапочке тут была. Только все ее сторонились, побаивались. Вдруг появился тот парень-зверолов с речки Керженки. К огню-костру подошел, на игры да гулянье дивуется. Приметила его боярская дочь, узнала, вспомнила. Подбежала к парню смелехонько и давай, как бывало, его кудри-колечки на пальчик навивать и в глаза заглядывать. И так, играючи, парня за ухо ущипнула добольна. И другой, и третий раз!
Ухватил тут кержак ее за руку накрепко и к костру лицом повернул. Заиграло в глазах боярышни отражение жар-костра. И показалось парню, что в глубине зрачков мерцают огоньки хищные, словно глазки звериные. И то ли вслух заговорил, то ли подумалось: «Видал я, живучи на Керженке, всякого, и смертушке в глаза глядывал, а такого дива не видано. Давай-ка, милая, избавимся от наваждения дикого, ума звериного!»
Тут сдернул зверолов с боярышни белую шапочку и бросил в самый жар костра. Никто ахнуть не догадался, как умная шапка огнем обнялась и смрадным дымом взвилась. Осталась от нее груда черная, как живая, корчилась, а по ней огоньки, умирая, бегали — и красные, и синие, и зеленые. И как в столбняке стояла над костром дочка князя-боярина.
А когда от шапки смрад и дым рассеялся, вздохнула глубоко и молвила:
— Ух, как полегчало-то! Словно заново на свет родилась!
И парня с речки Керженки по щеке нежно погладила. А зверолов обнял девушку рукой одной, в другую обе ее ручки взял да и повел со двора боярского. Всполошились тут боярские слуги-холуи, в терем прибежали, кричат, суматошатся:
— Ай, свет-батюшки, боярин со боярыней! Тот парень кержак вашу дочку-боярыню да за Волгу повел!
— Ну и бог-то с ней! — обрадовались отец с матерью. — Намаялись мы досыта с этой умницей! А кержак с девушкой шагали да шагали неторопко по синему снегу навстречу синему лесу. И по-доброму глядело им вслед вечернее око бога Ярилы. Долго жила на Руси мудрая пословица-примета: «От собольей душегреи сердце не добреет, от дорогой шапки голова не умнеет!» Не потому ли простой народ никогда не шил и не носил одежки из горностая. Зато любили наряжаться в горностаевы меха цари, короли да герцоги, люди хитрые и безжалостные.
Бабеночка с речки Боровицы
Полюбилась зверолову Вихорьку остроглазая Марийка, дочка богатея Кундыша. Ну и девка от парня не бегала, только отец с матерью воли не давали. Этот скряга Кундыш все меха у Вихорька скупал и втридорога на сторону продавал, а дочку за него не отдавал.
— И что ты, голь, к богатой пристаешь? Искал бы ровню! Либо выкуп соболями приноси!
Позадумался Вихорек. Все его богатство было лук да колчан, да три капкана, да зимница на речке Боровице в самой глуши соснового бора. Думай не думай, а семью заводить когда-то надо. Семь недель зверолов на промысле пропадал, у костра ночевал, к холоду да голоду привыкал. И принес Кундышу связку соболей да куниц, выкуп за невесту Марийку.
— Вот это ладно! — сказал богатей. — Теперь только норок на душегрею невесте добудь да новую избу сруби — и живи себе, не мешаю!
Опять парень за затылок подержался, но без спора на промысел отправился. Невесте на душегрею норок добывать. По речке Боровице на звериных тропах-переходах порасставил капканы да самострелы-черканы. Под берегами, пнями и корнями копьем прощупывал, зверушку выживал и стрелой поражал. И к середине зимы добыл норок далеко за дюжину. И еще бы парень постарался, да следочков не стало. Осталась одна зверушка, крупная, следистая, да такая догадливая, что все капканы-черканы сторонкой обходила, а от стрелы да копья зверолова по дну речки уходила и в неприметные норы пряталась. «Ай умна зверушка! Видно, сама матка, так пусть живет!» Так надумал Вихорек и стал собираться домой, в село.
Но утром, выйдя из зимницы за водой, он опять увидел знакомый след матерой норки. Она наследила за ночь и по Боровице, и по берегу, и вокруг зимницы. Видно было, что она принюхивалась и разведывала, словно пыталась попасть в избушку. «И что ей тут понадобилось? — удивился Вихорек. — Вишь где наследила — сама в капкан просится! Не деток ли своих разыскивает!» И надумал остаться в зимнице еще на ночь. А вечером взял и насторожил капкан на лазу, где зверушка из речки на берег выходила и с берега в речку уходила. Насторожил неприметно, старательно, а в сумерки снежок повалил, густой, хлопьями и закрыл все следы и приметинки.
На ночь Вихорек в зимнице очажок затопил, поужинал, на нары забрался и о своем задумался.
Свет из очага, играючи, по стенам разбегался и связку мехов освещал. «Ой, хороша выйдет Марийке душегрея! А как эта красотка ночью в капкан попадет, так и на шапочку хватит. Крупная норка, чай, не матка ли всем этим приходится?» С такими думками он и заснул. Среди ночи проснулся, подкинул дров в очажок и снова забрался на нары. Лежал да дремал, а думка все та же: «Хорошо бы и эту поймать — вот бы шапочка вышла Марийке!» Вдруг послышалось, что в дверь кто-то царапнулся. Притаился зверолов, лежит, еле дышит, не шелохнется. Вот приоткрылась дверь и показалась головка звериная, потом и вся зверушка вползла. В два прыжка норка выскочила на середину зимницы, заглянула под нары, по углам, под скамью. Подняла головку, глянула на стену, вскарабкалась до связки мехов и с ласковым урчанием начала тереться о каждую шкурку своей усатой мордочкой. Ласкалась и урчала, да нежно так, словно песенку напевала.
— Гляди не порви! — крикнул тревожно Вихорек.
— Не порву, это мои детки! — ответила зверушка.
Глаза ее разгорелись зелеными огоньками, урчание стало яростным. Со связки мехов она прыгнула зверолову на грудь и вцепилась когтями.
— За что ты погубил все мое племя?
Лицом он чувствовал ее горячее дыхание, острые коготки все больнее и глубже вонзались в грудь, а белые зубки грозились вцепиться в горло. Тут Вихорек проснулся. Очажок потух и остыл, в зимнице было темно, но сквозь оконце чуть пробивался рассвет. Он лежал и не мог больше заснуть. Диковинный сон не уходил из головы, а грудь еще слышала острые когти ночной гостьи. От дверей несло холодом. Когда рассвело, он увидел, что дверь в зимницу приоткрыта и сквозь щель надуло снегу. А по снегу отпечатки звериных лапок в зимницу и обратно. Вихорек заботливо оглядел и ощупал связку мехов, но все шкурки были целы. Потом из избушки вышел и по новому снегу спустился в овраг к ручью, где вчера насторожил капкан. Но напрасно он разгребал снег и прощупывал палочкой — капкана на месте не было. Он нашел его на дне ручья. Дужки капкана были плотно захлопнуты, а между ними один-единственный палец зверушки с кривым острым коготком.
«Вот тебе и шапка! — горестно подумал Вихорек. — Отгрызла. Ну, теперь ее ни в какую ловушку не заманить!»
Вот вернулся он в зимницу, меха в мешок сложил, собрался, дверь избушки прихлопнул наплотно и к своему селу направился. И в тот же вечер принес богачу Кундышу последний выкуп за дочку. Долго чесал в бороде скряга Кундыш, прежде чем вымолвить слово. Но пятиться ему уже было некуда, и после кряхтенья да вздохов сказал, что невеста парнем честно заработана.
Видно, большое везенье подоспело Вихорьку. И года не прошло, а уж жили они с Марийкой в новой избе на конце села у самого леса, а на сосновой стене избы на видном месте висела норковая душегрея. Только шапка так и гуляла по речке Боровице да по диким звонким ручьям соснового бора. И радовались старики Кундыш с Кундышихой тому, что дочка Марийка выскочила хоть и за бедного, зато доброго, везучего и умелого парня.
Вот как-то под осень, в самые грибы да ягоды, сидели Вихорек с Марийкой на крылечке, солнышко глазами за лес провожали, вечер встречали. Глядь, по тропинке из леса, от речки Боровой, бабеночка идет да бойко так головкой направо-налево поводит, по сторонам поглядывает, словно любуется да удивляется и дорогу примечает. Вот ближе да ближе. Одета в бурую кацавеечку да платье домотканое, обута в чувяки кожаные, а на голове ничего, только косы уложены копеночкой. А на руке прутяная корзинка-набирушечка. Вот подошла она к крыльцу и ночевать просится. Марийка — отговориться бы:
— Село не мало, в любом доме пустят!
А Вихорек сжалился:
— Да жалко, что ли? Видишь, притомилась да запылилась, что ей от избы к избе ходить!
— Да откуда ты и далеко ли? — это Марийка не унимается.
— Из-за леса, с речки Керженки, из деревни Подбережинки, — отвечает бабеночка. — Вот переночую, наберу чернички да побегу!
— Али у вас там черничка-ягода не выросла?
— Нет, милая, на цвету морозами сожгло.
— А звать-то тебя хоть как?
— Дарьей нарекали, да больше Диканькой кличут.
Ну и пустила Марийка ночевать бабеночку, ужином почестила и спать мягко постелила. Утром проснулась хозяйка, в горницу заглянула, а гостья-бабеночка ее душегрейку на стене ручкой гладит и что-то тихо-тихо наговаривает, словно кошечка мурлычет. Вот она обернулась, белыми зубками улыбнулась:
— Ах, хороша, добра у тебя душегрея, хозяюшка! Все-то шкурки одна к одной!
— Муженек сам добывал! — похвалилась Марийка.
Подошло время завтракать, а бабеночка пропала куда-то. Вернулась и сказывает:
— На речку искупаться да умыться сбегала. Я и дома так, завсегда на речке умываюсь!
За стол все сели, за еду принялись. Тут приметил Вихорек, что у бабеночки Диканьки один палец на правой руке совсем короток, как обрубленный. И Марийка то приметила и спрашивает:
— А что у тебя было с пальчиком-то?
— Давно по зиме обморозила, отболели суставчики да и выпали!
Позавтракавши, бабеночка уходить засобиралась, а сама все на душегрею поглядывает да и говорит несмело:
— Ах, так бы и примерила!
— Так примерь давай! — разрешают хозяева. Надела гостья душегрейку, оглядывается, ручкой гладит, любуется.
— Как на нее шита! — дивится Вихорек.
И так она ему в тот час понравилась — век бы глядел. Головка небольшая, шейка длинная, станом ладная, гибкая да стройная, ручки, ножки маленькие, а глаза — ну как черные смородинки. Залюбовался на Диканьку зверолов Вихорек. А она все одежкой любуется, да и скажи:
— К такой бы душегрейке да такую же шапку!
А Марийка в ответ:
— А шапочка пока по речке Боровице бегает. Вздохнула невесело гостья, душегрею сняла, на место повесила.
— Ну, мне пора и по ягодки, загостилась у вас, люди добрые!
— Другой раз опять к нам заходи!
Вот и ушла бабеночка Диканька, бурой одежкой по тропинке помелькала и в сосновом бору пропала. Марийка о ней скоро забыла, а у Вихорька заноза в сердце осталась. Заноза острая, как ноготок зверушки с речки Боровицы. И во сне и наяву мерещилось, по вечерам на тропинку поглядывал, все ждал, не идет ли бабеночка из деревни Подбережинки. Вот как-то сидели они с Марийкой на крылечке, бабье лето встречали, солнышко на отдых провожали. Над луговинами паутинки плыли, по небу облака, как конские гривы от леса до леса. В полях тишина. Глядь, от леса по тропинке она, та бабеночка Диканька, легкой походочкой идет, головкой поводит, по сторонам глядит, словно дорогу примечает. В той же бурой кацавеечке, домотканом платьице, в чувяках мягких кожаных. А за спиной кузовок лубяной. И смело к знакомому крыльцу подошла:
— Переночую у вас, коль позволите, завтра бруснички наберу да и домой пойду!
Удивилась Марийка: «Видно, совсем бабе делать нечего, что за такую даль за брусникой идет!» И спрашивает:
— Али у вас и брусника не выросла?
— Не выросла, милая, холодным утренником на цвету сожгло!
— Ладно, ночуй! — говорит Марийка. И на муженька глянула.
А он, как подмененный, столбом стоит, расцвел от радости, гостью взглядом обнимает.
Ну, как и в первый раз, ужином бабеночку почестили, мягкую постель в горнице постелили. Утром, пока Марийка печку топила да завтрак варила, гостья опять куда-то пропадала. Вернулась, сказывает:
— На речку умыться да искупаться бегала! Подивилась Марийка:
— Скоро зима, а она купается. Вот штучка-то! После завтрака Диканька в лес засобиралась, а сама опять на душегрейку заглядывается:
— Ой, как примерить хочется!
— Сними да примерь, — неохотно отвечает Марийка, — она от того не износится.
Вот подошла бабеночка к душегрейке и, до того как со стены снять, каждую шкурку ручкой погладила. А как оделась в нее, загляделся Вихорек на эту красотку залесную. Ну так бы и обнял! А в голове мыслишка гнездится: «И где я раньше видел ее, эту головку, глаза и повадку нездешнюю!»
— Славная одежинка! — молвила бабеночка, смело глядя в глаза хозяину. — Жаль, что шапка по Боровице бегает, вот бы нарядилась твоя женушка! Сказала так с грустью в голосе, душегрею сняла, на место повесила. Попрощалась с хозяевами и резвой походкой пружинистой по тропинке к лесу пошла. Вихорек как завороженный ей вслед глядел, пока Марийка не окликнула:
— Сглазили, что ли, тебя? Как есть одурел! Среди осени, перед морозами, опять пришла эта гостья из закерженской деревни Подбережинки. Явилась в самые сумерки, когда вокруг затихло все, только сосновый бор нашептывал что-то недоброе. И опять ночевать просится:
— Не откажите последний раз, завтра чуть свет уйду! Надумала вот клюковки до стужи в болоте побрать.
В той же бурой кацавеечке, в том же скромном платьице, в чувяках на босу ногу, а голова мокрая. Марийка допытывается:
— Видно, и клюква у вас там не выросла?
— По лету все болота дождями залило — не выцвела!
— Да ты, знать, выкупалась?
— Да, чтобы пыль да усталость посмыть. Ничего больше не сказала Марийка, только головой покачала. Но приметила она, как Вихорек гостье обрадовался. «Как подменили, так и разгорелся весь». Без большой охоты бабенку ужином почестила и спать мягко в горнице постелила. Вот спать полегли и заснули все. Только видит под утро Вихорек, как бабеночка Диканька с постели поднялась, тихонечко к душегрее подкралась и начала каждую шкурку ручкой оглаживать и грустно так наговаривать, словно кошечка мурлыкать. И лицом к душегрее прижималась и будто плакала. Потом к Вихорьку подошла, склонилась над ним и зашептала жарко так да ласково: «Ну, прощай Вихорек. Трижды навещала твой дом, чтобы отплатить тебе злом за то, что ты погубил племя мое. Но за доброту твою да за приветливость…» Тут заговорила Диканька что-то невнятное, еще ниже склонилась над ним и на прощание обняла его ручками крепко-накрепко, и так Вихорьку любо да сладко стало, что раскинул руки широко — и проснулся.
И Марийка проснулась. В окна утро заглядывало, а бабеночки в горнице не было.
— Видно, совсем ушла. И душегрейки что-то не померила! — с насмешкой сказала Марийка.
Но ничего не молвил Вихорек. Только прикоснулся рукой к жениной одежке, и показалось ему, что она от слез Диканьки еще не высохла, а на тропинке к сосновому бору следы от кожаных чувячек стежкой-дорожкой до самой речки Боровицы.
Надолго и накрепко стал задумываться зверолов Вихорек. По вечерам на тропинку поглядывал, ждал, не покажется ли Диканька из Подбережинки. Марийка, жалеючи, журить его начала:
— Как ведь затуманился, присушила, видно, она тебя?
А холодный ветер не давал покоя сосновому бору. И шумели великаны сосны сумрачно и тревожно, нагоняя тоску. Собрался Вихорек наскоро и ушел из дома Диканьку искать. За неделю исходил он края и урочища от Боровицы до Черного Луха, от Узолы и до Керженца и не нашел деревню Подбережнику, только и слышал от людей в ответ:
— Да нет такой деревни, не слыхано! Вернулся домой худой да оборванный. Мало-помалу образумился и отправился на зимний промысел в избушку на реке Боровице.
И было так с ним кажинный год. До поры до времени мужик-мужиком, зверолов умелый да удачливый. Но как запоет невесело сосновый бор под ветром осенним, сиверком, забеспокоится вдруг Вихорек, бросит дела домашние и уходит на много дней за речку Керженку искать деревню Подбережинку. А среди людей молва ходила, что зверолов Вихорек одиночеством переневолился, когда подолгу в зимнице жил и выкуп за невесту добывал.
Сказка о серых скворцах
Эта сказка нигде не записана — ни на камне, ни на коже, ни на бересте. Ее в нашу сторону скворцы на крылышках принесли. А в лесной стороне всякая старина крепче держится — и сказки, и сказания, и приметы, и обычаи. В лесу они от солнышка не выгорают, от суховея не выветриваются, а с народом крепко уживаются. Вот и осталась в лесном Заволжье сказка-догадка о том, как серые скворцы, гости весенние радостные, у нас на Руси появились. А до той поры да случая скворцы только там водились, куда зима не доходила. И были они не серые, а как уголь черные.
Давным-давно жил на берегу теплого синего моря повелитель простого народа Лежи-Полеживай. Не очень он был умен, а заносчивый, потому и называл себя царем всех царей. Этому царю совсем нечего было делать, потому он часто скучал и сердился. Чтобы царь с царицей не скучали, придворные вельможи достали для них заморского попугая Звездочета, обезьянку Макаку и горбатого карлика Гия. Обезьянка потешала царскую семью гримасами и кривляньем, карлик Гий забавлял разными фокусами, а глупый Звездочет заученными словами и фразами: «Привет царю царей! Как здоровье? Доброе утро! Спокойной ночи!»
Пришло время, когда царю Лежи-Полеживай наскучили эти забавники. Он насупился от скуки, и вельможи не знали, чем развеселить своего господина. И вот главный вельможа объявил по всему царству, что человек, доставивший царю новое развлечение, получит большую награду. Но беззаботные подданные Лежи-Полеживай никак не понимали, как это можно скучать их повелителю, который вместо хлеба ест одни пряники, а пьет только мед и вино. И никто не спешил развеселить царя всех царей. Только один малыш по прозвищу Пастушок откликнулся на зов вельможи. Чтобы прокормить мать и сестренку, он за жалкие гроши нанимался пасти чужой скот и скучал на пастбище. Зато черные скворцы, прилетавшие к стаду поохотиться за насекомыми, стали его друзьями. А одна пара молодых скворцов так привыкла к мальчику, что на его плечах отдыхала и охорашивалась и часто ночевала в его домике под потолком в прутяной клетке. Случилось так, что маленькая сестренка Пастушка была долго больна и ничего не ела, а когда начала выздоравливать, тихонько сказала: «Я съела бы горсточку изюму!» Это было как раз в то утро, как ее брат услыхал, что Лежи-Полеживай захворал от скуки. Пастушок посадил пару скворцов в прутяную клетку, принес их на царский двор и сказал главному вельможе, что его птички могут развеселить и порадовать всю семью царя царей.
— Что за черных галок ты принес на царский двор? — грозно спросил вельможа. — Не они ли ловят насекомых, копаясь на воловьей спине? Разве могут эти замухрышки развеселить царя царей!
А мальчик в ответ улыбнулся:
— О, вы их, как видно, не знаете! Попробуйте, поселите моих пичужек в царском дворе и не раскаетесь! Только дайте мне на изюм и на орехи для больной сестренки!
Вельможа забрал у Пастушка клетку со скворцами, дал ему одну медную денежку и вытолкнул за ворота. Потом он позвал царского мастера по золотым делам и приказал сделать для скворцов серебряную клетку, а самих птичек позолотить и раскрасить. Этот золотой мастер был настоящий искусник и художник. Сначала он сделал расчудесную серебряную клетку, потом целый день и всю ночь трудился над скворцами.
Он позолотил и раскрасил им каждое перышко так искусно, что засияли скворцы в своей серебряной клетке, как диковинные жар-птицы, разноцветными огнями!
Рано утром главный вельможа взял у мастера клетку со скворцами и подвесил ее на ореховое дерево у царского терема. Выспавшись, царская семья вышла в палату, а уж тут вся придворная знать — поздравляют царя царей с добрым утром. В те дни на землю царства Лежи-Полеживай только что пришла весна, и все зверушки и пичужки встречали ее, кто как умел. Позолоченные скворцы в серебряной клетке тоже радовались весне, тирликали и махали крылышками. Тут их услышал и увидел царь всех царей. Скворцы пели свою немудреную песенку, перемежая ее звуками, услышанными со стороны. Вот царский котище-пушистый хвостище мяукнул, сидя на подоконнике, а скворцы подхватили и наперебой замяукали по-кошачьи. Царский осел подал свой голос с лужайки под деревом, а скворцы и по-ослиному крикнуть попробовали. Горбатый карлик Гий тряхнул бубенчиками, а вслед за ним и скворцы зазвенели живыми бубенцами.
И сразу отлетела от царя царей хандра и скука.
И царь, и царица с царятами, и все придворные слушали золоченых певцов, и любовались, и дивились их красочному наряду и мастерству подражать чужим голосам. А золотые скворцы трепетали под солнцем раскрашенными перьями и трещали, и тирликали свою песенку, потому что приближалась пора, когда все птицы вьют гнезда и выводят детей. Тут царь Лежи-Полеживай спросил:
— Кто доставил в мой дворец таких занятных пичужек?
Главный вельможа выступил вперед и с гордостью сказал:
— Это я, преданный слуга царя царей, добыл чудесных заморских певцов!
Лежи-Полеживай стал шарить по карманам, чтобы наградить царедворца, но денег в царских карманах в тот день как на беду не было. Царь нашел только один пряник, какими он угощал обезьянку и карлика, и подал его вельможе. Главный вельможа сделал вид, что очень доволен наградой, и спрятал пряник в карман и низко поклонился. И вся придворная знать, что была тут, громко восхищалась щедростью царя царей. Только обезьянка Макака, попугай Звездочет и карлик Гий, всеми забытые, угрюмо молчали.
Прошло сколько-то дней. Позолоченные и раскрашенные скворцы жили в серебряной клетке на ореховом дереве и своим пением забавляли царскую семью. И никто не смел на певцов обижаться, когда они передразнивали и высмеивали придворных, повторяя на свой лад услышанный звук или слово. Как-то одним утром, когда царь царей с придворными тешились скворцами, на царский двор пробрался Пастушок. Он надеялся, что главный вельможа даст ему еще денежку на изюм и орехи для сестренки. Ведь он, вельможа, обещал большую награду тому, кто потешит царя, а дал только одну медную монетку. Мальчик сразу узнал своих скворцов, хотя они и были позолочены. Подойдя к вельможе, он простодушно сказал:
— Я могу наловить и принести таких пичужек целую корзину, если хотите!
Тут на мальчика все зашикали, а вельможа взял его за шиворот и вытолкал за ворота. А скворцы, заслышав знакомый голос Пастушка, запели так отчаянно, весело и звонко, что Лежи-Полеживай с гордостью сказал:
— Хотел бы я знать, есть ли у кого из владык на земле такие певцы, как мои!
Все придворные наперебой начали льстить, что только в царстве Лежи-Полеживай могут жить и петь такие красавцы.
Долго бы они еще льстили царю царей, расхваливая скворцов, но с царской кухни вдруг донеслись заманчивые запахи. И все ушли обедать.
На другой день после завтрака царь с царицей и царятами опять вышли под ореховое дерево послушать позолоченных скворцов. В то солнечное утро певцы трещали и тирликали напропалую, подражая всему, что слышали. Лежи-Полеживай глядел на скворцов, задрав кверху голову, а озорной солнечный лучик забрался к нему в нос и заставил громко чихнуть. Не успели попугай и придворные пожелать царю доброго здоровья, как вмешался скворец:
— Чих, чих! — передразнил он царя, помахивая золотистыми крылышками. — Чих, чих! Молча улыбнулись придворные и главный вельможа, вслух рассмеялась царица.
— Хи-хи-хи! — передразнила царицу скворчиха. — Хи-хи-хи!
И опять все молча улыбнулись. Но горбатый карлик Гий не умел тихо смеяться. Звеня бубенцами, он кувыркнулся через голову и заорал на весь царский Двор:
— Золотые пичужки царя и царицу дразнят! Вот здорово! Царя царей пичужки-болтушки дразнят!
За такое озорство сам царь дал карлику пинка и приказал выпороть. Пока горбунка хлестали плеткой, царь с челядью слушали скворцов. Вдруг с кухни вкусно запахло обедом, все захотели есть, а пообедавши, крепко заснули. Только побитый горбунчик Гий не спал, а плакал злыми слезами в дальнем углу царского сада. В тот час с другой стороны ограды к нему подкрался Пастушок, и они долго шептались сквозь решетку. Потом мальчик передал карлику плетеную коробочку, а Гий на прощанье сказал:
— Все будет сделано так, как задумали. Клянусь моим горбом!
Пока Лежи-Полеживай с челядью отсыпался в тереме, карлик забрался на ореховое дерево, тряхнул бубенцами и негромко, но внятно сказал два-три слова. И когда скворцы протрещали что-то похожее на слова, горбунчик дал им поклевать из коробочки. Потом снова звякнул бубенцами, повторил те же слова и опять дал скворцам поклевать из коробочки, после того как они слова повторили. После третьего такого урока Гий проворно спустился с дерева и скрылся во дворце. На другой и на третий день и еще несколько дней подряд, когда царский двор погружался в сон, карлик забирался на дерево и обучал скворцов кричать несколько слов. И каждый раз награждал их за старание лакомством из плетеной коробочки. Наконец он добился того, что стоило ему зазвенеть бубенчиком, как скворцы дружно и внятно кричали заученые слова.
Одним утром Лежи-Полеживай проснулся сердитым. Чтобы развеселиться, он поспешил на лужайку под ореховое дерево, а за ним и царица с царятами, и главный вельможа, и все придворные. Весна была в разгаре, скворцы пели задорно и весело, а завидев внизу людей, еще усерднее замахали крылышками и затрещали на разные голоса. Царь царей, вся его родня и придворные, задравши головы, глядели на сверкающих скворцов. Тут горбунчик Гий, улучив момент, когда певцы смолкли, звякнул бубенцами. В ответ из серебряной клетки разнесся озорной крик золоченых скворцов:
— Царь царей дуралей! Вельможа жулик!
У придворных и вельможи от испуга языки отнялись, а скворцы бесцеремонно кричали:
— Царь царей дуралей, дуралей! Вельможа жулик, жулик!
Чтобы замять скандал, попугай Звездочет, сидя на царском плече, начал кричать свои приветствия и поздравления, желать всем доброго утра и спокойной ночи. Но в ту минуту горбунчик, кувыркнувшись через голову, зазвенел колокольчиками. И скворцы снова стали выкрикивать заученные слова, а карлик истошным голосом закричал на весь царский двор: — Слышите, что кричат эти зловредные пичужки? Будто бы царь царей дуралей, а вельможа жулик! И снова, будто ненароком, зазвенел бубенцами. А скворцы, привыкшие после звона получать любимых личинок и жучков, опять принялись бранить царя дураком, а вельможу жуликом.
Тут все — от слуги до вельможи — стали швырять в певцов чем попало — и грязью, и камнями, и палками. Обезьянка Макака, глядя на людей, тоже разозлилась, она вскарабкалась на дерево, порвала клетку и сбросила ее на землю, но перепуганные скворцы успели выпорхнуть и взлететь на вершину дерева. Вдруг царский ослик тряхнул головой и зазвенел колокольчиком. А скворцы в ответ на звон снова принялись поносить царя и вельможу. Все глупцы и подхалимы, окружавшие царя царей, закричали, что надо изгнать с царского двора певцов, которые бранят царя и вельможу. И поднялась суматоха. Царская челядь стучала по дереву палками и бросала в скворцов камнями, попугай махал крыльями и кричал на ухо царю то доброе утро, то спокойной ночи, а обезьянка, забравшись на вершину дерева, старалась поймать перелетавших скворцов. Тут золотые скворцы навсегда улетели из царского сада.
На другой день до главного вельможи дошло, что изгнанники не забывают крамольных слов и где попало бранят царя дураком, а вельможу жуликом. Под страхом великой немилости всем подданным было приказано не давать золоченым пичужкам приюта и отдыха и безжалостно гнать их из владений Лежи-Полеживай. И началось гонение двух веселых скворцов по всей земле у теплого синего моря. Люди швыряли в них камнями, стреляли из пращей и самострелов, гонялись за ними по полям и лугам, не давая покормиться и отдохнуть.
И вот как-то под вечер усталые и голодные скворцы улетели на дикие пустынные холмы, опустились на ощипанное ветром дерево и прижались к его седому стволу. Далеко-далеко синела полоска моря, за нее погружалось солнце, и скворцы, освещенные зарей, горели на дереве, как два радужных огонька. Когда солнышко совсем нырнуло в море, холмы окутал сумрак. Изгнанники скворцы плотнее прижались к дереву и задремали. Они слышали, как в темном вечернем небе пролетали разные птицы стайками, парами и в одиночку. Сдержанно гоготали гуси, зазывно и грустно курлыкали журавли, пищали, звенели и щебетали мелкие птахи.
— Куда они так спешат? — спросила скворчиха.
— Наверное, туда, где их не выкрасят краской и не посадят в клетку, чтобы потом выбросить и зашвырять чем попало.
— И не помешают свить гнездо и вывести деток! — с грустью добавила скворчиха. — Почему бы и нам не полететь следом за этими птицами? Наверное, там очень спокойно и привольно, если все спешат туда, как на праздник, с веселыми криками.
На это скворец ничего не ответил, он был согласен. И вот утром, чуть только забрезжил рассвет, золоченые скворцы снялись с дерева, взмыли вверх и, набирая высоту, устремились в ту сторону, где занималась заря. Так летели они несколько дней, не торопясь, но поспевая за бегущей на север весной, за жаворонками и другими пичужками, что спешили: туда же. Изредка они, по примеру других птиц, останавливались, чтобы покормиться и отдохнуть или переждать встречный ветер и холода. И снова летели, а земля внизу была уже совсем не такая, как у теплого синего моря. Местами она белела от снега, который скворцы видели впервые. Потом они перелетели широкую полноводную реку. По воде плыли большие белые льдины, и река от того казалась еще суровей и стремительней. А за рекой опять пошла пестрая от снега земля. Густой ковер хвойных лесов наглухо прятал тайны этой новой земли, а по-весеннему голые березняки пестрели черными бревенчатыми избами с небольшими полянами вокруг. Это было царство лесного царя Берендея, по прозвищу Выдирай Пеньки.
— Мне жутко в этом диком краю с белой землей и темным лесом! — на лету пожаловалась скворчиха.
— Не трусь! — бодро ответил скворец. — Может быть, здесь люди умнее и добрее, чем на нашей родине!
Скворцы дружно нырнули вниз, к земле, и спусти лись на вершину высокого дерева, что дремало под, весенним солнцем рядом с избой царя Берендея. День начинался солнечный и теплый, и вся царская семья была во дворе. Сам Берендей, по прозвищу Выдирай Пеньки, в короне из курчавых волос, топором вытесывал из дуба рассошину для орала. Царица Берендеиха, подобрав подол юбки за поясок и засучив рукава, скребла и мыла крылечко перед весенним праздником бога Ярилы. Царевич Берендевич, сидя на завалинке, чинил уздечку для Сивки-Бурки. Царевна Берендевна толкла в ступе просо на кашу и провеивала его на ветру. Пятеро царят-берендят, радуясь теплу и весне, босые, худые и вихрастые, играли на проталинке у избы. Исхудавшие за зиму труженик Сивка-Бурка и рогатая Буренка вышли из повети погреться на солнышко. По двору бродили куры с горластым петухом во главе, у стены на припеке дремал пес Полкан, на крыше спал кот. На шестах вокруг двора белели конские и коровьи черепа, поднятые хозяином для отворота злых духов и мора на скотину. Поодаль от подворья, на пригорке, высилось Берендеево идолище. Огороженные частоколом деревянные истуканы-идолы не мигая глядели на солнышко, источая вместо слез капли душистой смолы. А по углам идолища опять же конские и коровьи черепа, ослепительно белые, с черными глазницами. Все это видели золотые скворцы с вершины высокого дерева. А царь Берендей, вытесывая из дуба рассошину для орала, негромко пел свою песню:
Сам Ярило жгучим оком Свет и жар на землю льет, Ночь да зиму прочь торопит И весну к нам в гости шлет. Лажу соху, лажу я Для орала рассошину, Распашу, засею я Льном да житом десятину!А высоко в небе звенели жаворонки, первые желанные гости Берендеева царства. Обогретые солнышком, скворцы тоже запели, но Берендею казалось, что это жаворонки со своей песней спустились пониже над избой, и он, обделывая рассошину, допевал свою песню:
Свет Ярило к нам идет, Над землей дыханьем веет, Спину греет Берендеям, Зимней стуже пятки жжет! Лажу соху, лажу я Рассошину для орала, Пусть раздобрится земля Урожаем небывалым! Дождались мы теплых дней, Мать-сыру землю орати, Льном и житом засевати Будет скоро Берендей!Но чуткие и зоркие берендята скоро заметили на дереве диковинных пичужек и закричали:
— Тятька, гляди! На нашу березу золотые пичужки прилетели! Золотые, огневые, нарядные! Поднял кверху бороду сам Берендей. Подставила ладонь к глазам Берендеиха. Загляделись на вершину березы царевич Берендевич и царевна Берендевна. Навострил уши пес Полкан, проснулся на крыше кот. А скворцы замолчали. Кто знает, не начнут ли эти люди швырять в них камнями и палками! Но снизу им никто не угрожал. Скворцы осмелели, спорхнули на спину Сивке-Бурке, покопались в шерсти и перелетели на спину Буренки. Все Берендеи, не шелохнувшись, глядели на невиданных пичужек, сверкавших разноцветными перьями. Пес Полкан вздумал гавкнуть, но получил пинок от Берендевича. Котище-пушистый хвостище спрыгнул с крыши и полз по земле. И получил от Берендевны пестом по боку. Покопавшись на коровьей спине, золоченые птахи перелетели на проталины, побегали, покормились и вспорхнули на березу. Тут они опять затирликали, затрещали, засвистели, попутно передразнивая всех, кого слышали — и кота, и галок, и собаку, и петуха, и стук Берендеева топора.
— Ах вы, проказники! — удивился царь Берендей и строго-настрого наказал своим берендятам всячески оберегать пичужек-новоселов. Тут царевич Берендевич, прибирая конскую сбрую, звякнул колечками и удилами уздечки. Скворцы услыхали и вспомнили:
— Царь царей дуралей! Вельможа жулик, жулик! Скворцы кричали на чужом языке, и никто их не понял. Старому Берендею чудилось в их криках совсем другое: «Будь здоров, царь Берендей, под горячим оком бога Ярилы! Выдирай пеньки, засевай землю, расти жито и семью, люби все живое на свете!» Целую неделю распевали скворцы по утрам над избой Берендея, улетая в полдень покормиться на проталинах. Потом стали хлопотливо подыскивать местечко для гнезда. Они заглядывали во все укромные уголки под крышей, в щели избы, забирались в глазницы конских черепов над воротами и на идолище. И Берендей сообразил: «Это они место для гнездышка ищут. Надо им помочь!» И сделал из кряжа дуплистой осины дуплянку-скворечницу. Это была самая первая скворечница на всей земле, на всем белом свете, сделанная руками человека. Проворные берендята быстро подвесили дуплянку на березе, а Берендей выдолбил на всякий случай другую и поднял ее на шесте над воротами. Обе дублянки скворцам понравились, и они не знали, какую выбрать. Долго без устали ныряли они то в одну, то в другую. Окна-летки Берендей второпях сделал тесноватыми, впору только пролезть, и вот, пока скворцы лазили взад-вперед, краска с их перышек постепенно стиралась. И никак новоселы не могли выбрать себе домик. Скворец настаивал на первой дуплянке, потому что на березе ему слаще было петь и не так жарко, а скворчихе понравилась дуплянка на шесте, потому что она летком была к солнышку, просторнее и светлее. Так вот, пока скворцы, выбирая домик-дуплянку, шныряли то в одну, то в другую, краски и позолота с них почти начисто осыпались. Наконец свили они гнездышко там, где хотелось скворчихе, — в дуплянке над воротами.
На досуге любили скворцы посидеть на крыше своего домика, пели и махали крылышками. И золотистой пыльцой слетали с их перьев остатки красок и позолоты. К тому времени как вывести детей, остались на скворцах только желтые крапинки да зеленоватый отлив. Повадились они летать на поляну, где Берендеи пеньки да коренья выдирали и землю под, просо копали. Прилетят и давай вредных гусениц да жучков выклевывать. Так и норовят из-под рук людей червячка схватить. И опять подивился царь Берендей:
— Какие ведь ловкие! Недаром посерели, чай, от работы да заботы краса-то вылиняла!
— И ведомо! — подстала Берендеиха. — Дом вести — не гузном трясти!
А шесть молодых скворцов, вылетевших из дуплянки, были еще серее. Когда детки поумнели и окрепли, старые скворцы их оставили и к середине лета вывели еще шесть скворчат. И стало в Берендеевом царстве четырнадцать серых скворцов, первых таких скворцов на всем белом свете. Все лето трудились скворцы, очищая владения Берендеев от вредных насекомых. Наперегонки бегали они по пашне, по борозде за пахарем, подбирая жучков и личинок. От сытой пищи молодые скворцы быстро выросли, выровнялись, и их трудно стало отличить от родителей. И с каждым днем они все больше привыкали к лесному царству Выдирай Пеньки, к труженикам Берендеям.
Но осенью, когда с полуночной стороны полетели на полдень первые стайки перелетных птиц, старые скворцы забеспокоились, собрали молодых и сказали:
— Скоро сюда придут холода. Надо улетать от них на нашу родину, туда, где всегда тепло!
И все четырнадцать серых скворцов улетели к теплому синему морю. Они спокойно прозимовали в стране царя Лежи-Полеживай, потому что среди стайки серых скворцов никто не мог теперь признать двух озорных золоченых скворцов. Но с приближением жаркой южной весны забеспокоились молодые скворцы. Они заскучали вдруг по стране Берендеев, где родились и выросли. Это был зов их родины, и, подчиняясь этому зову, они сказали старикам:
— А теперь полетим на нашу родину!
И всей стайкой полетели на север. Радостно встретили серых скворцов в Берендеевом царстве. Много новых дуплянок появилось на шестах и на деревьях: выбирайте, гости дорогие, любой домик, кому что мило! Босые, худые и вихрастые царята-берендята зорко охраняли гнезда скворцов от сорок и ворон, от котов и кровожадных ласочек. И забота их не пропала даром. К середине лета около сотни серых скворцов трудились на земле Берендеев, помогая урожаю. А осенью, когда все скворчиное племя тронулось в дальний путь, на зимовку к теплому синему морю, сам царь Берендей, по прозвищу Выдирай Пеньки, помахал им вслед своей старенькой войлочной шапчонкой:
— Доброй дороги вам, бесценные пичужки! Прилетайте опять!
Здесь конец сказки о том, как появились на лесной Руси серые скворцы. Племя их потом так разрослось, что заселило все равнины далеко на север от теплого синего моря.
Серебряный подойник
Вырос у нижегородского богача сынок, рябой да конопатый. Годов ему было много, а борода не росла. За такого и девки замуж не шли. Вот и женили парня на бедной девке, лицом тоже неказистой, с родимым пятном во всю щеку. За этот изъян ее Родинкой кликали. Чтобы поскорее разбогатеть, откупил молодой мужик на большой дороге постоялый двор и на житье туда с женой перебрался. И дело сразу к богатству пошло. От постоялого двора в любой конец до жилья много верст глухим лесом. Путникам поневоле было тут ночевать и платить за постой, сколь хозяин назначит. А по старинным приметам шадровитый да рябой — человек неуступчивый, скупой. Вот и этот конопатый молодец что больше богател, то пуще жадничал. Богатство прибывало, а борода не росла. Три волосинки — на смех людям! Так и прозвали: безбородый да безбородый.
Вот среди зимы в праздники выпала морозная неделя, путников не было, всяк дома отсиживался, морозы пережидал да Новый год встречал. Досадно было безбородому, что дни без барыша пропадали. На крыльцо выходил да прислушивался, не едет ли кто откуда. Вот услыхал он, что в лесу бубенец звенит, топоток да скрип по снегу. «Кто-то знатный да богатый едет!» — подумал мужик и приказал бабенке печку топить, лежанку греть. Вот слышно: совсем рядом скрипит да позванивает. И вышла из леса старушоночка с посошком, с подойником на локотке. — Лапотки скрип-скрип, посошок стук-стук. За старой девчоночка лет, чай, семи, тоже в лапотках, в шубеночке, веревочкой подпоясана. А за ней белая козочка с бубенцом на шее, топы-топ, топы-топ, да еще норовит вприскочку, играючи! Вошла старая с девчоночкой да козочкой в избу и спрашивает: — Чай, пустите ночевать, люди добрые? Хозяин ответить не успел, как Родинка приветила:
— Ночуй, ночуй, матушка! И тебе, и внучке, и козочке места хватит, изба просторная! Обогрелась старушка и, перед тем как спать, присела козочку подоить. Под струйками молока зазвенел подойник, словно песенку запел, заговорил, как живой. Подивился хозяин:
— Какой звонкий! Чай, не серебряный?
— Кто его знает, — ответила бабка, — от родителей достался!
Подоила козочку, кружку молока внучке налила, остатки в хозяйские крынки слила, подойник на стену повесила. И уснула возле внучки на лежанке. А хозяину не спалось, все по избе ходил да на подойник завидовал: «Ох, много тут серебра положено!»
Вот ночевала старая и утром в дорогу засобиралась. За ночлег алтын-денежку хозяину подает и спасибо сказывает. А безбородый в ответ:
— А что так мало? Меньше полтины не беру! За себя полтину да за внучку с козой по четвертаку — вот и целковый!
Пошарила бабка по сарафану, ощупала карманы и не нашла ни грошика. Тут Родинка голос подала:
— Полно, хозяин, не жадничай, отпусти без выкупа!
Но заупрямился конопатый:
— Коли нечем за постой заплатить, так козу с подойником в заклад оставляй!
Призадумалась старушоночка, затуманилась. А у девчушки на глазах слезинки выскочили.
— Ладно, — молвила старушка, — оставим и козу и подойничек. Только ты, добрая душа хозяюшка, не ленись по утрам нашу козочку доить!
Потом на прощанье козочку приласкали, по спинке погладили и со двора потрусили. Только лапотки заскрипели да посошок застучал по мерзлой дороге. Прошла неделя-другая, а старушоночка за козой не приходила. Хозяин, радуясь, посмеивался: «Видно, рубля не накопила. Вот и пусти каргу без заклада. А теперь у нас лишняя скотина на дворе да серебряный подойник на стене!»
Только козочка по старой хозяйке скучала. А новая ее утешала:
— Не грусти, голубка, скоро хозяюшка придет! Вот как-то вышла Родинка во двор козочку подоить, присела и начала в подойник молоко чиркать. Зазвенел, запел подойник, словно песенку веселую запел. А козочка вдруг передним копытцем по донышку стук-постук! Подскочило молоко из подойника и бабеночке в лицо брызнуло.
— Эка озорница! — молвила Родинка и тряпочкой лицо вытерла.
Подоила, в избу пришла и мужу рассказывает, как ее коза молоком обрызгала. Глянул безбородый и не узнает жены. На щеках и на лбу ни одного пятнышка, ни бородавки, ни родинки, лицо чистое да белое, брови стрелами, глаза как синие пуговицы, а коса густая, волнистая, ниже пояса. Удивился безбородый, на жену глядючи:
— Ух ты, какая стала баская! Видно, не простое у козы молоко, наговоренное!
Хвалил жену, а сам завидовал: «Какая ведь раскрасавица! Такую бабу и боярин подберет!» На другое утро говорит жене:
— Дай-ка я сам разок козу подою!
Схватил подойничек, выбежал во двор и давай козу за вымя тянуть. Но поджалась коза, не дает молока мужику. Со зла начал он козу кулаком в бок тыкать, неистово за соски тянуть. Надоил молока чуть на донышко, плеснул себе в лицо и умылся.
Бросил подойник и домой прибежал.
— Ну-ка, погляди, жена, какой я стал? Пропали ли мои шадрины да конопатины?
Глянула Родинка и ахнула. У мужика разом козлиная бороденка выросла, из ушей шерсть полезла, а на лбу бугорки-рожки наметились. Тут кто-то в сенях по полу пробарабанил. Глянули на улицу, а там коза с подойничком на рогах вприскок в ту сторону пустилась, куда старушка с девчоночкой ушли. И больше ее не видели.
Рассказывают у нас старые люди, что с той поры и повелись на свете люди с жиденькой козлиной бородой, по приметам самые скупые и непокладистые. Этому и поверить можно. В лесной-то стороне и не такие чудеса бывают.




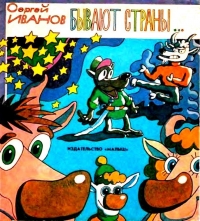


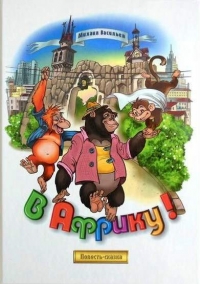

Комментарии к книге «Легенды и сказы лесной стороны», Сергей Васильевич Афоньшин
Всего 0 комментариев