Андерсен ДИКИЕ ЛЕБЕДИ и другие сказки
ХРАБРЫЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
или-были двадцать пять оловянных солдатиков. Все они родились от одной матери — старой оловянной ложки, — а значит, приходились друг другу родными братьями. Были они красавцы писаные: мундир синий с красным, ружье на плече, взгляд устремлен вперед!
«Оловянные солдатики!» — вот первое, что услыхали братья, когда открылась коробка, в которой они лежали. Это крикнул маленький мальчик и захлопал в ладоши. Солдатиков ему подарили в день его рождения, и он тотчас же стал расставлять их на столе. Оловянные солдатики походили друг на друга, как две капли воды, и лишь один отличался от своих братьев: у него была только одна нога. Его отливали последним, и олова на него не хватило. Впрочем, он и на одной ноге стоял так же твердо, как другие на двух. И он-то как раз и отличился.
Мальчик расставил своих солдатиков на столе. Там было много игрушек, но красивее всех был чудесный замок из картона; сквозь его маленькие окна можно было заглянуть внутрь и увидеть комнаты. Перед замком лежало зеркальце, оно было совсем как настоящее озеро, а вокруг стояли маленькие деревья. По озеру плавали восковые лебеди и любовались своим отражением. Все это радовало глаз, но очаровательней всего была молоденькая девушка, стоявшая на пороге широко раскрытых дверей замка. Она тоже была вырезана из картона. Юбочка ее была из тончайшей кисеи, узкая голубая ленточка спускалась с плеча к поясу. Ленточка была прикреплена сверкающей блесткой, очень большой, — она могла бы закрыть все личико девушки. Красавица эта была танцовщица. Она стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а другую ногу подняла так высоко, что оловянный солдатик не сразу ее разглядел и сначала подумал, что красотка одноногая, как и он сам.
«Вот бы мне такую жену, — подумал оловянный солдатик. — Только она, наверное знатного рода, она живет в замке, а я в коробке; к тому же нас там целых двадцать пять штук. Нет, в коробке ей не место, но познакомиться с ней все же не мешает!» — и, растянувшись во всю длину, он спрятался за табакеркой, тоже стоявшей на столе. Отсюда он мог не отрываясь смотреть на хорошенькую танцовщицу, которая все стояла на одной ножке, никогда не теряя равновесия.
Вечером всех других солдатиков уложили обратно в коробку, и люди тоже легли спать. Тогда игрушки сами стали играть в гости, потом в войну, а потом устроили бал. Оловянные солдатики завозились в коробке — им тоже захотелось поиграть, но они не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, а грифель пошел плясать по аспидной доске.
Поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Только солдатик и танцовщица не-сдвинулись с места. Она по-прежнему стояла на одной ножке, протянув руки вперед, а он застыл с ружьем на плече и ни на минуту не спускал глаз с девушки.
Пробило двенадцать.
И вдруг — щелк, щелк! Это раскрылась табакерка. Табака в табакерке не было; в ней сидел маленький черный тролль, очень искусной работы.
— Эй, оловянный солдатик! — крикнул тролль. — Перестань пучить глаза на то, что не про твою честь!
Но оловянный солдатик сделал вид, будто не слышит.
— Ну погоди! Придет утро, увидишь! — сказал тролль.
Утром дети проснулись и переставили оловянного солдатика на окно. И тут — то ли по вине тролля, то ли по вине сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел кувырком с третьего этажа. Вот страшно-то было! Он упал на голову, а его каска и штык застряли между булыжниками, — и он так и остался стоять на голове, задрав ногу кверху.
Служанка и младший из мальчиков сейчас же выбежали на улицу искать солдатика. Искали, искали, чуть было не раздавили его и все-таки не нашли. Крикни солдатик: «Я тут!» — они, конечно, увидели бы его, однако он считал неприличным громко кричать на улице, да еще будучи в мундире.
Но вот пошел дождь; он шел все сильней и сильней и, наконец, хлынул как из ведра, а когда перестал, на улицу выбежали мальчишки Их было двое, и один из них сказал:
— Смотри, вон оловянный солдатик. Давай-ка отправим его в плавание!
Они сделали из газеты лодочку, поставили в нее оловянного солдатика и пустили ее по водосточной канаве.
Лодочка плыла, а мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Боже ты мой! Как бились волны о стенки канавки, какое сильное в ней было течение! Да и немудрено, ведь ливень был славный! Лодочка то ныряла, то взлетала на гребень волны, то вертелась, и оловянный солдатик вздрагивал; но он был стойкий и все так же невозмутимо смотрел вперед, держа ружье на плече.
Вот лодочка подплыла под мостик, и стало так темно, что солдатику показалось, будто он снова попал в свою коробку.
«Куда ж это меня несет? — думал он. — Все это проделки тролля! Вот если бы в лодочке со мной сидела маленькая танцовщица, тогда пускай бы хоть и вдвое темнее было».
В эту минуту из-под мостика выскочила большая водяная крыса, — она здесь жила.
— А паспорт у тебя есть? — крикнула крыса. — Предъяви паспорт.
Но оловянный солдатик молчал и еще крепче прижимал к себе ружье. Лодочка плыла все дальше, а крыса плыла за ней. Ох, как она скрежетала зубами, крича встречным щепкам и соломинкам: — Держите его! Держите! Он не уплатил дорожной пошлины, не предъявил паспорта!
Лодочку понесло еще быстрее; скоро она должна была выплыть из-под мостика — оловянный солдатик уже видел свет впереди, — но тут раздался грохот до того страшный, что, услышав его, любой храбрец задрожал бы от страха. Подумать только: канавка кончалась, и вода падала с высоты в большой канал! Оловянному солдатику грозила такая же опасность, какой подверглись бы мы, если бы течение несло нас к большому водопаду.
Но вот лодка выплыла из-под мостика, и ничто уже не могло ее остановить. Бедный солдатик держался все так же стойко, даже глазом не моргнул. И вдруг лодка завертелась, потом накренилась, сразу наполнилась водой и стала тонуть. Оловянный солдатик уже стоял по шею в воде, а лодка все больше размокала и погружалась все глубже; теперь вода покрыла солдатика с головой. Он вспомнил о прелестной маленькой танцовщице, которую ему не суждено больше увидеть, и в ушах у него зазвучала песенка:
Вперед, о воин! Иди на смерть.Бумага совсем размокла, прорвалась, и солдатик уже стал тонуть, но в этот миг его проглотила большая рыба.
Ах, как темно было у нее в глотке! Еще темней, чем под мостиком, и в довершение всего так тесно! Но оловянный солдатик и тут держался стойко — он лежал, вытянувшись во всю длину, с ружьем на плече.
А рыба, проглотив его, стала неистово метаться, бросаясь из стороны в сторону, но вскоре затихла. Прошло некоторое время, и вдруг во тьме, окружавшей солдатика, молнией блеснуло что-то блестящее, потом стало совсем светло и кто-то громко воскликнул: «Оловянный солдатик!»
Вот что произошло: рыбу поймали и снесли на рынок, а там кто-то купил ее и принес на кухню, где кухарка, разрезала рыбу острым ножом, увидев солдатика, она взяла его двумя пальцами за талию и отнесла в комнату. Вся семья собралась поглядеть на удивительного человечка, который совершил путешествие в рыбьем брюхе, но оловянный солдатик не возгордился.
Его поставили на стол, и вот — чего только не бывает на свете! — солдатик снова очутился в той же самой комнате, где жил раньше, и увидел тех же знакомых ему детей.
Те же игрушки по-прежнему стояли на столе и тот же чудесный замок с прелестной маленькой танцовщицей. Она все так же прямо держалась на одной ножке, высоко подняв другую, — ведь она тоже была стойкая! Все это так растрогало оловянного солдатика, что из глаз его чуть не покатились оловянные слезы. Но солдату плакать не полагается, и он только посмотрел на танцовщицу, — а она на него. Но ни он, ни она ни слова не вымолвили.
Вдруг один из малышей схватил солдатика и швырнул его прямо в печку — неизвестно зачем, должно быть его подучил злой тролль, сидевший в табакерке.
Теперь солдатик стоял в топке, освещенный ярким пламенем и было ему нестерпимо жарко; он чувствовал, что весь горит, — но что сжигало его — пламя или любовь, этого он и сам не знал. Краски на нем полиняли — но было ли то от горя, или же они сошли еще во время его путешествия, этого тоже никто не знал. Он не сводил глаз с маленькой танцовщицы, она тоже смотрела на него, и он чувствовал, что тает, однако все еще стоял прямо, с ружьем на плече. Но вдруг дверь в комнату распахнулась, сквозняк подхватил танцовщицу, и она, как мотылек, впорхнула в печку, прямо к оловянному солдатику, вспыхнула ярким пламенем— и ее не стало. Тут оловянный солдатик совсем расплавился. От него остался только крошечный кусочек олова. На следующий день, когда служанка выгребала золу, она нашла в топке оловянное сердечко А от танцовщицы осталась только блестка. Но она уже не сверкала — почернела, как уголь.
ЦВЕТЫ МАЛЕНЬКОЙ ИДЫ
едные мои цветочки умерли! — сказала маленькая Ида. — Еще вчера вечером они были такие красивые, а теперь все поникли. Отчего это они так? — спросила она студента, сидевшего да диване.
Она очень любила этого студента; он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать из бумаги презабавные картинки — сердечки с крошками-танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями, которые можно было открыть. Великий затейник был этот студент!
— Почему у цветов такой плохой вид сегодня? — снова спросила Ида и показала ему увядший букет.
— Знаешь что? — сказал студент. — Сегодня ночью цветы были на балу, — вот они теперь и повесили головки.
— Да ведь цветы не танцуют! — удивилась маленькая Ида.
— Танцуют! — возразил студент. — По ночам, когда темно, и все мы спим, они весело пляшут друг с другом. Почти каждую ночь у них бывает бал.
— А детям нельзя пойти к ним на бал?
— Можно, — сказал студент. — Ведь маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.
— А где танцуют самые красивые цветы? — спросила маленькая Ида.
— Ты бывала за городом, где стоит большой дворец, — летом в нем живет король, — и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то у цветов и бывают настоящие балы?
— Я еще вчера была там с мамой, — сказала маленькая Ида, — но теперь на деревьях больше нет листьев, а в саду нет цветов. Куда они подевались? Летом их так много!
— Они все во дворце, — ответил студент. — Надо тебе сказать, что как только король и придворные переедут в город, цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там для них наступает веселое время! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон — это король с королевой. А красные петушьи гребешки становятся возле них, стоят и кланяются, — это камер-юнкеры. Потом приходят другие прекрасные цветы, и начинается бал.
Гиацинты и крокусы изображают маленьких морских кадетов и танцуют с барышнями — голубыми фиалками; а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы, и они следят за тем, чтобы все танцевали чинно и вообще вели себя прилично.
— А цветочкам не достанется за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила маленькая Ида.
— Да ведь никто не знает, что они там танцуют! — ответил студент. — Правда, старик смотритель иной раз заглянет во дворец ночью с большой связкой ключей в руках, но цветы, как только заслышат бренчание ключей, сейчас же присмиреют, спрячутся за длинные занавески, которые висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда, одним глазом.
«Тут что-то пахнет цветами!» — бурчит тогда старик смотритель, а видеть ничего не видит.
— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и даже в ладоши захлопала. — Значит, я тоже не могу их увидеть?
— Можешь — ответил студент. — Загляни в окошки, когда опять пойдешь туда, вот и увидишь. Сегодня я видел там длинную желтую лилию: она лежала и потягивалась на диване — воображала себя придворной дамой.
— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда, хотя сад далеко от дворца?
— Ну, конечно, могут! — ответил студент. — Ведь они умеют летать и летают когда захотят. Разве ты не заметила, до чего красивы бабочки, красные, желтые, белые? Они совсем как цветы и когда-то были цветами. Однажды прыгнули они со стебелька высоко в воздух, захлопали лепестками, словно крошечными крылышками, и полетели. А так как они вели себя хорошо, то им позволили летать и днем. Теперь им уже не нужно было возвращаться домой и смирно сидеть на стебельке, вот их лепестки и превратились в настоящие крылья. Ты ведь это сама видела. А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце. Может быть, они даже не знают, как там весело по ночам. Вот что ты должна сделать, — и пусть потом удивляется профессор ботаники, который живет тут рядом, ты ведь его знаешь? — Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце! Цветок расскажет об этом остальным, и все они убегут. Профессор придет в сад, а там ни единого цветочка! То-то он удивится! «Куда же они девались?» — подумает.
— Да как же цветок расскажет другим? Цветы ведь не говорят.
— Конечно, нет, — проговорил студент, зато они умеют объясняться знаками. Ты сама видела, как они качаются, чуть подует ветерок, как шевелят своими зелеными листочками. И они так же хорошо понимают друг друга, как мы, когда беседуем.
— А профессор понимает их? — спросила маленькая Ида.
— Разумеется! Однажды утром он пришел в сад и видит, что высокая крапива делает знаки своими листьями прелестной красной гвоздике. Вот что ей говорила крапива: «Ты так мила, я тебя очень люблю». Профессору это не понравилось, и он ударил крапиву по листьям, а листья у нее — все равно что у нас пальцы, — ударил и обжегся! С тех пор он не смеет ее трогать.
— Вот забавно! — сказала маленькая Ида и засмеялась.
— Ну можно ли набивать голову ребенку такими пустяками? — возмутился скучный советник, который тоже пришел в гости к родителям Иды и сидел на диване.
Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезал затейливые и забавные фигурки — вроде человека на виселице и с сердцем в руках (его повесили за то, что он был сердцеедом) или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу.
Все это очень не нравилось советнику, и он вечно твердил:
— Ну можно ли набивать голову ребенку такими пустяками? Что за дурацкая фантастика?
Но маленькую Иду очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала о них целый день. Итак, цветы повесили головки потому, что устали после бала. Немудрено, что они захворали.
Маленькая Ида понесла цветы к столику, на котором стояли все ее игрушки; ящик этого столика тоже был битком набит разными разностями.
В кукольной кроватке спала кукла Софи, но маленькая Ида разбудила ее.
— Тебе придется встать, Софи — сказала она, — и эту ночь провести в ящике. Бедные цветы больны; их надо положить в твою постельку — тогда они, может быть, выздоровеют.
И она вынула куклу из кроватки. Вид у Софи был очень недовольный, но она не сказала ни слова, рассердившись на Иду за то что она подняла ее с кровати.
Маленькая Ида уложила цветы в постельку, хорошенько укрыла их одеяльцем и велела им лежать смирно, обещая за это напоить их чаем и уверяя, что тогда они утром встанут совсем здоровыми.
Потом она задернула полог, чтобы солнце не светило в глаза ее цветочкам.
Весь вечер рассказ студента не выходил у нее из головы, и, собираясь идти спать, девочка не удержалась и заглянула за спущенные на ночь оконные занавески.
На подоконниках стояли чудесные цветы ее матери — тюльпаны и гиацинты, — и маленькая Ида шепнула им тихо-тихо:
— А я знаю, что ночью вы пойдете на бал!
Цветы сделали вид, что ничего не поняли; они даже не шелохнулись. Ну да маленькую Иду не проведешь!
В постели Ида еще долго думала все о том же и представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» — подумала она и заснула.
Но посреди ночи маленькая Ида вдруг проснулась: она только что видела во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и родители девочки крепко спали.
— Интересно, спят ли мои цветы в кукольной постельке? — сказала себе маленькая Ида. — Как бы мне хотелось это знать! — Она приподнялась, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой лежали ее игрушки и цветы, потом стала прислушиваться. И вот ей показалось, будто в соседней комнате играют на рояле, но очень тихо и нежно, такой музыки ей еще не приходилось слышать.
— Должно быть, цветы танцуют! — сказала себе Ида. — Как бы мне хотелось на них посмотреть!
Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить родителей.
— Хоть бы цветы сами вошли сюда! — мечтала она.
Но цветы не входили, а чудесная музыка все звучала. Тогда маленькая Ида не выдержала, потихоньку вылезла из кроватки, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в соседнюю комнату. О, как там было хорошо!
В той комнате ночник не горел, но тем не менее было совсем светло от месяца, смотревшего из окошка прямо на пол, где в два ряда выстроились тюльпаны и гиацинты.
На окнах не осталось ни одного цветка, там стояли только горшки с землей. А на полу все цветы танцевали друг с другом да так мило: то становились в круг, то протягивали друг другу длинные зеленые листочки и кружились попарно. На рояле играла большая желтая лилия, — наверное, это ее видела маленькая Ида летом! Девочка помнила, как студент сказал: «Ах как она похожа на фрекен Лину!» Тогда все подняли его на смех, но теперь Иде и в самом деле почудилось, будто длинная желтая лилия похожа на Лину. Она и на рояле играла точь-в-точь как Лина — поворачивала свое длинное желтое лицо то в одну сторону, го в другую и кивала в такт чудесной музыке. Иды не заметил никто.
Но вдруг маленькая Ида увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кроватке и отдернул полог. На кроватке лежали больные цветы; они быстро встали и кивнули в знак того, что и им тоже хочется танцевать.
Старый Курилка со сломанной нижней губой встал и поклонился прекрасным цветам. Они были ничуть не похожи на больных, спрыгнули на пол и, очень довольные стали танцевать с другими цветами.
В эту минуту послышался стук — словно что-то упало со стола. Ида посмотрела в ту сторону. Оказалось, это масленичная верба быстро спрыгнула вниз к цветам, так как считала себя их родственницей. Верба, украшенная бумажными цветами, тоже была очень мила; на верхушке ее сидела крошечная восковая куколка в широкополой шляпе, точь-в-точь такой, как у советника.
Громко топая своими тремя красными деревянными ножками, верба прыгала среди цветов.
Она танцевала мазурку, а другие цветы не знали, этого танца, потому что были слишком легки и не могли топать с такой силой.
Но вот куколка на вербе вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:
— Ну можно ли набивать голову ребенка такими пустяками? Что за дурацкая фантастика?
Теперь кукла была удивительно похожа на советника — в такой же широкополой шляпе, такая же сердитая и желтая!
Но бумажные цветы ударили ее по тонким плечам, и она совсем съежилась, снова превратившись в крошечную восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха.
Верба продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину, или оставался крошечной восковой куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец, цветы, особенно те, что лежали в кукольной кроватке, стали жалеть советника, и верба оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике стола, где вместе с другими игрушками лежала кукла Софи. Курилка добежал до края стола, лег ничком и слегка выдвинул ящик.
Софи встала и удивленно огляделась.
— Да тут, оказывается, бал! — проговорила она — Почему мне об этом не сказали?
— Хочешь танцевать со мной? — спросил ее Курилка.
— Хорош кавалер! — отрезала Софи и повернулась к нему спиной, потом уселась на ящик и стала ждать, что ее пригласит какой-нибудь цветок; но никто и не думал ее приглашать. Тогда она принялась покашливать: «кх, кх, кх!» Но и тут никто к ней не подошел. А Курилка плясал один, и не так уж плохо.
Заметив, что цветы на нее и не смотрят, Софи вдруг свалилась с ящика на пол, да с таким грохотом, что все сбежались, окружили ее и стали спрашивать не ушиблась ли она. Цветы разговаривали с нею очень ласково, особенно те, которые только что спали в ее кроватке. Софи ничуть не ушиблась, и цветы маленькой Иды стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели с собой в лунный кружок на полу и начали танцевать с ней; а другие цветы затеяли хоровод и плясали вокруг них.
Тогда Софи, очень довольная, сказала цветочкам, что уступает им свою кроватку, — ей хорошо и в ящике.
— Спасибо, — отозвались цветы, — но мы не можем жить долго. Утром мы совсем умрем. Скажи только маленькой Иде, чтобы она похоронила нас в саду, где зарыта канарейка. Летом мы опять вырастем и будем еще красивее.
— Нет, вы не должны умирать! — воскликнула Софи и поцеловала цветы.
В это мгновение дверь отворилась, и в комнату вошла целая толпа красивейших цветов. Маленькая Ида никак не могла понять, откуда они взялись, — должно быть, из королевского дворца. Впереди шли две прелестные розы в маленьких золотых коронах, — это были король с королевой.
За ними, раскланиваясь во все стороны, двигались чудесные левкои и гвоздики. Музыканты — крупные маки и пионы — дули в стручки, краснея от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! За музыкантами шло множество других цветов, и все они танцевали — и голубые фиалки, и красные маргаритки, и ромашки, и ландыши. Цветы танцевали и целовались да так мило, что просто загляденье!
Наконец, все пожелали друг другу доброй ночи, а маленькая Ида пробралась в свою кроватку, и до утра ей снились цветы и все, что она видела ночью.
Утром она встала и побежала к своему столику — посмотреть, там ли ее цветочки.
Она отдернула полог… Да, цветы лежали в кроватке, но совсем, совсем увядшие! Софи тоже лежала на своем месте, в ящике, и лицо у нее было сонное.
— А ты помнишь, что тебе велели передать мне? — спросила маленькая Ида.
Но Софи только тупо смотрела на нее, не раскрывая рта.
— Какая же ты нехорошая! — сказала маленькая Ида. А они еще танцевали с тобой!
Потом она взяла картонную коробочку, на крышке которой была нарисована хорошенькая птичка, открыла ее и положила туда мертвые цветы.
— Вот вам и гробик! — сказала она. — А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы вы на будущее лето опять выросли и стали еще красивее!
Йонас и Адольф, двоюродные братья Иды, приехавшие из Норвегии, были бойкие мальчуганы. Отец подарил им по новому самострелу, и они взяли их с собой, чтобы показать Иде. Она рассказала мальчикам про бедные умершие цветы и велела похоронить их. Впереди шли мальчики с самострелами на плечах, за ними — маленькая Ида с мертвыми цветами в коробке. Могилку вырыли в саду. Ида поцеловала цветы и опустила коробку в ямку, а Йонас с Адольфом выстрелили над могилой из самострелов — ни ружей, ни пушек у них ведь не было.
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ
алеко-далеко в той стране, куда улетают ласточки, когда у нас настает зима, когда-то жил король. У него было одиннадцать сыновей и одна дочка, Элиза. Одиннадцать братьев-принцев ходили в школу со звездой на груди и саблей на боку, а писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать и по книжке и наизусть. Сразу было видно, что это принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.
Да, этим детям жилось куда как хорошо! Только недолго длилось их счастье…
Король, их отец, женился на злой королеве, и она невзлюбила бедных сирот. Им пришлось это почувствовать на себе в первый же день. Когда во дворце шло веселье и дети затеяли игру в гости, мачеха вместо пирожных и печеных яблок, которые дети обычно получали вдоволь, насыпала им полную чашку песку и сказала, что они могут вообразить, будто это лакомство.
Через неделю она отдала маленькую Элизу на воспитание в крестьянскую семью, жившую в деревне, а потом так наклеветала королю на бедных принцев, что он и видеть их больше не хотел.
— Ну, разлетайтесь на все четыре стороны! — сказала однажды злая королева. — Обратитесь в безголосых птиц и сами о себе заботьтесь. Однако она все-таки не смогла причинить им столько зла, сколько хотела: принцы, правда, обратились в птиц, но не в таких как желала королева, — одиннадцать прекрасных диких лебедей с криком вылетели в окна из дворца и понеслись над парком и лесом.
Было еще раннее утро, когда лебеди полетели к деревенскому домику, где крепким сном спала их сестрица Элиза. Они летели над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто их не услышал и не увидел; так и пришлось им улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они и под самыми облаками полетели к большому темному лесу, что тянулся до самого моря.
В крестьянском домике бедная маленькая Элиза играла зеленым листом, — других игрушек у нее не было. Проткнув в этом листе дырочку, Элиза смотрела сквозь нее на солнце, и ей казалось, будто она видит ясные глаза своих братьев; когда же по ее щечке скользили теплые лучи, она вспоминала, как братья целовали ее.
Дни шли за днями, один похожий на другой. Всякий раз, как ветер колыхал розовые кусты, которые росли возле дома, и шептал розам: «Что может быть красивее вас?» — розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Всякий раз, как в воскресный день старушка читала молитвенник у дверей своего домика, а ветер переворачивал листы и нашептывал книге: «Кто может быть благочестивей тебя?» — книга отвечала: «Элиза благочестивее». И розы и молитвенник говорили сущую правду.
Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Как увидела королева, какой красавицей стала Элиза, разгневалась и возненавидела ее. Она охотно превратила бы падчерицу в дикого лебедя, да не посмела, потому что король хотел видеть свою дочь.
Тогда королева рано утром пошла в мраморную купальню, украшенную роскошными коврами и мягкими шкурами, поймала трех жаб, поцеловала их и сказала первой:
— Прыгни Элизе на голову, когда она войдет сюда, в купальню: пусть она станет такой же тупой, как ты! А ты прыгни Элизе на лоб, — приказала она другой жабе, — пусть она станет такой же безобразной, как ты; тогда и отец родной ее не узнает! Ну а ты прыгни ей на сердце, — шепнула королева третьей жабе, — пусть она озлобится и сама страдает от своей злости!
Сказав это, она бросила жаб в прозрачную воду, и вода мгновенно позеленела. Тогда королева позвала Элизу, раздела ее и приказала ей выкупаться.
Элиза погрузилась в воду — тут одна жаба запуталась у нее в волосах, другая села ей на лоб, а третья на грудь.
Но девушка этого даже не заметила: только когда она вышла из бассейна, по воде поплыли три красных мака.
Это жабы превратились в маки, полежав у Элизы на голове и груди, а не будь они отравлены поцелуем ведьмы, они сделались бы красными розами. На Элизу колдовство подействовать не могло, так как она была благочестива и невинна.
Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что кожа у нее стала темнокоричневой, вымазала ее прелестное личико вонючей мазью и спутала ее чудесные волосы. Теперь красавицу Элизу и узнать было нельзя. Даже король, увидев ее, испугался и не признал в ней своей родной дочери. Да и никто не узнавал Элизы, кроме цепной собаки и ласточек; но ведь они были просто ничтожные твари, и с ними не считались.
Заплакала бедняжка Элиза и вспомнила о своих изгнанных братьях. Удрученная, она тайком ушла из дворца и целый день бродила по полям и болотам, прибираясь к огромному лесу. Она сама хорошенько не знала, в какую сторону идти, но так стосковалась по братьям, которых тоже выгнали из родного дома, что решила найти их во что бы то ни стало.
Не успела Элиза углубиться в лес, как совсем стемнело, и она заблудилась. Тогда девушка улеглась на мягкий мох и положила голову на пень. В лесу было тихо и тепло; в траве, как зеленые блуждающие огоньки, мелькали сотни светлячков, и когда Элиза слегка задела ветки кустика, на землю звездным дождем посыпались блестящие искры.
Всю ночь Элиза видела во сне братьев. Снилось ей, будто все они опять стали детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стоила полкоролевства. Но теперь они писали не черточки и нулики, как прежде, — нет, они рассказывали обо всем, что видели и пережили. А картинки в книжке были живые: нарисованные птицы пели, люди соскакивали со страниц и разговаривали с Элизой и ее братьями. И всякий раз, как она переворачивала страницу, рисунки прыгали на свои места, чтобы не перепутаться.
Когда Элиза проснулась, солнце поднялось уже высоко. Его не было видно за густой листвой, но лучи его протянулись над верхушками высоких деревьев, как золотистая ткань. Растения благоухали, птички подлетали к Элизе так близко, что казалось — вот-вот сядут к ней на плечи. Она услыхала плеск воды: это несколько родников, слившись вместе, образовали водоем с чудесным песчаным дном. Правда, вокруг него разрослись кусты, но в одном месте олени проделали для себя в этой изгороди широкий проход, и Элиза смогла по нему спуститься к водоему. Вода в нем была так прозрачна, что, если бы ветер не шевелил ветвей, деревья и кусты можно было бы принять за нарисованные, — так ясно отражался в зеркале вод каждый листик, и освещенный солнцем и прятавшийся в тени.
Элиза даже испугалась, когда увидела в воде свое лицо — такое оно было черное и безобразное; но стоило ей зачерпнуть воды и ополоснуть глаза и лоб, как ее нежная кожа опять засияла белизной.
Тогда Элиза разделась, вошла в свежую чистую воду и снова стала такой красавицей королевной, какой во всем свете не сыскать.
Одевшись, она заплела в косу свои длинные волосы и подошла к журчащему источнику. Зачерпнув рукой воды, она выпила ее и побрела дальше по лесу, сама не зная куда и думая о своих братьях.
Увидев дикую яблоню, ветви которой гнулись от тяжести плодов, Элиза съела несколько яблок, а утолив голод, подперла ветви шестами и пошла в глубь леса.
Там была такая тишина, что девушка слышала свои собственные шаги, слышала даже шуршанье каждого сухого листика, попавшего ей под ноги. Ни одна птичка не залетала в эту глушь, ни один солнечный луч не мог проникнуть в темную чащу.
Огромные деревья с высокими стволами стояли почти соприкасаясь, и когда Элиза смотрела прямо перед собой, ей чудилось, будто дорогу ей преграждает частокол. Никогда еще девушка не чувствовала себя такой одинокой.
А ночь была темная-темная! Во мху не светилось ни одного светлячка. Печальная Элиза улеглась на траву; и вдруг ей почудилось, будто ветви над нею раздвинулись и на нее глядят чьи-то глаза. Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли то во сне, или наяву.
Элиза пошла дальше в лес, и вот ей повстречалась старушка с корзинкой в руках.
В корзинке были ягоды, и старушка угостила ими девушку, а та спросила, не проезжали ли тут по лесу одиннадцать принцев.
— Нет, — ответила старушка, — но вчера я видела, как здесь по реке плыли одиннадцать лебедей в золотых коронах, — и она повела Элизу к обрыву над рекой.
На обоих ее берегах росли деревья, протянувшие друг другу длинные густолиственные ветви. Некоторым деревьям было трудно сплести свои ветви с ветвями собратьев, стоявших на другом берегу, и они так вытянулись над водой, что корни их вылезли из земли — таким образом они все-таки добились своего.
Простившись со старушкой, Элиза пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.
И вот молодая девушка увидела прекрасное безбрежное море, но не видно было на нем ни одного паруса, не было и лодочки, на которой она могла бы пуститься в дальнейший путь. Берег был усыпан камешками. Море выбросило их на сушу и так отшлифовало, что они сделались совсем круглыми. Да и остальные выброшенные морем предметы — стекло, железо, крупные камни — тоже носили на себе следы морских волн, а ведь вода была мягче нежных рук девушки.
Увидела все это Элиза и подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и сглаживают острые края и углы даже у самых твердых предметов. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны. Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям».
Но вот девушка заметила на выброшенных морем водорослях одиннадцать белых лебединых перьев, собрала их и связала в пучок. На перьях еще блестели светлые капли — росы или слез, кто знает! Пустынно было на берегу, но Элиза не скучала: ведь море то и дело менялось, и за несколько часов тут можно было увидеть больше, чем на берегу пресного озера за целый год. Надвигалась большая черная туча, а море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» — и начинало бурлить, волноваться, покрываться белыми гребешками; если же по небу плыли розовые облака, а ветер утихал, море напоминало лепесток розы. Оно то белело, то становилось зеленым, но, каким бы спокойным оно ни казалось вдали, на берег непрестанно набегали легкие волны, и вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.
Когда солнце стало заходить, Элиза вдруг увидела вереницу диких лебедей в золотых коронах. Их было одиннадцать, и летели они к берегу один за другим, вытянувшись длинной белой лентой.
Заметив их, Элиза взбежала на обрыв и спряталась за куст, а лебеди хлопая своими большими белыми крыльями, опустились на землю неподалеку.
В ту самую минуту, как солнце скрылось, лебеди сбросили свое оперение и превратились в одиннадцать красавцев принцев, братьев Элизы. Девушка громко вскрикнула, она сразу узнала их: хотя они очень изменились — сердце подсказало ей, что это ее братцы. Она бросилась их обнимать, называя каждого по имени, а они тоже очень обрадовались, узнав свою младшую сестрицу, которая теперь выросла и так похорошела. Все они то смеялись, то плакали, рассказывая друг другу, как жестоко поступила с ними мачеха.
— Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем дикими лебедями весь день, пока солнце на небе. Когда же оно заходит, мы опять принимаем человеческий облик. Поэтому во время заката мы всегда должны быть на земле, — ведь случись нам превратиться в людей, когда мы летим над облаками, мы тотчас же упали бы со страшной высоты. Живем мы не здесь, а в далекой заморской стране, очень красивой. Но чтобы добраться до нее, нужно переплыть через море, а по пути нет ни одного острова, где мы могли бы переночевать.
Только в самой середине моря над водой поднимается небольшой одинокий утес, на котором мы можем держаться, лишь тесно прижавшись друг к другу.
Если море бушует, брызги летят у нас над головой, однако мы благодарим судьбу и за это пристанище. Мы ночуем там в человеческом облике, и не будь этого утеса, нам никогда бы не удалось навестить свою милую родину. Лишь раз в году можем мы прилетать сюда, выбрав для перелета самые длинные летние дни. Мы проводим здесь одиннадцать дней и часто летаем над тем большим лесом, — оттуда виден дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольня церкви, близ которой покоится наша мать.
Тут даже кусты и деревья словно родные нам; по равнинам, как в дни нашего детства, бегают дикие лошади, а углежоги по-прежнему поют те самые песни, под которые мы когда-то плясали. Тут наша родина, к ней тянется сердце, и здесь мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка. Еще два дня мы пробудем здесь, а затем придется нам улетать за море, в чудесную, но чужую страну! Но мы не сможем взять тебя с собою. Ведь у нас нет ни корабля, ни лодки.
— Как бы мне расколдовать вас! — твердила братьям сестра.
Так они проговорили почти всю ночь и задремали только перед рассветом.
Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья ее опять превратились в птиц и большими кругами уходили в вышину; вскоре они совсем скрылись из виду. С Элизой остался только младший брат. Лебедь положил голову к ней на колени, а она гладила и перебирала его белые перышки.
Целый день провели они вдвоем, а к вечеру снова прилетели остальные, и, когда солнце село, все снова приняли человеческий облик.
— Завтра мы улетим отсюда и вернемся не раньше будущего года, — сказал младший брат, — но тебя не покинем здесь. Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Сейчас, когда я снова человек, руки мои достаточно сильны, чтобы пронести тебя по всему лесу, — так неужели же мы все не сумеем перенести тебя через море на наших крыльях?
— Да, возьмите меня с собой! — воскликнула Элиза. Всю ночь они плели сетку из гибкого лозняка и камыша. Сетка вышла большая и прочная, и Элиза легла на нее. А на восходе солнца братья превратились в диких лебедей, подняли сетку клювами и вместе с милой сестрицей, еще спавшей сладким сном, взвились к облакам.
Солнце светило ей прямо в лицо, поэтому один лебедь летел над ее толовой, чтобы защищать ее от солнечных лучей своими широкими крыльями.
Они были уже далеко от суши, когда Элиза проснулась. Ей почудилось, будто она все еще видит сон, — так странно было лететь над морем. Возле нее лежала веточка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев. Все это раздобыл и положил в сетку младший брат. Элиза благодарно улыбнулась ему, догадавшись, что это он летит над нею и защищает ее от солнца своими крыльями.
Лебеди летели так высоко, что первый корабль, который они увидели на море, показался им плывшей по воде белой чайкой.
В небе позади них громоздилось огромное облако — прямо гора! — и на нем Элиза увидела движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина! Более красивой ей еще не приходилось видеть!
Но по мере того как солнце поднималось выше, облако отставало от лебедей, а тени мало-помалу исчезали.
Целый день летели лебеди с быстротой стрелы, пущенной из лука, но все-таки медленней обычного, они ведь несли сестру! День стал склоняться к вечеру, поднялся встречный ветер. Элиза со страхом следила за солнцем — оно опускалось все ниже, а одинокого морского утеса все еще не было видно. Вдруг ей показалось, что лебеди как-то судорожно машут крыльями. «Ах, ведь это по моей вине они не могут лететь быстрее! — подумала она. Зайдет солнце, они превратятся в людей, упадут в море и утонут!» Черная туча все приближалась; сильные порывы ветра предвещали бурю; облака сгрудились в грозный свинцовый вал, катившийся по небу; молния сверкала за молнией, а утес все не показывался.
Но вот солнце почти коснулась воды. Сердце Элизы затрепетало, а лебеди вдруг полетели вниз с неимоверной быстротой. Девушка уже подумала, что они падают, но нет, они еще летели. Лишь тогда, когда солнце наполовину скрылось под водой, Элиза увидела внизу маленький утес, величиной не больше тюленя, высунувшего голову из воды. Солнце угасало быстро, вот оно стало казаться всего лишь звездочкой; но лебеди уже опустились на камни. И в этот миг солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев. Все они стояли рука об руку, едва умещаясь на крошечном утесе.
Море билось о камень, обрушиваясь на них дождем брызг, небо пылало от молний, удар за ударом грохотали громовые раскаты, но сестра и братья держались крепко за руки. На заре буря улеглась, и небо прояснилось.
С восходом солнца лебеди вместе с Элизой полетели дальше. На море еще было волнение, и они видели с высоты, как плывут по темнозеленой воде клочья белой пены, словно необозримая стая лебедей.
Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы повисшую в воздухе гористую страну со сверкающими снежными вершинами. Среди гор широко раскинулся замок, опоясанный воздушными колоннадами, ниже колыхались пальмовые леса и невиданные цветы величиной с мельничные колеса. Элиза спросила не в эту ли страну они летят, но лебеди сказали: «Нет, это волшебный, вечно меняющийся облачный замок Фата-Морганы, в который никто не может проникнуть». Элиза опять устремила глаза на замок, но вдруг горы, леса и замок рухнули, а на их месте появились двадцать совершенно одинаковых величественных церквей с колокольнями и стрельчатыми окнами. Девушке почудилось даже, будто она слышит звуки органа, но это шумело море. Церкви, казалось, были совсем близко, но вот они превратились в целую флотилию. Корабли плыли прямо под летящими лебедями, и когда Элиза вгляделась, она поняла, что это не корабли, а просто туман, поднявшийся над морем, У нее на глазах одна картина сменяла другую, пока наконец, не показалась долгожданная земля — та, куда они летели. Элиза увидела прекрасные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца лебеди опустили сестру на скалу, перед большой пещерой, которая казалась увешанной вышитыми коврами — так обросла она нежнозелеными ползучими растениями.
— Посмотрим, что тебе здесь приснится ночью! — сказал младший брат, показывая сестре ее спальню.
— Ах, если бы я узнала во сне, каким образом можно расколдовать вас! — сказала она; и эта мысль уже не выходила у нее из головы.
И вот ей приснилось, будто она летит высоко-высоко по поднебесью к замку Фата-Морганы и встречать ее выходит сама хозяйка-фея. Она светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе ягод в лесу и рассказала ей о лебедях в золотых коронах.
— Твоих братьев можно спасти, — сказала фея, — но хватит ли у тебя на это мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук, а шлифует камни. Но ей не больно, как будет больно твоим пальцам: у воды нет сердца, а твое станет изнывать от страха и муки. Видишь, у меня в руках крапива? Такой крапивы много возле твоей пещеры; и только такая, да еще та, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться — запомни это! Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов, потом разомнешь ее ногами, а из полученного волокна ссучишь нити. Из них ты сплетешь одиннадцать кольчуг с длинными рукавами и набросишь их на лебедей. Тогда рассеются колдовские чары. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока ее не окончишь, ты не должна говорить ни слова, хотя бы работать тебе пришлось долгие годы. Первое же слово, которое сорвется у тебя с губ, смертельным кинжалом пронзит сердца твоих братьев. Их жизнь будет висеть на кончике твоего языка! Помни же об этом! — И фея притронулась к ее руке жгучей крапивой.
Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Было уже совсем светло, и она увидела, что рядом с нею лежит крапива точь-в-точь такая, как та, которая ей приснилась. Элиза обрадовалась и вышла из пещеры, чтобы немедля приняться за работу.
Она рвала злую, жгучую крапиву, и нежные руки ее покрылись крупными волдырями; но девушка мужественно переносила боль, думая об одном: «Только бы удалось спасти милых братьев!» Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.
С заходом солнца явились братья и очень испугались, когда узнали, что их сестра онемела. Сначала они подумали, что это новое колдовство злой мачехи, но, увидев ожоги на руках Элизы, поняли, что она стала немой ради их спасения. Младший брат заплакал; слезы его лились ей на руки, и там куда попала слеза, исчезали жгучие волдыри и утихала боль.
Всю ночь провела девушка за работой, не помышляя об отдыхе, — ей хотелось поскорее расколдовать своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она сидела одна, но никогда еще, казалось ей время не проходило так быстро. Одна кольчуга была уже готова, и девушка принялась за следующую, как вдруг в горах затрубили охотничьи рога. Элизе стало очень страшно; а звуки все приближались, и вскоре раздался лай собак. Испуганная девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную крапиву в снопик и села на него.
В этот миг из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья. Они громко лаяли и бегали вокруг нее.
Вскоре у пещеры собрались все охотники. Самый красивый из них — это был здешний король — подошел к Элизе. В жизни он не встречал такой красавицы!
— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только покачала головой, — она не смела ни слова вымолвить, потому что от ее молчания зависели жизнь и спасение ее братьев, а руки спрятала под передник, чтобы король не заметил ожогов.
— Пойдем со мной! — сказал он. — Здесь тебе нельзя оставаться. Если ты так же добра, как красива, я наряжу тебя в шелк и бархат, увенчаю золотой короной и возьму к себе; ты будешь жить в лучшем из моих дворцов. И он посадил ее на седло перед собой. Элиза плакала и ломала руки, но король сказал: — Я только хочу твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня.
И король помчал ее куда-то в горы, а охотники скакали следом.
На закате они увидели колокольни и купола великолепного города — это была столица.
Король привел Элизу во дворец. Там в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, все стены и потолки были украшены живописью. Но Элиза ни на что не смотрела, только плакала и тосковала. Безучастно отдалась она в руки служанок, а те облекли ее в королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули тонкие перчатки на ее обожженные пальцы.
Роскошные уборы так шли к Элизе, она была в них так ослепительно хороша, что все придворные склонились перед нею, а король объявил ее своей невестой, хотя архиепископ покачивал головой и нашептывал королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, потому что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.
Король, однако, не стал его слушать, — он подал знак музыкантам и велел уставить стол изысканными блюдами, потом приказал красавицам девушкам танцевать вокруг Элизы и повел ее по благоухающим садам в великолепные покои. Но она ни разу не улыбнулась; казалось, в глазах ее навсегда застыла тоска. И вот король открыл дверцу в маленькую комнату, смежную со спальней. Эта комнатка была вся увешана дорогими зелеными коврами и напоминала ту лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу здесь лежала охапка крапивного волокна, а под потолком висела сплетенная Элизой кольчуга, — все это, как диковинку, захватил с собой один из охотников.
— Здесь ты можешь вспоминать свою родную пещеру! — сказал король. — А вот и твоя работа; может быть тебе когда-нибудь захочется развлечься ею, укрыться от пышной придворной жизни в воспоминаниях о прошлом.
Увидев свою любимую работу, Элиза улыбнулась и покраснела: она подумала о спасении братьев и поцеловала руку у короля, а он прижал девушку к сердцу и велел звонить в колокола по случаю предстоящей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевской невестой.
Архиепископ продолжал наговаривать королю на Элизу, но злые речи не доходили до его сердца, и свадьба состоялась.
Сам архиепископ должен был возложить корону на голову невесты, и он умышленно надвинул ей на лоб тесный золотой обруч так, чтобы ей стало больно. Но сердце Элизы еще больнее сжимал другой «обруч» — тревога за братьев, и она не чувствовала телесной боли. Губы ее были по-прежнему сжаты, — ведь вымолви она хоть слово, братья-лебеди лишились бы жизни! — зато в глазах ее светилась горячая признательность к доброму, красивому королю, который всячески старался доставить ей удовольствие. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если б только она могла ему довериться — поведать о своих страданиях! Но, увы, она должна была хранить молчание, пока не закончит свою работу. По ночам она выскальзывала из королевской спальни, прокрадывалась в свою комнатку, похожую на пещеру, и там плела одну кольчугу за другой; когда же она начала плести седьмую, запасы крапивного волокна кончились.
Элиза знала, что такую крапиву можно найти на кладбище; но ведь она должна была рвать ее своими руками. Как же быть?
«О, что значит боль в пальцах по сравнению с мукой, терзающей мое сердце! — думала Элиза. — Я должна решиться!»
Сердце ее так сжималось от страха, когда она лунной ночью пробиралась в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам на кладбище, как будто она шла на преступление.
И вдруг она увидела, что на одной широкой могильной плите собрались в кружок ведьмы. Безобразные старухи сбросили с себя лохмотья, точно перед купаньем, и костлявыми пальцами разрывали свежие могилы, вытаскивали оттуда покойников и грызли их. Элизе волей-неволей пришлось пройти мимо них, и ведьмы бросали на нее злобные взгляды; но она все-таки набрала крапивы и отнесла ее домой, во дворец.
В ту ночь ее видел только архиепископ: он бодрствовал, пока другие спали. Теперь он убедился, что был прав, когда подозревал королеву. «Значит, она и в самом деле ведьма, — думал он, — потому-то она и сумела околдовать короля и весь народ».
Когда король пришел в исповедальню, архиепископ рассказал ему и о своих подозрениях и о том, что видел ночью. Но как только злые слова сорвались у него с языка, изображения святых на стене зашевелились и стали качать головой, точно хотели сказать: «Ложь! Элиза невинна!» Однако архиепископ истолковал это по-своему: неодобрительно качая головой, он сказал, что и святые свидетельствуют против королевы. Две крупные слезы покатились по щекам короля — в сердце его закралось сомнение. Ночью он только притворился, что спит, но ему было не до сна. И вот он увидел, что Элиза встала и вышла из спальни, — он пошел следом за женой и видел, как она скрылась в свою комнату.
В следующие ночи повторилось то же самое.
Король с каждым днем становился все мрачнее. Это заметила и Элиза, но не догадалась, почему он мрачен. А сердце ее ныло от страха и жалости к братьям, и на королевский шелк и бархат катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди при виде богатых уборов своей королевы завидовали ей.
Тем временем работа приближались к концу, недоставало лишь одной кольчуги, но тут у Элизы опять не хватило волокна, нужно было в последний раз сходить на кладбище, чтобы добыть еще несколько пучков крапивы. Она с ужасом думала о пустынном кладбище и страшных ведьмах, но решимость ее спасти братьев была непоколебима.
И вот Элиза отправилась к путь. Король с архиепископом пошли за ней и заметили, что она скрылась за кладбищенской оградой. Подойдя к ограде, они увидели ведьм, сидевших на могильных плитах, как видела их и Элиза, и король в ужасе отвернулся: ведь среди этих ведьм находилась и та женщина, чья голова только что покоилась на его груди!
— Пусть ее судит народ! — сказал он.
И народ вынес приговор: сжечь Элизу на костре.
Из роскошных королевских чертогов Элизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер.
Вместо бархатного одеяла и шелковых простыней бедняжке дали постель из крапивы; изголовьем ей должна была служить охапка, набранные ею жесткие кольчуги — подстилкой и одеялом. Но для нее это был такой дорогой подарок, что дороже его и быть не могло, и она вновь принялась за работу. С улицы доносились песни мальчишек, высмеивающих «ведьму», ни одна душа не сказала ей слова утешения и сочувствия.
Вечером у решетки зашумели лебединые крылья: это младший брат нашел сестру.
Она громко зарыдала от радости, хоть и знала, что жить ей осталось всего лишь ночь. Зато работа ее подходила к концу, а брат был с нею.
Исполняя обещание, данное королю, архиепископ пришел провести с узницей ее последние часы, но она, покачав головой, знаками и взглядом попросила его уйти — ей необходимо было кончить свою работу в эту ночь, иначе все оказалось бы напрасным — все ее страдания, слезы и бессонные ночи! Архиепископ ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала, что она невинна и продолжала работать.
Стараясь помочь ей хоть немножко, мышки, шмыгавшие по полу, стали подносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, всю ночь распевал свои самые веселые песни, чтобы ее приободрить.
На рассвете, за час до восхода солнца, у дворцовых ворот появились все одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их впустили к королю. Им ответили, что это невозможно: король еще спит, и никто не смеет его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать. Явилась стража, а затем и сам король вышел узнать, что случилась.
Но в эту минуту взошло солнце, и братья исчезли, а над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.
Народ валом валил за город посмотреть, как будут сжигать ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза. На бедняжку накинули плащ из грубой мешковины, ее чудесные длинные волосы разметались по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, а пальцы плели крапивное волокно, даже перед казнью не выпускала она из рук начатой работы.
Десять кольчуг лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела.
Толпа глумилась над нею:
— Посмотрите на ведьму! Ишь бормочет. Небось, не молитвенник у нее в руках — нет, все возится со своими колдовскими штуками! Отнимем-ка их да разорвем в клочки!
И все теснились вокруг Элизы, грозя вырвать из ее рук работу. Вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели по краям телеги и, загородив сестру, шумно захлопали могучими крыльями. Испуганная толпа отступила.
— Это знамение небесное! Она невинна! — шептали многие, но громко сказать это боялись.
Палач хотел было уже схватить Элизу за руки, но она поспешно набросила на лебедей все одиннадцать кольчуг, и сейчас же перед нею предстали одиннадцать красавцев принцев, только у младшего вместо одной руки было лебединое крыло: Элиза не успела доплести последнюю кольчугу — в ней не хватало рукава.
— Теперь я могу говорить! — сказала она — Я невинна!
И народ, видевший все, что произошло, склонился перед нею, как перед святой, но она, лишившись чувств, упала в объятия братьев, сломленная долгим напряжением, страхом и страданием.
— Да, она невинна! — проговорил старший брат и рассказал обо всем, что с ними произошло. И пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от множества роз: это все поленья в костре пустили корни и ростки, так что костер превратился в высокую благоухающую изгородь, всю усыпанную красными розами. Между ними сверкал, как звезда, ослепительно белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она очнулась, умиротворенная и счастливая.
Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы целыми стаями стали слетаться на звон, и ко дворцу потянулось такое пышное свадебное шествие, какого не видел еще ни один король!
ГАДКИЙ УТЕНОК
орошо было за городом! Стояло лето, рожь пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу шагал аист на длинных красных ногах и болтал по-египетски, — этому языку его научила мать. За полями и лугами раскинулся большой лес, в чаще его таились глубокие озера. Да, хорошо было за городом! Солнце озаряло старинную усадьбу, окруженную глубокими канавами с водой; вся полоса земли между этими канавами и каменной оградой заросла лопухом, да таким высоким, что малые ребята могли стоять под самыми крупными его листьями выпрямившись во весь рост. В чаще лопуха было также глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то и сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей это порядком надоело, потому что навещали ее редко, другим уткам было скучно торчать в лопухе да крякать вместе с нею, им больше нравилось плавать по канавам.
Но вот, наконец, яичные скорлупки треснули. «Пи-и! Пи-и!» — послышалось из них. Это зародыши стали утятами и высунули головки из скорлупок.
— Скорей! Скорей! — закрякала утка.
И утята заторопились, кое-как выкарабкались на волю и стали осматриваться и разглядывать зеленые листья лопуха. Мать не мешала: зеленый свет полезен для глаз.
— Как велик мир! — закрякали утята.
Еще бы! Теперь им было куда просторнее, чем в скорлупе.
— Уж не думаете ли вы, что мир весь тут? — сказала мать. — Нет! Он тянется далеко-далеко, туда, за сад, к пасторскому полю, но там я никогда в жизни не бывала… Ну, вы все здесь? — И она встала. — Ах, нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да когда же это кончится? Вот незадача! До чего мне это надоело!
И она опять уселась.
— Ну, как дела? — спросила, заглянув к ней, одна старая утка.
— Да вот еще яйцо осталось, — ответила молодая утка. — Сижу, сижу, а оно все не лопается! Но ты посмотри на деток — до чего хороши! Ужасно похожи на отца! А он, беспутный, и не навестил меня ни разу!
— Дай, я осмотрю яйцо, которое еще не треснуло, — сказала старая утка. — Наверное, индюшечье! Меня тоже надули раз. Ну и маялась же я, когда вывела индюшат! Они ведь страсть как боятся воды, уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду— не идут, да и только! Дай же мне взглянуть на яйцо. Ну, так и есть! Индюшечье! Брось его; лучше учи своих утят плавать.
— Нет, пожалуй, все-таки посижу, — отозвалась молодая утка. — Столько просидела, что потерплю еще немножко.
— Ну, как знаешь, — сказала старая утка и ушла.
Наконец, треснула скорлупа самого большого яйца. «Пи-и! Пи-и!» — и вывалился огромный безобразный птенец.
Утка оглядела его.
— Вот так верзила! — крякнула она. — И ничуть не похож на остальных. Неужели это индюшонок? Ну, плавать он у меня все равно будет: заупрямится — столкну в воду.
На другой день погода выдалась чудесная, зеленый лопух был весь залит солнцем. Утка забрала всю свою семью и заковыляла к канаве. Бултых! — Утка шлепнулась в воду.
— За мной! Скорей! — крикнула она утятам, и те один за другим посыпались в воду.
Сначала они скрылись под водой, но тотчас вынырнули и весело поплыли, лапки у них усердно работали; и безобразный серый утенок не отставал от других.
— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой родной сын!
И, право же, недурен собой, надо только присмотреться к нему. Ну, скорей, скорей за мной! Сейчас отправимся на птичий двор, я буду вводить вас в общество. Только держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь на вас не наступил, да остерегайтесь кошки.
Вскоре утка с утятами добралась до птичьего двора. Ну и шум тут стоял, ну и гам! Две семьи дрались из-за головки угря, но она в конце концов досталась кошке.
— Вот как бывает в жизни! — сказала утка и облизнула язычком клюв: ей тоже хотелось отведать рыбьей головки, — Ну ну, шевелите лапками! — приказала она утятам. Крякните и поклонитесь вон той старой утке. Она здесь самая знатная. Испанской породы, потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? До чего красив? Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Он означает, что хозяева не хотят с ней расставаться, по этому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, скорей! Да не держите лапки рядышком. Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и вкось, как их держат ваши родители. Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!
Утята поклонились и крякнули, но другие утки только оглядывали их и говорили громко:
— Ну вот, еще целая орава! Будто нас мало было! А один-то какой безобразный! Нет, этого мы не примем!
И одна утка мгновенно подскочила и клюнула утенка в затылок.
— Не трогайте его! — сказала утка-мать. — Что он вам сделал? Ведь он никому не мешает.
— Так-то так, но очень уж он велик, да и чудной какой-то! — заметила утка-забияка. — Надо ему задать хорошую трепку!
— Славные у тебя детки! — проговорила старая утка с красным лоскутком на лапке. — Все очень милы, кроме одного… Этот не удался! Хорошо бы его переделать.
— Никак нельзя, ваша милость! — возразила утка-мать — Правда, он некрасив, но сердце у него доброе, да и плавает он не хуже, пожалуй, даже лучше других. Может, он со временем похорошеет или хоть ростом поменьше станет. Залежался в скорлупе, оттого и не совсем удался. — И она провела носиком по перышкам большого утенка. — К тому же он селезень, а селезню красота не так уж нужна. Вырастет — пробьет себе дорогу!
— Остальные утята очень, очень милы! — сказала старая утка. — Ну, будьте как дома, а если найдете угриную головку, можете принести ее мне.
Вот они и стали вести себя как дома. Только бедного безобразного утенка — того, что вылупился позже других, — обитатели птичьего двора клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки и куры.
— Больно уж он велик! — говорили они.
А индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, налетел на утенка и залопотал так сердито, что гребешок у него налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. Надо же ему было родиться таким безобразным, что весь птичий двор его на смех поднимает!
Так прошел первый день; потом стало еще хуже. Все гнали беднягу, даже братья и сестры сердито кричали на него:
— Хоть бы тебя утащила кошка, урод несчастный!
А мать добавляла:
— Глаза бы мои на тебя не глядели!
Утки клевали его, куры щипали, а девушка, что кормила домашнюю птицу толкала утенка ногой.
Но вот утенок вдруг перебежал двор и перелетел через изгородь! Маленькие птички испуганно выпорхнули из кустов.
«Меня испугались, — вот какой я безобразный!» — подумал утенок и пустился наутек, сам не зная куда. Бежал-бежал, пока не попал на большое болото, где жили дикие утки. Усталый и печальный, он просидел там всю ночь.
Утром дикие утки вылетели из гнезд и увидели новичка.
— Ты кто такой? — спросили они; но утенок только вертелся да раскланивался, как умел.
— Вот безобразный! — сказали дикие утки. — Впрочем, это не наше дело. Только смотри не вздумай с нами породниться!
Бедняжка! Где же ему было думать о женитьбе! Лишь бы позволили ему просидеть тут в камышах да попить болотной водицы — вот и все, о чем он мечтал.
Два дня провел он на болоте, на третий явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали очень гордо.
— Слушай, дружище! — сказали они. — Ты такой безобразный, что, право, даже нравишься нам. Хочешь летать с нами? Будешь вольной птицей. Недалеко отсюда, на другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни. Они умеют говорить: «Рап, рап!» Хоть ты и урод, но — кто знает? — может, и найдешь свое счастье.
«Пиф! Паф!» — раздалось вдруг над болотом, и гусаки замертво рухнули в камыши, а вода окрасилась кровью. «Пиф! Паф!» — раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пальба разгорелась. Охотники оцепили все болото, некоторые укрылись в ветвях нависших над ним деревьев. Клубы голубого дыма окутывали деревья и стлались над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки и, пробиваясь сквозь камыш, раскачивали его из стороны в сторону. Бедный утенок, ни живой ни мертвый от страха, хотел было спрятать голову под крыло, как вдруг над ним склонилась охотничья собака, высунув язык и сверкая злыми глазами. Она разинула пасть, оскалила острые зубы, но… шлеп! шлеп! — побежала дальше.
— Пронесло! — И утенок перевел дух. — Пронесло! Вот, значит, какой я безобразный, — собаке и той противно до меня дотронуться.
И он притаился в камышах; а над головой его то и дело гремели выстрелы, пролетали дробинки.
Пальба стихла только к вечеру, но утенок еще долго боялся пошевельнуться. Прошло несколько часов, и наконец он осмелился встать, оглядеться и снова тронуться в путь по полям и лугам. Дул ветер, да такой сильный, что утенок с трудом подвигался вперед.
К ночи он добрался до какой-то убогой избушки. Она так обветшала, что готова была упасть, только не решила еще, на какой бок ей падать и потому держалась. Утенка так и подхватывало ветром, — приходилось садиться на землю.
А ветер все крепчал. Что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит криво, — сквозь эту щель нетрудно было проскользнуть внутрь. Так он и сделал.
В этой избушке жила старушка хозяйка с котом и курицей. Кота она звала «сыночком»; он умел выгибать спинку, мурлыкать, а когда его гладили против шерсти, от него даже летели искры. У курицы были маленькие, коротенькие ножки — вот ее и прозвали «коротконожкой»; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.
Утром пришельца заметили: кот принялся мурлыкать, а курица кудахтать.
— Что там такое? — спросила старушка, осмотрелась, заметила утенка, но сослепу приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.
— Вот так находка! — сказала она. — Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну, да поживем — увидим!
И утенка приняли на испытание. Но прошло недели три, а он так и не снес ни одного яйца. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и весь свет!» Себя они считали половиной всего света, притом лучшей его половиной. Утенку же казалось, что на этот счет можно быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.
— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.
— Нет.
— Так и держи язык за зубами!
А кот спросил:
— Умеешь ты выгибать спину, мурлыкать и пускать искры?
— Нет.
— Так и не суйся со своим мнением, когда говорят те, кто умнее тебя.
Так утенок все и сидел в углу, нахохлившись. Как-то раз вспомнил он свежий воздух и солнце, и ему до смерти захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.
— Ишь чего выдумал! — отозвалась она. — Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка лучше яйца или мурлычь — вот дурь-то и пройдет!
— Ах, как мне было приятно плавать! — сказал утенок. — А что за наслаждение нырять в самую глубину!
— Хорошо наслаждение! — воскликнула курица. — Ну, конечно, ты совсем рехнулся! Спроси кота, он умнее всех, кого я знаю, нравится ли ему плавать и нырять? О себе самой я уж и не говорю. Спроси, наконец, у нашей старушки хозяйки, умнее ее нет никого на свете. По-твоему, и ей хочется плавать и нырять?
— Не понять вам меня!. — сказал утенок.
— Если уж нам не понять, так кто же тебя поймет? Может, ты хочешь быть умней и кота и хозяйки, не говоря уж обо мне?
Не глупи, а благодари лучше создателя за все, что для тебя сделали. Приютили тебя, пригрели, приняли в свою компанию, — и ты от нас многому можешь научиться, но с таким пустоголовым, как ты, и говорить-то не стоит. Ты мне поверь, я тебе добра желаю, потому и браню тебя, — истинные друзья всегда так делают. Старайся же нести яйца или научись мурлыкать да пускать искры!
— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! — сказал утенок.
— Скатертью дорога! — отозвалась курица.
И утенок ушел. Он плавал и нырял, но все животные по-прежнему презирали его за уродливость.
Настала осень, листья на деревьях пожелтели и побурели, ветер подхватывал и кружил их; наверху, в небе стало холодно; нависли тяжелые облака, из которых сыпалась снежная крупа. Ворон, сидя на изгороди, во все горло каркал от холода: «Крра-а! Крра-а!» От одной мысли о такой стуже можно было замерзнуть. Плохо приходилось бедному утенку.
Как-то раз, под вечер, когда солнце так красиво закатывалось, из-за кустов поднялась стая чудесных больших птиц; утенок в жизни не видывал таких красивых — белоснежные, с длинными гибкими шеями! То были лебеди.
Они закричали какими-то странными голосами, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края на синие озера. Высоко-высоко поднялись они, а бедного безобразного утенка охватило смутное волнение. Он волчком завертелся в воде, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудесные птицы не выходили у него из головы, и когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул, но все никак не мог прийти в себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц и куда они улетели, но полюбил их так, как не любил до сих пор никого на свете. Он не завидовал их красоте. Быть похожим на них? Нет, ему это и в голову не могло прийти. Он был бы рад, если бы хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!
А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать без отдыха, чтобы не дать воде замерзнуть, но с каждой ночью свободное ото льда пространство все уменьшалось. Морозило так, что лед трещал. Утенок без устали работал лапками, но под конец обессилел, замер и примерз ко льду.
Рано утром мимо проходил крестьянин и увидел примерзшего утенка. Он пробил лед своими деревянными башмаками, отнес утенка домой и отдал его жене. В доме крестьянина утенка отогрели.
Но вот дети как-то раз задумали поиграть с утенком, а он вообразил, что они хотят его обидеть, и со страха шарахнулся прямо в миску с молоком. Молоко расплескалось, хозяйка вскрикнула и всплеснула руками, а утенок взлетел и угодил в кадку с маслом, а потом в бочонок с мукой. Ох, на что он стал похож! Крестьянка кричала и гонялась за ним с щипцами для угля, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали, визжали. Хорошо, что дверь была открыта: утенок выбежал, кинулся в кусты, прямо на свежевыпавший снег, и долго-долго лежал в оцепенении.
Грустно было бы описывать все злоключения утенка в течение этой суровой зимы. Когда же солнце стало снова пригревать землю своими теплыми лучами, он залег в болото, в камыши. Вот запели и жаворонки. Наступила весна.
Утенок взмахнул крыльями и полетел. Теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего, — не успел он опомниться, как очутился в большом саду. Яблони тут стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.
Ах, как тут было хорошо, как пахло весною! Вдруг из зарослей выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, словно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.
«Полечу-ка я к этим царственным птицам! Они, наверное, убьют меня за то, что я такой безобразный, осмелился приблизиться к ним — ну и пусть! Лучше пусть они меня прогонят, чем сносить щипки уток и кур и пинки птичницы да терпеть холод и голод зимой».
И он слетел на воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, а те, завидев его, тоже устремились к нему.
— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти.
Но что же он увидел в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение. И теперь он был уже не безобразной темносерой птицей, а лебедем!
Не беда появиться на свет в утином гнезде, если ты вылупился из лебединого яйца.
Теперь он был рад, что перенес столько горя: он лучше мог оценить свое счастье и всю красоту, что его окружала. Большие лебеди плавали около него и гладили его клювами.
В сад прибежали маленькие дети, они стали бросать лебедям зерна и хлебные крошки, а самый младший закричал:
— Новый, новый!
Остальные подхватили: «Да, новый, новый!», и захлопали в ладоши, приплясывая от радости, потом побежали за отцом и матерью и стали снова бросать в воду крошки хлеба и пирожного. И все говорили, что новый лебедь — самый красивый. Такой молоденький, такой чудесный!
И старые лебеди склонили перед ним головы.
А он совсем смутился и невольно спрятал голову под крыло. Он не знал, что делать. Он был невыразимо счастлив, но ничуть не возгордился, — доброму сердцу чуждо высокомерие. Он помнил то время, когда все его презирали и преследовали; теперь же все говорили, что он прекраснейший между прекрасными! Сирень склонила к нему в воду свои душистые ветви, солнце ласкало его и грело… И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:
— Мог ли я мечтать о таком счастье, когда был гадким утенком!




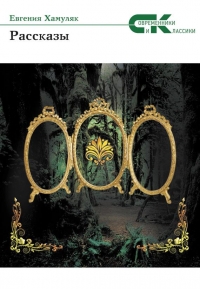
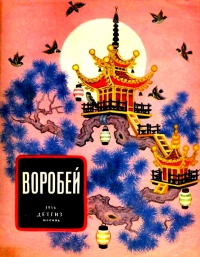
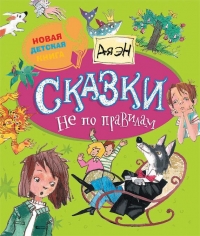

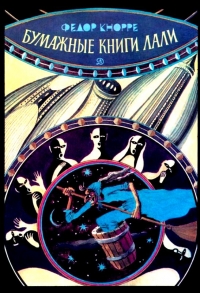

Комментарии к книге «Дикие лебеди и другие сказки», Ганс Христиан Андерсен
Всего 0 комментариев