Н. П. Вагнер ПАПА-ПРЯНИК
Это было давно, но может случиться и сегодня и завтра, — одним словом, когда придется.
У Папы-пряника был большой торжественный праздник, а ты, верно, не знаешь, что Папа-пряник над всеми сластями король и всем пряникам пряник.
И вот, раз сидел он на своем троне, в короне из чистого сусального золота, в глазированной мантии с миндальными хвостиками и в маленьких новомодных шоколадных сапожках. Трон его был большой, высокий пряник, обсыпанный самым чистым блестящим сахаром-леденцом, да так густо, что снаружи никак нельзя было видеть, что было внутри, но от этого самого он казался еще вкуснее и слаще, чем был на самом деле.
Вокруг трона стояла почетная стража, в золотых мундирах, с фольговыми саблями и шоколадными палками в руках. Все это были что ни на есть самые лучшие пряничные солдаты, с сахарными цукатами.
А дальше полукругом сидели всякие сановники, разумеется, не настоящие, а сахарные.
Позади них было множество прекрасных кавалеров и дам. Все кавалеры смотрели в одну сторону: в ту самую, в которую были повернуты.
А дамы были просто прелесть. Они были из белого безе со сливками, легкие, полувоздушные, пустые внутри. Каждая из них думала, что слаще ее нет ничего на свете, и, смотря на каждого кавалера, думала: «вот он!» А кавалеры так и таяли, потому что все были из чистого леденца.
Кругом повсюду, для порядка, были расставлены кондитеры в белых колпаках, фартуках и с медными кастрюлями. Они стояли с чрезвычайно серьезными минами, потому что честно относились к искусству и считали себя призванными смягчать горечь этой жизни своими произведениями.
Наконец тут же в зале стояло множество детей, больших и малых, глупых и умных, добрых и злых. Они смотрели на Папу-пряника и его стражу, на его сановников, на кавалеров и дам, на варенья и конфеты. Одни думали: «Ах, если бы нам дали вот эти бонбоньерки!», а другие: «Ах, если бы попробовать нам хоть один пряник!» — и все облизывались, что было совсем некстати, потому что они еще ничего не отведали.
— Ну! — сказал Папа-пряник, — принесите теперь награды. Сегодня мы награждаем всех умных и прилежных детей. И это так и следует по закону. Потому что поощрение везде необходимо.
Принесли на огромном серебряном подносе огромный пряник. Ах, что это был за пряник! Такого, наверно, никогда не было и никто во сне не едал. Пухлый, рыхлый, поджаренный, подпеченный, с вареньем, изюмом, коринкой, миндалем, мускатом, цукатом, ну, словом, со всем, что в нем было, на всякий вкус, даже такой, какого вовсе и не было. А когда стали резать этот пряник, то из него просто так-таки и потекло самое вкусное варенье, а у всех детей потекли слюнки… Ах! Нет, лучше и не рассказывать!..
Папа-пряник подзывал к себе каждого умного прилежного мальчика и давал ему по большому куску вкусного пряника.
Когда все прилежные ученики были награждены, а глупые лентяи проглотили все свои собственные слезы вместо пряника, то Папа-пряник снова встал с своего трона и сказал:
— Теперь надо назначить к будущему празднику премию за добрые дела, потому что и в добрых делах должна быть конкуренция. Я предлагаю самый большой вкусный пряник тому, кто сделает настоящее доброе дело. Идите и радуйтесь!
Когда все дети разошлись по домам, то начали играть в мяч, кегли и даже бирюльки, так что все пряники были забыты, а добрые дела подавно. Только трое мальчиков на другой день вспомнили, что было вчера, и это было хорошо, потому что мог бы и никто не вспомнить.
Одного мальчика звали маленьким Луппом. Когда он хорошо вел себя, то отец давал ему два серебряных пятачка, а так как он каждый день хорошо себя вел, то в неделю у него накоплялось столько пятачков, что, пожалуй, и не сочтешь, и, во всяком случае, на эти пятачки в воскресенье можно было купить отличных пряников. Но маленький Лупп умел считать и даже рассчитывать. Он отправился прямо в кондитерскую лавку и спросил:
— Что стоит самый большой пряник? Оказалось, что он дороже всех пятачков, которые можно скопить в целый месяц. Одним словом, страшно дорог.
— Ну! — сказал Лупп, — я буду непременно в выгоде, — и через три дня он, с шестью пятачками в кармане, пошел в один большой дом.
Там, внизу, в подвале, почти совсем под землей, в темной каморке, жил бедный башмачник с женой и шестью маленькими детьми.
Маленький Лупп отдал им шесть пятачков.
— Ну, — подумал он, — пусть наслаждаются! Я сделал настоящее доброе дело, потому что оно с расчетом, а это самое главное.
Но вот в том-то и шутка, сделал ли он настоящее доброе дело? А это узнать не так легко, ну да и не очень трудно. Ведь у каждого человека, маленького и большого, в сердце сидит хорошенькая крошечная девочка в белом платьице. Но только это платьице не всегда бывает чисто. Если кто-нибудь сделает доброе, хорошее дело, то маленькая девочка начинает прыгать от радости и тихо поет веселые песенки.
Но если человек сделает что-нибудь дурное, то маленькая девочка горько заплачет. Да и как же ей не плакать, когда от каждого дурного дела у ней на беленьком платье выходит черное пятнышко, как будто на него брызнули грязью? Кому же приятно ходить в платье с пятнами?
Говорят, что маленькую девочку зовут совестью. И вот только что Лупп успел сделать доброе дело, как маленькая девочка в его сердце принялась громко хныкать, хныкать и приговаривать: «С выгодой, с расчетом! Этак всякий сделает». Но Лупп назвал маленькую девочку безрасчетной дурой, которая еще глупа и ничего не понимает. — Что ж? Быть может, он был и прав.
Другого мальчика, который захотел сделать настоящее доброе дело, звали маленьким Кином. Он был очень беден и ходил в оборванных лохмотьях. Самым лучшим наслаждением для него было сидеть на тротуарном столбике, с куском грязи в руке, и ждать: как только мимо него проезжала какая-нибудь маленькая красивая коляска, в которой сидели нарядный кавалер со своей дамой, он тотчас же бросал кусок грязи в коляску, да так ловко, что забрызгивал и кавалера и даму. Правда, иногда за это на него бросался полицейский солдат, но он так бойко бегал, что даже на собаках его нельзя было догнать. Это он называл охотой за красными перепелками. Когда он видел, что извозчик бил свою измученную лошадку, он говорил: «Валяй ее с треском, авось, она почувствует любовь к тебе и погладит тебя копытом по морде. То-то вышло бы красиво!» Когда при нем повар резал курицу и бедная билась, обливаясь кровью, он смотрел и думал: «Так бы им всем, да и тебе тоже, потому что на свете все гадко и скверно!» Он связывал котят хвостами вместе и вешал их, как пучок редисок, на забор. Бедные котята прыгали, пищали и мяукали, а Кин хохотал и говорил: «Вот так концерт и притом даром! отличный концерт!» Всем и каждому Кин старался досадить как можно лучше. За это его били как можно сильнее, но ведь от этого он становился еще злее, он скрипел зубами и кусался, как собака. Одним словом, это был настоящий злой мальчик, желтый, худой, с серыми злыми глазами, с общипанными волосами, которые торчали во все стороны, как щетина на старой щетке.
И вот этот-то самый мальчик задумал сделать настоящее доброе дело. Он думал: «Возьму я да украду у лавочника Трифона все деньги, что у него в конторке заперты. Говорят, что у него денег непочатый угол лежит взаперти, впотьмах. Все их выпущу я на божий свет и раздам я эти деньги бедному дедушке Власу, башмачнику Кирюшке и слепой старухе Нениле. Да нет, они, пожалуй, все их пропьют и пойдут деньги к целовальнику. Лучше я возьму да утащу у повара Ивана его большой острый ножик, которым он режет куриц, подкрадусь и зарежу эту маленькую злую барыню, что живет там в большом доме. Ну, а если меня за это повесят, и все эти гадкие люди соберутся и будут смотреть, как меня будут вешать? У, у! Поганые вороны!»
И Кин думал обо всем этом, а сам шел по улице. Холодный ветер дул и бил его по лицу дождем, который падал на землю и тут же, без церемонии, замерзал. На тротуарах был лед, люди ходили и падали, потому что было скользко, а Кин смеялся над ними. Он шел босиком, его ноги примерзали к земле, он прыгал, злился и хохотал.
Вот из-за угла вышел дедушка Влас с ведром воды. Это был очень старый дедушка. Весь седой, беззубый, глухой и сгорбленный. Ему давно пора было лечь куда-нибудь на лежанку, в теплый угол. Но ведь еще не припасено теплых углов для всех бедных дедушек.
Шел он тихо и осторожно, как бы не пролить воды, шел-шел, да вдруг поскользнулся и упал. Если молодые да сильные лошади и люди падали, как маленькие ребятки, так отчего ж было не упасть и старому дедушке Власу? И он упал, да так ловко, что совсем растянулся на земле, ушиб и спину, и затылок, шапка полетела в сторону, ведро в другую, и вся вода из него пролилась, как будто ее и не бывало.
Увидел Кин, как упал дедушка, да так и залился хохотом:
— Что, дедушка Влас, — кричит он — никак ты не подкован? — Ведь это, брат, нехорошо, что ты на тротуаре вздумал на собственных салазках кататься. На это есть ледяные горы. Ха, ха, ха! — А дедушка Влас пробовал встать и не мог. Несколько раз уж совсем он приподымался, да вдруг ноги скользили, и он опять падал; а Кин еще сильней хохотал.
— Эй, дедушка, — кричал, наклонившись над ним, Кин, — ведь ты не на лежанку лег, дедушка Влас, замерзнешь ты тут, старый глухарь.
— Подними его! — шепнуло сердце Кину.
— Не подниму, — сказал он, стиснув зубы. И вдруг вспомнил он, как один раз за ним гнались два сильных лакея с ремнем, чтоб отколотить его за то, что он разбил камнем большую вазу. Это было зимою, в холодный, дождливый день. Тогда он бросился во двор, где жил дедушка Влас, и спрятался в его конуре. Прибежали лакеи, но дедушка уверил их, что на дворе нет Кина, и спрятал его у себя и кормил целых два дня. На третий день ушел от него Кин и, уходя, взял и разбил старый горшок, который был единственный у дедушки. Разбил, так себе, на память о том, что гостил у дедушки. Все это вспомнил теперь Кин, наклонившись над ослабевшим дедушкой Власом.
Дедушка лежал и дышал тяжело, а люди все шли мимо да мимо и сторонились, обходя старого дедушку.
— Видишь, собаки, — сказал Кин, — у них руки отнимутся поднять старика. Поганые вороны! — и он наклонился и из всех детских сил своих маленьких, но сильных ручонок приподнял старого дедушку.
— Обопрись на меня крепче, старый хрыч, — говорил он, сам скользя и падая, и поставил наконец дедушку на ноги, потом надел на него шапку, захватил ведро и, поддерживая, повел дедушку Власа домой. Там он уложил его на старой постельке.
— Спасибо тебе, касатик, спасибо, родной, — бормотал дедушка. — Спасибо за доброе дело.
Но, не слушая его, Кин вышел на двор. Голова у него горела, за горло точно схватил кто-то сильной рукой и крепко сжал. Он тяжело дышал, шел шатаясь и не знал, что с ним делается. И вдруг он ясно почувствовал, как в сердце у него встрепенулась маленькая девочка, встрепенулась, как птичка после долгого сна, встрепенулась она и заплакала и вместе с тем сквозь горькие слезы улыбнулась, да так приветно и радостно, что Кин сделался сам не свой. Он облокотился о фонарный столб, стиснул голову обеими руками и вдруг громко зарыдал на всю улицу. Долго рыдал он. Ведь это были почти первые слезы в его жизни, потому что он плакал тогда только, когда был еще очень, очень маленьким Кином.
А маленькая девочка все прыгала в этом сердце и пела, сквозь слезы, тихую песенку.
— Не прыгай! — говорил Кин, прижимая сердце рукой. — Я не хочу гордиться моим добрым делом, я не хочу знать, слышишь ты, я не хочу знать, что я сделал доброе дело!
— Но девочка все-таки прыгала и пела песенку.
— Слушай, ты, — сказал Кин, подняв голову и стиснув свой маленький, но крепкий кулак. — Слушай, Папа-пряник, я не для тебя сделал доброе дело, не за твой гадкий пряник, не нужен мне он: я помог старому дедушке Власу потому, что ему нужно было помочь, потому что мне, собственно мне, захотелось этого крепко-крепко. — И он опустил свою голову и тихо пошел домой.
Но он шел уже совсем другим Кином, а не тем, каким он был до тех пор. На него солнце светило так радостно, перед ним так весело блестели мокрые тротуары, и люди шли и смотрели на него приветливо, как будто говорили: вот, смотрите, идет добрый, маленький Кин, хороший мальчик.
Что ж? быть может, он и в самом деле сделал настоящее доброе дело. А вот мы это увидим. Не надо только никогда торопиться. Ведь мы еще не знаем, что сделал третий маленький мальчик.
Его звали «Веселым Толем». Все волосы у него вились в мелкие кудри, а щеки были полные и румяные. Его голубовато-серые глаза всем так ласково улыбались, что все говорили: «Ах, какой славный мальчик!» — Да! Толь был действительно славный мальчик.
Он жил высоко наверху в маленькой комнатке, вместе с своей старой бабушкой, и тут же наверху, под самой крышею, жило много голубей. Они все знали Толя, потому что Толь кормил их крошками. Когда Толь шел по двору, голуби слетались к нему, кружились вокруг него, садились к нему на плечи и целовали его.
Когда Толь был на празднике у Папы-пряника, то и ему был дан кусок пряника, потому что он прилежно ходил в школу и хорошо учился. Толь принес пряник к своей бабушке.
— Ах, ты мой милый соколик, — сказала она, — кушай его на здоровье, радость моя.
— Нет, бабушка, ты только маленький кусочек съешь, отведай. — Бабушка съела маленький кусочек и сказала, что пряник очень хорош. А Толь пошел к своим маленьким друзьям, которых было у него много. У одного лодочника Жана было целых четверо, мал мала меньше, и все они крепко любили Толя.
— Ну, цыплятки, — сказал он, входя на чердак к Жану, — хоть вы и не были на празднике у Папы-пряника, а все-таки вам будет сегодня праздник. — И он развернул бумагу и показал им пряник с блестящей золотой надписью.
Толь взял ножик, разрезал пряник пополам и одну половину разделил по кусочку всем четырем.
Дети быстро съели свои кусочки, облизались и теребят Толя со всех сторон.
— Дай еще хоть немножко, чуточку!
— Дай им еще, — говорит Жан, который сидит нахмуренный в углу, подперев голову одной рукой, — дай им еще, ведь они третий день ничего не ели!
— Как! — вскричал Толь. — И ты мне ничего не сказал! Это очень нехорошо!
— Да, как же, вот я пойду сейчас отыскивать тебя, чтобы ты принес им кусок хлеба!
Но Толь уж не слушал его. Он бежал с лестницы, бежал бегом, сел на перила и мигом скатился, слетел по ним вниз. Он прибежал, запыхавшись, к толстому булочнику Беккеру.
— Господин Беккер, — сказал он, — вот вам кусок пряника, пожалуйста, дайте мне за него простой черный хлеб, он мне очень нужен.
— На тебе самый хороший хлеб, — сказал Беккер, — а пряника твоего мне все-таки не надо — съешь его сам.
— Благодарю вас, господин Беккер, очень вас благодарю. — И он побежал к лодочнику Жану.
— Постой, — сказал Жан, когда Толь принес хлеб, — им нельзя давать помногу, они с голоду не перенесут этого и умрут, — и он отрезал по маленькому кусочку и раздал своим цыпляткам, потом отрезал и себе кусок, потому что и он уж давно ничего не ел.
Цыплятки съели хлеб, даже после пряника, потому что были голодны, а голод не тетка. Потом Толь пошел с другой половиною пряника и раздал его другим детям. Они все целовали его и говорили:
— Ах, какой вкусный пряник! Спасибо тебе, дорогой, добрый, кудрявый Толь! — И когда раздал Толь весь пряник, то вспомнил, что он еще не отведал его сам, но у него уж не осталось ни крошки.
— Ну! — сказал Толь, облизывая пальцы, которые были в варенье, — ведь варенье самая вкусная вещь в прянике, а его-то вкус я знаю теперь.
Между тем бедный лодочник Жан сидел все на одном месте, в темном углу, и с ним вместе сидела его тяжелая, черная дума. Она сидела у него на плече и шептала ему на ухо: «Вот ты теперь остался без работы и без места, потому что у тебя рука заболела и рассорился ты с своим хозяином, который заставлял тебя работать даже с больной рукой. Куда ж ты теперь пойдешь? Твои дети умрут с голода. На свете все черно, везде темно и гадко. Возьми и убей своих цыплят, если ты желаешь добра им, убей и себя, потому что у мертвых нет ни стыда, ни забот, ни горя. Они сладко спят в покойных могилках».
И чем дольше сидел Жан, тем громче говорила ему черная дума все одно и то же. И не мог отогнать он ее, эту неотвязную черную думу, потому что она крепко сидела на плече у него.
Наконец встал Жан и пошел к соседу. Он выпросил у него жаровню с горячими угольями, принес к себе и поставил посреди комнаты.
— Вот вам, — сказал он, — цыплятки, последнее угощение от вашего бедного отца: засыпайте спокойно и крепко, чтобы не проснуться, когда вас понесут в холодные могилки.
— Ты нам хочешь супу сварить? — спрашивает его Поль.
— Да, супу, хорошего супу, какого вы никогда еще не едали и никогда больше не будете есть. Только ложитесь теперь спать, потому что он еще не скоро сварится. — И он всех их уложил, расцеловал, закутал чем мог, заткнул все дыры в разбитом окне, ушел и запер дверь на задвижку. Ах, черная дума нашептывала ему страшное дело! От горячих углей подымался синий удушливый дым, и он шел, наполнял комнату, ему некуда было выйти, он тихо обхватывал детей, и в нем должны были задохнуться, умереть все маленькие дети Жана.
А сам он, угрюмый, бледный, тихо вышел на улицу, и вместе с ним пошла черная дума.
И ведет его черная дума сквозь ночную мглу, и сечет холодный дождик его открытую голову, бьет по лицу, а ветер треплет его мокрые волосы.
И он торопится сквозь дождь и мглу, а черная дума шепчет ему с каждым шагом: скорее, скорее! Он идет глухими переулками, идет к широкой реке, а река бежит глубоко во тьме и смотрит на него холодными глазами.
И сходит Жан вниз по скользким, мокрым ступеням.
— Жан! Жан! — кричит позади него громче и громче детский голос. — Жан!.. И обернулся Жан посмотреть, кто вспомнил его и зовет, когда он уже сходит в могилу. — Жан! — кричит, задыхаясь и погасая, голос из мрака, и весь мокрый, усталый, в слезах падает Толь к ногам его и крепко обнимает его ноги.
— Жан, — говорит он, едва дыша, — я давно бегу за тобой.
— Зачем ты здесь? — бормочет Жан, — что тебе нужно? Пусти меня и ступай домой.
— Мне нужно тебя, милый Жан, не отталкивай меня, не торопись в воду: они еще придут, светлые дни, и снова проглянет солнышко, и ты будешь опять бодр и весел. Я буду помогать тебе, как другу, как брату.
— Пусти, — шепчет Жан, стараясь отцепить ручонки Толя, — пусти, я не хочу чужого хлеба, мне нет тут места.
— Добрый Жан, это будет мой хлеб, твоего друга, ты мне отдашь его, когда я буду голоден, и мы все должны помогать друг другу.
— Пусти, пусти, — шепчет Жан, задыхаясь и оттаскивая из всех сил закостеневшие вокруг ноги его руки Толя, но больная рука его не слушалась. Пусти! — шепчет он, — они к нам не придут, они все крепко уснули…
— Они живы, Жан, они не спят: я ведь выбросил от них гадкую жаровню, я впустил к ним чистого воздуха, они все живы, веселы, сыты, они ждут тебя, своего милого папу — они — сизые… гули!.. И Толь выпустил, наконец, ногу Жана: у него не стало больше силы. И, бормоча несвязные слова, он упал на мокрые, скользкие ступени, упал как мертвый, без чувств, без сознания, бледный, с закрытыми глазами и покатился в воду. Жан быстро нагнулся и подхватил его. Он сел на мокрые ступени, он весь дрожал, черная дума отлетела от него. Он взял на руки бледного Толя, посмотрел на него, крепко поцеловал и прижал к сердцу.
— Голубь мой, белый, добрый голубь, — сказал он, — ты спас их, спас и меня также!
И он встал и. шатаясь, понес Толя на руках к себе домой…
Ну, наконец, мы наверно узнаем, кто из трех сделал настоящее доброе дело, потому что наступил праздник, и все дети собрались идти к Папе-прянику. Все, маленькие и большие, умные и глупые, добрые и злые, всем хотелось видеть, кому дадут самый большой пряник. Ведь это действительно любопытно.
Не пошел только один Кин, да ведь он и не желал ни получать пряника, ни видеть, как его получают, потому что считал и пряник-то гадким.
Все дети шли весело и охотно, а путь был немалый. Ведь Папа-пряник живет неблизко-недалеко, как раз за тридевятью землями, в том тридесятом царстве, про которое в сказках говорится.
И вот, наконец, они все пришли куда следует, как и надо было ожидать, и при том к самому началу, а это-то и называется аккуратностью.
Папа-пряник по-прежнему сидел на своем троне, в короне из чистого сусального золота, по-прежнему сидели сановники, одним словом, все было по-прежнему, как было уж давно, потому что к этому все привыкли, а Папа-пряник больше всех. Он хорошо все знал: знал, что сделали все дети, и маленький Лупп, и злой Кин, и веселый Толь.
— Ну, — сказал Папа-пряник, который был очень весел, потому что награждать всегда приятно, а тем более за настоящее доброе дело. — Ну! принесите теперь самый большой пряник. Пусть все видят, какая это хорошая награда, ибо мы не намерены этого скрывать.
Тогда обе половины дверей растворились настежь и показалась процессия. Впереди шел обер-церемониймейстер со всеми церемониями, какие только были у него, за ним шел унтер-церемониймейстер, без всяких церемоний, просто в халате, за ним обер-гофшенк с серебряной вилкой, потом шли все сильные люди, и они-то все несли самый большой пряник, потому-что он был очень тяжел.
Когда пряник поставили куда следует, чтобы он всем был виден, и сняли с него покрышку из красного бархата с золотыми кистями, то все увидали, что это был настоящий пряник, который действительно мог получить только тот, кто сделал настоящее доброе дело.
— Маленький Лупп, — сказал Папа-пряник, — подойди сюда!
— Ну! вот видите, — сказал Лупп, — что значит делать доброе дело с расчетом, всегда будешь в выгоде, — и подошел к Папе-прянику.
— Ты, — сказал король, — сделал дурную аферу, потому что истратил шесть пятачков, и ничего от нас не получишь. Ступай себе туда, откуда пришел.
И Лупп повернулся и пошел, бормоча под нос, что Папа-пряник — ловкий аферист, с которым не стоит иметь никаких дел: как раз надует. И при этом он откусил ноготь на мизинце, да так ловко, что больше нечего было и кусать.
— Маленький Кин, — сказал Папа-пряник, — это злой мальчик. Немного стоило ему труда поднять доброго старого дедушку Власа и довести его домой, но и на это немногое он не скоро решился. Да при том ведь его нет здесь, и он сам не захотел получить самого большого пряника. Веселый Толь, поди сюда! Этот пряник твой, он твой, потому что у тебя настоящее доброе сердце, которое само, легко и свободно, не зная и не ведая, творит каждое доброе дело; он твой, потому что ты сделал настоящее доброе дело: ты спас не только Жана и его детей от страшной смерти, но ты спас в нем лучшее, что есть в человеке, — ты спас в нем самого человека!
И только что он сказал все это, как все встали со своих мест и громко закричали: «Да здравствует справедливость и наш добрый король Папа-пряник сорт первый!»
Дамы замахали платками, и на глазах их от сладости умиления выступила сахарная вода, а все кондитеры застучали в медные кастрюли, что составило самую отличную музыку, и под эту музыку Толь выступил из толпы и подошел к трону короля.
— Стойте вы все! — закричал он, подняв кверху руку, и все замолчали. Теперь слушай ты, Папа-пряник. Прежде чем награждать, растолкуй ты мне, чего я понять не могу, и тогда я возьму твой пряник, потому что я ничего не хочу делать, не понимая, как обезьяна. Если легко было сделать настоящее доброе дело, если я сделал его, не зная, не ведая, то за что же ты меня будешь награждать? За настоящее доброе сердце, — но ведь я с ним родился, и за это ты мог бы наградить только мою добрую маму, если бы она не умерла. Папа-пряник, рассуди: ведь я люблю Жана; как же мне было не броситься к нему и не уговорить, чтоб он не топился. Ах! если б он утонул, меня не утешил бы самый большой твой пряник. За что же ты меня хочешь наградить — растолкуй ты мне это, Папа-пряник.
Но Папа-пряник молчал: он только развел руками.
— Ты представь себе, — продолжал Толь, — если бы доброго Жана не одолела черная дума и он бы не захотел топиться, то я не спас бы его и награждать тебе было бы меня не за что. Неужели же нужно будет наградить черную думу за то, что она дала мне случай сделать настоящее доброе дело? Ах, растолкуй ты мне это, Папа-пряник.
Но Папа-пряник ничего не растолковал. Он только сказал:
— Мы! — улыбнулся и снял корону.
— По-моему, — продолжал неугомонный Толь, — лучше бы отдать пряник Кину, потому что он был злой и пересилил себя, и сделал доброе дело, да так сделал, что всю жизнь он его не забудет.
Наконец, Толь замолк. А Папа-пряник тоже помолчал, подмигнул левым глазом и проговорил громко и внятно, во всеуслышание:
— Ты очень добрый и умный мальчик, но не рассудил об одном, не рассудил, что, объявляя награду, я вызываю доброе дело и его сделает даже тот, кто без награды никогда бы его не сделал.
Но веселый Толь перебил его.
— О! я рассуждал и об этом, я думал об этом, но скажи мне, добрый Папа-пряник: давая награду одному, не возбуждаешь ли ты зависть во многих других? И сколько эти другие должны иметь доброты, чтобы все они не завидовали одному?
— Ах, какой ты славный, умный, умный мальчик! — вскричал Папа-пряник. — Возьми же ты все-таки пряник и делай с ним, что хочешь!..
И Папа-пряник вскочил с своего трона. Он быстро подошел к Толю и поцеловал его, да так громко, что всем стало весело.
И все сановники, кавалеры и дамы тотчас же при этом увидали, что у Толя настоящее доброе сердце. И все потянулись целовать его, но он отошел прочь, поклонился королю, поклонился обер-гофшенку и унтер-гофшенку, взял золотой нож у обер-гофшенка и серебряную вилку у унтер-гофшенка и начал резать пряник. Все дети обступили его. Он их расставил рядами, каждому давал по куску и всем разделил пряник поровну, так что никому не было ни завидно, ни обидно, а в том-то вся и сила.
И вот все это действительно случилось, хотя и очень давно, но может опять случиться и сегодня, и завтра, одним словом, когда придется, потому что срок для всего этого еще не положен.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



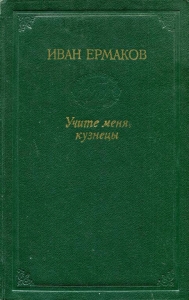



Комментарии к книге «Папа-пряник», Николай Петрович Вагнер
Всего 0 комментариев