Александр Ефимович Власов, Аркадий Маркович Млодик О смелых и отважных
МАНДАТ ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ДВА ГЛЕБА
Цепочка людей была длинной-предлинной. Глебка окинул ее наметанным взглядом и глубоко вздохнул: простоишь часа полтора — не меньше! Но зато сегодня выдавали праздничный паек — полфунта хлеба. И не какого-нибудь, а белого!
Глебка занял очередь за мужчиной в старом пальто с приподнятым плисовым воротником. Теперь надо было дождаться, когда два-три человека встанут за ним, а потом можно будет отпроситься на минуточку и попробовать «примазаться» где-нибудь поближе к дверям. Мальчишка был ловок, и эта хитрость часто удавалась ему. Бывали, конечно, и неудачи. В таких случаях приходилось отступать и под нестройный хор рассерженных голосов возвращаться на свое законное место.
Глебка загадал: если за ним встанет мужчина, то стоит рискнуть, а если женщина, то нечего и пытаться пролезть без очереди — не выйдет.
Подошла женщина. Глебка сердито засунул руки в карманы. Не любил он, когда получается не так, как бы ему хотелось. «Чепуха все это гаданье! Возьму назло и пролезу!» — подумал он, а вслух сказал:
— Тетенька! Я отойду на минуточку… Вы за мной будете… Хорошо?
Женщина молча кивнула головой, и Глебка медленно пошел вдоль очереди, выискивая подходящее место.
В это время из соседнего переулка, который заканчивался небольшой вечно грязной площадью, долетел веселый наигрыш гармошки. Кто-то запел высоким насмешливым голосом. И сразу же из дворов высыпали мальчишки.
— Артисты!… Артисты приехали!
С криками и свистом вся ватага помчалась на площадь.
Глебка еще раз посмотрел на очередь, похлопал по карману — проверил, целы ли продовольственные карточки, — и припустился за мальчишками. Завернув за угол, он увидел в конце переулка — в центре площади — небольшой помост. Осенний ветер хлопал кумачовым полотнищем, растянутым над временной эстрадой. На кумаче белело: «Да здравствует вторая годовщина Октября!»
Пронзительный насмешливый голос принадлежал молодому актеру в красной рубахе, надетой поверх теплой тужурки. Актер нахлобучил на голову бутафорскую корону и запел:
Был на троне царь-отец, Коронованный подлец, По прозванью Николашка, Да хватил его кондрашка!Певец вызывающе присвистнул и под смех окружавших эстраду зрителей швырнул корону под ноги.
Когда Глебка подбежал к толпе, актер был уже в картузе, на околышке которого было написано: «Керенский».
Прозвучала новая частушка:
Был Керенский-временный, Богачей поверенный. Выгнали из, Питера Дурака-правителя!Актер поддал коленом воображаемому «временному правителю». Картуз пуганой вороной пронесся над хохочущими зрителями и шлепнулся в лужу. А на певце вдруг появилась генеральская фуражка с надписью: «Юденич».
Был Юденич-генерал, Петрограду угрожал… Только Пулково понюхал — Получил прикладом в ухо!Эту частушку встретили с особым одобрением. И царь, и Керенский были уже в прошлом, а Юденича только что отогнали от стен Петрограда. Глебка считал, ЧТО все беды происходят от этого недобитого генерала.
А бед было много. В мае, когда Юденич первый раз подходил к городу, с фронта привезли отца с перебитой осколком рукой. Спустя два месяца от тифа умерла мать. Все хозяйственные хлопоты Глебке пришлось взять на себя. Он хранил бесценные продовольственные карточки стоял в очередях за хлебом, доставал дрова и готовил скудную еду. Дел хватало с избытком, а еды… Ему всегда хотелось есть.
Голод и ненависть к Юденичу были постоянными. И когда Глебка увидел на эстраде живого толстопузого «Юденича» в генеральском мундире с позолоченными шнурами на груди, у него зачесались руки. «Генерал» в паре с высоким актером во фраке с белой манишкой, на которой виднелась надпись «Антанта», исполнял какой-то танец. Эту пару артистов должны были вытеснить с эстрады красноармеец и матрос, но Глебка помешал разыграть сцену. Он нагнулся, сгреб с земли горсть липкой грязи и, размахнувшись, бросил в «Юденича». Комок угодил «генералу» в грудь и забрызгал лицо. Актер растерянно остановился, инстинктивно вскинул руки, чтобы протереть глаза, и в этот момент из-под мундира выпала большая подушка.
На секунду все притихли. Какая-то женщина приглушенно хихикнула — и сразу же громкий смех раздался на площади.
Актер, изображавший «Антанту», сердито крикнул в толпу:
— Эй, вояки!… Меткость свою на фронте показывайте! Не мешайте работать.
Он подхватил выпавшую подушку и, заслонив собой «Юденича», засунул ее под генеральский мундир.
Снова грянула музыка. «Юденич» и «Антанта» закружились на помосте.
Глебка был упрям. Он второй раз наклонился за грязью, но пальцы наткнулись на чей-то большой грубый ботинок. Мальчишка подумал, что нога подвернулась случайно, и отвел руку в сторону. Ботинок передвинулся за рукой, а над Глебкой прозвучал густой простуженный бас:
— Хватит!
Глебка поднял голову и посмотрел на хозяина ботинка. Это был пожилой усатый матрос с широченной грудью, туго обтянутой полосатой тельняшкой, видневшейся из расстегнутого бушлата.
— Дубок два раза одно и то ж не повторяет! — прогудел матрос.
В его голосе слышалось что-то такое, от чего рука Глебки так и не дотянулась до земли. Он выпрямился, обжег Дубка недружелюбным взглядом и стал выбираться из толпы.
По дороге к лавке мальчишка еще раз встретился с «Юденичем». На заборе висел плакат. Назывался он «Цепные псы капитализма». В верхнем углу листа банкир в цилиндре с сигарой во рту держал толстую веревку, на которой была привязана свора собак. В мордастом бульдоге Глебка узнал Юденича. Минуту Глебка и бульдог разъяренно смотрели друг на друга. Потом у мальчишки зарябило в глазах. Ему показалось, что «Юденич» еще шире разинул пасть и моргнул налившимся кровью глазом. Глебка подскочил к плакату и ногтями расцарапал собачью морду.
Пока он расправлялся с «Юденичем», очередь за хлебом заметно продвинулась вперед. Плисовый воротник виднелся у самых дверей.
Через четверть часа Глебка вышел из лавки с двумя порциями белого хлеба, аккуратно завернутыми в платок.
У самого дома, где жили. Прохоровы, улицу перегораживала баррикада из мешков с песком и булыжников. Несколько дней назад ее начали разбирать, но работу не закончили, расчистили только узкий проход.
Через эту узкую горловину с песней шел отряд вооруженных рабочих. Грозно и призывно звенели голоса:
Слушай, товарищ! Война началася! Бросай свое дело, в поход собирайся! Смело мы в бой пойдем за власть Советов И, как один, умрем в борьбе за это…Где-то в середине колонны несли растянутый на штыках плакат с короткими и хлесткими, как выстрел, словами: «Даешь Ямбург!»[1] Отряд направлялся на фронт.
Глебка забрался на баррикаду и простоял там, пока не прошли последние ряды колонны. А песня все звучала тревожная, берущая за сердце, зовущая в бой.
За баррикадой, в тупике, выдавали дрова. У стены стояли большие весы, и двое мужчин накладывали на них горку гниловатых досок и бревен, оставшихся от разломанного забора. У весов толпились люди.
Глебка вспомнил, что зима на носу, а дров у них нет ни полена. Он мигом спустился вниз и, заняв очередь, помчался домой — за отцом. Десять лестничных пролетов он пересчитал единым духом. Привычно стукнув кулаком в дверь, он услышал знакомые шаги и закричал:
— Батя! Скорей!… Дрова дают!
Дверь открылась.
— Дрова!… — снова крикнул Глебка и осекся.
Отец встретил его каким-то необычным взглядом.
— Дрова? Боюсь, что они нам нынче не потребуются! — Он внимательно посмотрел на сына и добавил с чуточку виноватой, извиняющейся улыбкой: — Входи, Глеб Глебыч… Потолкуем…
И слова, и улыбка отца показались Глебу странными. Он почувствовал: произошло что-то серьезное. Отец называл его Глебом Глебовичем очень редко, и уж когда называл, Глебка знал: надо ждать крутых поворотов.
Оба Глеба — старший и младший — были удивительно похожи друг на друга. У обоих лоб пересекала глубокая вертикальная морщина. Глаза у отца и сына были колкие, прищуренные. И по характеру они сходились полностью: немногословные, с виду хмурые, не терпящие суеты и спешки, особенно в трудные моменты жизни.
Молча вошли они в комнату. Отец стал накрывать на стол. Сын развязал платок с хлебом, взял нож. Отец не торопился с объяснениями. Сын терпеливо ждал — не расспрашивал.
— Белый! — произнес отец, взглянув на хлеб.
— Праздник, — ответил Глебка. — Мало только.
— Мало, — согласился отец.
Помолчали, прихлебывая горячий кипяток. Наконец Глебка спросил, придав голосу полное безразличие:
— Что?… В этом году морозов, что ли, не будет?
— Почему? Будут. Только я уеду, а ты… А тебя придется к Архипу переселить… Не откажут, думаю. Где девять ребятишек, там и десятому место найдется. И не скучно будет. А Архип со мной отправится.
— Куда? — односложно спросил Глебка, опуская чашку с кипятком.
Отец взял кусок хлеба, прикинул его на ладони.
— Сам видишь — мало! Город голодает. Люди мрут… Едем с продотрядом. Будем кулаков трясти! Они хлеб попрятали…
Глебка выслушал эту очень длинную для отца речь и твердо сказал:
— Не останусь!
Отец не ответил. Морщинка на лбу у обоих Глебов обозначилась резче. Отец посмотрел в окно. Сын обвел взглядом комнату: две кровати, комод с маминой фотографией в черной рамке, на стене портрет Ленина, ходики, календарь с красным листком 8 ноября 1919 года.
— Кроме уговоров, есть сила, — спокойно, без угрозы сказал отец.
— А есть и ноги! — ответил Глебка. — Силой оставишь — убегу!
И опять в комнате наступила тишина. Теперь Глебка глядел в окно, а отец смотрел на портрет жены.
— Допустим — возьму, — задумчиво произнес он. — А тебе там голову продырявят… Что тогда мамка скажет?
— А что ты ей обещал? — напомнил Глебка и повторил слова, которые произнес отец в день похорон на могиле матери: — «Сына прятунком делать не буду!…» А это что — не прятунок: сам воевать, а меня…
— Не воевать, а с продотрядом — за хлебом, — поправил отец.
— Не воевать — тогда и голову не продырявят! — вставил Глебка, воспользовавшись оплошностью отца.
Не найдя что ответить, отец недовольно буркнул:
— Пей чай — остынет!
Глебка послушно взял чашку и стал прихлебывать. Отец допил кипяток, доел свою порцию хлеба и, вставая из-за стола, сказал:
— Продотряд отправляется сегодня ночью… Сначала заедем в Москву. Собирайся! Но помни: сына в моем отряде не будет! Будет боец Глеб Прохоров!… Ясно?
— Ясно! — улыбнулся Глебка.
— Бойцы в таких случаях говорят: «Есть!»
— Есть! — ответил Глебка, вскакивая.
МАНДАТ
Глебка не считал себя трусливым парнем. Но если говорить честно, здесь он оробел. Больше всего его смущали грязные сапоги. А как им быть чистыми, если от самого вокзала до Кремля он протопал в них по осенней слякоти московских улиц.
Встал Глебка у окна и спрятал ногу за ногу, чтобы хоть не оба сапога были на виду. Влево и вправо тянулся торжественный чистый коридор: по одной стороне — окна с выбеленными подоконниками и рамами, с начищенными до зеркального блеска стеклами; по другой — тоже белые, строгие двери.
Людей много. Всяких. Мимо прошли двое крестьян с котомками, в лаптях; рабочий в коротком полупальто и зимней шапке. Поскрипывая высокими сапогами, легко прошагал кавалерист в галифе, обшитых кожей. Потом показался мужчина в пенсне, с длинными волосами, в толстовке. Люди переговаривались не очень громко, заходили и выходили из дверей, бесшумно прикрывая их за собой.
Несколько минут назад за одной из таких дверей исчез и Глеб Прохоров-старший. Перед тем как войти, он поправил ремень, подтянулся. В поезде он полночи скоблил тупой бритвой щеки и подбородок, замазывал сажей протертые, побелевшие сгибы на кожаной куртке и приговаривал, заметно волнуясь:
— К Ленину в полном параде надо!
Может быть, потому и Глеб-младший чувствовал сейчас неловкость из-за своих грязных сапог, «Хорошо еще — борода не растет!» — подумал он и нахмурился: мысль показалась ему глупой. Пошаркав носком сапога о голенище, Глебка посмотрел на дверь, в которую вошел отец. Вернее, не посмотрел, а только хотел посмотреть. Все двери казались одинаковыми, и на какую из них надо было смотреть, он не знал. Забыл. Не та ли, у которой стоит часовой? Но его вроде тогда не было!…
Глебка рассердился на себя не на шутку. Хорош боец, если растерялся, как девчонка! Ногу еще запрятал! Чистюля какой! Глебка плотно встал на обе ноги и посмотрел на часового. Ну конечно, это комната Ленина! Ведь у других дверей часовых нет! «Сейчас спрошу!» — решил он и сделал шаг от окна.
— Дубок два раза одно и то ж не повторяет! — прогремело сзади.
Глебка испуганно обернулся. У соседнего окна остановилась группа красноармейцев. В центре — матрос Дубок. Это его простуженный бас прозвучал в коридоре. Красноармеец, к которому обращался Дубок, поспешно козырнул и быстро пошел вдоль дверей. А матрос заметил уставившегося на него мальчишку.
— А-а! Бомбардир! — пробасил он с усмешкой.
Матрос чувствовал себя здесь как дома: говорил громко, раскатисто, и это заставило Глебку нахохлиться. Да и вообще он плохо забывал обиды, а первая встреча с Дубком не оставила теплых воспоминаний.
— Каким ветром сюда прибило? — продолжал матрос.
— Никаким! — отрезал Глебка.
— Ишь ты! Камса ершистая! — не столько рассердился, сколько удивился Дубок.
Что такое камса, Глебка не знал, тем обиднее прозвучало это слово. Не удостоив Дубка ответом, он отвернулся и пошел по коридору в сторону часового.
— Кого ждешь, малыш?
Глебка вздрогнул от неожиданности. Да и кто бы из уважающих себя мальчишек вытерпел поток таких страшных оскорблений: то какой-то камсой обозвали, а теперь еще и малышом!
— Малыши в люльках качаются! — выпалил он и добавил, почмокав губами: — И соски жуют!
Часовой добродушно улыбнулся и сказал:
— А ведь верно — ершистый ты парень!… Не знаю, как насчет соски, а палец тебе в рот класть не стоит!
Улыбка часового подкупала, но Глебка все-таки огрызнулся:
— Особенно грязный: откушу и выплюну!
— Ну уж не ври! — возразил часовой. — Смотри! — Прижав локтем винтовку, он вытянул вперед руки. — Чистые!… Как на этот пост идти, — обязательно мою.
Глебка сменил гнев на милость и сказал уже не так сердито:
— Вот уронишь винтовку — будешь знать!
— Не уроню! — ответил часовой. — Скорей моя голова с плеч скатится, чем винтовка из рук выпадет!… Так-то, Ерш Ершович!
Мальчишка оглядел ладную фигуру часового, его широкое открытое лицо и сказал доверительно:
— Меня Глебкой зовут. А ты… кого караулишь?… Ленина?
— Не караулю, а оберегаю! — с великой почтительностью произнес часовой.
Глебка снова оробел и, чтобы скрыть это, сказал:
— А у меня батя к Ленину пошел…
— По какому делу? — полюбопытствовал часовой.
— Тайна! — важно ответил Глебка.
Часовой опять улыбнулся и ласково спросил:
— Военная?
Глебке хотелось прихвастнуть, показать, что и они с отцом не лыком шиты, но трудно врать, когда на тебя смотрят все понимающие глаза.
— Нее… не военная! — признался Глебка. — Продовольственная!
— Понятно! — произнес часовой.
— Сам пошел, а меня не взял! — пожаловался Глебка. — А мне бы хоть одним глазком на Ленина взглянуть! — Он вопросительно посмотрел на часового. — А ты его каждый день видишь?
— Каждый!
— И близко?
— Как тебя.
— Вот счастливый! — вырвалось у Глебки. — Мне бы хоть денек тут постоять!
— Увидишь еще! — утешил его часовой.
— Да-а! Уви-идишь! — недоверчиво протянул Глебка. — Я в Питере ловил-ловил Ленина у Смольного, да так и не встретил ни разу!
— Очередь до тебя, выходит, не дошла! — объяснил часовой. — Но дойдет!… По секрету тебе скажу: Ильич, говорят, зарок дал: сколько есть у нас в России людей — со всеми повидаться и с каждым по душам поговорить!… Знаешь, сколько уже у Ленина народу побывало! А все идут и идут!… Сегодня твой отец пришел — дойдет и твой черед!
Глебку не устраивали эти рассуждения. Он схитрил-встал у стенки напротив двери. Расчет был простой: рано или поздно отец должен выйти в коридор. Дверь откроется, часовой посторонится, и Глебка сумеет заглянуть в комнату. Не знал он, что есть еще один выход из кабинета Ленина. Отец как раз и вышел через ту дверь и неожиданно появился справа от сына. Шел Глеб-старший по коридору легкой пружинистой походкой, с просветлевшим лицом. Даже морщина на лбу сейчас была почти не заметна.
— Ты, значит, не у Ленина был? — увидев отца, с обидой воскликнул Глебка и смущенно посмотрел на часового.
— Это почему же? — по-мальчишески задорно спросил отец. — У Ленина, у самого что ни на есть Владимира Ильича!… Руку видишь? — Отец растопырил свою широкую рабочую пятерню. — Этой самой рукой только что прощался с Ильичей!
Сын так внимательно уставился на пальцы отца, будто на них мог остаться след ленинского рукопожатия. Сотня вопросов вмиг родилась в Глебкиной голове, но отец торопился к отряду.
— Пошли, пошли! — сказал он. — Там поговорим! Не одному тебе — всем хочется про Ленина послушать!…
Продотряд петроградских рабочих состоял из двенадцати человек. Тринадцатым был комиссар — Глеб Прохоров, а четырнадцатым — Глебка. В поезде, по дороге в Москву, шутили, что Глебка выручил всех: без него было бы тринадцать человек, а тринадцать — число несчастливое.
Люди в отряде подобрались знакомые. Они работали на одном заводе и давно знали не только друг друга, но и жен, и детей. Глебка тоже знал почти всех бойцов продотряда, а троих — особенно близко: Архипа, Митрича и Василия.
Архип был, пожалуй, самым добрым и ласковым из всех продотрядовцев. Он не умел хмуриться, а когда что-нибудь было ему не по душе, он лишь укоризненно покачивал большой лобастой головой с глубокими залысинами.
Заводские острословы поговаривали, что лысина у Архипа не простая: чем больше разрастается Архипова семья, тем меньше остается волос на его голове. А семья у Архипа действительно росла из года в год. Он оставил дома жену и девять детишек.
Митрич был совсем другим человеком. Пожилой и одинокий, он всегда выглядел недовольным и нелюдимым. Рыжие щетинистые усы, рыжие кустистые брови — левая выше правой — придавали ему какой-то неприступный вид. За глаза его называли бобылем, но все любили и ценили за неподкупную честность.
А Василий — тот сразу же занял в отряде место балагура и весельчака. Глебка чувствовал себя с ним, как с дружком, на равной ноге, хотя Василию шел уже двадцать первый год.
На вокзал в Петрограде Василий пришел налегке — без вещей: на правом плече — винтовка, на левом — гармошка.
Добряк Архип потер лысину и сказал:
— Ты бы хоть бельишко какое прихватил с собой.
А Митрич недобро покосился на гармошку и кольнул:
— На свадьбу собрался?
Но Василия уколоть трудно. Он дернул плечом, перекинул гармошку на живот и, щелкнув пальцами по мехам, ответил сразу обоим:
— Тут у меня все! Она и в холод согреет, и в голод накормит, в беде развеселит!… А насчет свадьбы… У нас вроде все женатые… Может, ты, Митрич, собрался с холостяцкой жизнью распрощаться?
Митрич шевельнул щетиной усов и добродушно обругал Василия, но кругом уже весело хохотали, и голоса Митрича не было слышно.
С этого момента и установилась в отряде та мужская спайка, которая допускает и шутку, и острое словцо, и дружеское необидное подтрунивание. Настроение было приподнятое, поэтому шутили и в поезде, и на улицах Москвы, и у Кремля, ожидая прихода комиссара.
Когда оба Глеба вышли из кремлевских ворот, Василий только что начал рассказывать очередную веселую историю. Митрич, который был оставлен за старшего, первый заметил комиссара и грубовато прервал Василия:
— Прикрой рот! Вышло твое время!
В первую очередь Глеб-старший показал мандат — обычный документ на обычной бумаге. Но этот мандат был выдан Владимиром Ильичем. Внизу стояла подпись:
И от одного этого простая бумажка приобретала великую силу и значимость. С этой минуты группа рабочих становилась не просто группой, а настоящей боевой единицей, выполняющей ответственное задание партии.
Глебка, неотрывно следивший за мандатом, который переходил из рук в руки, видел, как подтягиваются рабочие, читая короткие строки документа. Когда очередь дошла до Василия, тот даже застегнул ворот рубахи, Прежде чем взять подписанный Лениным лист.
В мандате, выданном на имя Глеба Прохорова — комиссара продотряда, — говорилось, что местные власти должны оказывать отряду полное содействие. Особо подчеркивалось, что во имя революции отряд может применять любые меры, вплоть до оружия. К одному из углов документа была приклеена скрепленная печатью фотография Глеба-старшего.
Обойдя всех рабочих, мандат вернулся к комиссару.
— Батя! Дай мне! — попросил Глебка и долго разглядывал ленинскую подпись и фотографию отца.
Снимок был старый — дореволюционный. Отец выглядел на фотографии очень молодым, и потому сходство между Глебом-старшим и Глебкой было разительным. «Будто мне выдан!» — с гордостью подумал Глебка и сказал:
— Ну и похож же ты на меня, батя! Страшно!
— Может, наоборот? — усмехнулся отец.
— А какая разница? — наивно спросил Глебка.
— Большая! — сурово произнес Глеб-старший. — Мне из-за тебя Владимир Ильич замечание сделал!…
Бойцы насторожились. Глебка опешил. В голове замелькали тревожные мысли. Вспомнились и грязные сапоги, и грубые ответы Дубку, и разговор с часовым.
— Ильич так и сказал, — продолжал отец: — «Вы, товарищ Прохоров, недооцениваете опасность. Я бы вам не советовал брать сына с собой».
— Зачем же ты… про меня!… — вырвалось у Глебки.
Отец строго посмотрел на сына, хотел сказать что-то осуждающее, но вдруг лицо его смягчилось. Взглянув на зубцы кремлевской стены, он ответил:
— Ленину, кроме правды, ничего не скажешь!… Он сердцем чувствует, чем живешь ты, что думаешь! И слушать умеет! Задаст вопрос и ждет ответа так, точно ты пророк и великие истины сейчас откроешь!… Все выспросил: и про Питер, и про заводы, и про семью. Как услышал, что мы с Глебкой мать похоронили, — вздохнул и говорит: «Понимаю… Вот почему сын с вами. А хотите, мы с товарищем Дзержинским подумаем и определим его куда-нибудь?… Временно, конечно… до вашего возвращения». Тут Ильич к телефону потянулся, да остановил я его…
— И напрасно! — проворчал Митрич. — В приют бы пристроили!
— Не напрасно! — возразил Архип. — Только Ленину и не хватает, что наши семейные дела разбирать!
Пока говорил отец, Глебка молчал, пораженный тем, что у Ленина шла речь о нем, о Глебке. Но, услышав про приют, он испугался и выпалил:
— Убегу!
Отец грустно улыбнулся.
— Вот и я подумал: убежит постреленок — оскандалит перед Ильичем.
Глебка с благодарностью посмотрел на отца.
ХЛЕБ
В эту губернию приехало сразу несколько небольших продотрядов. Они подчинялись единому командованию. Штаб находился на станции Узловая. Каждый продотряд действовал в строго определенных волостях. Собранный хлеб подвозили на подводах к ближайшему железнодорожному пункту, а оттуда доставляли на Узловую. Здесь прибывшие из разных мест вагоны с продовольствием соединяли в эшелоны и отправляли в голодающие города.
Отряду Глеба Прохорова достались самые отдаленные волости. Всю зиму бойцы переезжали из деревни в деревню. Комиссар охрип от бесконечных митингов и сходок. Без них было нельзя. У крестьян накопилось много наболевших вопросов. Глеб-старший отвечал на один, а ему задавали десяток новых. И он терпеливо разъяснял все, что волновало мужиков или было им непонятно.
Бойцы иногда ворчали: не хватит ли митинговать? Комиссар пресекал эти разговоры. Он умел находить веские доводы, против которых не поспоришь.
— Мы приехали сюда как политические представители рабочего класса! — резко говорил Глеб-старший. — И наша задача гораздо шире, чем сбор хлеба! Наша задача — укреплять союз с бедняками! Будет союз — будет и хлеб! Не будет — не только хлеба, а и ног отсюда не унесем!
Отряду повезло. В этих волостях не было кулацкого засилия. Большинство крестьян относились к продотряду Сочувственно и помогали от всей души.
Обычно на второй день с утра в избу, где квартировали бойцы, начинали приносить кто что мог. Глеб Прохоров вначале возражал против этих, как мужики называли, гостинцев. Но дружескую руку не оттолкнешь. Бедняки делились последним. Несли разное: полпуда муки, мешок овса, кринку масла, кружку меда.
К полудню бойцы и деревенские активисты разбивались на группы и расходились по богатым дворам. У кулаков изымали только излишки, заготовленные для спекуляции и запрятанные по подвалам и ямам. Хлеб тщательно взвешивали, возвращали на еду и семена, а остальное поступало в распоряжение продотряда.
Кулаки встречали продотрядовцев злобными взглядами, но не сопротивлялись. Некоторые запрягали лошадей и уезжали из деревни. Их не удерживали.
В середине марта комиссар приказал прекратить сбор хлеба. На следующее утро мешки с зерном погрузили на телеги. И длинный обоз выехал по направлению к железной дороге. Путь предстоял трудный — тридцать верст лесом. Но возчики, сопровождавшие отряд, уверяли, что часам к трем, если все будет благополучно, обоз доберется до станции.
Отъехав верст пятнадцать, сделали привал. Задымил костер. Митрич, которого все единогласно избрали кашеваром, повесил на рогатинах большой артельный котел и быстро сварил похлебку. Еще быстрее управились с нею бойцы. Котел опустел, а животы не наполнились. Глеб Прохоров заметил недовольные взгляды и, сомкнув челюсти так, что желваки заходили под кожей, встал с пенька, на котором ел одинаковую для всех порцию похлебки.
— Отря-ад!… Станови-ись! — неожиданно раздалось на поляне.
Лошади перестали жевать сено. Возчики недоуменно посмотрели на Глеба-старшего. Бойцы повскакали на ноги и выстроились лицом к комиссару. Один Глебка продолжал скрести ложкой, но и он тоже с удивлением посмотрел на отца.
— Боец Глеб Прохоров! — раздельно скомандовал комиссар. — Встать в строй!
Глебка поперхнулся. Котелок выпал у него из рук. В следующую секунду он уже бежал на левый фланг, где было его постоянное место.
Комиссар строгим взглядом обвел шеренгу бойцов, помолчал и без вступления высказал самое главное:
— Везем, товарищи, золото… Нет! Ценнее, чем золото! Жизнь везем питерским рабочим! Кто возьмет лишнюю крошку — тот враг революции! А с врагом разговор короткий! Сам буду и судьей, и исполнителем! — Он выразительно хлопнул по коробке маузера и спросил: — Надо еще разъяснять?
— Не надо! Ясно! — загудели бойцы.
— Тогда порешим так, — продолжал комиссар. — Мы — питерцы и жить будем на питерском пайке!… Ясно?
— Ясно! — хором ответили бойцы.
Комиссар повеселел.
— А если ясно, — прошу глаза на подводы не пялить, недовольные лица не корчить!… Видел я сейчас пару кислых физиономий!
В строю смущенно заулыбались: комиссар отгадал мысли бойцов и не дал этим мыслям завладеть людьми.
После привала отдохнувшие лошади пошли веселее. А может быть, возчики стали усердней работать кнутами. Короткая речь комиссара повлияла и на них. Мужики еще раз убедились: хлеб попал в надежные руки.
Глебка с Василием шли рядом с передней подводой.
— Слышь-ка! — обратился к ним возчик. — Комиссар-то у вас крутенек. У такого зернышко не пропадет!
— А ты думал! — ответил Василий. — Все до фунтика в Питер доставим…
— Доставите! — охотно согласился мужик. — Только б тут чего не заварилось…
— У нас ложки большие — расхлебаем! — беззаботно произнес Василий и, кивнув на топор, заткнутый у мужика за пояс, добавил: — А в случае — и вы поможите!
Шутливый тон Василия не понравился возчику.
— Пойми, об чем толкую! — сказал он. — О батьке Хмеле, что его отсюда недавно турнули… А ну как вернется?
— Не каркай! — прервал его Василий.
— На свою голову не каркают! — отозвался мужик. — Вернется — беда общая!… Ты думаешь, он вас порешит, а с нами христосоваться зачнет?… Всем потроха выпустит!
— Это кто ж такой? — недоверчиво спросил Глебка. Ему казалось, что возчик нарочно стращает Василия. Кто осмелится напасть на отряд? Да у них одних винтовок — двенадцать, а у бати — маузер. Он не хуже пулемета работает!
Мужик сплюнул и долго не отвечал на Глебкин вопрос, но потом все-таки глухо произнес в бороду:
— Унтер царский… Банду водит…
Батька Хмель держал в страхе всю губернию. Время было трудное. У Советской власти хватало врагов поопасней этой банды. Все, кто мог держать в руках оружие, сражались на фронтах гражданской войны. Этим и пользовался батька Хмель. Он посадил банду на коней и неожиданно появлялся то там, то здесь. Бандиты поджигали избы красных фронтовиков, убивали активистов, совершали налеты на мелкие железнодорожные станции, обыскивали пассажиров и забирали ценные вещи.
Незадолго до прибытия продотряда батька Хмель вывел свою банду на одну из станций. Не знал он, что как раз в это время там стоял воинский эшелон, следовавший на фронт. Красноармейцы встретили бандитов дружными залпами и долго преследовали их по глухим проселочным дорогам.
«Кавалерия» батьки Хмеля с трудом ушла от окончательного разгрома и притаилась где-то в лесной глуши. Последние недели о банде не было слышно.
Глеб Прохоров знал об опасности и был настороже, хотя виду не показывал и бойцов раньше времени не тревожил. Карты у него не было. Зато мужики отлично представляли дорогу и заранее предупреждали комиссара об опасных местах. Прежде чем въезжать в густой лес или переправляться по мосту через речку, Глеб-старший забирал с собой двух-трех бойцов и, опередив обоз, осматривал придорожную полосу леса и подъезды к мосту.
Но все пока было спокойно.
Когда до железной дороги осталось версты три, комиссар вздохнул свободнее и защелкнул коробку маузера.
Станция, к которой Глеб Прохоров вел обоз, называлась Уречье. За водокачкой к полотну железной дороги выходила из леса неглубокая речка с узким — в одну телегу — мостом. С другой стороны к станции примыкала Довольно обширная, ровная площадка.
День был базарный, и на площадке бурлила толпа. Товары лежали прямо на земле: творог в тряпицах, соленые огурцы в ведрах, ощипанные цыплята. Потерявшие ценность деньги не признавались. На базаре шел обмен. Пяток яиц отдавали за хорошую иголку. Коробок спичек приравнивался фунту масла. В большом ходу были соль и гвозди. За берестяный туесок соли давали мешок муки. А гвозди шли по весу: за фунт гвоздей — фунт сала.
На базар съехались крестьяне из окрестных деревень. Они привезли свое добро в надежде обменять на необходимые в хозяйстве городские изделия.
За базаром в тупике стояли три вагона, приписанные к продотряду. Пассажирский состав без паровоза виднелся у низкой деревянной платформы, забитой мешочниками. У входа в вокзал на стене висел плакат, изображавший бородатого спекулянта с огромным мешком за спиной. Раскинув ноги, спекулянт сидел поперек железнодорожной колеи. Надпись поясняла: «Мешочник — злейший враг транспорта!». А под плакатом безбоязненно резались в карты четверо самых настоящих мешочников.
И это были не единственные представители армии мешочников и спекулянтов. Большая часть запрудивших платформу и вокзал пассажиров состояла из людей, решивших погреть руки на трудностях, которые переживала молодая Советская республика. Запах легкой наживы заставил их покинуть насиженные места, и серая волна мешков потекла по России. В края, богатые хлебом, спекулянты везли селедку, соль, спички. Обменяв их на муку и зерно, они возвращались в голодающие города и обогащались, получая за хлеб золото, хрусталь, фарфор.
На маленькой станции Уречье мешочники и спекулянты осели случайно. Три дня назад здесь повстречались два состава. Пассажирский — с мешочниками — двигался на запад, а длинный воинский эшелон шел на восток. Паровоз с трудом тянул бесконечную цепочку вагонов с красноармейцами, орудиями, фуражом, лошадьми. Готовилось решительное наступление на Колчака, дорог был каждый час, а маломощный паровозик еле-еле тащился. Командир приказал остановить встречный поезд и прицепить к воинскому эшелону второй паровоз. Обезглавленный пассажирский состав застрял в Уречье, и мешочники уже третьи сутки торчали на станции, проклиная все на свете.
За станционными строениями, на пригорке, поросшем старыми елями, стояла чайная. Чаю здесь давно не выло — подавали кипяток с настоем иван-чая, а для посетителей, лично знакомых хозяину чайной, выносили из погреба мутный самогон.
В последние дни самогон лился рекой. Давно в чайной не бывало столько знатных гостей. Из деревень, по которым прошел отряд Глеба Прохорова, понаехали сюда кулаки. Они не спеша тянули из стаканов обжигающую жидкость, аккуратно обтирали усы и обменивались на первый взгляд безобидными, ничего не значащими фразами. Их бездействие было вынужденным: напасть на отряд своими силами они не решались, а единственная их надежда — батька Хмель — запропастился куда-то. Тайные гонцы были разосланы во все отдаленные хутора и зимовья, но пока связаться с бандой не удалось. Зато возник другой план, который казался вполне падежным.
В тот день, когда обоз с хлебом тронулся в путь, кулаки, как обычно, коротали время в чайной. Часа в три за окном послышался топот копыт и в дверь ввалился высокий мужик в короткой шинели. Сломанный когда-то нос задиристо смотрел на сторону, рыжие космы торчали из-под козырька фуражки. Шея у мужика была длинная, как у гуся. Большой кадык нервно бегал по заросшему щетиной горлу.
— Едут! — выдохнул мужик и ловко опрокинул в рот подсунутый чьей-то рукой стакан самогона.
Верховодил кулаками седенький старичок благообразного вида с окладистой бородкой и маслянистыми светло-голубыми глазами. Он встал из-за стола, перекрестился и сказал елейным голосом:
— С богом!
Чайная опустела.
Через несколько минут к платформе подошел высокий мужик со сломанным носом — тот, что прискакал на коне в чайную. Перешагивая через спящих, он поднялся по ступенькам и зычно крикнул:
— Эй! Мешочники! Царство небесное проспите! Все ждете? Небось и сало протухло, и мука прогоркла?
Платформа ответила злобным ропотом: мужик задел самое больное место. Раздались голоса:
— Проваливай, жердь длинная!
— Гавкает тут верзила всякая!
— Без него тошно!
Верзила расплылся в улыбке, будто услышал самые ласковые слова, и крикнул еще громче:
— К ним — с делом, а они лаются!… Я ведь не гордый — могу и уйти! Пусть другие едут, а вы прохлаждайтесь!
Платформа закопошилась. Слово «едут» было подобно электрической искре. Люди повскакали. А верзила все подливал масла в огонь.
— Теплушки видали? Полюбуйтесь! — прогорланил он и махнул длинной рукой в сторону стоявших в тупике грузовых вагонов.
Все головы, будто ветром, повернуло к тупику.
— Вот кто поедет в первую очередь! — орал верзила. — Комиссары с салом да медом! Они торопятся, а вам не к спеху! У них жены в шелках, им жратву подавай — хотят пузы свои отращивать!…
Пока верзила «обрабатывал» мешочников и спекулянтов, кулаки вышли за станцию к речке и, выбрав сосну потолще, повалили ее у самого въезда на мост, чтобы ни одна телега не могла проехать.
Когда обоз с хлебом показался из леса, у моста, перегороженного срубленной сукастой сосной, стояла молчаливая грозная толпа: верзила привел сюда озверевших мешочников. От станции к реке торопились все новые и новые люди. Это подходили крестьяне с базара. Они ничего не знали и шли ради любопытства.
Кулаки не рассчитывали на их появление. Благообразный старик подозвал к себе верзилу и зло сказал:
— Не мог потише? Ишь всполошил рвань перекатную! Они нам не с руки!
Глеб-старший не сразу догадался о грозящей отряду опасности. Увидев у моста толпу, он определил, что люди без оружия, значит, не банда. Да и возчики спокойно понукали лошадей.
— Утоп кто-нибудь, — сказал мужик, сидевший на передней подводе.
На всякий случай Глеб-старший все-таки обогнал обоз и пошел впереди. Чем ближе подходил он к толпе, тем глубже становилась поперечная морщина на лбу. Комиссар увидел и сосну, преграждавшую дорогу, и колья в руках у мужиков. Он понял: толпа поджидает обоз. Возвращаться назад было поздно.
Комиссар обернулся к обозу и ободряюще крикнул:
— Пошевеливайся! Станция близко!
Заметив, что бойцы, взяв винтовки наизготовку, подтягиваются к передней подводе, он скомандовал:
— Винтовки на ре-е-мень!
Двенадцать винтовок — не оружие против такой толпы. Тут требовалось что-то другое, но что?
Толпа молчала. Ровным шагом приближаясь к ней, Глеб-старший внимательно приглядывался к людям. Он безошибочно распознал мешочников и спекулянтов. Они стояли впереди. В задних рядах виднелись крестьяне. Такие же лапотники бежали к мосту по противоположному берегу реки. «Кто же их взбаламутил?» — подумал Глеб Прохоров. Ему было необходимо найти тайную пружину, которая привела в действие людей. Это подсказало бы, как правильно поступить, чтобы избежать опасности.
Когда между толпой и комиссаром осталось шагов двадцать, пружина сработала. От кучки кулаков, предусмотрительно стоявших в сторонке, отделился верзила.
— Бей их! — крикнул он и побежал к обозу.
Толпа пришла в движение: вскинулись колья, угрожающий, но еще не очень громкий шумок пролетел по рядам. Сзади комиссара сухо защелкали затворы, — бойцы приготовились стрелять.
Глеб-старший резко повернулся и снова скомандовал:
— На ре-е-емень!
Один выстрел — и уже ничто не остановило бы толпу. А эта странная в такой обстановке команда задержала готовую обрушиться на обоз лавину. Верзиле пришлось второй раз орать:
— Бей их!
Из кучки кулаков его поддержали:
— Бей! Бей!
И опять дрогнула толпа, подалась вперед.
Комиссар раскинул руки в стороны, будто этим жестом мог сдержать толпу. Медленно и неотвратимо она надвигалась на Глеба.
— Ба-атя! — донеслось от обоза, и Глеб-старший, не спускавший глаз с переднего ряда людей, услышал за собой быстрые шаги сына.
Глебка поднырнул под поднятую руку отца и встал перед ним.
— Бей! Бей! — надрывались кулаки, но с места не сходили.
Один верзила был уже у самых подвод и орал что-то.
— Люди! — зычно крикнул Глеб-старший. — Кого бить собрались? Его, что ли? — он опустил руки на Глебкины плечи. — Или других таких же? Их в Питере — тысячи, голодных и холодных!… Нас убьете — их убьете. Потому что хлеб — для них!
— Наплодили нищих, а теперя на чужое заритесь!
— Докомиссарились, работнички христовы!
— Они ворованое везут, а мы свое до дома доставить не можем!
Эти выкрики летели не из кучки кулаков, а из толпы, и Глеб-старший обрадовался: когда начинаются переговоры — пусть даже в таком духе, — опасность уменьшается.
— А ну, поговорим по душам! — крикнул он. — Слушать будете?
Громкий свист прорезал воздух.
— Ре-ежь! Круши-и! — раздался истерический вопль верзилы, и тотчас грохнул выстрел.
Наступила напряженная тишина. Стало слышно, как булькает вода в сваях.
Глеб-старший повернулся к обозу, спросил грозно:
— Кто стрелял?
У передней подводы виднелся Архип с винтовкой, шагах в трех от него — верзила с ножом в руке. Возчик стоял на мешках и, широко расставив ноги, держал наготове кнут.
— Кто стрелял? — повторил Глеб-старший.
— Это я, Глеб Прохорыч! — отозвался Архип и добавил — В воздух… Ты посмотри! — он ткнул дулом винтовки в мешки.
И только теперь оба Глеба и передние ряды людей увидели, что два мешка разрезаны и зерно струйками льется на землю.
Глебка бросился к телеге. За ним пошел Глеб-старший. Двинулась и толпа. Глебка попытался руками зажать прорези в мешках, но зерно сочилось сквозь пальцы. Тогда он заткнул одну дырку своей шапкой, а к другому мешку прислонился спиной и ненавидящим взглядом уставился на верзилу, который замер под дулом винтовки Архипа.
Глеб-старший отвел рукой винтовку, посмотрел на кучку просыпавшегося в грязь зерна, с болью сказал верзиле:
— Сколько хлеба загубил! По теперешней питерской норме — это недельный паек на такую, как у него, семью! — он кивнул головой на Архипа. — А у него девять душ — мал-мала меньше! Они хлеба досыта не едали! А ты его в грязь! Стрелять таких подлецов мало!
— Это меня-то стрелять! — взвизгнул верзила. — За нашу-то мужицкую хлебушку? Кто его растил? Ты?
— Хотел говорить — ну и говори! — послышалось из толпы, окружавшей подводу. — Говори! Послушаем!
— Я не растил! — произнес Глеб-старший. — Но…
— Занокал! — перебил его верзила и крикнул: — Братья мешочники! Вы честно по фунтику хлеб выменивали, а он телегами его хапает! У нас добро отбирает, да и у вас доходы из карманов вытаскивает! Он полные теплушки в город повезет, а вы со своими мешками на платформе под дождем гнить будете!
Разноголосый яростный рев взлетел над обозом, но отдаленный паровозный гудок, донесшийся от железной дороги, заткнул рты и сдернул людей с места.
— Идет!
— Поезд идет!
Под эти радостные возгласы мешочники устремились к станции. По толпе точно частым гребешком прошлись и начисто вычесали спекулянтов.
Воспользовавшись сумятицей, верзила приподнял нож и шагнул сзади к Глебу-старшему.
— Батя! — предупреждающе крикнул Глебка.
Глеб-старший искоса глянул на верзилу, придвинул коробку маузера поближе к правой руке и спокойно сказал:
— Спрячь! Есть у меня грех: я шутки иной раз плохо понимаю!
Отвернувшись от верзилы, комиссар не торопясь влез на телегу. Он уже понял, что положение изменилось к лучшему.
Вокруг передней телеги теперь стояли одни крестьяне. Все мешочники перебежали на другую сторону реки и темной лентой растянулись по дороге к станции.
— Товарищи! — впервые этим словом назвал комиссар поредевшую толпу. — Будет у меня к вам вопрос: когда у кулаков-мироедов хлеб в ямах гниет, а рабочие в городе от голода пухнут — это по совести получается?
— Слыхали! — проорал верзила. — Ловок зубы заговаривать!
Кучка кулаков к этому времени рассеялась по толпе. Они тоже видели, что обстановка изменилась, и перестроили свою тактику, рассчитывая на то, что крестьяне, прибежавшие с базара, не разберутся, что к чему.
— Городу отдай, а сам с сумой по белу свету! — выкрикнул один из кулаков.
— На хлебе не написано, у кого ты его отнял! — раздался второй голос.
— Нам, мужикам, один раззор да обида! — добавил третий.
Из толпы выдвинулся к подводе широкоплечий кряжистый мужик с могучей шеей и решительными умными глазами.
— Ты вот что! Друг-приятель! — сказал он Глебу. — Мы тебя не знаем! Чей хлеб везешь — нам тоже не ведомо!… Не вводи нас в грех, вертай подобру-поздорову… Хлеб отдашь, у кого забрал, и езжай тогда! Пальцем не тронем!… А то на кулаков киваете, а потом и до середняка доберетесь!
Глеб-старший внимательно выслушал кряжистого мужика и решился на рискованный ход.
— А мы согласны! — ответил он. — Через волю трудового крестьянства мы перешагивать не будем! Не для того революцию делали, чтобы с честными тружениками не считаться! Как порешите — так и будет! Не пустите — вернемся и раздадим хлеб по деревням!… Но вперед выслушайте!
— Хватит болтать! Наслушались! — крикнул верзила.
— Помолчь! — сказал ему кряжистый крестьянин и кивнул Глебу: — Говори!
— Закон у нас такой! — произнес комиссар. — У середняка рабочий класс просит: «Помоги, друг, с голоду дохнем! Придет время — сторицей вернем! За пролетариатом не пропадет!…» У бедняка рабочий даже и не просит: знает — у того у самого хребтину через живот прощупать можно!… А что касается кулаков — тут разговор короткий: даешь — и точка!
Глеб посмотрел на сгрудившийся у моста обоз. Возчики стояли у лошадей. Бойцы жидкой цепочкой растянулись вдоль подвод.
— Скажите! — крикнул комиссар возчикам. — Вы видали… Так мы поступаем или не так?
— Так!… Так! — донеслось от подвод.
— Что теперь скажешь? — спросил комиссар у кряжистого мужика.
— То и скажу! — упрямо ответил мужик. — Сегодня — у кулака, а завтра за середняка возьметесь!
— Эх ты! Фома неверующий! — укоризненно произнес Глеб-старший. — А ну ответь!… Только честно! Ленин бедняка или середняка обидел хоть раз?
— То Ленин!… От него мы горя не видали!… А ты-то здесь при чем?
Глеб старший сунул руку в карман и вытащил мандат.
— Читай! — сказал он и протянул бумагу кряжистому мужику.
Тот взял документ широкой, как лопата, рукой. Подскочил верзила и тоже потянулся к мандату. Мужик перехватил его руку, легко отогнул вниз.
— Погодь! Не лапай!
Мужик стоял как раз напротив Глебки, который все еще прижимался спиной к прорезанному мешку. Мальчишка видел, как натуженно зашевелились губы крестьянина, читавшего по складам мандат. Текст документа не произвел особого впечатления. Но когда мужик дошел до подписи, его глаза распахнулись пошире, лицо смягчилось, и он тихо произнес:
— Верно… Ленин…
— Чего шепчешь? — громыхнуло из толпы.
— Говори шибче! — нетерпеливо закричали вокруг.
— Ленин — говорю! — трубно гаркнул мужик, вскинув руку с мандатом. — Тут и подпись его самоличная.
— Покажь! Покажь! — полетело из толпы.
— Не возражаешь? — почтительно спросил мужик у Глеба-старшего.
— Покажи! — согласился комиссар. — Мы от народа документы не прячем!
Бумажка с подписью Ленина пошла гулять по толпе, а кряжистый мужик вплотную подошел к верзиле и брезгливо сказал:
— Чего народ мутишь?… Пшел отсюда!
Верзила отступил.
— Пшел, пшел! — добавил кряжистый и зашагал к мосту.
— Мужики! Сюда!… Оттащим!
Несколько крестьян подбежало к дереву. Сосну отволокли на обочину. Кряжистый вернулся к подводе, порыскал глазами по толпе, отыскал мандат и крикнул:
— Гони бумагу! Людям ехать пора!
Документ побежал по рукам к передней телеге. Кряжистый взял мандат и вернул Глебу-старшему.
— Ты… питерский!… Не серчай!… Всякое тут у нас бывает!… Одно слово — езжай, да поживей, а то не ровен час батька Хмель нагрянет… Видел я здеся кой-кого из его сподручных.
Из толпы тоже закричали:
— Езжай с миром!
Глеб-старший соскочил с телеги. Возчик взялся за вожжи, причмокнул ни лошадь.
— Стой! — крикнул комиссар.
Отстранив Глебку от мешка, он перевернул его вверх прорезью, чтобы не сыпалось зерно. Глебка с Архипом, не сговариваясь, наклонились к земле и стали пригоршнями собирать рожь в котелок. Мужики молча и одобрительно смотрели на них. Хозяйская забота о хлебе понравилась. Кто-то произнес:
— Видать, и впрямь изголодались… Ценят хлебушко-то!… И пот мужицкий ценят!
— Ленин кого попало не пошлет! — сказал кряжистый мужик, вытащил откуда-то из полушубка большую иглу, выдернул из дыры в мешке шапку, надел ее Глебке на голову и ловко затянул прореху крепкими суровыми нитками.
Подобрав последние зерна, Глебка сказал отцу:
— Все, батя! Можно ехать!
— Спасибо, товарищи! — крикнул Глеб-старший.
И обоз тронулся. Копыта зацокали по бревенчатому настилу моста. Глебка пошел с передней подводой, а Глеб-старший остался у реки. Он ожидал Василия, который шагал где-то в середине обоза.
По лицу Василия нельзя было догадаться, что отряд только что находился в труднейшем положении. Увидев верзилу, Василий беззлобно улыбнулся. Поравнявшись с ним, он растянул грамошку и запел насмешливым голосом:
По Невскому ходила Большая крокодила — Она, она зеленая была! Увидела верзилу И — цап его за рыло! Она, она зубастая была!…Верзила сделал короткий шажок вперед и с маху ударил Василия кулаком. Василий плюхнулся в грязь, но мигом вскочил и сдернул с плеча винтовку.
— Отставить! — крикнул Глеб-старший и, с сочувствием глядя на заплывающий глаз Василия, добавил: — Сам виноват!
Кряжистый мужик, набычив шею, пошел на верзилу, но тот кинулся в толпу и, усиленно работая локтями, стал пробиваться прочь от обоза. А Глеб-старший скомандовал Василию:
— Марш на станцию!… Бегом! Действуй, как условились!…
На станции творилось что-то невообразимое. Когда поезд остановился, армия мешочников ринулась в вагоны, но там уже было полным-полно. Тогда обезумевшие люди бросились на вокзал и выволокли начальника станции на платформу.
— Цепляй второй состав! — ревела толпа.
— Цепляй, если жить хочешь!
— А то похороним к дьяволу!
— И креста не поставим!
— И отходную прочитать не успеешь!
Начальник стоял в кругу орущих людей и растерянно моргал глазами. Прицепить второй состав он не имел права. Впереди был крутой подъем, а за ним — спуск, Паровоз — малосильный, да и топливо — не уголь, а сырые дрова. Где тут справиться с двумя составами! Но и отказывать было невозможно. Начальник видел, что стоит сказать «нет» — и его сомнут и растопчут на месте. Чтобы оттянуть время и, дождавшись удобного момента, убежать от мешочников, начальник пошел на хитрость.
— Тихо! — крикнул он. — Пойду к машинисту — посоветуюсь!
Толпа расступилась, но тут же двинулась следом за ним к паровозу. А там, в паровозной будке, шел свой разговор.
Подбитый глаз не помешал Василию быстро домчаться до станции. Ему было и больно, и обидно, но приказ есть приказ. Не теряя времени, Василий направился прямо к паровозу и, поднявшись по железным ступенькам, заглянул в черный проем будки.
— Эй! Хозяева! Гостей принимаете? — крикнул он.
Машинист и его помощник — оба пожилые, вислоусые, медлительные — посмотрели на торчащую на уровне железного пола голову Василия с затекшим глазом и переглянулись.
— Гость-то красивый! — усмехнулся машинист.
— Фонарь первостатейный! — добавил помощник. — С таким фонарем его заместо фары к паровозу приладить можно: ночью на версту путь осветит!
— Это еще что! — поддержал шутку Василий. — И светло будет, и весело! — он перекинул на живот гармошку — Столкуемся — всю дорогу развлекать буду!
— Ох ты! — улыбнулся машинист.
— Верно! — весело подхватил Василий. — С Охты я!
Машинист и помощник опять переглянулись.
— Земляк, выходит? — спросил машинист.
— Питерский!
— Тогда подвезем! Лезь на тендер!
— Мелко, отец, берешь! — сказал Василий. — Погляди в окно — видишь, хлеб едет!
К станции подтягивался обоз.
— Ну? — еще не понимая, в чем дело, спросил машинист.
— Теперь посмотри назад! — попросил Василий. — Теплушки в тупике видишь?… Мы погрузим хлеб в вагоны, а ты как хочешь, а вывози отряд отсюда! Нас уже чуть не грабанули!
— Продотряд? — спросил машинист.
— Он самый!
Машинист долго смотрел в сторону теплушек. Стояли они на той же колее, что и пассажирский состав без паровоза. Только что прибывший поезд занял вторую параллельную колею. Других путей на станции не было. В узком пространстве между вагонами, как в муравейнике, копошились люди, кричали, точно на пожаре, грозили кому-то, толкались, лезли на подножки, пытались снаружи открыть окна.
— Дело-то табак! — произнес, наконец, машинист. — Чтобы добраться до твоих теплушек, надо перегнать на эту колею второй состав, А пока маневрировать будешь…
Он не договорил. Из-за обезглавленного состава вывалила толпа мешочников, сопровождавших начальника станции. Люди шли прямо к паровозу.
— Уходи, земляк! — сказал машинист. — А то тебе и второй глаз подшибут!
— Не уйду! — Василий сверкнул левым глазом. — Пусть хоть…
— Уходи! — повторил машинист. — Прицепим…
— А не врешь?
— Брысь, щенок! — рявкнул машинист. — Ты это кому говоришь?
Почему-то этот окрик заставил Василия поверить машинисту.
— Спасибо, отец! — сказал Василий и спрыгнул на землю.
— Решил второй состав брать? — спросил помощник и напомнил: — Впереди подъем…
Машинист не ответил. Он смотрел на толпу, которая уже подходила к паровозу. Говорить начальнику станции не дали. Его голос потонул в грозных воплях мешочников:
— Цепляй второй состав!
— Цепляй, а то и паровозу, и тебе разом пары выпустим!
Машинист терпеливо выслушал угрозы и поднял руку. Толпа приумолкла.
— Прицеплю… Но если кто под откосом окажется — пеняйте на себя.
Дальше машиниста слушать не стали. Мешочники бросились к пустовавшему до сих пор составу. По станции понеслось:
— Цепляют!…
— Второй!…
— Цепляют!
Начался штурм второго состава.
А в тупике у трех вагонов шла перевалка хлеба. Груженные подводы подъезжали к самой железнодорожной насыпи, и бойцы вместе с возчиками быстро переносили мешки из телег в теплушки. Работали молча. Даже стереть пот с лица было некогда. Короткая заминка произошла неожиданно. Все услышали, как предостерегающе гукнул паровоз и лязгнули буфера. Поезд тронулся. Над станцией повис дикий рев сотен голосов. Люди подумали, что поезд уходит, не прицепив второй состав.
— Василий! — крикнул Глеб-старший.
Василий подскочил к комиссару.
— Это что ж получается? — спросил Глеб старший.
— Не извольте беспокоиться, товарищ комиссар! — ответил Василий и весело заморгал левым глазом. — Земляк не подведет! Маневрирует…
И в самом деле, поезд, миновав стрелку, остановился, дал задний ход и стал приближаться ко второму составу. Снова лязгнули буфера — два состава соединились. Но паровоз продолжал пятиться, пока задний вагон второго состава не докатился до теплушек.
Митрич, понимавший толк в железнодорожном деле, прицепил теплушки. Бойцы почувствовали себя увереннее. Только Глеб-старший все еще испытывал какое-то смутное беспокойство. Архипа он назначил в караул и приказал никого не подпускать к противоположной стороне теплушек. Митрича Глеб Прохоров оставил за старшего, а сам решил пойти на вокзал, чтобы поезд не отправили до конца погрузки хлеба.
— Глебка! — позвал отец.
Сын по-военному вытянулся перед ним.
— Когда кончите грузить, — сообщите мне! Я — на вокзале!
— Слушаюсь! — ответил Глебка.
Не напрасно беспокоился комиссар. Кулаки продолжали действовать. После неудачи на мосту они перенесли свой «штаб» к водокачке. Когда теплушки продотряда были прицеплены к составу, седенький старичок благообразного вида зябко потер острые коленки и встал.
— С богом! — тихо произнес он, обращаясь к верзиле. — Подымай бузу.
Верзила побежал к станции, а старичок обвел своими светло-голубыми глазами сидевших вокруг кулаков, остановился на маленьком юрком мужичке и приказал:
— Пойдешь со мной!
Остальным старичок сказал, уже уходя от водокачки:
— Будут вести от Хмеля, — пусть встречает в Загрудино…
Два кулака — благообразный старик и юркий мужичок — пошли вдоль железнодорожной насыпи. Дойдя до середины длинного состава, они разделились: мужичок залез под вагон, а старик медленно побрел дальше — к хвосту поезда.
Архип стоял около последней теплушки. Отсюда он хорошо видел и заднюю площадку с тормозным устройством, и боковые стенки вагонов. Другую сторону можно было не охранять, — там еще продолжалась погрузка хлеба.
Архип приметил приближающегося благообразного старика. Тот шел спокойно, не торопясь, всем своим видом рассеивая всякое подозрение. Даже тогда, когда старик поравнялся с передней теплушкой, Архип не окликнул его: мало ли какое дело у старика, — может, он стрелочник. Но старичок шел на Архипа и пристально глядел прямо ему в глаза.
— Эй, гражданин! Сверни-ка на тропку! — добродушно сказал Архип. — Там тебе и идти удобней будет!
Под невысокой насыпью вилась протоптанная тропа. Но старик не стал спускаться вниз.
— Зачем сворачивать, ежели я к тебе? — возразил он и сделал еще несколько шагов вперед.
Архип снял с плеча винтовку, сказал более громко:
— Поворачивай оглобли!
Старик остановился и сунул руку за пазуху. Архип услышал быстрый и смущенный шепоток:
— Баба у меня, понимаешь, сердечная больно!… Настоящая дура!… Услыхала, что у тебя девять детишков… ну и… погнала меня! Говорит, снеси ты ему, горемычному!
Старик вытащил руку из-за пазухи. В руке желтел большой брусок сала.
— Держи!… Все мы люди, все человеки!
С этими словами старик совсем близко подошел к Архипу и заслонил от него передние теплушки.
— Держи! — повторил он.
На Архипа смотрели ласковенькие маслянистые глаза. В них светилось неподдельное сочувствие.
Дрогнула рука у Архипа.
— Бери! Бери! — поощрительно приговаривал старик.
И Архип взял сало.
— Чем же отдарить мне тебя? — растроганно спросил он.
— Э-х! Мил человек! — воскликнул старичок. — Расквитаемся как-нибудь. Корми детишков на здоровье да кланяйся им!
Уставился Архип на подарок, и тепло у него стало на сердце. Не так дорог был кусок сала, как дорога братская помощь и сочувствие. Не видел Архип, что в эту самую минуту юркий мужичок добрался под вагонами до передней теплушки и, бесшумно приоткрыв буксу, сыпанул в коробку несколько горстей песку.
— Спасибо! — сказал Архип старику. — Век буду тебя помнить!
— Чего там! — ответил строчок и сойдя с насыпи на тропку, побрел обратно.
А верзила крутился но платформе, влезал в переполненные вагоны и, понизив голос до таинственного шепота, везде твердил одно и то же:
— На смерть едете, рабы божьи, мешочники!… Состав-то вона какой! А к нему еще теплушки с комиссарским добром прицепили! Тяжеленные, что гири на ногах!… Быть вам под откосом!… Жить хотите — отцепить их надо!
Но люди боялись далеко отходить от своих вагонов: вдруг поезд тронется. Тогда верзила натравил мешочников на начальника станции.
Когда Глеб-старший появился на платформе, у вокзала опять плескалась и ревела большая толпа. С начальника уже сшибли фуражку. Он стоял среди бушующего людского моря и беспомощно лепетал:
— Что я могу?… Ничего я не могу!… Делайте, что хотите!… Хотите отцеплять теплушки — отцепляйте!
До Глеба долетели эти испуганные причитанья. Он вскипел. Протолкавшись к начальнику станции, Глеб крепко тряхнул его за плечи и спросил:
— Ты понимаешь, что говоришь?
— А что я могу? — вновь воскликнул начальник. — Все технические нормы нарушены! Анархия!
— Бей анархиста! — услышал Глеб знакомый голос.
Комиссар повернулся на этот крик и увидел верзилу, который продолжал орать:
— Что ему технические нормы! Плевал он на них! Он всех нас в гроб вгонит — на то и комиссар! Бей его в печенки!
Глеб почувствовал сзади на своей шее чье-то горячее прерывистое дыхание. Он выхватил маузер. Толпа ахнула и подалась назад. Вокруг Глеба образовалось неширокое свободное пространство. Начальник станции нырнул в вокзальную дверь. И Глеб Прохоров остался один на один с толпой.
Он мог бы пробиться, открыв стрельбу, но рука не подымалась на людей. Можно было стрелять в воздух — дать сигнал тревоги. Тогда бойцы бросятся на помощь. А что будет с теплушками, с хлебом?
Пока Глеб раздумывал, верзила пригнулся и по кошачьи пружинисто прыгнул вперед. Глеб повел маузером. И наткнулся бы враг на смертельную пулю, но в последнюю секунду приподнял комиссар дуло и сознательно выстрелил поверх головы бандита. Глеб Прохоров все еще надеялся избежать кровопролития.
Выстрел на платформе подстегнул Глебку. Он бежал к отцу с радостной вестью, что погрузка хлеба окончена. Птицей влетел Глебка по ступенькам платформы, увидел толпу, иглой прошил ее и остановился перед кучей скрутившихся тел. На мгновенье в этой многорукой, многоголовой массе мелькнуло лицо отца. Глебка подскочил и с воем уцепился в чью-то руку с ножом. Рука согнулась, локоть ударил его по лбу и отбросил к стене вокзала.
В глазах у Глебки зарябило от разноцветных кругов и пятен. В ушах зазвонили колокольчики. Он с трудом приподнял свинцовую голову и бессознательно потер глаза рукой. Круги стали таять, лишь один из них — большой темно-зеленый — висел неподвижно над ним. Это был привокзальный колокол, которым дают отправку поезду. Цепляясь за стену, Глебка приподнялся сначала на колени, потом на ноги, дотянулся до веревки, привязанной к языку, и что было сил ударил раз, два и три. Звона он не услышал, в ушах все еще переливались разноголосые колокольчики, а вот короткий ответный гудок паровоза дошел до его сознания. И сразу же загрохотали буфера.
Потом Глебка, точно сквозь туманную дымку, увидел, Кик поредела толпа, — мешочники бросились по вагонам. Распалась и куча тел, сгрудившихся вокруг отца. Только верзила, как клещ, продолжал висеть на нем, уцепившись сзади за кожаную куртку. Нож валялся под ногами, и верзиле нечем было ударить. Глеб-старший закинул руку за спину, ухватил верзилу за шиворот, подбросил на спине и швырнул через голову на платформу.
И это видел Глебка, но не мог двинуться с места. А когда руки отца подхватили его и понесли куда-то, в глазах совсем потемнело. Глебка потерял сознание.
А дальше было вот что. Поезд медленно двигался вперед. Глеб-старший побежал с сыном на руках к концу платформы. Здесь он столкнулся с бойцами, спешившими на помощь. Продотрядовцы на ходу влезли в теплушки и уложили Глебку на мешки. Кто-то сильно, подул ему в нос. Он открыл глаза и спросил слабым голосом:
— Едем?
— Едем! — ответил Василий и ободряюще подмигнул здоровым глазом.
В ПУТИ
Задняя теплушка была до потолка забита продовольствием. На закрытых дверях висел небольшой замок. Его приладил Митрич, сняв со своего фанерного сундучка. В передней теплушке ехал почти весь отряд. Мешки с хлебом высились слева и справа, а посередине, у дверей, было оставлено свободное место для бойцов. В средней теплушке, кроме продовольствия, находилась маленькая печурка-буржуйка и два кашевара — Митрич а еще один рабочий, помоложе.
Как только станция Уречье осталась позади, Митрич вытащил из ящика весы, развязал мешок с пшенкой и, приказав своему помощнику растапливать печку, начал отвешивать обычную порцию крупы.
— А вода? Где мы ее возьмем? — спросил кашевар.
— Кхэ! — с достоинством кашлянул Митрич. — С кем едешь? Возьми в углу!
В углу теплушки стоял большой оцинкованный бидон, в каких перевозят керосин. Кашевар подозрительно понюхал его, а Митрич насмешливо шевельнул щетинкой усов. В бидоне была чистейшая вода — без запаха и привкуса.
На буржуйке установили артельный котел. Засыпав в него крупу, Митрич достал несколько караваев хлеба и принялся отвешивать четырнадцать порций. Он не торопился — терпеливо ждал, когда клювики весов перестанут качаться. Если равновесие не устанавливалось и один клювик был выше другого хотя бы на миллиметр, Митрич снова брал нож и уменьшал или увеличивал порцию.
Второй кашевар долго наблюдал за ним, помешивая в котле оструганной палкой.
— Митрич! Твой отец случаем не был золотых дел мастером?
— Плевал я на твое золото! — огрызнулся Митрич. — Слышал, что комиссар сказал? Дороже золота!… Жизнь везем!… Как одну лишнюю пайку сжевал, — знай, что с куском хлеба чью-то жизнь проглотил! И не человек ты с того часа, а людоед!
Кашевар не ожидал такого поворота и смутился.
— Ну уж!… Сразу и людоед!
— Сразу! — отрубил Митрич и, сбившись со счета, прикрикнул: — Помолчи, говорун!
Ему пришлось снова считать порции. Первые куски он пересчитал молча, а последние вслух:
— Двенадцать… тринадцать… Еще одну надо!
Митрич отрезал от каравая ломоть хлеба, положил его на весы. Кусок явно перетягивал гирю. Митрия взялся за нож.
— Последняя? — спросил кашевар.
— Четырнадцатая! — ответил Митрия.
— Ну и оставь ее Глебке! Пусть ему будет с походом… За смекалку! Не ударь он в колокол, — сидеть бы ним на той станции!
— Отстань! — крикнул Митрич.
Усы у него заходили ходуном. В сердцах он отхватил от ломтя слишком большой кусок, и теперь порция была меньше нормы.
— Тебя бы наркомом по продовольствию сделать! — съехидничал кашевар. — Скряга ты старая! Ребенку пожалел!…
Митрич хотел выругаться, но поперхнулся от обиды, закашлялся, задел локтем весы. Тарелка с гирей полетела на пол. Он поднял и то и другое, спрятал весы в ящик и, присоединив только что отрезанный довесок к ломтю, положил оба куска хлеба отдельно — на край ящика. Так четырнадцатая порция и осталась с походом.
Прошло не меньше десяти минут, прежде чем рассерженный Митрич открыл рот и сказал:
— Он мал, не понимает. На нем грех не повиснет! А ты…
— Вот на меня и повесь грех этот! — закончил за него кашевар. — С радостью приму! Я хоть увидел, что осталась еще в тебе кой-какая душа!
И опять они долго молчали. Вода в котле начинала закипать и весело побулькивала.
— А скажи-ка, товарищ нарком, — прервал молчание кашевар, — как мы обед в ту теплушку доставим?
— Одно скажу, — буркнул Митрич, — ты будешь есть в последнюю очередь!…
А в передней теплушке об обеде и не мечтали. Как только Глебка открыл глаза, Глеб-старший взял у Василия винтовку и встал у дверей. Он опасался каких-нибудь новых неприятных сюрпризов.
Мимо спокойно проплывала опустевшая станция. На путях и на платформе не было ни души. Лишь из приоткрытой двери вокзала выглядывал все еще испуганный начальник станции. Увидев комиссара, он стал делать ему какие-то знаки, указывая на передние вагоны. Глеб Прохоров не понял и, вспомнив, как начальник трусливо оставил его одного с мешочниками, потряс кулаком.
Дверь вокзала захлопнулась. Но не Глеба испугался начальник станции. В середине состава на подножке висел верзила. Он заметил, что железнодорожник кому-то указывает на него. Ощерив большие лошадиные зубы, верзила вытащил из-под полы нож и пригрозил.
На той же подножке, уцепившись за поручни, сидел юркий мужичок, насыпавший песку в коробку буксы.
Когда промелькнула речка с мостом и лес с двух сторон обступил поезд, Глеб-старший задвинул дверь теплушки и подошел к сыну. Глебка уже сидел. Василий внимательно ощупывал его голову. На затылке у Глебки проклюнулась огромная шишка.
— Стоять можешь? — спросил у него отец.
— А чего?… Могу! — ответил Глебка и, догадавшись, что ответ вышел не по уставу, поправился: — Есть стоять!
— Отряд! — скомандовал Глеб-старший. — Становись!
Бойцы выстроились буквой «П». Глебка встал на левом фланге. Его немного мутило, ныл ушибленный затылок, но он держался стойко и даже грудь выпятил, равняясь на Василия.
— За находчивость и бесстрашие, — торжественно произнес Глеб-старший, — объявляю бойцу Глебу Прохорову-младшему благодарность!
В теплушке стало тихо-тихо, лишь постукивали колеса на стыках да перезванивались буфера. Глебка растерялся. Он знал, что в таких случаях боец обязан отвечать, но ни одно подходящее слово не приходило в голову. Радостное волнение сдавило горло. На глазах навернулись слезы. Василий шепнул ему что-то, но Глебка не понял.
— Забыл? — ласково спросил отец. — Ну, ничего!… Иди ко мне, я тебя просто так, по-граждански поцелую!
Глебка подбежал к отцу, а Василий, сделав шаг вперед, спросил:
— Разрешите вопрос задать, товарищ комиссар?
— Задавай!
— Выходит, не зря мы Глеб Глебыча с собой взяли?
Знал Василий, как обрадовать Глебку, — для того и задал этот наивный вопрос.
— Не зря! — твердо ответил Глеб-старший. — А вот ты свое… ранение сам схлопотал!… Не одобряю! Надо знать, когда гармошку заводить! Вот сейчас, к примеру, в самый бы раз, да что с тебя спросишь — с калеки!
— Глаз — что! Он проморгается! — чувствуя, что комиссар не сердится, шутливо ответил Василий. — Вообще глаз игре не помеха! Пальцы нужны! А они — вот они! Золотые!
— Посмотрим! — произнес Глеб-старший и скомандовал: — Разойдись!
Но расходиться было некуда. Бойцы уселись, кто где стоял Василий потянулся за гармошкой. Больше всего он любил песни про Стеньку Разина. Сначала гармошка взяла широкую разгульную мелодию, и Василий запел про Волгу и расписные челны, про Стеньку и заморскую княжну, про нерушимую дружбу атамана со своими товарищами. Пел Василий задушевно, удивительно чистым и гибким голосом. Его не хотелось заглушать, и бойцы хотя и подтягивали, но не во все горло, а легонько. И голос Василия всегда был слышен. Он, как чайка над волнами, летел поверх других голосов, не смешиваясь с ними.
Подпевая, бойцы занимались своими нехитрыми делами: кто винтовку вытирал тряпьем, кто подвязывал оторвавшуюся подошву, кто чинил одежонку. Глеб-старший, вынув пачку бумаг, переписывал в блокнот названия деревень и пуды собранного в них хлеба. А Глебка перебирал в памяти бурные события дня.
Пока собирали хлеб, никаких особых происшествий не случилось. И Глебка был немножко разочарован. Зато сегодняшний день принес такие переживания, что Глебкина душа, жаждавшая приключений, вполне насытилась ими. Он бы, пожалуй, не согласился второй раз пройти этот короткий и страшный путь от мостика к теплушкам.
Потом Глебка вспомнил Москву, коридор Кремлевского дворца.
А Василий в это время затянул вторую песню о Разине. Она была величаво-торжественной. Не лихая удаль и молодечество, а могучая сила и несокрушимая воля звучали в ней. Степан Разин вставал в песне во весь свой рост, как тот утес, который его именем звался.
— Батя! — спросил Глебка. — Как же так?… Поют про Стеньку Разина, про Ермака… А почему про Ленина таких хороших песен нету?
— А он не любит, когда про него песни вслух поют, — ответил отец.
— Как вслух? — не понял Глебка. — А если про себя?
— Про себя поют… Все поют… У каждого человека своя песня про Ленина сложена… Соедини их в одну — и получится хор на весь мир! Таких песен ни про кого еще не пели!
И опять задумался Глебка. На этот раз об отце. «Хитрый какой!… Здорово ответил! А как он сегодня на мешочников шел!…» Глебка пристально посмотрел на отца. И было Глебке в этот момент удивительно хорошо. Что-то большое, еще неиспытанное ширилось в нем, заполняло все его существо.
— Голос у тебя!… — восхищенно произнес Архип, когда Василий пропел последние слова «Утеса».
— Опера! — шутливо согласился Василий. — Если б еще перекусить чего, — цены бы моему голосу не было!
Бойцы не ели с полудня. Как пообедали на лесной поляне, так с тех пор и заговелись. Глеб-старший рассчитывал накормить отряд перед отправкой поезда. Но на станции было не до еды. И сейчас комиссар пожалел, что оборудовали кухню в отдельной теплушке.
После намека Василия все бойцы посмотрели на Глеба-старшего.
— Есть будем на первой остановке! — сухо сказал Комиссар.
— А если он пойдет и пойдет… без остановок? — спросил кто-то из бойцов.
— Кому не понятно, скажу так! — повысив голос, произнес комиссар: — Я буду рад, если поезд без остановок пойдет до самого Питера! И потерплю!… Там терпят дольше! — Помолчав, комиссар спросил: — Кому невтерпеж!
— Потерпим, Глеб Прохорыч! — смущенно сказал Василий.
Он понял, что не вовремя заикнулся о еде.
— Потерпим! — послышались голоса других бойцов.
Глеб-старший повернулся к Глебке.
— Тебя не слышу!
— Я? — Глебка вздрогнул. — Потерплю!… Мне и есть-то неохота! Во у меня брюхо — как барабан! — Он надул пустой живот и похлопал по нему ладошкой.
В теплушке засмеялись. Улыбнулся Глеб-старший и, смягчив голос, объяснил:
— До Питера терпеть не будем… Следующая станция — Загрудино. До нее — верст восемьдесят. Если там не остановимся, то в Узловой. Еще пятнадцать верст накиньте…
Но ждать остановки не пришлось. По крыше теплушки затопали чьи-то ноги. Глеб-старший вскочил и выхватил маузер. Повскакали и бойцы. Все настороженно уставились в потолок. В крышу кто-то постучал каблуком, и раздался приглушенный голос:
— Откройте личному гонцу наркома продовольствия!
Глеб-старший отодвинул дверь. Сверху на веревке спустились два котелка. Запахло вкусной кашей. Радостные голоса приветствовали появление котелков. А кашевар крикнул с крыши:
— Левый котелок — Глеб Глебычу! Хлеб ему с походом — за смекалку.
Глебка радостно потянулся за котелком, но отец перехватил его руку и сам принял обе порции. В правом котелке на густой каше лежал кусок хлеба, в левом — два.
Никогда еще Глебка не видел отца таким разгневанным. Глеб-старший вынул из кармана платок, завернул в него кусок хлеба из левого котелка, привязал платок к веревке и крикнул:
— Еще раз… — голос у него сорвался от внутреннего негодования, и он глухо закончил: — Еще раз — и судить буду тебя и твоего наркома!
Веревка испуганно дернулась, и платок с куском хлеба исчез. С крыши долетели поспешные удаляющиеся шаги.
— Ешьте! — произнес комиссар и подал правый котелок ближайшему бойцу, а левый — Глебке. — Ешь! — уже мягче повторил отец и добавил: — В Петрограде смекалистыми ребятами хоть пруд пруди! А добавки они ни от кого не получают…
Бойцы молча оценили и одобрили поступок комиссара, но в средней теплушке разгорелась шумная перепалка.
Когда кашевар рассказал, что произошло с Глебкиной порцией, Митрич разъярился.
— Супостат вислоухий! — выругал он кашевара. — Все из-за тебя, губошлепа! В том куске нет полной нормы!
— Ты бы меньше трясся, скряга! — ответил кашевар. — Пожалел — вот оно колом и обернулось!
— Шипел тут под руку: «Дай с походом, дай с походом!» — выкрикнул с отчаяньем Митрич, и усы у него стали дыбом, как иголки у ежа. — А вышло — обокрали парня!
— Следующий раз добавишь! — предложил расстроенный кашевар.
— А сколько? — со свистом спросил Митрич. — Ты знаешь, сколько я недодал?
Кашевар зло сплюнул:
— Ну и дотошливый ты, дьявол!…
Глеб-старший ел последним. Бойцы уже до дна очистили котелки. Глебка даже пальцем проехался по стенкам и слизал оставшиеся крупинки. На отца он не сердился — понимал, что тот поступил правильно. Норма есть норма. Единая для всех. Один лишь вопрос не мог решить Глебка: когда в Питере увеличат эту норму? Может быть, там уже едят больше?
— Батя! — спросил он, отставляя чистый котелок в сторону. — А что если в Питере паек прибавили?
Глеб-старший посмотрел на сына.
— Что, не наелся?
— Нет, я просто так!
— Вижу!…
Отец взглянул на тугие мешки, громоздившиеся до самой крыши вагона, и сказал с горечью:
— Прибавили, говоришь… А откуда? Хлеб на Невском не растет! Манная с неба тоже не падает… Потому и нужны продотряды. Много их! Ездят они по глубинным районам России, и одна у них задача — держать хлебный фронт революции!… Мы приедем — привезем малость, другие, третьи… Тогда, может, и прибавят!… А пока — крепись, Глеб Глебыч! Про ремень не забывай! Он хорошо заменяет и хлеб, и масло. Затянись потуже!; Сейчас все большевики новые дырки в ремнях сверлят! В голод — это первое дело! И фигура опять же от этого улучшается…
Василий растянул мехи гармошки и, подражая слышанному когда-то шарманщику, гнусаво пропел:
У нее бы-ла фигу-ра, Как у желтой у осы-ы-ы…— Не тяни за душу! — сказал кто-то из бойцов. Василий замолчал, лишь гармошка долго еще тянула одну и ту же высокую ноту да ритмично перестукивали колеса. От этих монотонных звуков и легкого покачиванья клонило ко сну.
— Глебушка! Поди-ка сюда! — позвал Архип. Глебка подсел к Архипу, который удобно устроился в уголке между стеной теплушки и мешками.
— Ложись рядышком — и ни гугу!
Последние слова Архип произнес шепотом. Скосив глаза, он оглядел дремлющих бойцов, Глеба-старшего. Когда Глебка лег рядом, Архип вытащил из кармана складной нож, из-за пазухи — брусок сала, отрезал порядочный ломоть и сунул Глебке.
— Жуй да помалкивай!
Глебка и не заметил, как его зубы впились в сало, а Архип тихонько говорил ему:
— Комиссар у нас крутой! Правильный, конечно, ничего не скажешь! Но… иногда и скидку надо делать… Это мне подарок! Личный подарок! Своим я могу распорядиться, как хочу. Кушай!… Мои детишки в обиде не будут! Это я им везу!… Сам ни-ни! А ты, когда терпенье кончится, всегда — ко мне! Отрежу кусманчик!
Съел Глебка сало и задремал, уронив голову на руку Архипа.
А колеса все стукали да стукали. Бренчали ложки в котелках. Пыхтел маломощный паровозик, надрываясь от непосильной для него тяжести длинного состава. Не справиться бы ему с этим грузом, если бы не воля и настойчивость людей. Никто не знал, какое мастерство проявили машинист и его помощник, чтобы преодолеть крутой подъем, сколько сил потратили они, чтобы теплушки с хлебом для Питера хоть на полсотню верст приблизились к голодающему городу.
Когда подъем кончился, было уже темно. Машинист посмотрел запавшими от усталости глазами на повеселевшего помощника и сказал:
— Теперь доедем.
— Доедем… Тут под уклон до самого Загрудино.
— Дальше! — поправил его машинист. — Чуть не до Узловой… Верст на двадцать уклон! Только сдерживай — не зевай!
Железная дорога в этом месте делала крутой поворот. Машинист, проезжая здесь, всегда осматривал состав, изгибавшийся на рельсах в большую дугу. И на этот раз машинист привычно выглянул в упругую заоконную темень и отпрянул с криком:
— Тормози!
Паровоз вздрогнул. По составу волной прокатился лязг и грохот. Поезд, пробежав со скрежетом и визгом по инерции еще метров сто, остановился. В паровозную будку порвались испуганные крики пассажиров.
— Что случилось? — спросил помощник.
— В хвосте букса горит! — ответил машинист, спускаясь по железной лестнице на землю. — Искры — как из-под точильного камня!
У передней теплушки собрались все бойцы. Неисправность обнаружили быстро: от левой передней буксы несло жаром. И коробка, и ось накалились так, что не дотронуться. Горько пахло горелым маслом.
Осмотрев при свете фонаря сгоревшую буксу, машинист с упреком сказал:
— Как же вы проворонили?… Какая-то контра песку вам сыпанула!… Отцеплять придется…
— Как отцеплять! — воскликнул Василий. — Ты что, земляк?
Глеб-старший отстранил Василия, надвинулся на машиниста, сказал, в упор глядя ему в лицо:
— Отцеплять не разрешу!
— А ты посчитай, сколько людей в вагонах! — ответил машинист.
— Мне их считать нечего! Я их всех сегодня видел… И не раз! Они мне не помешают провезти хлеб! Митрич! Выставь караул! — приказал комиссар. — Никого сюда не подпускать!
— Ты не понял! — возразил машинист. — Сейчас не тебе их, а им тебя бояться надо… Букса-то сгорела — кувырнутся твои теплушки и весь состав за собой под откос потащат! Не по костям же человеческим хлеб в Питер доставлять!
В наступившей тишине отчетливо слышались сердитые выкрики мешочников, которых бойцы не подпускали к теплушкам.
— Какие это люди! — воскликнул Василий. — Насмотрелись мы на них!
— Есть и люди! — снова возразил машинист.
— Есть! — согласился Глеб-старший. — Люди везде есть…
— Вот то-то! — обрадовался машинист. — Давай так… Теплушки отцепим… Я дотащу состав до Загрудино и мигом сюда, за тобой! Согласен?
Комиссар молчал. Оставаться здесь было рискованно. Что же делать? Ехать дальше с неисправной буксой?… Даже ради хлеба нельзя ставить под угрозу столько человеческих жизней!… Значит, надо оставаться! Но вернется ли паровоз? Нет ли тут какого-нибудь подвоха со стороны машиниста? Может, послать с ним для верности своего человека? Одного?… Мало! Двух?… Тоже мало! Трех?… Жалко распылять отряд, он и так невелик!
— Отцепляй! — хрипло сказал комиссар. — Но если ты подведешь!… Из-под земли достану! Сам умру — сын тебя найдет! Слово коммуниста!
— Я сам большевик! — ответил машинист.
Морщина на лбу у Глеба-старшего разгладилась.
— Прости! — сказал он. — Руку, товарищ!
Под колеса передней теплушки положили по осиновой плахе. Митрич до отказа закрутил рукоятку тормоза на задней площадке. Грузовые вагоны отцепили от состава. Паровоз прощально прокричал, и поезд тронулся.
Одинокая тень метнулась от состава в лес.
Три теплушки остались на линии. А вокруг в суровом молчании стояли старые ели, как часовые в почетном карауле. В ночной тишине долго еще раздавался удаляющийся перестук колес. И долго неподвижно стояли бойцы, тревожно прислушиваясь к замирающим звукам.
РАЗГРОМ
По проселочной дороге мчались всадники. Их было много. Впереди на вороном жеребце скакал сам батька Хмель. Высокий, стройный, он ловко сидел на коне. Дорогу он знал хорошо и уверенно вел банду на станцию Загрудино.
Батьке Хмелю было уже известно обо всем, что предприняли кулаки, и он успел обдумать свой план. Надо прискакать на станцию к приходу поезда. Если теплушки с продовольствием, дотащатся до Загрудино, банда перебьет продотрядовцев, захватит хлеб и заодно «пощупает» остальных пассажиров поезда. Если же теплушки останутся где-нибудь на перегоне, — тем лучше. Лес здесь подходит вплотную к железной дороге. Банда незаметно окружит продотряд. Десяток хороших залпов — и бой кончится.
За версту до Загрудино батька Хмель послал пару всадников к железнодорожному полотну, и они повалили несколько телеграфных столбов. Связь была прервана.
Когда длинный состав остановился на станции и паровозик, устало фыркнув, окутался паром, банда с гиканьем и свистом обрушилась на поезд. Батька Хмель на вороном жеребце подскакал к платформе. Каблуки сдавили бока коню и, послушный приказу, он одним махом перескочил невысокие деревянные ступеньки.
Поднялась суматоха.
— Хмель!… Батька Хмель! — понеслись испуганные выкрики.
Пассажиры горохом посыпались из вагонов. Зазвенели разбитые стекла. Люди лезли не только из дверей, но выпрыгивали и из окон.
Убедившись, что теплушек в конце состава нет, батька Хмель самодовольно смотрел на поднявшуюся вокруг панику. Он ждал.
С другой стороны на платформе появился верзила… Увидев батьку, он побежал и еще издали крикнул:
— Все! Отцепили!
Батька Хмель дал ему подбежать поближе и спросил:
— Где? На какой версте?
— Кто ж его знает? — робко произнес верзила. — Темно!… Близко где-то…
Батька Хмель обернулся к стоявшим у платформы бандитам, указал рукой на паровоз:
— Узнать!
Бандиты бросились к паровозу, а тот вдруг стал медленно отделяться от состава. Хотел машинист выполнить обещание — вернуться к оставленным на перегоне теплушкам, да не вышло.
— Стой! Стой! — заорали бандиты, хватаясь за винтовки.
— Не стрелять! — предупредил батька Хмель.
А паровоз набирал скорость. Но трое всадников быстро поравнялись с ним. Бандиты перескочили с коней на железную лестницу. Одного машинист сбросил ударом каблука, но два других ворвались в будку. Замелькали приклады винтовок, и паровоз остановился.
— М-да! — неопределенно произнес батька Хмель и сказал верзиле: — Туп же ты, скотина!
— Не гневись! — испуганно воскликнул верзила. — На проселке наш человек выставлен! Он прямо на теплушки выведет!…
Хмель покусал тонкие губы и гаркнул:
— По ко-о-оням!
Бандиты, потрошившие мешки и карманы пассажиров, бросились к лошадям.
Батька Хмель был хитер. Он и стрелять не разрешил на станции только для того, чтобы не насторожить продотряд и захватить его врасплох. И, пожалуй, это удалось бы ему сделать, если бы не Архип.
Его и еще трех бойцов Глеб-старший выставил в караул. Остальные забрались в «кухню» и сидели вокруг буржуйки, проклиная ту вражину, которая насыпала песку в буксу. Все предполагали, что произошло это задолго до погрузки хлеба. Вагоны стояли в тупике без охраны две недели.
Глеб-старший винил себя за свою непредусмотрительность. Правда, он надеялся перед отправкой поезда вызвать ремонтных рабочих, чтобы они проверили ходовую часть теплушек, но получилось не так, как хотелось. Значит, он и виноват.
И еще один человек чувствовал за собой какую-то вину. Это был Архип. Чем больше раздумывал он, тем его вина казалась определеннее… Проходя мимо сгоревшей буксы, Архип скрипел зубами и щупал сквозь поношенное пальтишко брусок сала, засунутый во внутренний карман. Это сало жгло его. Наконец Архип не выдержал. Он встал около угла задней теплушки, как стоял тогда, на станции Уречье, и представил, как все это было. Архип снова увидел благообразного старичка. Тот двигался вдоль состава, вытащил сало, подошел совсем близко и заслонил буксы передней теплушки. Вспомнились его глаза — приторно-ласковые, бледно-голубые, елейный голос…
Архип покачнулся, как от удара, зажмурился и слепо поплелся к средней теплушке.
Один из стоявших в карауле бойцов удивленно окрикнул его:
— Архип! Ты чего?
Архип не ответил. Он дошел до открытой двери «кухни», прислонил винтовку к стенке, насунул на штык свою кепчонку и, подставив лысую голову под ленивый крупный снег, громко сказал чужим голосом:
— Комиссар! Выдь-ка на минуту!
Глеб-старший выскочил из теплушки. Глебка и бойцы сгрудились в дверях, непонимающе уставившись на неприкрытую голову Архипа.
— Суди, комиссар! — тем же чужим голосом произнес Архип. — Из-за меня в беду попали!
— Что ты мелешь? — спросил Глеб-старший.
Архип вытащил из-за пазухи брусок сала.
— Жадоба подвела! — сказал он. — Глаза мне салом замазали. В руку — кусок, а в буксу — песок! Стреляй меня, сукина сына!
Глеб-старший сделал шаг назад, и Глебка увидел, как рука отца потянулась к маузеру.
— Батя! — жалобно крикнул Глебка и, выпрыгнув из теплушки, повис на отце.
Глеб-старший провел левой рукой по лицу, точно стер липкую паутину, и, высвободив от Глебки правую руку, вытащил зачем-то часы из брючного кармана. В тишине громко, как выстрел, щелкнула открывшаяся крышка. Но комиссар так и не взглянул на часы. Они выпали из руки и повисли на цепочке.
— Стреляй, не жалей! — повторил Архип. — Заслужил…
Его лысая голова затряслась мелко-мелко. Под глазами обозначились черные круги. Дрожала и рука с куском сала.
Тяжело выдохнув воздух, Глеб-старший сказал каким-то усталым, почти безразличным тоном:
— Дома… разберемся… в Питере…
Архип продолжал стоять. Снег густо падал на его лысину. Глебка сдернул со штыка кепку и надел ее на Архипа.
— Иди на пост! — тихо сказал Глеб-старший.
— А это? — спросил Архип, протянув руку с салом.
Глеб-старший брезгливо попятился и выкрикнул, точно резанул железом по железу:
— Бр-рось!
Архип швырнул сало в сторону и пошел прочь. Бойцы расступились.
— Дядя Архип! А винтовку! — крикнул Глебка.
Архип вернулся, взял винтовку, загнал патрон, посмотрел каждому в глаза и, не увидя в них ни злобы, на упрека, всхлипнул вдруг, горестно махнул рукой и пошел на свой пост.
По приказу комиссара бойцы заняли круговую оборону. В теплушках не осталось ни одного человека.
Все залегли у колес. Только четверо часовых мерно ходили вокруг вагонов.
Глеб-старший и Глебка заняли позицию под передней теплушкой. Комиссар все еще надеялся, что вот-вот вернется паровоз. Но молчали рельсы. Молчала ночь. Беззвучно падал снег. Причудливые белые шапки выросли на деревьях и пригибали сучья к земле. Стояла тягостная удручающая тишина.
— Батя! — шепнул Глебка. — Как же он поверил?
— Кто?
— Да Архип!
— Вот так и поверил…
— Я никому верить не буду! — заявил Глебка.
— Верить надо! — твердо сказал отец. — Без веры в людей не проживешь!
— Вот и получится, как с Архипом!
— Сказать тебе честно? — спросил отец.
— Ну?
— Лучше один раз на контре обжечься, чем держать всех людей на подозрении!
Заскрипел снег. К теплушке подошел Архип, нагнулся, спросил:
— Глеб Прохорыч! Разреши в лес податься… Почудилось — словно ржа лошадиная…
— Сходи… Далеко не забредай — по опушке! — разрешил комиссар.
Архип с винтовкой наперевес спустился с насыпи и скрылся за первыми деревьями. А через несколько минут один за другим ударили два выстрела. В ответ грянуло сразу несколько винтовок. И опять замер лес.
Комиссар не подал никакой команды — все и так выло ясно. Он только шевельнул губами, прощаясь с Архипом. Глебка почувствовал на щеках горячие дорожки слез. Но плакать было не время. Даже он понимал, что надвигается беда и нет возможности предотвратить ее.
Бойцы замерли, выставив вперед винтовки. Самым обидным было то, что приходилось просто лежать и ждать. Бежать, бросив теплушки с хлебом?… Об этом не думал никто… Стрелять? Но куда, в кого?… Вокруг — неподвижный лес. А где-то там, за стволами, ползет невидимый пока враг… Уже скорей бы! Лучше бой, чем это мучительное ожиданье.
Из леса долетело громкое, чуть смягченное расстоянием:
— Ого-о-онь!
И грянул залп.
Первое, что увидел и запомнил Глебка, — это желтые огоньки под деревьями и еловые лапы, которые стряхнули с себя снежные шапки и угрожающе покачивались вверх и вниз.
Дружно заговорили винтовки продотрядовцев. Глеб-старший, раненный с первого же залпа в левую руку, палил из маузера по высыпавшим из леса темным фигурам. А огоньки выстрелов переметнулись и на другую сторону железной дороги. По теплушкам стреляли с двух сторон. Бандиты быстро приближались короткими перебежками, стремясь поскорее миновать открытое пространство.
Василий лежал у колеса и кусал себе пальцы. Он не мог стрелять: заплывший правый глаз ничего не видел, а перекинуть винтовку к левому плечу Василий не догадался. И теперь ему казалось, что из-за его проклятого глаза погибнет весь отряд. В отчаянье приподнялся Василий на руках и звонко крикнул:
— Пулеме-е-ет!… Не стрелять!… Подпустить бли-и-иже!…
Его высокий голос эхом отдался в лесу. Бандиты попадали в снег, ожидая шквального пулеметного огня. Отдельные черные фигуры ползли назад. Выстрелы стали реже.
Глеб-старший огляделся. Он понимал всю отчаянность положения отряда. Несколько бойцов было уже убито. Под средней теплушкой стонал раненый кашевар. Наскоро перевязав ему голову, Митрич пополз к комиссару.
Бандиты опять усилили огонь. Пули чаще зацокали по колесам и рельсам. Полетели щепки. Снег фонтанчиками вскидывался вокруг теплушек.
Но Митрич дополз до комиссара.
— Не отбиться! — сказал он. — Спускай тормоза!… Поленья вышибай! Пое…
Он не договорил — ткнулся подбородком в шпалу. Глебка с ужасом смотрел на его медленно опускающиеся веки и обмякнувшую щетину рыжих, когда-то сердитых усов.
— Василь! — крикнул Глеб-старший, перезаряжая маузер.
Где-то под вагонами мелькнула тень — Василий на четвереньках бросился к комиссару.
А Глеб-старший подтянул к себе винтовку Митрича, маузер сунул Глебке.
— Стреляй!
Прежде чем Василий добрался до комиссара, Глебка успел выстрелить два раза.
— Дуй в хвост! — приказал Василию Глеб-старший. — Кто жив — предупреди: сейчас поедем!… И хоть умри, а тормоз отпусти!
Тут только догадался Глебка, какую мысль подал Митрич отцу.
— Глебка! — позвал комиссар. — Держи мандат на случай… И марш в теплушку!
— А ты?
— Марш, говорю!
Глебка вскочил, перепрыгнул через рельсу, и его ноги мелькнули в воздухе — он влез в вагон. А Глеб-старший, преодолевая боль раненой руки, дополз до передних колес и выбил прикладом осиновые плахи. Скрипнула неисправная букса. Теплушки плавно двинулись с места. «Молодец, Васька! Успел!» — подумал комиссар и крикнул всей грудью:
— По ваго-о-нам!
Никто не выскочил из-под теплушек, потому что не кому было выполнить команду комиссара. Он один перевалился через рельсу и привстал, чтобы впрыгнуть в открытую дверь переднего вагона, медленно проплывавшего мимо. Но вторая пуля кусанула Глеба Прохорова куда-то в бок. Он рухнул на колени, чувствуя, как слабеет тело.
В такой позе и увидел комиссара Василий, когда задняя тормозная площадка поравнялась с этим местом. Спрыгнул Василий на насыпь, подхватил Глеба Прохорова под руки, хотел вместе с ним влезть обратно на площадку, но и его настигла пуля. Вместе упали они поперек рельсы.
Комиссар приподнял голову и посмотрел вслед катившимся под уклон теплушкам. И увидел он, что один из бандитов успел взбежать на насыпь и уцепился за поручни задней площадки. Глеб-старший нашарил рукой винтовку и вложил в последний выстрел остатки уходящих сил.
Шапка слетела с головы бандита и упала на площадку, а сам он покатился под откос.
ОДИН
Теплушки набирали скорость. Сердито повизгивала сгоревшая букса. Сзади неслись яростные крики бандитов. Гремели частые беспорядочные выстрелы. Пули дырявили деревянную обшивку вагонов. А Глебка неподвижно лежал на полу в метре от раскрытой двери и, выставив маузер, не мигая смотрел перед собой. Он слышал команду отца «По вагонам!», ждал, что кто-нибудь из бойцов покажется в дверях, и боялся, как бы с перепугу не выстрелить в своего.
Но никто не появился в дверном проеме. В средний вагон попрыгали!» — подумал Глебка и, прислушиваясь к отдаляющимся выстрелам, шептал:
— Скорей! Скорей! Скорей!…
Это он просил теплушки бежать побыстрее. Понимал он, что в скорости единственное спасение. Спасение не для него, Глебки. О себе он как-то не думал совсем. Спасение отцу, Василию и всем, кто еще не был убит, «А Архипа-то нет! — вспомнил он. — И Митрича!…»
Глебка вскочил на ноги, размял занемевшие на рукоятке маузера пальцы и крадучись подошел к двери. Мимо сплошной стеной проносился лес, сказочно убранный снегом, дремлющий и коварный.
Не было слышно стрельбы и криков. Дробно стучали колеса да пронзительно верещала букса. Глебка высунул голову за дверь, посмотрел на две задние теплушки и крикнул:
— Ба-атя-а!
Никто не откликнулся. Сердце у Глебки сжалось.
— Васи-и-иль! — крикнул он.
И опять лишь дробный перестук колес и посвист ветра, Глебка похолодел от недоброго предчувствия. Крикнул он и в третий раз, но не потому, что надеялся докричаться, а от отчаянья.
— Ба-ать!… Васи-иль!…
Ни из средней теплушки, ни с задней площадки последнего вагона никто не показался и не ответил. Мысли о том, что все погибли, не пришла Глебке в голову. А вернее, он всеми правдами и неправдами отгонял ее от себя.
— Не успели!… Не успели вскочить! — шептали его губы.
Но и это предположение пугало. Глебка знал, каким тесным кольцом окружили бандиты отряд. Уйти от них было немыслимо. Остаться на дороге — равносильно смерти, и он отбросил это предположение и ухватился за новую обнадеживающую догадку: силой заставил себя поверить, что пусть не все, а уж отец и Василий обязательно должны быть в средней теплушке или на задней площадке. А не отвечают они потому, что ранены — трудно им двигаться и кричать.
Эта счастливая мысль приободрила Глебку. Что там рана! Любая рана — пустяк! Лишь бы живы были! Лишь бы ехали с ним!
— Батя! — уже веселее крикнул Глебка, высунувшись за дверь как можно дальше. — Я ту-ут!
В подтверждение своих слов он пальнул вверх из маузера и прислушался. «Сейчас он потянется за винтовкой, — думал Глебка. — Это же совсем не трудно… Направит дуло в воздух… Нащупает спусковой крючок… Нащупал!… Сейчас выстрелит!»
Прошла минута, другая, ни отец, ни Василий не давали знать о себе ни выстрелом, ни криком, ни каким-либо другим сигналом.
А мысли все вихрились в Глебкиной голове. Внутренне он уже согласился с тем, что никто, кроме него, не успел забраться в теплушки. Это было очевидно. И тогда Глебка со всей страстью и необузданностью мальчишеской фантазии стал придумывать способы спасения оставшихся на дороге отца, Василия и других бойцов. «Лес ведь кругом, — думал он. — Пробьются, добегут до деревьев, а там ищи-свищи! Ночью в лесу легко спрятаться!» Глебка в разных вариантах представлял, как все это может произойти. И каждый раз отец с бойцами благополучно добирался до леса и скрывался в нем от бандитов.
А теплушки все неслись и неслись под уклон. Тревожно выл ветер. Противно визжала букса. Она-то и отвлекла Глебкины мысли от отца и отряда, заставила думать о действительности. Страх за близких ему людей помешал Глебке с самого начала понять, что происходит с теплушками. Он даже забыл, что никем не управляемые вагоны мчатся под уклон по рельсам. И впервые за все это время Глебка посмотрел не назад, а вперед. Впереди были ночь и тьма. Чернели рельсы на белом снегу. Свистел ветер. Под теплушкой на снежном покрывале играли короткие отблески света — это искрила неисправная букса. Вагоны стремительно шли под гору.
Глебка замер у двери. Ноги стали какие-то ватные. Чувство обреченности охватило Глебку. Как о чем-то совершенно постороннем подумал он о буксе, которая в любую минуту может «сгореть» совсем, о встречном поезде, на который могут наскочить теплушки и разлететься в щепы. Но так продолжалось недолго. Глебка только на мгновенье утратил волю. А в следующую секунду он уже действовал: нахлобучил на лоб шапку, засунул под ремень маузер и посмотрел на насыпь, выбирая место поровнее. Скорость была большая — рябило в глазах. Да и темень не позволяла хорошо разглядеть землю. Все казалось одинаково белым и ровным. «Сосчитаю до трех, — решил Глебка, — и прыгну!»
— Раз!
Он приподнял воротник, еще глубже напялил шапку.
— Два!
Пальцы пробежали по куртке и застегнули ее на все пуговицы. И тут во внутреннем кармане что-то хрустнуло. «Мандат!» — вспомнил Глебка, и это помешало ему произнести «три». Вспомнив о мандате, Глебка сразу же вспомнил и о хлебе. Вот он — лежит в мешках! В среднем вагоне — тоже хлеб! А в заднем — там все до потолка забито мешками! Хлеб, за которым послал их Ленин! Хлеб, который ждут в Питере! Три вагона хлеба! Хлеб — и Глебка! И больше нет никого вокруг!… А он собирался прыгать из теплушки! Хотел бросить хлеб, который С таким трудом собирали в деревнях, доставили до станции и погрузили в вагоны! И разве не из-за этого хлеба погибли Архип и Митрич?
Когда есть большая цель, тогда есть и силы бороться со страхом и опасностью. Глебка почувствовал, что с этой минуты все заботы о хлебе ложатся на него. Это было главным. Остальное само собой отодвигалось на задний план.
Присел Глебка на мешки и задумался. Нужно было остановить вагоны. Но как он ни ломал голову, ничего придумать не мог. Оставалось сидеть и ждать, — ведь когда-нибудь кончится этот спуск и остановятся теплушки! И он сидел и терпеливо ждал. Он чувствовал себя часовым на посту и знал: что бы ни произошло с вагонами, он не покинет свой пост.
А лес все бежал за дверью. Колеса без устали отсчитывали стыки. Плакала букса. Вагоны еще не свалились под откос только потому, что неисправная букса подтормаживала и мешала им превысить предельную скорость.
Время перестало существовать. Глебка и приблизительно не мог бы сказать, час прошел, полчаса или всего несколько минут. И представилась ему сказочная картина: будто железная дорога нескончаемо спускается к самому Петрограду и на ней нет никаких препятствий. И будут теплушки мчаться под уклон, пока не въедут в город, на вокзал. И будто на перроне ждут его отец и Василий…
За дверью посветлело. Глебка оторвался от своих грез. Лес заметно поредел. Глебка выглянул и увидел темные силуэты строений.
Это была станция Загрудино. Длинный пустой состав стоял у платформы. Отцепленный паровоз мертвой грудой чернел впереди. А пассажиры осаждали комнату начальника станции. Они уже пришли в себя после налета банды и требовали новую паровозную бригаду.
Глебка, конечно, ничего этого не знал. Он видел только последний вагон пассажирского поезда и темную лыжню рельс, упирающихся в хвост состава. По этим рельсам и мчались теплушки.
Не о себе — о хлебе подумал Глебка, когда понял, что крушение неизбежно. И не страх, а ярость охватила его. Выдернув из-под ремня маузер, он завопил диким голосом и выпустил в воздух чуть не всю обойму.
Шум приближающихся вагонов, крик и выстрелы были по-своему поняты на станции.
— Хмель!… Хмель! — завопили люди и в панике бросились врассыпную.
И быть бы катастрофе, но старый опытный стрелочник не растерялся. Времени было мало, и все же он успел продумать многое за эти считанные секунды. Услышав, как люди закричали про Хмеля, стрелочник с радостью подумал, что пришел конец бандиту и его шайке.
Видя теплушки, несущиеся с бешеной скоростью на состав, он перекрестился и произнес:
— Тут тебе, ироду, и крышка!… Черт с ними, с вагонами!…
Но здравый смысл взял верх. С какой это стати батька Хмель будет разъезжать в теплушках без паровоза? Что-то не то! И стрелочник перевел стрелку.
Три вагона, роняя горячие искры, с грохотом пронеслись мимо замершего у платформы состава и скрылись за станцией, оставив в воздухе запах жженого масла и раскаленного металла.
И снова увидел Глебка за дверью сплошную стену леса. Опасность временно отступила. Но радости не было. Глебка устал от переживаний. Резкие переходы от надежды к отчаянью притупили чувства. Он даже не удивился, когда перед самой дверью теплушки взметнулись вверх лошадиные ноги и вставший на дыбы конь испуганно заржал в темноте.
Зато смену в ритме перестукиванья колес Глебка уловил сразу и настороженно прислушался. «Тут-тук, тук-тук, тук-тук», — часто-часто переговаривались колеса. Но в этом стуке появилась какая-то новая нотка, будто и колеса устали. Да и букса визжала не так пронзительно.
Глебка плюхнулся на пол, приложил ухо к грязным доскам и, задержав дыхание, стал слушать. Нет! Он не ошибся! Теплушки сбавили ход. Надо было повернуться и посмотреть: может быть, и лес за дверью бежит уже не так стремительно. Но Глебка боялся оторвать ухо от пола. Ему казалось, что от этого движения вагоны могут опять покатиться быстрее.
Так и лежал он, прильнув ухом к доскам, пока букса не скрипнула последний раз. Наступила удивительная ощутимая тишина. Встал Глебка на непослушные подгибающиеся ноги и подошел к двери.
Занималась заря. Бледный рассвет озарил восточную часть неба. Мирно и торжественно было вокруг.
Глебка осторожно спустился на снег и, приготовив маузер, пошел к открытой двери средней теплушки. Долго не решался он заглянуть в нее, но потом подтянулся на руках и впился глазами в темное нутро вагона. Там никого не было. Печка и котел стояли на старом месте. Валялись осиновые плахи, на которых недавно сидели бойцы, ожидая возвращения паровоза. Рядами высились мешки.
Не стал Глебка влезать в «кухню», а пошел дальше — к третьей теплушке. Замок Митрича висел, как и раньше. А вот и задняя площадка. Глянул на нее Глебка и обмер — там валялась незнакомая чужая шапка. Такой ни у кого в отряде не было. И вскрикнул Глебка в ужасе:
— Батя!
«Атя… атя…» — угрюмо аукнулось в лесу.
С ближайшей ели сорвался снежный ком и пошел считать сучья. Угрожающе закачались еловые лапы — точь-в-точь как тогда, когда грянул первый залп. Глебка присел от ужаса. Он уже не радовался, что теплушки остановились. Лес казался ему огромным злым чудовищем, укрывающим бандитов. Они стояли за каждым стволом, лежали за кустами! Глебка перемахнул через рельсы и спрятался за вагон.
Бешено колотилось сердце. А когда оно поуспокоилось, Глебка огляделся. По эту сторону леса не было. Белело ровное поле. Невдалеке угадывались очертания присыпанной снегом проселочной дороги. Быстро светлело. Где-то чирикнула птичка. Глебка несказанно обрадовался ей и, поискав глазами, увидел пару небольших пичуг, весело прыгавших у вагона. Он подошел поближе, пригляделся и сердито нахмурил лоб. И страх прошел, и радость от встречи с птицами — тоже. На снегу желтели просыпавшиеся зерна. Пичуги суетливо склевывали их.
— Кыш! — по-хозяйски прикрикнул Глебка и махнул рукой.
Птицы улетели, а он подошел к вагону, увидел в обшивке трещины и дыры от пуль, подумал и заткнул их снегом.
Это маленькое происшествие встряхнуло мальчишку. Он твердо знал, что ему делать, — надо охранять хлеб!
Уже более спокойно зашагал Глебка вдоль вагонов и остановился у неисправной буксы. Из коробки шел легкий дымок.
— Контра! — с ненавистью произнес он и снова вышел на лесную сторону.
Деревья-великаны свысока смотрели на мальчишку, который брел с огромным маузером в руке, пристально вглядываясь в желтовато-коричневые стволы сосен и елей. На снегу между лесом и железной дорогой не было ни единого следа. И Глебка подумал, что никто не сможет незаметно подобраться к теплушкам. Он сделал еще несколько шагов, и рука сама вскинула маузер.
— Кто тут? — крикнул он сдавленным голосом.
Он увидел следы. Свежие, они бежали от него вдоль теплушек.
— Трус несчастный! — глубоко вздохнув, произнес мальчишка и усмехнулся: он догадался, что следы его собственные.
По-хозяйски задвинув двери первой и второй теплушек, он поднялся на тормозную площадку и сильно, как по мячу, ударил ногой по бандитской шапке, Описав дугу, она упала в кусты. А Глебка взялся за рукоятку тормоза и закрутил ее. Потом он вернулся к средней теплушке. Из нее по-домашнему пахло хлебом. Сразу же заурчало в животе. Глебка залез в вагон, вытащил из ящика весы, нож и каравай хлеба: Отрезал ломоть, взвесил его, довел до обычной нормы и, закрыв за собой дверь, снова забрался на тормозную площадку.
Здесь за скудным завтраком Глебка обдумал свое положение. Ждать помощи неоткуда. И хотя Глебка все еще не допускал мысли о гибели отца и бойцов, он понимал, что если они и живы, то не скоро догонят теплушки. Бандитам тоже быстро до них не добраться. Значит, и надежда, и опасность заключались в одном — в поезде. Он мог наскочить на теплушки. Но было уже почти совсем светло, и вагоны отчетливо выделялись на фоне белого снега. Не слепой же машинист — остановит! И тогда… тогда Глебка заставит прицепить теплушки. В этом он не сомневался. Колея одна — поезд через вагоны не перескочит. Если потребуется, Глебка и маузером пригрозить сможет или предъявит мандат, смотря какой машинист попадется!
Вспомнив о мандате, он вытащил документ и развернул его. На Глебку глянули родные строгие глаза отца.
— Батя! — жалобно шепнул Глебка и, чувствуя, как накипают на ресницах слезы, спрятал мандат.
И долго смотрел он полными слез глазами вдаль — туда, где остались отец и бойцы. Смотрел, пока не задремал. И все изменилось, как по волшебству. Глебка уже был не на ступеньке тормозной площадки, а в Питере, в своей комнате. Отец вешал на гвоздь коробку с маузером. Мама ставила на стол большое блюдо с дымящимися блинами. Глебка знал: это из его муки, он доставил ее в город!… Потом Глебку окружила шумная орава детишек Архипа. Они закружились в хороводе и весело на мотив «А мы просо сеяли, сеяли…» запели:
А ты наше сало ел, сало ел!…— Ел! — признался Глебка. — А вам зато хлеба привез! — И он дал каждому по большому караваю.
И опять все смешалось. В дверь громко постучали, — это выпал из ослабевших пальцев маузер и, задев за подножку, шлепнулся в снег. А Глебка во сне увидел, как открылась дверь и в комнату вошел кремлевский часовой.
— Глеб Глебыч здесь живет? — спросил он у матери.
— Мой Глебушка? — удивилась она. — Да вот же он!
Часовой откашлялся и торжественно сказал голосом отца:
— За находчивость и бесстрашие Ленин объявил бойцу Глебу Прохорову благодарность!
Смутился Глебка, а часовой добавил:
— И еще просил Ильич передать тебе — черед твой пришел! Ждет тебя Ленин! Потолковать о делах хочет!…
— Мама! — крикнул Глебка. — Где моя тужурка?…
ОТРЯД ГЛЕБА-МЛАДШЕГО
Неслышно ступает лошадь, колеса мягко приминают снег. А вокруг бело и чисто. И настроение какое-то бодрое, праздничное, доброе. Если бы не это настроение, крепко досталось бы Юрию от двоюродной сестренки.
Путь у них был долгий, и Глаша, правившая лошадью, устала. А Юрий все приставал дать ему вожжи. Уступила Глаша, а сама вздремнула. Ну и… чуть не стряслась беда!
Править умной лошадью нетрудно. Она дорогу знает, и понукать ее не надо. Но Юрий крепко держался за вожжи и чувствовал великую гордость. Полгода прожил он в деревне, а такое дело впервые доверили ему.
Дорога шла лесом. Лишь впереди намечался какой-то просвет. Что-то погромыхивало слева. Лошадь пошла медленнее. Юрий важно пощелкал языком, пошевелил вожжами, сказал с достоинством:
— Не бойся! — и продекламировал от избытка чувств: — Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег… Навстречу мне только версты полосаты попадаются одне…
Полосатые верстовые столбы вдоль этой дороги не стояли. Не было и шлагбаума на переезде через железнодорожное полотно. Лошадь, услышав близкий перестук колес, остановилась, но Юрий снова прикрикнул на нее и даже неумело хлопнул вожжой по крупу. Ему все казалось, что лошадь упрямится потому, что не хочет подчиняться неопытному вознице. И Юрий еще сильней ударил вожжами. Лошадь подала корпус вперед и вдруг вскинулась на дыбы, с силой толкнув телегу.
Мимо самой лошадиной головы пронеслись, брызжа искрами, три теплушки.
Глаша проснулась, выхватила у испуганного Юрия вожжи, рванула их на себя. Но таинственные вагоны уже исчезли в темноте.
— Тю-у! Скаженные! — ругнулась Глаша. — А ты куда смотрел? — накинулась сна на брата.
Юрий был гордый, самолюбивый и трусоватый мальчик. Для многих эта его слабость оставалась незаметной. Он обладал удивительной способностью — быстро приходить в себя после испуга. И только близко знавшие его люди могли догадаться, что Юрий испугался. В такие минуты он обычно начинал говорить каким-то особенно «взрослым» языком.
— В чем дело? — вопросом ответил Юрий на окрик Глаши.
— Под поезд чуть не попали! — кипятилась девочка.
— Какой поезд?… Всего три вагона! — холодно произнес Юрий. — К тому же — без руля и без ветрил… Катятся себе спокойно, пока под откос не свалятся.
— Ну, забарабанил! — воскликнула Глаша. — Ему — одно, а он — другое!… Смотреть надо! Чему вас только в городе учат?
— Видишь ли, я в извозчики не готовлюсь и кучером быть не собираюсь!
— Попроси теперь у меня вожжи! — сердито сказала Глаша.
Телега миновала переезд. Лошадь свернула направо по заснеженной дороге — в ту сторону, куда умчались теплушки. Брат и сестра ехали на станцию Узловая.
Несколько дней назад в деревню пришло письмо. Отец Юрия благодарил своих родственников за то, что они приютили сына, и просил отправить его обратно в Петроград. «Юденич разбит наголову, — писал отец. — Жизнь постепенно налаживается. Хватит моему отпрыску отсиживаться на теплой русской печке да на деревенских харчах».
И «отпрыск» заторопился домой. В деревне хоть и сытно было, и дров хватало — топи печь круглые сутки, — а все же не привык он к сельскому захолустью. Прожил Юрий у родственников полгода и почти каждый день вспоминал голодный, холодный, но родной Петроград.
Родственники собрали небольшой мешок картошки, полпуда муки, дали еды на дорогу, а двоюродная сестра Глаша охотно согласилась довезти Юрия до станции. Они были одногодки. Глаша родилась и выросла в деревне и по расторопности, по смекалке во всяких хозяйственных делах казалась старше своего возраста и рассудительнее брата. Она относилась к нему покровительственно. Не прочь была и покомандовать. Юрий сердился, спорил, но часто был вынужден делать так, как говорила Глаша.
От переезда проселочная дорога шла рядом с насыпью. Пока Юрий дулся на сестру, а Глаша молча переживала случившееся и упрекала себя за то, что доверила брату вожжи, лошадь дотащила телегу до того места, откуда были видны остановившиеся теплушки.
— Вот они, скаженные! — сказала Глаша.
— Такого слова в русском языке нет! — отозвался Юрий.
— Как нету? — удивилась Глаша. — А откуда оно взялось? Другого языка я не знаю!
Юрий только плечами повел — что, мол, с неучем разговаривать. Брат и сестра уставились на теплушки. Оба заинтересовались ими, но по-разному. Хозяйственной и аккуратной Глаше они казались нарушением привычных правил. Она рассуждала очень практично: вагоны стоят не на месте, людей не видно. Не было бы какой беды! Поезд пойдет или еще что!
Юрий думал о другом. Проносящиеся в темноте теплушки, искры, вздыбившийся конь — эта картина ярко запечатлелась в его мозгу. Тогда он испугался, а сейчас все это выглядело романтичным. Вагоны рисовались ему чем-то таинственным. Мчатся в ночи, а никто ими не управляет! Остановились, а между тем никто их не останавливал. Что же там находится?…
— Если бы я не торопился, — сказал Юрий, — можно было бы свернуть к ним и посмотреть.
— Торопиться некуда! — ответила Глаша. — Поезд не лошадь, он теплушки стороной не объедет! Путь-то один!
И опять Глаша оказалась догадливее. Юрий недовольно заерзал на сене и сказал:
— Можешь сворачивать.
Лошадь подтащила телегу к насыпи. Глаша спрыгнула на снег и стала разнуздывать коня.
— Пошли! — сказал Юрий, не решаясь идти один.
— Погоди!
Глаша взяла из телеги охапку сена и задала корм коню. Только после этого брат и сестра двинулись к теплушкам: Глаша — впереди, Юрий — за ней. Они обогнули задний вагон и сразу же увидели Глебку, спящего на площадке. Он улыбался, — ему все еще снились приятные сны. Кто знает, может быть, он уже приехал в Кремль и беседовал с самим Владимиром Ильичей?
Глаша заметила упавший в снег маузер и подняла его.
— Дай мне! — чуть слышно шепнул Юрий.
Глаша отрицательно мотнула головой и подергала Глебку за штанину. Нога Глебки соскочила со ступеньки и повисла в воздухе. Выражение лица резко изменилось. В миг пробуждения приснился ему верзила. Бандит тянул Глебку за ногу и замахивался ножом.
— Стой! — закричал Глебка, просыпаясь, и вскинул руку.
Прошло несколько секунд, прежде чем мальчишка окончательно пришел в себя и увидел, что перед ним не верзила, а двое подростков и что в вытянутой руке нет никакого маузера.
— Эх ты, часовой! — укоризненно произнесла девчонка. — На твою игрушку! — Глаша протянула Глебке маузер. — Она, поди, и не стреляет!
Глебка вцепился в холодную рукоятку. Заснуть на посту, потерять оружие и получить его из рук какой-то девчонки, да еще выслушать от нее выговор — как тут не обозлиться!
— Руки вверх! — завопил Глебка и затряс маузером перед самым Глашкиным носом.
Он был у нее вздернутый, задорный, а от Глебкиной угрозы стал еще более насмешливым.
Юрий не любил шутить с оружием. Он стоял за Глашиной спиной, смотрел на Глебку поверх ее плеча и, когда черное дуло маузера заплясало перед его глазами, он попятился. Но узкая бровка кончилась, ноги соскользнули с края, и Юрий, вскрикнув, покатился под откос. Глаша обернулась, охнула и бросилась к брату.
Глебка был отомщен. Он подошел к краю насыпи и, победно глядя сверху вниз, взял на прицел Юрия, с которого Глаша заботливо стряхивала снег.
— Кто такой? — спросил Глебка.
— Я не привык разговаривать под дулом! — высокомерно заявил Юрий.
— Считаю до трех! — загремел Глебка. — Отвечай!… Раз!…
Глаша выпрямилась, неодобрительно посмотрела на Глебку и сказала:
— Хватит играть-то!… Я тутошняя, из Таракановки. Он питерский!… А вот ты-то кто?
— Питерский? — удивленно переспросил Глебка и, подозрительно прищурив глаза, задал проверочный вопрос: — А где ты там живешь?
Юрий презрительно посмотрел и небрежно бросил:
— Предположим, на Невском!
Не нравился Глебке этот стройный, с нежным лицом мальчишка. Не понравился и его ответ. Невский проспект представлялся Глебке обиталищем буржуев, и он выпалил:
— Ты буржуй, значит?
— Мой папа — жрец искусства! — гордо произнес Юрий и иронически добавил: — Если художники буржуи, то и мы с папой буржуи.
Этот ответ поставил Глебку в тупик. Он не знал, куда надо зачислить художников, — к друзьям или врагам.
— Смотря что рисует! — буркнул Глебка, испытующе глядя на Юрия. — Может, он царей и генералов малюет?
Пренебрежительное «малюет» резануло по самолюбию Юрия.
— Отгадал! — сказал он. — И царей, и генералов!
— Контра! — рявкнул Глебка. — Изрешечу!
Видя, что ссора разгорается, Глаша выдвинулась вперед и заслонила собой Юрия.
— Не стыдно? — рассудительно произнесла она и вдруг пошла в атаку: — Изрешечу!… Да я сама тебе решето на голову надену и плясать заставлю!… Ты, коль спрашиваешь, так разберись!… Дядя Павел их потешными рисует, чтобы смешно было: кого собакой, кого крысой, а кого и гадюкой!
Глебка заморгал глазами. Он пропустил мимо ушей колкие слова Глаши, потому что припомнил плакаты, которыми пестрели дома и заборы в Петрограде.
— Цепные псы капитализма? — спросил Глебка. — А Юденич вроде бульдога?
— Такие рисунки называются карикатурами, — поучительно произнес Юрий. — Мой папа — известный карикатурист!
— Что ж ты сразу не сказал! — воскликнул Глебка и протянул Юрию руку. — Вылезай!… Я этому самому Юденичу всю морду на заборе расцарапал!
— Глупо! — холодно сказал Юрий. — Карикатура — произведение искусства, а ты… просто варвар. С Юденичем надо на фронте воевать, а не на заборе!
Повезло Юрию, что Глебка не знал слова «варвар» и не обратил на него внимания, а насчет остального Глебке было что сказать. Он по-отцовски похлопал по маузеру.
— Я из него сегодня ночью двух бандитов уложил! Понял?… А батя с отрядом доколачивать банду остался!
Глебка так твердо произнес эту фразу, что сам поверил в нее, и с жаром принялся рассказывать про бой с бандитами. Приврал он лишь самую малость — в двух местах. Стрелять-то он стрелял из маузера, а вот попал или нет — неизвестно. Ну и в отношении «доколачиванья» банды — здесь Глебка тоже выдал желаемое за действительность.
— А теперь чего будешь делать? — сочувственно спросила Глаша.
— Хлеб караулить и ждать! — ответил Глебка. — Как с бандой разделаются, так батя меня на дрезине догонит! А то, может, поезд пойдет, тогда я прицеплю теплушки и доеду до станции, а там — прямо на телеграф, сообщу в отряд, где вагоны с хлебом!… Далеко до станции?
— Верст пять, — сказала Глаша.
— Так близко? — воскликнул Глебка, и новая, еще не совсем ясная, но волнующая мысль пришла ему в голову. — Пять верст! — задумчиво произнес он. — Это… Если взяться дружно, руками дотянуть можно. А?
Юрий и Глаша не поняли.
— Я говорю, — заторопился Глебка, — теплушки можно руками, без паровоза, дотащить до станции!
— Чепуха! — скептически заявил Юрий.
— Знаешь что! — сказала Глаша. — Мы быстренько доедем до Узловой и скажем, что ты застрял тут с вагонами!
— Да-а-а! — насмешливо протянул Глебка. — Нашла дурака!… Один поехал с паровозом, да шиш вернулся!… Я ученый! Так я вас и отпустил!
— То есть как это? — опешил Юрии.
— А вот так — не отпущу, и все!
— Тогда поедем с нами! — предложила Глаша, которой очень хотелось хоть как-нибудь помочь Глебке.
— Хлеб без охраны оставить? — спросил Глебка и смерил ее негодующим взглядом. — Он ценней, чем золото! — Глебка посмотрел на Юрия. — Вот ты… Приедешь в Питер, что ты есть там будешь?
— Я с собой везу! — сказал Юрий. — У меня два мешка!
— Выходит, ты спекулянт! — ехидно спросил Глебка.
— Никакой он не спекулянт! — заступилась Глаша. — Это мы ему муки и картошки дали!
— Выходит, ты кулачиха?
Глаше нравился напористый, смелый паренек. Но сколько же оскорблений можно вытерпеть? Она рассердилась и, когда Юрий, дернув ее за рукав, сказал: «Поедем! Некогда нам с этим грубияном пререкаться!» — Глаша отвернулась от Глебки и, не ответив, пошла к телеге.
Но симпатия оказалась сильнее обиды. Девочка повернула голову, улыбнулась и пообещала:
— Ладно! Не бойся! Мы скажем на станции про тебя!… Жди!
Глебка колебался недолго. Он понимал, что Глашино предложение самое разумное. На Узловой находился штаб продотрядов. Когда там узнают о случившемся, то обязательно пришлют паровоз или бойцов для охраны теплушек. Но опять оставаться одному!… Это было сверх сил. Холодные мурашки побежали у Глебки между лопаток. Бросился он за Юрием и Глашей, обогнал их и, широко расставив руки, крикнул:
— Стой! Не пущу!
Юрий не почувствовал, а Глаша уловила в этом крике нотки отчаянья и мольбы.
— Он еще приказывает! — с возмущением воскликнул Юрий. — Мне приказывать может только…
— Ленин может? — почти шепотом спросил Глебка.
Это было так неожиданно, что Юрий не закончил фразу и забыл закрыть рот.
— Говори! Может или нет? — тем же страстным шепотом произнес Глебка и придвинулся к Юрию вплотную.
— М-м-может…
— Читай! — Глебка бережно вынул мандат, сам развернул его и, не выпуская из своих рук, показал Юрию. — По этому документу мне каждый человек подчиняться должен: и ты, и она, и всякий, кого увижу!
Юрий не слушал. В первую очередь он посмотрел на подпись. Ему ли не знать ее! В прошлом году одна из типографий обратилась к отцу Юрия с просьбой воспроизвести подпись Ленина для праздничного плаката. Две недели работал отец над одной буквой, двумя словами и двумя скобками. Юрий на всю жизнь запомнил их:
Глядя на подпись, он улыбнулся буквам, как старым добрым знакомым.
— Подпись подлинная! — воскликнул он.
— А ты читай, читай! — торжествующе сказал Глебка. — И ты — тоже — добавил он Глаше.
— Не умею! — созналась та. — А карточку я уже посмотрела. Это твой отец?
— Ну и что! — недовольным голосом возразил Глебка. — Я тоже в Кремле был, когда Ленин мандат подписывал! Ясно?… Что отец, что я — никакой разницы!… Все должны оказывать мне полное содействие!
— Не тебе, а отряду! — уточнил Юрий. — Чем мы можем тебе помочь?
— Никуда вы от теплушек не уедете! Это раз! — начал перечислять Глебка свои требования. — А два — будем толкать теплушки!
Юрий посмотрел на Глашу. Он опасался, что сестра не согласится, и поторопился повлиять на нее.
— Ты знаешь, кто такой Ленин? — многозначительно спросил он Глашу.
— Еще бы!
— Нет, не знаешь! — возразил Юрий. — Мой папа сказал мне как-то: «Напишу портрет Владимира Ильича — и буду считать цель своей жизни достигнутой!» А папа мой слов на ветер не бросает! — и, помолчав, он торжественно добавил: — Идем по приказу Ильича толкать теплушки!
— Пошли! — деловито ответила Глаша.
Глебка не удивился. После того как мандат с подписью Ленина усмирил целую толпу мужиков, он поверил в чудесную силу документа. Мальчишка пожалел, что не догадался сразу показать мандат ребятам и потратил столько дорогого времени на пустые разговоры.
Все трое вернулись к теплушкам.
— Главное — стронуть их с места! — уверенно объяснял Глебка, раскручивая рукоятку тормоза. — А потом они покатятся, только держись!
Соскочив с площадки, он весело скомандовал:
— Взялись!
Ребята уперлись руками в железную раму вагона, а ногами — в шпалы. У Глебки от напряжения побелели пальцы.
— Рад-два, дружно! — натужно крикнул он.
Теплушки не шелохнулись.
Снова и снова ребята упирались в железную раму, налегали на нее и плечами, и грудью, но колеса будто примерзли к рельсам.
— Тю-у! — устало произнесла Глаша. — Скаженные!
— А почему у тебя искры из-под колес летели? — спросил Юрий, тщательно вытирая платком испачканные ржавчиной пальцы.
— Букса сгорела.
— Потому они и не идут! — определил Юрий профессорским тоном. — Смазать надо! Масло у тебя есть?
— Есть, — сказал Глебка и пошел к дверям теплушки, но остановился на полдороге и решительно замотал головой. — Не дам!… В Питере хлеба нет, а я масло под колеса пихать буду?
— Глупо! — произнес Юрий. — Политика страуса!
Мальчишки сердито уставились друг на друга и поругались бы опять. Но вмешалась Глаша.
— Я чичас! — сказала она и, сбежав с насыпи к телеге, вытащила откуда-то кринку. — Сметана! — крикнула Глаша. — Сойдет?… Жирная!
— Сметана и масло — продукты родственные! — изрек Юрий. — И хотя ее мне в дорогу дали, но…
Глебка повеселел.
— Не жалей! За пролетариатом не пропадет! — с подъемом воскликнул он и первый побежал к неисправной буксе.
Под крышкой в коробке виднелась спекшаяся масса из песка и пережженной смазки.
— Лей! — приказал Глебка.
— Куда лить-то, чудной! — сказала Глаша. — Вытечет без толку… Паклю или тряпку надо!
Все трое почему-то посмотрели по сторонам. Вокруг лежал чистый снег. Глебка пошарил по карманам, потом распахнул куртку и ухватился за полу.
— Оторву — и порядок!
Глаша с сомнением пощупала грубую — вроде парусины — материю куртки.
— Такая и не впитает ни капли!
— А вата хороша будет? — спросил Юрий.
— Где ее взять? — огрызнулся Глебка.
Юрий аккуратно расстегнул пальто и сказал ему:
— Дергай из-под подкладки.
Глебка медленно подошел к нему, улыбнулся и, приподымая полу добротного Юриного пальто, произнес:
— А ты, я смотрю, парень ничего!
— Благодарю за признание!
Юрий прищелкнул каблуками, а Глебка, мельком взглянув на Глашу, понял, что она не одобряет предложения брата. Девчонки всегда трясутся над тряпками!
— Не жалей! За пролетариатом…
Глебка не договорил и подкладку не разорвал. Вспомнил он про шапку, закинутую в кусты. Сметану вылили в шапку и засунули ее в коробку. Минут пять надрывались ребята у задней теплушки. Как только ни толкали они: и вместе, и врозь. Глебка с разбегу наскакивал на вагон. Попробовал он и такой способ: Юрий и Глаша упирались в теплушку руками, а Глебка ложился спиной на шпалы, ноги ставил на ребро колеса и толкал что было силы. А вагоны хоть бы дрогнули, хоть бы на миллиметр продвинулись вперед.
Юрий тяжело перевел дух и опустил руки.
— Не знаю, как вы, — сказал он, — а лично я, вероятно, не рожден быть лошадью.
Разъяренный Глебка выскочил из-под теплушки. Рушилась его последняя надежда.
— Из тебя и теленка не выйдет! — крикнул он Юрию.
— Ну уж, знаешь!… — Юрий развел руками.
— Толкай! — грозно перебил его Глебка.
И Юрий послушно положил руки на железную раму.
— А ты чего? — прикрикнул Глебка на Глашу. — Тоже скажешь — не лошадь?… Да я, если надо, в слона превращусь!… А вы…
Глаша улыбнулась. Разговор о лошадях надоумил ее.
— Не ругайся! Я чичас!
И она снова сбежала с насыпи вниз — к телеге.
Юрий покровительственно похлопал Глебку по плечу и философски заметил:
— Человек не должен превращаться в животное! Разум сильнее мускулов!
Глебке было не до философских обобщений. Он и не взглянул на Юрия. Счастливыми благодарными глазами следил Глебка за тем, как Глаша распрягает коня.
— Веревки готовь! — крикнула девочка. — Потолще!
Минут через двадцать лошадь стояла впереди вагонов, а скрученные в жгут веревки протянулись от хомута к буферам. Глебка суетился и хлопотал больше всех, но без Глаши ни он, ни Юрий не сумели бы запрячь коня.
Настал самый ответственный момент. Командование перешло к Глаше. Мальчишки встали по бокам теплушки, уперлись в стены.
— Готовы? — спросила Глаша.
— Ага! — ответил Глебка.
— Но-о! Милай! — крикнула Глаша и хлестнула лошадь хворостиной.
Веревки натянулись. Тугими узлами проступили мускулы на груди коня. Упруго изогнув шею, он сделал короткий шажок вперед. Глебка и Юрий напряглись до хруста в суставах. Пискнула букса, и мальчишки почувствовали, как шпалы, в которые они упирались, стали уплывать из-под ног.
— Ур-ра! — хрипло крикнул Глебка.
Вагоны тронулись.
— Объявляю вам благодарность! — в полном восторге кричал Глебка. — Зачисляю вас в отряд!
Большей награды он придумать не мог…
ПОГОНЯ
Знал батька Хмель силу ленинской подписи и хотел, кроме хлеба, заполучить и документ. Но теплушки умчались под уклон, а мандата ни у кого из убитых не нашли.
Верзила вспомнил, что в отряде был мальчишка.
— Мандат у щенка! — сказал он Хмелю. — А он не иначе в вагонах уехал, сукин сын!
— Тем лучше! — ответил батька Хмель. — И хлеб возьмем, и мандат мой будет.
Бандиты вернулись к лошадям, оставленным на проселочной дороге. Батька Хмель предполагал, что теплушки с неисправной буксой далеко не уйдут: они или остановятся, или свалятся под откос. Но проверить это было трудно. По полотну железной дороги верхом не поскачешь — ноги кони поломают, а проселочная дорога шла лесом в версте от насыпи. Бандиты решили доскакать до станции Загрудино и узнать, не докатились ли до нее теплушки.
И снова конная лавина обрушилась на станцию. Хмель приказал не задерживаться. Бандиты схватили первого попавшегося под руку человека, и тот рассказал, что теплушки промчались мимо станции.
— Дьявол им помогает, что ли! — выругался Хмель.
Банда вернулась на проселочную дорогу. Батька Хмель знал тут каждую тропу и направил коня к переезду, до которого было верст девять.
Пока бандиты скакали по единственной лесной дороге, станционные связисты нашли сваленные телеграфные столбы и установили временные шесты. На Узловой заработал молчавший всю ночь телеграфный аппарат. В первую очередь из Загрудино передали депешу о налете бандитов и об убийстве паровозной бригады. Телеграфист отстукал тревожную весть о перестрелке, которую слышал на станции, о каких-то вагонах, пронесшихся ночью мимо. Депеша заканчивалась предупреждением, что банда батьки Хмеля на рысях двинулась в сторону Узловой.
На станции Узловая старшим начальником был матрос Дубок. В его распоряжении находился взвод красноармейцев с двумя станковыми пулеметами и сотней гранат. Взвод считался главным резервом штаба продовольственных отрядов.
К Узловой подходило несколько железнодорожных исток и узкоколеек, по которым стекался на станцию реквизированный у кулаков хлеб. Дубок сам занимался формированием составов и отправкой хлебных эшелонов.
В то утро он стоял на путях с флажком и, путая непривычные железнодорожные команды с морскими, кричал то сцепщику, то машинисту маневрового паровоза:
— Задний ход!
Состав пятился к ожидавшим своей очереди вагонам.
— Держи конец!… Крепи!
Сцепщик прицеплял вагоны.
— Полный вперед!…
— Товарищ Дубо-ок! — донеслось от вокзала, и на путях показался телеграфист с ленточкой депеши.
Он подбежал растерянный и запыхавшийся.
— Загрудино сообщило!… Бандиты!… Хмель!
Дубок посмотрел на него и сказал с ледяным спокойствием:
— Отдышись, — тогда доложишь.
— Ведь на конях!… Время!…
— Дубок два раза одно и то ж не повторяет! — резко произнес матрос.
Телеграфист сумел взять себя в руки и членораздельно доложил:
— Депеша из Загрудино, товарищ Дубок! Банда батьки Хмеля на конях подалась в нашу сторону! Ночью была перестрелка…
— С прохоровским продотрядом?
— Неизвестно, товарищ Дубок!… И три вагона проследовали через Загрудино на Узловую! Шли своим ходом — под уклон…
Дубок одним прыжком очутился на подножке маневрового паровоза.
— Гони к вокзалу!
Машинист повел состав к платформе. Матрос спрыгнул у вокзала, и его раскатистый бас набатом прозвучал на станции:
— Взво-од!… К бою!
Через несколько минут на Узловой почти никого не осталось. Взвод красноармейцев и оказавшиеся в тот день на станции бойцы разных продотрядов вышли навстречу бандитам.
Дубок повел отряд в лес к реке, через которую был перекинут мостик. Здесь матрос и решил дать бой, зная, что других подходов к станции нет.
А батька Хмель во главе банды подскакал к переезду. Не надо было спешиваться, чтобы убедиться в том, что теплушки промчались дальше: колеса смели снег с рельсов. Заметили бандиты и следы проехавшей по переезду телеги.
— Вперед! — крикнул Хмель и пришпорил коня.
На этом участке проселочная дорога шла рядом с железнодорожным полотном. Видно было далеко. Справа — лес, слева — равнина, покрытая искристым снегом. И ничто не чернело ни на рельсах, ни на снегу под откосом.
Хмель рукой подозвал верзилу и, когда их кони поравнялись, спросил:
— Уклон до самой Узловой?
— Кто ж его знает! — ответил верзила. — А ты что, батька, по Узловой вдарить задумал?… Там ихний штаб! Не нарваться бы!
Хмель огрел лошадь плеткой и вырвался вперед. Распаленный погоней, он был готов на всё. Узловая его не пугала. Свои люди давно донесли ему, что там один взвод красноармейцев. В банде у Хмеля было вдвое больше. Имелось и еще одно преимущество — неожиданность. Те же люди говорили, что ночью взвод находится в полной боевой готовности, а днем отдыхает.
— Вперед! — снова крикнул Хмель.
Бандитская конница прибавила ходу.
Покинутая телега Глаши заставила банду остановиться. Сам батька Хмель решил поразмять ноги и спрыгнул с коня. Следы на снегу рассказали о многом. Бандиты поняли, что теплушки до этого места докатились сами, а дальше их потащила лошадь. Но больше всего Хмеля удивило, что, судя по следам, и в вагонах, и на телеге не было ни одного взрослого человека. Всю эту хитроумную проделку осуществили ребятишки.
Батька Хмель любил иногда делать театральные жесты.
— Дарую жизнь стервецам! — воскликнул он. — Взять живьем! Я из них боевых атаманов выращу!
— Их еще догнать надо, — робко заметил верзила.
Хмель лишь усмехнулся и крикнул:
— По ко-оням!
Бандиты не сомневались, что лошадь уже дотащила теплушки до станции. Поэтому было решено не задерживаясь скакать на Узловую. Впереди, слева от железной дороги, поле кончалось. Начинался заболоченный лес. Проселочная дорога круто отходила в сторону от полотна и вела к станции через речку по сухим лесным буграм.
Никто из ребят не догадывался, как близко от них прошла беда. В тот момент, когда банда круто повернула влево от насыпи, теплушки были в какой-нибудь версте от поворота. Они стояли, зажатые с двух сторон лесом. Взмыленная лошадь тяжело поводила темными от пота боками. Отдыхали и ребята. Они сидели в вагоне вокруг буржуйки и ели только что сваренную картошку. Обжигаясь и перекатывая во рту горячий кусок, Глебка восторженно говорил Юрию:
— Это мы только… фу-фу… сегодня на твоей еде шикуем! А завтра… фу-фу… поставлю тебя на довольствие по всем правилам! Мы с тобой — питерцы… фуфу… и жить будем на питерском пайке!
— Что ж, ему и своего нельзя будет добавить? — спросила Глаша.
— Нельзя!
— Оно же мое личное! — возмутился Юрий. — И картошка, и еще кое-что!
— У нас один тоже с этим личным возился! — строго сказал Глебка. — И подвел весь отряд!… Я кусочек сала у него попробовал — и сейчас тошнит! Как таракана проглотил!… Вот оно личное-то какое!
— Зачем же ты мою картошку ешь? — спросил Юрий.
Глебка поперхнулся, хотел выплюнуть картошку, но передумал.
— Ты еще не настоящий боец продотряда, и у тебя должна быть пока своя еда! — резонно ответил он. — А как поставлю на общее довольствие, — так все!
— Отберешь?
— Заберу в общий котел!… Или выброшу, как то сало!
Юрию не очень понравилось это, но возражать он не посмел, лишь вопросительно взглянул на Глашу: она опытная в таких делах, может, придумает что-нибудь.
Но Глаша не поддержала брата.
— Тебе все равно и картошку, и муку заместо денег дали, чтоб за поезд заплатить, — сказала она и обратилась к Глебке. — Только ты его до самого Питера довези! Ладно?
— Довезем! В сохранности будет! Так вместе с хлебом на вокзал и въедет! — ответил Глебка. — Я ведь за хлеб головой отвечаю!… Когда Ленин нас с батей в Кремль вызвал, мы пришли, стоим, значит, молча, как в строю — по команде смирно, — а Ильич слушает внимательно!
— Кого слушает? — спросил Юрий.
— Да нас!
— Вы же молчали!
Глебка метнул на Юрия негодующий взгляд, вытянул губы в снисходительной усмешке и сказал с сожалением:
— Безголовый!… Понимать надо!… Ленин ка-ак посмотрит — сразу видит, чем живешь ты и что думаешь! Можешь и не говорить! Только подумал — а он уже знает!… Тут батя и говорит: «Хлеб в Питер доставим, Владимир Ильич! Если я умру, — он доставит!» Это батя про меня сказал! А я…
Глебка запнулся, будто наскочил на невидимую преграду. Слова, которые сгоряча сказал отец машинисту, вырвались у Глебки случайно и обожгли его. Юрий и Глаша увидели, как его глаза наполнились слезами. Глебка отвернулся.
Глаша вскочила, хотела подойти к нему, но отдаленный гул заставил ребят вздрогнуть. Сначала были слышны отдельные взрывы, потом торопливо застучали пулеметы, загремели залпы.
Вскочил и Глебка. Лицо у него оживилось.
— Батя! — произнес он. — С боем пробивается!
Глаша отрицательно мотнула головой.
— Не там стреляют! — сказала она и прислушалась. — Где-то на проселке. У моста вроде… Недалеко от станции…
— Кто же это? — шепотом спросил Юрий. — Бандиты?
— Какая разница! — сердито воскликнул Глебка. Он уже понял, что отряд не мог оказаться там, откуда долетала перестрелка. Радость его померкла. — Поехали! — скомандовал он и, вытащив на случай маузер, выскочил из вагона.
А у моста сборный отряд матроса Дубка добивал попавшую в засаду банду Хмеля. Бой развернулся точно по намеченному плану. Передние всадники попадали еще до выстрелов. Поперек моста в нескольких местах была протянута тонкая проволока. Вороной жеребец Хмеля наскочил на нее и рухнул на бревна. Батька отлетел к перилам. На мосту образовалась пробка. Несколько гранат, брошенных из-за деревьев, довершили дело. Путь вперед был прегражден. В работу вступили пулеметы замаскированные у дороги. Конная лавина повернула назад и наткнулась на деревья, с треском рухнувшие с обеих сторон. Их заранее подпилили и свалили по команде Дубка. Бандиты оказались в ловушке.
— Сдавайтесь, гады! — прогремел матрос.
Но бой еще продолжался несколько минут, пока бандиты не убедились, что выхода нет.
Пленных перегнали на другую сторону реки. Батька Хмель выделялся среди них и фигурой, и папахой, и холеным надменным лицом.
Дубок подъехал к бандиту.
— В кого, гад, ночью палил?
Хмель будто не слышал вопроса. Дубок щелкнул предохранителем еще теплого маузера. Хмель скривил губы, сказал холодно:
— Не выстрелишь… до суда… Законы уважать надо!
— А ты, бандит, уважал их?
Хмель снова покривил губы.
— Я — птица вольная! Это на тебе закон верхом ездит! Не скинешь!
Дубка трудно было вывести из себя. Но такой наглости он еще не видывал. Сдавив ногами коня так, что тот всхрапнул испуганно, матрос сказал:
— Именем революции объявляю тебя вне закона!
Маузер приподнялся.
Хмель пригнулся, ухватил двумя руками стоящего впереди верзилу, приподнял его и, как щитом, прикрылся от Дубка. Верзила завизжал противным высоким голосом.
От него Дубок и узнал все, что произошло с отрядом Глеба Прохорова. Вымаливая себе жизнь, верзила не забыл рассказать и о мальчишке, который умчался с теплушками, прихватив с собой отцовский мандат.
Глебка и не подозревал, что на лесной дороге в двух верстах от вагонов говорят о нем. Вместе с Юрием он подталкивал теплушки и никак не мог решить, хорошо это или плохо, что перестрелка за лесом прекратилась. Особенно сбивал его с толку Юрий.
— А что если это действительно бандиты? — спрашивал он и смотрел на Глебку так, будто тот мог предотвратить любую опасность.
— А то кто же! — безжалостно ответил Глебка. — По своим не стреляют! Ты знай жми! Быстрей доедем!
— Куда? — трагическим голосом восклицал Юрий. — На станцию? А что если бандиты прорвались и захватили ее? Переждать бы!… Выяснится — тогда и поедем дальше!
— Я тебе пережду!
Глебка сердито косился на Юрия и еще сильнее толкал вагоны. Юрий жалобно вздыхал. Чтобы приободрить его, Глебка сказал:
— Не бойся! Перед станцией я выдумаю что-нибудь!
Но выдумал не Глебка, а Юрий. Шел он, упершись руками в заднюю площадку, а перед самыми глазами на досках виднелись буквы и цифры. Они-то и навели Юрия на одну мысль.
— Какая самая страшная болезнь? — неожиданно спросил он у Глебки.
— Холера! — буркнул Глебка. — Чума еще есть, тиф… А тебе зачем?
Юрий не ответил.
— Боль-ные чу-мой, — по слогам произнес он. — Не звучит! Холер-ные боль-ные… Лучше! Верно?
— Ты что, очумел? — спросил Глебка.
Юрий перестал толкать теплушки и опустил занемевшие руки. К нему вернулось обычное наигранное высокомерие.
— Ты потолкай, а я руки поберегу! — произнес он. — Им предстоит достойная работа!
Уже привыкший к тому, что Юрий подчиняется беспрекословно, Глебка был поражен и не мог найти слов, которые следовало бы обрушить на Юрия.
— Ты… ты… — начал было Глебка угрожающе.
— Да, я! — перебил его Юрий. — Интересуюсь: ты меня к награде представишь? Командир обязан поощрять своих бойцов!
Тут Глебка догадался, что Юрий разговаривает таким тоном неспроста.
— Ну? — заинтересованно спросил Глебка.
— Подайте мне кисть и краски! Я вам разрисую вагончики! Любой бандит за версту от них убежит, да еще и другим скажет, чтобы близко не подходили!
Глебка тоже отнял руки от вагона и остановился. Он понял.
Красок и кистей у Глебки не было. Зато он собственноручно выгреб из буржуйки все угли и подавал их Юрию, пока тот, стоя на буфере первого вагона, рисовал на передней стенке череп, скрещенные кости и выводил огромные зловещие буквы: «Холерные больные».
Все это делалось на ходу. Глаша, одобрительно поглядывая на брата, погоняла коня, и тот тянул и тянул теплушки один, без помощи мальчишек, точно понимал, что они заняты важным делом.
На станции Узловая было тихо. Все, кто там остался, с нетерпеньем поджидали возвращения отряда. Никто не сомневался в том, что банда будет разбита. Взрывы гранат, пулеметные очереди, залпы — все это говорило о том, что план Дубка удался и банде батьки Хмеля пришел конец.
Начальник Узловой поглядывал в окно на выходящую из леса проселочную дорогу. Телеграфист, которого поминутно запрашивали из соседних станций, то и дело выбегал на платформу посмотреть, не показались ли красноармейцы. И никто не заметил, как с востока на станцию въехали три теплушки.
Какой-то скрип заставил отдыхавшего машиниста выглянуть из окна маневрового паровоза. Вначале его поразила лошадь, запряженная в вагоны. Потом он увидел девчушку, сидевшую на буфере, и пугающую надпись над ее головой: «Холерные больные». Глазастый череп уставился прямо на машиниста и заставил его отступить внутрь паровозной будки.
А конь подтащил теплушки к вокзалу.
Из-за последнего вагона показался Глебка.
— Охраняй! — приказал он Юрию и, вытащив маузер, направился к двери с табличкой «Начальник станции».
Когда Глебка вошел в комнату, начальник с трудом оторвал округлившиеся глаза от окна, перед которым остановились украшенные черепами теплушки, и завопил старческим фальцетом, выставив вперед руки:
— Стой!… Стой, говорю, холера чертова!
Глебка не останавливаясь шагал к столу, поигрывая маузером.
— Стой! — снова заорал начальник. — Куда на людей прешь — заразишь!
— Посторонних нет? — спросил Глебка.
— Уйди ты, уйди! — взмолился начальник. — Дай сообразить, что с тобой делать! Ты же смерть ходячая!
— Не бойтесь! — ответил Глебка. — Никакой холеры нету! Это маскировка!… Читайте мандат — и ведите на телеграф! Буду батю разыскивать!
Глебка положил мандат на стол. Начальник отпрянул от бумажки и, спрятав руки за спину, стал издали читать текст.
В эту минуту в комнату вошел Дубок. Опередив пленных и караул, он прискакал на станцию, чтобы начать поиски теплушек комиссара Прохорова. Холера Дубка не испугала. Два-три вопроса Юрию и Глаше — и матрос понял все. Входя в комнату, он уже все знал.
Глебка перевел маузер с начальника станции на Дубка и удивленно захлопал глазами, узнав в нем питерского матроса.
— Опусти оружие! — сказал Дубок. — У тебя мандат посильнее пулемета! Твой теперь он — мандат… По наследству от отца полученный!
— Какое… наследство? — растерянно спросил Глебка, и лицо его болезненно исказилось от мысли, которую он так долго отгонял от себя.
— У пролетариев одно наследство! — произнес Дубок. — Задание партии. Отец не успел выполнить — сын обязан доделать!
Дубок не умел смягчать удары. Он считал, что лучше разом выложить все самое ужасное, чем постепенно травить человека небольшими дозами страшной правды.
— А Василь? — побледнев, спросил Глебка.
Дубок сдернул с головы бескозырку.
— Почтим память отряда!
Помедлив секунду, снял фуражку начальник станции. Стянул с головы свою шапку и Глебка. И это суровое прощание с отцом и бойцами задержало накопившиеся слезы. Но когда Дубок надел бескозырку, Глебка не выдержал. Коротко простонав, он бросился вон из комнаты и, пробежав мимо Глаши и Юрия, скрылся в теплушке.
Матрос вышел за ним следом, подозвал ребятишек сказал им:
— Не мешайте… Большое горе у парня… Пусть побудет сам с собой. Ты пока холеру сотри! — приказал он Юрию, а у Глаши спросил: — А тебе домой пора?
— Пора… A y него отца убили?
— Да! — ответил Дубок и добавил: — Собирайся, чтоб засветло успеть.
Глебка плакал, уткнувшись в мешки, пока кто-то большой не заслонил свет в дверях.
— Глеб Глебыч! — послышался голос Дубка. — Я тут документы заготовил на прием хлеба…
Глебка приподнял голову и ответил не оборачиваясь:
— А я… мешки… считаю…
— Добро! — произнес матрос. — Сосчитаешь — приходи! Оформим!…
Глебка услышал удаляющиеся шаги. Потом в теплушку залезли Юрий и Глаша.
— А ты… мои мешки сосчитал? — спросил Юрий. — Они теперь общие! И знаешь, что еще… Давай так!… Приедем в Петроград — и сразу ко мне, домой! Квартира у нас большая. Папа и мама у меня добрые! И будем жить братьями!
Глебка опять уткнулся в мешки. Плечи у него затряслись.
— Не плачь! — воскликнул Юрий. — Что же ты плачешь?
— Что-что! — передразнила его Глаша. — Помолчал бы!… Тут еще как заплачешь!… У нас летом двух мужиков убили…
— Моего отца не убили! — глухо перебил ее Глебка. — Он… погиб!
РАПОРТ
Успокоительно и однообразно стучали колеса. Поезд уверенно шел на запад. На теплушках виднелись надписи: «Хлеб — красному Питеру!» На почетном месте у самого паровоза мчались три Глебкиных вагона.
Юрий, Глебка и Дубок ехали в средней теплушке. Потрескивали дрова в буржуйке. На ящике с весами горела свеча. Глебка с карандашом в руке склонился над листком бумаги.
— А как назвать-то? — спросил он у Дубка.
— Так и назови — рапорт! — ответил матрос.
— А дальше?
— Дальше излагай все как есть, со всеми подробностями. Про бой напиши… Как один ехал в теплушках…
— Про Глашу не забудь! — вставил Юрий. — Если бы не ее лошадь!…
— Правильно! — поддержал его Дубок. — Ленину все интересно знать! Про холеру!… Он любит смекалку!… Про разгром банды… Как отца с бойцами хоронили… Ну, и напиши, что, мол, один не останусь! Дубок — матрос, — скажи, в сыновья берет! Юрий — сын художника — к себе в братовья зовет! Так что, мол, не пропаду! Сирот у нас, у советских людей, не бывает! К кому захочу — к тому и пойду!… Давай шпарь!
Глебка долго мусолил карандаш, а написал всего несколько слов и подал лист матросу.
— Так? Прочитай!
Дубок взял письмо, неодобрительно погладил пальцами подбородок, нахмурился. На листе было всего три строки:
«Дорогой Владимир Ильич!
Задание твое выполнено. Хлеб в Питер будет доставлен.
Глеб Прохоров-младший».
Матрос подумал. Нахмуренные брови разошлись. Сложив лист треугольником, он произнес:
— Добро!… Главное написал! Дельно!… Будем проезжать Москву, — пошлем твой рапорт в Кремль!
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ЗЕЛЕНАЯ УЛИЦА
За Москвой эшелону дали зеленую улицу. Станции встречали его открытыми семафорами. Грузовой состав, сформированный из старых, давно некрашеных, пробитых пулями вагонов, проносился мимо пассажирских поездов, которые разошлись по запасным путям, освободив дорогу для хлебного эшелона.
В Бологое к водокачке заранее подтащили несколько саней с толстыми березовыми плахами. Пока разгоряченный паровоз жадно глотал воду, дрова погрузили в тендер. И снова замелькали зеленые огни и открытые семафоры.
Питер ждал хлеба…
Ребята проснулись, когда уже светало. Дубок стоял у двери теплушки и смотрел в узкую щель на пригородные строения.
— Считай, что приехали домой! — сказал он, поворачиваясь к мальчишкам.
Юрий сонно и радостно улыбнулся, а Глебка нахмурился. Слово «домой» прозвучало для него невесело. Его не тянуло в пустую квартиру, в которую никогда больше не придет ни отец, ни мать. Из знакомых ему хотелось повидать только детишек Архипа, но эта встреча их не, обрадует. Она только еще раз напомнит им о гибели отца. И все-таки к ним нужно сходить! «Пойду с хлебом!» — подумал Глебка. Он надеялся, что в Питере продотрядовцам выдадут хотя бы по полпуда муки, и решил отнести свою долю семье Архипа.
Дубок пошире раздвинул дверь, и холодный ветер ворвался в теплушку. Вскоре показались деревянные, дома Невской заставы. Эшелон свернул вправо и, сойдя с основной колеи, сбавил ход.
— Прямо к мельнице, — сказал Дубок и добавил: — Правильно!
— А как же вокзал? — спросил Юрий.
— Некогда привокзаливаться! — резко ответил матрос. — Может, сегодня весь питерский хлеб в нашем эшелоне умещается…
Паровоз затормозил у снежной подтаявшей подушки тупика. Рядом стоял пожилой рабочий в потрескавшейся кожаной фуражке.
За тупиком была Нева, справа — мельница.
Вместе с Дубком мальчишки соскочили на мокрый снег. Продотрядовцы разбежались вдоль вагонов: заняли, как всегда, свои посты.
Рабочий в кожаной фуражке махнул рукой, и мельничная труба, окутавшись паром, проревела сипло и торжественно, приветствуя хлебный эшелон.
Дубок поправил бескозырку и четким шагом подошел к рабочему, а тот, не выслушав рапорт, попросту обнял матроса.
Это был представитель Петрокоммуны.
— Спасибо! — тепло сказал он Дубку и, посмотрев на продотрядовцев, дежуривших у вагонов, попросил: — Позови их сюда… У нас хоть и голодно, но спокойно.
Дубок скомандовал, и отряд выстроился у паровоза. Глебка и Юрий заняли место на левом фланге.
Рабочий дошел до середины строя, оглянулся на мельницу и тихо, будто делился с друзьями своим несчастьем, произнес:
— Час назад засыпали последние пуды… На складах пусто… Спасибо, товарищи!
От мельницы доносился приглушенный гул машин. И все прислушались к негромкому шуму вальцов, пережевывавших остатки зерна.
Осторожно пофыркивал паровоз.
— Что еще сказать? — продолжал рабочий. — Вроде, больше нечего…
Он помолчал и спросил:
— Просьбы есть к Петрокоммуне?… Мы небогаты, но продотрядовцам всегда поможем.
Рабочий оглядел молчаливый ряд бойцов и подошел к стоявшим слева мальчишкам. Глебка приоткрыл рот и, не решаясь высказать свое желание, скосил глаза на теплушки.
— Всегда поможем, — повторил рабочий и закончил другим, потяжелевшим голосом: — Но не этим!
— Да я не себе! — смутился Глебка. — Архиповым ребятам! Их же девять штук!
— Знаю! — отрубил рабочий. — О семьях погибших продотрядовцев Петрокоммуна уже позаботилась.
Он снова вернулся к середине шеренги.
— Просьб, выходит, нету?… А у меня есть… — Голос у рабочего опять подобрел, и он сказал по-домашнему, как своим сыновьям: — Выгрузим хлеб, ребята.
Когда началась разгрузка, Дубок подозвал мальчишек, для которых мешки были слишком тяжелые.
— Последний раз спрашиваю: не передумали?
— Нет! — ответил Юрий.
— Нет! — подтвердил Глебка.
— Мать с отцом ругаться не будут?
— Что вы! — воскликнул Юрий. — Они у меня сознательные!
— А ты, Глебка, сумеешь стать родным в новой семье?
— Сумеет! — за Глебку ответил Юрий и обнял друга за плечи.
— Ладно! — отрубил Дубок. — Но запомните! Братья — это не шутка! Это — когда своим бортом торпеду перехватываешь, если она в брата пущена! Такими и будьте!
Потом Дубок скомандовал:
— Собраться по-походному!… Маузер сдать!…
И через несколько минут, распрощавшись с Дубком и продотрядовцами, мальчишки вышли на берег Невы.
Город вокруг — молчаливый, суровый. Длинный Шлиссельбургский тракт в этой части всегда был малолюден, и сейчас, куда ни посмотришь — никого, ни единого человека. Узкая тропа, протоптанная между осевших сугробов, вела мимо кладбища. Чуть дальше, за речкой Монастыркой, тракт с двух сторон обступали кирпичные лабазы пустого Калашниковского складам Ребята шли как по дну красного ущелья, заваленного грязным апрельским снегом.
Юрий ничего не замечал вокруг. Бодро размахивая руками, он быстро шел впереди Глебки. Заплечный мешок с остатками деревенского продовольствия весело елозил по спине. Юрий торопился домой.
Глебка шагал сзади и со страхом думал о той минуте, когда он переступит порог чужого дома. Как это произойдет? Что скажут родители Юрия, узнав, что какой-то незнакомый мальчишка пришел с сыном и пришел не на часок, не в гости, а навсегда?…
Глебка волновался бы меньше, если бы его вели в простую рабочую семью, в какой-нибудь захудалый домишко на окраине города, а не на Невский проспект, в квартиру из трех комнат. И отец у Юрия не столяр, не слесарь, а художник. Живых художников Глебка еще не видел ни разу и особого доверия к ним не чувствовал. Рисовать — это, конечно, хорошо, а как у художников насчет Советской власти?…
«Сдурил, наверно! — тоскливо подумал Глебка, глядя на мешок Юрия. — Жил бы с Дубком, и никаких художников!»
Матрос с грубоватой нежностью относился к осиротевшему мальчишке и был бы рад усыновить его. Глебка понимал это, но его пугало одиночество. Дубок не скрывал, что жизнь у него, как он говорил, беспричальная. Выполнил одно задание — получай другое. Вернулся с хлебом — поезжай за углем. И хлеб, и топливо часто добывались с боем. И Дубок предупредил Глебку что брать его с собой не будет. Вот этого и побоялся Глебка. Опять оставаться одному! Нет, лучше с Юрием!…
Только бы поскорее дойти до его дома, чтобы кончилась мучительная неизвестность. Верил Глебка, что все решится в первые же минуты. Один взгляд, одно слово — и все будет ясно: либо он останется в новой семье, либо побежит обратно, к Дубку, пока тот еще на мельнице.
— Скоро? — спросил Глебка.
— Скоро! Скоро! — ответил Юрий и пошел еще быстрее. — Сейчас выйдем к Лавре и свернем на Невский. Мы как раз к завтраку явимся! Но мама нас за стол не пустит, пока мы не вымоемся с ног до головы.
— А кто она?
— Мама?
— Ну да!
Юрий удивился.
— Я разве не говорил?… Мама у меня — искусствовед! Она еще до революции печаталась в толстых журналах. У нее целый альбом вырезок.
Глебка замолчал. Разговор про Юрину маму, которая печаталась до революции, насторожил его. Про кого до революции писали в газетах и журналах? Известно, про кого: про царя, про помещиков и капиталистов! Про них она, что ли, писала? И что это вобще такое — искусствовед?
Все это показалось Глебке подозрительным, враждебным, но он продолжал идти за Юрием, хотя теперь был уверен, что вернется к Дубку. Придет, посмотрит на Юриных родителей, скажет пару крепких слов и — до свиданья! Мне с вами не по дороге!
— Смотри! Наши окна! — воскликнул Юрий. — На втором этаже!
Он схватил Глебку за руку и потащил за собой.
Лестница была широкая, некрутая. Дверь высокая, крепкая. А слева ярко поблескивала медная ручка звонка. Настоящая буржуйская ручка, как определил насупившийся Глебка.
— Прихорошись! — сказал Юрий и поправил шапку на Глебкиной голове, одернул куртку. — Мама аккуратность любит.
Потом он широко, счастливо улыбнулся и потянул за медную ручку звонка.
Секунды тянулись бесконечно долго. Особенно для Глебки.
— Дергай еще! — хрипло сказал он.
— У нас так не делают. Это невежливо, — возразил Юрий, влюбленно и выжидательно глядя на дверь.
Наконец щелкнул замок, и она открылась.
Глебка увидел молодую женщину в кофточке с закатанными по локоть рукавами, в переднике, забрызганном мыльной пеной. Распаренной от стирки рукой она смахнула со лба прядь волос и равнодушно смотрела на мальчишек.
— Чего вам? Что стоите, как каменные?
Из квартиры донесся визгливый плач ребенка. Сзади показалась вторая женщина — постарше и повыше, с тонкой морщинистой шеей.
— Кто там еще? — спросила она недовольно.
— Немые какие-то! — ответила первая женщина.
Юрий и в самом деле был похож на немого. Улыбка еще не успела сойти с его губ, но она стала вымученной, неживой, как на плохой маске. В глазах проступила боль и тревога.
— А где же, — дрожащим голосом спросил он, — папа и мама?
— Ты спутал что-то, — сказала женщина. — На другую лестницу забежал.
— Как же на другую? — чуть не плача, произнес Юрий. — Вы, вероятно, шутите? Вот же наша вешалка!
Он рукой показал на развесистые оленьи рога на стене в прихожей.
Женщины переглянулись. Та, которая постарше, решительно взяла молодую за плечо, отодвинула ее в прихожую и вышла к мальчишкам, прикрыв за собой дверь. С опаской посмотрела она вверх на лестницу, вниз и спросила шепотом у Юрия, кивнув на Глебку:
— А это кто с тобой?
— Это… б-брат.
Женщина долго рассматривала мальчишек, покачивала головой, вздыхала, будто раздумывала, как поступить с ними. А они стояли оглушенные, ничего не понимающие. Оба чувствовали: произошла какая-то беда, и оба боялись спросить, что же случилось.
— Господи! — прошептала женщина. — Дети-то не виноваты!
Видно было, что она спорит сама с собой, борется с каким-то своим первоначальным решением.
— Идите с богом! — тихо сказала она. — И никого ни о чем не спрашивайте. Берегитесь!… Забрали ваших родителей… Ночью, говорят… И вещи потом вывезли. Все, только рога на стене забыли.
— Кто забрал? — вырвалось у Юрия. — Куда?
— Кто? — переспросила женщина. — Кому положено… А куда? — она из четырех скрещенных пальцев сделала решетку. — За что и про что — не знаю. Я здесь тогда не жила… Идите с богом!
Она отступила на цыпочках, быстро скрылась за дверью и заперла ее на замок.
Глебка засунул руки в карманы, прищурился, веско сказал:
— Все правильно!
— Что? — не понял Юрий.
— Правильно, говорю! — повторил Глебка и жестко добавил: — Замели контру — и точка!… Я так и знал!
Не оглядываясь, Глебка пошел вниз и, спустившись на один пролет, снова процедил сквозь зубы, точно плюнул:
— Контра!
— Ты сам контра! — отчаянно крикнул Юрий и, сжав кулаки, бросился за ним.
В эту секунду он мог бы ударить Глебку. Но когда он догнал его в самом низу, ярость прошла. Остались обида и чувство непоправимого, непонятно откуда свалившегося несчастья.
— А еще хотел быть моим братом! — произнес он с болью.
— Хотел, а теперь не хочу! — отрезал Глебка.
— Я — тоже! — ответил Юрий и, уткнувшись в полированные перила, зарыдал.
Глебка вышел на улицу и решительно зашагал к мельнице. «Контра! — повторял он про себя. — Проклятая контра!» И вспомнился ему ночной бой на железной дороге, злой посвист пуль. Он опять увидел Митрича, безжизненно уткнувшегося лицом в шпалу, услышал голос отца и его последние приказы. Вспомнил Васю — развеселого гармониста, Архипа — ласкового и доброго… Нет больше никого! И все из-за контры!…
«Я с ним ел и пил из одной кружки! — думал Глебка про Юрия. — А у него отец, может, такой же, как батька Хмель, если не хуже! Недаром же его забрали вместе с женой и вещами!…»
УРОК
Ни эшелона, ни Дубка на мельнице уже не было. Но Глебка знал, где его можно найти. «Если что — приходи в Смольный, — не раз говорил ему матрос. — Спросишь у коменданта».
Вахтер из мельничной охраны объяснил Глебке, как добраться до Смольного.
— Трамвай то ли будет, то ли нет, — сказал он, — а по Неве тропа сама тебя к Смольному выведет.
И Глебка спустился с обрывистого берега на невский уже ноздреватый лед. Он приготовился к длинной и трудной дороге. Но тропа была ровная, хорошо утоптанная. Впереди сразу же показался знакомый Охтинский мост. Не прошло и получаса, а Глебка уже поднимался по широкой лестнице Смольного.
Все произошло почти так, как говорил Дубок. Дежурный остановил Глебку, узнал, к кому он идет, потом позвонил куда-то и сказал:
— Товарищ Дубок еще не приходил.
Заметив, что мальчишка огорчился, он добавил:
— Но в Петроград Дубок вернулся. Сегодня утром.
— Знаю… Подождать можно? — спросил Глебка.
— Только не на проходе.
Сошел Глебка вниз и решил ждать хоть до ночи. Все бы ничего, но хотелось есть. Так хотелось, что кружилась голова. Присел Глебка на ступеньку и постарался не думать о еде. Все равно ничего не придумаешь. В Питере без карточки не достать и горелой хлебной корки. Это он знал твердо.
Мимо по лестнице вверх и вниз сновали люди. От этого бесконечного потока рябило в глазах. Сидеть было неудобно и холодно. Глебка встал, попрыгал, постучал рука об руку, потер щеки и увидел Дубка. Матрос тоже заметил его. Глебка обрадовался, будто не утром расстался с ним, а год или два назад. И у Дубка лицо подобрело, глаза засветились, но тут же потухли.
— Не приняли? — спросил он, хмурясь.
— Контры они! Забрали их! — выпалил Глебка. — И вещи все конфисковали. В квартире уже другие живут.
Дубок помрачнел еще больше.
— А мы-то, дураки, возились с ним! — продолжал Глебка.
— С кем?
— Да с этим, с сынком контриным!
— А где он?
— Остался там — слезки льет!… Заберут и его! — торопливо, со злостью говорил Глебка. — Я-то видел: женщина хотела сообщить про него куда надо, да пожалела, наверно. И я тоже не стал с ним связываться.
— Хорош брат! — сдерживая ярость, выговорил Дубок. — Когда есть такой брат, врагов больше не надо!
— Вот и я так думаю! — подхватил Глебка. — Я так ему и…
У Дубка брезгливо дрогнули губы.
— Не про него! Про тебя говорю!
Матрос схватил Глебку за воротник и встряхнул, как котенка.
— Человек ты или кто? Не разберусь!… Шкура? Злыдень? Олух?… Да если и забрали их — так это я беда Юркина! А ты что делаешь? Злорадствуешь?
Дубок еще раз встряхнул Глебку, отпихнул от себя и крупно зашагал по лестнице. Уже от дверей, чуть повернув голову, он крикнул:
— Жди здесь!
Сначала Глебка не понял, чем вызвал такую ярость. Он даже обозлился и пошел к Охтинскому мосту, чтобы; больше никогда не встречаться с Дубком. Квартира есть, соседи хорошие — можно прожить и без матроса! Жалостливый какой! Защитник! Контру обидели! А отца пожалел кто-нибудь? А Ваську, Архипа, Митрича пожалели?
Глебка сейчас не видел разницы между бандитами батьки Хмеля и арестованными родителями Юрия. Они хоть и не стреляли в продотрядовцев, но недаром их посадили в тюрьму. Значит, они — из тех же врагов, которые готовы уничтожить любого, кто за Советскую власть. И с Юрием, с сыном контриков, Глебка дружить не может!
И тут Глебка словно споткнулся. Он остановился около моста, вспомнил последний разговор с отцом. Разговор был короткий, а забылся он потому, что произошел перед самым боем, после того, как Архип показал кусок сала. Глебку тогда поразило, что Архип поверил кулаку и принял подарок. Отцу Глебка сказал: «Никому верить не буду!» А что ответил отец? «Без веры в людей не проживешь! — убежденно сказал он. — Лучше один раз на контре обжечься, чем держать всех людей на подозрении!»
Архип поверил, и продотряд погиб. Но Глебка знал, что отец никогда не менял своих убеждений. И если бы он мог, то и сейчас, после всего случившегося, он сказал бы то же самое.
Вернулся Глебка к Смольному, а Дубок уже стоял на лестнице.
— Думал, ты еще и дезертир! — произнес он. — Идем!
Дежурному он сказал, никак не называя Глебку:
— Этот… со мной.
Они молча прошли в столовую. Дубок кивнул на свободное место у окна и через несколько минут принес тарелку супа и кусок хлеба. Глебка ел, а матрос смотрел в окно. Ждать ему долго не пришлось. Тарелка мигом опустела. Тогда он положил перед Глебкой два листка с напечатанными на них талонами.
— Это на хлеб и на обеды в любой столовой Петрокоммуны… Иди! Без Юрия на глаза мне не попадайся. И знай: Дубок два раза одно и то ж не повторяет!
Глебка встал.
— Сядь! — приказал матрос. — Я проверил… Никто родителей Юрия не арестовывал. Ясно?… Их срочно направили в командировку по пригородным дворцам налаживать музеи. Петросовет дал им новую квартиру — около Эрмитажа. Ясно?… А с теми, кто слух распустил, я еще потолкую в свободное время!… Иди! Глаза мои на тебя не смотрят!
КАРЛИК
Юрий перестал плакать, когда наверху на лестнице громко хлопнули дверью. Непонятный панический страх охватил его. Этот страх был сильнее горя и обиды. Слыша чьи-то тяжелые приближающиеся шаги, Юрий потихоньку открыл лестничную дверь и, как воришка, выскользнул из родного дома.
Долго бродил он по знакомым улицам, не чувствуя ни голода, ни усталости. Вспоминал слухи о притеснениях интеллигенции. Про один случай Юрий знал сам. Это был не слух, а факт. Два года назад арестовали папиного знакомого — тоже художника. Увезли всю семью — четырех человек. Папа говорил, что взяли их за дело. Мама сомневалась, жалела детей, которых забрали вместе с родителями. Одного не знали ни Юрий, ни его родители: детей не арестовали, а направили в интернат. Отца с матерью осудили за то, что на их квартире эсеры устроили склад оружия.
Юрий был уверен, что его родители ничего плохого не сделали. Их могли арестовать только по недоразумению. И если бы Глебка не бросил друга, все бы выяснилось. Юрий постарался бы узнать, что произошло. Он обошел бы всех соседей, разыскал бы знакомых художников. В конце концов, они вдвоем могли бы вернуться к Дубку.
Но Глебка ушел. А для Юрия он был не только братом, но и командиром. У него хранился мандат, подписанный самим Лениным. И уже от одного этого Глебка казался Юрию представителем Советской власти. И эта власть в лице Глебки оттолкнула его с презрением! Чего же можно ждать от других людей?
Так думал Юрий. Чтобы не думать по-другому, нужны сила, воля, уверенность. Их у него не было. Слишком неожиданно обрушилось несчастье. Непомерно тяжелое, оно придавило и обессилило его.
Во второй половине дня он очутился на Лиговке. Впереди виднелся Московский вокзал. Юрий посмотрел на башню с часами и окончательно решил, что в Петрограде не останется. Уедет обратно в деревню к Глаше и там будет ждать. Ведь когда-нибудь выпустят папу и маму.
Вспомнив небольшую избенку, стоявшую на деревенской окраине у самого леса, Юрий почувствовал облегченье. Там его примут как родного. В этом он не сомневался. Есть у него место, где можно спрятаться от всех невзгод. Есть люди, которые поймут его и приласкают.
Резкий тревожный свисток заставил Юрия вздрогнуть. Он втянул голову в плечи и, похолодев, оглянулся, ожидая увидеть протянутую к нему руку, которая схватит его за плечо и потащит в тюрьму.
Но сзади никого не было. Свистели во дворе дома, примыкавшего к вокзалу. Из ворот выскочили пять или шесть мальчишек-оборвышей. Не добежав до Юрия, они опрометью бросились в другой двор и притаились где-то за воротами.
Минутой позже на Лиговку выбежали трое в шинелях, без оружия. Поблизости никого не было. Один Юрий стоял на тротуаре, жалкий, растерянный.
Трое в шинелях приближались. Поскрипывал снег под их сапогами. По спине Юрия пробежал холодный озноб. Ему хотелось убежать, но примерзли ноги к тротуару.
— Куда они скрылись? — спросил у него один из мужчин.
И Юрий соврал — показал на другую сторону улицы. Сделал он это без всякого желания выручить беспризорников. Он не думал о них и махнул рукой только для того, чтобы эти люди в шинелях поскорее и подальше ушли от него.
— Понятно! — сказал второй мужчина. — Там проходной двор. Попробуем перехватить у Кузнечного рынка. Больше им податься некуда. — И они торопливо пошли по переулку, который вел к рынку.
— Эй! Хлястик! Подь сюда! — услышал Юрий мальчишеский голос и только сейчас вспомнил о беспризорниках.
Из-за кирпичного ребра арки выглядывала улыбающаяся, ничуть не испуганная физиономия.
— Подь сюда! — повторил мальчишка дружелюбно.
И Юрий пошел, потому что сейчас ему было дорого даже это маленькое внимание и та доброжелательность, которую он приметил в голосе и в глазах беспризорника.
Под аркой в сырой полутьме его приняли по-свойски.
— Ай да Хлястик! Ловко ты наши следы замел! — сказал один из мальчишек и хлопнул Юрия по плечу.
— Хлястик — штык! — похвалил другой и толкнул Юрия в бок.
Все мальчишки по очереди высказали Юрию свое одобрение и все почему-то называли его Хлястиком. Он читал про беспризорников и понял, что ему дали кличку. Но это ничуть не обидело.
Под аркой сквозило, как в трубе. Тут было холоднее, чем на улице, а Юрию вдруг стало тепло, и он с доверчивым любопытством спросил:
— А почему — Хлястик!
— Что у тебя сзади на пальтухе? — в свою очередь задал вопрос мальчишка, который был на целую голову выше других.
Он повернул Юрия к себе спиной и дернул за широкий хлястик.
— Ты — Хлястик, а я — Пат! — представился он не без гордости. — Чего тут бродишь? Потерял кого?
— Потерял, — признался Юрий без всякого колебания.
— Батьку? Матку?
— Обоих, — сказал Юрий и с удивлением отметил что его не оскорбили грубые слова беспризорника.
— Ты не того — не сохни! — подбодрил его Пат. — Валяй к нам — у нас местов свободных много и оклад приличный. Одет ты только не по форме, но ничего. Пооботрешься! Хлястик быстро отвалится. И мешок — он ни к чему. Выбросить надо!
— Как выбросить? — возразил Юрий. — У меня там мука и картофель!
— Что-о-о? — с каким-то священным ужасом произнес Пат. — Что за музыка? Или я оглох?… Сыграй еще разок!
Все насторожились. Юрий оглядел бледные лица мальчишек. Их глаза жадно шарили по его мешку.
— Я тоже захотел есть, — сказал он. — Сварить бы где-нибудь…
Забыв об осторожности, беспризорники возбужденно зашумели. Кто-то дернул Юрия за ноги. Пат взялся за хлястик. Другие подхватили под руки. И не успел Юрий испугаться, как его оторвали от земли, донесли до выхода из-под арки и снова опустили на ноги посреди грязного мрачного двора.
Пат спросил:
— Через забор лазать умеешь?
— Смогу, если не очень высоко.
— Тогда не отставай! Держись за мной.
Мальчишки долго пробирались глухими закоулками, перелезали через заборы и каменные стены, шли по какому-то глубокому рву. И ни разу Юрий не подумал об опасности. Он никогда не отличался смелостью, но сегодня с ним что-то произошло. Он не боялся, что беспризорники набросятся на него, изобьют, снимут пальто и отберут мешок. Даже мысль об этом не приходила в голову.
Метрах в сорока от железной дороги на пустыре стояла кирпичная будка с металлической дверью. Здесь уже несколько месяцев жили беспризорники со своим вожаком Патом. В этой будке когда-то продавали керосин. Сюда и привели Юрия.
Внутри все еще попахивало керосином, но было довольно уютно. В углу стояла буржуйка с трубой, выведенной наружу через железную крышу. Вместо стульев — кипы старых газет, связанных бечевкой. Вдоль стены на полу — толстый слой тех же газет. Юрий догадался, что это общая кровать беспризорников.
Он осматривал будку, а мальчишки молча и деловито выполняли распоряжения Пата. Ни о чем, кроме еды, они не могли сейчас ни говорить, ни думать.
— Кастрюли! Снегу! Дров! — командовал Пат.
Сам он вытащил из-под буржуйки небольшое сухое полено и перочинным ножом экономно отщипнул несколько лучинок.
Мальчишка, которого все звали Хмыкой, притащил в будку битые кирпичи и стал их загружать в буржуйку.
— Зачем кирпичи? — удивился Юрий.
— Это наши дрова! — пояснил Пат. — Тут все керосином пропитано. И земля, и кирпичи. Горят, как порох! А настоящих дров в Питере нету. Что хлеб, что дрова — в одной цене!… Доставай картошку! И муки бы хоть ложек десять! А?
— Мне не жалко, — сказал Юрий, снимая с плеч мешок. — Берите хоть всю. Только что вы из нее приготовите? Блины жарить не на чем. Без масла они просто подгорят и невкусные будут.
Беспризорники захохотали. Иметь муку и не знать, что из нее можно сделать! Смешнее ничего не придумаешь!
— Блины у него подгорят!
— А баланды не хочешь?
— Это суп такой? — спросил Юрий. — Жидкий, постный…
И опять все рассмеялись.
— Ты еще, видать, Хлястик, лапу не сосал! — сказал Пат. — Из деревни, что ли?
— Вообще я живу в Петрограде, а в деревне был временно. И мука оттуда, и картошка… Берите!
Он развязал мешок и поднял его за углы. Картошка весело поскакала по полу. Мягко шлепнулся на газеты белый мешочек с мукой. Мальчишки бросились собирать раскатившиеся картофелины.
— Добряк! — похвалил его Пат и вытащил из кармана спички.
Сначала разгорелась лучина. От кирпичей пошел керосиновый парок. Когда они разогрелись, по ним побежали язычки пламени. Пат скомкал и бросил в буржуйку несколько газет. Вскоре яркое коптящее пламя заметалось в топке. Буржуйка накалилась. Снег в двух кастрюлях, поставленных на печку, стал оседать.
Пока варилась картошка и готовилась баланда, похожая на жидкий клей для обоев, Юрий познакомился со всеми мальчишками. Они охотно рассказывали обо всем, кроме прошлого. Вспоминать о родителях, о жизни до того дня, когда каждый из них оказался на улице и стал беспризорником, было у них не принято. Это правило распространялось и на Юрия. Его никто не спросил, как он потерял отца и мать, почему не идет к родственникам или знакомым. Зато ему задавали какие-то нелепые в этой обстановке вопросы.
— Слышишь хорошо? — спросил у него Пат.
— На слух не жалуюсь, — как у врача, ответил Юрий.
— А память у тебя есть?
— Половину «Онегина» наизусть знаю.
— Кого?
— «Евгения Онегина», — повторил Юрий. — Это роман в стихах Пушкина.
— Хм! — насмешливо произнес Хмыка и рукой оттопырил левое ухо.
— Ну, а если человека увидишь, — допытывался Пат, — узнаешь его потом?
— На людях не пробовал, а картины запоминаю отлично. И современные и старинные.
— Это интересно! — послышался из-за двери неприятный скрипучий голос.
— Карлик! — шепотом предупредил Пат, и все беспризорники притихли.
В будку вкатился маленький большеголовый человечек со свертком. Юрий сначала принял его за мальчишку. Ростом этот человечек был меньше Пата. Руки короткие, ноги кривые, а лицо — умное, с глубокими выразительными глазами.
— Живописью интересуешься? — спросил он, наклонив голову набок.
Теперь Юрий увидел, что это не мальчишка. Ему было лет тридцать или даже сорок.
Стараясь не смотреть на руки и ноги уродца, Юрий сказал:
— Я сын художника.
— Это интересно! — повторил карлик. — Твой отец — художник Ренессанса?
Юрий недоуменно пожал плечами.
— Вы же знаете: эпоха Ренессанса давно миновала.
— Картошка переварится! — заметил карлик и опять повернулся к Юрию. — Это твой вступительный взнос в общество беспризорников?
— Из деревни привез… Остатки, — неопределенно ответил Юрий.
Он никак не мог понять, что это за человек, почему он пришел сюда и какое имеет отношение к беспризорникам. Мальчишки, видимо, хорошо его знали и боялись. С той минуты, как вошел карлик, никто из них не произнес ни слова и не двинулся с места, пока он не напомнил о картошке.
Хмыка и Пат подхватили кастрюлю и, отойдя в угол, стали сливать воду. По подвалу расплылся пахучий пар. Карлик развернул тряпицу. В ней были куски хлеба.
— Ешьте!… И ты ешь! — сказал он Юрию. — Ты ведь тоже голоден… Сегодня приехал из деревни?
Юрий кивнул головой.
— Приехал, а квартира заперта. Так?
— Других вселили.
— Вот теперь понятно! — удовлетворенно сказал карлик. — Попробую тебе помочь.
Юрий выронил картофелину.
— Хм! — предостерегающе произнес Хмыка и оттопырил левое ухо.
— Ты сомневаешься? — спросил у него карлик, и Хмыка чуть не подавился под его пронзительным взглядом.
Юрий с надеждой и волнением уставился на странного человечка.
— Ешь! — приказал карлик. — Потом поговорим… А что у вас нового, Пат?
— Ничего хорошего. Облава была.
— Знаю.
— Хоть бы предупредил!
— А зачем? — добродушно улыбнулся карлик. — Облава для вас — учебная тревога, чтобы боевитость не потеряли.
— Если б не Хлястик, и штаны бы потеряли!
— Хлястик — это, конечно, ты? — снова улыбнулся карлик и потрепал Юрия по плечу. — Ты ешь, ешь!
Но Юрию не елось. Он не знал, что и думать. Надеяться на помощь глупо. Что может сделать этот уродец? Но и отказаться от надежды было непросто. А вдруг?… Что-то необычное угадывалось в этом человечке.
Пока мальчишки ели, карлик молчал. Потом он вывел Юрия из будки, и они вдвоем направились по Лиговке к Обводному каналу.
— Я там живу, — пояснил карлик. — А пока расскажи все подробно и честно, если хочешь, чтобы я действительно помог тебе.
— Но как? — вырвалось у Юрия.
— Я работаю в ЧК. Тебе достаточно?
Этого Юрий никак не ожидал. Он остановился. Но страха не было. Еще утром он вздрагивал от каждого громкого возгласа и боялся, что его заберут. А теперь он стоял, смотрел на человека, назвавшегося чекистом, и не верил ему.
Карлик понимающе улыбнулся.
— Чекисты — не кулачные бойцы. Им в первую очередь голова нужна. Она у меня, как видишь, нормальная.
— Простите! — сказал Юрий.
— Я не обидчивый! — успокоил его карлик. — А чтобы ты не терял надежду, скажу: в каждом деле могут быть ошибки. Я догадался — твоих родителей арестовали. Вот и попробуем узнать, не ошибка ли это?
— Ошибка! Конечно, ошибка! — горячо подхватил Юрий.
— Идем! — сказал карлик и взял его под руку.
ВСТРЕЧА
Три дня запомнились Глебке на всю жизнь. День, когда они с отцом хоронили маму. День гибели отца и продотряда. И третий день, когда он бросил Юрия.
Выйдя из Смольного, Глебка вслух обозвал себя всеми обидными словами, какие только знал. На краю тротуара валялся тяжелый цилиндрик льда, выпавший в оттепель из водосточной трубы. Глебка размахнулся ногой и, как по мячу, ударил по льдине. Боль была сильной и немножко успокоила его.
Услышав перезвон трамвая, Глебка, прихрамывая, выбежал на мостовую, догнал последний вагон и поехал «на колбасе».
«Колбаса» — это толстая резиновая трубка с электрическим проводом внутри. Ниже трубки из-под вагона высовывался буфер. Мальчишки хватались руками за трубку, прыгали на буфер и ехали без билета. Это и называлось прокатиться «на колбасе».
За вагоном воздух завихрялся. Морозный ветер охладил Глебку, и он начал раздумывать, как быстрее найти Юрия. Может быть, он еще не ушел из своего дома? Забился в какой-нибудь темный уголок и плачет.
Глебка безжалостно ущипнул себя до боли. Но теперь он злился не только на себя. Все произошло из-за той пожилой женщины, которая поселилась в Юриной квартире.
«Ну, погоди! — думал Глебка. — Я с тобой поговорю, карга с тонкой шеей!»
От Московского вокзала, куда привез его трамвай, Глебка без отдыха бежал по Невскому до самого Юриного дома. Распахнув дверь так, что она ударилась ручкой в стену, он ворвался на лестницу и крикнул:
— Ю! Ю!… Ю!
Так Глебка называл своего друга, когда хотел ободрить или похвалить его за что-нибудь.
Никто не отозвался.
Тогда Глебка влетел на второй этаж и яростно стал дергать за медную ручку звонка. Но дверь не открыли. Когда он забарабанил в нее кулаками, на площадку вышли встревоженные соседи из других квартир. Никто из них Юрия не видел.
Глебка обошел в доме все лестницы, залез на чердак, спустился в подвал. Юрия нигде не было.
Во дворе рядом с дровяными сараями стояла сторожка. На двери висел кусок кумача с надписью: «Домкомбед» — домовой комитет бедноты. Сюда и зашел Глебка напоследок.
За маленьким, словно игрушечным столом сидела на табуретке женщина в красном платке — дежурная.
— Мальчишка к вам не заходил? — спросил Глебка. — Юрием звать… Сын художника.
— Со второго этажа? — уточнила дежурная. — Он все-таки вернулся?… Как же так? Ему послали телеграмму, чтобы пока оставался в деревне… А где он?
— Я сам его ищу! — сказал Глебка. — Вы бы лучше, чем сидеть здесь, жильцов бы своих прижучили! Врут что попало! Слухи распускают!… Еще домкомбедом называетесь! — Он шагнул к двери.
— Постой! Постой же! — крикнула женщина. — Адрес возьми! Может, он на новую квартиру поехал!
Глебка не стал ее слушать. Адрес ему был не нужен. Юрий не знал про новую квартиру.
На улице Глебка присел на чугунную тумбу у ворот и задумался. Он попытался представить, как бы поступил сам, куда бы пошел, если бы оказался на месте Юрия. Но очень уж они были разные. Глебка бы никому не поверил, что арестовали его отца. Он бы поднял на ноги весь дом. Он бы и в ЧК не постеснялся заявиться и там бы тоже устроил трам-тарарам. Юрий на это не способен. Он и к знакомым не пойдет — постесняется или побоится, а близких родственников у него в Питере нет. Скорей всего, Юрий постарается уехать обратно в деревню.
И снова побежал Глебка по Невскому проспекту — к вокзалу. Но напрасно ходил он по путям и платформам, расспрашивал железнодорожников и пассажиров — никто не видел Юрия.
Глебка знал, что вокзал — любимое пристанище беспризорников. И он искал их, надеясь, что они заметили мальчишку в пальто с хлястиком, с вещевым мешком за спиной. Но и беспризорников он не нашел. Облава распугала их. Кто успел удрать, тот надежно спрятался и не высовывал носа. А кого забрали, тех уже мыли и стригли в интернатских санпропускниках.
В тот день ни один пассажирский поезд дальнего следования не отошел от Московского вокзала. Не было топлива. Из Питера отправлялись только воинские и грузовые эшелоны. Для ловких пассажиров и это — транспорт, на котором можно уехать из города. Но не для Юрия. Без билета он и близко к вагону не подойдет. Он все еще где-то здесь! И Глебка продолжал бродить по вокзалу.
В главном вестибюле висело объявление: «Впредь особого распоряжения отправка пассажирских поездов дальнего следования отменяется». Когда последует это особое распоряжение, никто не знал. Казалось бы, на вокзале делать нечего, но все залы были забиты пассажирами. На скамейках — ни одного свободного места. Люди сидели терпеливо, прочно. Тут они спали и ели. Бегали изредка с железными кружками за кипятком. Спорили, читали газеты. Даже чинили обувь. Какая-то старушка вязала носок.
А Глебка все ходил и ходил по вокзалу в надежде дождаться Юрия.
Когда стемнело, на улице повалил мокрый снег. Ветер усилился. Глебку обрадовала непогода. Вечером метель не разгуляешься. И ночь на носу. Некуда Юрию деваться. Он должен, обязательно должен прийти на вокзал. Только здесь мог он скоротать ночь. Правда, есть и другие вокзалы, но зачем ему Финляндский или Балтийский, если в деревню нужно ехать с Московского.
Было уже часов одиннадцать, когда Глебка почувствовал, что ноги перестают слушаться его. За это время он ни разу не присел. В колени, как в буксы, точно песку насыпали. А на скамейках по-прежнему не пустовало ни одно место. Кое-где люди устраивались даже в два ряда: одни спали лежа, а другие сидя дремали на краю, приперев спящих к спинке скамейки. Но все-таки одно местечко Глебка отыскал. Он втиснулся между старушкой, все еще вязавшей носок, и громко храпевшим мужиков в деревенском полушубке.
— Ты не воришка? — деловито осведомила старушка таким тоном, будто спрашивала, который час.
— А. что у тебя воровать-то? — ответил Глебка.
Он слишком устал, чтобы обидеться или рассердиться.
— Каждому свое дорого. Мне вот спицы дороже всего.
— На что они мне? В носу ковырять? — ругнулся Глебка.
— В носу ковырять не надо, — нравоучительно произнесла старушка.
— Не буду! Успокойся, бабка! Не буду твои спицы пачкать.
— Вот и ладно! А то ведь как бывает?…
Старушке хотелось выговориться, и она ровным ненадоедливым голосом, не переставая вязать, начала рассказывать, какие случаи бывают на вокзалах.
Глебка не слушал ее. «Посижу полчасика и снова обойду весь вокзал!» — подумал он и засек время. На больших круглых часах, висевших на стене в зале, было четверть двенадцатого.
А старушка все говорила, тихо, монотонно…
Но вдруг голос ее изменился — помолодел, окреп. Старушка схватила Глебку за плечо, подергала и закричала:
— Глебка! Глебка!… Опять спишь?… Вот я снегу-то принесу — живо прочухаешься от холода!
Открыл глаза Глебка, а перед ним — Глаша. «Сон! — не поверил он. — Приснилось!» Но Глаша продолжала тормошить его.
— Да проснись же, Глебка!… Господи! Никак его не добудишься!
Сонными глазами посмотрел Глебка на вокзальные часы. Стрелки показывали шесть. Он вскочил.
— Здравствуй! — сказала Глаша. — Ты почему тут?
— А ты? — спросил Глебка.
— У меня беда.
— И у меня! — сказал Глебка.
Здесь же, на вокзале, присев в уголке на Глашин мешок, они рассказали друг другу о своих бедах. Сначала говорил Глебка, а потом Глаша. Ее беда была непоправимой…
Не всех бандитов батьки Хмеля перебили под Узловой. Несколько человек выскользнуло из засады, устроенной отрядом матроса Дубка. На станции жил подкулачник, у которого они спрятались и просидели на чердаке до ночи. Он рассказал им, что вагоны с хлебом спасла девчонка из Таракановки.
А Глаша, проводив Глебку и Юрия, вернулась верхом на лошади к оставленной у железнодорожного пути телеге. До деревни было далеко. Уже смеркалось. И она решила по дороге заночевать у знакомых.
Когда утром на следующий день Глаша приехала в Таракановку, родная изба на краю деревни догорала. Голосили сбившиеся в кучу бабы. Угрюмо стояли мужики без шапок. На снегу лежали отец и мать, прикрытые холстиной…
Выплакавшись, Глаша к вечеру вернулась к знакомым, у которых ночевала накануне. Решительная, приученная к самостоятельности, она понимала, что надо не плакать, а решать, как жить дальше. Остаться в родной деревне она не могла. Соседи хоть и жалели ее от всей души, но никто не осмелился приютить девчонку — боялись мести бандитов. Кто-то предложил временно поселить ее в заброшенной баньке. Обещали помочь прокормиться до нового урожая. Уверяли, что летом всем миром срубят для нее небольшую избенку. Но Глаша отказалась. И не из страха.
С деревенской простотой она рассудила, что имеет право поехать в Питер. Юрий жил у них полгода, значит, и она может теперь погостить в городе.
Лошадь она оставила знакомым. Телегу променяла на муку и сало и пешком пришла на станцию. Ей повезло: в ту же ночь на Узловую прибыл пассажирский, поезд…
Глаша еще ни разу не была ни в одном большом городе, но она ничуть не боялась незнакомых мест и рассудила по-своему: Питер — это та же деревня, только больше. Если сложить сто или тысячу Таракановок, то как раз и получится Питер. Ну и дома там, конечно, высокие, каменные, но все равно дома. И люди в них живут совсем обычные. Юрий рассказывал, что в Питере так много улиц, что легко заблудиться. Глаша ему не поверила. Как можно заблудиться, если он же говорил: куда ни пойдешь, везде народ. Спроси — укажут дорогу.
Так что Глаша ко всему была готова. Ее не удивили ни пятиэтажные дома, высившиеся слева и справа от платформы, ни кирпичные трубы, царапавшие небо над городом, ни здание вокзала, которое легко проглотило всех приехавших с этим поездом. Удивилась она только тогда, когда заметила в зале ожидания среди спящих знакомую фигуру Глебки…
Узнав про Юрину беду, Глаша не испугалась. Ей казалось, что ничего страшного не произошло. Найдется Юрий, не пропадет — люди же кругом, не бандиты. Она только с укоризной покачала головой и сказала:
— Он так тебе верил.
Глебка опустил голову, и лицо у него стало серым, землистым. Глаша с материнской строгостью прикрикнула на него:
— Ишь какой квелый — как морозом его опалило! — и тут же шутливо добавила: — Где бы накормить да напоить гостью, а он, как козел, голову опустил! Того и гляди — боднет!… Где будем завтракать, Глеб Глебыч?… А жить где?… Уж ты как хочешь, а получается — к тебе я приехала! Не выгонишь?
— Что мне — жалко? — вздохнув, ответил Глебка. — Квартира пустая… Только не могу я туда ехать.
— Почему?
— Мы — туда, а он — сюда и на поезд!
— Юрка-то? — спросила Глаша. — Я чичас!
Она куда-то убежала, а Глебка остался сидеть на мешке. Он пытался разобраться в своих мыслях. Глаша потеряла родителей. Ему бы плакать, а он, увидев ее, почувствовал облегчение. Особенно после этого «чичас». Глебка запомнил смешное словечко. Оно было каким-то волшебным. Стоило Глаше произнести его, как почти сразу же происходило чудо. «Чичас» — и в коробку буксы льется сметана, заменяя смазку. «Чичас» — и лошадь вместо паровоза тащит вагоны с хлебом.
Что же произойдет на вокзале после нового «чичас»? Глебка понимал, что думать так наивно и глупо, но он бы ничуть не удивился, если бы Глаша вдруг привела к нему Юрия, живого и невредимого.
Глаша вернулась одна.
— Поехали! — сказала она.
— Куда?
— К тебе.
— А Юрий?
— Дров нету! — ответила Глаша. — Ни сегодня, ни завтра поезда не пойдут.
Глебка и раньше знал об этом, но он все-таки ни на час не ушел бы с вокзала. А Глаша решила по-другому. Ее присутствие, ее голос, решительный и ласковый, ее убежденность в том, что Юрий никуда не денется, — все это успокаивало и ободряло. Глебка повеселел.
— Поехали! — согласился он.
ОТДЕЛ БЕССОНОВА
Когда часы в большом футляре, похожем на гроб, отбили двенадцать ударов, карлик разбудил Юрия и предупредил:
— На сборы — пять минут! По-военному! По-чекистски!
Юрий поспешно вскочил с кровати.
Ровно через пять минут они вдвоем вышли из старого деревянного домика, в котором Юрий прожил несколько дней.
На улице была холодная ночь. Нигде ни огонька. Вдоль Обводного канала ветер нес редкие мокрые снежинки.
Мягко, почти беззвучно к дому карлика подлетели сани. Юрий увидел крупную лошадь и трех мужчин. Двое были в матросских бушлатах и бескозырках, третий — стройный, узкоплечий — в меховой шапке, полушубке и сапогах, которые поблескивали даже в темноте.
Карлик и Юрий сели сзади. Один из матросов тихо причмокнул губами, и лошадь легко потащила сани по берегу канала.
Не было сказано ни единого слова. Матрос, правивший лошадью, привстал, вгляделся и, увидев пологий спуск, уверенно натянул левую вожжу. Сани скатились вниз и ходко заскользили по льду Обводного канала.
Ветер дул навстречу. Снежинки залетали за воротник и неприятно холодили шею. Но Юрий сидел неподвижно — так же, как сидели все эти удивительные для него люди, обладавшие железной молчаливой чекистской выдержкой, которой не страшны ни холод, ни пули.
Юрий впервые видел трех мужчин, приехавших в санях, но именно такими он и представлял теперь всех чекистов: суровыми, замкнутыми и обязательно справедливыми людьми. В этом он сейчас был твердо убежден. За дни, проведенные с карликом, Юрий проникся к нему доверием и уважением. Он уже перестал замечать его физические недостатки и даже про себя не называл карликом.
Гражданин Бессонов — так отрекомендовался чекист. Почему гражданин? Да потому, что родители Юрия находятся под следствием. Как только установят их невиновность, в чем лично он, Бессонов, ничуть не сомневается, так сразу же Юрию будет позволено называть его товарищем или по имени и отчеству.
А пока Юрию предоставляется возможность содействовать чекистам в их трудной и благородной работе. Это тоже будет учтено и пойдет на пользу его родителям.
— Как содействовать? — спросил пораженный Юрий.
— После революции, — объяснил Бессонов, — все принадлежит народу. Искусство — тоже. Но есть преступники, которые тайком переправляют за границу бесценные произведения живописи!… Могут чекисты позволить это? — с неподдельным гневом воскликнул он, металлически блеснув глазами. — Могут они сидеть сложа руки, когда мошенники обворовывают родной народ?
— Нет! — ответил Юрий.
— Тогда — помогай! — скрипуче выпалил Бессонов и долго смотрел ему в глаза, точно гипнотизировал его. — Раскрою тебе один секрет!
С подкупающей откровенностью Бессонов сказал, что у него в отделе не хватает работников, знающих живопись. Когда освободят отца и мать Юрия, чекисты обязательно воспользуются их опытом. Сам Юрий, конечно, еще не большой знаток, но и он может принести пользу.
После разговора с Бессоновым Юрий почувствовал себя воскресшим. Он уже не боялся ни за родителей, ни за себя. Он верил, что пройдет неделя или две и все уладится. Вернутся они в свою квартиру и заживут по-прежнему, спокойно и весело.
С нетерпением ждал он того часа, когда сможет помочь Бессонову, и ночью долго припоминал то, что слышал от отца и матери о картинах, о художниках, о различных школах живописи. Ему даже приснился сон про выставку, на которой были представлены удивительные полотна. Каждое каким-то непонятным образом соединяло в себе две или три широко известные картины. Боярыню Морозову везли по улицам гибнущей Помпеи. Иван Грозный убивал сына в лесу среди медведей. А крутой девятый вал нес на своем гребне мадонну с младенцем на руках…
Сани все летели по льду Обводного канала мимо темных безжизненных улиц и переулков спящего Петрограда. Молчали чекисты. Ветер бросал в лицо хлопья тающего снега.
Над головой проплыло что-то особенно темное. Юрий догадался, что они проехали под мостом. Матрос пошевелил вожжами и направил лошадь к берегу. Похрапывая, она вытянула сани наверх. Канал остался сзади.
— Ты — эксперт! — неожиданно произнес Бессонов. — Знаешь, что это такое?
— Знаю, — сиплым от холода голосом ответил Юрий.
— Твое дело — смотреть и опознавать ценные картины. Наш девиз: все шедевры подарим народу!
— А где смотреть? — спросил Юрий.
— Здесь. Уже приехали.
Сани остановились у высокого кирпичного дома. Один матрос остался на улице. Другой вместе со стройным чекистом в меховой шапке вошел на лестницу. Бессонов взял Юрия за руку и повел его за ними.
В полной темноте поднялись на третий этаж. Матрос требовательно постучал в какую-то дверь. Потом еще и еще раз. Наконец в квартире что-то скрипнуло и послышался деревянный приближающийся перестук, не похожий на человеческие шаги. Но раздавшийся затем голос был вполне нормальный, с приятной хрипотцой.
— Кто там? — спросил мужчина.
— Ты председатель домкома? — властно громыхнул в темноте матрос.
Юрий впервые услышал его рыкающий бас и вспомнил широченные плечи, которые всю дорогу тяжелой каменной плитой высились перед глазами.
— Я! — ответил мужчина и открыл дверь.
В одной руке он держал плошку с крохотным огоньком, другой прижимал к боку два костыля.
— Чека! — сказал матрос и протянул какую-то бумагу.
Председатель домкома и не взглянул на нее.
— Кому ж еще в такую пору? — Он опустил плошку пониже и осветил Юрия и карлика. — Только вот дети не пойму зачем?
— Детей тут нет! — матрос уважительно повернулся к Бессонову. — Это начальник нашего отдела. А это, — он взял Юрия за плечо и почему-то замолчал.
— Это наш эксперт, — закончил за него Бессонов. — Мы привезли с собой и одного понятого. Вы будете вторым.
Юрий увидел, как удивленно и сконфуженно поднялись брови председателя домкома.
— Прости, товарищ! — сказал он Бессонову. — За мальчишку в темноте принял… А что, собственно, случилось?
— Тебя бы надо спросить! — с угрозой произнес матрос. — А еще фронтовик!… Где ногу-то оставил?
— Юденич оторвал.
— Ну вот! А ты все добренький!
Председатель не знал, что ответить на эти непонятные упреки.
— Заходите! — предложил он и встал в дверях боком. — Холодно на лестнице разговаривать.
— В гости потом придем! — возразил Бессонов. — Кто у вас в сорок седьмой живет?
Председатель, как забывчивый мальчишка на уроке, посмотрел вверх, пошевелил губами.
— Одна старуха — в угловой. Больше никого… Остальные комнаты пустуют.
— Кто такая?
— Кухарка, говорят, бывшая… Петрова Авдотья.
— Вот к бывшей нам и надо! — снова громыхнул матрос и протянул еще одну бумагу. — Ордер на обыск.
Председатель лишь мельком посмотрел на машинописный текст с печатью.
— Оденьтесь. Проведете нас к ней, — сказал ему Бессонов.
Поставив плошку с огоньком между дверей на полке, председатель, постукивая костылями, скрылся в темноте длинного коридора. Чекисты остались на лестничной площадке. Сквозняк раскачивал крохотный язычок огня, и по стенам беспокойно метались тени — одна, угловатая, от матроса, другая, косматая, от меховой шапки стройного чекиста, которого Бессонов назвал понятым.
Юрий прислонился к стене и только теперь разглядел лица двух своих спутников. Матрос был очень высок. Огонек освещал его лицо снизу, и потому, наверно, оно казалось мрачным, почти свирепым. Боясь встретиться с ним взглядом, Юрий быстро перевел глаза на второго чекиста и залюбовался им. Он был удивительно красив. Большие глаза с длинными ресницами, тонкий нос, румяные щеки. Волосы черной волной выбивались из-под шапки и оттеняли высокий чистый лоб. Юрию вспомнился Ленский. Таким представлял он пушкинского поэта.
— Скоро? — на всю лестницу рыкнул матрос.
И сразу же из глубины темного коридора донесся перестук костылей.
Председатель домкома привел их на другую лестницу и постучал в сорок седьмую квартиру. Старуха оказалась не из робких. Она быстро открыла дверь и зажгла в прихожей толстую свечу. Матрос протянул ей ордер и грозно сказал:
— Читай, если грамотная!
— А ты не покрикивай! — одернула его старуха. — На меня и генерал голоса не повышал!
— Ай да кухарочка! — звонко и одобрительно произнес стройный чекист.
Старуха не обратила внимания на похвалу, разгладила бумагу и долго ее рассматривала, приблизив к свече. Так долго, что матрос с хрустом сжал кулаки, но Бессонов взял его двумя пальцами за полу бушлата и тихо потянул. Литая фигура матроса послушно отодвинулась в сторону.
— Мы не ошиблись? — вежливо и скрипуче спросил Бессонов. — Вы Авдотья Петрова?
— Не ошиблись! — сухо ответила старуха.
— Кухарили у генерала Костомыслова?
— Кухарили! — передразнила старуха, подделываясь под скрипучий голос карлика. — Неужто в чеке нормальных людей нету: один — медведь, другой — клоун! Ребенка еще прихватили! Тьфу!
Стройный чекист весело рассмеялся.
— А ты чего гогочешь по-бабьи? — уставилась на него старуха. — Шапку хоть бы снял! В дом вошел — не в конюшню! — Затем она напустилась на председателя домкома: — Кого ты притащил ко мне, нога твоя деревянная!
— Не лайся, Авдотья! — председатель пристукнул костылем и предупредил: — Худо тебе будет за язык! Ох, худо!
— Как же! Испугалась!
Старуха подбоченилась и с вызовом уставилась на чекистов.
— Бояться нас не надо, — сказал Бессонов. — Ведите-ка лучше в комнату. Посмотрим, как вы генеральское добро бережете, хорошо ли от народа прячете.
— Проверь! — зло ответила старуха и скрестила руки на груди.
Бессонов взглянул на матроса. Тот взял свечу и приказал старухе:
— Веди!
Из прихожей они вошли в коридор. Старуха распахнула первую дверь, и все увидели массивную золоченую раму, тускло поблескивавшую на стене. Матрос со свечей протопал прямо к ней. Бессонов взял Юрия за локоть, подвел к картине и ласково скрипнул:
— Будь добренький, посмотри внимательно.
Пока Юрий рассматривал заключенное в богатую раму полотно, он все время чувствовал у самого уха порывистое взволнованное дыхание карлика. Если бы не это волнение, Юрий сразу бы сказал, что и пруд, и лебеди, и таинственный замок на картине — все это не искусство, а базарная дешевка, вставленная в позолоченную раму. Но ему было неудобно без всякой подготовки заявить, что это не картина, а ремесленная мазня. Получилось бы, что чекисты даром работали, напрасно не спали сами и подняли с постели других.
— Одна рама чего стоит! — восхищенно произнес чекист, похожий на Ленского.
— Рама хорошая, — подтвердил Юрий и с виноватым видом повернулся к Бессонову, — а картина… Она не из этой рамы.
— Глазастый постреленок! — произнесла старуха. — Настоящая картина в Париже, а эту я на барахолке выменяла.
— А рама? — спросил Бессонов.
— Рама генеральская! — ответила старуха.
— Уворовали?
Старуха с яростью шагнула к Бессонову и, как грозовая туча, нависла над карликом.
— Сам ты вор! Тать ночная!
Матрос шевельнул плечами. Бессонов жестом остановил его и, глядя снизу вверх, долго слушал старуху, которая хоть и ругала ночных гостей, но при этом не забывала высказывать и то, что могло оправдать ее перед чекистами. Раму она спасла от огня: ее хотели сломать на дрова. Столовое серебро ей подарила сама генеральша перед отъездом из Петрограда. А посуду генеральский сын спрятал в конюшне. Но ее стали разбирать все на те же дрова. Посуду могли разбить. И тогда Авдотья Петрова перенесла ее к себе.
— Покажите серебро! — прервал старуху Бессонов.
Набор ножей, вилок и ложек хранился на кухне в старом буфете. Старуха не пользовалась этим серебром. Чтобы добраться до него, матрос вытащил из буфета груду тарелок, блюдец и чашек. Все это он выставил на кухонный стол и, наконец, выгреб из дальнего угла ножи, вилки и ложки.
— Дареные, говорите? — проскрипел Бессонов, подбрасывая на руке несколько разных по величине и форме вилок.
— Дареные! Генеральша преподнесла! Собственными руками!
— А почему они такие разные?
Голос у старухи подобрел, и она с удовольствием принялась пояснять, какой вилкой и что ели за генеральским столом.
Юрий знал назначение разных вилок и не слушал старуху. Он разглядывал выставленные на стол чашки и блюдца. Ему казалось, что он уже видел их когда-то. Вспомнил он книгу из библиотеки отца с описанием редких фарфоровых изделий.
Чтобы разглядеть посуду получше, Юрий взял одну чашку, подошел поближе к свету и чуть не выронил ее из рук. Снаружи на донышке дата «1748» и латинская буква «S». Из той же отцовской книги он знал, что так метили русский фарфор, изготовленный в первой половине XVIII века.
Юрий обрадовался не столько самой находке, сколько возможности хоть чем-то помочь чекистам. Не одни картины принадлежат народу. Эта чашка — тоже произведение русского искусства и тоже должна храниться в музее. И стоит она, наверно, не мало. Он не запомнил точные цифры каталога по фарфору, но знал, что стоимость некоторых старинных изделий была баснословно большой.
А Бессонов продолжал допрашивать старуху. Теперь его интересовало золото. Кухарка, то ругаясь, то божась, уверяла, что все золотые вещи и монеты генерал увез с собой. Бессонов вежливо и настойчиво доказывал, что не такая уж она, Авдотья Петрова, простофиля, чтобы не воспользоваться предотъездной суматохой в генеральской семье и не взять хотя бы маленькую золотую безделушку.
— Ни крохи! Ни пылинки! — твердила старуха, крестясь на пустой кухонный угол.
— Вот это дороже золота! — сказал Юрий и показал Бессонову фарфоровую чашку. — Это настоящий антиквариат! Восемнадцатый век!
Бессонов недоверчиво взглянул на чашку, потом испытующе уставился Юрию в глаза. Матрос взял чашку, повертел, пощелкал по краю ногтем, понюхал зачем-то и коротко определил:
— Трешка в базарный день.
— А ты ценишь ее дороже? — спросил Бессонов, все еще гипнотизируя Юрия.
— Если бы такую чашку сделали сегодня из чистого золота, — выпалил Юрий, боясь, что ему не поверят, — то она бы стоила дешевле этой!
Все — и чекист, похожий на Ленского, и председатель домкома, и сама бывшая кухарка придвинулись к Юрию. Чашка пошла по рукам.
— Осторожно! Осторожно! — каждого предупреждал он. — Ее в музее под стеклянный колпак поставят!
Бессонов отвел от Юрия глаза и явно повеселел.
— Пересмотри, пожалуйста, всю посуду.
Матрос держал свечу, а Юрий одну за другой перебрал все чашки, блюдца и тарелки. Попалось блюдце с буквой «П».
— Это тоже ценность! — сказал Юрий. — Только я не знаю — Павел это или Петр. Если Петра Первого, то это просто уникум!
— Чего? — переспросил матрос.
— Наиредчайшая вещь! — объяснил Юрий.
— Отложи! — весело скрипнул Бессонов и приказал стройному чекисту: — Упакуйте, пожалуйста.
— Все? — вырвалось у старухи.
— Вас беспокоит серебро? — усмехнулся Бессонов. — Поклянитесь, что оно дареное!
Бывшая кухарка снова перекрестилась, повернувшись лицом к пустому кухонному углу.
— Поверим? — спросил Бессонов у Юрия.
— Конечно!
Матрос сердито засопел.
— Не сопите, товарищ Крюков! — сказал Бессонов. — Людям верить надо!
Потом был составлен акт о конфискации у Авдотьи Петровой ценных фарфоровых изделий. Двое понятых, Юрий и старуха подписались под ним. Бессонов положил акт в карман, от имени Петроградской ЧК поблагодарил председателя домкома за помощь и весело распрощался с бывшей кухаркой.
Замерзшая лошадь сама, без понуканья быстро потащила сани. Чекисты сидели в прежнем порядке. Матрос Крюков держал сверток с фарфором на коленях. И опять все молчали. Доехали до Обводного канала.
— Куда? — спросил матрос, правивший лошадью. — К нам?
— К вам рано, — ответил Бессонов. — Домой. Отдыхать нашему эксперту надо. — Он обнял Юрия за плечи. — Ты славно поработал сегодня! Спасибо! Без тебя везли бы мы сейчас эту никчемную картину, а фарфор остался бы у кухарки.
— Серебро зря оставили! — проворчал Крюков. — На что оно старой ведьме!
— Не жалейте, товарищ Крюков! — произнес Бессонов. — На то и революция, чтобы и старая женщина могла есть из серебра!
Чекист, похожий на Ленского, не то чихнул, не то хихикнул в воротник полушубка.
ПЕРВЫЙ СЛЕД
Если бы не Глаша, Глебка и дня не прожил бы в своей пустой квартире. За зиму все здесь стало холодным и чужим. И дом какой-то чужой, и лестница, и даже соседи. Семье Архипа дали большую квартиру в бывшем особняке где-то на Неве. Остальные знакомые тоже переселились: одни поближе к заводу, другие совсем уехали из Петрограда.
В квартире скрипели все двери и половицы. На кухне отсырел и покрылся плесенью большой кусок потолка. Обои в комнате во многих местах оторвались от стен и бугрились. Скорбно смотрели с фотографии глаза матери.
Глебка как вошел в квартиру, как сел за стол на то место, на котором сидел последний раз напротив отца, так и просидел неподвижно больше часа, пустой и тоскливый, как заброшенная квартира.
Он не видел и не слышал Глашу. А она, понимая его состояние, старалась ничем не напоминать о себе. Глаша тихо затопила плиту, нагрела воды, помыла запылившуюся посуду, замесила тесто. Ни о чем не спрашивая, она сама нашла в комоде чистую скатерть, простыни, наволочки. Поменяла все. Канцелярскими кнопками прикрепила отставшие обои. Обтерла пол мокрой тряпкой. Когда в кухне и в комнате потеплело, она открыла форточки и проветрила квартиру.
Очнулся Глебка, а на столе — горка горячих деревенских оладий, сковородка с кипящими в жиру шкварками, чайник, у которого из носа выбивались забавные; колечки пара.
— Ешь, Глебушка!
Он огляделся. Комната вновь стала теплой и жилой, как в прежние времена. И глаза матери смотрели уже не скорбно, а задумчиво и чуточку грустно. Рядом с ее фотографией, которую Глаша повязала полоской черного крепа, найденного в комоде, стояла с такой же траурной повязкой фотография отца. Глаша нашла ее в том же комоде, в нижнем ящике.
— Спасибо! — сказал Глебка и нахмурился, потому что снова почувствовал себя виноватым и перед Юрием, и перед Глашей. — У тебя у самой… А я…
— Смотри-ка, что у меня есть! — воскликнула Глаша и показала Глебке два конверта. — В почтовом ящике лежали… Только ты их до еды не читай! — с наивной заботливостью добавила она. — Вдруг — плохие!
Одно письмо пришло по почте, а другое, без штемпеля, кто-то сам опустил в ящик. Оба были адресованы ему — Глебке.
«Глебка! — размашисто писал все еще сердитый Дубок. — Я тут поговорил кой с кем. Твое дело — чтоб Юрий не сел зайцем в поезд. Остальное беру на себя. Поглядывай на вокзале. Что будет — сообщи. Без Юрия на глаза не попадайся! Дубок».
Второе письмо, которое шло через почту, подписал секретарь парткома завода, на котором работал Глебкин отец. Оно было длинным. Глебке предлагали выбор: либо идти работать в цех отца, либо поступать в школу, открытую при заводе. Заканчивалось письмо так: «Всегда помни, что теперь ты — сын завода, сын партии большевиков, к которой принадлежал твой отец. Требуй у партии все, что требовал бы у отца. И отдай коммунизму все, как отдал себя твой отец. Пропуск на тебя лежит в проходной. Он бессрочный».
Глебка в тот день несколько раз читал это длинное письмо. А вечером, когда Глаша, умаявшись, заснула, он опять достал его из комода и снова прочитал. Дружеское сочувствие, искренняя забота, человеческая теплота и ласка — все это воспринималось сразу, с первого прочтения. Но было в письме и что-то большее, заставлявшее задуматься, наполнявшее Глебку гордостью за отца и за партию, которая не забыла Глебку, не оставила одного и назвала своим сыном.
Утро следующего дня пришло солнечное и бодряще-холодное. Последний в том году мороз тонкой корочкой льда застеклил лужи. И настроение у Глебки и Глаши тоже было бодрое, почти веселое. Им не хватало только. Юрия. Но и Глебка и Глаша верили, что он найдется, и очень скоро.
Весь день продежурили они на вокзале и не встретили ни одного мальчишку. Даже беспризорники не попадались. Они точно совсем вывелись в Петрограде. А на них Глебка рассчитывал больше всего. Эти глазастые бездомные мальчишки часто видят то, мимо чего взрослые проходят не замечая.
Миновал еще день, еще… Глебка с Глашей дежурили на вокзале то вместе, то по одиночке. Их уже хорошо знали все вокзальные служащие, но и они ничем не могли помочь ребятам.
Однажды к вечеру на Московский вокзал прибыл поезд. Пустовавшая целый день платформа ожила. Сначала выскочили самые нетерпеливые и необремененные большим багажом пассажиры. Потом люди повалили густо. И в этой движущейся толпе Глебка приметил паренька — по многим признакам беспризорника. Но было в нем что-то и необычное для бездомных мальчишек.
Беспризорники любят густую толпу — в ней легче «работать». А работают они обычно глазами, руками и ногами: увидят, украдут и убегут. Оттого и глаза у них острые, рыскающие и всегда виноватые. Руки и пальцы — нервные, беспокойные. А ноги, как у бегунов на старте — напружиненные, готовые в любой момент дать стрекача.
Этот мальчишка был другой. Он не высматривал, что можно утащить, а подслушивал, о чем говорят люди. Так по крайней мере казалось Глебке. Особенно настойчиво шнырял паренек поблизости от тех пассажиров, которые вдвоем или втроем отходили в сторону от общего потока и тихо разговаривали между собой.
Когда схлынула толпа приехавших, мальчишка пошел не к вокзалу, а в противоположную сторону — туда, где кончалась платформа. Глебка догнал его и сказал, по-отцовски нахмурив лоб:
— Стой! И говори только правду!… Беспризорник?
Мальчишка оглянулся без всякого страха и остановился. Оглядев Глебку, он презрительно хмыкнул и оттопырил левое ухо.
Глебка нахмурился еще больше.
— Глухой?
— Не пугай! — предупредил мальчишка. — Заикаться буду!
Глебка понял, что парня на испуг не возьмешь, и сменил грозный тон на шутливый.
— Глухой, да еще заика — тебе в больницу надо!
— А по тебе богадельня плачет!
— Это почему? — удивился Глебка.
— Старикашка ты! — ухмыльнулся паренек. — Убогий совсем! Ножки не держат — все скамейки на вокзале просидел. Мозоли не натер?
— Видел? — удивился еще больше Глебка. — Как же я тебя не заметил?
— Убогий! — повторил паренек.
Но Глебке было уже не до первенства в словесном поединке. Этот беспризорник, видимо, обитал на вокзале и мог знать многое.
— А еще кого видел? — с надеждой спросил Глебка. — Мальчишку в хорошем пальто, с мешком, Юркой зовут — не видел?
Что-то появилось и исчезло в карих глазах паренька. Он неопределенно хмыкнул и оттопырил левое ухо.
— Я сукастый — колюсь плохо!
— Брат он мне! Понимаешь? — сказал Глебка. — Брат! Это его я ждал на вокзале.
— А девчонка?
— А она — сестра. Из деревни приехала.
— Хм! — задумчиво произнес паренек, поджал губы и вдруг спрыгнул с платформы.
— Стой! — крикнул Глебка, спрыгивая за ним.
Паренек обернулся. На этот раз приказывал он.
— Это ты стой! И никуда не уходи — искать не будем!
Глебка остановился, но простоял недолго. Когда мальчишка добежал до первых стрелок и, оглянувшись, нырнул под грузовой вагон, загнанный в тупик, Глебка бросился за ним. Не мог он рисковать. Этот беспризорник что-то знал, а вернется ли он, еще неизвестно. И Глебка решил не выпускать его из вида.
Паренек быстро и легко бежал вдоль железной дороги. Глебке было труднее. Он тоже бежал, но так, чтобы беспризорник не мог его заметить. Вблизи вокзала на многочисленных колеях стояли и теплушки, и паровозы. Потом остались всего две колеи. Здесь никаких укрытий не было. Глебка присел за сугробом грязного, сброшенного с пути снега и, глядя на удаляющегося беспризорника, прошептал:
— Он что — в Москву собрался?
Но паренек еще раз оглянулся, свернул вправо и сбежал с насыпи. Глебка догадался, куда спешил беспризорник. Посреди пустыря с торчавшими из-под снега сухими стеблями прошлогоднего репейника стояла будка. Над самодельной трубой воздух дрожал и переливался. Дыма не было. Печку уже протопили, и из трубы шел сухой жар.
Когда Глебка добрался до будки и взялся за скобу, приваренную к железной двери, у него мелькнула радостная мысль: откроет он дверь, войдет, а навстречу — Юрий! Что сказать ему? Какими словами вымолить прощенье? Нет таких слов! Он руку ему протянет!… Нет! Две руки! И обнимет, а может быть, и скажет, как Архип когда-то: «Стреляй меня, сукина сына! Стреляй, не жалей! Заслужил…»
Рванул Глебка дверь и шагнул в пахнущее керосином нутро будки. Несколько пар глаз уставились на него.
— Хм! — с угрозой произнес знакомый беспризорник. — Он!… Выследил все-таки!
Глебка, увидев, что Юрия нет, невесело улыбнулся.
— А ты говорил — убогий!
— Проверим! — сказал Пат, поднимаясь с кипы газет.
Вскочили и остальные мальчишки. Их было шесть или семь. Глебка не успел сосчитать, потому что Пат прищелкнул пальцами, и все беспризорники набросились на непрошеного гостя.
Глебка сопротивлялся вяло. Драться ему совсем не хотелось. Он отпихнул двоих, наседавших спереди, но сзади на него накинули веревку и прижали руки к бокам.
— Бросьте вы! — сказал Глебка. — Чего нам носы бить друг другу?… Я к вам по-хорошему!
Вплотную подошел Пат — так близко, что его подбородок чуть не коснулся Глебкиного носа. Длинными руками беспризорник бесцеремонно ощупал карманы и вытащил продовольственные карточки.
Глебка нахмурился, начиная злиться.
— На чужом не проживешь!
Пат не ответил и снова запустил руку Глебке за пазуху. Под рубашкой что-то хрустнуло. Глебка рванулся, но мальчишки крепко держали его, а Пат с проворством опытного карманника прошелся пальцами по пуговицам и с треском оторвал потайной карманчик, пришитый изнутри к рубашке.
— Вот за это… — Глебка захлебнулся от волнения. — За это головой ответишь! За это не прощу!
Пат вытащил из холщового мешочка сложенную бумагу, развернул и, не обращая внимания на Глебкины угрозы, принялся читать, отмечая пальцем каждую прочитанную строку. Нагловато-бесстрастное выражение лица пропало. Пат изумленно приподнял брови и хлюпнул носом.
Глебка замолчал. Теперь он не боялся, что беспризорник по глупости порвет или еще как-нибудь испортит бесценный мандат.
Не отводя глаз от документа, Пат нащупал веревку, захлестнутую вокруг Глебки, и потянул на себя. Мальчишки выпустили ее из рук. Веревка упала на пол, а беспризорники столпились вокруг Пата, нетерпеливо заглядывая в бумагу, которая так поразила их вожака. Все они хоть и не слишком бойко, но умели читать. Совсем неграмотных карлик приказал не принимать в группу Пата.
Глебка смотрел на мальчишек и вспомнил толпу крестьян, которые вот так же, пристыженно и виновато, передавали друг другу документ, подписанный самим Лениным.
Тихо стало в будке, лишь Пат шелестел мандатом, осторожно всовывая его обратно в холщовый мешочек.
— Хмыка! Иголку! — потребовал он.
Глебку усадили на самое теплое место — у печки. Пат вернул ему мешочек и подал иглу с ниткой. Все молча смотрели, как Глебка, вывернув рубашку, пришивал к ней потайной кармашек.
— Брата твоего найдем! — сказал Пат извиняющимся тоном.
Глебка промолчал, рассчитывая, что так больше узнает.
— Цел он! — продолжал Пат. — Его Бессонов к себе увел.
Глебка не вытерпел — вскинул голову:
— Какой Бессонов?
— Хм! — с сомнением произнес Хмыка. — Он говорит…
Пат погрозил ему кулаком, но потом махнул рукой.
— Ладно. Скажем!… Он — чекист! И мы тоже чекисты! У Бессонова в отделе работаем. А твоему брату он какое-то секретное дело поручил.
Глебка застегнул рубашку, одернул куртку и встал. Сказал веско:
— Вот что… Вы мне чепуху не городите! Нашли дурака!… На таких чекистов, как вы, облавы устраивают, ловят их, гонят в баню и стригут, чтобы вши вывелись!… Если знаете, говорите, где Юрий!… Вот ты! — Глебка строго посмотрел на Хмыку. — Ты, вроде, знаешь что-то!
— Мы все его видели, — ответил Хмыка.
Глебка прищурился.
— Какой он?
— Чистенький.
— С хлястиком, — добавил Пат.
После него заговорили все остальные беспризорники. И каждый вспоминал что-нибудь свое:
— Картошку всю нам отдал!
— И муку!
— Из деревни приехал!
— А квартиру у них отняли!
Глебка больше не сомневался: все совпадало.
— Где он? — спросил он.
— Бессонов увел, — повторил Пат.
— Карлик! — добавил Хмыка.
— Карлик! — подтвердил Пат. — Ну и что?… Он сам говорил: в чека головой работают!
Глебка ничего не понимал. Он чувствовал, что мальчишки не врут, но не мог им поверить.
— Скоро Бессонов сам придет, — сказал Пат. — Подожди — от него и узнаешь, где брат.
— А зачем он сюда придет?
— Хлеб нам принесет… Новости узнает.
— Какие новости?
Пат помолчал и второй раз махнул рукой.
— Тебе можно! Скажу!… Мы ведь не даром чекистский хлеб едим!
И он рассказал, как они помогают Бессонову. Глебка плохо представлял работу чекистов, но все же он не поверил Пату. Получалось, что без помощи беспризорников чекистам, которыми руководит Бессонов, нечего было бы делать.
Бессонова интересовали золото, старинные иконы и ценные картины, которые находились в руках бывших царских чиновников, богатых офицеров и не успевших удрать за границу купцов. Все они, конечно, не хвастались на улице своим богатством, но слухом земля полнится. Услышав чью-нибудь болтовню про таинственного соседа, который золото на хлеб меняет, или про бывшего лакея, у которого барин в революцию застрелился и оставил целое сокровище, беспризорники начинали слежку. И через несколько дней Бессонов получал от мальчишек адрес подпольного миллионера.
Чем больше Глебка слушал, тем яснее понимал, что Юрий попал в плохую компанию. Чекисты не могли поручить беспризорникам такое дело. И если Пат не врет, если мальчишки действительно дают Бессонову какие-то адреса, то скорей всего здесь кроется преступление.
Глебка так и сказал:
— Вор ваш Бессонов! А вы все — наводчики!… Знаете, что это такое?
— Это интересно! — проскрипел за дверью раздраженный голос.
В будку вкатился карлик, спросил, раздув ноздри:
— Так что же такое наводчик?
Глебка смутился. Он догадался, что этот уродец и есть Бессонов.
Карлик ничуть не был похож на бандита. Налетчиков, громил, врывающихся в чужие квартиры, Глебка представлял огромными, волосатыми, с пудовыми кулаками. А перед ним стоял кривоногий карапузик с короткими недоразвитыми руками. Немигающие глаза зорко, оценивающе щупали Глебку и беспризорников.
— Ну, ну! Смелей! — подбодрил карлик. — Они — наводчики, а я — вор. Так ты сказал?
Глебка не умел юлить.
— Да! — ответил он. — Но если вы покажете документы…
— Тебе?
— Можно пойти на вокзал.
— Хм! — одобрительно произнес Хмыка.
Пат и остальные беспризорники выжидательно смотрели на Бессонова. И по этим взглядам карлик понял, что у мальчишек уже нет того доверия, которое заставляло выполнять все его приказания.
Не меняя позы, без взмаха, карлик коротким отработанным движением ударил Глебку ребром ладони под подбородок. Ноги у Глебки подкосились, и он осел на колени. Красный туман наплыл на глаза. Голова, казалось, отделилась от туловища. Заваливаясь на бок, он все-таки успел обхватить руками кривые ноги карлика. Тот не устоял — тоже упал, но быстро вскочил и ударил лежавшего Глебку носком ботинка. И опять Глебка инстинктивно ухватился за ногу карлика и чуть не свалил его вторично. С трудом устояв, уродец выругался и, потеряв самообладание, стал остервенело пинать Глебку.
— Эй! — оттопырив ухо, крикнул Хмыка. — За что?… Это брат Хлястика!
— Не смей бить ногами! — поддержал его Пат и прищелкнул пальцами.
По этому сигналу все мальчишки не очень решительно, но все же придвинулись к карлику.
Уродец отступил от Глебки.
— Хм! — презрительно произнес Хмыка. — Че-кист!… Я так и думал!
Раскрытая ладонь карлика ребром, как топор, устремилась к шее мальчишки. Удар отбросил Хмыку к стене.
В ту же секунду Пат кинулся на Бессонова и схватил его за руку. На другой руке повисло еще двое мальчишек.
— Веревку! — крикнул Пат. — Веревку!
Но карлик был значительно сильнее мальчишек и применял такие приемы, от которых то один, то другой со стоном отлетали в сторону.
Очнувшись, Глебка увидел, что Бессонов пробился к двери и распахнул ее.
— Держите! — выдавил он, чувствуя страшную резь в горле. — Держите его!
Разбросав мальчишек, карлик выскочил из будки и, чтобы никто не побежал за ним, хотел захлопнуть и припереть чем-нибудь железную дверь. Глебка, все еще лежа на полу, успел просунуть ногу. Дверь ударила по лодыжке. Не вытерпев боли, он выдернул ногу и снова выдавил:
— Держите! Уйдет же!
Пат навалился на дверь. Она открылась. Карлик стоял шагах в пяти и, как фокусник, подбрасывал и ловил финский нож.
Мальчишки, выскочив из будки, замерли. Застыл и Глебка. Он стоял на одной ноге в дверном проеме и не знал, что делать.
Карлик еще раз подбросил финку, оттянул пальцем боковой карман, и нож, как в гнездо, упал прямо туда. Не говоря ни слова, уродец повернулся к мальчишкам спиной и заковылял на кривых ногах к железной дороге.
Было уже довольно темно. Расплывчатая фигура карлика темным пятном появилась на насыпи и исчезла.
— К Невской лавре покатился! — сказал Пат.
— Почему думаешь? — спросил Глебка и скривился, от боли, наступив на ушибленную дверью ногу.
— У него две хибары, — пояснил Пат. — Одна на Обводном, а другая где-то у Лавры.
— Хм! — усмехнулся Хмыка, потирая шею. — Он их конспиративными квартирами называл!… Че-кист!
Глебка оживился.
— Адрес знаете?
Точного адреса мальчишки не знали.
— Надо узнать! — воскликнул Глебка. — Вы же мастера выслеживать! Сегодня все узнаем, а завтра с утра я найду Дубка — и накроем этого бандюгу!
Взволнованный, разгоряченный Глебка забыл про боль и не заметил, как невольно вошел в роль командира семерых беспризорников. И все, даже Пат, без рассуждений признали его вожаком.
— Мы его обложим как волка бешеного! — возбужденно говорил Глебка. — Вы только не упустите его! А я забегу на вокзал за Глашей — и мы вас догоним!
Они вместе добежали до насыпи и здесь расстались. Пат повел мальчишек по тропе, по которой обычно шел карлик к Александро-Невской лавре. Эта тропа наискосок пересекала привокзальные задворки и приводила через проходные дворы на Старо-Невский проспект.
А Глебка пошел по шпалам к вокзалу, чтобы найти Глашу и прямиком по проспекту догнать мальчишек.
До платформы он добрался, а когда влез на нее, то понял, что не рассчитал своих сил. Ныло горло. Оно стало шершавым и плохо пропускало воздух. Нога распухла и болела все больше. Еле-еле добрел Глебка до вокзала, сел в зале на пол и снял сапог. Но от этого боль лишь усилилась. Придерживаясь руками за стену и за скамейки, как всегда плотно облепленные людьми, начинавшими готовиться к ночлегу, он протащился через зал ожидания и увидел Глашу у выхода в город.
ГРАФИНЬКА
То ли карлик шел очень быстро, то ли он выбрал другую дорогу, только мальчишки так и не догнали его. Выбежав на Старо-Невский проспект, они наскочили прямо на патрульных, прочесывавших привокзальные улицы.
В соседнем дворе стоял грузовик с кузовом, обтянутым брезентом. И не успели мальчишки испугаться, как очутились на скамейке под брезентом.
Пожилой мужчина в очках, с кобурой на ремне, в осеннем пальто сел напротив беспризорников, улыбнулся и спросил:
— Никого не забыли? Можно ехать?
— Хм! — с хитрецой произнес Хмыка. — Подожди немного! Сейчас придет еще один — с ленинским мандатом. Он тебе поедет!
Мужчина в очках посуровел:
— Плохо шутишь, парень!… Запомни на всю жизнь: Ленин… — он глубоко вздохнул. — Да что говорить! Где эти слова-то!… В Питере бензина — считанные капли, а за вами машину гоняем! Дров нету, а для вас — санпропускник с горячим паром! Хлеба нет, а вас ужин ждет! И все это — Ленин! Владимир Ильич!
Снаружи стукнули по брезенту и тихо предупредили:
— Еще идет!
Мужчина приложил палец к губам.
— Если зашумите, он останется мерзнуть на улице, а вы спать в чистой постели будете… Нехорошо получится!
Снаружи тот же голос сообщил:
— Девчонка! Не из этих!… Можно ехать!
Мужчина в очках привстал, доверчиво оперся рукой на плечо Пата и стукнул кулаком по кабине водителя.
С перебоями зачихал мотор.
Снаружи крикнули:
— Дубку про улов сообщи!
— Помню! — отозвался мужчина и спросил у беспризорников: — А ну, признавайтесь, кого Юрием зовут?
Мальчишки переглянулись. Хмыка оттопырил ухо.
— Ясно! — произнес мужчина, поняв, что они откровенничать не собираются, и добавил: — Разберемся!…
Машина тронулась, выехала со двора и, поравнявшись с Глашей, покатилась дальше…
Не знала Глаша, что тех, кого она, по поручению Глебки, хотела догнать, только что провезли мимо нее. Глебка не успел объяснить все подробно. Он только сказал, что Юрия увел бандит — карлик. Беспризорники следят за ним, и Глаша должна идти по проспекту, пока не увидит семерых мальчишек. Надо им сообщить, что у Глебки разболелась нога и что он велел обязательно узнать адрес карлика и сразу же вернуться на вокзал.
Глаша все быстрее и быстрее шла по темному проспекту. После того как проехала машина, навстречу не попался ни один человек. В окнах гасли последние огни. Впереди и на пересекающих проспект улицах было темным-темно. Но Глаша не боялась темноты. Здесь не лес — медведей нету. Сбиться с дороги невозможно. Проспект — без единого изгиба, как стрела, а в другие улицы Глебка приказал не заходить.
Одно не понятно: почему все еще не видно мальчишек? Неужели они идут так быстро? Но тут Глаша вспомнила, что беспризорники следят за каким-то карликом, а он мог побежать от них. Тогда и мальчишки, конечно, побежали, чтобы не отстать. И она тоже припустилась вдоль вереницы темных домов и закрытых ворот.
Проспект привел Глашу к каменной стене вроде монастырской, В центре виднелся вход, но и здесь ворота были закрыты. За оградой вверху на фоне неба проступали неясные очертания церковного купола. Расчищенный тротуар кончился. Влево уходила тропа, протоптанная среди сугробов подтаявшего снега. Идти дальше или вернуться?
Глаша колебалась недолго. Подумав о брате, который попал в воровской притон, о Глебке, с нетерпением ждавшем ее на вокзале, она решительно повернула влево и побежала по тропе мимо приземистого монастырского здания с узкими, как бойницы, окнами.
Теперь уже нигде не было ни огонька, но Глаша не теряла тропу, которая темной полоской уходила все дальше и дальше.
И снова Глашу стали одолевать сомнения. Скоро и город, наверно, кончится, а мальчишек не видно и не слышно! Может быть, Глебка что-нибудь напутал? Или она сама пошла не туда, куда надо? Ведь даже дома тут какие-то нежилые, похожие на большие кирпичные сараи без окон и с железными дверями. Не вернуться ли все-таки назад?
Но впереди вдруг что-то скрипнуло, и Глаша услышала, как невидимый отсюда человек громко причмокнул губами и произнес:
— Н-но! Шевелись!
Со всех ног бросилась Глаша на голос. Ей казалось, что это далеко. Она не рассчитала и, разбежавшись, чуть не наткнулась в темноте на оглоблю.
Лошадь всхрапнула и отпрянула в сторону, выдернув сани из колеи. Испуганно ахнула женщина. Мужчина судорожно натянул вожжи, перекрестился и выругался.
— Тьфу! Нелегкая тебя по ночам носит! Лиходейка окаянная! Чего выскакиваешь, как из-под земли?
— Больно ты пужливый! — улыбнулась Глаша. — Мальчишки вам не встретились по дороге? Семь их должно быть.
Мужчина и женщина молчали. Они не просто молчали — они оцепенели. Глаша поняла: произошло что-то страшное, но что?
А вокруг будто немного посветлело. Она оглянулась.
В темноте, ни на что не опираясь, парил в воздухе багрово-красный крест. Зловещий отсвет от креста падал на деревянный забор, отгораживавший кладбище от Шлиссельбургского тракта. В одном месте верхушка забора была обломана, и над расщепленными досками торчали три черепа с горящими глазницами и оскаленными зубами.
В мертвой тишине устало фыркнула лошадь и тряхнула головой, тихо звякнув удилами. Эти мирные деревенские звуки помогли Глаше преодолеть леденящий необъяснимый ужас, который охватывает иногда и смелых людей, встретившихся с чем-нибудь на первый взгляд сверхъестественным, непонятным. Она даже хотела сказать что-то обомлевшим от страха, застывшим в санях людям. Но три черепа, мигая горящими глазницами, задвигались, стали подниматься, и над забором выросли высоченные, одетые в саваны выходцы с того света. Один из них — самый высокий — отвел ногу в сторону и легко перешагнул обломанный в этом месте, но все же довольно высокий забор.
В санях пронзительно завопила женщина. Она спрыгнула в снег и побежала. Мужчина бросился в другую сторону.
А Глаша, замерев, все смотрела на мертвецов, которые по очереди перешагнули через забор и, покачиваясь, шурша длинными, до самой земли саванами, надвигались на нее. Кровожадно горели их глаза. В огненных ртах чернели острые клыки.
Лошадь все пофыркивала и мотала головой. Позвякивали удила. И Глаша в какое-то переломное мгновенье почувствовала, что не боится этих мертвецов. «Обычные разбойники! — мелькнула мысль. — Только городские, с фокусами!» Страх не прошел, а как-то изменился, стал понятным, осмысленным. С ним можно было бороться. «Взять у меня нечего, — подумала она. — Убить не за что, а если поколотят — стерплю!»
Тут Глаша вспомнила про сани, про людей, которые везли что-то, и посмотрела назад. Ни мужчины, ни женщины поблизости не было. В санях лежали туго набитые мешки, прикрытые сеном. И Глаша догадалась, что именно эта поклажа и привлекла к себе ходячих мертвецов.
Передний — самый высокий, трехметрового роста — остановился в нескольких шагах от Глаши и захрипел, точно его душили. Два других запрыгали, деревянно постукивая ногами, до пят закрытыми саванами.
Глаша отмахнулась от них.
— Отвяжитесь! У меня ничего нет! А это, — она кивнула на сани, — не мое!
Мертвецы больше не прыгали. Самый высокий перестал хрипеть, зашатался и, чтобы сохранить равновесие, оттопырил саван и через него рукой ухватился за соседа.
— Ходули-то бросьте — упадете! — сказала Глаша. — У нас в Таракановке и повыше мальчишки делают!
Искренний звонкий смех донесся из-за кладбищенского забора.
— Ай да деваха! — воскликнул приятный женский голос. — Покажите-ка мне ее!
И этот же голос, вдруг погрубев, привычно скомандовал:
— Туши фонарь!… Муку взять! Лошадь не трогать!
Кровавый крест за забором потух. Мертвецы, шелестя белыми балахонами, сошли с ходуль, сняли фанерные черепа, задули горевшие внутри свечи. Самый высокий, подобрав свою амуницию, взял Глашу за рукав.
— Идем! Графинька требует!
Глаша не сопротивлялась, не кричала и не пыталась убежать. Слишком много сил потратила она, чтобы не поддаться страху.
Ее довели до забора, подсадили, подтолкнули сзади, и она плюхнулась вниз.
На одной из могил, утонув в нетронутом снегу, как в мягком кресле, удобно сидела женщина, закинув ногу за ногу. Даже в темноте было видно, что она молодая и красивая. И одежда на ней — богатая, теплая: фетровые бурки, меховое пальто, гарусная косынка.
— Что же это ты такая смелая? — с шутливым укором спросила она у Глаши. — Мертвых все боятся!
— Живые бывают страшней! — ответила Глаша. — У меня отца и маму живые убили!
— Сирота? — в голосе женщины прозвучало сочувствие и какая-то заинтересованность. — Куда же ты шла ночью?
— Мальчишек искала.
— Каких?
— Беспризорных.
Из темноты вышел коренастый человек и доложил:
— Муку сгрузили. Что с лошадью делать?
— Отведите подальше и пусть бредет, куда ей вздумается, — сказала женщина.
Мужчина продолжал стоять, и тогда она спросила недовольно:
— Чего тебе еще?
— Укрылась бы, Графинька! — посоветовал он. — А ну как те очухаются и людей созовут?
— Ладно! Иди.
Женщина встала.
— Как тебя зовут?
— Глаша.
— А меня… Слышала?… Графинь теперь нету! Я — графинька… Идем!
— Отпустили б вы меня! — взмолилась Глаша. — На что я вам?
— Не бойся — не съем! Идем! Никто тебя не обидит!
— Отпустите! Христом-богом молю!… Что вам с меня проку!
И снова из темноты вынырнул какой-то человек.
— Графинька! Карлик пришел!
— Иду! — сказала женщина и задумалась.
Глаша поняла: сейчас решается ее судьба. Она почему-то была даже уверена, что стоит еще разок попросить со слезами в голосе, и ее отпустят. Но Глаша не попросила. Она услышала про карлика. Глебка говорил: Юрия увел какой-то карлик. За карликом следили беспризорники. Чтобы отыскать Юрия, нужно было узнать адрес карлика. И вот опять услышала она про карлика!
Глаша, теперь уже боясь, что женщина отпустит ее, торопливо спросила:
— А бить не будете?
Женщина взяла ее за руку и повела за собой.
Они долго шли среди могил и крестов, часто меняя направление. Графинька знала кладбище, как Глаша свою Таракановку. В полной темноте они сворачивали то влево, то вправо и ни разу не сбились, не запутались среди узких проходов. Изредка женщина предупреждала:
— Нагнись!
И Глаша, нагнувшись, пролезала под каким-нибудь суком, низко нависшим над могилами. И еще раз ей пришлось нагнуться, а когда она выпрямилась, то почувствовала, что они уже не на кладбище, а в каком-то темном подвале. Ступени вели вниз. Глаша покрепче ухватилась за руку женщины.
— Не бойся! — повторила Графинька. — Это мой дворец.
Она невесело рассмеялась.
Ступени кончились, и впереди забрезжил желтоватый огонек. По узкому коридору они прошли еще несколько шагов и оказались в просторной келье с двумя выходами, но без окон. Толстая свеча горела на столе, вокруг которого стояли три стула с высокими спинками. На четвертом, облокотившись на стол и подперев голову короткими руками, сидел карлик. Его лицо было хорошо освещено, и потому Глаша не подумала, что это мальчишка, а сразу признала в нем того уродца, о котором говорил Глебка. Сердце у нее тревожно застукало.
— Это еще кто? — строго проскрипел карлик, увидев Глашу. — Ты, Графинька, спятила!
— Не ругайся! — отозвалась женщина, и Глаша по ее голосу почувствовала, что она побаивается уродца. — Это сирота! И удивительно смелая девчонка!
— Оч-чень интересно! — произнес карлик. — Меня эти смелые сироты чуть не накрыли сегодня!… Дуришь, Графинька! Очередной твой фортель!… Смотри — оставлю здесь!
— Не уйдешь! — раздраженно сказала женщина. — У меня на твой ковчег глаза наложены!
Карлик метнул злобный взгляд, стукнул ребром ладони по столу.
— Язык бы тебе отрезать!… А глаза твои — слепые! Кого сегодня грабанула? Видела?
Графинька не ответила. Они с Глашей стояли, как провинившиеся, а карлик сидел и задавал колкие вопросы.
— Видела? — повторил он. — Откуда везли муку, знаешь?
— На мельнице получили.
— Для кого?
— Не знаю… Не все ли равно?
— А я знаю… Ее тифозникам отпустили — в Боткинские бараки.
— Ну и что?
— А то, что теперь всю Лавру перероют!
— К утру уведу людей.
— К утру! — усмехнулся карлик. — Я тут больше ни на минуту не останусь.
— Уходи, — безразлично ответила Графинька.
Карлик встал. Приказал:
— Два мешка мне подкинешь!… Проводи.
— Посиди здесь, — сказала женщина Глаше и впереди карлика пошла по темному коридору.
Стройная, высокая, она двигалась легко и быстро. Карлик волочился сзади, как уродливый и нелюбимый мальчишка за своей красивой матерью.
Глаша осталась одна.
ОБЛАВА
Хлеб, топливо, транспорт — вот в чем особенно остро нуждался тогда Петроград. Это были труднейшие, переплетенные между собой проблемы. Транспорт не мог работать без топлива, а топливо и хлеб не на чем подвезти, потому что не хватало транспорта. На учете был каждый паровоз, каждый автомобиль, каждый железнодорожный и трамвайный вагон.
Городская партийная организация решила весной привести в порядок речной флот. В Смольный были приглашены матросы. Дубка назначили старшим. Задание дали такое — выявить все неучтенные плавсредства: баржи, катера, буксиры. Их надо было обезопасить на время ледохода, отремонтировать и пополнить ими городскую флотилию.
Дубок с группой матросов получили карту и допоздна засиделись в Смольном, обсуждая маршруты будущих походов по Неве вплоть до Ладоги. В тот же вечер они получили срочное задание и, развернув на столе подробную карту Невы со всеми ее притоками, заводями и причалами, что-то отмечали и чертили на ней.
Зазвонил телефон. Подозвали Дубка, и матросы увидели, что их новый командир, который, казалось, был твердокаменным, умеет волноваться.
Звонили из детского приемника и сообщили, что привезли семерых беспризорников. Юрия среди них не было, но несколько дней назад мальчишки видели его и даже разговаривали с ним. Есть предположение, что он попал к ворам, обитающим где-то в районе Невской лавры. Машина с патрульными сейчас выедет туда, потому что к Лавре, по словам беспризорников, направились еще двое из их компании.
— Место в машине есть? — спросил Дубок. — Человек на десять?
— Есть.
— Тогда ждите пополнение — скоро прибудем!
Положив трубку, Дубок посмотрел на матросов.
— Это не приказ. Это — просьба… Кто поедет со мной?
Матросов было одиннадцать. Все встали и потянулись за бескозырками.
Выехав на Старо-Невский проспект, машина сбавила скорость и поползла совсем как черепаха. Патрульные, матросы, Дубок и мужчина в очках, который теперь ехал в кабине с водителем, внимательно вглядывались в темноту, чуть разбавленную тусклым светом фар. Водитель первый увидел мальчишку. Хромая, придерживаясь рукой за стену дома, тот еле передвигал ноги, но упрямо брел вперед.
— Есть один! — сказал водитель тоном заядлого грибника, увидевшего первый гриб.
Мужчина постучал в заднюю стенку кабины — предупредил, чтобы в кузове были наготове. Машина подъехала вплотную к тротуару, и желтый свет фар выхватил мальчишку из темноты. Он прислонился спиной к дому и рукой, как козырьком, заслонил глаза от света.
— Молодец! Не побежал! — одобрительно пробасил Дубок, выпрыгивая из кузова. — Торопиться тебе некуда.
— Дубо-ок! — простонал Глебка. — Есть куда! Теперь и Глаша пропала! Я ее послал, а она пропала! И мальчишек нет! Убить могут! Спасать их надо! Нож у него! Финка!
Дубок удивился и обрадовался, узнав Глебку, но внешне ничем не проявил эту радость.
— Отдышись! — сухо сказал он. — Потом доложишь!
Глебка опять заговорил быстро, отрывисто, непонятно для других, хотя ему казалось, что яснее сказать невозможно.
— Забыл? — сурово оборвал его матрос. — Дубок одно и то ж два раза не повторяет!
Замолчал Глебка и вновь открыл рот только тогда, когда почувствовал, что сумеет рассказать все коротко и толково, как требовал всегда Дубок.
Выслушав его, матросы и патрульные переглянулись.
— Дело-то серьезное! — произнес мужчина в очках и, нашарив на поясе кобуру, спросил у Дубка: — Оружие у твоих с собой?
— Захватили.
— Рискнем или подмогу вызовем? Лавра — место темное…
— Нас двенадцать, да вас пятеро, — подсчитал Дубок. — Не батальон же там прячется!
— И то верно! — согласился мужчина и скомандовал:
— По местам!
Все побежали к машине. И Глебка бросился за Дубком, но упал на первом же шагу, наступив на больную ногу. Матрос легко подхватил его, поднял на руки, прижал к себе и прошептал с неожиданной теплотой:
— Прости! Забыл про твою ногу!
Он подбросил Глебку к борту машины. Чьи-то руки подхватили его и опустили на скамейку под брезентом.
Грузовик еще медленнее с потушенными фарами проехал два квартала и снова остановился.
Навстречу брела лошадь, запряженная в сани. Ее окружили и, приготовив оружие, приблизились. Ни груза, ни ездоков в санях не было. Вожжи волочились по снегу. Увидев людей, лошадь остановилась и доверчиво заржала, будто позвала к себе.
Не часто в холодном и голодном Петрограде бродили без присмотра кони. И это еще больше насторожило матросов и патрульных. Одного из них оставили с лошадью, а машина поехала дальше.
Больше никого не встретили до самой Лавры.
Здесь отряд разделился на две части. Одна половина во главе с Дубком перелезла через высокие закрытые ворота, а другую мужчина в очках повел в обход по Шлиссельбургскому тракту.
Глебка остался с водителем в машине.
Миновав монастырские строения, группа, которой командовал мужчина в очках, вышла к забору кладбища, и почти все одновременно заметили впереди две удалявшиеся фигуры: одну высокую, стройную, другую маленькую, детскую.
— Стой! — крикнул передний матрос.
Весь отряд, перегородив узкий тракт, цепью двинулся вперед. Женщина и мальчишка испуганно прижались к забору.
— Кто такие? — спросил мужчина в очках, подойдя к ним и всматриваясь в лица.
Фонаря ни у кого не было. Мужчина зажег спичку, осветил лицо женщины и опустил огонек вниз, чтобы рассмотреть мальчишку. Но это ему не удалось. Мальчишка уткнулся в меховое пальто женщины и заплакал удивительно противным скрипучим голосом.
— Кто такие? — повторил свой вопрос мужчина.
Мальчишка заревел еще громче.
— Зачем пугаете сына! — тихо и зло произнесла женщина. — Ворюги несчастные!… Пальто вам мое нужно? Нате — возьмите!
Она стала расстегивать пуговицы.
Матросы и патрульные заулыбались. Мужчина в очках сердито бросил наган в кобуру.
— Дура! — он потрепал мальчишку по плечу. — Не реви! Мы не воры! Не тронем твою мамку!… Куда шли в такую пору?
В это время на кладбище гулко раз за разом ударили два выстрела.
Матросы и патрульные без команды бросились к забору.
— Быстрей уходите — подстрелить могут! — сказал мужчина Графиньке и карлику и полез через забор…
Водитель и Глебка, который теперь сидел в кабине грузовика, тоже услышали два выстрела. Глебка беспокойно заерзал на сиденье.
— Наши?
— Наши! — успокоил его шофер. — Сиди, не дергайся.
Но сам он открыл дверцу, вылез и подошел к решетчатым воротам Лавры. Глебка потихоньку выбрался из машины, дохромал до него и ухватился руками за железные брусья.
Несколько минут стояли они рядом, прислушиваясь. Но выстрелов больше не было. Из ворот несло холодной сыростью. Казалось, что из кладбища вытекает липкая мерзлая тишина.
Глебка чувствовал себя несчастным и во всем виноватым. Были у него друзья. Где они? Юрия он сам бросил! И Глашу послал сам неизвестно куда. Одну! Ночью! В незнакомом для нее городе! Где она сейчас? Неужели пошла на кладбище?
Он бы ни за что не сунулся ночью на кладбище! Но то он, а то она! Скажет свое «чичас» и, если надо, полезет хоть в огонь.
— И зачем только кладбища в городе устраивают? — произнес он, забыв про водителя.
Но тот услышал и, почувствовав в голосе мальчишки затаенную тоску, неумело пошутил:
— А где жить мертвым?
— Везли бы подальше…
— Ты, видать, никого из близких не хоронил?
— Хоронил.
И Глебка вдруг отчетливо увидел белый крест над могилой матери на Охте и красную звезду над холмиком отца под Узловой. Услышал прощальный салют. И, точно эхо того салюта, из глубины Лавры донесся третий выстрел.
Глебка вздрогнул, зажмурился. Ему подумалось, что эта пуля могла попасть в Дубка. Чтобы отогнать дурную мысль, он сильно дернул за брусья. Ворота железно брякнули, как листья металлического венка.
— Пойдем! — воскликнул он и схватил водителя за рукав.
— Куда?
— Да к ним! Бой же идет!
— Это не бой… Постреливают — мазуриков из нор выкуривают, — спокойно ответил водитель.
Так они простояли часа два, пока не послышались голоса и шаги.
Глебка сразу узнал Дубка. Матрос шел впереди. За ним в кольце патрульных вели бандитов со связанными за спиной руками. Потом тяжело шагали матросы с мешками муки. Двое вели раненого. Мужчина в очках и Глаша замыкали колонну.
— Глебушка! — крикнула она. — Как нога?… Перебинтовать ее надо потуже! Я чичас!…
Только под утро привел Дубок Глашу и Глебку на свою холостяцкую квартиру. На буржуйке вскипятили чай. Глаша нарезала тонкие лепестки хлеба и крохотные кусочки селедки. Это был весь запас, который хранился у матроса в кухонном столе.
Отпив глоток горячего чаю, Дубок сказал:
— Приказ найти Юрия отменяется. Это дело вам не по зубам. Другие займутся… Жилье ваше с сегодняшнего дня здесь. Рядом школу ремонтируют — помогать будете… Но с тебя вина за Юрия не снимается!
Матрос взглянул на Глебку и надолго замолчал после своей непривычно длинной речи.
ДВЕ ОПЕРАЦИИ
Юрию не спалось. Он слышал, как часы пробили и двенадцать, и час, а сон не приходил. Все эти дни какая-то неясная тревога по капельке накапливалась в сердце. Он почувствовал ее первый раз, когда Бессонов подробно расспросил про всех знакомых Юрию художников. Особенно интересовался карлик теми, у кого Юрий бывал дома: адрес, сколько человек в семье, как расположена квартира, какая в ней обстановка, есть ли там картины. Бессонов объяснил, что все эти сведенья нужны ЧК, чтобы скорее удалось освободить отца и мать.
Сначала Юрий не увидел в вопросах карлика ничего подозрительного. Он думал, что чекисты побывают у названных им художников, расспросят про папу с мамой и, конечно, ничего плохого про них не услышат. Но зачем знать Бессонову, как обставлены квартиры и есть ли там картины? Уж не собирается ли он конфисковать их?
Это была первая тревожная капелька, а потом их стало больше. Юрий почувствовал фальшивые нотки во взаимоотношениях чекистов. В чем это выражалось, он не уловил. Просто чувствовал, и все.
Лежал Юрий в постели с открытыми глазами и слушал холодное тиканье часов. В доме больше никого не было. Вокруг дома — тоже. Эта деревянная, деревенского типа избенка стояла на отшибе в глухой части Обводного канала.
Уходя, Бессонов всегда запирал дверь снаружи, а возвращаясь, никого с собой не приводил. Пока его не было, никто ни разу не стукнул ни в дверь, ни в низенькие окна с двойными рамами. Чтобы Юрий не скучал, Бессонов принес ему несколько книг по искусству и сказал, что эксперту они пригодятся. Сам же карлик был поразительным профаном. Он любил неуместно произносить слово «Ренессанс», а передвижников называл подвижниками. Этими двумя словами исчерпывались все его познания в искусстве, что тоже казалось Юрию подозрительным.
Он понимал, что чекистам совсем не обязательно во всех тонкостях разбираться в искусстве. Но у Бессонова и его подчиненных было пугающее отсутствие всяких знаний. По сравнению с ними Юрий казался профессионалом, хотя и его знания были весьма поверхностные. И это тоже настораживало. Разве чекисты не могут найти в Петрограде настоящего эксперта?
Много вопросов задавал себе Юрий и ни на один не находил ответа. И вспоминал он многое: и Таракановку, и Глашу, и Дубка. Но об одном человеке он старался не думать — о Глебке…
В третьем часу ночи Юрий почувствовал, что глаза у него начинают, наконец, слипаться. Он осторожно, чтобы не отпугнуть сон, повернулся на правый бок. С улицы донесся скрежет. Была оттепель. На мостовой в проталинах обнажился булыжник, и сани задевали за камни полозьями. Этот скрежет приближался к дому. В такой поздний час мог приехать только Бессонов.
Карлик в ту ночь был такой же, как всегда, словно ничего с ним не произошло. Он похвалил Юрия за то, что тот так чутко, по-чекистски, спит, и приказал одеваться.
— Сегодня у нас две операции, — сказал он. — Потом у тебя будет большая работа. А к тому времени, я думаю, отец и мать уже вернутся домой. Я проконтролировал: ордер на старую квартиру им выписан.
— Вы правду говорите? — дрогнувшим голосом спросил Юрий.
У него не было прежнего доверия к карлику, но в эту новость ему так хотелось поверить, что он постарался заглушить в себе сомнения.
— Ничего не сказать — это я могу, — веско заявил Бессонов. — Но если говорю, то только правду!
И опять у Юрия потеплело на душе. Он быстро оделся и доложил:
— Я готов.
Карлик сунул в круглую печку какие-то тряпки и бумаги, открыл вьюшку и поджег. В топке завыло. Бессонов тщательно перемешал кочергой горящий хлам, и они вышли на улицу. В санях на прежних местах сидели два матроса. А вместо чекиста, похожего на Ленского, Юрий увидел женщину в меховом пальто.
— Добрый день! — по привычке произнес он.
Ответила только женщина.
— Ночь, да и то не добрая! — сказала она, оглянувшись.
— Нервы! Нервы! — предостерегающе проскрипел карлик и спросил у Юрия: — А ты чему удивляешься?
Юрий действительно был ошеломлен. Когда женщина оглянулась, он узнал в ней чекиста, похожего на Ленского.
— Нам и не так приходится наряжаться, — пояснил Бессонов и подтолкнул мальчишку к саням.
— Кто же вы? — не сдержал любопытства Юрий. — Мужчина или женщина?
— А вот это не важно! — поспешил проскрипеть карлик.
— Кому как! — игриво, но невесело возразила Графинька.
Сани прежней дорогой доехали до спуска на лед Обводного канала.
— Выдержит? — спросил Бессонов.
— Здесь еще ничего, а на Неве много промоин, — ответил матрос, правивший лошадью. — Дня через три тронуться может.
— Лед? — спросил Юрий.
— Ты сегодня слишком разговорчив, — недовольно проскрипел карлик, и после этого замечания долго никто не произносил ни слова.
Ехали около часа. Обводный канал давно остался позади. Сворачивали то влево, то вправо, а остановились у красивого трехэтажного здания с высокими застекленными дверями и широкими окнами.
Поднятый с постели председатель домкома не сразу понял, к кому пожаловали ночные гости, а когда разобрался, уважительным шепотком предупредил:
— Он хоть и царский, но профессор! Хирург по животам. А в брюхе что сейчас, что при царе — требуха единая! Может, он сгодится и нам? Может, не стоит забижать?
Матрос не расслышал последнее слово и грубо ответил:
— Забирать не будем! Обыск!
Председатель домкома благоразумно решил с чекистами не спорить и послушно повел их в профессорскую квартиру.
Хирург еще не ложился или уже встал, потому что дверь он открыл сам, и никаких следов сна на его лице не было. Юрий увидел очень высокого, старого, но совсем еще крепкого человека. Длинные сильные пальцы сжимали яркую керосиновую лампу — кобру, которая свернулась в кольцо и угрожающе подняла раздутую голову. В раскрытую пасть вставлялось стекло.
Вопросительно шевельнув похожими на крылья бровями, он произнес:
— Ну-с?
Матрос без обычной напористости подал ему ордер на обыск. Хирург отставил бумажку на вытянутую руку и прочитал текст.
— Вы не ошиблись?
— Фамилия ваша? — в свою очередь спросил Бессонов.
Хирург наклонил голову, рассмотрел карлика и ответил:
— Моя.
— Значит? — вопросительно произнес Бессонов.
— Значит — ко мне.
— Логично! — улыбнулся карлик.
— Не все логично, но… проходите, пожалуйста.
В богатой прихожей хирург поставил лампу на инкрустированный столик.
— Прошу вас подождать. — Он указал на широкий кожаный диван. — Всего одну минуту… Я хочу показать вам документ.
— Никаких… — начал было матрос.
Бессонов остановил его и сказал:
— Пожалуйста.
Хирург вернулся очень быстро. В одной руке он все еще держал ордер на обыск, в другой — какую-то свою бумагу. Оба документа он положил на стол в круг света от лампы, разгладил и, обращаясь к Бессонову, развел руками:
— Не все логично. Извольте посмотреть: охранная, так сказать, грамота, а рядом — ордер на обыск.
— Все охранные отменяются! — рыкнул матрос.
— Подождите, товарищ Крюков! — проскрипел карлик, читая документ. — Как раз эта и не отменяется!
Бессонов взял ордер, спрятал в карман, поклонился хирургу.
— Простите за беспокойство, — он даже сумел улыбнуться. — Теперь логично?
— Вполне!
Они вышли на лестницу. Когда хирург, посветив им с площадки лампой-коброй, закрыл дверь, Бессонов сказал председателю домкома:
— Вы оказались правы. Этот человек полезен для Советской власти.
— Я людей своих знаю! — отозвался польщенный председатель.
Так закончилась первая в ту ночь операция. Юрий чувствовал, что все: карлик, матрос и женщина в меховом пальто — очень расстроены. И он понимал их — такой конфуз! Но Юрия этот случай обрадовал. Он сам увидел, как ошиблись чекисты и как тут же исправили свою ошибку. Так будет и с его родителями.
Вторая операция тоже началась неудачно. На этот раз они подъехали к огромному серому дому, поднялись по узкой грязной лестнице на пятый этаж и долго стучали в квартиру председателя домкома. Но никто не открывал. Из-под двери и сквозь замочную скважину несло холодом, точно в квартире были распахнуты окна.
Матрос, разозлившись, лягнул дверь ногой.
— Ночка! Чтоб ее!…
— Умрешь от такой работы! — произнесла женщина.
— Один понятой у нас есть. Эксперт — на месте, — проскрипел карлик. — Можно обойтись без представителя местной власти. Ведите, товарищ Крюков!
Матрос, вероятно, уже бывал в этом доме и знал, где находится нужная квартира. Они спустились вниз, узким проходом вышли во двор, оказались на другой лестнице, но не стали подниматься, а, наоборот, пошли по ступенькам вниз, где обычно располагаются в старых, домах полуподвальные помещения.
Тяжелый кулак матроса выбил из двери глухую дробь. Все прислушались. Было очень тихо. Но у всех возникло ощущение, что за дверью кто-то есть.
Матрос постучал еще раз, прорычал на самых низах своего баса:
— Отпирай! Чека!
Теперь уже совершенно отчетливо за дверью послышалась какая-то возня.
— Окна есть? — спросил Бессонов.
— Есть, — ответил матрос.
— Ломай! Да быстро!
Матрос наклонился к внутреннему замку, ковырнул чем-то металлическим. Замок жалобно лязгнул. Крюков навалился на дверь плечом, потом рванул ее на себя, с треском распахнул и сразу же присел у порога.
Из темноты вылетело что-то тяжелое, просвистело, ударилось о ступеньки и зазвенело, как топор. Женщина схватила Юрия за рукав и отдернула в сторону. Матрос с Бессоновым ринулись в полуподвальную комнату.
Оттуда раздался приглушенный крик, тупые звуки ударов, скрип пружин. После этого все умолкло и в комнате загорелся тусклый свет.
Когда Юрий переступил невысокий порог, мужчина, оглушенный кулаком матроса и лежавший поперек кровати, пришел в себя, сел и нагловато усмехнулся:
— Ловко!
— Как умеем, — ответил карлик, осматривая комнату. — Очень неудобное помещение для вора: один вход и окно в землю смотрит.
Рама была открыта, и окно лишь верхней половиной возвышалось над грязным талым снегом двора. Потому, наверно, мужчина, открыв раму, выбраться из комнаты не успел.
— Ордер предъявлять нужно? — спросил Бессонов.
Мужчина, разминая ушибленную челюсть, брезгливо махнул рукой.
— Отстань!
— Люблю умных людей! — похвалил его карлик.
Матрос уже рылся в шкафу и открывал какие-то чемоданы, Бессонов ни к чему не прикасался и почти дружелюбно сказал:
— Картинки-то отдай.
Мужчина хотел прикинуться удивленным и ничего не понимающим, но, вздохнув, выразительно посмотрел на подоконник.
— Все равно найдете.
Юрий увидел обрезок ржавой водосточной трубы, перевязанный старой веревкой.
— Умно! — одобрительно произнес Бессонов. — Хороший футляр.
Сняв с подоконника трубу, карлик заглянул внутрь. Там лежали туго скрученные рулоны холста.
— Ренессанс! — воскликнул он.
Юрий подошел к нему. Но Бессонов не стал вытаскивать рулоны.
— Потом полюбуемся.
Он передал трубу матросу.
Мужчина встал с кровати, покорно протянул руки.
— Извини! — улыбнулся Бессонов. — Браслетики не захватили — знали, что с умным человеком беседовать придется. А вот расписаться — попрошу!
Он протянул узкий листок бумаги и карандаш.
Когда мужчина прочитал заранее написанный текст, лицо его стало таким же вяло-бессмысленным, как после оглушительного удара матросского кулака.
— Подписка о невыезде? — прошептал он и, взглянув на карлика, расписался так быстро, будто боялся, что кто-нибудь может одуматься и исправить счастливую для него ошибку.
Юрий был удивлен не меньше. Он не сомневался, что этот человек настоящий преступник, которого надо немедленно задержать и увести в ЧК. Но Бессонов ограничился подпиской о невыезде. Спрятав ее, он кивнул головой матросу, и все вышли из комнаты.
Когда пересекали двор, Юрий заметил тускло светившееся приоткрытое окно полуподвальной комнаты. Оттуда вылетал истерический безудержный хохот. Женщина тоже хихикнула в воротник и невнятно произнесла какое-то слово: не то «пошло», не то «дошло».
Матросу, поджидавшему их в санях, Бессонов приказал:
— На базу.
Юрий понял, что сегодня его повезут не в дом на Обводном канале, а куда-то в другое место.
КОВЧЕГ
Что здесь размещалось раньше, отгадать было трудно. Длинное в два этажа здание с выбитыми стеклами и отвалившейся штукатуркой походило на казарму, которую долго и яростно штурмовали со всех сторон. Двери, пробитые пулями, еле держались на петлях. Узкие коридоры были завалены какими-то бухгалтерскими счетами с красными и черными цифрами. На подоконниках зеленели гильзы от винтовочных патронов. В комнатах с лужами от растаявшего снега, наметенного зимой в распахнутые окна, валялись и книги, и пустые пулеметные ленты, и бинты. В одной из них, уткнувшись носом в угол, лежал большой плюшевый медведь на деревянной подставке.
Ребят около будущей школы собиралось много. Все они жили поблизости и пришли сюда к восьми часам утра. Перед началом работы пожилая женщина с гладко зачесанными назад седыми волосами сказала:
— Мальчики и девочки! Посмотрите на этот дом. Он теперь ваш! Не все в нем в порядке, но я надеюсь, что вы сделаете его самым красивым на нашей улице. Он заслуживает этого! Дом этот не простой. Он волшебный! Сегодня вы в первый раз войдете в него. Многие из вас не умеют ни читать, ни писать, ни считать. А когда вы и последний раз выйдете из этого дома, все вы будете грамотными, культурными людьми. Вот какой замечательный дом! Давайте же сделаем его чистым, опрятным, уютным!…
Ребята разбились на пары, и за каждой парой закрепили одну комнату. Глебке с Глашей досталась та, в которой лежал огромный плюшевый медведь. Он был тяжелый. Вместе они поставили его, и Глаша обошла вокруг, потрогала куцый хвостик, погладила по плюшевой спине. От этого прикосновения медведь потерял равновесие и повалился прямо на дверь. Одной лапой он распахнул ее, а другой сшиб кожаную фуражку с головы молодого мужчины, который за секунду до этого подошел к двери с той стороны.
Мужчина присел от неожиданного нападения, а потом, поняв, что это чучело, поднял фуражку и произнес, медленно выпрямляясь:
— Хорош тезка!… Вы его, ребята, не выбрасывайте. Отличный экспонат по естествознанию!
Он обхватил медведя, вместе с ним шагнул в комнату, поставил его в угол и плотно прикрыл дверь.
— Ты — Глаша, ты — Глебка! — сказал он. — А я — Михаил и вдобавок, — он улыбнулся медведю, надел на него свою фуражку, — Потапович!… Вот какое совпадение!…
Видно было, что все это он говорит не только для ребят. Ему самому такое совпадение показалось забавным.
Михаил Потапович повертел головой — поискал, на что бы сесть. Но, кроме мусора и грязной бумаги, в комнате ничего не было. Он опять подошел к медведю:
— Послужи-ка, тезка!
Подтащив чучело к окну, Михаил Потапович опустил его на вытянутые передние лапы. Получилась плюшевая скамейка с медвежьей спиной вместо сиденья.
— Садитесь! — предложил он, а сам устроился на подоконнике. — Мне Дубок все рассказал про вас. Теперь я кое-что скажу вам. А потом мы обменяемся мнениями. Согласны?
— А кто вы? — спросил Глебка.
— Знаю! — улыбнулся Михаил Потапович. — Знаю, что ты любишь проверять документы!
Получив удостоверение личности, Глебка дотошно прочитал и рассмотрел все, начиная от номера документа, кончая печатью и номером нагана, выданного владельцу удостоверения.
— Сами с наганом, а по городу бандиты ходят! — нахмурился Глебка. — Если б у меня батин маузер остался, я бы давно карлика к вам привел!
— Вот о нем и поговорим! — подхватил Михаил Потапович…
Чекисты уже искали карлика и знали всю его биографию. До революции держал он передвижной балаган. Ездил по мелким городам, показывал на площадях фокусы. Иногда нанимал за гроши какого-нибудь безродного мальчишку, привязывал его к деревянному щиту и издали бросал ножи, которые веером втыкались вокруг головы. Однажды карлик промахнулся и смертельно ранил мальчишку. В полиции завели дело по розыску скрывшегося балаганщика, но так и не нашли, потому что не очень старались. Смерть какого-то бездомного паренька никого не встревожила.
А карлик сменил профессию. В дело об убийстве мальчишки подшили несколько новых листов о контрабандном провозе через границу запрещенных товаров. Но опять карлик ускользнул от полиции.
После революции дело карлика пришлось вынуть из архива. Поступило донесение о том, что бывший балаганщик и контрабандист увез за границу несколько картин, украденных из музея. Стали известны подробности этой преступной операции. Две картины не представляли особой ценности, зато остальные могли бы украсить любую картинную галерею. Иностранные дельцы почувствовали, что имеют дело с профаном, и объявили все картины пустоцветами. Получив жалкие гроши, карлик тайком вернулся в Советскую Россию и только здесь узнал, как ловко обманули его зарубежные мошенники.
Последние сведения о карлике поступили от Дубка, от беспризорников группы Пата и от налетчиков, которыми руководила Графинька.
Об этой женщине в ЧК тоже знали многое. Ее отец — крупный карточный шулер, называвший себя графом, до революции вместе с дочкой исколесил всю Европу. Он был богат, подкупал полицию и давал взятки хозяевам лавок и типографий. В типографиях по его заказу печатали игральные карты с незаметными для постороннего глаза особенностями, по которым «граф» на ощупь определял и масть, и достоинства любой карты. Перед крупной игрой несколько таких колод оказывалось в ближайшей лавке. «Граф» всегда выигрывал и спокойно умер в Петербурге. В тот же день полиция наложила арест на все его движимое и недвижимое имущество. Дочери — молодой двадцатилетней красавице — не осталось ничего. Она похоронила отца, и вскоре в департаменте полиции завели новое дело о шайке грабителей и их неуловимом вожаке по кличке Графинька.
Год назад карлик и Графинька встретились в воровском притоне, познакомились и решили «работать» вместе. Используя беспризорников, они находили и нужные адреса и под видом чекистов отбирали картины, старинные иконы и другие ценности. Мошенники всегда соблюдали внешние признаки законности, поэтому долго не вызывали подозрений. Обыски производились в присутствии представителя домкома, а иногда даже с понятыми, взятыми из числа жителей того же дома. Составлялись и подписывались акты. На что жаловаться? Все законно! К тому же, те люди, которых обирал карлик, обычно чувствовали какую-нибудь вину и не очень стремились отстаивать свои сомнительные права. Изредка мошенники попадали в квартиры людей честных, не замешанных ни в каком плохом деле. Они могли протестовать и жаловаться. В таких случаях карлик бил отбой и приносил извинения за ошибку. И снова все выглядело безупречно.
Беспризорники Пата вспомнили все адреса, которые сообщили карлику. Чекисты побывали там и подсчитали украденные ценности. Для их хранения нужен был чуть ли не грузовой вагон. Где все это спрятано, ни беспризорники, ни налетчики, арестованные в Лавре, не знали.
Этот же вопрос Михаил Потапович задал Глебке и Глаше. Они встречались с карликом, а Глаша даже побывала в воровском притоне. Может быть, они подметили или услышали что-нибудь важное.
— На Обводном искали? — спросил Глебка.
— Дом нашли… Пустой!
— А в Лавре?
— Там не может быть.
— Почему?
— Налетчики бы знали, — пояснил Михаил Потапович. — Это их владения…
Больше Глебка ничего придумать не мог.
— Узнать бы, где Юра, тогда бы и барахло нашли.
— В корень смотришь! — подхватил Михаил Потапович. — Именно так! Где твой названый брат — там и картины… Для чего Юрий потребовался карлику? Чтобы разобраться в награбленном, отделить ценное от пустяков.
— А я знаю! — воскликнула вдруг Глаша. — В лодке!
— Что — в лодке? — не понял Михаил Потапович.
— А все! Все, что уворовали!
Михаил Потапович соскочил с подоконника, подсел к Глаше.
— Ты что-то вспомнила?… Только не торопись и ничего от себя не добавляй! Вспоминай, как было по порядку.
— Чичас! — сказала Глаша. — Привела меня Графинька в подвал и говорит: мой дворец. А там уродик этот сидит. Разозлился, что она меня с собой взяла, пригрозил оставить Графиньку.
— Где?
— Ну, там — в подвале… А она ему и говорит: не уйдешь, мол! Я слежу за твоим ковчегом!… А ковчег — это лодка.
— Почему лодка?
— А мне мама рассказывала… Какой-то потоп на земле был. Кто успел забраться в ковчег, тот и спасся.
Михаил Потапович отрицательно покачал головой.
— Подвал она дворцом назвала — так и с ковчегом… Жаргон! А Ноев ковчег, про который тебе мама рассказывала, это, по библии, большой корабль, а не лодка.
— А как Графинька сказала карлику, — спросил Глебка у Глаши, — не уйдешь или не уплывешь?
— Не уйдешь! — твердо ответила Глаша.
— Значит, не лодка!
— Тоже ничего не значит! — возразил Михаил Потапович. — Ходят и под парусами!
В комнату зашла женщина, которая выступала перед ребятами.
— Вы отстаете! — сказала она Глебке и Глаше и взглянула на Михаила Потаповича, дав понять, что он задерживает уборку помещения.
— Я им обязательно помогу! — виновато улыбнувшись, пообещал он и спросил: — Я не ошибаюсь, вы ведь учительница русского языка?
— Да.
— Скажите, пожалуйста, что в наши дни можно назвать словом «ковчег»?
Лицо у женщины просветлело, будто это слово было для нее самым любимым. Она заговорила легко и свободно, как на уроке, к которому хорошо подготовилась:
— Обратите вниманье на корень таких слов: «ковать», «коваль», «ковчег». Кованый сосуд, окованный сундук или ларец — все это ковчеги в прямом смысле. А в переносном слово «ковчег» может иметь множество значений: и старинная карета, и ветхий кораблик, и просто какое-нибудь убежище. У поэтов есть ковчег надежды, ковчег спасенья, ковчег любви. И если хотите, этот дом — эту будущую школу — тоже можно назвать ковчегом. Ковчегом просвещения!
— Ваши ученики будут знать родной язык! — восхищенно произнес Михаил Потапович.
— Благодарю вас! — ответила женщина и, уходя, добавила: — Если вы не будете слишком часто отвлекать их!
— Постараюсь! — сказал Михаил Потапович, а когда дверь закрылась, пошутил: — Давайте-ка приниматься за комнату, а то эта строгая учительница, поставит мне плохую оценку!
Пока убирали будущий класс, Михаил Потапович попросил Глебку и Глашу еще раз повторить все, что им запомнилось от встреч с карликом и Графинькой. Ребята охотно выполнили его просьбу, но они и сами чувствовали, что ничем не помогли чекисту. Когда в комнате стало чисто, Михаил Потапович ушел, а Глебка и Глаша перебрались в коридор, где уже работали другие мальчишки и девчонки.
Во второй половине дня во дворе запылал большой костер — горел вынесенный из школы и сваленный в кучу мусор. Дом будто помолодел, посвежел. Или это только казалось ребятам? По-прежнему в окнах не хватало многих стекол и раны от пуль виднелись в дверях и стенах, но учительница сказала, что в Смольном обещали выдать стекла и мел для ремонта школы.
Часов в пять Глаша и Глебка вернулись домой, вместе приготовили ужин и, присев на кухне около теплой плиты, стали поджидать Дубка. Вместо него пришли два матроса из его команды и сообщили, что Дубок просил не ждать. Он с напарником решил заночевать в рыбацкой деревеньке на правом берегу Невы.
— Почему? — удивился Глебка.
— Чтобы не гоняться туда-сюда, — ответил матрос. — Конец не малый! До Обуховского завода верст десять. Потом до того гроба версты четыре. И еще вверх по Неве верста.
— Что за гроб? — спросил Глебка.
Матросы смущенно переглянулись.
— Не всыпал бы нам Дубок за этот гроб! — сказал второй.
— Какой гроб? — еще больше заинтересовался Глебка.
Матросы снова посмотрели друг на друга.
— Струхнули мы малость, — признался один из них и покряхтел с досадой. — Гроб-то заразный!… Ну, не гроб — буксир… На нем холерных перевозили, а сейчас стоит во льду, на борту череп и кости… Мы издали посмотрели — и ходу! А Дубок — он крутой. Скажет — приказ нарушили!
— Да ведь буксир-то не бесхозный! — возразил другой матрос. — Люди на нем…
— Что из того?
— А то, что никуда он не денется, не потонет!
Матросы заспорили, заволновались и ушли, даже не простившись с Глебкой и Глашей. Спускаясь по лестнице, они продолжали спорить, а выйдя на улицу, решили завтра на рассвете вернуться к холерному буксиру.
Глебка и Глаша сели ужинать. Но ели они без всякого аппетита. Каждый чувствовал непонятную тревогу. Ее не было до матросов. Это они принесли в квартиру смутное беспокойство.
— Опять холера! — вздохнула Глаша.
— Почему опять?
— Вагон помнишь?
— Помню! Юрка здорово его разрисовал! Только к чему ты это?
— А кто буксир разрисовал? — спросила Глаша.
— Не Юрка же!
— А кто?
Глебка оглушенно похлопал глазами, сорвался с табуретки и выскочил из квартиры. Глаша поняла — побежал за матросами. Но он не догнал их и вернулся. А Глаша еще раз оглушила его новой догадкой:
— И ковчег вспомни!
Сначала у Глебки захватило дух. Казалось, что все совпало и все разгадано: и ковчег, и холера. Но потом уверенность поубавилась. Череп и кости могли нарисовать настоящие санитары, перевозившие больных. Юрию незачем повторять эту хитрость. Такая надпись отпугивает, а ему, наоборот, надо привлечь внимание к буксиру, если это ковчег бандитов.
— Он череп для тебя и для Дубка нарисовал! — сказала Глаша. — Больше ему не на кого надеяться!… Пойдем-ка к Михаилу Потаповичу!
— Это тебе не Таракановка, а Петроград! — ответил Глебка. — Тут нужен адрес.
— А где живут матросы — тоже не знаешь?
— А ты? — рассердился Глебка. — Их много!
— А если сходить в Смольный?
— Без Дубка туда не пустят!
— Так пойдем к нему! — воскликнула Глаша.
— Наконец-то догадалась! — проворчал Глебка. — И знаешь что?… Мы по дороге посмотрим на этот буксир!…
До Александро-Невской лавры добрались быстро. Им повезло. С кольца отходил трамвай с двумя открытыми платформами вместо вагонов. Ни скамеек, ни даже бортов на грузовых платформах не было. Люди сидели прямо на полу спиной друг к другу. Пассажиров набралось много, потому что за Невскую заставу трамваи ходили нечасто.
Ехали минут сорок, пока не увидели церковь, круглую как кулич, а рядом стояла пирамидальная колокольня, похожая на творожную пасху. Слева высились корпуса Обуховского завода. Дальше трамваи не ходили.
— Пять верст осталось, — сказал Глебка. — Чепуха!
— Пешком? — спросила Глаша.
— А то как же!
— Стемнеет, и ничего мы с тобой не найдем.
— Испугалась!
— Стемнеет! — повторила Глаша. — Я — чичас!
Глебка остался один на улице и никак не мог догадаться, куда и зачем убежала Глаша. Ни о каком другом транспорте, кроме трамвая и поезда, он не привык думать. Автомобиль был редкостью. На извозчике Глебка ни разу в жизни не ездил. А Глаша рассудила по-крестьянски: раз трамвай дальше не везет, значит, ездят на лошадях. Не все живут в Питере, за городом должны быть деревни.
— Глебка-а! — разнеслось по тракту.
И Глебка увидел лошадь с телегой. Глаша сидела сзади на охапке сена и весело покачивала ногами.
Мужик попал угрюмый, молчаливый. Глебка удивился, как Глаша сумела столковаться с ним. Нахлестывая Лошадь, он что-то бурчал глухо и монотонно.
— Вспомнила! — вдруг воскликнула Глаша и назвала какие-то не то травы, не то корни.
Мужик перестал бурчать. Сипло попросил:
— Повтори-ка!
Глаша повторила незнакомые Глебке названия.
— Ну? — произнес мужик нетерпеливо.
— Потом их крошат, варят и сушат. Наши таракановские говорят, страсть крепкая махра получается!
Прислушиваясь к их разговору, Глебка узнал, что мужик приехал в город за гвоздями, спичками и махоркой, но ничего не достал.
— На!
Глебка протянул мужику оказавшийся в кармане неполный коробок спичек. Он сунул их туда, когда разжигал плиту перед ужином. После этого мужик стал добрый и разговорчивый. Он даже спросил, куда они едут и долго сопел в усы, узнав, что им надо перебираться на другой берег Невы.
— Лед-то — бумага раскисшая… А в какую вам деревню?
Теперь засопел Глебка: он не догадался узнать у матросов, как называется деревня, в которой Дубок решил переночевать.
— От завода до нее — пять верст по берегу, — сказал Глебка. — Там еще буксир недалеко стоит.
— Буксира не видел, — отозвался мужик. — А деревни там две. Их зимой тоже отсюда не видать: льду на Неве наворотило горы.
Тракт шел по берегу. Дорога была плохая, но ехали быстро.
Миновали какое-то село. Еще проехали с версту.
Мужик снова засопел в усы и натянул вожжи.
— Тут в самый раз будет, — сказал он, кивнув на Неву, и почесал кнутовищем широкую переносицу. — Только плохо я за спички отдариваю… Не утопли б вы!
— Не провалимся! — ответил Глебка.
Уже смеркалось. Далеко сзади чернели высокие трубы Обуховского завода. Там остался город, а здесь не было ни единого домика.
Сойдя с дороги, Глебка и Глаша спустились на лед. Ноздреватый, серо-голубой, пропитанный холодной весенней водой, он глухо потрескивал под ногами. У берега лед лежал ровным полем, а дальше, на середине Невы, высилась широкая гряда, заслонявшая противоположный берег.
— Проберемся? — спросил Глебка.
Он уже не думал о буксире. Сейчас важно было засветло перебраться на тот берег и разыскать Дубка.
— Если там деревни, — сказала Глаша, — то должна быть и тропа через реку… Поищем? По тропе быстро дойдем — она сама приведет в деревню.
Глебка согласился. Не прошли они вдоль берега и двадцати шагов, как увидели впереди женщину. Она сбежала вниз по крутому береговому склону и крупно зашагала к середине Невы.
— Вот и тропа! — обрадовался Глебка. — Наверняка тетя из той деревни. Догоним?
Глаша схватила его за рукав.
— Глебушка! Это — Графинька!
Если бы женщина хоть раз оглянулась, она заметила бы ребят, потому что спрятаться было некуда. Но Графинька торопилась и не думала, что кто-нибудь в эту весеннюю пору будет бродить по непрочному льду, да еще в таком глухом месте. Она дошла до торосов и исчезла в них.
Вскоре к этому же месту, где тропка врезалась в высокий вал из нагроможденных друг на друга льдин, добрались и Глебка с Глашей. Теперь они точно знали, что где-то впереди, невидимый отсюда, стоит во льду буксир, который Графинька назвала ковчегом.
И они его увидели.
Осторожно продвигаясь по извилистой тропе среди ледяных сопок, Глебка и Глаша дошли до большой полыньи, от которой к правому берегу был прорублен узкий канал. Еще один поворот тропы, и Глебка остановился. Здесь кончались торосы. Канал тянулся через ровное ледяное поле к высоким сваям, у которых стоял буксир.
Становилось все темнее, но Глебка и Глаша, спрятавшись в торосах, все-таки рассмотрели на борту буксира знакомую надпись: «Холерные больные». Над ней, ощерив зубы, улыбался тоже знакомый череп.
— Надо обойти! — шепнул Глебка.
Они пробрались между торосов в сторону от буксира и там ползком пересекли ровное ледяное поле. Сделав этот крюк, они берегом среди кустов вновь приблизились к буксиру. И на этом борту виднелась такая же надпись. Людей на палубе не было, только в ходовой рубке стоял широкоплечий матрос.
— Жди! — приказал Глебка Глаше. — Я — за Дубком!
НА БАЗЕ
Глебка и Глаша не ошиблись: надпись сделал Юрий. Она была сигналом бедствия, отчаянным и тайным криком о помощи. Эту хитрость Юрий придумал, когда окончательно понял, что и карлик, и оба матроса, и женщина — все они никакие не чекисты, а воровская шайка, ловко обманувшая и его, и многих других людей.
Долго он глушил в себе тревогу и радовался, когда подмечал что-нибудь, подтверждающее искренность и честность Бессонова. Случай с хирургом он расценил как бесспорное опровержение всех сомнений. Если бы к хирургу явились преступники, разве их остановила бы какая-то бумага? От воров и бандитов охранных грамот не существует!
Юрий тогда успокоился. Он даже задремал, сидя в санях, а проснувшись, увидел, что они выбрались за город и по ухабистой дороге медленно движутся вдоль Невы.
— Еще не приехали? — удивился он.
Ему никто не ответил, но он не обиделся, потому что вопрос был смешной. «Где же их база?» — подумал он и попытался понять, куда они едут.
Справа серело ровное поле с редкими кустами, уныло торчавшими из мокрого, осевшего под собственной тяжестью снега. Слева причудливыми сопками бугрился невский лед, тоже посеревший, ноздреватый, подточенный ветрами и солнцем. Берег здесь был обрывистый, высокий, но отдельные ледяные торосы, особенно на середине Невы, казались еще выше. Вздыбившись в прошлом году в дни ледостава, эти горы так и простояли всю зиму, похожие на сказочные ледяные замки. Таких торосов на Неве Юрий еще не видел. В городе река перегорожена мостами. Ударяясь о быки, лед теряет силу, крошится и, схваченный морозом, застывает довольно ровными полями. А тут высились настоящие ледяные хребты. Это и помогло Юрию догадаться, что едут они в сторону Ладожского озера.
У одинокой березы, грустно склонившей голую вершину над береговым обрывом, сани остановились.
Бессонов взглянул вниз, на лед, недовольно качнул головой.
— Заметно!
Юрий увидел темную извилистую тропу, которая начиналась у берега и пропадала где-то среди торосов. Зимой ее трудно было заметить, но снег подтаял, осел, и тропа появилась.
Женщина взяла у матроса вожжи и поехала дальше по дороге, а остальные спустились на лед. И все молча. Это бесконечное молчание угнетало Юрия.
— На тот берег? — спросил он, зная, что опять может не услышать ответа.
Но Бессонов на этот раз ответил и даже подробно:
— Нет… База у нас временная, плавучая. Скоро увидишь.
Они дошли до самых высоких торосов. Под ногами чавкал снег, смешанный с водой. Тропа делала крутые повороты, протискиваясь среди нагроможденных друг на друга, спаявшихся за зиму льдин.
Впереди шел матрос. Не Крюков — другой, который правил лошадью и при Юрии произнес не больше двух-трех фраз. Иногда он останавливался, проверял что-то, а затем, высоко поднимая ноги, перешагивал через невидимую преграду. Все делали то же самое. Когда очередь дошла до Юрия, он заметил под ногами тонкую проволоку, натянутую поперек тропы. Если бы кто-нибудь прошел здесь до них, то проволока обязательно была бы сорвана с колышков, к которым она прикреплялась.
База Бессонова находилась среди торосов. Два высоких ледяных вала возвышались над бортами старого буксира, сорванного осенью с причала и притащенного течением и льдом чуть ли не к самому городу.
Тропа вошла в узкое ледяное ущелье, и тогда он увидел все небольшое речное суденышко, стоявшее здесь, как в гавани, отгороженной от правого и левого берега ледяными хребтами.
Лед вокруг буксира был обколот. Узкий канал чистой воды тянулся от носа к толстым сваям, торчавшим где-то у самого берега.
С борта буксира на лед были спущены сходни.
— Это и есть база? — снова спросил Юрий.
— Не нравится? — отозвался Бессонов.
Юрий не знал, что сказать. Никогда бы раньше он не подумал, что чекистская база может находиться на буксире, затертом невскими льдами. Почему? Зачем?
Бессонов отвел Юрия в трюм, в темноте открыл какую-то дверь.
— Там койка. Спи.
Дверь закрылась. Юрий, вытянув руки вперед, сделал несколько осторожных шагов и наткнулся на койку. Заснул он быстро. Засыпая, слышал, как где-то недалеко от буксира кололи лед. Он вспомнил полосу чистой воды, тянувшейся к сваям, и догадался, что Бессонов с матросами прорубают канал. Они боялись, что лед может тронуться, и торопились расчистить проход к сваям, за которыми буксир мог укрыться во время ледохода.
Было уже часов двенадцать, когда Юрий проснулся от дробного перестука. Весь корпус буксира вибрировал. За железной перегородкой что-то тяжело и ритмично постукивало. Юрий выглянул в крохотный круглый иллюминатор и, зажмурившись от яркого солнца, увидел, что буксир движется вдоль ледяной кромки канала.
— Малый! Самый малый! — долетел сверху бас матроса Крюкова.
По узкой лестнице Юрий поднялся на палубу.
Буксир уже приближался к сваям. В ходовой рубке стоял Крюков и одной рукой привычно, даже с каким-то шиком покручивал штурвальное колесо. Бессонов с большим мотком каната сидел на самом носу, но смотрел не вперед, а на трубу, из которой валил черный дым.
— Ночью надо было! — раздраженно скрипнул он.
— Ночью — искры! — пробасил матрос из рубки.
Юрий огляделся. Вокруг буксира и дальше, куда ни посмотришь, везде ноздреватый серо-голубой лед. На правом берегу вплотную к Неве подступал густой лес. Левый берег, откуда они пришли ночью, не был виден — торосы закрывали его. Не увидел Юрий и Петрограда, только на самом горизонте торчала высокая труба Обуховского завода. Там начиналась Невская застава.
— Самый малый! — продолжал командовать матрос, пошевеливая штурвал. — Стоп!
Буксир мягко приткнулся к скрипнувшим сваям. Карлик набросил на них канат. Подоспел Крюков, помог закрепить его за кнехт.
— Гаси! Гаси! — нетерпеливо прикрикнул карлик.
— Погашу! — ответил матрос и усмехнулся. — Только нас и без дыма теперь за десять верст видать.
Он спустился в какой-то люк, и через несколько минут дым поредел, смешался с паром и совсем перестал клубиться над трубой. Только тогда карлик подозвал к себе Юрия.
— Удивляешься?… Подрастешь — поймешь! Чекистская работа не любит лишних глаз, даже если они не вражеские… Есть хочешь?
— Хочу.
— Скоро будет завтрак. Некогда было приготовить. Лед, видишь, еле держится. Пошел бы, и все наше дело лопнуло! Понял?
— Не очень.
— Ну ладно! Идем!
Они спустились в машинное отделение, и Юрий остолбенел. По всей длине этого узкого помещения вдоль стен стояли картины в рамах. Между ними и машиной буксира был оставлен лишь узкий проход, по которому с куском ветоши в руках медленно передвигался молчаливый матрос. Он осматривал узлы механизма, что-то вытирал, куда-то подливал масла из узконосой лейки.
В первое мгновение Юрия охватило чувство лихорадочного нетерпения. В этой коллекции картин могли встретиться настоящие шедевры! Сердце радостно забилось в предчувствии чудесных находок. Он восторженно улыбнулся и, волнуясь, прикоснулся к одной из самых больших резных рам. Дерево было влажным.
Юрий отдернул руку и уже не восторг, а испуг появился в глазах.
— Вы же… Вы же все испортите! — воскликнул он. — Так картины хранить нельзя!
Он провел пальцем по металлической переборке, на которой, как роса, поблескивали бисеринки воды. В машинном отделении было душно и парно, как в бане.
— Это же все погибнет!
Карлик забеспокоился. Матрос, смазывавший машину, отбросил ветошь, провел ладонью по холсту и произнес:
— Сыро… Холодно зимой было, а как протопили — отсырело.
— Что нужно делать? — в замешательстве спросил карлик.
— Проветрить!… Просушить! — торопливо заговорил Юрий. — Режим температурный!… И — в зал! На свет, на воздух!
— На буксире лучшего помещения нету, — сказал Бессонов. — Лед сойдет — и прямиком к Эрмитажу причалим… Дня четыре еще потерпят?
— Не знаю! — ответил Юрий.
Теперь он понял все, и в ту минуту испытал что-то большее, чем страх. Этому чувству не было определенного названия. Оно вбирало в себя и заботу о судьбе картин, и сознание своей собственной вины и бессилия, и горечь оттого, что надежда на скорую встречу с родителями исчезла.
И Юрий чуть не совершил последнюю в своей жизни ошибку. Он посмотрел карлику в глаза и произнес обличающим тоном:
— Вы не все мне сказали!
Юрий не ожидал, что получится такая безобидная фраза. Он хотел с отчаянной прямотой обвинить карлика в обмане, в воровстве, в мошенничестве. Но привычка быть вежливым со взрослыми оказалась настолько сильной, что и в этот момент он не смог произнести грубые слова.
— Конечно, не все, — согласился Бессонов.
Он видел, что Юрий взволнован и удручен чем-то, но не стал выяснять причину. Игра шла к концу. Ему важно было на некоторое время успокоить и подбодрить мальчика. Карлик многозначительно улыбнулся.
— Ты тоже не все мне сказал! Про брата, например…
— Про какого брата? Нет у меня братьев!
— Хочешь опишу?
И карлик точно обрисовал портрет Глебки.
— Глебка? — вырвалось у Юрия.
— Значит, есть все-таки брат! — снова улыбнулся Бессонов.
— Он не родной.
— Знаю! Все я знаю! И ты все узнаешь! — Карлик похлопал Юрия по плечу. — А теперь — за работу! Отбери самые ценные картины. Мы постараемся укрыть их от сырости.
На железной лестнице, ведущей с палубы в машинное отделение, показались ноги Крюкова. Он нагнулся и тревожно прошептал:
— Люди!
Молчаливый матрос и карлик бросились наверх. Юрий остался один. В голове у него все перемешалось. Как Бессонов узнал про Глебку? Где он его видел? Почему назвал его братом? Неужели карлик все-таки чекист?
Юрий еще раз взглянул на картины. Они плакали: бисеринки воды соединялись в капли и, как слезы, стекали по краске. Юрий отбросил соблазнительную мысль о чекистах. Вместо нее пришла другая, еще более радостная: вдруг Глебка одумался, понял, что поступил плохо, и теперь разыскивает его. Ведь только сам Глебка знал, что они решили стать братьями! Только от него или от Дубка мог карлик услышать об этом. И вдруг это они — Глебка и Дубок — идут к буксиру?
Не думая о последствиях, Юрий кинулся вверх по лестнице. Он уже поверил в свою мечту, но, выглянув из люка, увидел двух охотников. С ружьями и тяжелыми мешками они вышли из леса и на лыжах осторожно спускались на лед.
Карлик и Крюков стояли у борта. Молчаливый матрос был в рубке. Повернувшись спиной к охотникам, он вставлял запал в гранату.
— Держитесь подальше, — тихо скрипнул карлик.
— Держитесь подальше! — во весь голос рявкнул Крюков.
— Здесь трещины, — подсказал карлик. — Берите правее.
— Здесь трещины! Берите правее! — заревел матрос.
Охотники остановились, посоветовались и круто свернули вправо, стороной обходя буксир.
— Спасибо! — крикнул один из них, сложив руки рупором. — А вас не унесет?… Может, помочь чем?… Лед на волоске держится!
— Выстоим, — скрипнул карлик. — Сами не провалитесь.
— Выстоим! Сами не провалитесь! — продублировал Крюков и от себя крикнул: — Как охота?
— Кое-что добыли! — донесся ответ. — Сахарином не богаты? Можем обменяться!
— Дурак! — обругал матроса карлик. — Кричи: лишнего нету!
— Лишнего нету! — проорал Крюков.
Охотники помахали руками и медленно, прощупывая палками лед, двинулись к левому берегу.
Юрий подумал: не позвать ли охотников, не крикнуть ли им, что это не просто буксир, а воровской притон. Но молчаливый матрос подошел к нему и встал рядом.
— Эксперт! — проскрипел карлик. — Не своим делом занимаешься.
— Запереть его надо! — проворчал Крюков. — Волчонком поглядывать стал!
Бессонов взял Юрия за подбородок и заставил поднять голову.
— Ты зачем вышел на палубу?
Юрию показалось, что все пропало. Врать он не умел, а молчать было нельзя.
— Хотите, — неожиданно для себя сказал он и сам почувствовал, что случайно мелькнувшая мысль может оказаться спасительной. — Хотите, — повторил он, — я сделаю так, что никто и близко не подойдет к буксиру?
А про себя он подумал: «Ни один, кроме Глебки и Дубка! А они подойдут! Обязательно подойдут!»
— Это интересно! — произнес карлик.
— Я нарисую на борту череп с костями! — оживился Юрий. — И напишу: «Холерные больные».
Матросы соображали туго, а Бессонов сразу понял и коротким лающим смехом одобрил предложение.
— А больные? — спросил Крюков.
— Больные были! — ответил карлик. — Их летом везли на буксире. Нас прислали продезинфицировать плавучий гроб!
Потом, когда молчаливый матрос принес из трюма сурик и кисть и Юрий, спустившись на лед, начал выписывать на борту угрожающую надпись, он понял, что его надежды очень наивны. Почему он решил, что Глебка и Дубок обязательно придут сюда, увидят эту надпись и догадаются, кто ее намалевал? Каким образом могут они очутиться здесь, на Неве, у заброшенного буксира? Лучше попытаться убежать! Только бы дождаться ночи!
Бессонов был в восторге от выдумки Юрия, а вскоре она успешно прошла проверку на практике.
По требованию карлика Юрий, разрисовав один борт, перешел с ведром и кистью к другому. Но из торосов, бугрившихся на середине Невы, появились два незнакомых матроса и прямиком направились к буксиру.
Крюков выругался. Молчаливый матрос забрался в ходовую рубку, где хранились гранаты. Бессонов приказал Юрию забрать кисть и краску и спуститься в трюм.
— Займись картинами, — сказал он и захлопнул крышку люка.
Сквозь иллюминатор Юрий видел, что произошло, и слышал весь разговор.
Матросы бойко шлепали лыжами и на ходу о чем-то весело переговаривались между собой. Они были довольны, что нашли еще один буксир, который, по всем признакам, мог послужить людям. И стоял он удачно — за сваями, так что ледоход не угрожал ему. Еще больше обрадовались они, когда увидели на борту людей.
— Эй, братва! — крикнул один из них. — Лоханка на плаву? Или на мели сидите?
— Считай, что на тот свет плывем! — по подсказке карлика проорал в ответ Крюков.
Матросы приняли это как шутку и захохотали, но вдруг оба сразу как-то изменились. Движения стали неуверенные, замедленные, точно на обоих напала сонливость. Они прошли еще несколько шагов и остановились, уставившись на красную зловещую надпись.
— Давай подходи! — орал Крюков. — Мы двоих списали — рук не хватает! Подмогните гроб плавучий хлоркой продраить!
— Нет, браток! У нас другое задание! — долетело до Юрия, и он увидел, как матросы поспешно повернули лыжи к берегу.
ЛЕДОХОД
После ухода Глебки прошло не больше получаса. Поднялся ветер. Он дул с Ладоги, теплый и напористый. Шумел голый лес и сбрасывал с веток капли.
Глаша сидела на корточках за кустом и не спускала глаз с буксира. Когда ноги уставали, она выпрямлялась и, стараясь не высовываться из-за куста, подпрыгивала несколько раз и снова опускалась на корточки.
На буксире словно все вымерли, а караульный матрос в рубке будто заснул. Ни движения, ни звука, только ветер, усиливаясь, посвистывал в лесу.
И вдруг что-то произошло, но Глаша никак не могла понять, что именно. В свист ветра вплелся монотонный, однообразный шорох. Он нигде не рождался, но был повсюду. Казалось, и земля, и воздух, и Нева, и лес издают этот нарастающий тревожный звук. Шорох перешел в протяжный скрип. Потом раздался громкий треск. Черные ломаные молнии с гулом прорезали лед. Загрохотали осыпающиеся торосы, а у берега стал вырастать вал из раскрошенного, перетертого льда.
Начался ледоход.
Без всяких видимых усилий, как гигантский плуг, на берег вползла льдина. Шипя, шурша, потрескивая, она неудержимо и неторопливо гладила землю, выравнивая все бугорки.
Глаша отбежала подальше. А ледяной плуг дополз до куста, за которым она только что пряталась, срезал его, как травинку, и понес на своем горбу вдоль берега.
Неповторимый весенний гул ледохода поглотил все звуки. Глаша не услышала, как карлик кричал на заснувшего в рубке матроса, как орал Крюков на Графиньку, которая неумело отталкивала багром напиравшие льдины. Не услышала Глаша и тонкий, пронзительный, до смерти испуганный голос Юрия. Она только видела, как в темноте заметались на буксире люди, как из трубы повалил дым, подсвеченный огненными искорками, и как с кормы на движущийся лед матросы сбросили что-то вроде мешка.
Это был Юрий. Он больше не требовался Бессонову. Рассортированные и прикрытые рогожей картины стояли в машинном отделении, а у карлика в кармане хранилась составленная Юрием опись с указанием приблизительной ценности каждого полотна.
Ударившись о лед, мальчик перестал кричать, боялся, что бандиты бросят вдогонку гранату. Он прижался к поскрипывающей льдине и не двигался, пока не увидел, что оба матроса перешли на нос буксира и взялись за багры.
Юрий напряг руки, но узлы были надежные, крепкие. Веревка на ногах тоже не поддавалась никаким усилиям. Он перевернулся со спины на живот и увидел справа прибрежные кусты, а впереди и слева — ледяные поля, которые терлись боками, ломались, наползали друг на друга. Льдины вставали дыбом и погружались в черную воду.
— А-а-а! — в ужасе снова закричал он.
— Я чичас! — послышалось где-то поблизости.
Юрий приподнялся, насколько позволяли связанные руки и ноги. По берегу бежала Глаша. Он сразу узнал се и, уткнувшись в льдину подбородком, заплакал. А Глаша прыгнула на движущийся лед, легла и поползла к брату…
***
Глебку ледоход тоже застал врасплох.
Оставив Глашу наблюдать за буксиром, он решил бежать к деревне кромкой леса. Тут снега почти не было, но пропитанные водой прошлогодние листья скользили под ногами. Он упал раз, другой, понял, что так далеко не уйдешь, и забрался поглубже в лес. Там попадались ему нерастаявшие снежные завалы. Ноги вязли в мокром месиве. Пришлось возвратиться на берег и спуститься на лед.
Глебка понимал, что может провалиться, но зато бежать по льду было удобнее. Разъеденный солнцем, он с хрустом подминался под ботинками и ничуть не скользил. То бегом, то быстрым шагом Глебка уходил от буксира все дальше и вдруг точно за ноги его дернули. Он упал. И сразу же вокруг зашуршало и заскрипело. Гулко выстрелила первая треснувшая льдина.
Не раз любовался Глебка невскими ледоходами. С ними всегда приходило какое-то праздничное волнение. Мальчишки с радостными криками возбужденно носились по берегу. Самые отчаянные прыгали на льдины и в восторге проплывали мимо своих более осторожных дружков, не рисковавших шутить со льдом.
Глебка был в числе отважных, но сегодня ледоход не обрадовал его. Перепрыгнув со льда на берег, он остановился в нерешительности: бежать ли дальше или возвращаться назад? Буксир стоял за сваями, но Глебка сам видел силу невского льда. Он мог поднатужиться и унести в Финский залив и сваи, и буксир. И все-таки Глебка решил идти вперед и найти Дубка. Без него, вдвоем с Глашей, они ничего не могли сделать.
Под беспокойный гул ледохода Глебка побежал вперед по берегу, с надеждой поглядывая влево, где должны были показаться деревенские избы. Не знал Глебка, что деревня, в которой заночевал Дубок, уже осталась позади. Глебка не заметил ее за деревьями.
К счастью, лес вскоре кончился и следующая деревня стояла совсем на берегу. Мимо нее пробежать было невозможно. В нескольких окнах желтели огоньки, освещая освободившиеся от снега грядки с прошлогодней картофельной ботвой и пеньками от срезанной капусты. Обнесенные ветхими заборами огороды спускались почти к самой Неве.
Запыхавшись, Глебка поднялся на пригорок и взбежал на высокое крыльцо избы, в которой горел огонь. Он еще не успел взяться за ручку двери, как свет в окне потух. Глебка дернул дверь на себя — она была заперта. Тогда он постучал — два раза тихо, на третий сильнее. Но сколько он ни барабанил в дверь, никто не открыл и не отозвался.
Глебка бросился к другой избе и постучал в освещенное окно. Занавеска приподнялась, за стеклом показалось чье-то бородатое лицо.
— Кто? — спросил настороженный голос.
— Где остановились матросы? — крикнул Глебка. — Двое их! В какой избе?
— Еще чего?
Занавеска опустилась, а когда Глебка снова постучал в раму, свет погас и тот же голос сказал в открытую форточку другого окна:
— Убирайся!… Дробь у меня крупная — на волков!
Сжав в бессильной злости кулаки, Глебка посмотрел на торчавшее из форточки дуло ружья и отошел от избы.
Поблизости светившихся окон больше не было. Глебка припустился по деревенской улице туда, где виднелись еще два или три огонька. Он пересек переулок, круто спускавшийся к Неве, и наткнулся в темноте на сруб колодца. Над ним на толстой цепи висела большая металлическая бадья, прикрепленная к тонкому концу тяжелого деревянного журавля. Потерев ушибленное колено, Глебка помчался дальше и, добежав до освещенного окна, так стукнул в раму, что задребезжали стекла.
— Кто там? — раздался испуганный женский голос.
— Матросов ищу! — как можно солиднее ответил Глебка. — Не у вас два матроса остановились?
— Нет! — сказала женщина, не показываясь.
— А где?
— В нашей деревне чужих нету!
— Ты откуда знаешь?
Женщина была боязливая, но любила поболтать. К окну она так и не подошла — говорила издали: не то от стола, не то от печки.
— Как не знать-то? — услышал Глебка. — Всего два десятка дворов. Поросенок чихнет — и то все знают, у кого и от чего! А уж про матросиков!… Всю бы ночь про них языки чесали!
Она еще говорила что-то, но Глебка отошел от окна. Он сразу поверил этой женщине и остановился на середине улицы совершенно растерянный.
Та ли это деревня, про которую говорили матросы? Надо же быть таким дураком, чтобы не спросить ее название!
Топтался Глебка в грязи на раскисшей дороге, а время шло. Что там с Глашей? Что с буксиром? Что она будет делать одна, если напором льда буксир оторвет от свай и понесет к городу? А что они вдвоем сделают, если Глебка вернется к Глаше?
Никогда он еще не чувствовал себя таким беспомощным, и это злило его. Стоит он на своей родной советской земле! Вокруг — дома, в них — советские люди! А рядом, в каких-нибудь трех верстах — логово мошенников. Глебка знает это и ничего не может сделать!
«Да как же это так! — с обидой думал он. — Да что я — очумел совсем! Здесь не уезд батьки Хмеля! Тут красный Питер! И наверняка в этих темных избах есть настоящие большевики, а я тычусь в окна, как щенок незрячий!»
Подхваченный какой-то окрыляющей уверенностью, Глебка понесся по улице назад, к перекрестку. По пути заметил завалившийся забор и выдернул из него кол потяжелее. Добежав до колодца, Глебка подпрыгнул, ухватился за цепь, пониже подтянул бадью и, как в колокол, ударил колом по звонкому металлическому боку.
По деревне полетел резкий призывный перезвон.
Глебка бил в бадью и видел, как в окнах зажигались огни, как внутри домов за занавесками заметались тени. Потом захлопали двери. Люди собирались в кучки и с топорами, с ружьями шли к колодцу, где набатным голосом гудела бадья.
Глебка сыпал частые удары и думал не о том, что скажет разбуженным людям. Он думал о тех промахах, которые совершил, когда пытался вдвоем с Глашей, ни к кому не обращаясь за помощью, найти Юрия и выручить его из беды. И сегодня он чуть не совершил ту же ошибку, забыв, что вокруг — народ.
А люди подходили все ближе, и чем больше их появлялось на улице, тем радостней и легче становилось Глебке. Он продолжал бить в бадью даже тогда, когда пять или шесть наспех одетых мужиков подошли совсем близко и остановились в нескольких шагах, хмуро разглядывая незнакомого звонаря, устроившего ночной переполох.
— Вот сатана! — выругался бородатый мужик с ружьем. — Мне чуть стекло не выбил, а теперь всю деревню всполошил!
— Кончай трезвон! — сказал другой с лиловым рубцом поперек лба и, ухватив Глебку за руку, выдернул кол. — Чего народ поднял?
Глебка молчал. С тайной надеждой поглядывал он на подходивших к колодцу людей, но Дубка среди них не было.
Мужик с рубцом тряхнул Глебку за плечо.
— Заснул?… Чего, спрашиваю, народ поднял?
— Не заснул! Это вы спите! — с обидой крикнул Глебка. — Дрыхнете, а под носом бандюги сидят! Буксир хотят угнать! А на нем добра, может, на миллион или на два! И Юрка там — братейник мой!
Глебку не поняли. Слишком много наговорил он, смешав в одну кучу и буксир, и бандитов, и брата.
К колодцу подошел кто-то с факелом; увидев молчаливую толпу односельчан, спросил невпопад:
— Убили?
— Нет еще! — ответил бородач с ружьем и добавил со злорадством: — Но, кажись, убьем!
— И стоит! — подхватили из толпы.
— Смуту какую поднял!
— А может — пьяный?
— Ну-ка, посвети! — крикнул мужик с рубцом на Лбу и, когда факел осветил Глебку, сказал: — Для пьяного — соплив больно, а на сумасшедшего не похож!
— А не из тех ли он сам? — выкрикнул визгливый бабий голос. — Не из бандюков ли?… Мы тут на него глазеем, а его напарники в наших избах прощуп делают!
Глебка знал, что спорить с толпой и отругиваться опасно. Надо дать выговориться, а потом уже сказать Что-то веское, убедительное, для всех понятное. Но что? Он не успел придумать. Услышав про свои избы, в которых, может быть, уже хозяйничают воры, кое-кто стал поворачиваться, чтобы поскорее вернуться домой. Другие, которые были злее, ожесточеннее, наоборот, придвинулись к Глебке.
— Уходите! — крикнул он, понимая, что его могут избить, схватить и запереть до утра в каком-нибудь сарае. — Уходите! Все уходите! Пусть останутся только коммунисты!
Срывающийся, до предела напряженный голос Глебки и неожиданный призыв к коммунистам подействовали на всех.
— Ого-о! — произнес чей-то голос. — Вождь какой!
— Вождь у нас один — Ленин! — сказал, как выстрелил, Глебка. — А я… — понизив голос, с детской доброй завистью произнес он, — я даже еще и не коммунист. Я — сын большевика! Мой батя с Лениным в Кремле встречался!
И такая в его словах была искренность и подкупающая откровенность, что настроение толпы сразу изменилось. Почувствовав перелом и торопясь закрепить победу, Глебка сунул руку за пазуху.
— Вот! Смотрите! Все смотрите!
Он вытащил из-за рубахи мандат и протянул его мужику с рубцом…
Через полчаса, забрав в деревне все имевшиеся ружья, мужики спустились к Неве и вместе с Глебкой пошли вниз по течению. Деревня была рыбацкая. Неву здесь знали вдоль и поперек со всеми изгибами и заводями. Знали и сваи, к которым причалил воровской буксир. По дороге спорили, стараясь отгадать, что задумали бандиты, почему выбрали такое странное убежище. Рыбак с рубцом на лбу, который стал временным командиром над односельчанами, сказал:
— Я думаю — в Ладогу хотят пробиться, потому и забрались на буксир. Из Ладоги в любую заграницу удрать можно. Особо если под шумок, под ледоход.
У деревни, которую Глебка проскочил в темноте, рыбаки поднялись лесом вверх по берегу.
— Буди всех! — приказал временный командир. — Скопом — оно надежней будет!
Мужики разбежались по избам.
— Выходи! Выходи!
Здесь тоже жили рыбаки. Все они знали друг друга, поэтому долгих объяснений не потребовалось. Самым трудным, но и самым коротким был разговор Дубка с Глебкой.
Когда матрос, ночевавший в этой деревне и поднятый вместе со всеми, увидел в толпе Глебку, ему показалось, что все приснилось. Он пощупал бескозырку — она была на голове, цапнул рукой за маузер — и тот был на месте.
— Ты как?… Ты зачем? — произнес Дубок.
Лицо у него стало чугунным, и он впервые в жизни потянулся к широкому матросскому ремню с тяжелой пряжкой.
Бородатый мужик с ружьем заслонил Глебку и предупредил:
— Не озоруй, клешник! На кого ремень-то готовишь?
— Это мой сын! — остывая, сказал Дубок.
— Рожей не вышел! — возразил бородач. — Я его батю хорошо разглядел на мандате.
Глебке это неожиданное заступничество не понравилось. Он вышел из-за спины бородача.
— Бей… Только побыстрей!
Дубок опустил широкую ладонь на его голову, повернул лицом к Неве и молча подтолкнул вперед.
— Дома поговорим!
Когда они спустились вниз, Глебку поразила ночная тишина, разлившаяся над рекой. Ни скрипа, ни шороха, ни треска. И льда на Неве не было. За валом ледяной крошки, белевшим вдоль всего берега, чернела вода. Лишь кое-где угадывались более светлые пятнышки одиночных льдин, быстро плывших по течению.
Все остановились. Из отдельных фраз, которыми обменялись рыбаки, Глебка понял, что ледоход не кончился. Где-то там, ближе к Ладожскому озеру, лед еще не успел оттаять и оторваться от берега. Очистился только незначительный отрезок Невы. С минуты на минуту с верховий могла ринуться вниз новая ледяная лавина.
— Лодки есть поблизости? — спросил Дубок.
— Тихо! — остановил его рыбак с рубцом.
По берегу кто-то бежал. Отчетливо слышались торопливые шаги, но после возгласа рыбака они замерли.
— Да идем же! — раздался знакомый голос. — Не все люди бандиты! Это небось Глебка с Дубком!… Ну ладно, жди! Я чичас!
— Глаша! — сердито крикнул Глебка.
Матрос — напарник Дубка, как теплым блином, закрыл ему рот ладонью, но Глебка вырвался и бросился вперед. Он пробежал шагов десять и у самой воды заметил Глашу.
— Ты почему ушла с поста? — строго спросил он и вдруг увидел в темноте за Глашей еще кого-то.
Он присмотрелся и узнал Юрия.
Сзади уже подходили и Дубок с матросом, и все рыбаки. Но мальчишки больше ничего не видели и не слышали. Глебка шагнул навстречу Юрию. Потом Юрий шагнул навстречу Глебке. Затем они оба шагнули одновременно и взялись за руки.
А Глаша деловито рассказала Дубку, что произошло. Когда Нева в этом месте очистилась ото льда, буксир снялся с причала и своим ходом двинулся вверх по течению, но сел в темноте на мель около берега. Юрий с Глашей слышали, как переругивались на палубе бандиты. Им все же удалось сняться с мели, но зато что-то испортилось в машине, и буксир понесло вниз по Неве.
— Лодки есть? — снова спросил Дубок у рыбаков.
— Чай на Неве живем! — ответили ему.
Рыбаки волоком спустили к воде пять или шесть лодок. Дубок сказал, что хватит трех, и сам отобрал по пять человек на каждую. Первой отчалила лодка, которой командовал Дубок. А когда вторая и третья, ощетинившись охотничьими ружьями, отвалили от берега, по поде донеслось отчетливое постукивание машины.
— Идет! — выдохнул кто-то из оставшихся на берегу рыбаков. — Видать, починили!
— Может, у них пулемет! — тревожно произнес другой голос.
— Нету! — ответила Глаша, которая успела все выведать от Юрия. — И винтовок нету!… Гранаты и ножи!
А Юрий и Глебка все еще стояли рядом и держались за руки. Они так и не сказали друг другу ни слова. Им просто было хорошо и за многие дни удивительно легко. Даже предстоящая схватка Дубка с бандитами их не тревожила. Им казалось, что в такую ночь плохое не может, не имеет права случиться.
На Неве — сплошная темень. Где-то приглушенно постукивала машина буксира. Изредка тьму прочерчивали искорки, вылетавшие из трубы. А лодки будто и не спускались на воду: ни шлепка веслом, ни тени.
Прошло несколько томительных минут.
Резкий, такой, что все вздрогнули, испуганный женский визг, донесся с Невы. Что-то глухо и дробно забарабанило по железу, точно дюжина отчаянных плясунов отбивала на огромной сковороде лихую чечетку. Как громадная рыбина бултыхнулась в реке — это под водой взорвалась брошенная кем-то граната.
Выстрелов не было.
Еще прошла минута или две, и голос Дубка уверенно скомандовал:
— Полный вперед!… Самый полный!
АРМИЯ ТРЯСОГУЗКИ ЧАСТЬ 1 КРУШЕНИЕ
Обходчик Тимофей Егорович шагал по шпалам и, как рассерженный дятел, стучал молотком по рельсам.
Слева и справа стоял лес. Моросил дождь. Под мокрыми деревьями ещё лежал снег, серый, пропитанный холодной весенней водой.
Впереди лес кончался. Рельсы устремлялись к станции с водокачкой, устало опустившей свои хобот. Виднелась высокая труба, грязным пальцем уткнувшаяся в небо. Краснел кирпичный корпус депо, за которым начиналась кривая улица небольшого городка.
И в городке, и на железной дороге хозяйничали колчаковцы. Тимофею Егоровичу приходилось их обслуживать. Потому и сердился он, но приказ большевистского подполья выполнял свято: линию охранял днём и ночью. На его участке поезда проходили без задержек.
Иногда старый обходчик не выдерживал и, встретившись с Кондратом Васильевичем, с обидой говорил:
— Ты из меня холуя колчаковского делаешь!
Кондрат Васильевич руководил оставшимися в городе большевиками.
Это был человек удивительной выдержки и большой воли. Выслушав старика, он в который раз принимался терпеливо разъяснять обходчику одно и то же:
— Ты — наши глаза на железной дороге. А глаза надо беречь!… Если какой состав пустить под откос потребуется, сделаем без тебя и подальше от твоего участка.
Тимофей Егорович возвращался на железную дорогу и снова шагал по шпалам, постукивал молотком по рельсам, подвинчивал гайки, забивал поглубже расшатавшиеся костыли, подсчитывал вагоны проходящих мимо составов и намётанным глазом безошибочно определял, что и куда везут.
На запад шли эшелоны с солдатами и боеприпасами, а обратно возвращались теплушки, набитые ранеными, опломбированные вагоны с добром, наворованным для адмирала Колчака и его приближённых.
Обходчик уже подходил к опушке леса, когда сзади послышался перестук колёс. Тимофей Егорович сошёл со шпал на тропку и приготовил зелёный флажок.
Состав был короткий: паровоз, пассажирский вагон и четыре теплушки. Вместо машиниста обходчик увидел в паровозной будке двух солдат в гимнастёрках с засученными рукавами. Это возвращался карательный отряд, три дня назад выехавший из города. Колчаковцы сожгли несколько деревень и расправились с крестьянами, которые помогали партизанам.
Обходчик просигналил зелёным флажком: всё в порядке, путь безопасен.
Из теплушек вылетали пьяные голоса:
Соловей, соловей, пташечка, Канареечка жалобно поёт!…Тимофей Егорович убрал флажок и с ненавистью сказал:
— Чтоб вам ни дна ни покрышки! Провалиться б вам сквозь…
Он не закончил ругательства и застыл с приоткрытым ртом. Состав громыхнул буферами, накренился набок. Вагоны, как подбитые утки, вразнобой заковыляли вдоль рельсов и с грохотом повалились вместе с паровозом под откос, подминая придорожный кустарник.
ДВА ФЛАЖКА
Эти странные флажки почти одновременно попали в два штаба: один — к колчаковскому полковнику, второй — к Кондрату Васильевичу Крутову.
Оба флажка были из белого батиста, с одинаковыми надписями. На одной стороне виднелось слово «красный», на обратной — два слова: «Армия Трясогузки».
Полковник брезгливо взял из рук адъютанта флажок, посмотрел на корявые буквы и спросил сквозь зубы:
— Что ещё за Тря-со-гуз-ка? Кличка партизана?
— Почерк детский, ваше превосходительство! — робко заметил адъютант.
— Ваша догадка лишена основания. Грамотность этих скотов до смерти остаётся на детском уровне, — возразил полковник. — Сколько разбито вагонов?
— Пять вагонов и… паровоз.
— Пять вагонов и паровоз! — воскликнул полковник. — Вполне наивный детский почерк!
Он взял карандаш, придвинул к себе донесение об аварии и наложил резолюцию: «Есаулу Благову. Расследовать. Начать с обходчика».
В это время Тимофей Егорович сидел в комнате у Кондрата Васильевича. Для оставшихся в городе большевиков она служила подпольным штабом, а официально называлась мастерской жестянщика. Днём Кондрат Васильевич чинил вёдра, лудил кастрюли, а по ночам ремонтировал оружие для партизан и подпольщиков.
Кондрат Васильевич с любопытством осмотрел флажок, хмыкнул, взъерошил короткие волосы на голове,
— Может, он случайно оказался у дороги?
Обходчик не согласился:
— Никакая не случайность! Два их было, флажка: один колчаковцы нашли, а этот я подобрал. И костыль я потом отыскал.
— При чём тут костыль? — спросил Кондрат Васильевич.
— При том! Его кто-то на рельсу положил — оттого и авария произошла. А флажки по обеим сторонам воткнуты были. Умысел тут явный!
— Умысел, умысел! Глупый умысел-то! — проворчал Кондрат Васильевич. — Какой нормальный человек устроит ловушку и флажками её украсит? Да ещё с дурацкой надписью: армия, и не какая-нибудь, а Трясогузки! Ишь какой Наполеон открылся! А ведь грамотный, чёрт: кавычки нарисовал! — Кондрат Васильевич ткнул пальцем флажок. — Похоже — интеллигент из сочувствующих сработал! Надо будет искать, — может, стоящий человек.
— То ненормальный, то стоящий! — съязвил Тимофей Егорович.
— Ненормальный в смысле того, как крушение подстроил, а стоящий — из-за грамоты, — объявил Кондрат Васильевич. — У нас грамотеев раз, два — и обчёлся! И учти — человек, вроде, наш: сам написал — красный.
— Хорош красный! — продолжал сердиться обходчик. — Глаза он тебе выколол!
Кондрат Васильевич не понял:
— Какие глаза?
— А не ты ли глазами меня называл?… Ослепли глаза! Мне теперь на дорогу ни-ни!
— Я уж подумал об этом. Сегодня отправлю тебя к партизанам. Но ты не жалей: мы за карательным отрядом давно охотились!
Где-то на улице заиграла гармошка. Кондрат Васильевич поспешно встал с табуретки, взялся за верстак, заваленный чайниками и плошками, передвинул его вместе с двумя половицами, к которым были прикреплены ножки. Открылась узкая щель люка, ведущего в подвал.
— Залезай!… Кто-то идёт! — сказал он обходчику, указав на люк. — Отдохни до ночи. Там и еда есть, и кровать.
Тимофей Егорович кряхтя полез вниз, а Кондрат Васильевич подвинул верстак на старое место и посмотрел в окно.
Мастерская стояла в самом конце улицы. Чтобы попасть к жестянщику, надо пересечь пустырь, который хорошо просматривался из окон мастерской. Место было удобное. Никто не мог незаметно подкрасться и неожиданно войти в штаб подпольщиков.
Для ещё большей безопасности в двухэтажном деревянном доме напротив пустыря постоянно находился дежурный. Если в мастерской происходила встреча подпольщиков, дежурный, увидев незнакомого человека, начинал играть на гармошке.
По пустырю шла женщина с тазом.
— Не вовремя несёт тебя, бабка! — произнёс Кондрат Васильевич и принялся раздувать притушенный горн.
Угли заалели вновь. Он бросил в огонь батистовый флажок.
КОНТРРАЗВЕДКА
Контрразведку в городке возглавлял есаул Благов. Сами колчаковцы ненавидели его и боялись. Говорили, что есаул — родственник одного из заправил омского белогвардейского правительства.
Благов был высок и строен. Чёрный чуб выбивался из-под папахи и нависал над узким лбом. Большие тёмные глаза навыкате смотрели не мигая. Не всякий мог выдержать этот пристальный взгляд.
Получив от полковника флажок армии Трясогузки, Благов долго не раздумывал. У него была одна улика — кусок батиста. Есаул послал пятерых солдат на поиски обходчика, остальным приказал произвести в городке повальный обыск.
Крушение произошло в девятом часу утра, а уже в полдень к дому, в котором располагалась контрразведка, привели группу задержанных. Есаул вышел на крыльцо, чтобы рассортировать их: кого отпустить, а кого оставить для дальнейшего расследования.
В бедных семьях батист — редкость, поэтому большинство задержанных было из зажиточных слоёв, поддерживавших колчаковский режим.
— Какое издевательство! — слышалось из толпы.
— Хуже, чем большевики!
— Мы самому Колчаку пожалуемся!
Это не смутило есаула. Он обвёл людей тяжёлым взглядом, переложил флажок, из правой руки в левую, вынул из кобуры кольт и сказал негромко, но так, что слышали все:
— Богу пожалуетесь!… Давай!
Унтер-офицер вывел из толпы женщину с отрезом белого материала и подтолкнул к крыльцу. Благов сравнил флажок с материалом и отрывисто произнёс:
— Свободна!
Унтер-офицер выхватил отрез у женщины и снова подтолкнул её:
— Иди!
И она, пошатываясь, вышла за кольцо солдат.
Через полчаса толпа задержанных поредела, а у ног есаула вырос ворох отобранных вещей. Тут были платья, скатерти, занавески, куски сатина, ситца, шёлка.
Колчаковцы воспользовались удобным случаем и отбирали всё, что им приглянулось.
К Благову подвели мужчину в форме железнодорожного служащего. В руках он держал большой батистовый платок. Есаул не успел сравнить его с флажком. Разбрызгивая уличную грязь, к дому подъехал автомобиль. Солдаты расступились, узнав машину полковника. Она круто остановилась у самого крыльца. Вышел адъютант.
— Прекратите это безобразие! — сухо сказал он есаулу. — Кого вы задержали? Возмущены лучшие люди города! Телефон трезвонит без умолку! Полковник в гневе.
— Мне сказано найти… — начал было есаул, но адъютант прервал его:
— Вам надо поучиться классовому чутью у большевиков!
— У меня одна примета — батист! — выпалил есаул.
Адъютант усмехнулся, вытащил из кармана батистовый платок и, кивнув в сторону кучки задержанных, спросил:
— Может быть, и мне встать с ними?… Отпустите их, — это категорический приказ полковника!
Есаул молча повернулся и вошёл в дом, громко хлопнув дверью.
— Отпустите их! — повторил адъютант унтер-офицеру и добавил, обращаясь к задержанным: — Господа! Вы свободны!
Мужчина в форме железнодорожного служащего прикоснулся пальцем к козырьку фуражки и шагнул к адъютанту:
— Разрешите поблагодарить вас за восстановленную справедливость!
Он выговаривал слова очень правильно, с той старательностью, с какой говорят по-русски иностранцы.
— С кем имею честь? — спросил адъютант довольно холодно.
— Инженер Бергер. Прислан к вам из Омска в качестве начальника железнодорожного депо.
— Барон Бергер? — приятно удивился адъютант. — Но каким образом вы очутились в числе задержанных?
— Вы отлично осведомлены о моей родословной! — мужчина поклонился. — А задержали меня потому, что я имел неосторожность, сойдя с поезда, вынуть из кармана батистовый платок.
Адъютант гневно взглянул на дверь, за которой скрылся есаул.
— Приношу вам самые искренние извинения! И прошу! — он жестом пригласил барона в машину. — Полковник спрашивал о вас уже трижды!
Автомобиль чихнул и поехал по улице.
Унтер-офицер сгрёб в охапку сваленные у крыльца вещи и понёс их к воротам. Из-за угла появился мальчишка-беспризорник. На голове у него блином лежала кепка без козырька. Рваный английский френч, в двух местах прошитый пулями, доходил ему до колен. Ниже виднелись полосатые пижамные брюки, прихваченные старыми солдатскими обмотками.
Беспризорник бесстрашно дёрнул унтер-офицера за хлястик шинели.
— Дядя, дай рубаху — брюхо прикрыть!
Унтер обернулся. Руки у него были заняты. Он ногой хотел пнуть мальчишку, но тот отскочил.
— Дай, говорю! — с угрозой повторил беспризорник и выдернул из охапки шёлковую рубашку.
— Держите его! — крикнул унтер-офицер солдатам.
Мальчишка вьюном проскользнул мимо колчаковцев и, отбежав на безопасное расстояние, с вызовом крикнул:
— Кого держать? Меня? Хо-хо!… У меня паспорт бессрочный! — беспризорник распахнул френч и хлопнул ладонью по голому животу. — А хотите — и гербовую печать покажу! — Он повернулся к солдатам спиной и звонко шлёпнул рукой пониже поясницы.
НА БАЗАРЕ
Базар был местом, куда стекались все городские слухи и сплетни. И не случайно Кондрат Васильевич послал молодого подпольщика Николая
Глухова на базарную площадь. Какой-нибудь разговор, чья-нибудь болтовня могли навести на след таинственной Трясогузки.
Николай в детстве сломал ногу и остался хромым, поэтому его не забрали в колчаковскую армию. Он помогал Кондрату Васильевичу чинить и паять кухонную посуду, но главная его обязанность заключалась в охране подпольного штаба. Николай жил с сестрой Катей в двухэтажном доме напротив мастерской. Они по очереди дежурили у окна и, когда надо, играли на гармошке.
На базар Николай отправился со связкой жестяных чайников.
На площади колыхалась густая толпа. Чего тут только не продавали! Подвыпивший старик торговал детскими гробиками. Женщина в мятой шляпе предлагала икону, уверяя, что она из чистого золота. Старуха сидела на большом котле с деревянной крышкой и на весь базар кричала:
— Кондер! Горячий кондер!
К этой «походной кухне» подошёл молодой парень со связкой книг. Он с наигранной бодростью протянул старухе всю связку.
— Держи, мать! Никому бы не отдал, а тебе дарю — за одну миску!
Старуха взглянула на книги и отвернулась.
— Ладно, за полмиски! — уже не так бодро произнёс парень.
Старуха отмахнулась, как от комара, и снова закричала:
— Кондер! Кому горячий кондер!
Николай, помня наставления Кондрата Васильевича, присмотрелся к парню, подошёл поближе и тихо спросил, положив руку на книги:
— Про трясогузку есть?
Парень оживился. У него появилась надежда продать книги и купить еду.
— Зачем вам про эту глупую птицу? — веско сказал он. — Есть про охоту на бенгальских тигров-людоедов! Страх и ужас! Берите по дешёвке! Только на ночь не читайте!
— Я слабонервный — не надо про тигров! — ответил Николай и пошёл дальше.
До него долетел приглушённый голос женщины, торговавшей глиняными горшками, крынками и кувшинами. Забыв о своём товаре, она рассказывала стоявшим вокруг людям:
— Которые мёртвые — сотня! Вот те Христос — не меньше! Так вповалку на шпалах и валяются! А раненых — без счёта! И говорят, будто баба крушение подстроила! Платочек там шёлковый нашли. По нему и сыск идёт. Как найдут у кого шёлк,считай, что пропал!
Николай долго стоял около женщины, но она, исчерпав запас слухов, приукрашенных собственной фантазией, стала повторяться. Ничего нового он не узнал.
У забора, где народу было поменьше, сидел на фанерном чемодане пожилой мужчина в пенсне, в каракулевой шапке. На груди на цепочке висела узкогорлая чернильница. Из верхней петельки пальто торчали гусиные перья.
— Пишу прошения о помиловании, доносы и требования, иски и жалобы! Рука лёгкая! Успех гарантирован! — нараспев тянул он и начинал сызнова: — Пишу прошения о помиловании…
Николай подошёл к писцу, тронул его за плечо и неожиданно произнёс:
— Трясогузка… — и добавил после короткой паузы: — Полетела… Видать, лето скоро!
Писец неохотно приподнял голову. Над базаром пролетала ворона. Сквозь пенсне на Николая уставились колючие глаза.
— Это ворона, дурак!… Пишу прошения о помиловании…
Николай отошёл, позвякивая чайниками.
ОБЛАВА
Базар — рай для беспризорников. Их тут был не один десяток, и все «работали» кто как умел: попрошайничали, воровали, ходили на руках по лужам, чтобы удивить и разжалобить торгашей.
В узком проходе между заколоченными ларями стоял беспризорник в пижамных брюках и в кепке без козырька. Голый живот по-прежнему белел сквозь дырявый английский френч. Шёлковая рубашка, которую он раздобыл у колчаковского унтер-офицера, красовалась на втором мальчишке, с грустными задумчивыми глазами. Был он года на два младше своего дружка, маленький и щуплый, словно воробьишка. В шёлковую рубашку таких, как он, влезло бы двое. Её плечи кончались где-то у локтей беспризорника. Рукава, чтобы не болтались, были обрублены топором. Сверху надета подбитая мехом жилетка.
Старший беспризорник, упёршись руками в стены ларей, зорко смотрел из узкого прохода на базарную толчею. Под его рукой, как под крылом, стоял младший и глядел туда же.
— Подходящего не видать! — произнёс старший.
— Не видать, — как эхо, отозвался младший.
Из толпы торопливо выбрались двое других беспризорников и заспешили к выходу. Заметив английский френч, они остановились.
— Эй, англичанин! — крикнул один из них. — Последний раз говорю: пойдёшь к нам — получишь долю!
Мальчишка презрительно оттопырил губы.
— Долю? А что вам делить-то?
Беспризорники переглянулись и подошли к ларям.
— Протри гляделки!
На ладони лежал туго набитый кожаный бумажник.
— А что в нем? — полюбопытствовал мальчишка во френче.
— Сами не знаем — только что увели! Тёпленький!
Грязные пальцы раскрыли бумажник. В нем была пачка денег. На беспризорника во френче они не произвели впечатления. Он вытащил одну бумажку, осмотрел её и небрежно сунул обратно.
— Чешите отсюда! У нас дела покрупней!
Где-то в центре базарной площади забренчала гитара.
— За мной! — приказал мальчишка во френче своему дружку, и они нырнули в толпу, оставив воришек у ларей.
Играл на гитаре смуглый парнишка с курчавыми волосами. Он был босой и лихо месил ногами базарную грязь, аккомпанируя себе на гитаре. В замысловатых коленцах, которые он выкидывал перед зрителями, чувствовался навык. Танцору поощрительно хлопали. Но, когда он с шапкой в руке обошёл людей, не звякнула ни одна монета.
Парнишка выругался, блеснув белыми зубами, сердито швырнул шапку под ноги и с каким-то отчаяньем запел под гитарный перебор:
Наш верховный, наш правитель Защитил святую Русь! Дикой черни усмиритель, За тебя сейчас молюсь…Все приумолкли: заинтересовались, какую частушку пропоёт беспризорник про «верховного правителя» — адмирала Колчака. Парнишка с ожесточеньем ударил по струнам и выкрикнул:
Вечека! Вечека! Приласкай же Колчака!Точно взрывом разбросало толпу. Люди шарахнулись в разные стороны. За эту частушку могли расстрелять и мальчишку, и тех, кто слушал его. Вокруг него образовалась пустота. Только два дружка-беспризорника продолжали стоять, с сочувствием глядя на паренька, который заплакал от голода и обиды.
— Подходит? А? — спросил старший.
— Подходит! — подтвердил младший.
Беспризорник в английском френче вытащил кусок сахара, отколотый от целой головки, и протянул пареньку:
— Держи обеими!
Тот, не веря своим глазам, взял сахар.
— Облава! Обла-ва! — раздалось на базарной площади.
Началась паника. Парнишка подхватил шапку, гитару и словно растворился в разбегающейся толпе. Два дружка-беспризорника бросились к ларям: младший — впереди, старший — сзади. Обмотка у него развязалась и волочилась по земле, но поправлять её было некогда. Мальчишки один за другим влетели в узкий проход между ларями. В эту минуту Николай, бежавший за ними, наступил на обмотку. Беспризорник во френче упал, но тотчас вскочил и обругал Николая:
— Курица слепая! Очумел от страха!
Младший беспризорник уже раздвинул доски забора за ларями и пролез через потайную лазейку. Старший кинулся за ним. Николай тоже протиснулся в узкую дыру. Все трое очутились на свалке. Здесь никого не было.
— Спасибо, ребята! — сказал Николай. — Выручили!… Может, когда-нибудь сквитаемся.
— Сейчас сквитаемся! — ответил мальчишка во френче, закручивая обмотку. — Гони чайник в подарок!
Николай отцепил от связки самый красивый чайник.
— Получай! Ну, а сахар у вас у самих есть — видел! Не знаю только откуда?
— Много будешь знать — скоро состаришься! — отрезал старший беспризорник. — За чайник мерси! — И, кивнув головой на прощанье, он приказал своему дружку: — За мной!
Мальчишки быстро пошли по кучам мусора, а Николай остался у забора.
С базара долетали испуганные вопли. Контрразведка есаула Благова продолжала искать виновников крушения.
БАРОН БЕРГЕР
Они обедали вдвоём — полковник и барон.
— Не печальтесь, барон! — покровительственно произнёс полковник.
— Мы ещё все с вами вернём!
Барон поднял бокал с вином.
— Я понимаю!… Кстати, вот и ответ на ваш вопрос: почему я, барон, решил пойти на такую должность. Я не хочу ждать сложа руки! Пока мы не победили, я не барон, я слуга доблестной армии и готов выполнять самую чёрную работу!
— Вы настоящий патриот! — воскликнул полковник.
Они выпили.
— Как вы считаете, с чего мне начать? — спросил барон.
— С самого главного — с ремонта бронепоезда. Им интересуется адмирал Колчак! — полковник помедлил и сказал: — Простите, но я буду откровенным до конца… Вашего предшественника пришлось расстрелять за нераспорядительность. Рабочие разбежались из депо. Остался какой-то пяток посредственных слесарей. Им не осилить ремонт бронепоезда.
— Тогда я начну с рабочей силы, — задумчиво произнёс барон. — Вы мне не откажете в солдатах для этой акции?
— Берите хоть роту!
— Достаточно пока троих…
Через час новый начальник железнодорожного депо прошёл в сопровождении трех вооружённых солдат по главной улице города. Богатые дома не интересовали барона Бергера: он искал рабочих. Дойдя до окраины, он зашёл в несколько хибарок. Солдат он оставлял у дверей и всякий раз приказывал:
— Никого не впускать и не выпускать!
Долго барон не задерживался — выходил из дома через две-три минуты, ворчал довольно громко: «Попрятались проходимцы!» — и шёл с солдатами дальше. Так они оказались у пустыря, где стояла мастерская жестянщика. Барон свернул к ней.
В двухэтажном доме заплакала гармошка. Девичий голос тоскливо затянул:
Догорай-гори, моя лучинушка…У крыльца барон оставил солдат и вошёл в мастерскую.
Николай и Кондрат Васильевич были заняты своим делом: один лудил медную кастрюлю, другой вырезал ножницами большой круг из жести.
— Что вам угодно? — любезно спросил Кондрат Васильевич и улыбнулся как радушный хозяин.
Барон неторопливо оглядел мастерскую.
— Зажигалку починить можешь?
Кондрат Васильевич перестал улыбаться.
— Покажите.
Бергер вынул из кармана замысловатую серебряную зажигалку без колпачка. Кондрат Васильевич придирчиво повертел её в руках, придвинул к себе какую-то коробку, порылся в ней и вытащил из груды мелких металлических деталей серебряный колпачок. Приладив его к зажигалке, он крутанул колёсико. Вспыхнул огонёк.
Барон вопросительно скосился на Николая.
— Свой! — успокоил его Кондрат Васильевич.
Бергер пожал ему руку, кивнул Николаю и представился:
— Платайс, из латышских стрелков. Прислан разведотделом фронта с документами захваченного в плен барона Бергера.
— Это вы отправили под откос карателей? — быстро спросил Кондрат Васильевич.
— Нет. У меня другое задание. Официально я — барон Бергер, новый начальник железнодорожного депо. Прошу вас, товарищ Крутов, собрать вечером самых верных людей — потолкуем. Приду опять с охраной, не пугайтесь. Надо будет…
Снаружи снова донеслось тоскливое пение гармошки.
Кондрат Васильевич прервал Платайса.
— Осторожно — чужие!
— Выйдите со мной! — приказал Платайс.
Они вдвоём вышли на крыльцо. Солдаты почтительно вытянулись. Один из них доложил:
— Господин начальник! Есаул едет!
— Вижу.
К мастерской ехали верхом на лошадях три всадника. Впереди — есаул Благов. За пустырём, на улице, виднелись солдаты. Обыски в городе продолжались.
Николай, наблюдавший из окна, встревожился. Он вытащил из кучи жестяных обрезков пару самодельных гранат, похожих на ржавые консервные банки, засунул их в карманы и тоже вышел на крыльцо.
Когда есаул подъехал, Платайс вежливо сказал:
— Прошу вас мастерскую не трогать. Этот человек, — он кивнул на Кондрата Васильевича, — мне нужен.
— Кому? — насмешливо спросил есаул.
— Мне! — твёрдо повторил Платайс. — Начальнику железнодорожного депо.
— Плевал я на твою должность! Ты лучше скажи: где я тебя видел?
— Рекомендую запомнить, — спокойно произнёс Платайс, — обращаясь ко мне, следует говорить «вы». Это во-первых. А во-вторых, немедленно уезжайте отсюда и молите бога, чтобы я не сообщил полковнику о приёме, который оказала мне ваша контрразведка утром.
— Я з-запомню! — заикаясь от ярости, крикнул есаул.
— Вот и превосходно!
Платайс повернулся к есаулу спиной и сказал Кондрату Васильевичу:
— Делай, как договорились: кого удастся, собери сегодня вечером, на остальных заготовь список с адресами. Я приду в восемь часов. И не вздумай обмануть! Тогда мне придётся обратиться за помощью к господину есаулу.
Платайс сошёл с крыльца. Сопровождавшие его солдаты двинулись за ним.
Благов долго и злобно смотрел ему вслед, потом перевёл взгляд на Кондрата Васильевича и Николая, которые продолжали стоять на крыльце, и вдруг взмахнул нагайкой. Конь понёсся прочь от мастерской. Пришпорили коней и солдаты из контрразведки…
Ровно в восемь в мастерской жестянщика началось совещание. Открыл его Кондрат Васильевич, проводил Платайс, а охраняли три колчаковских солдата. Старший сказал, сворачивая длинную самокрутку:
— Такого не расстреляют!
Двое других поняли, к кому относятся эти слова.
— Въедливый! — произнёс рябой солдат. — У меня ноги гудят — устал таскаться за ним по городу!
— А как он есаула отбрил! — подхватил третий.
— Благов ещё припомнит это! — отозвался старший.
Пока солдаты толковали между собой у крыльца, подпольщики быстро обсудили главный вопрос — как помочь Платайсу выполнить задание, с которым он прибыл в город.
Осталось уточнить некоторые детали. Внимательно оглядев собравшихся, Платайс спросил Крутова:
— Кого пошлём в партизанский отряд с нашим планом?
— Я пойду. Мне тут оставаться нельзя, — ворчливо произнёс Тимофей Егорович. — Подвела меня Трясогузка под самый монастырь!
Все заулыбались.
— Найдём мы твоего обидчика! — сказал Кондрат Васильевич.
— Найти, конечно, надо, — согласился Платайс. — Но основное не это. Сейчас все силы нужно направить на бронепоезд. Мы должны действовать без осечки!
Платайс встал, попрощался и пошёл к дверям. Здесь он остановился, и Кондрат Васильевич впервые увидел на его лице нерешительность.
— У меня к вам, товарищ Крутов, личная просьба, — начал Платайс.
— Много у вас в городе безродных ребятишек?
— Хватает.
— Полгода назад… — продолжал Платайс, но так и не закончил фразу, махнул рукой, будто отрубил что-то, и произнёс совсем другим тоном: — Нет! Не время… Простите.
ВЕРБОВКА
Было совсем темно. Улицы опустели. Невесело светились в окнах редкие огоньки. Посвистывал холодный ветер.
За железнодорожным депо, в тупике между сложенными в штабеля шпалами, мелькнули две тени.
— Здесь должен быть. Больше негде! — прошептал беспризорник в английском френче и заботливо предупредил своего дружка: — Не упади — проволока!
— Не упаду!
Беспризорники пробирались к выгребным ямам. В холодные ночи ямы служили для бездомных спальней. Днём туда выгребали горячий шлак из паровозных топок. Спёкшаяся гарь и пепел долго хранили тепло. В самые трескучие морозы в ямах можно было отлично выспаться.
Мальчишкам повезло: в первой же яме они нашли того, кого искали. В темноте слышалось спокойное посапывание. На рогоже, брошенной поверх шлака, кто-то спал. Рядом лежала гитара.
— Он! — шепнул старший беспризорник.
Младший бросил вниз горсть песку. Жалобно зазвенели струны. Парнишка проснулся, сел и испуганно уставился на непрошеных гостей.
— Вылазь! — строго приказал старший беспризорник.
Квартирант выгребной ямы поднялся, схватил гитару, выпрыгнул наверх и припустился со всех ног по путям. Он подумал, что пришли постоянные хозяева «спальни».
Мальчишки догнали его. Старший подставил ногу, и паренёк упал.
— Бейте… Только гитару не троньте!
— Жрать хочешь? — неожиданно спросил старший беспризорник.
Парнишка недоверчиво поглядел на мальчишек. Только сейчас он узнал их: это они дали ему кусок сахару! Он робко улыбнулся и коротко произнёс:
— Ага! Хочу!
— Ещё раз побежишь — догонять не будем! Останешься голодным! — пригрозил старший беспризорник. — Иди за нами.
Молча дошли до сада, чуть освещённого окнами трактира, в котором каждую ночь пьянствовали колчаковские офицеры.
Старший беспризорник приказал пареньку с гитарой сесть на скамейку, на самое светлое место, а сам устроился в тени, заложил ногу на ногу, важно закачал носком ботинка и сказал:
— Начинай допрос, Мика!
Услышав про допрос, парнишка прижал к себе гитару и съёжился.
— Не бойся! — покровительственно произнёс младший беспризорник. — Отвечай: где жил?
— В Чите.
— Отец, мать есть?
— Нету, — всхлипнув, ответил парнишка и взмолился: — А пожрать-то когда дадите?
Старший беспризорник нахмурился.
— Спрашиваем мы! — одёрнул он паренька и ещё чаще закачал ногой.
— Продолжай, Мика, допрос.
— Что с ними?
— Колчаковцы замучили…
Парнишка заплакал. Заморгал глазами Мика. У него запершило в горле, и он никак не мог задать следующий вопрос.
— Ну! — поторопил его старший беспризорник.
— Годен он, Трясогузка! Сразу видно — годен! — вырвалось у Мики, и он тотчас получил затрещину.
— Кличку командира вслух не произносят! — назидательно сказал старший и, снова заложив ногу на ногу, закачал носком ботинка.
За эту привычку он и был прозван Трясогузкой — пичугой, которая всегда покачивает хвостом.
Мика насупился, упрямо поджал губы, но пререкаться с командиром не стал и продолжал допрос:
— Как звать?
— Ленькой! — соврал паренёк.
Горький опыт научил его скрывать настоящее имя. Обычно, узнав, что он цыган, беспризорники охотно брали его в компанию, заставляли плясать и петь без отдыха, а вечером отнимали и делили между собой все, что он получал за день. Но смуглый цвет лица и чёрные курчавые волосы часто подводили паренька.
— Цыган? — спросил Трясогузка.
— Нет!
— Врёшь! Вижу, что цыган!
— Не цыган! — паренёк соскочил со скамейки. — С голода сдохну, а цыганом не буду!
Трясогузка удивлённо спросил:
— А чем плохо, если цыган?
— А чем хорошо? — горячился паренёк.
Трясогузка пожал плечами.
— Ни плохо ни хорошо… Обычно!
Ответ получился неубедительный. Трясогузка почувствовал это и рассердился.
— Есть у меня начальник штаба или нет? — повысил он голос.
— Есть! — отозвался Мика.
— Я, что ли, должен за тебя работать?… Разъясни ему!
Мика взял цыганёнка за руку, усадил на скамейку и с детской простотой сказал:
— А нам все равно — кто ты. Лишь бы не белый, не трус и не вор!
— Будем звать тебя Цыганом, чтоб привык! — категорически заявил Трясогузка.
Парнишка промолчал.
— А теперь поклянись! — потребовал Мика. — Если струсишь, — гроб тебе сосновый, если тайну выдашь, — гроб осиновый, а если украдёшь без разрешения командира, — жевать тебе сырую землю три дня и три ночи!
Цыган с дрожью в голосе повторил страшную клятву и добавил от себя:
— Чтоб мне сорваться в тройном сальто с поворотами!
Трясогузка выслушал его и встал с такой торжественностью, что и Цыган поднялся со скамейки.
— Принимаем тебя в нашу армию! — произнёс Трясогузка и протянул новобранцу руку.
ПОДВАЛ
За городом, на берегу реки, чернели развалины сгоревшего дома. Когда-то тут жил богатый купец. После революции он сжёг свой дом, а сам уехал в Японию. В сухую погоду ветер поднимал над пепелищем тучи чёрной пыли и нёс их в лес. Обугленные бревна торчали, как ребра скелета. Уродливо скрученные железные балки топорщились в разные стороны.
Никому и в голову не приходило, что под обгоревшими остатками дома в каменном подвале сохранился склад.
Очутившись зимой в незнакомом городе, Трясогузка набрёл на пепелище, переночевал за грудой кирпича, а наутро случайно обнаружил лаз, который вёл в подвал. Там лежали мешки с сахаром, крупой и сухарями, валялись рулоны белого батиста, висели копчёные колбасы, а в дальнем углу высилась пирамида небольших бочек с порохом.
Не рассчитал купец. Он надеялся, что огонь доберётся до пороха — и тогда от склада не останется ничего. Но каменные своды подвала не обрушились от пожара.
Два дня не вылезал Трясогузка из подвала — отъедался и отсыпался. На третий день он решил создать армию из беспризорников и отомстить за отца, расстрелянного белыми под Харьковом, за мать, умершую от тифа на далёком безымянном полустанке.
Беспризорников в городе было много. Одни уезжали в поисках хлебных и тёплых мест, другие приезжали в теплушках, в угольных ящиках, а то и прямо на буферах товарных вагонов.
Трясогузка не торопился. Он долго и тщательно выбирал будущего помощника.
Однажды Трясогузка бродил по путям на станции.
— Папа! Па-а-па! — долетело до него.
У платформы на деревянном сундучке стояла девчонка и испуганно звала отца. А рядом дрались беспризорники. Двое колотили третьего — самого маленького. Увёртываясь от ударов, он не выпускал из рук небольшой пакет, перевязанный верёвкой.
— Папа! — ещё раз крикнула девчонка. — Скорей!
К платформе спешил мужчина. Два беспризорника исчезли, а третий почему-то не побежал.
«Растерялся! — подумал Трясогузка. — Ох, и будет ему!»
Мужчина схватил мальчишку за шиворот и выхватил пакет.
Девчонка соскочила с сундука.
— Отпусти его, папа! Если б не он, они уворовали бы весь наш хлеб.
Отец отпустил мальчишку. Беспризорник подтянул штаны, окинул мужчину оскорблённым взглядом и молча пошёл прочь.
— Хочешь хлеба? — крикнул мужчина.
Беспризорник не оглянулся.
— Мальчик! — позвала девчонка.
Но беспризорник так и ушёл.
Он очень понравился Трясогузке. Это был Мика. Ему первому командир будущей армии доверил свою тайну и назначил его начальником штаба. Они вдвоём подготовили крушение поезда. Конечно, ни тот ни другой не знали, что под откос свалится состав с карательным отрядом. Но они не боялись ошибиться: по железной дороге ездили только колчаковцы.
Флажки придумал Трясогузка. Надписи делал Мика. Им хотелось, чтобы самому Колчаку донесли о существовании новой армии, которая объявила беспощадную войну всем белякам.
Третьим в армию был принят Цыган.
Его привели к сгоревшему дому, втолкнули в тёмный лаз, и он полз
вперёд, пока не провалился в какую-то дыру. Удар был мягкий — под люком на полу подвала лежала охапка соломы. Даже гитара не сломалась.
Цыган услышал, как один за другим спрыгнули Трясогузка и Мика.
— Это наш штаб! — послышался голос командира.
Вспыхнула спичка. Загорелась свеча. Цыган огляделся. Развешенные по стенам гирлянды баранок и связки копчёных колбас ошеломили его. Он, как слепой, начал ощупывать и нюхать колбасу. Наконец он вцепился в неё зубами, откусил, сколько мог, подпрыгнул, ударил по струнам гитары и пустился в пляс.
— Парад алле! — кричал Цыган. — Оркестр — туш!
Командир и начальник штаба с опасением смотрели на своего бойца: не сошёл ли он с ума? Но Цыган плясал от неудержимой радости, которая охватила его, когда он понял, что больше голодать не придётся.
Не переставая бренчать на гитаре, он вскочил на мешки с сахаром, перепрыгнул на ящик, а оттуда — на бочонок.
— Стой! Не двигайся! — завопил опомнившийся Трясогузка. — Там порох!
Цыган посмотрел вниз и чуть не выронил гитару: его босые ноги по щиколотки погрузились в мелкозернистый тёмный порошок.
Подбежал Трясогузка, снял его с бочки и дал крепкий подзатыльник.
— Если б взорвался, я б тебе голову открутил!
Цыган смущённо шмыгнул носом, но не обиделся.
— Это все ваше? — спросил он.
— Нашей армии! — ответил Трясогузка.
— А сколько в армии едоков?
— Дура! — добродушно выругался командир. — Не едоки в армии, а бойцы! Ты третий будешь… Начальник штаба! Накормить бойца Цыгана!…
Пока Цыган пальцами вытаскивал из кастрюли куски вареной колбасы, Трясогузка и Мика пили чай из жестяных банок, по очереди наливая его из чайника, подаренного Николаем. Рядом весело потрескивала печка, сделанная из ведра. Дым шёл прямо в подвал, скапливался у потолка и постепенно уходил в люк.
Рот у Цыгана был занят, а глаза продолжали шарить по мешкам и ящикам.
— Видать, давно не ел! — произнёс Трясогузка, подмигнув Мике.
Цыган прошамкал набитым ртом:
— С позавчера… Как спёр у солдата краюху хлеба, так и все!
— Спёр? — переспросил Трясогузка.
— Спе-е-ер! — хвастливо повторил Цыган.
— Забудь это слово! — вскипел Трясогузка.
— Хорошо! — согласился Цыган. — Это был номер иллюзиониста Брам-Пур-Пура!
— Бестолочь! — прикрикнул Трясогузка. — Клятву не воровать давал?
— Это до клятвы было, — возразил Мика.
Трясогузка немедленно наградил его подзатыльником.
— Не защищай! Пусть запомнит — воровать нам незачем. Еды у нас хватит до самой до коммунии!
— До чего? — не понял Цыган.
— До коммунии!
— А что это такое?
— Коммуния — это… — Трясогузка запнулся, с надеждой посмотрел на Мику. — Сейчас тебе начальник штаба скажет!
И Мике пришлось выручать командира.
— Коммуния — это когда не останется ни одного живого беляка. — Мика мечтательно посмотрел в потолок и продолжал, взволнованно потирая худенькие ручонки: — Тогда Ленин скажет: «Все, товарищи! Война закончена! Поезжайте кто куда хочет — хоть на Чёрное море! И ешьте кому что вздумается — хоть ананасы!…» Доктор всегда говорил маме…
На глазах у Мики навернулись слезы.
— Хватит! Ясно! — сердито произнёс Трясогузка. — Понёс про свои ананасы!
Командир не любил, когда вспоминали прошлое.
ЦЫГАН-РАЗВЕДЧИК
Ранним утром Трясогузка выдал всем «сухой паёк» — по три баранки и по куску колбасы и сахару. В свой бездонный карман он дополнительно сунул четверть головки сахару и огласил приказ, который состоял из четырех пунктов: до вечера в штаб не возвращаться, весь день шнырять по городу, смотреть во все глаза и думать, как бы навредить колчаковцам.
Расходились по одному. Первым влез в люк Цыган. Гитару он оставил в подвале. Выйдя к речке, мальчишка увидел перекинутое с берега на берег бревно. Они переходили здесь вчера. Левее за кустами виднелся старый мостик. Там была дорога. Цыган свернул влево. Холодная роса обжигала босые ноги. Они посинели. Цыган потёр их о штаны, и ноги стали красные, как клешни рака. Теперь холод не чувствовался.
Трясогузка сказал: «Иди и ищи, как навредить колчаковцам». А что искать и где?
Цыган пожалел, что не расспросил командира подробнее. Но счастливый случай подвернулся сам. Когда он вышел на дорогу, сзади раздалось тарахтенье, телеги. Мальчик обернулся. Тощая лошадь тянула длинную, покрытую брезентом повозку. На передке сидел солдат.
Поравнявшись с Цыганом, солдат «пошутил» — огрел его кнутом. От этой «шутки» парнишка вскрикнул и схватился за плечо.
— Будь здоров! — сказал солдат и рассмеялся. — Кланяйся отцу с матерью!
Телега въехала на мост. Как клавиши, заиграли бревна. На самой середине заднее колесо продавило гнилой настил. Повозка скособочилась и застряла. Лошадь испуганно забилась в оглоблях.
Настала очередь смеяться Цыгану. Он расхохотался от всей души, приговаривая:
— Так тебе и надо! Так тебе и надо!
Солдат соскочил с телеги и схватил коня под уздцы. Успокоив лошадь, он подошёл к провалившемуся колесу и попробовал вытащить повозку. Но поклажа была тяжёлой.
— Чего ржёшь, дуралей! — крикнул солдат Цыгану. — Принеси лучше вагу — махорки дам!
— Сейчас побегу! — насмешливо ответил Цыган и не тронулся с места.
— Лошадь хоть подержи, чумазый!
Что-то словно подтолкнуло Цыгана.
— Лошадь подержу, — согласился он и с другой стороны телеги подошёл к коню.
Солдат вытащил из-под брезента топор и скрылся в прибрежных кустах. А Цыган одной рукой ласково гладил лошадь по крутому крупу, а другой приоткрыл брезент. В повозке лежали длинные деревянные ящики с винтовками и цинковые коробки с патронами.
Первой плюхнулась в воду цинковая коробка. За ней пошла ко дну винтовка.
Солдат вырубал в кустах вагу и ничего не слышал. Когда он вернулся, Цыган стоял рядом с лошадью. Солдат подсунул палку под заднюю ось и причмокнул. Лошадь дёрнулась вперёд, и повозка съехала с моста.
Колчаковец сел на телегу. Цыган протянул руку:
— Гони обещанное!
И опять взметнулся кнут, но паренёк был настороже — успел отскочить и показал солдату язык.
— Подавись своей махоркой! Нужна она мне!…
Больше за весь день Цыган ничего не узнал и ничего не придумал. Но он надеялся, что винтовка и патроны вполне удовлетворят командира. Цыган решил достать их на обратном пути из речки, чтобы не возвращаться в штаб с пустыми руками.
Под вечер счастье ещё раз улыбнулось пареньку. В сумерки он забрел в сад, где вчера Мика вёл допрос, сел на ту же скамейку и сжевал последнюю баранку.
Из трактира вылетали томные звуки граммофона и весёлые голоса. Задняя дверь, выходившая в сад, открылась, и здоровенный детина в красной рубахе выволок пьяного офицера. До ближайшей скамейки было далеко. Половой поленился тащиться с такой тяжестью. Он прислонил офицера к дереву.
— Очухайтесь малость, вашбродие!
Цыган с любопытством наблюдал за офицером, который стоял на подгибающихся ногах и елозил затылком по гладкому стволу.
— Человек! — крикнул он. — Ещё штоф! И запомни: на, фронте кабаков нет!… Штоф, я говорю! Штофушку!
Офицер протянул к трактиру руку и чуть не упал.
Подскочил Цыган.
— Дяденька! Иди на скамейку! — сказал он, обхватив офицера и нащупывая пальцами застёжку кобуры.
Колчаковец бессмысленно уставился на паренька и пробормотал:
— Человек! Не вижу тебя! Что ты такой маленький?… Мельчают люди! Бедная Россия!
Офицер горестно покачал головой и облапил дерево, а Цыган попятился и, прижав к животу опущенный за рубашку револьвер, стрелой вылетел из сада. Теперь можно было не нырять в холодную воду за винтовкой и патронами.
ТРЯСОГУЗКА РАБОТАЕТ
У Трясогузки в тот день никаких интересных происшествий не было. С утра он походил по базару, потом вернулся в штаб, пробыл в нем минут пять и все остальное время провёл у особняка полковника. Много раз обошёл он вокруг добротного деревянного дома. Окна фасада смотрели на главную улицу. Остальные три стены особняка огораживал забор. Во дворе под высокими старыми тополями стояла избёнка, в которой разместилась кухня. Там готовили еду для полковника.
Трясогузка видел через открытые ворота, как ровно в одиннадцать часов из кухни вышел повар, весь в белом, с большим подносом, уставленным судками и сковородками. Ярко блестели начищенные крышки. Из-под них вырывался парок.
Часовой, дежуривший у крыльца, услужливо открыл дверь.
От сарая к кухне лениво прошагал истопник с вязанкой дров. Из трубы избёнки повалил густой дым. Трясогузка задумчиво смотрел на эту трубу. Голая ветка тополя, нависшая над ней, была чёрной от копоти.
Вернулся повар с пустым подносом. Трясогузка вошёл во двор и догнал его у самой кухни.
— Дяденька, дай поесть!
Повар оглянулся, прищурил холодные глаза.
— Жди — вынесу.
Есть Трясогузке не хотелось. Он и не ожидал, что его угостят чем-нибудь, — спросил просто так, для вида.
Повар вышел из кухни с ковшом и плеснул кипятком. Но Трясогузка успел присесть. Горячая струя воды пролетела над его головой.
— Спасибо! — с угрозой сказал Трясогузка и отбежал к воротам.
Истопник и повар дружно хохотали у кухни.
— А если б попал? — неодобрительно крикнул солдат, стоявший у крыльца.
— У таких шкура дублёная! — ответил повар. — Его и расплавленным оловом не проймёшь! Расплодилось босяков, как поганок осенью!
Трясогузка знал, что в доме живёт самый главный в городе колчаковец. Он видел, как с крыльца спустился человек в железнодорожной форме. «Тоже жрал с полковником! — подумал Трясогузка. — Прихлебала!»
Проходя мимо, мужчина пристально посмотрел на беспризорника. И было в этом взгляде что-то такое, отчего Трясогузка смутился. Он засунул руки в карманы и демонстративно отвернулся.
Через час Трясогузка снова увидел того же человека в железнодорожной форме.
Платайс шёл по главной улице. За ним, окружённые солдатами, шли рабочие. Их вели под конвоем в железнодорожное депо.
«Посмотрел, как человек, а сам — пёс колчаковский!» — подумал Трясогузка про мужчину в форме.
Платайс на этот раз не взглянул на беспризорника. Начальник депо шёл с высоко поднятой головой и повелительно покрикивал:
— Быстрей! Быстрей!
Конвоиры прикладами подталкивали рабочих.
Никто из посторонних не мог подумать, что вся эта процессия — военная хитрость. План, разработанный большевиками-подпольщиками, начал осуществляться. Рабочие знали, что предстоит им делать.
Во второй половине дня полковнику подали машину. Почти одновременно к особняку подскакал на коне есаул. Благов и полковник встретились у крыльца. О чем докладывал есаул, Трясогузка не расслышал. Зато гневные слова полковника долетели до него.
— Головорезы из вашей команды начинают меня раздражать! — гремел за забором властный голос. — Декоративно обставленные расстрелы — это далеко не все, чем следует заниматься контрразведке!… Что вы лепечете про каких-то заложников? Где преступники? Где эта птичья армия?
Трясогузка чуть не запрыгал от радости. Он понял, про какую армию спрашивал полковник. Значит, его армия уже признана врагами как боевая сила! Чтобы услышать это признание, стоило дежурить у особняка.
Полковник уехал. Есаул остался у крыльца. Он нервно похлопывал кнутом по начищенному сапогу.
В это время во двор вошёл Николай. На плече он нёс большой, только что вылуженный котёл. Посудина была тяжёлая. Николай хромал больше обычного и смотрел под ноги, чтобы не споткнуться.
Трясогузка и есаул — оба узнали его.
— Принимай добро! — крикнул Николай, подойдя к кухне.
Вышел истопник, помог снять с плеча котёл. Николай, отдуваясь, присел на скамейку под окном. Повар вынес ему сковороду с двумя котлетами.
Кондрат Васильевич и Николай давно обслуживали кухню полковника. Это было выгодно: иногда удавалось раздобыть ценные сведения. Николай всегда стремился подольше задержаться на кухне и охотно вступал в разговор.
— Хороши котлетки! — похвалил он, облизывая пальцы.
Польщённый повар пренебрежительно махнул рукой.
— Пустяки!… Дня через три буду готовить обед на двенадцать персон. Вот там искусство будет! Ты только с остальной посудой поторопись!
— Завтра все принесу, — ответил Николай. — А что за праздник будет?
— Гости! — шепнул повар.
Николаю очень хотелось поговорить ещё, но он уже заметил, что есаул наблюдает за ним. Чтобы не вызвать подозрений, Николай распрощался и вышел за ворота. За углом забора он столкнулся с поджидавшим его Трясогузкой.
— Знал бы — и чайник твой паршивый не взял! — сердито сказал мальчишка.
— За что такая немилость? — усмехнулся Николай.
— Вокруг полковника увиваешься? Шкура продажная!
— Откуда ты знаешь, что тут полковник?
— Я все знаю!
— А беспризорничаешь давно?
— С потопа!
— Ну, а звать как?
— Тр… — чуть не проговорился Трясогузка и быстро поправился: — Трофим!
Мальчишка рассвирепел — надо же так оплошать! Всю свою злость он обрушил на Николая.
— Котлетки лопаешь? Чтоб кишки у тебя завернулись от них! Лизоблюд!
Выпалив это, Трясогузка убежал. Николай пошёл домой. А есаул перешагнул высокий порог кухни.
— Часто этот хлопоногий бывает у тебя? — спросил он у повара. — Что-то не нравится мне он!
Повар угодливо улыбнулся.
— А кому он понравится — убогий! Но вы, господин есаул, оставьте его пока в покое. Починит всю посуду, тогда хоть на столб его — вместо фонаря!
У есаула не было причин подозревать Николая. Но Благов был злопамятен и упрям. Барон Бергер помешал ему обыскать мастерскую жестянщика. Этого было достаточно, чтобы есаул возненавидел и барона, и всех, кто присутствовал при разговоре. Благов искал повод, чтобы отомстить если не самому Бергеру, то хотя бы тем, кого он взял под защиту.
— Сообщи мне, когда он отдаст твои ложки-поварёшки! — сказал есаул, уходя из кухни.
— Будет исполнено! — ответил повар.
МИКА В ЗАСАДЕ
Мика не был ни таким ловким, как Цыган, ни таким дерзким, как Трясогузка. У Мики было другое преимущество. Хилый, с бледным лицом и умными, всегда печальными главами, он мог появляться там, где Трясогузке и Цыгану обязательно надавали бы по шее. Рука не подымалась на этого малыша. Зачем его бить или гнать? Он ничего не украдёт: сразу видно — не воришка. И вообще какой вред может принести обездоленный застенчивый мальчуган?
Помахивая непомерно широкими обрубленными рукавами, Мика с утра пробрался к дому, к которому никто из жителей города по доброй воле не подходил.
Контрразведка уже работала. За высоким глухим забором шла перекличка арестованных. За вчерашний день их накопилось одиннадцать человек. Никто из них, конечно, не знал ни об армии Трясогузки, ни о причинах крушения поезда. И батиста у них не нашли. Одних арестовали, потому что они долго не впускали солдат в квартиру или мешали проводить обыск, другие просто не понравились есаулу. Арестованных заперли в сарай, объявили их заложниками и не давали ни пить ни есть. Сарай был маленький: не только лежать, даже сидеть — и то тесно. Утром заложников вывели во двор на перекличку.
Мика сидел на брёвнах напротив дома контрразведки и будто дремал, зябко упрятав нос в грязный мех жилетки. Но он все видел и слышал.
— Соколова! — выкрикнул за забором унтер-офицер.
— Здесь, — ответил дрожащий женский голос. — Пить дайте! Люди вы или звери?
— Петров!
— Ну, я! Черт бы вас побрал!
Послышался звонкий удар. Мика съёжился ещё больше.
— Савостин! — продолжал перекличку унтер.
Мика не знал, сколько придётся сидеть на брёвнах и будет ли от этого какой-нибудь толк. Он вспомнил, как в такой же внешне обычный дом, только в другом городке, увели отца. Мика двое суток продежурил у ворот и видел, как на рассвете вывезли на телегах избитых и окровавленных заключённых. Он понял: на расстрел. На второй телеге, лицом вниз, с закрученными за спину руками, лежал отец. Это была их последняя встреча.
Прошло полгода, но Мика, услышав ненавистное слово «контрразведка», все ещё чувствовал озноб. Бессильная и потому тоскливая злоба охватывала его, а ноги сами тащили туда, где было гнездо колчаковских палачей.
Закончив перекличку, унтер-офицер повысил и без того громкий голос:
— Есть и пить не получите, пока не будут пойманы виновники аварии на железной дороге!
В ответ раздался ропот, но унтер скомандовал:
— Увести их!
До Мики не сразу дошёл смысл сказанного унтер-офицером. Лишь через несколько минут мальчишка догадался, что речь шла о составе, который наехал на костыль и свалился под откос. На сердце у Мики потеплело. Это было началом расплаты за отца. Но другая мысль заставила Мику насторожиться. Из-за этого крушения арестовали ни в чем не повинных людей! Он не выдал своего волнения — сидел, как и раньше, уткнув нос в жилетку, словно спал.
Часовой, ходивший у дома, уже несколько раз поглядывал на беспризорника и наконец окликнул его:
— Эй, пацан!
Мика не шелохнулся.
Часовой подошёл поближе.
— Эй, ты!… Живой?
Мальчишка сидел на нижнем бревне, упёршись локтями в колени. Голова опущена на руки. Груда брёвен отгораживала его от холодного ветра. Слабо, но все же пригревало неяркое солнце. Мальчишка спал. Тоненькая синяя жилка пульсировала на виске. Она вызывала жалость.
Солдат поскоблил дулом винтовки небритый подбородок, и Мика услышал, как он проговорил вполголоса:
— Спи, леший с тобой!
Часовой вернулся на место, а Мика продолжал сидеть. Выдержка у него была железная. Он мог не шевельнуться хоть до вечера. Но этого не потребовалось. Вскоре прискакал есаул Благов и приказал освободить сарай для новой группы арестованных. Заложников выгнали на улицу и повели к станции.
Мика выждал несколько минут и медленно побрёл в ту же сторону. Свернув за угол, он побежал и догнал заложников. Под конвоем шли две пожилые женщины и девять мужчин.
Это были люди, которые попали в беду из-за Мики и Трясогузки. А сколько ещё безвинных людей заберут колчаковцы? Какая же это месть за отца, если могут погибнуть матери и отцы других ребятишек? И главное — нельзя исправить ошибку! Если даже пойти и признаться, что это они с Трясогузкой положили костыль на рельсу, то и тогда ничего не изменится. Колчаковцы редко выпускают тех, кто попал к ним в лапы.
Заложников привели к пустому пакгаузу — кирпичному строению складского типа с железной дверью. Напротив стоял грузовой состав. Мика залез под вагон и видел, как захлопнулась за арестованными тяжёлая дверь. Старший конвоир задвинул засов, навесил большой замок, закрыл его, ключ передал остающемуся на посту солдату и приказал:
— Не выводить ни по какой надобности! Пусть там… Перед расстрелом заставим почистить.
Конвоиры ушли.
Мика пролежал под вагоном больше часа. Столько же просидел он в кустах сзади пакгауза, разглядывая кирпичную стену с единственным окошком под самой крышей. Но и это небольшое окошко было забрано толстыми прутьями, между которыми не просунешь и голову. «А зачем совать голову?» — подумал Мика и улыбнулся.
Кусты зашуршали. Это Мика торопливо пополз прочь от пакгауза.
ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Первым докладывал о результатах дневной разведки Цыган. Он был краток: выложил на ящик револьвер.
— Есть ещё винтовка и патроны — у моста спрятал!
Глаза у Трясогузки и Мики заблестели. До этого момента все вооружение армии состояло из топора и перочинного ножа. Но командир постарался скрыть свой восторг. Он сдержанно спросил:
— Где взял?
— Где! — ухмыльнулся Цыган. — Спёр! — по привычке сказал он.
Сказал и отскочил от Трясогузки, вспомнив вчерашний подзатыльник. Но командир даже не замахнулся.
— Спёр! — насмешливо повторил он. — Серый ты человек, Цыган!. Мика, как это называется?
Мика задумался.
— Либо конфискация, либо экспроприация.
— Во! — подтвердил Трясогузка и, чтобы не повторять незнакомые трудные слова, сказал Цыгану: — Выбирай любое!
— Первое тогда! — пробормотал Цыган.
— Какое это первое? — грозно спросил командир.
— Ну… это… фиксация, что ли?
— То-то! — удовлетворённо произнёс Трясогузка. — Вот и запомни! А то — спёр! Я тебе дам — спёр!… Молодец! Получай за это! — И командир вытащил из-под ящика пару изрядно поношенных ботинок. — Обменял на сахар.
Цыган не ожидал такого подарка и стал растерянно пихать грязные ноги в ботинки.
— Обожди! — Трясогузка порылся в бездонных карманах френча и вытащил два дырявых шерстяных носка. — Надевай!… А ты докладывай, Мика!
В трудное положение попал Мика. О чем мог он рассказать? Цыган раздобыл оружие, а Мика всего-навсего узнал, что арестованы невинные люди. Он придумал, как им помочь, но для этого надо было получить согласие Трясогузки. И тут Мика допустил ошибку. Чтобы разжалобить командира, он несколько раз повторил, что заложников морят голодом и, наверно, расстреляют из-за того поезда, который они с Трясогузкой пустили под откос.
Командир слушал, слушал и вдруг спросил:
— Если б они сами устроили крушение и попались, тогда б ты не ныл?
— Тоже было бы жалко, — ответил Мика. — Но они бы хоть дело сделали!
— А почему ж они не сделали это дело? — возмутился Трясогузка. — Струсили?… Выходит, по-твоему, мы тоже не должны ничего делать, чтобы этих трусов никто не тронул? Может, прикажешь распустить армию?
Трясогузка горячился потому, что и сам почувствовал за собой какую-то вину, но тона не сбавлял.
— Хватит нюни распускать! Ещё начальник штаба называется!
Мягкий по натуре, готовый идти на уступки, Мика иногда становился каменным. И тогда он ни на шаг не отступал от своего. Так было и в этот раз. Он будто не слышал запальчивых слов командира и сказал убежденно и твёрдо:
— Помочь надо.
— Как? — быстро отозвался Трясогузка.
— Надо отнести им еду и питьё. Там окошко есть.
— Выдумал ещё! — воскликнул Цыган. — Нашу еду раздавать!
— Я свою порцию носить буду.
— Чумовой! — выругался Цыган. — Да за еду!… — Он окинул взглядом мешки и ящики с продовольствием и вытянул руки, словно хотел обхватить это все и прижать к себе. — За еду вот так держаться надо!
Трясогузка ударил его по рукам.
— Убери лапы, загребала!
Мика и Цыган выжидательно уставились на командира.
— Кормить будем! — объявил своё решение Трясогузка. — Но и работать заставим!
Никто в армии не догадался, какую работу придумал командир для заложников. А пока работать пришлось самим ребятам. Мика получил задание уложить в мешок продовольствие. Он остался в штабе. Цыган с Трясогузкой взяли десяток пустых бутылок из-под вина и пошли к реке.
Было тихо и так темно, что мальчишки не сразу попали к берегу. Только журчание воды помогло им выбраться из кустов. А дальше дорога прямиком привела их к мосту.
— Где винтовка? — шёпотом спросил Трясогузка.
— В воде… И патроны там, — ответил Цыган и лязгнул зубами, предчувствуя, что сейчас ему придётся купаться. — Неужели полезем?
— Нет, подождём! — усмехнулся Трясогузка. — Всплывают только утопленники, да и то не всегда!… Положи бутылки и раздевайся!
Цыгана охватила дрожь.
— Б-р-р! — вырвалось у него, когда он нагнулся и снял ботинки.
— Х-х-х! — услышал Трясогузка, когда Цыган стянул с плеч рубашку.
— Прекрати! — сердито сказал командир.
— Н-не я… С-само!… Это опасная пантомима!
— Гогочка какая! — прикрикнул командир и, помолчав, добавил: — Одевайся!
Трясогузка сам сбросил одежду, вошёл в воду по колено, спросил:
— Здесь?
— Поглубже! — ответил Цыган с берега.
Трясогузка сделал ещё несколько шагов. Вода дошла до пояса.
— Ещё немножко! — сказал Цыган.
Над водой остались плечи и голова командира.
— Тут вроде! — произнёс Цыган.
— Не мог уж поближе к берегу бросить! — прошипел Трясогузка и, вдохнув воздух, без всплеска погрузился в воду с головой…
* * *
Мика был удивлён, когда на кучу соломы из люка упали цинковая коробка с патронами и винтовка. Появился Трясогузка с мокрой головой и синими губами. Он принял от Цыгана бутылки с водой, поставил их к стене, уселся у печки и выдавил из себя:
— П-пороху!
Цыган бросился к бочкам, принёс две пригоршни пороху и осторожно, по щепотке, стал сыпать на угли. Подвал озарился яркими вспышками и наполнился запахом пороховой гари.
Ведро раскалилось докрасна. Губы у Трясогузки порозовели.
— Я бы сам полез, да он не дал! — объяснил Цыган Мике.
— Холеру какую-нибудь подхватил бы — потом возись с тобой, — сказал Трясогузка. — Тебе ещё будет работа сегодня. Гитара в порядке?
— В порядке!
— А у тебя, Мика, все готово?
— Флажки остались.
— Пиши скорей!
Мика разложил на ящике заранее приготовленные куски батиста и спросил у командира:
— Три?
— Зачем это? — удивился Цыган.
— Нас трое стало, — ответил Трясогузка.
— А если десять будет или сто?
Вопрос заставил командира задуматься.
— Да и к чему они? — продолжал Цыган. — С этими тряпками только попадёшься!
— Ты что ж, против знамён? — строго спросил командир. — Нет знамени — нет и армии!
Когда Мика сделал надпись на одном флажке и взялся за второй, Трясогузка неохотно добавил:
— Сегодня одного хватит, а потом посмотрим…
НОЧНОЙ КОНЦЕРТ
Эшелон отправлялся на фронт. По этому случаю солдатам выдали по стакану водки. Но она не подняла настроения. Если и смеялись, то невесело. В шутках слышалась тревога. Ходили слухи, что Красная Армия готовится к большому наступлению. Потому и подтягивались к фронту новые белогвардейские части. И никакой хмель не мог вытеснить из головы мысль о предстоящих боях. С завистью смотрели солдаты на дежурившего у пакгауза часового: он оставался в городе.
Погрузка закончилась. Ждали, когда подадут паровоз. От нечего делать дымили длинными самокрутками. Солдаты, свесив ноги, сидели в дверях вагонов, лениво перебрасывались словами.
И вдруг задорно и весело затренькала гитара. Рядом с пакгаузом стоял Цыган. Гитара порхала в его руках. Он кружил ею над головой, перебрасывал за спиной из руки в руку, протаскивал под коленом и успевал щипать за струны. Гитара пела не умолкая.
Закончив короткий номер, рассчитанный на то, чтобы привлечь внимание, Цыган театрально раскланялся.
— Убирайся отсюда! — сказал часовой, карауливший заложников.
— А тебе что, жалко? — закричал солдат из вагона. — Пусть поиграет!
— Не положено! — ответил часовой. — Здесь заключённые.
— Какой законник! — зло усмехнулся солдат.
Его поддержали многие. Часовому кричали:
— Заткнись, тыловая крыса!
— Он сменится и дрыхать пойдёт, а мы — в окопы!…
— Играй, хлопец!
— Мы, может, кроме пуль, ничего и не услышим больше!
Часовой махнул рукой. Спорить было опасно. Подвыпившие, обозлённые солдаты могли расправиться с ним. Что им терять? Дальше фронта их не отправят.
Цыган снова ударил по струнам. На этот раз он то подскакивал, разбросив ноги в стороны, то присаживался и на пятках ходил по кругу, то начинал кружиться волчком.
Солдаты столпились вокруг паренька. Часовой подошёл поближе.
В это время Мика и Трясогузка подкрались к задней стенке пакгауза. Мика забрался командиру на плечи, привстал на цыпочки, дотянулся до оконной решётки и шепнул:
— Достал.
Трясогузка вытащил из мешка кусок сахару, подал его Мике. Кусок исчез в темноте за прутьями решётки. Мика услышал негромкий удар — сахар упал на пол. В пакгаузе завозились. Послышались приглушённые голоса.
Трясогузка подал связку баранок. Мика и её просунул за решётку. А когда он пропихивал между прутьев твёрдую копчёную колбасу, его пальцы встретились с чужими пальцами. Заложник и Мика не видели друг друга и не произнесли ни слова, но работа пошла быстрей. Теперь можно было передавать и бутылки с водой, и оружие. Мужские руки за решёткой проворно подхватывали все, что просовывал Мика.
А Цыган все плясал. Пот заливал ему глаза. Гитара стала тяжёлой. Но он не мог позволить себе передышку. Так он ещё не плясал никогда. Ему не хватало воздуха. В глазах рябило. Лица солдат слились в плотную колышущуюся массу. Ноги подкосились, и очередного колена не получилось: Цыган шлёпнулся на землю.
Вокруг захохотали.
— Выдохся все-таки! — произнёс кто-то.
— Двужильный парень! — сказал часовой. — Я думал, ему и конца не будет!
Солдаты стали расходиться. Этого и боялся Цыган. Он попытался встать, но ноги не слушались. Тогда он запел старую таборную песню. Отчаянье придало его голосу волнующую искренность. Солдаты снова столпились вокруг сидящего на земле беспризорника.
Голос у Цыгана был звонкий. Трясогузка и Мика слышали его.
— Здорово старается! — шепнул снизу командир.
Мика не ответил. Цинковая коробка с патронами никак не хотела пролезать между прутьев решётки. Мика напрягся, как мог, и почувствовал, что оттоптанные его ногами плечи Трясогузки задрожали. Но командир крепился.
— Жми — не бойся! — подбодрил он начальника штаба.
Изнутри пакгауза коробку тоже тянули изо всех сил. Царапая цинковые бока, она, наконец, со скрежетом пролезла.
Винтовка и револьвер были уже в пакгаузе. Осталось передать флажок. Мика сунул в окно скомканный кусок батиста, пожал пальцы невидимого заложника и спрыгнул на землю.
— Фу-у-у! — с облегчением выдохнул командир. — Маленький, а тяжелый!… Побежали, а то Цыган охрипнет совсем!
Заканчивая песню, Цыган потихоньку двигал ногами — пробовал, сможет ли снова плясать. «И что они там возятся?» — думал он о друзьях. А они уже подходили к задним рядам солдат.
Их заметили.
— Новые артисты прибыли! — шутливо крикнул кто-то.
Толпа расступилась. Цыган увидел командира и радостно вскочил на ноги.
— Кончай музыку! — приказал Трясогузка. — Зрителей просим раскошелиться!
Цыган сдёрнул с головы шапку и, приплясывая, пошёл по кругу. Гудок приближающегося паровоза прервал эту сцену.
— По ваго-онам! — раздалась команда.
— За мной! — в свою очередь, скомандовал Трясогузка.
ПЛАН КОМАНДИРА
На следующий день вся армия отдыхала и готовилась к ночной операции, которую командир держал в секрете. Мальчишки не знали, зачем он заставил их увязывать порох в небольшие узелки. Мика разрывал батист на квадратные куски. Цыган насыпал порох и крест-накрест завязывал углы. А сам командир ушёл в город.
Трясогузка направился прямо к пакгаузу. Он ожидал увидеть приятнейшую картину: двери пакгауза распахнуты настежь, вокруг валяются десятки убитых колчаковцев, а заложников и след простыл. Но ему пришлось огорчиться. Часовой по-прежнему шагал по площадке перед пакгаузом. Железная дверь была плотно закрыта. Большой замок висел на старом месте.
Мальчишка присел в сторонке и обиженно нахмурился. Что помешало заложникам освободиться?
Винтовка и револьвер — такая сила! Можно сделать чудеса! А тут прошла целая ночь — и ничего! «Трусы!» — выругался Трясогузка, но вскоре понял, что заложники не виноваты: чтобы достать патроны, надо разрезать цинковую коробку. А чем это сделать? Заложников, конечно, обыскали, и никаких ножей у них не осталось. Значит, винтовка бесполезна. Но зато в револьвере есть патроны, а над дверью в пакгаузе имеется окошко — такое же, как и в задней стене. Можно встать на плечи друг другу и выстрелить в часового. А что дальше? Дверь изнутри не открыть, кирпичные стены голыми руками не проломишь. На выстрел прибегут другие колчаковцы, отнимут оружие и поставят нового часового.
Трясогузка ударил кулаком по колену, обозвал себя олухом и побрёл обратно в штаб.
Ребята сразу почувствовали, что командир не в духе. Он хмуро осмотрел груду узелков с порохом, подошёл к Мике, который усердно выводил на флажке кавычки перед словом «Трясогузка».
— Зачем ты малюешь этих головастиков? — обрушился на него командир.
— Как зачем? — с робким удивлением спросил начальник штаба и сам же пояснил: — Без кавычек нельзя. Ты ведь на самом деле не птица.
— Ну и что? — ещё больше обозлился Трясогузка.
— Ты командир!… А Трясогузка — только прозвище. Потому и кавычки.
— Раз я командир — слушайся! — крикнул Трясогузка. — Ещё раз своих дурацких головастиков нарисуешь — всыплю!
Мика промолчал. Он написал слово «Трясогузка» и, когда командир отвернулся, закрыл кавычки. Мика это сделал не из упрямства. Он считал себя правым. Авторитет командира на грамматику не распространялся, потому что Трясогузка не умел ни читать ни писать. Но и сам Мика ещё не знал всех тонкостей правописания. Кавычки казались ему высшим проявлением грамотности.
Выход на задуманную командиром операцию был назначен на полночь. Часов в восемь Мика и Цыган легли спать, а Трясогузка и не вздремнул. Он все думал, как помочь заложникам. В голову лезли самые нелепые мысли. А что, если использовать порох для освобождения заложников? Уложить у стены пакгауза кучу узелков и подорвать? Но кирпичи полетят внутрь, и заложникам не поздоровится от такой помощи! Нет, это не выход!
Трясогузка встал, походил по штабу, пересчитал узелки с порохом, уложил их в два мешка и сыграл армии подъем — три раза ударил ложкой по чайнику.
Цыган и Мика хорошо знали городок. И все же путь, по которому вёл их сегодня командир, показался совершенно незнакомым. Шли огородами. Раз пять перелезали через заборы. Потом очутились во дворе, под окнами наглухо заколоченного дома. На другой стороне улицы стоял особняк полковника. Темнел забор. Тополя протянули над ним голые ветки. Ребята все ещё не догадывались, зачем привёл их сюда Трясогузка.
— Видишь самое высокое дерево? — спросил командир у Цыгана.
— Вижу.
— Заберёшься на нижний сук, — приказал Трясогузка. — И тихо — во дворе часовой… Я тебе подам мешки… За забором под деревом — кухня. Увидишь трубу. В неё и сбросишь узелки с порохом…
Дальнейших разъяснений не требовалось: ребята поняли, что произойдет утром, когда в плите запылают поленья.
— Только тихо! — ещё раз предупредил командир.
— Канатоходцы умирают молча! — шепнул Цыган.
Ребята перешли улицу. Цыган быстро забрался на дерево. Трясогузка подал ему мешки, флажок и вместе с Микой вернулся во двор заколоченного дома.
Тишина. Лишь откуда-то издалека доносились равномерные шаги. Сначала Трясогузка решил, что это ходит часовой у крыльца особняка. Но шаги приближались. Из-за угла вышли двое патрульных.
— Замри! — шепнул Трясогузка Мике.
Двое патрульных прошли под деревом и, обогнув особняк, вернулись на главную улицу.
С тополя по-прежнему не доносилось ни звука.
— Мика! На каком это он языке шпарит? — спросил Трясогузка.
— Кто?
— Да Цыган!… Иллюзион… Потом эта… панамима…
— Пантомима! — поправил командира Мика. — Это в цирке так говорят.
— Ругаются?
— Нет! Слова хорошие!… Ты что, в цирке не бывал?
— Ладно, замолчи!…
Прошло минут десять. Под деревом мелькнула какая-то фигура. Но это был не Цыган — повыше, постройней. Похоже — девушка. Она постояла у забора, а когда отошла, мальчишки заметили на досках белое пятно.
— Кто это? — спросил Мика.
— Не Цыган! — ответил Трясогузка.
А девушка пропала, будто и не было её никогда. Только белое пятно на заборе доказывало, что ребятам не почудилось.
Прошло ещё несколько томительных минут.
Трясогузка уже хотел перебежать улицу, как появился Цыган. Он свесился с нижнего сука, спрыгнул на землю и заслонил на мгновенье белое пятно.
Перебежав улицу, он предстал перед командиром. Его можно было не спрашивать ни о чем: Цыган широко улыбался и победно потряхивал пустыми мешками.
— Ну и долбанёт! — сказал он. — Феерический каскад индусского факира!
— А флаг? — спросил Трясогузка.
— Туда же — в трубу опустил!… Смотрите, что ещё я принёс! — Цыган показал влажный от клея листок бумаги. — Женщина к забору пришлепнула.
Трясогузка взял листок, на котором было что-то напечатано, и передал Мике.
— В штабе разберёмся!…
БУНТ
Весело потрескивала печка. Толстая стеариновая свеча стояла на большом ящике, вокруг которого сидела вся армия. Мика читал снятый с забора листок.
— «Трудовая Сибирь обливается кровью. Но чаша народного терпения переполнилась. Дни Колчака сочтены! Над белогвардейцами занесён карающий меч пролетариата.
Приближается первомайский праздник. Большевики-ленинцы призывают всех, кому дороги завоевания революции, отдать свои силы на борьбу с кровавой диктатурой «омского правителя».
Мика придвинул листовку к Трясогузке и сказал:
— Вот они — кавычки! А ты спорил!
— Где?
— Омский правитель в кавычках, потому что никакой он не правитель, как и ты — не птица трясогузка!
— Ты что, меня с Колчаком равняешь?
Трясогузка вскочил от возмущения и больно ударился коленом об угол ящика. Свеча упала и погасла.
— Да я тебя!… — зло закричал он.
— Бей! Я все равно по правилам писать буду! — тоже закричал Мика.
Наступила тишина. Лишь потрескивала печка. Причудливые отсветы огня прыгали по стенам и потолку подвала.
— Это что же, бунт? — не предвещающим добра голосом спросил Трясогузка. — Против командира?
— Не против командира, а против кулаков! — смело ответил Мика.
— А чем вас учить, как не кулаками?
— Учить? — переспросил Мика. — Ты бы хоть азбуку осилил, а уж потом других учил!
Начальник штаба затронул самое больное место командира. Трясогузка стеснялся своей неграмотности. Когда ему напоминали об этом, он не обижался, а искренне сожалел, что не умел читать и писать.
— А ты взял бы да научил меня! — без прежней угрозы сказал Трясогузка.
— Я и учил! — отозвался Мика.
Он действительно несколько раз повторил с Трясогузкой все буквы от а до я, но командир запомнил одни гласные.
— Плохо, значит, учил! — буркнул Трясогузка.
— Как умел! — ответил Мика. — Не по-твоему!
— Мог бы и по-моему! Оно бы, может, лучше было!
— Так давай! — воскликнул Мика. — Цыган, зажги свечу!
Вспыхнул огонёк. Не ожидавший такого поворота командир испытующе посмотрел на Мику — шутит или не шутит. Начальник штаба был серьёзен.
— Садись! — сказал он Трясогузке и встал рядом с ним. — Повторяй за мной: а, б, в, г, д.
— А-а, бе, — начал Трясогузка:
— Ты не коза, блеять не надо! — нравоучительно произнёс Мика и дал командиру подзатыльник.
Удар был слабый. Но и это чисто символическое наказание подействовало на Трясогузку ошеломляюще.
Цыган отбежал в дальний угол, зарылся в солому, заткнул рот шапкой и трясся от беззвучного смеха.
— Повторяй по пять букв! — снова потребовал Мика. — А, б, в, г, д.
На этот раз Трясогузка произнёс все пять букв правильно. Так ученик и учитель благополучно добрались до буквы р. Тут опять командир ошибся.
— Ры, — произнёс он.
Слушать надо, а не рыкать! — сказал Мика и дал Трясогузке затрещину.
Цыгана прорвало. Он катался по соломе и хохотал на весь штаб.
Трясогузка медленно поднялся и сверху вниз глянул на маленького, тщедушного начальника штаба — сейчас раздавит! Но Мика, не дрогнув, выдержал его взгляд.
Цыган перестал хохотать. Было не до смеха — могла начаться настоящая драка. «Если ударит, — подумал он, — буду защищать Мику!»
Трясогузка быстро вскипал, быстро и успокаивался. Урок не кончился дракой. Командир отступил, но с честью.
— Некогда сейчас азбукой заниматься! — сказал он. — Доучим в другой раз… Спать ложитесь!
Он улёгся первый.
Гроза миновала, но след оставила. В штабе стало как-то тоскливо. Каждый чувствовал себя виноватым. Даже Цыган. «И зачем я ржал, как лошадь! — думал он. — Из-за меня они поссорились ещё больше!» Переживал и Мика. Чуткий и отзывчивый, он не мог не понять, что крепко обидел командира. Когда Мика получал подзатыльник — это было очень неприятно. А каково командиру? Да ещё в присутствии всей армии? И за что? За то, что командир не знает азбуки! Тут можно провалиться сквозь землю!
Молча сидели Цыган и Мика у ящика со свечой и переглядывались. «Помириться бы! — говорили их глаза. — Не так уж плох наш командир, чтобы устраивать бунт!»
Цыган вспомнил ботинки, которые выдал ему Трясогузка. А Мика — шёлковую рубашку. Трясогузка не взял её себе! И только ли в рубашке дело?…
— Эй! Начальник штаба! — грубовато произнёс Трясогузка.
— Да! — с готовностью откликнулся Мика, и ему показалось, что в подвале потеплело и посветлело.
— Ну-ка, разъясни! — продолжал командир. — Там, в листовке, есть два слова: большевики и ленинцы. А мы кто — ленинцы или большевики?
— Конечно, ленинцы!… Нас всего трое; когда станет больше, будем большевиками!
— Почему трое? — возразил Трясогузка. — А кто эту листовку приклеил? Значит, нас больше, только мы не знаем всех, кто за красных стоит. Может, нас в городе тысяча!
— Правильно! — поддержал командира Цыган. — Выходит, мы и ленинцы и большевики!
— Я тоже так думаю! — важно сказал Трясогузка. — И ещё ответь… Там про праздник написано. Когда он будет?
— Первого мая, — уверенно произнёс Мика.
— Это я сам знаю! А первое когда будет?
— Сейчас скажу! — Мика подумал и сам задал вопрос: — Какое сегодня число?
— Знал бы, — тебя не спрашивал. Считать я умею!
Цыган тоже не помнил, какое было число.
— Узнать завтра! — приказал Трясогузка. — Надо к празднику что-нибудь сообразить!
ПЕРЕПОЛОХ
Машина полковника шла медленно. Ухабистая дорога не позволяла развить скорость. В автомобиле, кроме шофёра и полковника, сидели три иностранца. Это были члены военной миссии.
Прибытие французских офицеров в городок решено было отметить банкетом. К девяти часам утра в особняке полковника готовился праздничный завтрак.
По дороге полковник говорил много. Он хотел, чтобы французы составили о гарнизоне городка самое благоприятное мнение. Упомянул он и о бронепоезде, который ремонтируется в депо и вот-вот встанет в строй боевых единиц адмирала Колчака.
— Не к вам ли прислали из Омска барона Бергера? — спросил один из членов миссии — толстый, обрюзгший, похожий на русского купца француз.
— Барон Бергер и руководит ремонтом бронепоезда. Прекрасный специалист и организатор! — воскликнул полковник. — Вы с ним знакомы?
Как же! — ответил француз. — Барон — мой Друг. В тринадцатом году в золотой Ницце мы вместе провели чудесное лето! И представьте — месяц назад я встречаюсь с ним в каком-то Омске!… О, времена!… Рад буду видеть его на банкете!
— Барон Бергер приглашён! — сказал полковник и поторопил шофёра:
— Поезжай, братец, быстрей! Мы все проголодались!
Но полковнику и членам миссии в то утро позавтракать не удалось.
Получив приказ — накрыть банкетный стол к девяти часам, повар встал в семь и велел затопить плиту. Истопник принёс дрова, вытащил из духовки высохшую за ночь лучину, добавил бересты и зажёг.
Кухня наполнилась дымом.
Повар длинным ножом плашмя хлопнул истопника по спине.
— Вьюшки забыл, орясина рыжая!
— Не забыл! — пробормотал истопник и, присев перед топкой на корточки, принялся дуть на тлеющую лучину.
Но дрова не загорались. Дым клубами выбрасывало из плиты.
Пнув истопника ногой, повар выскочил из кухни и со двора крикнул в дверь, из которой, как из вулкана, валил дым:
— Чучело огородное! Смени дрова! Напихал сырых поленьев, скотина!
Истопник вышел, отдышался и опять, как в воду, бросился в задымленную кухню. Вернулся он с охапкой обугленных поленьев, свалил их у забора и пошёл за другими дровами.
Повар снаружи открыл окно. Сквозняк быстро проветрил кухню.
Между тем к особняку уже стали собираться приглашённые на банкет. Грузный унтер-офицер привёл музыкантскую команду, выстроил у крыльца и приказал не расходиться.
Обмениваясь шутками, все смотрели на кухню.
Сухие дрова не помогли. Дым шёл не только из окна и двери — он выбивался, казалось, из каждой щели. Слышались отчаянные вопли повара:
— Зарезал! Зарезал, скотина!… Чем я господ офицеров угощать буду?… Керосин! Неси керосину, пёс шелудивый!
Из дымной кухонной утробы вывалился совершенно очумевший истопник, побежал к сараю и притащил оттуда бутыль.
Во двор въехал на коне есаул Благов. Спешившись, он козырнул с чуть приметной снисходительностью. Офицеры приветствовали его почтительно. Лишь начальник железнодорожного депо еле кивнул ему головой. У есаула взыграли желваки на скулах. Опять этот барон испортил ему настроение.
— Похоже, что мы пришли не на банкет, а на пожар! — шутливо заметил один из офицеров.
Из кухни валил уже не дым, а чёрная керосиновая копоть.
Есаул пересёк двор, заглянул в дверь и позвал:
— Адский повар!
Показался повар в грязном колпаке, всплеснул руками:
— Ваше благородие! Беда… Что скажет господин полковник!
— Это уж твоя забота! — ответил есаул. — Тот хлопоногий всю посуду тебе перечинил?
Повар не ответил. Его глаза испуганно округлились. Они глядели куда-то за есаула. Благов обернулся. В ворота въезжала машина полковника.
— Конец! — прошептал повар.
Есаул вытянулся. Офицеры, стоявшие у крыльца, вскинули руки к козырькам. Французы были встревожены дымом. Полковник говорил им что-то успокаивающее.
Машина остановилась у крыльца. Музыкантская команда заиграла французский гимн.
В эту торжественную минуту грохнул взрыв. Передняя стена кухни рухнула. Треснула и повалилась на крышу труба. Половину двора окутало дымом.
— Партизаны! — закричал француз, похожий на купца, и забарабанил кулаками по спине шофёра.
Автомобиль круто развернулся и помчался к воротам. Колёса переехали отброшенную взрывом папаху есаула. Правым крылом машина задела за столб и под скрежет железа вырвалась на улицу.
Полковник пришёл, наконец, в себя.
— Стой! — скомандовал он шофёру.
Автомобиль остановился.
Французы хором запротестовали:
— Почему стоять?… Вперёд! Вперёд!
— Господа! Это какое-то недоразумение! — пытался успокоить их полковник. — Никаких партизан не может быть! Все выяснится, и вы поймете!
— Мы понимаем! — прервал его похожий на купца француз. — Мы очень хорошо вас понимаем! Вам нужно остаться! Вы обязаны! А мы приедем, когда вы наведёте у себя порядок!… Надеюсь, вы не откажете нам в машине?
Французы уехали, а полковник пешком вернулся к особняку.
Тушением пожара руководил начальник железнодорожного депо. Огонь был слабый — горели разбросанные по двору поленья, пропитанные керосином. Бревна рухнувшей стены пламя охватить не успело. Внутри кухни все было разворочено и закидано раздроблённым кирпичом. Тлели головешки. От плиты и дымохода остались одни обломки.
— Опасность ликвидирована! — доложил начальник депо полковнику. — Убито два человека: повар и… — Платайс скорбно снял фуражку, — есаул Благов.
— Причина? Я спрашиваю, какова причина взрыва? — прокричал полковник, но тут же смягчил голос: — Простите! Это вырвалось невольно!… Позор! На всю армию позор!… Только один бог знает, что наболтают адмиралу Колчаку трусливые французишки!
— Причина взрыва ясна, — спокойно сказал Платайс. — Какие-то злоумышленники заложили в трубу пороховой фугас.
Среди колчаковцев, продолжавших заливать водой тлеющие тряпки и головешки, произошло замешательство. К полковнику подбежал адъютант с обгоревшим куском батиста. На нем ещё виднелись четыре буквы — у з к и.
— Опять армия Трясогузки? — произнёс полковник и побагровел.
Удивлённо пожал плечами Платайс.
ПОДГОТОВКА КОНТРУДАРА
После невкусного обеда, принесённого денщиком из трактира, полковник сел писать донесение. Он решил сделать это сам, чтобы по возможности смягчить неприятное происшествие.
Вошёл адъютант с полоской телеграфной ленты. Полковник поморщился, давая понять, что с депешей можно было подождать.
— Подписано адмиралом, господин полковник! — предупредил адъютант.
— Ну, давайте! — сказал полковник и взялся за кончик ленты.
Это был приказ в кратчайший срок закончить ремонт бронепоезда и выслать его в распоряжение передовых частей. Ставка сообщала также, что южная группа войск Красной Армии 28 апреля перешла в наступление. Предполагалось, что будет нанесён удар и в направлении городка, в котором располагался гарнизон полковника. Штаб Колчака ставил задачу опередить противника. В этой операции на бронепоезд возлагали большие надежды.
— Машина вернулась? — спросил полковник, прочитав депешу.
— Так точно! — ответил адъютант. — Только что.
— Поедемте в депо!
Автомобиль стоял у ворот. Шофёр колотил молотком по мятому крылу — старался выправить его.
— В депо! — сухо приказал полковник. — Вечером сдашь машину и отправишься на передовую. Мне трусы не нужны!
— Слушаюсь, господин полковник!
Взревел мотор.
На одной из улиц впереди автомобиля показались трое мальчишек. Они шли обнявшись: Трясогузка — в центре, Мика и Цыган — по бокам. Шли и озорно переталкивались. Они только что побывали на крыше заколоченного дома и оттуда видели развороченную кухню. Они чувствовали себя на седьмом небе.
— Кто придумал? — самодовольно спросил Трясогузка.
— Ты! Ты! — прокричала армия.
— То-то! — сказал командир. — А вы — бунтовать!…
Шофёр нажал на клаксон. Мальчишки неохотно посторонились. Цыган, увидев полковника, надул щеки и приложил руку к шапке. Трясогузка заставил его опустить руку и крикнул:
— Дяденька! Какое сегодня число?
Полковник не шевельнул головой. Адъютант брезгливо поджал губы.
— Ну и не надо, не говорите! — неслось им вслед. — Сами узнаем!
У высоких ворот депо полковника и адъютанта встретил Платайс. Коротко передав ему содержание приказа, полковник спросил:
— Успеете завтра к полуночи?
— Завтра тридцатое, — задумчиво произнёс Платайс. — Ну что ж! В ноль-ноль часов первого мая бронепоезд будет готов! Большевистский праздник! — Платайс многозначительно улыбнулся. — Надо успеть!
— Надо! — подтвердил полковник. — Очень надо, и потому разрешите вам помочь. Не сочтите это вмешательством в ваши дела. Я хочу сказать несколько слов ремонтникам.
— Буду счастлив послушать и сам! — учтиво ответил Платайс.
Рабочих в депо было много. Сюда под конвоем колчаковских солдат привели всех, кого отобрал Кондрат Васильевич. Это были хорошие слесари и верные люди. Им подпольщики доверяли полностью.
Раньше рабочие умышленно затягивали ремонт бронепоезда. А сейчас задание сводилось к одному: как можно скорей поставить грозную машину под пары.
В депо стоял грохот.
— Внимание! — прокричал Платайс. — Прекратить работу!
Шум утих.
— Всем подойти к паровозу!
Когда рабочие собрались, полковник посмотрел на часы.
— Сейчас шестнадцать часов, — громко сказал он. — Даю вам тридцать два часа. Если завтра в полночь бронепоезд выйдет из депо, я скажу вам: молодцы! Если справитесь с работой раньше, дайте гудок. Я приеду, чтобы лично раздать вам по бутылке водки.
Как показалось полковнику, одобрительный шепоток пробежал по толпе.
— И последнее, — продолжал полковник. — Если вы сорвёте ремонт бронепоезда, никто из вас живым из депо не выйдет.
— Выйдем, господин полковник! — крикнул Кондрат Васильевич, который пришёл в депо с последней группой и работал вместе со всеми. — Готовьте водку!
— Хорошо сказано! — одобрительно произнёс полковник. — Водка будет. Приступайте с богом! — И, повернувшись к начальнику, он добавил:
— Придётся усилить охрану. Вы не возражаете?
— Ничуть! — ответил Платайс, хотя понимал, как это опасно.
Его тревога усилилась, когда в депо во главе с капитаном вошёл отряд белогвардейцев — команда бронепоезда. Полковник поручил ей внутреннюю охрану. Команда должна принять от рабочих отремонтированный бронепоезд, занять боевые места и прямо из депо выехать на фронт.
У ворот расположились два пулемётных расчёта с «максимами», у дверей и окон выставили часовых. Снаружи депо окружили патрулями. Рабочие оказались взаперти.
Кондрат Васильевич и два слесаря лежали под средним вагоном и проверяли подвеску рессор.
— Кондрат! — сказал один из рабочих. — Ловушка какая-то получается! Может, это настоящий барон, а мы — настоящие бараны?
— Платайс наш! Проверено! — сердито ответил Кондрат Васильевич. — А ловушкой действительно попахивает. Перехитрил нас полковник! Но будем думать — время есть.
Усиленный рупором голос Платайса разнёсся по депо:
— Слесарь Крутов! Ко мне!
Кондрат Васильевич отложил гаечный ключ, вылез из-под вагона и пошёл к конторке.
Она с трех сторон была застеклена. Каждый мог видеть, как барон отчитывал за что-то слесаря. Начальник депо сидел на табуретке и сердито стучал кулаком по столу. Крутов стоял навытяжку, отвечал робко, с поклоном. А о чем они говорили, никто не слышал.
НАПРАСНАЯ ТРЕВОГА
Узнать, какое было число, оказалось не так просто. Мальчишки нёсколько раз задавали этот вопрос прохожим, но вразумительного ответа не получили. Попроси они хлеба или денег — это было бы понятно. А число… Зачем?
Ребятам помогло объявление, которое солдаты расклеили по городу.
— Поработай-ка, начальник штаба! — сказал Трясогузка, останавливаясь у листка со свежей типографской краской.
Мика начал читать текст вслух:
— «За последнее время в городе активизировались злоумышленники, именующие себя армией Трясогузки…
— Кх!… — гордо кашлянул командир.
— Несколько дней назад учинено крушение поезда. Сегодня, двадцать девятого апреля сего года… — Мика посмотрел на командира. — Понял? Праздник послезавтра!
— Понял! Читай дальше! — приказал Трясогузка и заложил руку за борт френча.
— … сего года, — повторил Мика, — нанесён ущерб подсобному строению, принадлежащему воинскому гарнизону города. В распоряжении военной комендатуры имеются заложники. Если по истечении двух суток злоумышленники не будут обнаружены, заложники будут расстреляны».
— Они и сами стрелять умеют! — шепнул Цыган.
— Фига с два! — вырвалось у Трясогузки.
Он ещё не сказал армии, что заложники не могут воспользоваться оружием. Зачем огорчать ребят? Может быть, выход найдётся?
— За мной! — скомандовал Трясогузка, чтобы прекратить разговор на эту тему.
Они вышли на улицу, которая вела к реке. Командир хотел уже разослать армию в разные стороны, чтобы по одному пробраться в штаб, но Цыган вдруг схватил его за руку.
— Это она!
Впереди шла девушка лет восемнадцати с провизионной сумкой.
— Что она? — удивлённо спросил Трясогузка.
— Прилепила листовку под деревом!
Трясогузка даже вздрогнул.
— А не врёшь?
— Вот те крест! Я её сразу узнал!
— Темно же было!
— Все равно узнал. У меня глаза — знаешь? Как у дрессированной пантеры!
Командир остановился. Ему и хотелось наладить связь с настоящими большевиками, и в то же время было страшно. Он понимал, что армию распустят, кончится их вольная жизнь и никаких опасных дел им поручать не будут. Если бы не заложники, Трясогузка, пожалуй, отказался бы от мысли поговорить с девушкой. Но он не знал, как своими силами освободить обречённых на смерть людей, и решил пожертвовать независимостью армии. Он, конечно, надеялся так повести разговор, чтобы и заложников выручить, и свои секреты не раскрыть.
— Идите в штаб! — сказал он Цыгану и Мике. — Я с ней потолкую.
Трясогузка догнал девушку.
— Здравствуйте!
— Здравствуй, мальчик.
У девушки был тёплый голос и добрые глаза.
— Хлеба хочешь? Могу немножко дать.
Почему-то это предложение обидело Трясогузку.
— Хлеб оставьте себе!… И скажите… там, своим скажите, чтобы выручали заложников. Они в пакгаузе заперты, их расстрелять могут.
Брови у девушки удивлённо изогнулись.
— Какие заложники? И кому я должна сказать о них?
— Кому! — усмехнулся Трясогузка. — Сами знаете! Тому, кто листовки печатает!
— Ты что-то путаешь, мальчик!
— Не притворяйтесь! — нахмурился Трясогузка. — Мы видели, как вы ночью её к забору прилепили.
Лицо девушки выразило полное недоумение. Она протянула руку и приложила ладонь ко лбу Трясогузки.
— Ты не болен?… Лоб холодный!
Трясогузка отскочил от неё.
— А не лунатик ли ты? — продолжала девушка с глубоким и неподдельным сочувствием. — Тебе по ночам ничего не мерещится?
Трясогузка подумал, что Цыган ошибся, и бросился бежать. А девушка проводила его внимательным взглядом и быстро пошла домой.
Увидев сестру, Николай понял, что произошла какая-то неприятность. «Не в депо ли?» — подумал он. Катя ходила туда. В сумке у неё был обед для Кондрата Васильевича. Но главное заключалось в том, чтобы сообщить ему новость: партизаны подошли с севера к городку и тайно расположились в лесу, в трех километрах от станции. Командир партизанского отряда просил согласовать с Кондратом Васильевичем час одновремённого удара по колчаковскому гарнизону.
— Что? Говори скорей! — набросился Николай на сестру. — В депо?
— И в депо! — ответила Катя. — Встретиться с Кондратом Васильевичем не удалось. Депо оцепили. А когда я возвращалась…
Катя замолчала, чтобы собраться с мыслями.
— Да говори же! — поторопил её Николай.
И она подробно рассказала о странной встрече.
Николай не знал почему, но ни усиленный караул депо, ни беспризорник не очень его встревожили. Может быть, оттого, что он ожидал худшего.
— В английском френче и в пижамных брюках? — переспросил он.
Катя подтвердила.
— Это же Трофим! — воскликнул Николай. — Я встречался с ним раза два… Ничего парень, только грубый, но, мне кажется, не из подлецов. А ты будь осторожней! Беспризорники и те выследили! Конспиратор!
Катя покраснела. Упрёк был справедливый.
— Хуже с депо! — продолжал Николай. — Придётся искать лазейку!…
ВЕЧЕР ВОСПОМИНАНИЙ
Вернувшись в штаб, Трясогузка в первую очередь наградил Цыгана подзатыльником.
— Пантера! — насмешливо произнёс командир и добавил: — Не она!
— Да она! — воскликнул Цыган. — Хочешь, руку сожгу? — Он протянул ладонь к огоньку свечи.
— Жги! — спокойно разрешил командир.
Но Цыган отнял руку, потёр ладонь о штаны и спросил:
— Значит, не она? А что она сказала?
— Ничего! — отрезал Трясогузка и для большей убедительности соврал: — Сказать ничего не сказала, а к полковнику потащила! Ну я, конечно, выдал ей пару раз — и ходу! Сзади палят, а я бегу! Во — пуля зацепила! — Трясогузка показал дырку в воротнике френча.
Мика засмеялся.
— Ну и заливаешь ты, командир! Этой дырке сто лет! Засмеялся и Цыган. Трясогузка обиженно посмотрел на них и сказал:
— Смеётесь, а их расстреляют!
— Кого? — спросил Мика.
— Заложников!
— Ну да! — возразил Цыган. — Что, мы им даром оружие дали?
— Выходит, что даром!
И Трясогузка высказал ребятам свои опасения.
Приуныли мальчишки. Цыган перебирал струны гитары, и она тихо плакала в подвале. Ребята молчали. Им тоже хотелось плакать. Каждый вспомнил своё горе.
— Хоть и здорово, а хватит! — не выдержал Трясогузка. — Муторно больно! За кишки берет твоя гитара!
Он нарочно выбрал слова погрубее, чтобы отогнать от себя тоскливые мысли.
— Где ты научился так играть? — спросил Мика.
— В цирке, — сказал Цыган. — В шапито… Мы по разным городам ездили с музыкальными номерами… Мамка пела… Я говорил, не надо про Колчака и вечека!… А она спела…
— Правильно сделала! — похвалил Трясогузка.
— За это и взяли? — спросил Мика.
— Ага! — дрогнувшим голосом ответил Цыган. — Весь цирк хлопал в ладоши… А ночью… Отца сразу… А мамку мучили долго… Она очень красивая была…
— Моя мама тоже была красивая! — ревниво сказал Мика. — Достали бы ананасы — она бы не умерла!
— Опять ты про свои ананасы! — неодобрительно произнёс Трясогузка. — Да я их и не нюхал, а жив!
— Нет, правда! — произнёс Мика жалобно. Он верил сам и хотел заставить ребят поверить, что его мама могла бы не умереть, будь под рукой спасительные ананасы. — У нас в латышской колонии доктор жил. Он все-все знал. Посмотрел он маму и сказал, что ей надо ехать к Чёрному морю и есть побольше фруктов и ананасов!
— А знал твой доктор, что от тифа надо есть? — сердито спросил Трясогузка, вспомнив сарай, в котором среди тифозных больных металась в бреду его мать.
Командир схватил пустую консервную банку и запустил её в свечу. Ребята услышали подозрительные звуки — вроде всхлипыванья.
— Расплакались! — крикнул Трясогузка. — Живых спасать надо!… Запрещаю спать, пока не придумаете, как заложников выручить!
Трясогузка насухо вытер глаза и снова зажёг свечу.
— Лёжа можно думать? — спросил Цыган.
— Ложитесь! — разрешил командир. — Но чтоб не дремать!
Мальчишки улеглись, как всегда: Трясогузка посередине, слева — Цыган, справа — Мика. Так они пролежали с полчаса, старательно тараща глаза на жёлтое пламя свечи. Потом Трясогузка почувствовал, что Цыган привалился головой к его плечу и задышал тепло и спокойно. Командир посмотрел направо — Мика тоже спал, смешно шевеля губами.
Трясогузка молча отменил свой приказ.
БЕСПЛАТНЫЙ ПАССАЖИР
Утром ребята разделились. Цыган и Мика остались в штабе, чтобы приготовить к вечеру большой флаг и длинное древко. Командир потребовал написать на полотнище чуть ли не целое воззвание. Надо было указать, что флаг красный, что принадлежит он армии Трясогузки, что эта армия состоит из большевиков-ленинцев и что вывешен флаг в честь Первого мая. Даже для такого грамотея, как Мика, задача была не из лёгких.
Сам Трясогузка ушёл к пакгаузу.
К станции только что подошёл эшелон. Солдаты стояли в очереди у вагона-кухни, получали похлёбку. Вокруг шныряли беспризорники: и старожилы городка, и новички, прибывшие с этим составом. Трясогузка ничем не отличался от них и мог смело бродить у пакгауза.
Паровоз предостерегающе прогудел и отделился от состава вместе с передним товарным вагоном. За стрелкой их расцепили. Паровоз двинулся к водокачке. Солдаты вкатили вагон на запасную колею. Он оказался рядом с составом — на параллельном пути.
Трясогузка обратил внимание на опечатанные двери вагона. «Чего это они привезли?» — подумал он, продолжая следить за часовым у пакгауза. Колчаковец позевывал и нетерпеливо поглядывал в ту сторону, откуда должен был прийти сменщик. Наконец тот появился, подошёл неторопливо, лениво спросил, кивнув на дверь пакгауза:
— Ну, что там?
— Тихо, — ответил часовой. — Даже пить не просят. Подохли, что ли?
— Рано! — возразил сменщик. — Давай ключ.
Часовой отдал ключ от двери, закинул винтовку за плечо и зашагал прочь.
Его остановил один из офицеров, приехавших с эшелоном.
— Зайди в депо, — приказал он. — Пусть пришлют людей за вагоном.
Трясогузка слышал этот разговор, но не придал ему никакого значения. Все его мысли сосредоточились на ключе, который лежал так близко — всего в десяти шагах, у часового в кармане шинели! Ключ нужно достать во что бы то ни стало! И Трясогузка догадался, как это сделать.
Весело посвистывая, командир направился к штабу. Он хотел поскорей обрадовать ребят, но задержался по дороге, и надолго.
Все началось со встречи с Николаем.
— Здорово, Трофим! — услышал Трясогузка. — Дело к тебе есть!
Они пошли рядом.
— Какие у нас с тобой дела? — усмехнулся Трясогузка.
— Нет, так будут! — многозначительно ответил Николай.
— Выкладывай — послушаем.
Николай не торопился. Он понимал, что рискует очень многим. Но обстоятельства вынуждали пойти на этот риск. Все попытки проникнуть в железнодорожное депо ни к чему не привели. И Николай обрадовался, увидев знакомого беспризорника. Что, если поговорить с ним? Вспомнил Николай тайный лаз в заборе, через который он ушёл от облавы на базаре. Может быть, беспризорник знает, как проникнуть и в депо?
— Выкладывай, или я пошёл! — нетерпеливо сказал Трясогузка. — У меня своих дел хватает!
И Николай решился.
— Железнодорожное депо знаешь? — спросил он.
— Знаю.
— Можешь туда пробраться незаметно?
— Запросто!
— Там сейчас усиленный караул.
— А мне плевать!
Трясогузка прихвастнул. Никакого тайного хода в депо он не знал.
— Как ты пройдёшь? — спросил Николай.
Трясогузка ухмыльнулся.
— Нашёл дурака!… Говори, что надо, а не выпытывай! Не выйдет!
Николай схитрил и чуть не испортил все дело.
— Заказ крупный подвернулся — жаль упускать! — доверительно сказал он. — Пришёл один торгаш в мастерскую — просит отремонтировать большую партию самоваров. А хозяина нет — в депо на работу угнали. Когда отпустят?… Вот я и не знаю, на какой срок договариваться насчёт ремонта.
Трясогузка смерил Николая презрительным взглядом.
— Шкура всегда шкурой останется! Поищи других, которые тебе карман набивать согласятся!
Мальчишка хотел уйти, но Николай схватил его за плечо, притянул к себе и тихо сказал:
— Если заказ будет принят, заложников не расстреляют!
Трясогузка широко раскрыл глаза.
— Откуда ты…
— Оттуда! — строго произнёс Николай. — И больше ничего не скажу. Если в голове солома, уходи! А если соображаешь малость, помогай!
Трясогузка понял только одно: хромоногий жестянщик хлопочет не о самоварах. Мальчишка оглянулся и долго смотрел на пакгауз, на вагоны, на депо.
Николай ждал.
— Давай, что передать! — согласился Трясогузка.
Николай улыбнулся.
— Про самовары и расскажи.
— Кому?
— Найдёшь слесаря Кондрата Васильевича, — объяснил Николай. — Спросишь, когда сможем выполнить заказ торгаша. Запомнил? Торгаша!… А потом приходи в мастерскую. Знаешь, где она?
Мальчишка кивнул головой и побежал к станции.
Паровоз запасся водой, углём и вернулся к составу. Эшелон готовился к отправке. У отцепленного вагона уже был выставлен часовой.
Трясогузка перебрался на другую сторону состава. Здесь хозяйничали беспризорники. У нескольких вагонов были тормозные площадки. На них устроились те, кто посильней. Угольные ящики забронировали среднячки, а прочая мелюзга довольствовалась буферами и крышами.
Залез на крышу и Трясогузка. Перепрыгивая с теплушки на теплушку, он добрался до той, рядом с которой на запасной колее стоял отцепленный вагон. Тут мальчишка лёг и стал ждать.
Когда состав тронулся, Трясогузка вскочил на ноги. Шум отходящего поезда заглушил все звуки, и часовой не услышал, что на крышу опечатанного вагона прыгнул безбилетный пассажир.
САМОВАРНЫЕ ХЛОПОТЫ
План захвата бронепоезда был изменён. Каждый рабочий получил новое задание. Оставался неясным лишь один пункт — партизаны. Никто не знал, подошли ли они к станции, как было условлено заранее, и готовы ли нанести с севера удар по городу. Кондрат Васильевич верил, что Николай попытается проникнуть в депо, но не представлял, как это ему удастся.
Утром появилась надежда. Сообщили, что на станции стоит вагон с боеприпасами для бронепоезда. Платайс тотчас распорядился послать за вагоном рабочих. Старшим группы он назначил Кондрата Васильевича. Но капитан, ведавший внутренней охраной, вежливо отклонил это распоряжение.
— Зачем отрывать ремонтников от работы! — сказал он Платайсу. — Я пошлю часового, а после обеда солдаты прикатят вагон в депо.
Спорить было неразумно, и Платайс поблагодарил офицера за любезно предоставленную помощь.
После обеда высокие ворота распахнулись, и вагон с боеприпасами медленно вкатился в депо. Началась разгрузка.
Осторожный капитан и тут обошёлся без рабочих. Солдаты сами вытаскивали снаряды, коробки с пулемётными лентами и укладывали их вдоль стены.
Распластавшийся на крыше Трясогузка прислушался. Справа раздавались выкрики разгружавших вагон солдат. Слева было тихо. Мальчишка придвинулся к краю крыши, взглянул вниз: поблизости никого. Но рядом с вагоном валялись куски жести, мотки проволоки. Спрыгнешь — загремит на все депо. Трясогузка посмотрел вперёд. Там стоял паровоз бронепоезда. Между вагоном и паровозом было не больше метра. Мальчишка подполз к переднему концу крыши. Двое рабочих осматривали заклёпки на бронированной груди паровоза.
Трясогузка пошарил в карманах. В них ничего не оказалось. Тогда он сдёрнул с головы рваную кепку без козырька и бросил её на паровоз.
Клепальщики заметили мальчишку. Он лежал, приложив палец к губам, а другой рукой показывал, что ему надо спуститься вниз. Рабочие отвернулись от вагона, чтобы не привлечь внимания колчаковцев.
— Что ему надо? — спросил один.
— Может, весточка от партизан? — отозвался другой.
— Похоже… Иди-ка за Кондратом Васильевичем…
У паровоза стояла железная лестница. Когда клепальщик вернулся, он передвинул её поближе к вагону с боеприпасами. Вскоре подошёл и Кондрат Васильевич. Наблюдавшие за колчаковцами рабочие дали сигнал, и он быстро приставил лестницу к вагону. Трясогузка не ждал приглашения
— колобком скатился вниз и юркнул под паровоз. Туда же забрался и Кондрат Васильевич.
Несколько мгновений они молча смотрели друг на друга, и каждый думал, что же теперь делать?
— Ты не шпик? — осторожно спросил Трясогузка.
— Как будто нет, — серьёзно ответил Крутов.
— Тогда веди меня к Кондрату Васильевичу!
— Я — Кондрат. Что дальше?
Трясогузка повертел головой и на четвереньках пробрался к рабочему, который лежал на спине и измерял что-то железной складной линейкой.
— Как его звать? — спросил мальчишка, дёрнув рабочего за ногу.
Тот посмотрел на Крутова и сказал:
— Кондрат.
После этой проверки Трясогузка успокоился и, вернувшись к Крутову, таинственно произнёс:
— Я насчёт самоваров.
Кондрату Васильевичу эта фраза ничего не говорила.
— Самовар у бабки потёк? — спросил он. — И ты из-за этого пробрался в депо?
— Не у бабки, а у торгаша! — возразил Трясогузка.
Кондрат Васильевич придвинулся к нему вплотную. Фамилия командира партизанского отряда была Торгашов.
— Кто тебя прислал?
— Этот… как его… хромой! Велел спросить, брать ли от торгаша заказ и когда сможете починить самовары?…
Разгрузив вагон, колчаковские солдаты выкатили его из депо. Безбилетный пассажир совершил обратное путешествие к станции. Пустой вагон оставили в тупике. Трясогузка спрыгнул вниз неудачно. Заболело колено и заныло под ложечкой. Он посидел на песке у вагона, потёр колено и, прихрамывая, пошёл в город. Нога болела, но мальчишка был доволен. Получилось именно так, как он хотел. Не раскрыв секреты своей армии, он познакомился с подпольщиками. Трясогузка не сомневался, что и Кондрат Васильевич, и Николай — настоящие большевики. Понял он и то, что они готовятся к чему-то очень серьёзному.
Николай встретил беспризорника пытливым взглядом.
Трясогузка важно опустился на табуретку, снял кепку, вздохнул, как человек, завершивший трудную работу, и сказал:
Кончились самоварные хлопоты!… Велено принимать заказ и выполнить его сегодня без четверти двенадцать. Понял?
Николай взглянул на ходики: часовая стрелка подходила к трём. Времени оставалось в обрез.
— Ты где ночуешь? — спросил Николай.
— На трубе! — усмехнулся Трясогузка, всем своим видом показывая, что на такие вопросы он отвечать не намерен.
— Ладно, это твоё дело! — согласился Николай. — Но запомни: ночью из своего логова не вылезай! Ночка будет шумная — не заметишь, как и голову продырявят!… А завтра приходи сюда.
— Зачем?
— За геройский поступок получишь благодарность!
— Какую?
— Пролетарскую!… А сейчас, Трофим, иди! Мне некогда! Иди и спрячься подальше до утра.
— А заложники? — спросил Трясогузка.
— Будут живы твои заложники.
— Ещё бы! — многозначительно произнёс Трясогузка. — Ну, я пошёл! Кланяйся большевикам-ленинцам!
НА ТРУБЕ
Армия никогда не видала командира таким весёлым и добрым, как в тот день. Он похвалил Мику за исписанный с двух сторон флаг, осмотрел древко, сделанное из доски от ящика, и одобрительно похлопал Цыгана по плечу. О своих приключениях Трясогузка ничего не сказал. Да и некогда было. Командир засадил армию за работу: Цыгана — точить нож, затупленный о консервные банки, Мику — писать приказ заложникам.
Под диктовку командира начальник штаба выводил на батисте: «Поздравляем с революционным праздником и приказываем сегодня вечером по моему свистку выстрелить через окно в часового, лучше прямо в голову. Стреляйте из винтовки. Нож, чтобы открыть коробку с патронами, пересылаем. Можно стрелять и залпом — из винтовки и револьвера сразу. Только метко! Мы вас освободим. С подлинным верно: командир армии — Трясогузка».
В десять часов вечера Мика с Цыганом направились к пакгаузу. Им предстояло тайком через окошко передать заложникам нож и приказ командира.
Трясогузка пересёк городок и вышел на противоположную окраину, где стояли корпуса давно пустовавшей фабрики. Через дыру в разломанном заборе он пролез во двор, забрался на крышу кочегарки, а оттуда по пожарной лестнице — к толстому туловищу трубы. Скоба обожгла руку холодным металлом. Мальчишка посмотрел вверх. Эти скобы вели туда, где днём виднелся прутик громоотвода. Сейчас закоптелый конец трубы терялся во мгле. И мальчишке показалось, что он никогда не сможет добраться до громоотвода. Стало страшно, но Трясогузка поставил ногу на нижнюю скобу и полез по трубе.
Отсчитав пятьдесят ступенек, он остановился, ослабил на минуту занемевшие руки. Ветер яростно толкал в бок, задувал в ухо, в нос. Мальчишка отвернулся от ветра, вздохнул поглубже и снова полез вверх.
Скоро он перестал что-либо видеть. Кочегарка и фабричный двор остались где-то внизу, в кромешной тьме. Трясогузке показалось, что ветер несёт его между землёй и небом. Захотелось кричать, не то от страха, не то от восторга.
Когда пальцы вместо скобы ощутили верхний обрез трубы, мальчишка почувствовал огорчение. Кончился этот удивительный полет во мгле. Все встало на свои места.
Трясогузка нащупал громоотвод, грудью лёг на ребро трубы и чуть не сорвался. Из тёмного, пахнущего сажей жерла что-то вырвалось, стремительное и шумное, ещё более чёрное, чем ночь, больно хлестнуло его по носу и закружилось над головой с сердитым карканьем.
— У-у, дура! — вырвалось у мальчишки. — Нашла, где гнездо вить!
Вытащив из-под френча флаг и верёвку, Трясогузка начал привязывать древко к громоотводу. Новая опасность заставила его замереть. Он ещё не понял, что ему угрожает, но все его тело напряглось и сжалось в комок. Он посмотрел вниз. По трубе поднимались какое-то бесформенное чудовище. Оно было уже метрах в двух, когда мальчишка рассмотрел в темноте голову и плечи человека.
Сразу стало легче. Трясогузка не знал, что это за человек. Но все-таки не чудовище, а человек. С ним можно бороться. «Если это колчаковец, — столкну вниз!» — решил он и поджал ногу, готовясь ударить. Звякнула скоба, за которую зацепилась подмётка. Человек поднял голову. Увидев занесённую над собой ногу, он пригнулся, держась за скобу левой рукой, а правую поднял вверх. И оба застыли в неудобных, напряжённых позах. Трясогузка тупо смотрел на воронёное дуло револьвера и не двигался. Это и спасло его. Палец, нажимавший на спусковой крючок, распрямился. Дуло отклонилось в сторону.
— Трофим! — воскликнул человек. — Ведьмы тебя сюда загнали? Что тут делаешь?
— Я ж сказал: ночевать на трубе буду! — пробормотал Трясогузка, узнав Николая.
Ответ был настолько нелепый, что Николай не выдержал и расхохотался.
— Ой, уморишь! Врун ты несчастный! Замолчи, а то я упаду!
Он раскачивался от смеха из стороны в сторону, и Трясогузка испугался.
— Держись! А то и правда полетишь!
Николай перестал раскачиваться, быстро поднялся по скобам к Трясогузке.
— А по-честному — что ты делаешь тут?
Трясогузка глазами указал на флаг, трепыхавшийся у громоотвода, и объявил:
— Завтра праздник!
Николай попридержал рукой полотнище и с удивлением прочитал: «Армия Трясогузки». Другие слова были написаны мелкими буквами, и он их разобрать не мог. Мелькнула мысль, что в городе действительно существует какая-то тайная организация.
— Кто тебе приказал вывесить флаг? — строго спросил Николай.
— Кто мне смеет приказывать? — с достоинством произнёс Трясогузка. — Я — сам командир!
— Трофим! Не ври! — прикрикнул на него Николай.
— Я не Трофим, я — Трясогузка!
Посвистывал холодный ветер. Сквозь тучи проглянула луна. Спал внизу погруженный во тьму город. А над ним, вцепившись в скобы, висели два человека и в упор смотрели друг на друга.
Николай и верил и не верил беспризорнику. Вспомнив флажки, наивно оставленные на месте крушения, взрыв кухни, подстроенный явно неумелой рукой, он все больше и больше убеждался в том, что этот паренёк и есть Трясогузка. Ему захотелось расцеловать беспризорника. Но вместо этого он протянул руку и сказал:
— Давай лапу!
Они пожали друг другу руки, как равные. Николай был растроган.
— Будь хоть сто Колчаков! — воскликнул он. — Не победить им такой народ!
— Хоть тысяча! — небрежно бросил Трясогузка.
— Ну, а теперь снимай белый флаг! — приказал Николай.
— Не буду! — заупрямился Трясогузка. — Он не белый, на нем написано «красный»! Не видно в темноте, а днём, если грамотный, — разберешь!
— Чудак-человек! А ты спустись на землю и снизу попробуй прочитать, что на твоём флаге написано! Сможешь?
— А чего мне читать? Я и так знаю!
— А другие не знают! Посмотрят утром — белый флаг, не наш, не советский!
Трясогузка все ещё колебался.
— Давай, давай! — мягко настаивал Николай. — Время дорого! Мы другой повесим! Получше!
Он сунул руку за спину и вытащил из-за ремня короткую палку с широкой полосой красной материи, обмотанной вокруг древка. Трясогузка больше не возражал.
Когда они спустились на крышу кочегарки, Катя, дежурившая у трубы, удивилась: Николай полез один, а спустились двое.
— Смотри, кого я на небе нашёл! — сказал Николай. — Знакомься — Трясогузка!
Мальчишка покосился на девушку.
— А мы знакомы! Хитрая вы! Ловко меня провели!… Лунатиком обозвали!
— А разве ты не лунатик? — улыбнулась Катя. — Нормальные люди ночью по трубам не лазают!
— А он? — спросил Трясогузка, кивнув на Николая.
Во дворе фабрики Катя и Николай засыпали мальчишку вопросами. Но Трясогузке не хотелось раскрывать свои секреты. С трудом удалось выведать у него, что другие ребята находятся где-то у пакгауза. Николай смутно догадывался, что беспризорники торчат там неспроста.
— Не освобождать ли заложников задумали? — с тревогой спросил он.
— Наше дело! — ответил Трясогузка.
— Я пойду туда и за уши отдеру их! — пригрозил Николай, понимая, что в темноте ему никого не найти у пакгауза.
Понимал это и Трясогузка.
— Иди! — сказал он. — Без меня ничего не выйдет!
— Хорошо! Мы пойдём вдвоём, но если ты…
— Это другое дело! — согласился Трясогузка.
Николай отослал Катю в мастерскую и подтолкнул мальчишку:
— Веди!
ГУДОК
30 апреля поздно вечером Платайс вместе с капитаном из охраны депо прошлись вдоль отремонтированного раньше срока бронепоезда. У каждого вагона Платайс задавал рабочим один и тот же вопрос:
— Готово?
Везде отвечали:
— Готово!
Часть рабочих уже освободилась и отошла от бронепоезда. Ремонтники сидели у стен, жевали чёрствые куски хлеба, оставшиеся у них со вчерашнего дня. Все очень устали — работали без отдыха почти двое суток.
Бронепоезд заново не красили — не было краски. Зато тщательно вымыли. Струи кипятка из брандспойтов с шипением лизали лоснящуюся броню.
В паровом котле уже поднималось давление. Дымила труба. Паровоз, как горячий конь, подрагивал могучим телом, готовый ринуться вперёд.
Кондрат Васильевич был в паровозной будке. Он вытирал ветошью стены.
Платайс остановился около паровоза и спросил у капитана:
— Вы довольны?
— Вполне! Надеюсь, что красные не попортят эту чудесную машину.
— Я уверен в этом! — сказал Платайс и снова оглядел депо.
Все были на своих местах.
— Не томите людей, господин барон! — произнёс капитан. — Их ожидаёт водка.
Платайс махнул рукой Кондрату Васильевичу, и могучий гудок заполнил депо.
Под этот густой паровозный рёв началось что-то невероятное. Рабочие, сидевшие у стен, набросились на часовых, выставленных у окон и дверей. На колчаковцев, находившихся рядом с бронепоездом, ремонтники прыгали сверху, с вагонов, сбивали с ног и обезоруживали.
Капитан прокричал какое-то ругательство и ухватился за кобуру. Платайс ребром ладони ударил его повыше локтя. Второй удар заставил капитана отлететь в сторону. Его подхватили рабочие, а Платайс побежал в хвост бронепоезда.
Засуетились пулемётчики у ворот депо. Против них были направлены брандспойты. Обжигающие струи кипятка оттеснили солдат от тупорылых «максимов». У задних ворот пулемётчики сдались, не сделав ни одного выстрела, а у передних произошла заминка.
Рабочий, поливавший колчаковцев кипятком, споткнулся и упал, сильно ударившись правой рукой о рельсу. Он быстро вскочил, хотел поднять брандспойт и не смог. Кипяток бесцельно лился на пропитанную мазутом землю. Окутанный паром рабочий беспомощно оглянулся, прижав к груди сломанную руку.
Кондрат Васильевич закрепил ручку гудка, выскочил из будки и побежал к рабочему.
Но колчаковцы уже опомнились. У пулемёта залёг солдат с тремя георгиевскими крестами. Рядом, у коробок с лентами, плюхнулся унтер-офицер.
«Не успеть!» — подумал Кондрат Васильевич.
Он бежал и видел дуло, прицельную рамку, голову солдата, прильнувшего к пулемёту. Сейчас заговорит «максим» и…
Унтер-офицер локтем ударил георгиевского кавалера, а тот оторвался от прицельной рамки и стал что-то поправлять в пулемёте. «Заело!» — мелькнула у Кондрата Васильевича радостная мысль. Он подхватил горячую кишку и хлестнул кипятком по колчаковцам.
Подоспели рабочие с винтовками. Унтер-офицер и солдат с крестами подняли руки.
Кондрат Васильевич вернулся в паровозную будку и освободил ручку гудка. Наступила звенящая тишина. Теперь гудок был не нужен. Он заглушил звуки короткой схватки, и наружная охрана не догадалась, что внутри депо произошёл переворот.
Рабочий, из-за которого чуть не сорвалась тщательно продуманная операция, виновато потупясь, стоял у паровоза.
— Ты бы левой! — укоризненно сказал ему Кондрат Васильевич.
Рабочий показал левую руку. Она была ошпарена. На пальцах и ладони бугрились пузыри.
Кондрат Васильевич охнул, словно ему самому стало нестерпимо больно.
— Прости, друг! — произнёс он. — Потерпи полчасика! Отправим бронепоезд — перевяжем.
— Потерплю, — отозвался рабочий, а Кондрат Васильевич пошёл к пулемету.
Он открыл крышку коробки, передёрнул ленту. «Максим» был в полном порядке. Нажми на спуск — и пулемёт заработает. Задумчиво посмотрел Кругов вслед георгиевскому кавалеру, которого уводили в помещение кладовой. Там уже толпились и другие обезоруженные колчаковцы.
СИГНАЛ КОМАНДИРА
Гудок паровоза слышал весь город. Полковника он обрадовал, Николая встревожил. Полковник вызвал адъютанта и приказал подать машину, чтобы ехать в депо. А Николай поторопил Трясогузку:
— Прибавь шагу!
Николай не знал, что означает этот гудок. Не стряслось ли что-нибудь в депо?
Впереди показались тёмные очертания пакгауза.
— Где они?
— Где-нибудь тут! — неопределённо ответил Трясогузка.
— Как же ты их найдёшь?
— Свистну!
Они подошли ещё ближе. Уже виднелась фигура часового, который медленно прохаживался вдоль пакгауза.
— Дальше нельзя! — сказал Николай. — Свисти!
— Что сейчас бу-удет! — загадочно произнёс Трясогузка и, сунув в рот два пальца, пронзительно засвистел.
Часовой остановился и прислушался.
— Тише не мог? — прошептал Николай. — Весь город всполошил!
— Тише нельзя, — спокойно ответил Трясогузка, не спуская глаз с пакгауза. — Не услышат.
— Ну? Где же они? — нетерпеливо спросил Николай.
— Подожди… Не сразу…
Над дверью пакгауза мелькнул огонёк. Глухо прозвучал выстрел. Часового качнуло вбок. Выронив винтовку, он повалился на землю.
Трясогузка хотел броситься к пакгаузу, но Николай успел схватить его за плечо.
— Открывайте! — во все горло завопил мальчишка.
Растерявшийся Николай зажал ему рот ладонью и зло сказал:
— Никак спятил ты, парень?
Трясогузка барахтался в его руках и что-то мычал, указывая на пакгауз. Николай увидел две тени, склонившиеся над лежащим без движения часовым. Секунда — и тени скользнули к двери. Лязгнула металлическая накладка. Двери распахнулись. Цыган весело прокричал:
— Тикайте!
В голове Николая стало проясняться. Он выпустил Трясогузку, и командир тотчас воспользовался этим.
— Армия! Ко мне! — крикнул он.
Николай увесисто шлёпнул его пониже спины.
— Это тебе за обман! А завтра вместо благодарности получишь настоящего перцу, анархист!
Подбежали Цыган и Мика, шарахнулись в сторону, увидев Николая.
— Вольно! — захлёбываясь от восторга, крикнул им Трясогузка. — Без паники! — Он повернулся к Николаю: — Куда прикажете вести армию?
— В мастерскую! — все ещё сердито сказал Николай. — Бегом, шалопаи!
— За мной! — скомандовал Трясогузка.
И мальчишки побежали.
— Не бойтесь его! — Трясогузка оглянулся на Николая, хромавшего сзади, и объяснил: — Он настоящий большевик-ленинец!…
ПОЛКОВНИК УДИВЛЁН
Машина остановилась у депо. Караульные из внешней охраны почтительно вытянулись.
В мелочах полковник был честен. Бутылки с водкой поблёскивали в ящиках, поставленных на заднем сиденье автомобиля.
Адъютант подбежал к воротам, предупредительно раскрыл небольшую дверцу. Полковника встретил начальник депо.
— Бронепоезд готов к боевым действиям! — отрапортовал он.
Это было видно и без рапорта. Закованные в броню паровоз и три вагона блестели чисто вымытыми боками. Насторожённо глядели вперёд пушки и пулемёты. Бронепоезд приковывал внимание.
— Я вас представлю к награде! — сказал полковник начальнику депо.
— Благодарю вас! — ответил Платайс и напомнил: — Работа завершена досрочно, господин полковник!
Тот понял намёк.
— Водка со мной! Созывайте рабочих.
— Боюсь, что они водкой не удовлетворятся! — улыбнулся Платайс.
Полковник удивился, а Платайс крикнул:
— Кондрат Васильевич!
Открылась бронированная дверь. Показался Крутов.
— Полковник готов выслушать ваши требования! — сказал ему Платайс.
— Сдайте город, господин полковник! — ровным голосом произнёс Крутов.А водку мы разопьём после окончательного разгрома Колчака.
— Глупая и неуместная шутка!воскликнул полковник. — Я…
— Какая там шутка! — оборвал его Крутов. — Смотрите!
Пулемёт переднего вагона развернулся и уставился прямо в грудь полковника.
— Измена? — с ледяным спокойствием спросил он у начальника депо.
— Вы — интеллигентный человек и сможете отличить измену от военной хитрости, — сказал Платайс. — И, чтобы не было никаких эксцессов, убедительно прошу сдать пистолеты.
Под чёрным внимательным глазком пулемёта полковник и адъютант отдали оружие. Двое рабочих отвели их в сторону, и здесь им предоставили полную возможность наблюдать за подготовкой к отходу бронепоезда.
Платайс и Кондрат Васильевич проверили боевые расчёты. Команда бронепоезда, целиком укомплектованная из ремонтников, заняла вагоны. Только один пулемёт остался без наводчика. Рабочий, который повредил руки в схватке с колчаковцами, не мог стрелять. Заменить его было некому.
— Жаль, но придётся обойтись без хвостового пулемёта, — сказал Платайс.
Кондрат Васильевич посмотрел на часы. Стрелки показывали половину двенадцатого.
— У нас ещё четверть часа. Попробуем найти пулемётчика.
— Где? — спросил Платайс.
— Есть у меня одна мыслишка!…
Они подошли к кладовой и через рабочего, дежурившего у двери, вызвали солдата с крестами.
Георгиевский кавалер вытянул руки по швам и хмуро уставился в землю.
— Пулемёт хорошо знаешь? — спросил Кондрат Васильевич.
Солдат молчал.
— Может, новичок в пулемётном деле? — снова спросил Кондрат Васильевич.
Солдат гордо тряхнул крестами.
— На германском фронте с «максимом» заработал!
— Что ж сегодня сплоховал?
— А ты заметил? — усмехнулся солдат. — Я думал, ты от страха и света божьего не видел!
— Верно! Боялся! — признался Кондрат Васильевич. — Боялся, что этакая украшенная крестами дубина полоснёт по людям — и прощай бронепоезд! Сколько бед произошло бы из-за того, что один упал не вовремя, а другой умом в детстве не запасся!
— Ты не лайся! Пусть дубина, а не полоснул, однако! — отозвался солдат. — Стучаться бы тебе в царство небесное!… Ты у меня на самой мушке сидел!
— Что ж у тебя заело в пулемёте? — прищурясь, спросил Кондрат Васильевич.
— Пулемёт ни при чем… Не там заело!
Кондрат Васильевич повернулся к Платайсу.
— Не соврал! Я проверил: «максим» исправный, а молчал он потому, что у пулемётчика совесть, видать, заговорила.
Платайс оглядел ладную фигуру солдата.
— Пойдёшь с нами?
— Туда иль сюда, а посерёдке не высидишь, — уклончиво ответил солдат.
Кондрат Васильевич нахмурился.
— Ты нам загадок не загадывай!
Солдат укоризненно качнул головой.
— Умный, а не понимаешь!… Унтер — он не слепой: не хуже тебя видел, почему пулемёт не заработал. Туда мне дорожка заказана.
Платайс преглянулся с Кондратом Васильевичем и сказал:
— Я — командир бронепоезда. Сейчас отправка на фронт. Хвостовой пулемёт на выходе из мастерской должен ударить по наружной охране! Задача ясна?
— Так точно, ваше…
— Товарищ командир! — поправил его Платайс,
— Так точно, товарищ командир!
— Фамилия? — спросил Платайс.
— Николай Петров!
— Наводчик Петров! К хвостовому пулемёту бего-ом… марш!
Солдат побежал к заднему вагону бронепоезда.
— Без семнадцати двенадцать! — произнёс Кондрат Васильевич. — Пора!
Платайс по-военному вытянулся перед Круговым.
— Товарищ председатель ревкома! Разрешите вести бронепоезд в бой?
Кондрат Васильевич неумело козырнул, махнул рукой и, обняв Платайса, напутственно похлопал по спине.
Защёлкали, закрываясь, двери бронепоезда. С Кондратом Васильевичем осталось полтора десятка рабочих с винтовками и двумя пулемётами.
— Господин большевик! — спросил у Крутова полковник. — Скажите честно, кто из вас Трясогузка: вы или так называемый барон?
Кондрат Васильевич улыбнулся.
— Скажу честно: для меня это такая же загадка, как и для вас.
Бронепоезд без гудка плавно тронулся с места.
Рабочие распахнули створки ворот. Выпустив большой клуб пара, паровоз прибавил скорость. Последний вагон миновал ворота депо. И сразу же заговорил хвостовой пулемёт георгиевского кавалера. Послышались испуганные крики колчаковцев из внешней охраны. Грохнул пушечный выстрел. Артиллерия бронепоезда открыла огонь по казармам гарнизона.
Опоясалась огнями опушка леса за станцией. В бой вступили партизаны.
Полковник обхватил голову руками и мучительно застонал.
ПОБЕГ
Армия Трясогузки в полном составе томилась в подвале мастерской. Катя сторожила ребят. Она придвинула табуретку к верстаку, под которым был люк в подвал, и уселась на неё. Как Трясогузка ни тужился, он не мог сдвинуть эту тяжесть.
— Вы нас в плен не взяли! Не имеете права! — кричал командир, толкая плечом половицу.
— Мальчики! Дорогие! — отвечала Катя, беспокойно ёрзая на подпрыгивающей табуретке. — Потерпите до утра! Там и постелька есть внизу — поспите!
— Спи сама! — вопил из-под пола Цыган. — Как бандитов, в тюрьму засадили!
— Издевательство настоящее! — вторил ему Мика тонким голосом.
Когда в подвал долетели звуки боя, мальчишки притихли.
— Поняли теперь? — донёсся голос Кати. — Убить могут! А вы — герои, вас охранять приказано!…
Дав несколько артиллерийских залпов по казармам и домам, в которых были сосредоточены основные силы колчаковского гарнизона, бронепоезд вышел за станцию и сделал короткую остановку. Наводчика Петрова переместили к пулемёту рядом с постом командира. Это предусмотрительное распоряжение Платайса оправдало себя уже на следующей станции.
Когда бронепоезд на медленном ходу подошёл к тёмной платформе, впереди загорелся красный глазок семафора — путь на запад был закрыт.
Из вокзала выскочил офицер, крикнул:
— Что там у вас происходит? Мы слышали канонаду!… И телеграф не работает!
Платайс подмигнул Петрову. Георгиевский кавалер высунулся из двери вагона так, чтобы видны были кресты.
— Это мы, ваше благородие, партизан пугнули! Обнаглели: подошли к самому городу и телеграфные столбы повалили!
— Ну и что? — тревожно спросил офицер.
— Не беспокойтесь! Добивают их наши! — ответил Петров.
В подтверждение его слов с востока долетела приглушённая расстоянием пулемётная очередь.
Красный глаз сменился зелёным. Бронепоезд снова двинулся к фронту.
А бой в городе ещё продолжался. Остатки колчаковского гарнизона, преследуемые партизанами и рабочей дружиной, откатились к окраине и залегли в канаве за мастерской жестянщика. Длинными очередями строчил пулемёт, прижимая наступающих к земле.
Командир отряда Торгашов выслал две группы партизан в обход колчаковцев. Стрельба разгорелась и на флангах. Мастерская попала под перекрестный огонь. Со звоном полетели выбитые пулями стекла.
Катя отбросила ногой табуретку и упала на пол.
— Спускайся сюда! — услышала она горячий шёпот Трясогузки.
— Ничего! — ответила Катя. — Сейчас наши заберут их в плен!
Но пулемёт колчаковцев продолжал строчить, пока дружное «ура» не заглушило его. Партизаны и рабочие бросились в атаку. Звуки стрельбы стали отдаляться. На пустыре стонали раненые.
Катя выглянула из окна. Недалеко от крыльца лежал партизан. Чуть подальше — ещё двое. На доске, перекинутой через лужу, сидел рабочий и зубами затягивал на руке жгут.
Сдёрнув с окна занавеску, Катя выбежала из мастерской.
Не прошло и минуты, как приподнялась половица. В тёмной щели блеснули три пары любопытных и немножко испуганных глаз.
— Ушла! — шепнул Трясогузка. — Нажимай!
Общими усилиями доска с верстаком была сдвинута в сторону. Мальчишки на четвереньках добрались до окна. Перестрелка долетала откуда-то из леса. Катя перевязывала партизана, лежавшего у крыльца.
— Тикаем! — предложил Цыган.
— Куда? — удивился Мика.
— В штаб! Там нас никто не найдёт!
— От своих прятаться? — спросил Мика. — Город теперь наш! Теперь все по-честному будет!
— А продовольствие? — забеспокоился Цыган.
— Передадим Советской власти!
— Склад передадим! — согласился Трясогузка. — А сами?
— Чего сами? — не понял Мика.
— Армию что, распустим? — гневно спросил Трясогузка. — Вместо командира нянька у вас будет! Сопельки вытирать! За ручку водить!
Мику эта перспектива не огорчила.
— Зато она драться не будет! — сказал он.
— Эх ты! — уничтожающе произнёс Трясогузка и вдруг изменил тон: — А хочешь, я откажусь от командира? Не очень-то мне это нужно! Все будём бойцами! Ни одного леща не отпущу!
Цыган недоверчиво улыбнулся.
— А если отпустишь? — спросил Мика.
— Руби мне руку! Разрешаю! — воскликнул Трясогузка, но, подумав, добавил: — Нет! Руку, пожалуй, не стоит! Рука ещё пригодится: Колчак-то жив! Да мы только в одном городе и победили! А знаешь, сколько городов беляки заняли? Говорят, они и в Крыму сидят, жрут твои ананасы и косточки в море выплёвывают!
Эту речь командир произнёс специально для Мики. Трясогузка знал, что Цыган легче переносит жизнь беспризорника.
Главное — уговорить Мику, и тогда армия не распадётся.
Нарисованная командиром картина поразила Мику. Он представил себе, как беляки едят ананасы. Для больной матери отец не мог достать эти чудодейственные фрукты, а беляки объедаются ими! Да ещё и косточки в море выплёвывают! Не знал Мика, что нет в ананасах косточек.
Трясогузка перешёл в наступление.
— Есть у меня начальник штаба или нет?
— Есть! — по привычке ответил Мика.
Трясогузка выхватил из горна уголь.
— Держи и пиши!… Вот тут! — он указал на сдвинутую половицу. — Пиши так: «Ушли добивать Колчака. Продовольствие передаём Советской власти. Склад найдёте за речкой, под сгоревшим домом. Армия Трясогузки».
Когда Катя перевязала раненых и вернулась в мастерскую, ребят уже не было.
НА ПЕРЕДОВОЙ
Полк латышских стрелков занимал оборону на западном берегу мелкой, но довольно широкой реки. На восточном окопались колчаковцы. Наблюдательный пункт полка был устроен на колокольне. В обычные дни там дежурили два стрелка.
В ночь на Первое мая на колокольню поднялись командир и комиссар. Ждали, когда появится бронепоезд.
В донесениях, переправленных через фронт, Платайс сообщал, что операция развивается успешно. Но командир и комиссар провели бессонную ночь. Особенно тревожно стало после того, как на востоке пророкотали орудия. В полку знали, как будут развиваться события. Пушечные выстрелы не были неожиданными. И все же…
Днём с колокольни в хороший бинокль далеко вглубь просматривалась вражеская оборона. А ночью в темноте лишь изредка мелькали крохотные искорки. Не разберёшь, далеко ли вспыхнул огонёк или совсем рядом, спичка ли загорелась или померещилось от напряжения.
Комиссар опустил бесполезный бинокль, щёлкнул крышкой часов, посмотрел на стрелки.
— Рано, — сказал командир полка.Не нервничай!
Комиссар и командир давно знали друг друга и разговаривали между собой попросту.
— А ты не нервничаешь? — отозвался комиссар.
— Что наши нервы! Вот ему нервы нужны!
Комиссар понял: ему — это Платайсу.
— Удивительный человек, — произнёс комиссар. — Кажется, знал его от макушки до пяток. А он повернулся другим боком — и не узнать!… Кто он — Платайс? Учитель. Латышских ребятишек русскому языку обучал. Педант, говорят, был страшный. Запятую не там поставит какой-нибудь Арвид или Изольда — двойка!… Профессия, конечно, благородная, уважаемая. Но кто бы подумал, что в учителе сидит талантливый отважный разведчик?
— Подожди про талант говорить! — возразил командир полка.
— Нечего ждать! Ты только подумай! Перед самой революцией похоронил жену. Недавно потерял сына. Самого чуть колчаковцы не расстреляли — чудом спасся! И жив человек, и духом не пал, и в логово врага пошёл спокойно, как в школу на урок!
— Как это у Тургенева сказано? — улыбнулся командир полка. — Аркадий, не говори красиво!… Так, что ли?
— Буду! — комиссар рубанул рукой по воздуху. — Нет таких слов, которые не заслужил бы человек!… Я ведь не только о Платайсе…
И снова командир и комиссар взялись за бинокли.
Колчаковцы раньше заметили бронепоезд. Он шёл медленно, и только искры из трубы паровоза выдали его появление. В окопах зашевелились, готовясь к броску через реку. Шквальный огонь бронепоезда должен был подавить огневые точки латышского полка, посеять панику. Колчаковцы радовались. Легко наступать после мощной артиллерийской подготовки.
Вскоре бронепоезд заметили и на колокольне.
— По Платайсу хоть часы проверяй! — сказал комиссар.
Темноту прорезали яркие снопы пламени — это ударили пушки бронепоезда. Снаряды ложились точно по первой линии колчаковских окопов. Заработали и пулемёты.
— Дать сигнал! — приказал командир полка.
Один из наблюдателей подбежал к колоколу. Набат поднял латышских стрелков в атаку.
ВСТРЕЧА
В обороне колчаковцев образовалась широкая брешь. Войска при поддержке бронепоезда смяли белогвардейцев и продвинулись вперёд километров на пятнадцать. Городок, в котором родилась армия Трясогузки, был освобождён.
К станции подъехал бронепоезд.
Тимофей Егорович — бывший обходчик, а теперь начальник станции — встретил его зелёным флажком. Старик раздобыл где-то форменную железнодорожную фуражку и выглядел очень представительно.
На платформу выскочил Платайс, приказал проверить ходовую часть и подошёл к начальнику станции.
— Телефон у вас работает, товарищ?
— Как же! Все на полном ходу! Связь восстановлена! — ответил старик. — А только здороваться со знакомыми надо!
Платайс пригляделся, узнал Тимофея Егоровича, удивлённо сказал:
— Простите, товарищ начальник станции! Я вас раньше в такой форме не встречал!
— То раньше! А ну-ка, оглянись! Раньше ты это видел?
Над фабричной трубой развевался красный флаг.
— Успели? — воскликнул Платайс.
— Мы все успеем! — гордо ответил старик. — А телефон там. — Тимофей Егорович указал на дверь с надписью «Начальник станции». — Только ручку мне не сломай!…
* * *
Кондрат Васильевич сидел в кабинете полковника и с негодованием перекатывал по столу отточенный ещё адъютантом карандаш. Николай тоже сердито смотрел на сестру.
— Проворонила таких ребят!
Кондрат Васильевич отшвырнул карандаш.
— Раненые же! — оправдывалась Катя.
— За раненых спасибо! А люк надо было завалить тяжестью, голова садовая!… Где их теперь найдёшь?… Звать-то хоть узнала как?
— А у них прозвища! Только младшего по имени называли: не то Минька, не то Мишка…
Зазвонил телефон.
— Да! — бросил в трубку Кондрат Васильевич. — Да, ревком!… Ну, слушаю!
Говорил Платайс.
— Помните, Кондрат Васильевич, я про беспризорников у вас спрашивал?
— Помню!… Разберёмся малость — и о них побеспокоимся, товарищ Платайс! — ответил Кругов.
— Это очень хорошо!подхватил Платайс.О них надо позаботиться! А я вас прошу, Кондрат Васильевич…
Трубка замолчала.
— Проси! Проси, не бойся! — крикнул Крутов.
— Сын у меня пропал! — тихо сказал Платайс. — Вам, конечно, некогда… Я понимаю… А все же посмотрите среди беспризорников…
— Звать как?… Как его звать? — спросил Кондрат Васильевич.
— Мика, — послышалось в трубке.
— Как, как? — переспросил Крутов, скосив на Катю сердитые глаза.
На станции проревел бронепоезд. Здесь, в особняке, его гудок не оглушал. А в комнате, откуда разговаривал Платайс, могучая паровозная глотка заставила дребезжать стекла. Бронепоезд настойчиво звал командира. Платайс повесил телефонную трубку и вышел на платформу.
А с другой стороны по путям к бронепоезду пробирались трое беспризорников.
— Вот увидите, возьмут в разведчики! — горячо шептал Трясогузка.
— Только бы со станции удрать!
Вдоль бронепоезда шёл рабочий. Ребята спрятались за кучу шлака. На каждом вагоне рабочий писал мелом: «Да здравствует власть Советов». Он сделал три таких надписи, бросил мел и вернулся на платформу.
— За мной! — шепнул Трясогузка.
Мальчишки подбежали к последнему вагону. Мика подхватил кусок мела. Трясогузка упёрся руками в броню.
— Полезайте!
Цыган вскочил ему на плечи и, цепляясь за большие заклёпки, влез на крышу.
Мика тоже забрался на командира, но что-то замешкался.
— Скорей! — приказал Трясогузка.
— Сейчас! — ответил Мика, дорисовывая восклицательный знак после слова «Советов».
На крыше они улеглись рядом и замерли.
Платформа опустела.
К Тимофею Егоровичу подошёл Платайс, пожал ему руку и побежал к паровозу.
Мика вздрогнул и приподнялся на руках. Трясогузка хлопнул его по затылку, прижал к крыше.
— Па-па! — протяжно крикнул Мика.
Платайс остановился, изумлённо повертел головой.
Мика крикнул ещё раз, но бронепоезд тронулся.
Платайс вскочил в дверь и с тревогой окинул взглядом платформу, привокзальные постройки.
— Показалось! — прошептал он.
Но крик слышал и Тимофей Егорович. Он не мог понять, откуда раздался голос мальчишки, пока не увидел на крыше заднего вагона трех беспризорников.
— Стой! Держи! Слазьте! — завопил начальник станции и, сердито размахивая руками, побежал по платформе за уходящим бронепоездом.
Платайс заметил старика, который указывал на крышу заднего вагона. «Что там такое?» — подумал Платайс.
А Тимофей Егорович добежал до конца платформы и остановился. Платайс влез на крышу бронепоезда. До старика долетело:
— Мика! Сынок!
Платайс, как мальчишка, перепрыгивал с вагона на вагон.
ЧАСТЬ 2 СНОВА В «АРМИИ»
Недалеко от озера Байкал есть небольшая станция. В одном из бревенчатых домиков, разбросанных вдоль железной дороги, расквартировалась вся армия Трясогузки. Как только разгромили Колчака, так и привёз Платайс трех мальчишек на эту станцию.
Жили в домике два старых учителя — муж и жена. Платайс знал их давно. У них он и оставил ребят. Старики строгие — не разбалуешься, но зато научиться у них можно было многому.
Платайс пробыл на станции недолго. Уезжая в свою часть, он сказал ребятам:
— Сейчас у меня три сына. Мне бы хотелось, чтобы мы всегда были вчетвером. Но это не от меня зависит. Кто будет плохо учиться, тому придётся распрощаться с нашей семьёй. Нам неучи не нужны!…
Мальчишки мечтали стать разведчиками, а пришлось взяться за тетрадки. Уроки начались сразу же после отъезда Платайса. Соскучившись по любимому делу, старики превратили свой дом в настоящую школу со звонком-будильником, с большими и маленькими переменами, с классным журналом, с пятибалльной системой оценок.
Первое время даже Мике было трудновато, а Цыгану и Трясогузке такая жизнь казалась нестерпимо тягостной. Они с тоской поглядывали на проходившие мимо поезда и, вздыхая, вспоминали вольную беспризорную «житуху». Убежали бы мальчишки от стариков, но Мика не соглашался…
Так прошла зима. Наступила весна. Однажды ночью с товарного поезда, притормозившего у станции, спрыгнул Платайс.
Мальчишки спали и не слышали, как он постучал в дверь и потом долго разговаривал со стариками. Платайсу нужно было забрать с собой Мику. На какое время и зачем, он не мог объяснить. Сказал только, что это совершенно необходимо.
Старая учительница покачала седой головой.
— Невозможно.
— Почему? — удивился Платайс.
— Двое других убегут.
Ребята думали, что их тайные помыслы не известны приютившим их старикам, но Мария Федоровна и Геннадий Петрович за свою жизнь много повидали разных мальчишек и научились разгадывать их секреты.
— Обязательно убегут! — подтвердил Геннадий Петрович. — Нам за ними не уследить.
Платайс долго не раздумывал. Этой же ночью было решено, что Цыгана и Трясогузку временно отправят в детдом. Оттуда убежать не так просто. А когда вернётся Мика, три друга опять поселятся в домике старых учителей…
Утром зазвонил будильник, и день начался, словно ничего и не произошло. Платайса уже не было, и мальчишки так никогда и не узнали о его ночном приезде. Он вернулся дня через два с какой-то молодой красивой женщиной в кожаной куртке, в высоких кожаных сапожках. Было в ней что-то необычное — удивительная лёгкость, плавность. А Платайс показался мальчишкам более суровым, чем обычно. Он увёл ребят в комнату и запер дверь.
— Садитесь! — произнёс он так, что мальчишкам стало не по себе. — Начнём наш семейный совет… Мне требуется помощник… Один! И вы сами выберете, кто поедет со мной.
Мика и Цыган вскочили, но Трясогузка схватил их сзади за рукава и заставил сесть.
— Нечего выбирать! — решительно заявил он.Я старше и сильнее всех — мне и ехать.
— Верно, — Платайс кивнул головой. — Ты старший и самый сильный. Но есть ещё одно условие: нужен тот, кто похож на девочку.
Мальчишки внимательно посмотрели друг на друга, будто встретились впервые.
— Только не я! — усмехнулся Трясогузка. Он был бы оскорблён, если бы его признали хоть чуточку похожим на девчонку. — Это не моё дело!
— И не моё! — воскликнул Цыган. — Мика похож!
Мика обиженно надул губы.
— Ну и что!… Ну и поеду, если нужно!
— Так как же решим? — спросил Платайс.
— Уже решили, — ответил Трясогузка. — На это дело Мика в самый раз.
— Мика так Мика, — согласился Платайс. — А теперь второй вопрос… Тут уж право выбора за мной. Скажу вам прямо: боюсь, что без Мики вы сбежите.
Трясогузка по старой привычке покачал правой ногой и улыбнулся.
— Хи-итрый!
Улыбнулся и Платайс.
— Хорошо, что мы поняли друг друга… Пока Мики не будет, я прошу вас пожить в детдоме. Всего несколько месяцев…
Цыган дёрнулся, но Трясогузка осадил его.
— Поедете на Волгу, — продолжал Платайс. — Купаться будете, рыбу ловить… И мальчишек там много — не заскучаете.
— Ладно, — сказал Трясогузка. — Поедем.
Платайс не ожидал, что удастся так легко уговорить ребят.
— Поедете не одни — с провожатым! — предупредил он и, вплотную подойдя к Трясогузке, испытующе посмотрел ему в глаза.
Мальчишка выдержал этот взгляд и спросил, кивнув на дверь в соседнюю комнату:
— С этой тёткой… которая приехала?
— Да. Зовут её тётя Майя.
Цыган вспомнил её лёгкую воздушную походку.
— Она что — артистка?
— Почему ты так думаешь? — удивился Платайс.
— У нас в цирке гимнасты так ходили. Как с крыльями.
— Это замечательная женщина! — уважительно произнёс Платайс, так и не ответив на вопрос Цыгана…
Сборы были короткие. К вечеру все приготовили в дорогу. Поезд на запад шёл ночью, в половине третьего. С ним отправлялись Трясогузка, Цыган и тётя Майя. Поезд на восток, которым уезжали Платайс и Мика, прибывал на станцию в десять утра. До двух часов ночи можно было поспать. В последний раз улеглись ребята рядышком на своих койках в задней комнате. Не спалось. Трясогузка проворчал:
— Хи-итрый!
Все поняли, о ком он думает.
— И про девчонку, наверно, схитрил!… Но ничего! — Трясогузка загадочно прохихикал в темноте. — Мы тоже не дураки!
— Сбежите? — спросил Мика. Он с самого начала догадался, что Трясогузка неспроста прикинулся таким покладистым парнем.
— Не-ет! Ершей из Волги таскать будем! — съехидничал Трясогузка и неожиданно заговорил приказным командирским тоном: — А ты вот что!… Тебе такое задание: рисуй трясогузку мелом!
— Тебя? — не понял Мика.
— Птицу, а не меня! — рассердился командир.
— А где?
— Где попало!… Везде!
— Так ведь не найдёте, если где попало!
— Не твоя забота!…
Со стариками распрощались дома, а Платайс с Микой проводили ребят до поезда.
Пассажиров на станции не было. В вагонах спали. Платайс вскочил на высокую подножку, распахнул дверь в тёмный тамбур, впустил туда мальчишек и вернулся к Майе, оставшейся у вагона.
— Постарайся подружиться с ними.
Женщина ласково взяла Платайса за руку,
— Не беспокойся. И будь там осторожен.
Они оба посмотрели на вагон. Из тамбура доносились негромкие голоса, но мальчишек не было видно.
— Будь осторожен! — повторила Майя.
Загудел паровоз.
— Мика! — крикнул Платайс.
Мика спустился по ступенькам вниз. Поезд тронулся. Майя стояла в дверях тамбура и долго махала рукой. Мальчишки больше не показывались. Платайс огорчённо вздохнул.
— Обиделись все-таки…
— Наверно, — сказал Мика.
Он тоже не знал, что Трясогузки и Цыгана уже не было в вагоне. Под шум тронувшегося поезда они открыли дверь на другую сторону, соскочили и спрятались в придорожных кустах. Мальчишки видели, как Платайс и Мика, проводив поезд, медленно пошли прочь от станции и скрылись в тёмном переулке, ведущем к домику стариков…
Утро застало Трясогузку и Цыгана в сарае с сеном недалеко от сторожки путевого обходчика. Проснувшись, Трясогузка потянулся с приятным хрустом. Давно он не спал так сладко. Рядом, зарывшись в сено с головой, посапывал Цыган. На гвоздике висела неразлучная гитара.
— Проснись, свободный человек! — торжественно сказал Трясогузка и потряс Цыгана за плечо.
— Чего ты? — недовольно отозвался тот. — Будильника ещё не было!
— И не будет! Нету больше будильника!… Вставай, боец! Ты снова в армии! Ура-а-а!…
Цыган раскрыл глаза, увидел вокруг себя сено, глубоко вдохнул слабый выветрившийся за зиму аромат и широко улыбнулся.
— Откололи мы номерок! Гвоздь программы! Факир был в ударе! Алле-е ап!
Он несколько раз перекувырнулся через голову, шлёпнулся на спину, раскинул руки и ноги и уставился в дырявую крышу сарая.
— Завтрак! — объявил Трясогузка и развязал довольно объёмистый узел с едой, приготовленный в дорогу заботливыми стариками. — Не опоздать бы! — Прищурившись, он посмотрел в щель на солнце и определил: — Девять скоро!
Поели быстро и молча — все обговорили ещё ночью. План Трясогузки был прост и гениален. Они уедут вместе с Платайсом и Микой — на том же самом десятичасовом поезде.
В половине десятого мальчишки уже пробирались к станции. Трясогузка вёл Цыгана обходным путём через густые кусты с клейкими, только что распустившимися листочками. Залегли метрах в десяти от железнодорожной насыпи. Трясогузка выглянул из-за куста и сразу же увидел Мику и Платайса. Они сидели на старых шпалах, разбросанных у канавы, и о чем-то разговаривали, ожидая поезда.
— Здорово! — насмешливо сказал в их сторону Трясогузка и повернулся к Цыгану. — Сидят — балакают… Хитёр, а и мы тёртые! На хвост сели — не сгонишь!
— Я ж говорю — факир в ударе! — похвалил его Цыган. — А докуда мы поедем?
— Докуда они, а там посмотрим…
Поезд пришёл без опоздания, и сразу же рухнул гениальный план Трясогузки. Мальчишки и Платайс одновременно увидели во втором вагоне Майю. Она что-то кричала, соскочила на ходу и побежала к Платайсу.
Трясогузка ругнулся и потащил Цыгана в глубь кустов.
— Искать будут! — пояснил он.
Но их не искали. За ночь в ту и другую сторону прошло несколько грузовых составов. Платайс был уверен, что мальчишки уехали на одном из них. Да и времени не было на поиски. Поезд, с которым вернулась Майя, стоял всего две минуты, а следующий прибывал на станцию лишь вечером. Платайс не мог ждать его.
Часа через два Трясогузка с Цыганом снова пробрались к станции, постояли около рельс.
— Факир! — раздражённо фыркнул Трясогузка. — Такому факиру руки и ноги обломать надо!
Цыган попробовал оправдать командира.
— Ты разве виноват?… Кто ж знал, что она такая блоха? Прыг — и обратно!
— Отстань! — прикрикнул на него Трясогузка. — Защитник нашёлся!
Вдоль колеи они дошли до того места, где недавно Платайс с Микой ожидали поезда, сели на те же шпалы и вдруг командир треснул Цыгана по спине:
— Ты смотри! Смотри!
На просмолённом чёрном боку шпалы белела, растопырив крылья, нарисованная мелом птичка, а рядом была написана какая-то галиматья: «Рита-чита, сядь в корыто».
Трясогузка ещё раз наградил Цыгана восторженным шлепком по спине.
— Объявляю Мике благодарность!… Запиши!
Цыган поводил пальцем по лбу и доложил:
— Записано!… Только что это он тут нацарапал?
— Чушь — для отвода глаз.
— Чушь? — переспросил Цыган, приглядываясь к надписи. — Не чушь! Это он про Читу! Это — Чита! Они в Читу поехали!
Мальчишки вскочили, схватились за руки и от радости запрыгали. Цыган поскользнулся и съехал в канаву, потащив за собой и командира. В канаве было сухо, зеленели щетинки весенней травы. Упёршись ногами в дно, ребята лежали на крутом склоне и смотрели в небо.
— А ведь Чита сейчас у белых! — вспомнил Цыган. — У семеновцев!
— Платайса к красным не пошлют, — ответил Трясогузка. — Он же разведчик!…
ПЕРВАЯ ПРОБА
В кабинете, кроме Платайса, сидели начальник дивизии, военный комиссар и начкомпешраздив. Это длинное словечко обозначало должность начальника команды пеших разведчиков дивизии. Все выжидательно смотрели на дверь.
Она приоткрылась, и в кабинет вошла девочка лет тринадцати в широкополой шляпе с бантом, в белом нарядном платьице. В правой руке она держала поводок. Девочка хотела сделать реверанс, но поводок вдруг резко натянулся и чуть не опрокинул её на спину. За дверью послышалось грозное рычание.
— Чако! Чако! — закричала девочка грубоватым голосом.
В коридоре перед кабинетом, вздыбив на загривке шерсть, стояла большая овчарка в наморднике. Тётя Майя осторожно подталкивала собаку сзади. Но овчарка угрожающе рычала и не двигалась.
— Отставить! — сказал начальник дивизии и широкой ладонью провёл по гладкому выбритому до синевы черепу. — Чтобы приручить эту собаку, нужен не один месяц, а у нас — считанныe дни. Уведите её!
Девочка огорчённо протянула поводок тёте Майе и не очень уверенно сделала, наконец, реверанс.
— Спокойно! Спокойно! — произнёс Платайс. — Пройдись по комнате.
— И сними, пожалуйста, шляпу, — попросил военный комиссар, молодой и, вероятно, очень весёлый человек с большими карими чуть навыкате глазами.
Девочка сдёрнула шляпку и порывисто прошагала от двери к окну и обратно. Новые большие туфли на низком каблуке деревянно постукивали по полу.
— Не велики они? — спросил начкомпешраздив.
— Малы! — ответила девочка тем же грубоватым голосом. — Я уже палец натёр… ла!
Начальник дивизии снова с явным неодобрением погладил рукой по бритой голове, а Платайс сказал:
— Больше нельзя — будет слишком заметно!… Ходи, ходи — дай присмотреться. И не вышагивай, как солдат в юбке! Семени ногами!
Девочка несколько раз прошлась по кабинету, поправляя рукой смолисто-чёрные волосы, гладко зачёсанные назад и стянутые на затылке в крохотный пучок. Лицо у неё было бледное, худенькое, плечи костлявые, ноги тонкие. Казалось, что девочка только вчера встала с кровати после тяжёлой болезни.
Начкомпешраздив подозвал её к себе, усадил рядом на стул и, переглянувшись с начальником дивизии, спросил:
— Как тебя зовут?
— Мэри! — ответила девочка и покраснела.
— А почему ты краснеешь?
— Стыдно… Голос у меня очень хриплый… После тифа. И волосы ещё не успели отрасти. Меня обстригли, когда я болел… ла.
— Одно такое ла — и… — начальник дивизии не закончил, но все поняли, что он хотел сказать.
— А его не будет! — крикнула девочка сердито. — Это ж первый день!… Вас бы в платье нарядить, волосы бы покрасить и в туфли бы засунуть — вы бы ещё хуже были!
— Мика! — строго произнёс Платайс.
Военный комиссар от души расхохотался. Улыбнулся и начальник дивизии.
— Это ты верно сказал. Женщина из меня получится плохая, но я и не собираюсь играть эту роль.
— А я сыграю! Сыграю!… И если… если вы меня не пустите, я папу туда тоже не пущу!
— Мика! — укоризненно повторил Платайс.
— Ты, папочка, путаешь! Я — Мэри!
От волнения и страха, что его не пошлют вместе с отцом, у Мики голос стал не такой грубый. Он вскочил со стула, поклонился всем с глубоким приседанием, как учила его тётя Майя, и тоном хорошо воспитанной вежливой девочки спросил:
— Можно мне уйти, папочка? У меня сейчас урок художественного вязанья.
Когда Мику отпустили, начальник дивизии сказал:
— Я бы предпочёл настоящую девочку… Приказывать боюсь — вам ехать, а не мне, — но хотел бы понять, почему вы так настаиваете на варианте с сыном?
— Потому что он — сын! — просто ответил Платайс и повторил: — Мой сын. Я знаю его, я его люблю и я могу, имею право идти с ним на риск.
— Но когда с вами будет настоящая девочка, риска меньше, — возразил начальник дивизии.
— Зато заботы больше. Чужой ребёнок.
— А о своём вы не будете заботиться?
— Ты не прав, Пётр Лаврентьевич! — поддержал Платайса военный комиссар. — Представь, что меня ранило, а жена моя заболела. Ну и по доброте душевной взял ты в свою семью мою дочурку. О ком ты больше будешь заботиться: о своих или о моей?
— Э! Нет! Не пойдёт! — начальник дивизии выставил вперёд ладонь — отгородился от комиссара. — Больно уж твоя Катька егоза большая!
Все рассмеялись.
— В общем, я за двух Платайсов! — сказал комиссар.
— Я тоже! — поддержал его начкомпешраздив.
— Ну что ж… Согласен! — сдался начальник дивизии. — А собаку, — вспомнил он, — собаку замените. Это уж приказ! Найдите бесхозную, изголодавшуюся. Приласкайте, накормите — она через день признает вас и полюбит… И ещё приказ: днюйте и ночуйте с господином Митряевым, а Мика должен присмотреться к Мэри…
КУПЦЫ МИТРЯЕВЫ
Говорят, ещё в петровские времена поселились купцы Митряевы в Чите. Скупали у охотников пушнину, везли её в Петербург и продавали с немалой для себя выгодой. Но большого богатства не сколотили — не вёзло Митряевым. И это невезение, как наследственная болезнь, переходило из рода в род.
В семье от отца к сыну передавались рассказы о шаровой молнии, когда-то до тла спалившей все имущество Митряевых, о разбойных людях, не раз грабивших обозы с пушниной, о моровой язве, выкосившей Митряевых чуть ли не под самый корень.
К началу двадцатого века в Чите в небольшой усадьбе на окраине города жили трое Митряевых: отец и два сына. Их знали как купцов средней руки, не брезговавших никакими торговыми махинациями. Старик был скуп. Взрослые сыновья не могли даже обзавестись собственными семьями, потому что он не хотел делить имущество.
Когда началась русско-японская война, младший сын уговорил отца отправить его в армию. Пристроился он на службе расчётливо: поближе к деньгам. Пошёл, как тогда говорили, по финансовой части. Выбрав удобный момент, он перебежал к японцам, захватив с собой всю казну полка — до единой копейки.
Отец проклял сына, уничтожил все, что напоминало о нем, и вскоре умер.
После его смерти дела Митряевых пошли в гору. Старший сын разбогател на поставках продовольствия русской армии. А младший сумел в Японии удачно пустить в оборот казённые деньги, заимел в Токио влиятельных друзей и не собирался возвращаться в Россию.
Братья не переписывались, потому что особых родственных чувств друг к другу не испытывали. Осталось у них, пожалуй, одно любопытство: хотелось узнать, кому повезло больше. И случай такой представился.
Однажды к старшему Митряеву заехал некто Бедряков — тайный торгаш опиумом. Он привёз поклон от младшего Митряева и рассказал, что тот руководит в Токио большой коммерческой фирмой, что он женился, имеет дочь и зовёт брата в гости. Все расходы на поездку берет на себя. Старший Митряев вспылил: он и сам не нищий! Жены, правда, у него нет и уже не будет — стар стал, а насчёт денег — это ещё посчитать надо, у кого больше!…
Прошло ещё несколько лет. И появилась у старшего Митряева старческая сентиментальность. Вспомнил он о приглашении брата. Захотелось увидеться с ним. Поездку в Японию он наметил на весну 1918 года. Но грянула революция — стало не до поездки. Заперся старший Митряев в своей усадьбе и, вооружив всех слуг, решил отсидеться, дождаться спокойного времени. А оно все не приходило.
Когда в Чите появились семеновцы и японцы, оккупировавшие Дальний Восток, Митряев снова вспомнил о брате, и полетела в Токио длинная слезливая телеграмма. Старший Митряев писал, что сам приехать не сможет — болен и долго не протянет, просил навестить его перед смертью, обещал все своё богатство передать брату.
Ответ пришёл в тот день, когда старшего Митряева отвезли на кладбище. Брата он не дождался, но успел написать завещание, оформил его по всем правилам и для надёжности зарегистрировал у японских военных властей. Знал Митряев, что нельзя доверять семеновцам, хозяйничавшим в городе, — разграбят они его имущество. Только страх перед японцами мог предотвратить это.
Алексей Петрович Ицко, управлявший делами старшего Митряева, прочитал телеграмму младшего Митряева и спрятал её в секретный сейф, с давних времён врезанный в стену кабинета за письменным столом. В телеграмме сообщалось, что брат выезжает из Токио и вскоре прибудет в Читу.
Младший Митряев плохо представлял, что происходит в России. Поездка казалась ему совершенно безопасной. Он даже взял с собой дочку и вместе с ней и овчаркой Чако очутился не в Чите, а сначала у партизан, а потом в штабе одной из дивизий Амурского фронта.
Эта сложная тайная операция готовилась долго и тщательно. Все было сделано с таким расчётом, чтобы вместо младшего Митряева в Читу — в логово семеновцев — мог приехать опытный советский разведчик.
ПРОВЕРКА
Поезд подтащился к читинскому вокзалу. Комендантский взвод высыпал на платформу. Разбившись на четвёрки, солдаты разбежались вдоль состава. Началась обычная проверка документов. Большинство приехавших были военные. Лишь кое-где среди офицеров и солдат попадались другие пассажиры. Их проверяли особенно тщательно и придирчиво.
В тамбуре второго вагона появился франтовато одетый человек с надменным властным лицом и спокойным, немного ленивым взглядом.
— Документы! — потребовал унтер-офицер.
Не обращая на него внимания, мужчина громко позвал носильщика и стал спускаться вниз, брезгливо придерживаясь за пыльные поручни.
Унтер разозлился и рявкнул на всю платформу:
— Предъявить документы!
В ответ послышалось рычанье, и над плечом остановившегося на нижней ступеньке мужчины высунулась оскаленная собачья морда. Овчарке не понравилось, что с её хозяином разговаривают так грубо.
— Чако! — прикрикнула появившаяся в тамбуре девочка и успокаивающе погладила собаку по голове. — Никто папу не тронет!
А мужчина холодно оглядел унтер-офицера и, вытаскивая из кармана документы, процедил сквозь зубы:
— Я, любезный, не глухой.
Подбежал носильщик.
— Четвёртое купе, — сказал ему мужчина и помог спуститься дочери на платформу.
Спрыгнула и овчарка. Уселась у ног девочки, не спуская настороженного взгляда с унтер-офицера, который внимательно проверял документы. Японские иероглифы заставили его пожалеть о грубом окрике. Он подтянулся, козырнул и извиняющимся тоном произнёс:
— Пожалуйста, господин Митряев!
Подошёл высокий, коренастый извозчик. На щеке его ярко выделялись три глубоких рубца.
— Беру дёшево, везу, однако, быстро. Куда прикажете?пробасил он привычную фразу.
— В усадьбу Митряева, — ответил мужчина. — Идём, Мэри!
И они пошли за извозчиком. Впереди бежала овчарка. Сзади носильщик тащил два больших чемодана. На площади у привязи стояла потрёпанная коляска на высоких рессорах. Некрупная, хорошо откормленная лошадь мирно хрустела овсом, засунув голову в торбу по самые уши.
Уселись. Коляска, разбрызгивая грязь, пересекла площадь и въехала в одну из улиц.
Мика, надвинув на лоб японскую шляпку, с любопытством озирался по сторонам. Платайс припоминал карту Читы и проверял, хорошо ли он ориентируется в незнакомом городе.
За этим поворотом должна показаться колокольня… Правильно! Вот она торчит над крышами домов. А слева от церкви стоит дом Митряевых. Старый, двухэтажный, рубленный из толстых стволов вековых лиственниц.
Прохожих было много, большинство военные. Солдаты шли и строем, и в одиночку. И все с любопытством оглядывали коляску с большой овчаркой, сидевшей между мужчиной и девочкой. Во многих дворах дымились походные кухни. Казалось, что коляска едет не по городу, а по военному лагерю.
Миновали ещё один поворот. Эта улица вела на городскую окраину. Дома здесь стояли пореже, грязь на дороге стала гуще.
— С приездом, однако, господин Митряев! — неожиданно произнёс извозчик, когда поблизости никого не было. — С благополучным приездом! — добавил он, не поворачиваясь. — Отчаянная голова! Надо ж — в такую берлогу сунуться! Да ещё с сынишкой!
Мика вздрогнул и сжался. Платайс спокойно похлопал сына по колену.
— Все, Мэри, в порядке!… Такой тройной шрам лучше всякого пароля… Откуда он у вас, Карпыч!
Извозчик шумно вздохнул, приподняв широкие плечи.
— Молодой был — дурной… Один на медведя хаживал… Осталась памятка от когтей.
— Скажите, Карпыч, — спросил Платайс, — вы заметили что-нибудь или знали, что я с сыном?
— Партизанский телеграф донёс, а так, вроде, не заметно.
Карпыч говорил тихо, глухо и ни разу не оглянулся на седоков.
— Вы уж того… не обижайтесь!… — попросил он. — Со спиной моей говорить приходится. А что поделаешь?… Глаз чужих много… Бедному извозчику вроде не о чем с японским богачом беседовать… Особо по первому разу… Опасно… Нас тут недавно крепко потрясли… Вдвоём, считай, остались… Слабая мы вам подмога.
— Ничего, Карпыч, ничего! — сказал Платайс. — Дайте мне только оглядеться… А кто второй?
— Тоже извозчик — ломовой.
— А звать как?
— Все Лапотником прозывают. И вам так же надо, — Карпыч причмокнул на лошадь и кнутом указал на почерневший от времени особняк. — А вон и усадьба Митряева… Держитесь: управляющий — жох! Что там проверка на вокзале! Этот похуже будет — печёнку выест!… Ну, а меня, когда надо, на площади у станции найдёте.
— Мы что-нибудь получше придумаем, — возразил Платайс.
— Все, однако! — прервал его Карпыч. — Помолчим… Опасно.
Забор вокруг усадьбы был добротный, высокий, без единой щёлочки. Ворота и небольшая дверь в них наглухо заперты. Массивные ставни на окнах второго этажа, видневшегося за забором, тоже были закрыты. Не дом, а крепость или острог, угрюмый, почерневший.
Карпыч остановил лошадь у ворот и долго стучал кнутовищем в запертую дверь. Платайс и Мика сидели в коляске. Овчарка скулила и с беспокойством поглядывала то на них, то на забор. Она просила разрешения отойти от хозяев. Платайс кивнул головой — разрешил. Чако сорвался с места. Он мчался не к воротам, а вдоль забора. И Платайс успел заметить, как метрах в десяти справа от ворот закрылся потайной глазок, прорезанный в доске.
Не добежав до «глазка», Чако остановился и пошёл назад. Он слышал шаги за забором. Человек, следивший за коляской, приближался к воротам. Дверь открылась.
— Кого привёз, Карпыч? — спросил высокий костлявый мужчина с черными крохотными усиками и гладко причёсанными на прямой пробор волосами.
— Известно кого, Ляксей Петрович, — ответил извозчик. — Братца хозяина вашего — царство ему небесное. Не дождался, горемычный…
Управляющий пригнулся, пролез сквозь низкую дверь с высоким порогом и, косясь на овчарку, скалившую зубы, дважды сдержанно поклонился: сначала Платайсу, потом — Мике.
— Милости просим!
Выпрямившись, он представился:
— Ицко, Алексей Петрович. При вашем брате состоял в управляющих, а теперь — ваша воля.
— Я думаю, — ответил Платайс, — мой брат плохих людей не держал, а хорошие и мне нужны.
— Милости просим! — повторил управляющий и, скрывшись за воротами, быстро распахнул обе створки.
Карпыч подвёл лошадь к широкому крыльцу с резными потрескавшимися балясинами, покрякивая, снял чемоданы и сказал Платайсу:
— Вот и прибыли… Дай вам бог удачи, однако, господин Митряев!
Платайс достал кошелёк, протянул Карпычу пару крупных бумажек, предупредил:
— У меня много будет поездок. Ты, дед, каждое утро заглядывай сюда. Управляющий скажет, нужен ты или нет.
Пряча поглубже деньги, Карпыч широко улыбнулся. Рубцы на щеке разошлись, как меха гармошки. За сивыми усами прорезались белые крепкие зубы.
— Да за такую деньжищу!… Да я день-деньской у ваших, ворот торчать буду!
— Не надо! — улыбнулся и Платайс. — По утрам заезжай.
— Куда прикажете? — спросил управляющий, подымая чемоданы.
— Оба в спальню. А затем приходите в кабинет, — сказал Платайс и первый уверенно вошёл в дом, знакомый по плану, начерченному настоящим Митряевым. — Ну, здравствуй, хоромина!… Сколько же лет я в тебе не был?… Лет пятнадцать?… Нет, больше! — В голосе Платайса звучало неподдельное волнение. — Мэри! Я здесь и родился!… Нравится тебе этот дом?
— Не очень, папочка! — хрипловато ответил Мика и прокашлялся, чтобы голос стал потоньше.
— Ваша дочка простыла в дороге? — спросил управляющий. — Можно ванну истопить горячую. Только служанки в доме нет. Я всех слуг уволил, чтобы не платить даром.
— Не надо! — отказался Платайс. — Ванну истопите вечером… А у Мэри это после тифа, да ещё и воспаление лёгких было.
— То-то я смотрю — волоски короткие! — посочувствовал управляющий.
«Глазастина длинноногая!» — про себя обругал его Мика.
— Жду вас в кабинете, — сказал Платайс, остановившись у одной из дверей.
— Слушаюсь!
Управляющий кивнул головой и понёс чемоданы дальше — в спальню.
Кабинет был обставлен вполне современной мебелью. Большой стол с богатым чернильным прибором и дорогими костяными счетами. Диван и три кожаных кресла. По стенам — шкафы с застеклёнными дверцами, на полках — конторские книги. У камина — новая полированная качалка с длинными выгнутыми полозьями. И только за столом стояло очень старое широкое дубовое кресло с высокой, как у трона, фигурной спинкой и толстыми подлокотниками.
Платайс заинтересовался этим креслом, а Мика забрался в качалку. Такой штуковины он никогда не видывал. Тяжёлая, с хорошо подогнанными полозьями, она закачалась плавно и бесшумно.
— Мэри! — одёрнул сына Платайс. — Не увлекайся!
Постучав, вошёл управляющий, снова сдержанно поклонился и прищурил без того маленькие острые глаза.
— К вашим услугам.
— Садитесь! — предложил Платайс. — И расскажите мне о брате. Я ведь ничего не знаю. Мне только во Владивостоке сообщили о его кончине, но что и почему — никаких подробностей.
— Кто сообщил? — глядя на свои острые колени, спросил управляющий.
— Я привык спрашивать, а не отвечать, — сухо произнёс Платайс. — Прошу учесть это на будущее. Но для первого раза отвечу: мой давний токийский друг — генерал Оой из тёплых ко мне чувств очень заинтересован, чтобы оставленное братом наследство целиком, без потерь перешло в мои руки.
— Пока не пропал ни один гвоздь! — хмуро сказал управляющий. — Вы сможете в этом убедиться, прочитав завещание. В нем перечислено все.
— Где же оно?
Управляющий достал из кармана длинный ключ со сложной бородкой.
— Пожалуйста… Секрет сейфа, надеюсь, вы знаете?
Платайс задумался.
— Я здесь не был больше пятнадцати лет…
Управляющий перебил его:
— А сейф установлен ещё вашим батюшкой — лет сорок назад!
Платайс зашёл за стол, сел в старинное дубовое кресло и на секунду прикрыл глаза, делая вид, что старается припомнить секрет сейфа.
Недаром Платайс провёл с Митряевым несколько дней и ночей, по капле выжимая из него необходимые сведения о брате, об отце, о Чите, о доме, о сейфе… Замочная скважина — в левом подлокотнике кресла. Повернуть два раза… А что, если Митряев и сам забыл секрет замка или умышленно сказал неправду?…
Но пока все сходилось. Платайс нащупал в подлокотнике отверстие, вставил ключ. Кресло с круглым куском пола под ним медленно повернулось, и Платайс оказался сидящим лицом к стене. Одновременно отъехала в сторону деревянная панель и открылась толстая стальная дверца сейфа.
«Здорово!» — восхищённо подумал Мика.
Платайс повернулся к управляющему.
— Ваше недоверие становится оскорбительным.
— Я обязан проверить!
— Похвально! Но не хватит ли проверок? Или нам придётся расстаться.
— Как вам будет угодно!
— Хорошо! Мы вернёмся к этому вопросу, когда вы введёте меня в курс всех дел. Достаньте завещание… А ты, Мэри, иди погуляй!
Мика выбежал во двор и вздохнул с облегчением. Ему было трудно вести эту опасную игру. Он боялся, что каким-нибудь движением или словом подведёт отца. Лучше быть подальше, чтобы не помешать, не сбить чем-нибудь.
Услышав шаги мальчика, овчарка подбежала к крыльцу. Она уже успела обследовать весь двор и взяла его под свою охрану.
— Ну что, Чако? — шепнул Мика. — Что тут интересного — показывай!
Они обошли вокруг дома, заглянули в пустовавший флигель для слуг, в амбар, в сарай. Под старым кедром стояла скамья. Мика решил отдохнуть. Вокруг было тихо-тихо. Гулко шлёпнулась кедровая шишка. Щёлкая свежие орешки, мальчик задумался.
До приезда в Читу ему представлялись захватывающие истории: перестрелка, бегство, опять пальба, погоня. И везде и всегда побеждают они с отцом. А здесь не было ни бегства, ни стрельбы. И победа теперь не казалась лёгкой и быстрой. До провала было гораздо ближе. И сам провал мог быть до обидного будничным — без погони, без боя. Стоит управляющему догадаться, что Мика — мальчишка, и всему конец.
Мика придирчиво осмотрел платье, поправил шляпку, чулки, поглядел на большие туфли. Они точно выросли за это время, стали невозможно огромными. Сейчас он готов был обрубить на ногах пальцы, лишь бы надеть маленькие туфельки.
Стало жарко. Он хотел ладонью вытереть мокрый лоб, но вовремя вспомнил уроки тёти Майи и вынул платок. Из кармана выпал кусочек мела — того самого, которым, выполняя приказ командира, он рисовал птичек. Сколько этих белых трясогузок осталось красоваться и на деревьях, и на домах, и на вагонах! Мика не верил, что Цыган и Трясогузка могут разыскать его. Но приказ есть приказ, и Мика везде, где мог, рисовал птичек.
— Идём-ка! — сказал он овчарке. — Есть дело!
Они вышли за ворота. Выбрав в заборе широкую и гладкую доску, Мика привычно нарисовал трех хвостатых пташек.
На колокольне, белой свечой вздымавшейся над окраинными домишками, ударил колокол.
В ПРИФРОНТОВОЙ КРАПИВЕ
В те дни Чита, захваченная семеновцами и японскими оккупантами, была «пробкой», которая заткнула железную дорогу и мешала продвижению Красной Армии, освобождавшей Дальний Восток. Для решающего штурма к городу подтягивались красноармейские части. С одним из эшелонов, подходивших с запада, приехали Цыган и Трясогузка. Они уже знали, что дальше по железной дороге проезда нет. Надо было искать обходные пути.
Короткое совещание со своим единственные подчинённым Трясогузка провёл на заброшенном огороде, густо поросшем крапивой.
— Думай! — приказал командир. — Сиди и думай, как пробираться дальше.
Цыган почесал обожжённую крапивой ногу и сделал сосредоточенное лицо. Оба молчали несколько минут.
По одежде, по лицам было видно, что ребята долго добирались до этой прифронтовой станции и ехали не в спальном вагоне прямого сообщения. В них ничего не осталось от тех приглаженных мальчишек, которые несколько месяцев жили в домике старых учителей, мылись по утрам, завтракали ровно в половине девятого и по будильнику начинали слушать урок. Они опять превратились в обычных беспризорников.
— Придумал? — спросил командир.
— Придумал.
— Ну?
— Надо позавтракать.
Раньше за такой ответ Цыган обязательно получил бы затрещину. Теперь времена изменились. Трясогузка командовал культурно. Он даже не замахнулся. Обжёг Цыгана крапивным взглядом и сказал:
— Ладно! Еда будет!… Сиди и думай!
Он ушёл, осторожно раздвигая жгучие стебли.
Обычно еду добывал Цыган. Надо бы и сегодня послать его. Но командир погорячился. Отступать было поздно, и он поплёлся к станции, забитой войсками.
На станции и вокруг неё завтракали и отдыхали перед отправкой на передовую бойцы одного из полков. Стояли пирамиды винтовок, серыми грудами лежали скатки. Разбившись повзводно, красноармейцы получали у походных кухонь кашу, чай и хлеб.
Здесь было где развернуться Цыгану. Он бы не вернулся пустой. А Трясогузка не знал, с чего начать. Особенно опасался он политработников. Ни один из них не пройдёт мимо беспризорника. Обязательно прицепится и не отстанет, пока не отправит с кем-нибудь в тыл со строгим наказом — сдать в ближайшую деткомиссию.
Трясогузка так навострился, что мог издали безошибочно отличить политработника от любого другого командира. Но и других надо было бояться. Несдобровать, если подумают, что он воришка. Ведь всякое бывает. Беспризорник — он и винтовку по глупости украсть может. Или котелок «уведёт».
И решил Трясогузка идти открыто, напрямик, чтобы никто не мог принять его за воришку. У водокачки нашёл он старое, но довольно чистое ведро, прикрыл дырявое дно широкими листьями лопуха, выбрал кухню, у которой стояла самая короткая очередь, деловито направился к ней и пристроился сзади последнего бойца.
Это был пожилой красноармеец в полинявшей гимнастёрке с заплатами на локтях. Боец повернулся и с удивлением оглядел и мальчишку, и ведро.
Трясогузка стоял с независимым видом, будто ему так и положено — стоять в этой очереди.
— Ты… чего? — спросил красноармеец.
— А ты чего? — ответил Трясогузка.
Встречный вопрос озадачил бойца.
— Я?… Я — за кашей.
— И я не за щами! — отрубил Трясогузка.
Красноармейцы из очереди стали оглядываться. Увидев мальчишку с большим ведром, они заулыбались.
— На взвод берёшь или на роту? — крикнул кто-то.
— На армию! — отрезал Трясогузка под общий хохот.
На любой вопрос он отвечал резко и быстро, не задумываясь, но не забывая смотреть по сторонам: нет ли поблизости политработника.
— Ты откуда? — спрашивали у него.
— Я не откуда, я — куда!
— Ну и куда же?
— В Читу!
— Рано ты туда собрался — мы ещё семеновцев оттуда не вытурили!
— Нам ждать некогда! Мы сами эту пробку выдернем!
— Ишь ты! Про пробку знает! — удивились красноармейцы. — А штопор-то есть?
— Мы все имеем!
— Кто ж это — вы?
— Я сказал — армия! — Трясогузка многозначительно щёлкнул по ведру.
— А ну — расступись! — крикнул бойцам стоявший перед Трясогузкой красноармеец. — Накормим эту армию! Пусть пробку вышибает!
Трясогузку подтолкнули к кухне. Повар заупрямился, но вокруг так загалдели, что он махнул рукой и опрокинул в ведро три полных черпака каши…
К Цыгану Трясогузка пришёл без ведра — спрятал его в крапиве. Спрятал и появился с постным лицом. Спросил не очень грозно:
— Придумал?
«Плохи дела у командира! Не выгорело с едой! Это тебе не приказы приказывать!» — подумал Цыган и сказал:
— Есть на примете один номерок… Силовой… Только в цирке силовиков чистым мясом кормят!
— Какой номерок — выкладывай!
— А такой — пехом!
— Пехом? Через фронт? — переспросил Трясогузка. — Тебя за этот номерок не только мясом, а и кашей кормить не стоит!… Были бы у меня резервы — списал бы я тебя в обоз или вообще выгнал из армии!
Трясогузка зашёл за кусты, вернулся победителем и торжественно поставил перед Цыганом ведро с кашей.
— Помолись на командира и ешь!…
ОМУЛЕВАЯ БОЧКА
Линия фронта пересекала и железную дорогу, и реку Ингода. Она начиналась где-то у границы и протекала вблизи Читы. К этой реке, которую никак нельзя было миновать, и подошли вечером боец и командир армии Трясогузки.
— Устал? — спросил командир.
Цыган устал меньше Трясогузки.
— Можно ещё — пока не стемнеет.
— Не спорь! — прикрикнул командир. — Вижу — устал!… Привал! — и он первый не сел, а свалился в густой брусничник.
Река просматривалась очень далеко — до самого изгиба. Казалось, что там она упирается в лес и больше никуда не течёт. Из-за леса изредка долетали пушечные выстрелы. Отдалённые, еле слышные. А здесь было мирно и спокойно. Но и тут когда-то шли бои. На высоком пригорке виднелись опустевшие окопы. Внизу, у воды, зияла воронка. Крупный снаряд угодил под корни высокой сосны, выкорчевал её и сбросил в реку. Сосна лежала в воде, цепляясь за берег одним суком.
Прогудел какой-то жук. Сухо ударился в гитару, висевшую у Цыгана за спиной. Трясогузка приподнял голову, но так ничего и не сказал. Вымотался мальчишка. Цыган понимал это и щадил командирское самолюбие. Он перекинул гитару и тихонько запел:
Славное море — священный Байкал, Славный корабль — омулёвая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал…
Песня всегда вовремя. Трясогузка слушал дружка, и усталость постепенно уходила.
— А кто этот — Баргузин? — спросил он. — Кавказец?
— Ветер, — задумчиво ответил Цыган.
— А бочка омулёвая?
— Бочка как бочка… А омуль — рыба… Её в бочках засаливают.
— Почему же корабль?
— Захочешь с каторги смотаться — поплывёшь и в бочке!
И опять они долго молчали. Трясогузка даже вздремнул, глядя на мелкую речную рябь. И привиделось ему в полусне, что плывёт он в таинственной омулёвой бочке, а на шесте вместо паруса — замызганный пиджачишко, и какой-то грузин дует в него, широко оттопырив щеки.
Открыл глаза — ни грузина, ни бочки. Пусто на реке. Лишь сосна чуть колышется на воде у берега. Смотрел-смотрел на неё Трясогузка и вдруг расплылся в счастливой улыбке.
— Я отдохнул, — сказал Цыган. — Могу идти дальше.
— Можешь! — весело подхватил командир. — Разрешаю! Валяй-топай по бережку! А я поплыву!… Жаль, что бочку забыл прихватить, но зато есть у меня сосна! Сосенушка! Да она обоих нас выдержит, и ещё место останется!… За мной!
Они скатились к воде и осмотрели свой будущий корабль. Сосна была толстая и густая. Большая часть веток скрывалась под водой, но и тех, которые торчали вверх, хватало, чтобы надёжно спрятать двух-трех человек. И самое главное — сосна держалась за берег одним суком. Сломай его — и корабль отчалит.
Трясогузка уже не чувствовал никакой усталости. Он опять превратился в волевого командира. Приказы посыпались один за другим. Цыган сбегал к окопам, разыскал и принёс несколько досок. Пока Трясогузка устраивал под гущей веток удобное сиденье, Цыган притащил большой камень, перебрался с ним с берега на сосну и, когда командир приказал отчаливать, со всей силы обрушил камень на сухой сук. Тот надломился, и берег стал медленно отдаляться.
— Славный корабль — омулёвая бочка! — фальшиво и радостно пропел Трясогузка.
— Кто надоумил? — спросил Цыган, усаживаясь на доску позади командира.
Трясогузка предпочёл не отвечать.
Сумерки сгущались. Сосну вынесло на середину реки. Справа и слева уплывали и растворялись в вечерней дымке прибрежные деревья. За ними уже ничего не было видно — сплошная тёмная синева.
— А вдруг нас к белякам прибьёт? — прошептал Цыган.
— Ты не того бойся! — тоже шёпотом ответил Трясогузка.
— А чего?
— Красных!… Вот к ним прибьёт — хана! Детдома не миновать!
— Лучше в детдом, чем к семеновцам! — возразил Цыган.
— Дура! — не зло обругал его Трясогузка. — Сравнил детдом с белыми! Детдома бояться нечего, только неохота туда. Пока тебя там кормят да учат, никаких семеновцев не хватит — всех расколошматят! И так уж почти никого не осталось… Колчака нету? Нету! Выйдешь из детдома, как в рай. Сидят вокруг люди под деревьями и Микины ананасы лопают. Спросят у тебя: а где ты был, когда мы воевали?…
Сосна, царапая сучьями дно на перекате, миновала изгиб реки. Впереди замерцали огоньки. На берегу стояли части второго эшелона красных. Горели костры. Ржали лошади.
— Помкомвзво-о-од! — пролетел над водой звонкий голос.
Мальчишки больше не разговаривали: по воде даже шёпот слышен далеко. Молча следили они за огоньками. Одни пропадали сзади. Впереди показывались новые. Но чем ближе к передовой, тем реже попадались они. Здесь соблюдали маскировку. Наконец оба берега погрузились в полную темноту и слились с чёрной водой. На небе не было ни звёздочки. Сосна плыла так плавно, что мальчишкам почудилось, будто все остановилось, даже время. Это было очень неприятное ощущение. Они обрадовались, когда на берегу неожиданно затарахтел пулемёт. Пока он стрелял, за стволами деревьев пульсировало бледно-оранжевое пятно. Оно хоть и медленно, а все-таки двигалось — значит, сосна плыла.
И опять наступила беспросветная тьма. И опять остановилось время. Сколько прошло: полчаса, час или пять часов — ни Цыган, ни Трясогузка не могли определить даже приблизительно. В глазах рябило, и они не сразу поверили, что впереди снова мелькнул огонёк.
Но вот блеснул ещё огонёк, третий, четвёртый, — и все вернулось на свои места: и река, и берег. И время снова стало ощутимым.
— Передовую проплыли! — повернувшись к Цыгану, прошептал Трясогузка. — Тут — умри! Тут не детдомом, а пулей пахнет!
Теперь сосна плыла в расположении семеновских войск. Мальчишки устали от долгого напряжения и все чаще клевали носами. Цыган стукнулся лбом в спину Трясогузки. Командир повернулся, заботливо придвинул обмякшего дружка к толстому суку.
— Обхвати, а то ещё нырнёшь в воду…
Так они плыли ещё несколько часов, пока на посеревшем небе не проявились зазубрины еловых макушек.
Трясогузка потряс Цыгана за плечо.
— Проснись — светает!
— Я не сплю… Просто кимарю… А что? Это была шикарная ночная пантомима!
— Куда шикарней! — усмехнулся Трясогузка. — Ты ещё сухой? Сейчас будешь мокрым!
Залезать в воду мальчишкам не хотелось, но на сосне к берегу не подгребёшь — сил не хватит, а ждать, когда она сама уткнётся в отмель — опасно. Станет совсем светло — их наверняка заметят.
Мальчишки разделись, связали одежду в один узел. С ним поплыл Трясогузка. Цыган грёб правой рукой, а в левой держал над водой любимую гитару.
САЛЮТ
Желтолицый круглоголовый солдат-японец быстро, маленькими шажками ходил вдоль длинного фуражного склада, стоявшего недалеко от читинского вокзала. На винтовке поблёскивал широкий штык.
Объект, который охранял часовой, был важным. Теперь все, что можно увезти из Советской России, стало для японцев важным. Они ещё хозяйничали на огромной территории от Владивостока и почти до Байкала, но командование японских оккупационных сил уже понимало, что скоро им придётся убраться на свои острова.
Не очень доверяя Семёнову, Каппелю, Унгерну и другим ставленникам внутренней контрреволюции, японцы сами охраняли складские помещения, в которых накапливалось, готовилось к отправке награбленное добро. С оккупированной территории они увозили не только ценное оборудование, но и хлеб, и лес, и фураж. По железной дороге днём и ночью шли на восток грузовые составы.
К полудню на дороге, ведущей к одному из складов, показался длинный обоз с прессованным сеном. Обоз прибыл издалека. Лошади притомились и плелись, понурив головы. Возчики были в пыли с ног до головы.
Рядом с одной из тяжело нагруженных подвод шёл старый сибиряк с окладистой бородой. Вожжи намотаны на кулак. За поясом — топор и кнут. На ногах — лапти и онучи. Лапти не назовёшь хорошей обувью. Но на ногах этого бородача и лапти, и онучи выглядели вполне уместно. И шёл он широко, свободно, красиво, — другой и в яловых сапожках так пройти не сможет.
Этого человека все называли Лапотиком. Он сам плёл себе лапти, надевал их в тот день, когда спадали зимние холода, и не снимал до новых морозов.
Работал Лапотник ломовым извозчиком. Любил дальние поездки за сеном, за лесом. Другие ломовики прятались от японцев — боялись, что их пошлют за Читу, в какое-нибудь село. А он охотно соглашался ехать хоть за сто вёрст.
Это был партизанский связной. Через него Карпыч передавал те скудные сведения, которые ему удавалось добыть в Чите.
Обоз остановился у склада. Японец молча распахнул одну за другой две двери. Началась разгрузка. Возчики неторопливо носили на склад сено, спрессованное в метровые кирпичи.
Заднюю подводу разгружал длиннорукий вихрастый парень. Он уже перетащил на склад часть груза, вернулся за новой ношей, снял с воза очередной кирпич прессованного сена и вдруг заулыбался, замахал руками, подзывая других извозчиков. В углублении крепко спали два паренька.
Разгрузка приостановилась. Каждый, кто подходил к подводе, сначала удивлялся, а потом невольно улыбался. И все молчали, словно боялись разбудить лежавших в обнимку ребят.
— Видать, ночью залезли, — тихо сказал вихрастый парень.
Мальчишки ничего не слышали. После трудной ночи на реке беспробудно сладко спалось им в сене.
Подошёл и японец, поглядел и, не снимая винтовку с плеча, нажал большим пальцем на спусковой крючок.
Грянул выстрел.
Точно взрывом подбросило ребят. Они очумело спрыгнули с телеги и, как слепые, не разбирая дороги, понеслись прочь.
Японец хохотал. Его лицо было похоже на большую растрескавшуюся репу. Извозчики хмуро молчали. Рука Лапотника, очутившаяся на топорище, побелела от напряжения.
Похохотав вдоволь, часовой перезарядил винтовку и вернулся к складу. А мальчишки, напуганные до полусмерти, все ещё бежали, не зная куда.
Низко над городом пролетал аэроплан с красными звёздами на стрекозьих крыльях. Ребята не видели его, но они услышали новые выстрелы и припустились ещё быстрее. Им казалось, что из-за них всполошилась вся Чита.
— Вот это да-а! Салютом встречают! — со страхом и восторгом крикнул на бегу Трясогузка. — Теперь небось настоящую облаву устроят!… Жми за мной!
— Жму-у! — простонал Цыган, придерживая болтавшуюся за спиной гитару.
Лётчик сбросил листовки и улетел на запад. Стрельба утихла. Ребята опомнились и поняли, что никто не собирается гнаться за ними.
— Куда мы бежим? — удивился Цыган, останавливаясь. — Мы же от города!
Остановился и Трясогузка, сердито посмотрел на дружка.
— Эх ты! А ещё болтал, что жил в Чите.
— Я же за тобой бежал! — возмутился Цыган.
— Ну и что?… Сказал бы: влево или вправо!… Может, это и не Чита совсем!
Мальчишки огляделись. Рядом — железнодорожные мастерские. Кругом валялись старые шпалы, рельсы, на колее впритык друг к другу стояли ржавые колёсные пары. Сзади виднелся склад и вокзал. Ещё дальше — белела вершина колокольни.
— Чита! — уверенно сказал Цыган.
— Веди! — приказал Трясогузка.
— Куда?
Командир раздумывал минуты две. Больше молчать было неудобно, и он дал новую команду:
— Садись!
Они сели на шпалу и уставились друг на друга.
— Только не приказывай думать, — попросил Цыган, — Жрать охота!
Трясогузка скептически оглядел дружка.
— Сам тощий, а брюхо — прорва!… Ты о чем-нибудь другом думать можешь?
— Сейчас не могу! — признался Цыган. — Сосёт…
— Со-сет! — передразнил его командир. — Сосочку хочешь?
Трясогузка злился потому, что и сам страшно хотел есть, но не знал, где добыть еду. Это не у своих кашу получать вёдрами! Тут семеновцы! Им не скажешь, что приехал читинскую «пробку» выдёргивать!
— Ты вот что! — откипев, сказал Трясогузка. — Ты давай мне про Читу все выкладывай!
И Цыган послушно начал рассказывать, где стоял их передвижной цирк, в каком трактире они обедали с отцом и матерью, по каким улицам ходили после представления, что видели.
— Не то! Не то! — повторял командир.
— А про что ты хочешь? Спроси — я вспомню!
Трясогузка не знал, что спрашивать, и безнадёжно говорил:
— Ладно, дуй подряд!
Цыган припомнил, что иногда ему поручали важное дело — следить за мальчишками, которые подбирались к цирку сзади и, отогнув брезент, старались пролезть без билетов.
Трясогузка оживился.
— Беспризорники?
— Не знаю.
— А были в Чите беспризорники?
— Где их нет!
— Та-ак! — Командир заложил ногу за ногу и подрыгал носком. — Скоро будем обедать!…
Но он ошибся. Обед в тот день они получили очень поздно. Долго бродили по улицам Читы. Побывали на вокзале, на базаре. Ходили они не бесцельно. Командир составил чёткий план из двух основных пунктов. Во-первых, в четыре глаза смотреть на дома, будки, деревья — на все. Кто знает, где Мика нарисовал условный знак? Однажды птичка сидела на шпале, а здесь он мог и на трубе её нарисовать. Во-вторых, надо найти хотя бы одного беспризорника. Командир хорошо знал этот народец и рассчитывал на его помощь.
Рисунков и надписей на заборах хватало. Всяких — и смешных, и глупых, и злых. Но птички с растопыренными крыльями не было ни одной. Не попадались и беспризорники.
— Может, они тут вывелись? — тоскливо произнёс Цыган, которому казалось, что вместо живота у него образовалась пустота и её уже ничем и никогда не наполнишь.
— Не вывелись! — успокоил его Трясогузка.
Прохожие не обращали внимания на двух бродивших по улицам мальчишек. Значит, в Чите привыкли к беспризорникам. «Но где же они? — удивлялся Трясогузка. — Не выходной же у них день сегодня!»
Маленького и жалкого беспризорника они увидели у открытых ворот, за которыми на просторном дворе дымила походная кухня. Рядом на толстом чурбане лежала широкая доска, а на ней — большущий кусок мяса. Его только что вынули из котла. От мяса валил пар. Солдат кашевар сидел около сарая и точил длинный нож.
Беспризорник, вытянув тонкую шею, следил за солдатом — ждал, когда тот отвернётся от кухни.
Трясогузка насмешливо оттопырил губы. Цыган сокрушённо покачал головой. Мальчишки поняли, на что нацелился беспризорник, и сразу же узнали в нем глупого новичка, который ещё никогда в жизни не воровал и, наверно, никогда не сможет. Слишком он наивен и нерасчётлив. Уставился на добычу и не видит, что делается за спиной, хотя это как раз самое главное. Бежать-то ему придётся с добычей назад, а дорога перерезана: Цыган и Трясогузка были уже совсем близко. Да и сама добыча, конечно, не та. Как он побежит с этим мясом, если оно только-только из кипятка вынуто? За пазуху не сунешь и в руках не понесёшь — горячо.
«Марала!» — презрительно подумал Трясогузка и хотел повторить это слово вслух, но беспризорник как-то нелепо согнулся и на цыпочках засеменил к кухне.
Все произошло именно так, как предполагали опытные в таких делах Цыган и Трясогузка. Беспризорник подскочил к чурбану, вцепился в мясо, вскрикнул от боли и растерялся. Ему бы со всех ног назад, а он беспомощно тряс ошпаренными руками и дул на растопыренные пальцы. А потом даже Трясогузке и Цыгану стало страшно. Разъярённым быком налетел кашевар. Беспризорник повис над землёй. Одной рукой солдат держал его за шиворот, а другой рассекал ножом воздух у самого носа мальчишки. Ругался кашевар виртуозно. Он выпалил залпом десятка два забористых словечек и по-футбольному выбил беспризорника со двора.
Мальчишка перевернулся через голову, очутился на ногах и, не оглядываясь, помчался прочь.
— Кульбит с переходом в быстрый карьер! — определил Цыган этот номер. — А жаль — мы бы помогли ему съесть мясо!
— Идём! — позвал Трясогузка. — Нам этого малыша терять нельзя!… Как улепётывает! Он до самой хазы не остановится! А мы — за ним! Понял?…
ХРЯЩ
Был за Читой карьер, в котором добывали песок, а рядом — лесопилка. Она уже не работала. Оборудование увезли. Крыша и стены обвалились. Уцелела только бывшая котельная. Она служила для читинских беспризорников пристанищем. Здесь они ночевали, здесь делили добычу.
Руководил ими бывалый беспризорник Хрящ. Особой силой он похвастаться не мог, но был похитрее, поумнее других и лицом выделялся. Угловатое, сухое, оно, казалось, состояло из одних хрящей. Глаза серые, но выразительные, властные и часто страшные. Он мало говорил. Взглянет
— и все понимают, что приказал Хрящ.
Следуя за маленьким беспризорником, Трясогузка с Цыганом подошли к царству Хряща.
Среди торчавших во все стороны балок лесопилки кто-то промелькнул и спрятался за обвалившейся трубой. Трижды раздался тонкий предупреждающий свист.
— Служба у них поставлена хорошо! — похвалил караульного Трясогузка.
— А сколько их? — с тревогой спросил Цыган. — Изобьют ещё!
— Накормят! — уверенно ответил командир, будто шёл к старым и добрым друзьям.
Больше никто не появлялся на развалинах, но, когда мальчишки подошли поближе, из всех щелей, как муравьи, поползли беспризорники и плотным кольцом окружили незваных гостей.
— Здорово! — по-свойски приветствовал их Цыган.
Никто не ответил, но и никто пока не лез драться. Все ждали Хряща. Как он скажет — так и будет.
Круг разомкнулся. Из пролома в стене вышли два высоких и сильных парня. Они вынесли плетёное кресло. За ними, не спеша, появился и сам Хрящ в мятом, похожем на гофрированную трубу цилиндре и в чёрной поддевке. Сел в кресло. Телохранители встали по бокам.
— Здорово! — повторил Цыган.
Хрящ даже не взглянул на него. Он смотрел на гитару, шевелил хрящеватым носом. Перевёл взгляд на правого телохранителя, спросил:
— Что за артисты?
— Пожрать бы! — сказал Трясогузка. — А потом и поговорить можно…
Тонкие губы Хряща чуть раздвинулись, и вся толпа беспризорников захохотала. Царёк перестал улыбаться, и все умолкли. Короткий кивок головы — и правый телохранитель пошёл на Трясогузку, но отлетел, наткнувшись на встречный удар. Царёк взглянул влево — на второго телохранителя. Теперь уже два парня пошли на Трясогузку.
Несдобровать бы ребятам, если бы не гитара. Цыган сдёрнул её с плеча, ударил по струнам и запел тоскливым, отчаянным голосом:
Ах, где мой табор, маманя с батей?…Это было так неожиданно, что все замерли. А Цыган прошёлся пальцами по струнам, заставил гитару заплакать и пропел, точно пожаловался на свою горькую судьбу:
Пришли солдаты да на закате…Разжались кулаки у беспризорников.
И грянул выстрел!— с болью пел Цыган.
Второй и третий!… И сиротою рассвет я встретил…Погасли злобные огоньки в глазах беспризорников. Гитара рыдала, а Цыган пел — рассказывал о горе, о сиротской жизни. Хрящ надвинул на глаза мятый цилиндр и, когда Цыган замолчал, глуховато объявил:
— Обед!
Потом он подозвал Трясогузку и Цыгана и грязным пальцем с длинным ногтем указал на самое почётное место — у своих ног.
Лужайка перед развалинами превратилась в столовую. Для гостей на земле постелили салфетки — листовки, которые днём лётчик сбросил с аэроплана. На эти салфетки телохранители выложили хлеб, колбасу и даже сахар. Цыган с Трясогузкой набросились на еду. Жевал что-то и Хрящ, и телохранители, и все беспризорники, рассевшиеся вокруг кресла царька. Никто не разговаривал. Слышалось чавканье и тихое всхлипывание.
Трясогузка оглянулся, но не увидел, кто плачет.
— Кто это? — спросил он у Хряща.
— Малявка! — с презрением ответил царёк.
Услышав своё прозвище, из-за груды битого кирпича выглянул тот малыш-беспризорник, который пытался стащить мясо.
— Ты чего? — крикнул Цыган. — Руки болят?
Малявка замотал головой и жалобно заморгал глазами. На грязных щеках белели промытые слезами извилистые полосы.
— Есть хочу! — пропищал он.
— Не заработал! — изрёк Хрящ.
Цыган подмигнул Малявке, вскочил на ноги и разыграл всю сцену, которая произошла у походной кухни. Он был то Малявкой, то кашеваром. И голос у него менялся. Он то пищал, как Малявка, то рычал и ругался, как тот солдат. Беспризорники хохотали. Улыбался и Хрящ тонкими губами. А Цыган, показывая, как Малявка вылетел из ворот, несколько раз перевернулся в воздухе через голову и попросил у царька:
— Накорми ты его!
Хрящ повелительным жестом вытянул руку. Телохранитель вытащил из кармана большой кусок сахару и положил ему на ладонь. Сахар полетел через головы беспризорников. Малявка поймал его, спрятался за груду кирпича, и оттуда сразу же долетел громкий хруст.
За обедом Трясогузка поднял листовку и прочитал первую строку:
— «Товарищи солдаты! Против кого вы воюете? Атаман Семёнов и японские генералы обманули вас!…» Откуда это у тебя? — спросил он у Хряща.
— С неба! — усмехнулся царёк.
— Спрячь подальше, а то сам на небо попадёшь!
— Ты не пугай! — нахмурился Хрящ. — Поел и отвечай: кто такие, зачем притопали?
Ссориться с царьком было невыгодно, и Трясогузка сказал уважительно:
— Помощь твоя нужна. Без тебя — амба!
— Амба! — подтвердил польщённый Хрящ и выжидательно произнёс: — Ну-у?
— Ищем мы птичку! — понизив голос, таинственно сообщил Трясогузка. — Мелом нарисована… Вот так нужно! — он чиркнул по горлу пальцем. — Позарез!… Не видал где-нибудь в городе?
— Может, и видал! — неопределённо ответил Хрящ и наклонился к Трясогузке. — А мне отколется?
— Законы знаем! — многообещающе прошептал тот.
— Урки! — повелительно, крикнул царёк беспризорникам. — Кто птаху видал? Мелом намалёвана…
Минуту длилось молчание. Потом встал один мальчишка, проглотил комок творога, вытер руки о штаны и сказал:
— Видал… Мелом… Три штуки… И крылья — в стороны.
— Иди сюда, Конопатый! — приказал Хрящ. — Где?
Мальчишка подошёл. И лицо, и шея, и даже уши у него были густо усыпаны веснушками. Из-под рыжих и каких-то пушистых ресниц хитренько поблёскивали быстрые глаза.
— Где? — переспросил он и зажмурился. Распахнув рыжие пушистые ресницы, он проговорил отрывистой азартной скороговоркой: — Домина там — во! Крыши не видать! И собака — морда страшенная! Сунулся — она на меня! Я — ходу!… А пожива там есть! Фраер один туда въехал — богач из Японии! С дочкой! Шляпа — зонтик!
— Ты про птицу, про птицу! — напомнил ему Трясогузка.
Конопатый зажмурился, подумал и выпалил:
— На заборе… Справа от ворот… Пятая доска… Три птахи сидят.
— Отведёшь их завтра! — приказал Хрящ и добавил, грозно взглянув на Трясогузку: — Помни!
— Законы знаем! — повторил Трясогузка. — За нами не пропадёт!
ТУЧИ
Каждое утро к мрачному особняку Митряева подъезжал Карпыч, неторопливо слезал с козёл, раза три стукал кнутовищем в ворота и, услышав лай овчарки Чако, забирался на облучок и терпеливо ждал. Выходил управляющий и говорил, будет сегодня работа или нет. Чаще всего Карпыч приезжал не напрасно. У Платайса, вполне освоившегося с ролью Митряева, поездок было много. Он осматривал склады с товарами, доставшиеся ему по наследству, съездил на кладбище к могиле старшего Митряева, делал визиты представителям городских властей, встречался с деловыми людьми, вёл переговоры о продаже имущества.
Во время этих поездок Платайс подробно расспросил Карпыча и понял, что положение крайне сложное. Семеновская контрразведка зверствовала. Особенно отличался подполковник Свиридов — хитрый и дальновидный офицер. Аресты следовали за арестами. Одних расстреливали, других выселяли из Читы. Кроме Лапотника, Карпыч не мог назвать Платайсу ни одного человека, которому можно довериться. Конечно, в Чите были честные и смелые люди, но, чтобы найти их, требовалось время. А у Платайса его — в обрез.
Готовилось наступление красных. К этому моменту Платайс должен был разведать расположение семеновских войск и передать все сведения советскому командованию. В первый день наступления ему предстояло во чтобы то ни стало вывести из строя железную дорогу, чтобы семеновцы не могли отступить в Маньчжурию. Для одного человека это непосильная задача. Вот почему Платайс каждый день разъезжал по городу, заводил знакомства и искал, искал людей, на которых можно опереться.
В то утро Платайс уехал с Карпычем очень рано. Чуть позже ушёл и управляющий. Он похудел за это время, стал совсем тощий. Его мучили сомнения. Когда умер старший Митряев, управляющий почувствовал, что у него появилась возможность быстро разбогатеть. Он знал, что у его хозяина в России нет родственников. И вдруг пришла телеграмма от младшего Митряева. Это был удар. Рухнули мечты о богатстве.
Присмотревшись к новому хозяину и его дочери, управляющий решил, что рано отказываться от надежды разбогатеть. Он пока ещё не мог объяснить, когда и почему зародилось у него подозрение в том, что приехал не Митряев, а кто-то совсем чужой. С каждым днём это подозрение усиливалось. «А что, если сходить к подполковнику Свиридову?» — подумал управляющий и сам испугался. Риск был большой. Если это действительно Митряев, то за клевету придётся расплачиваться. У контрразведки расправа короткая. А если он все же окажется прав? Пусть самое ценное заберут японцы и семеновцы, но и ему, Алексею Ицко, останется достаточно.
Вышел управляющий за ворота, но ещё не знал, дойдёт ли до красного кирпичного здания контрразведки или передумает и вернётся обратно. Шорох за забором заставил его скосить глаза. Он увидел, как приоткрылся и быстро захлопнулся потайной глазок. Эта странная девчонка следит за ним. Но как она узнала, что в заборе есть глазок?
Неосторожность Мики сделала своё дело. Управляющий больше не колебался.
У подполковника Свиридова во всем были свои правила. Около дома контрразведки всегда дежурили часовые. Но они не останавливали входящих. Попасть в дом мог любой. Зато выйти из него было невозможно без провожатого — одного из помощников подполковника.
Управляющий подошёл к красному кирпичному зданию, подождал, пока ближайший часовой не взглянул в его сторону.
— Разрешите…
— Можно! — сказал часовой почти любезно. — Не заперто.
Ицко вошёл в дом. Светлый коридор. Несколько дверей учрежденческого типа. Ещё трое часовых. Видя, что вошедший не знает, куда идти, один из них спросил:
— Вам?…
— Я к подполковнику Свиридову, — выдавил из себя управляющий, ошеломлённый неожиданной простотой.
— Последняя дверь, — услышал он и, уже раскаиваясь в том, что рискнул зайти в это пугающее внешней благопристойностью логово, добрёл до указанной двери и, холодея, приоткрыл её.
Это была приёмная перед кабинетом подполковника. За столом сидел пожилой офицер с погонами капитана.
— Пройдите! — сказал он. — Подполковник Свиридов ждёт вас.
— Меня? — вырвалось у Ицко.
— И вас, и каждого, у кого есть дело… У вас оно, вероятно, безотлагательное?
Капитан встал, приоткрыл дверь в кабинет. Управляющий и не заметил, как очутился в мягком кресле. Свиридов заканчивал телефонный разговор. Он добродушно и подслеповато щурился. Мягкие пшеничные усы ещё более подчёркивали добродушное выражение лица. И голос его звучал задушевно и тепло.
— Да, да! Пожалуйста! — говорил он в трубку. — Приводите в исполнение… Только очень вас прошу — подальше от города.
До сознания Ицко с трудом дошёл смысл этих слов, а когда он все-таки понял, что Свиридов приказал кого-то расстрелять, ему захотелось бежать из этого уютного кабинета. Но подполковник улыбнулся гостю и спросил:
— Разрешите узнать, с чем пожаловали?
И тут Ицко почувствовал, что ничего конкретного сказать не может. Чтобы хоть как-то собраться с мыслями, он молча протянул Свиридову телеграмму о приезде младшего Митряева. Подполковник прочитал её, положил на стол, разгладил ладонью и произнёс:
— Понимаю… С этой телеграммы все и началось. Не так ли?
— Именно так! Так, господин подполковник! — подхватил Ицко и торопливо начал рассказывать о приезде наследника с дочерью.
Свиридов умел слушать, умел схватывать самое главное и принимать быстрые решения. Он только один раз прервал Ицко и, извинившись, вызвал в кабинет капитана. На оборотной стороне телеграфного бланка Свиридов аккуратно написал три вопроса:
1. Отношение японцев к господину Митряеву.
2. Куда он выехал из Владивостока — прямо ли в Читу.
3. Порода, масть и кличка собаки.
Передав телеграмму капитану, подполковник попросил:
— Постарайтесь в самом срочном порядке.
Адъютант прочитал текст телеграммы, вопросы, написанные Свиридовым, и спросил:
— А приметы людей, господин подполковник?
— Не стоит. Если… Вы понимаете? То о внешнем сходстве людей там позаботились, а про собаку могли забыть.
Капитан вышел. Ицко продолжал свой сбивчивый рассказ, а подполковник внимательно слушал и изредка задавал вопросы, короткие, цепкие.
— Не сохранились ли в доме фотографии младшего брата?
— Нету ни одной. Уничтожены ещё в русско-японскую войну.
— А образец почерка?
— Братья никогда не переписывались.
— Господин Митряев знает японский язык?
— Никак нет. Говорит, жена переводит.
— Наследство большое?
— Значительное.
Ицко был осторожен и старался скрыть то основное, ради чего он пришёл в контрразведку. Но подполковник хорошо знал таких людей. Он понимал, что не любовь к Семёнову или к японцам привела управляющего в его кабинет, а надежда поживиться, оторвать кусочек от наследства старшего Митряева. Оно должно быть богатым, не случайно младший Митряев бросил свои дела в Токио и приехал в охваченную пожаром Россию.
Чем больше говорил Ицко, тем любезнее становился подполковник. Дело начинало интересовать его по-настоящему.
Свиридов лучше других разбирался в военной и политической обстановке. Он не строил иллюзий и знал, что ни японцам, ни семеновцам не удержаться в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Рано или поздно, но их обязательно вышвырнут из России. И он готовился к безбедной обеспеченной жизни где-нибудь в Китае.
У атамана Семёнова под Читой стоял всегда готовый к вылету аэроплан с драгоценностями. У многих высших офицеров были специальные вагоны, в которых хранилось награбленное добро. Подполковник Свиридов аэроплана не имел, а вагоны считал опасной бессмыслицей.
Наступление красных могло быть неожиданным и таким стремительным, что некогда будет думать о вагонах. Свиридов хранил один небольшой чемодан, куда постепенно складывал крупные купюры в твёрдой иностранной валюте. Чемодан пока не был наполнен, и превращённое в деньги наследство купца Митряева могло туда вместиться. Лишь бы японцы не помешали. Младший Митряев — из Токио. Кто знает, какие у него там связи?
Это опасение подтвердилось. Контрразведка работала быстро и чётко. Ицко ещё находился в кабинете Свиридова, когда с телеграфа вернулся капитан с длинным мотком бумажной ленты. На ней в том же порядке, в каком были заданы вопросы, следовали ответы, которые подполковник счёл нужным прочитать вслух:
— «Первое. Личный друг генерала Оой. Второе. Выехал с дочерью в Читу с десятидневной остановкой на станции Хайлар в Маньчжурии. Третье. Овчарка. Светло-серая. Чако».
Ицко позеленел и сник. В ушах снова прозвучал приятный баритон подполковника: «Пожалуйста, приводите в исполнение… Только прошу вас — подальше от города». Но ничего страшного не произошло.
— Вижу, что все совпадает, — произнёс Свиридов. — А собака?
— И собака, — пролепетал управляющий. — Овчарка… Чако… Но… но не светло, а просто серая…
— Простите меня, но очень уж это тонко. Вам она кажется серой, а кому-то светло-серой. Восприятие цвета индивидуально и зависит от освещения.
— Что же… Как же мне теперь? — еле шевеля губами, спросил управляющий.
Свиридов молчал. Он не хотел ссориться с генералом Оой, который командовал японскими оккупационными войсками и мог сместить не только подполковника Свиридова, но и самого Семёнова. И все-таки управляющий вселил в подполковника смутное недоверие к Митряеву. Стоило ли сразу отказываться от этого дела?
Свиридов думал, а управляющий переживал страшные минуты. Наконец он не выдержал:
— Вы… вы отпустите меня?
— Что за вопрос! — воскликнул подполковник. — И вот вам мой совет: будьте внимательны к мелочам… Ну, а вход к нам, как вы убедились, всегда открыт…
Капитан вывел Ицко на улицу, а Свиридов долго сидел за столом и смотрел на опустевшее кресло. Подполковнику, как и управляющему, было жалко расставаться с мыслью о наследстве купца Митряева. Но подступиться к нему трудно, хотя и возможно. Если в Читу приехал подлинный Митряев, то надо дать ему возможность распродать все имущество, а затем… Затем — привычная для контрразведки операция. Митряев исчезает вместе с деньгами, а генерал Оой получает очередное донесение о зверствах забайкальских партизан, осмелившихся похитить его личного друга.
Если же это не Митряев, а советский разведчик, то ещё лучше. А как это проверить? Подключить к делу японскую разведку? Но можно ли тогда рассчитывать на пополнение чемодана?
Свиридов позвал адъютанта.
— Установите, пожалуйста, наблюдение за домом Митряева.
— Круглосуточное?
— Нет. Днём не надо. Будем считать, что Митряев умный и осторожный человек…
ПОДРУЖКИ
Они были очень разные и все-таки дружили. Варя — толстенькая, пухленькая девочка, завистливая и злая, вся в отца — хозяина самого большого в Чите трактира. Нина — дочь священника, задумчивая, добрая и застенчивая. Она никогда не приходила к подружке в трактир — боялась шума и пьяного гомона. Они встречались где-нибудь около церкви, ходили вместе купаться на речку или забирались на колокольню и подолгу смотрели сверху на город.
С колокольни хорошо был виден и дом Митряева. Во дворе всегда бегал пёс. Часто выходила девочка в модном платье, в лёгкой широкополой шляпе.
— Знаешь, кто это? — спросила как-то Варя. — Мне папа говорил. Это дочка одного богача из Японии… А мама днём и ночью думает, как бы их заполучить к себе!
— Заполучить? — не поняла Нина.
— Да! Чтобы они столовались у нас.
— А зачем?
— Какая ты смешная!… Выгодно — они же богатые!… Вам хорошо — церковь одна, никакой конкуренции! Они, наверно, самые дорогие свечи покупают?
— Они у нас ещё ни разу не были, — ответила Нина.
— Вон она! Вон! — крикнула Варя. — Погулять вышла… А платье опять новое! Сколько их у неё!…
Мика не предполагал, что за ним наблюдают с колокольни, но он уже привык держать себя в руках даже тогда, когда, казалось, никого поблизости не было.
Обмахиваясь японским веером, он погладил подбежавшего Чако и сел на скамейку у флигеля. Ему было скучно. Отец не брал его с собой и не рассказывал, куда ездит. Мика ничего не знал и удивлялся: если так работают все разведчики, то лучше и не быть разведчиком. Страху много — толку мало. Они уже который день торчат тут, в Чите, а ничего пока не сделано. Хоть бы произошло что-нибудь необычное!…
Чако, спокойно сидевший у ног Мики, вдруг коротко прорычал и сорвался с места. Сразу же у ворот кто-то испуганно завизжал. Мика оглянулся. Визжали две девчонки, а Чако мчался к ним огромными скачками. Сейчас набросится и разорвёт! Забыв обо всем, Мика сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Чако резко остановился, проехал на задних ногах по земле, обиженно проскулил и неохотно вернулся. Мика уже осознал свой промах: так свистят только мальчишки. Он разозлился и на себя, и на этих девчонок, из-за которых произошла грубая ошибка. Но тут же он допустил и вторую: как о штаны, вытер пальцы о голубое шёлковое платье. Чувствуя, что совсем выбился из колеи и делает все не так, как надо, он грубо спросил у девчонок:
— Вам кого?
Нина попятилась, но Варя взяла её за руку и поклонилась.
— Мы хотели познакомиться с вами, только собаки боимся.
— Она не тронет! — пробурчал Мика. — А познакомиться — это можно. Меня зовут Мэри.
Он присел, как учила тётя Майя, и обмахнулся веером. Ему и в самом деле было жарко.
Девчонки тоже назвали себя. Варя — громко и важно, Нина — чуть слышно.
— Как хорошо вы свистите! — воскликнула Варя. — И собака вас слушается превосходно!
— В Японии все хорошо свистят! — ляпнул Мика и подумал, что опять получилось плохо. Но врать — так врать! И он продолжал: — Там даже совсем могут не говорить: просвистят — и все понятно! — Он вытянул губы в трубочку и засвистел: — Фи-фу-фи-фи-фу…
— Что же вы сказали? — спросила Варя.
— Я сказал… Тьфу! Отвыкла от русского!… Я сказала: очень приятно видеть вас! Идёмте!
Девочки радостно заулыбались, а Мика яростно размахивал веером и ругал себя за эту оговорку. Они подошли к флигелю и сели на скамейку.
— Какая чудесная вещь! — прощебетала Варя, зачарованная ярким веером.
— Дарю! — Мика сунул веер ей в руку и спросил у Нины: — А тебе подарить?
— Что вы!
— А ты не бойся! — Мика полез в карман, вынул небольшое зеркальце с перламутровой ручкой. — Держи!
Девочки восторженно рассматривали подарки.
— Вам не жалко? — робко спросила Нина.
— Ха! — вырвалось у Мики. — У меня этой дряни по горло!
— Какая вы счастливая! — Варя с завистью посмотрела на Мику. — И все-то у вас есть! И все такое дорогое! И шляпка, и платье, и туфельки!
Мика подтянул ноги под скамейку, но Варя со скрытым злорадством успела отметить, что туфли у этой богачки больше, чем у неё. Невинно улыбнувшись, она спросила:
— Скажите, Мэричка! Правда, что у японок ножки малюсенькие?
— Было! — сказал Мика.
— Что было?
— Мода такая была… А потом император запретил! Теперь все наоборот!
— Разве это красиво — когда большие ноги? — удивилась Варя.
— Зато удобно! — ответил Мика и, чтобы навсегда покончить с опасным разговором, сказал: — У женщин они ещё не очень выросли, а у мужчин — во какие! — Он развёл руки на целый метр. — Лыж не надо! Забираются на Фудзияму… Это гора такая со снегом… И шпарят вниз без всяких лыж — на сапогах с толстыми подмётками.
Нина наивно заморгала глазами, а Варя не поверила.
— Я видела японских солдат — у них…
— То солдаты! — перебил её Мика. — А я про богатых говорю!
Теперь Варя поверила. Богатые — не как все люди! Чего только не придумают! Ей даже стало обидно, что её собственные ноги такие маленькие, бедняцкие. Она позавидовала большим туфлям Мэри. Везёт же богатым: побывала в Японии и — пожалуйста — какие ноги отрастила!
— А вы долго жили в Японии?
— Родилась там!
— Мэричка! — Варя стыдливо потупилась. — А мальчики там красивые? Умеют они ухаживать?
— Мальчики? — переспросил Мика, не ожидавший такого вопроса. — Дрянь.
— Что вы говорите?
— Дрянь! — повторил Мика. — И девчонки русские лучше японских!
Варя подумала, что эта похвала в первую очередь относится к ней, и с благодарностью чмокнула Мику в щеку.
Он вскочил и промычал какую-то неразбериху. Боясь выдать себя, он побежал к дому и уже с крыльца, одумавшись, крикнул:
— Ждите! Принесу кое-что!
Ждать пришлось довольно долго.
— Странная она и очень добрая, — сказала Нина.
— Все богачи странные! — пояснила Варя. — Ты бы посмотрела, что они в трактире делают! Лампы побьют и жгут деньги, чтобы светло было! С ума сойдёшь!… Или карнавал устроят: женщины — в мужских брюках, а мужчины — в платьях. До того перепутаются, что и не разберёшь!…
Мика вернулся с тремя куклами. Девчонки дружно ахнули. Это было чудо! Не куклы, а маленькие гейши с настоящими чёрными волосами, с закрывающимися глазами и с мелодичным перезвоном. Нарядные, стройные, высокие — Мике по колено. Живые феи из волшебной страны прекрасных карликов.
— Вам на память! — объявил Мика. — По штуке!
Он надеялся, что, получив эти подарки, девчонки убегут домой. Но они закружились с куклами в руках по двору. И Мике пришлось включиться в этот танец. Он прыгал, сердито подталкивал куклу коленом, и она звенела громко и жалобно. Этому веселью, от которого Мику мутило, как от касторки, не видно было конца.
«ПТИЧКА» НА ЗАБОРЕ
Конопатый хорошо знал город и гордился этим.
— У меня глаз — как шило! — хвастался он. — Тык — и насквозь. Тык — и запомнил!
— Хватит! — одёргивал его Трясогузка. — Веди и не болтай!
— А я что? Не веду, что ли? — обижался Конопатый. — Самой короткой дорожкой! Раз — и там! У меня глаз — как шило! Кто бы другой этих ощипанных птах заметил?… Я и сейчас их вижу! А вы, слепухи, видите?
Цыган и Трясогузка не видели никаких рисунков! Поблизости не было даже ничего такого, на чем можно нарисовать птичку. Улица кончилась. Дома остались позади. По бокам дороги — ровное поле без столбов и деревьев. Впереди — колокольня и старый двухэтажный дом с забором. До него ещё шагов пятьсот.
— Не ври! — сказал Трясогузка.
— Слепухи! — повторил Конопатый, и веснушки на его щеках поползли к ушам. — А я вижу! Глаз — как шило!
— Врёшь! — обозлился Трясогузка.
Конопатый гордо задрал голову и пошёл к старому дому. Когда они приблизились, Трясогузка переглянулся с Цыганом. Теперь и они увидели на заборе трех белых птичек.
— Стой! — скомандовал Трясогузка. — Давай пять! — Он крепко пожал Конопатому руку, похвалил: — Глаз у тебя — ничего!… Дуй назад! Хрящу привет передавай! Скажи: за нами не пропадёт! Законы знаем!
— Лады! — Конопатый подмигнул рыжими ресницами. — Ни пуха… Может, покараулить? У меня глаз — как шило!
— Справимся! — сказал Трясогузка.
Оставшись вдвоём, мальчишки подошли к забору. Три Микины птички, радостно раскрыв клювы, смотрели на ребят меловыми точками глаз. Со двора долетали весёлые возгласы. Восторженно визжала девчонка, а другая напевала какой-то вальс и сама же отсчитывала такт:
— Раз-два-три… И раз-два-три…
— Мэричка! Душечка! — услышали мальчишки. — Как у тебя весело!
— В детдом попали в девчонкин! — прошептал Цыган.
Трясогузка не ответил и пошёл вдоль забора к воротам. Дверь была приоткрыта. Во дворе три девчонки танцевали с большими куклами: две увлечённо, а третья — так, для вида. Ноги её куклы волочились по земле.
— Мэричка! Вы не так! — поправила Мику Нина. — Ей же больно — куколке!
— Ничего ей не будет! — огрызнулся Мика, готовый натравить на девчонок овчарку.
Он не мог больше терпеть, но не знал, как избавиться от них. Хорошо, что ударил колокол. Нина сразу заторопилась, стала прощаться. Варе не хотелось уходить, но и оставаться было неудобно. Эта богачка может подумать, что она плохо воспитана.
Девчонки подошли к воротам, прижимая к себе бесценные подарки.
— Спасибо, Мэричка! — сказала Нина растроганно. — Я не забуду!… Я буду самой верной тебе подругой!
— И я! — подхватила Варя.
— Ладно! — выдохнул Мика. — Заходите, реб… Тьфу! Вы же не знаете! Реб по-японски — девочки!… Заходите, заходите, девочки!
Мальчишки не слышали этого разговора. Когда Мика провожал подружек, Цыган и Трясогузка спрятались за угол забора. Здесь лежали бревна. Забравшись на них и встав на цыпочки, они увидели весь двор.
Девчонка в шляпе, опустив голову, устало шла от ворот. Кукла, которую она все ещё тащила за собой, царапала по земле ногами. Дойдя до флигеля, девчонка широко размахнулась, швырнула куклу в открытую дверь и села на скамейку.
Трясогузка подал Цыгану сигнал. Они оба, стараясь не шуметь, перелезли с брёвен на забор, оседлали его и спрыгнули во двор. Им казалось, что они проделали все это бесшумно, как привидения. Но Чако в привидения не верил. Он выскочил из флигеля и, обнажив клыки, ринулся к мальчишкам.
Мика заметил налившиеся яростью глаза овчарки, успел крикнуть: «Место!» — и бросился наперерез. Послушный команде, Чако хотел остановиться, но не мог. Мика и овчарка столкнулись. Чако виновато проскулил, а Мика упал. Шляпка слетела с головы, волосы, завязанные на затылке в узел, рассыпались.
Только теперь Трясогузка и Цыган узнали своего дружка. И Мика, расплывшись в счастливейшей улыбке, узнал их.
Сколько нежных, ласковых слов было у него припасено для друзей, но он не произнёс ни одного. Подошёл, обнял их и спросил обыденно:
— Есть хотите? — и сам же ответил: — Чего спрашивать? Ясно — хотите! Бегу!
Подхватив шляпу, он вбежал в дом. Мальчишки услышали, как весело захлопали двери внутри особняка.
— Чего это он вырядился? — спросил Цыган.
— А ты забыл? — ответил Трясогузка. — Платайс сам сказал: нужно, чтоб был похож на девчонку… Задание, значит, такое!
Мика вернулся с хлебом и колбасой. Сели на скамейку у флигеля, обменялись короткими деловыми фразами.
— Без нас не зашились? — поинтересовался Трясогузка.
— Ничего и не начинали! — признался Мика.
— То-то! — самодовольно произнёс командир.
— Сейчас дело двинется! — сказал Цыган. — Только скажи, что надо?
Мика вздохнул.
— Если б я знал… Вожусь с девчонками!
— Это не трудно! — заметил Трясогузка.
— Не трудно? А ты попробуй! — возмутился Мика. — Они с поцелуями лезут!
— Дай по шее — и все! — посоветовал командир.
— Нельзя! Я же сам вроде девчонки! У них это не принято!
— А отец что делает? — спросил Трясогузка. — Он-то хоть не в платье бабском ходит?
— Нет… Гоняет на извозчике. Утром уедет — и до вечера! А я в куколки играю!… Чтоб они сгорели!…
— Невесело! — посочувствовал командир и хлопнул Цыгана по плечу:
— Влипли мы с тобой! Придётся тоже в куклы играть!…
Вся армия Трясогузки теперь была в сборе. Не хватало одного — стратегического плана. И мальчишки долго обсуждали вопрос: с кем и как воевать их армии. Можно было вредить семеновцам так же, как они вредили колчаковцам.
Но Платайс? Ради него и Мики спрыгнули они с поезда, плыли ночью на сосне и с таким трудом пробрались в Читу. Для чего все это? Чтобы помочь Платайсу! Но как? И решили мальчишки выждать, притаиться. Ведь не могло так быть, чтобы они никогда не потребовались ему! А пока они не должны показываться Платайсу на глаза.
— Я придумаю, куда вас упрятать! — пообещал Мика. — Будете довольны и сыты.
Они договорились о тайной сигнализации. Мика повёл друзей к воротам, распахнул дверь и… увидел управляющего. Ицко был уже совсем близко: ни спрятаться, ни убежать. И тогда Мика отчаянно замахал руками и закричал противным визгливым голосом:
— Алексей Петрович! Скорей! Скорей!… Воры забрались! Воры! Скорей!
— Бегите! — шепнул он остолбеневшим ребятам и снова завопил: — Чако! Чако! Возьми их! Возьми!
Трясогузка понял. Он оттолкнул Мику, перескочил через высокий порог. Цыган — за ним. Они побежали вдоль забора к пустырю. Сзади продолжал кричать Мика. Неуверенно лаял Чако, совершенно сбитый с толку противоречивыми командами. Мика кричал: «Возьми!» а шёпотом приказывал: «Место!»
— Успокойся, Мэри! Успокойся! — сказал Ицко, подходя к воротам. — Это не настоящие воры. Это беспризорники… Ты знаешь, кто такие беспризорники? Видела их в Японии?
Мика не собирался вступать в разговоры с управляющим. Это тебе не девчонки. Ему много не наврёшь. Прислонившись к воротам, Мика обмахнул лицо платком.
— Я так испугалась… пойду полежу!
Он медленно направился к крыльцу.
— Мэри!
Мике пришлось оглянуться. Управляющий стоял в дверях флигеля и держал в руке куклу.
— А-а!… Уберите, пожалуйста! — попросил Мика. — Это мы играли с Ниной и Варей.
— С кем?
— Вы их не знаете?… Нина — из церкви, а Варя — дочь трактирщика.
НА ИСХОДНЫХ ПОЗИЦИЯХ
Платайс был настолько занят, что виделся с Микой лишь поздно вечером в спальне, но и тогда они мало разговаривали, потому что управляющий мог подслушать. Платайс заметил, что Мика повеселел, приободрился и больше не жаловался на скуку. Отец объяснял это тем, что у сына появились подружки — Нина и Варя. Знакомство с девочками шло Мике на пользу. Он старался подражать им и в жестах, и в словах, и во многих других мелких деталях, отличающих девочку от мальчика. Другой помощи от сына Платайс и не требовал. Мика, как и Чако, был всего лишь своеобразным паролем, пропуском на въезд в Читу. Ни в какие секретные дела Платайс и не думал посвящать сына.
После встречи с друзьями у Мики завелись и собственные секреты. Он ничего не сказал отцу о Цыгане и Трясогузке. Мальчишки наивно боялись, что Платайс немедленно отошлёт беглецов в детдом. Они и не подумали, как мог сделать это Платайс, находясь в Чите, в тылу у семёновцев?
Чтобы пристроить друзей, Мика несколько раз встретился с Ниной и Варей. Он неплохо сыграл роль взбалмошной, странной, богатой девчонки, на которую нашла этакая жажда благотворительности. Мика вздыхал, то и дело вспоминал о несчастных беспризорниках, которые от голода пытались забраться в особняк за куском хлеба и, наконец, он попросил подружек помочь хотя бы двум бездомным мальчишкам: взять одного в церковь, а другого в трактир.
Девчонки не могли отказать Мэри…
Пока Варя вела Цыгана к отцовскому трактиру, она успела ему надоесть.
— Ты хоть что-нибудь умеешь делать, черномазый? — брезгливо спрашивала она. — Ложку от вилки можешь отличить?
— Могу! — отвечал Цыган,
— А гитара зачем у тебя?
— Играть.
— Неужели научился?
— Научился.
— Придётся переучиваться! Теперь на грязных тарелках играть будешь!
Перед входом в трактир Варя ещё раз окинула Цыгана брезгливым взглядом и бросила:
— Жди тут, черномазый!
Цыган присел на ступеньку.
Перед трактиром на площади маршировали солдаты. Губастый офицер надрывно подавал команды, заставляя солдат то рассыпаться в цепь, то выстраиваться в шеренгу, то сдваивать ряды.
Слева от трактира, отделённый от него узким тупиком, забитым дровами, стоял дом с решётками на окнах. У входа — два солдата. «Тюрьму краулят!» — подумал Цыган и удивился, что её устроили рядом с трактиром.
А в трактире решалась судьба Цыгана. Отец Вари, узнав, что это просьба дочери купца Митряева, сказал:
— Если б сам просил, а то — дочка!…
Варя вздёрнула плечики.
— Какая разница!… Мэри обязательно скажет отцу, что ты отказал!
— И мы потеряем богатого клиента! — вставила своё слово мать Вари.
— Клиента! — возмутился трактирщик. — Да я от него и гроша ещё не получил!
— И не получишь! Клиентов нужно приманивать, а ты…
— Что я? Что? — гаркнул на жену трактирщик. — Этот подкидыш обворует нас, а то и прирежет ночью!
Перебранка происходила с переменным успехом. Трактирщица совала мужу в лицо подаренную Варе японскую куклу, и обе хором кричали, что Митряевы могут их озолотить. Не выдержав этой атаки, трактирщик громыхнул кулаком по груде подносов и пролаял дочери:
— Зови!
Цыган вошёл в комнату и смиренно остановился у дверей. Шесть глаз впились в него. За годы бродяжничества он научился разгадывать людей. Цыган и сейчас почувствовал, что трактирщика не проймёшь ничем, а на трактирщицу можно подействовать. Неуловимым, как у фокусника, движением он перекинул гитару из-за спины в руки и запел романс про душистые гроздья белой акации. И попал в цель. Трактирщица как-то заколыхалась всем своим тучным телом, чувствительно вздохнула и сказала мужу:
— Видишь?… Он нам подходит!
Трактирщик выругался, дал Цыгану подзатыльник и проревел:
— Распелся, подкидыш!… Ать — на кухню!
Цыгана приняли на работу…
Трясогузке повезло больше. Его не обозвали подкидышем и ни разу не стукнули по голове. Нина заранее поговорила с отцом, и тот не удивился, увидев перед собой мальчишку с кое-как приглаженными волосами, в рваных, но только что почищенных ботинках.
— В господа нашего Иисуса Христа веруешь, отрок? — баском спросил священник.
— Ещё как, батюшка! — елейным голосом ответил Трясогузка.
— Врёшь небось? — усомнился священник.
— Вот те крест, не вру! — Трясогузка обмахнул себя крестом, будто отогнал комариную тучу. — Я и сны-то одни божественные вижу.
Нина стояла сзади отца и грозила пальцем: не болтай лишнего.
Но священник заинтересовался снами отрока.
— Это какие же божественные?
Трясогузке пришлось врать до конца.
— А такие, батюшка… То богородица подойдёт — одеяльце поправит, то божья матерь с облачка спустится — в лобик поцелует, а то и сама царица небесная по головке погладит…
Нина зажмурилась, присела и спряталась за спиной у отца. В глазах у священника промелькнуло что-то непонятное, а голос вроде помолодел. Прикрыв рот ладонью, он произнёс в бороду:
— Да-а-а… Снизошла на тебя, отрок, божественная благодать!… Но запомни: ежели просвиры или свечи пропадать будут, я тебя по головке не поглажу… Иди с богом… Нина все тебе покажет.
Когда они вышли, Нина прислонилась к церковной ограде и рассмеялась до слез.
— Чего? Чего ржёшь-то? — сердито спросил Трясогузка, но, узнав, что богородица, божья матерь и царица небесная — одно и то же, рассмеялся и сам.
— Почему же он меня не выгнал?
— Папа добрый, — просто сказала Нина. — Он ко всем относится одинаково. Говорят, без веры жить нельзя, а во что верить — это уж пусть каждый сам для себя выбирает.
— Что ж, он и к красным хорошо относится? — ввернул Трясогузка каверзный вопросик.
— Наверно, — так же просто ответила Нина. — А японцев не любит. Говорит, они готовы всю Россию в вагоны запихать и к себе увезти. Ненавидит грабителей!… Я тебя прошу… Ты свечи будешь продавать… Не воруй деньги! Ладно?
Трясогузка только фыркнул с презрением…
Познакомив Трясогузку с несложными обязанностями церковного служки, Нина свела его на колокольню. Это было самое высокое в Чите строение. Внизу и чуть в стороне лежал весь город с кривыми улочками, с игрушечным вокзалом, с тонкой серебристой ниточкой реки Читы.
— А я видела, как она вас кормила! — неожиданно похвасталась Нина.
— Кто? — вырвалось у Трясогузки.
— Мэри… Вы вон на той скамейке сидели.
С колокольни был виден и флигель, и скамейка, и крыльцо особняка. Присмотревшись, Трясогузка заметил и овчарку, лежавшую у ворот.
— Дура — потому и кормила!
— Зачем ты так! — Нина укоризненно покачала головой. — Она хорошая, а ты ругаешься!
— С жиру бесится? — проворчал Трясогузка и отвернулся от особняка. — А там чего?
— Там склад.
За болотистой луговиной начиналась берёзовая роща. Среди низкорослых деревьев виднелись крыши навесов, под которыми лежали ящики. По углам забора из колючей проволоки стояли на высоких столбах сторожевые будки. От склада к железнодорожной станции шла хорошо наезженная дорога.
Трясогузка сел на перила и небрежно свесил вниз ноги…
— Упадёшь! — Нина схватила его сзади за ремень.
— А тебе, что — жалко? — усмехнулся Трясогузка.
Эта девчонка начинала ему нравиться все больше.
— Мне всех жалко, — сказала Нина.
БЕДА
Работы в трактире было много. Цыгану не приходилось скучать от безделья. Он убирал со столов грязную посуду, носил дрова на кухню, обеспечивал судомоек и поваров чистой водой. Хорошо ещё, что и вода и дрова были рядом: колодец — во дворе, а дрова — в тупике между трактиром и тюрьмой, как вначале думал Цыган. Но уже вечером первого дня он узнал, что этот дом — совсем не тюрьма. Одно из окон с железной решёткой выходило в тупик. Каждый раз, набирая очередную охапку дров, Цыган слышал какое-то стрекотанье. Когда стемнело, за решёткой зажёгся свет, и мальчишка рассмотрел за пыльным стеклом телеграфный аппарат и склонившегося над ним дежурного. Из аппарата беспрерывно выползала бумажная лента.
Задумавшись о своём открытии, Цыган перестарался — набрал такую охапку дров, что еле донёс её до крыльца. Тут он поскользнулся и рассыпал поленья у ног мужчины с палкой. Эта палка с серебряным массивным набалдашником тотчас опустилась на Цыгана — пониже спины.
Распахнулась дверь, и на крыльцо выскочила трактирщица.
— Входите! Входите! — затараторила она, раскланиваясь, и за ухо оттащила Цыгана от ступенек.
Мужчина, прихрамывая и опираясь на палку, вошёл в трактир, а Цыган принялся собирать рассыпавшиеся поленья. По тому, как трактирщица встретила посетителя, мальчишка догадался, что это приезжий, незнакомый человек.
Он небрежно, по-барски заказал обильный дорогой обед. Трактирщица отослала официантку и сама обслужила богатого гостя. Не переставая любезно улыбаться, она щебетала что-то приятное, готовая сделать все, чтобы ему понравилось в трактире.
— У вас отличный вкус! — восхищалась она выбором его блюд. — Вы очень правильно поступили, что пришли именно к нам! У нас самая лучшая в городе кухня!
Человек с палкой был не очень разговорчив. Рассеянно слушая её болтовню, он произнёс всего две или три фразы. Цыган, убиравший соседний столик, слышал, как он спросил о купце Митряеве. Трактирщица сделала трагическое лицо и со вздохом сообщила, что старший Митряев недавно скончался, но зато приехал из Японии младший Митряев с дочерью.
— Вот как! — удивился гость и не произнёс до конца обеда ни слова.
Щедро расплатившись, он ушёл, а через полчаса извозчик подвёз его к особняку Митряева.
Чако был на месте. Лай овчарки заставил управляющего выйти из дома, а Мика выглянул в окно.
— Папа! Какой-то хромоногий с тростью! К тебе, наверно! — предупредил он отца.
Это был один из тех редких дней, когда Платайс никуда не уезжал. Он с утра закрылся в кабинете и готовил к отправке первое донесение с весьма скудными сведениями, добытыми в Чите. Он хмурился, перечитывал короткие строки. Ему казалось, что эти сведения не соответствуют тем усилиям, которые придётся затратить на их доставку.
Путь небольшого клочка бумаги был очень длинный. Она побежит по цепочке: Платайс — Карпыч — Лапотник — партизанский штаб — партизанский телеграф — штаб Амурского фронта. Сколько людей с риском для жизни будут хранить эту бумажку и передавать её друг другу, как великую ценность! Может быть, надо подождать, когда удастся получить более важные сведения?
Платайс задумался. В это время Мика и предупредил его о приходе гостя.
Спрятав донесение, Платайс из-за шторы посмотрел во двор. Управляющий вёл к дому незнакомого хромого человека. Опираясь на палку, он шёл торопливо, нетерпеливо поглядывал на окна и улыбался, как улыбаются все люди, когда знают, что предстоящая встреча будет приятна и гостю и хозяину.
«Кто бы это мог быть?» — подумал Платайс, не чувствуя пока никакой тревоги.
— Господин Бедряков! — доложил управляющий, появляясь в кабинете.
— Бедряков? — переспросил Платайс и повторил несколько раз: — Бедряков… Бедряков… — Наконец он вспомнил: — Антон Бедряков! Какими судьбами!… Просите!… Хотя… От него одним часом не отделаешься, а мне бы хотелось поработать сегодня… Попросите зайти на следующей неделе… Лучше всего в среду, если он сможет.
К воротам Антон Бедряков шёл уже не так бойко и радостно. На лице застыло выражение недоумения и обиды. Он остановился у высокого порога, спросил у Ицко:
— В среду?
— Да, если вы не заняты.
— Ладно, передайте, что приду.
Чако шёл за ними по пятам.
— А ты потемнел, псина! — сказал ему Бедряков. — Ты потемнел, а хозяин твой почерствел!
— Потемнел? — насторожился управляющий. — Он был светлее?
— Это, конечно, очень важно! — раздражённо ответил Бедряков и посоветовал: — Мойте чаще!
Платайс и Мика видели из окна, как Бедряков перешагнул через высокий порог и сердито захлопнул дверь.
— Кто это? — спросил Мика.
— Это, сынок, беда! — тихо сказал Платайс. — Антон Бедряков знает в лицо и Митряева, и Мэри… Хорошо, что я вспомнил!…
Платайс мог забыть эту фамилию. Расспрашивая настоящего Митряева о знакомых, он только один раз услышал о Бедрякове. Этот человек жил в Японии, тайно спекулировал опиумом, изредка приезжал в Россию. В одну из таких поездок он выполнил просьбу младшего Митряева — побывал у старшего брата и передал привет и приглашение в гости.
Платайс никак не предполагал, что столкнётся с Бедряковым в Чите. Это действительно была непредвиденная беда. Любая случайная встреча на улице обязательно привела бы к провалу. Запереться в особняке — тоже не выход. Неизвестно, сколько времени пробудет Бедряков в Чите и сколько раз придётся отказать ему в приёме.
Мика ещё никогда не видел отца таким озабоченным. Мальчишка и сам понимал, какая опасность нависла над ними. Оставив отца шагать по кабинету, Мика пошёл в ванную комнату. Вода здесь нагревалась в большом кубе. В топку заранее была положена бумага и береста. Он зажёг спичку, и из трубы особняка Митряева выполз чёрный язык дыма.
Выполз и рассеялся — бумага и береста сгорели быстро. Но Трясогузка увидел сигнал. Мика сообщил ему: «Жди! Иду!»
Трясогузка ждал на колокольне. Место безопасное: не подслушают, не помешают. Звонарь никогда попусту не подымался по бесконечным крутым лестницам.
— Беда! — растерянно сказал Мика командиру.
— А ты поплачь! — рассердился Трясогузка и насмешливо хлопнул пальцами по нарядной шляпе дружка. — Совсем девчонкой стал!… Говори толком!
От этих грубоватых слов Мике полегчало. Он рассказал, что видел, что слышал и о чем догадался сам.
— Ерунда! — небрежно произнёс Трясогузка. — Дуй домой!… Придумаю!
— А мне что делать?
— Ждать!… Кончится беда — кину во двор банку!
— Какую?
— А ты поглупел! Тебе надо срочно сбрасывать эти бабьи тряпки!… Он ещё спрашивает, какую банку!… Пустую! Жестяную! Ржавую! Понял?… Знак! Понял?… Дуй — не задерживай! У меня ещё иконы не надраены!
И Мика ушёл успокоенный, а Трясогузка сел под колоколами и честно признался себе, что никаких путных мыслей у него не было. Эти бравые словечки: «придумаю, жди, кину банку», — все они ничего не стоили. Он болтал, чтобы утешить Мику и показать себя командиром, которого не застанешь врасплох, а сам и не представлял, что можно и нужно сейчас делать.
Долго сидел он под колоколом и решил сходить к Хрящу. Не раскрывая никакой тайны. Трясогузка хотел с его помощью натравить всех беспризорников на Бедрякова и выжить из города. Но Хрящ ждал благодарности за то, что приказал Конопатому показать нарисованных на заборе птичек. С пустыми руками к царьку лучше не приходить. И Трясогузка под вечер направился к трактиру. Цыган около еды крутится. Неужели не сможет раздобыть что-нибудь?
Время было самое горячее. В трактире полно офицеров и солдат. Трясогузка часа два подкарауливал Цыгана и поймал у колодца.
— Еда нужна! — без всяких объяснений потребовал командир.
— Сколько? — деловито спросил Цыган.
— Ведро.
— Будет!
— Когда?
— Закрываем в час. Приходи ночью, во втором.
— Ты что — спятил?
— Раньше никак!
И Цыган умчался с водой, а ровно в половине второго, когда в трактире погасли все окна, снова вышел к колодцу с двумя вёдрами. В одном плескалась удивительная солянка из разных супов, не описанная ни в одной кулинарной книге. Другое ведро было наполнено не менее редкой смесью вторых блюд.
— Для кого? — спросил Цыган.
— Хрящу.
— Так я и знал! — улыбнулся Цыган. — Детдом открыть хочешь?
— Не отгадал!… Армию хочу сколотить! Настоящую! Не из трех человек!
Цыган отнёсся к этому неодобрительно.
— Зачем? Влипнем с ними!
— И так почти влипли!
Пока они пробирались тёмными закоулками к заброшенному карьеру, Трясогузка рассказал Цыгану про Бедрякова.
— Хромает? — переспросил Цыган.
— Хромает… Нам от этого не легче!
— С палкой?… Да?… А на ней — серебряная штуковина? Да?… Это он! — объявил Цыган уверенно. — Я его знаю!… И палку — тоже! Гад порядочный!… Но ничего — я ему ил-люзиончик устрою! — мальчишка рассмеялся. — Ты только сам ничего Хрящу не говори! Сегодня я проведу весь конферанс!…
Беспризорники проснулись от озорного голоса:
— Подъем!
В подвале зашевелились, закряхтели, заохали спросонок.
— Что за буза? — рявкнул Хрящ.
— Это мы! — крикнул Цыган. — Харч принесли! Знай наших! За нами не пропадёт!
Трясогузка снял с вёдер крышки и ударил громко, как в литавры. По подвалу разнёсся вкусный дразнящий аромат. Приглашать беспризорников к позднему ужину не пришлось. Вскоре весь подвал сопел и чавкал. Хрящу вместе с супом Цыган выдал большую мостолыгу и спросил:
— Где же твои салфетки?
— Какие?
— Которые с неба.
Хрящ стрельнул глазами.
— Где мой прибор?
Телохранитель метнулся куда-то в угол и принёс ложку, вилку и пачку листовок. Цыган незаметно отправил половину листовок к себе за пазуху и снова спросил у Хряща:
— Бинокль у тебя случайно не водится?
— А на что?
— Нужно! — внушительно произнёс Цыган. — Постарайся! А за нами, сам понимаешь, не пропадёт!
Хрящ отложил мостолыгу.
— Урки! У кого бинокль на примете имеется?
И опять, как и в прошлый раз, когда царёк спрашивал про птицу, встал Конопатый, вытер сальный рот, сказал:
— У меня.
— Чертяка глазастый! — одобрительно выругался Хрящ, — Наколоть можешь?
— Хоть завтра!…
Пока Трясогузка и Цыган вели ночные переговоры, третий из их армии — Мика — спал. Он так верил в своего командира, что после встречи на колокольне перестал беспокоиться за отца и за себя.
А Платайсу было не до сна. Появление Бедрякова срывало все планы. Платайс превратился в пленника, вынужденного отсиживаться в особняке. И это в тот момент, когда дорог каждый день и час!
Помочь могли только партизаны. Но и на это потребуется много времени. Пока Лапотник передаст сигнал бедствия, пока будет найден способ забросить в Читу двух-трех смельчаков, пока удастся разработать и осуществить операцию… И какую! На убийство идти нельзя — за что убивать Бедрякова? Его нужно похитить, что значительно труднее. И все-таки Платайс остановился на этом варианте.
Накинув халат, он зажёг свечу и пошёл в кабинет, чтобы в подготовленное утром донесение вписать просьбу о помощи.
В коридоре было темно и холодно. Выл ветер за окнами. Тревожно скрипела раскрытая дверь флигеля. Шумел во дворе одинокий кедр. Негромко, но беспокойно гавкал Чако.
Платайс хотел вынуть из тайника донесение, но что-то помешало ему. Он никогда не был мнительным, а сейчас все его настораживало и раздражало: и шум кедра, и скрип двери, и это окно, за которым ничего не видно. Он задёрнул штору и прислушался. Дверь все скрипела. Подвывал ветер. Чако не лаял, а точно подкашливал, как простуженный старик. И скрипела, безостановочно скрипела дверь.
Платайсу подумалось, что стоит закрыть её — и уляжется это противное чувство безотчётного беспокойства, почти страха. Он вышел во двор, постоял у крыльца — дал глазам привыкнуть к темноте и удивился, что овчарка не подбежала к нему.
— Чако! — тихо позвал он.
Собака вынырнула из темноты, лизнула ему руку и снова кинулась куда-то к забору.
Теперь Платайс не сомневался: кто-то бродил вокруг особняка. Скрипучая дверь перестала его раздражать. Он уже не слышал её. Быстро пересёк двор, отодвинул засов и распахнул дверцу в воротах. Он успел заметить тёмную фигуру, завернувшую за угол забора. Платайс бросился туда же. Обогнав его, метнулся к углу и Чако. Кто-то вскрикнул. Завизжала овчарка.
Когда Платайс добежал до угла, уже ничего не было слышно, только свистел ветер и по-прежнему шумел кедр. У груды брёвен лежал Чако.
ИЛЛЮЗИОН ЦЫГАНА
Трактир просыпался в шестом часу утра. Повар открывал дверь каморки, в которой ночевал Цыган, и бесцеремонно дёргал его за ноги. Пора носить дрова и наполнять водой котлы, вмазанные в плиту. Спать приходилось мало, а в ту ночь Цыган не спал и двух часов. От беспризорников он вернулся часа в четыре. Вскочив с жёсткого топчана и вспомнив, что сегодня — день особый, он сладко потянулся и почувствовал себя бодрым, сильным и уверенным.
Работал он усердно. С утра наносил дров на целый день, сложил их около плиты и запасся водой. Теперь он почти все время мог находиться в зале. Цыган услужливо раскрывал дверь перед ранними посетителями трактира, помогал старику с двумя георгиевскими крестами принимать и подавать гостям одежду. Не забывал он и про грязную посуду на столиках
— бегом относил её к судомойкам.
В десятом часу Цыган увидел в окно Бедрякова, бросился к двери и распахнул её. Постукивая палкой по ступеням, Бедряков поднялся на крыльцо. На Цыгана он и не взглянул. Вошёл в трактир и остановился у широкого барьера, отгораживавшего вешалку. Старик подавал шинели офицерам. Бедряков не стал ждать. Снял полупальто и подозрительно посмотрел на барьер — нет ли пыли. Подскочил Цыган и проворно, одним движением вытер чистой тряпкой отполированное руками дерево. Бедряков положил пальто, сверху котелок и пошёл в зал к тому столику, за которым обедал вчера.
А подвыпившие офицеры все ещё не отходили от вешалки. Один шарил по карманам — искал мелочь. Другой расспрашивал старика, когда и за что наградили его крестами. И никто не видел, как Цыган вытащил из-под передника пачку листовок и, продолжая елозить тряпкой по барьеру, засунул их во внутренний карман полупальто.
Как и вчера, Бедрякова обслуживала сама трактирщица. Она была ещё более любезной и разговорчивой, а он ещё более молчалив и замкнут. Но расплатился он так же щедро, и этим в какой-то мере смягчил трактирщицу, которую обидело его упорное молчание.
— Странный человек, — сказала она мужу. — Два дня бьюсь, а так и не узнала: кто он, откуда?
— Платит? — спросил трактирщик.
— Ещё как!
— Больше тебе и знать ничего не надо.
Цыган ждал Бедрякова у дверей, проводил его низким поклоном и принялся убирать его столик: собрал тарелки, засунул под скатерть листовку, смахнул салфеткой крошки и вдруг, вскрикнув, опрометью бросился на кухню. В коридоре он столкнулся с Варей и, как сумасшедший, вцепился в неё.
— Зови мамку!
— Какая она тебе мамка!
— Зови, говорю!
Варя стряхнула его руки с плеч, подбоченилась.
— Не кричи, черномазый! Захочу — и опить на улицу выгонят! Все равно Митряевы у нас не обедают!
Тогда Цыган сложил ладони рупором и прошептал ей в ухо:
— Красный в трактире!… Поняла?… Листовку красную подсунул! Поняла?
К столику Бедрякова подбежали втроём: и Варя, и трактирщик, и его жена. Цыган приподнял скатерть. Жирный чёрный шрифт так и лез в глаза: «Товарищи солдаты! Против кого вы воюете? Атаман Семёнов и японские генералы обманули вас!…»
Трактирщик выкатил глаза, одёрнул скатерть и щёлкнул Цыгана по носу.
— Ать на кухню!… А ты — к себе, Варька!
Он по-гусиному завертел головой на тонкой шее, увидел у окна трех завтракающих офицеров и сказал жене:
— Попроси их подойти!
Трактирщик через скатерть прижал листовку к столу, словно боялся, что она исчезнет, и так и стоял в напряжённой позе, пока не подошли офицеры.
— Извольте полюбопытствовать! — жарко шепнул он им и откинул скатерть…
А Цыган с Варей стояли у окна в коридоре за кухней.
— Который? Который? — нетерпеливо спрашивала она.
— Слепая! — сердился Цыган. — С палкой? Видишь?… В котелке!
Бедряков не торопился. Шёл по площади после сытного завтрака, как на прогулке. А сзади без фуражек почти бегом его догоняли три офицера.
— Учти, черномазый! — сказала. Варя. — Это я заметила, а не ты!
— Что? — не понял Цыган.
— Как он листовку — под скатерть… Я, а не ты! — повторила она.
— Запомни, если работать у нас хочешь!… Тебе все равно, а мне мама за это новое платье сошьёт!
— Ладно! — согласился Цыган…
Часов в одиннадцать к трактиру подошёл Трясогузка, присел на камень у помойной ямы напротив заднего крыльца. Цыган его ждал, выбежал во двор с двумя вёдрами грязной воды и, победно подмигнув другу, закричал, подражая трактирщику:
— Ты чего тут околачиваешься? Ать со двора! Нечего тебе здесь делать! Все уже сделано!
— Не ори! Разорался! — включаясь в игру, пробурчал Трясогузка и схватил пустую консервную банку.
Он даже замахнулся, будто хотел запустить её в Цыгана. А Цыган поставил ведро, а другое подхватил поудобнее, чтобы окатить Трясогузку помоями, но не окатил. И Трясогузка не бросил банку, а поплёлся со двора, как побитый, хотя ему хотелось петь и смеяться.
Свернув в улицу, которая вела к особняку Митряевых, он прибавил шагу, а потом побежал, перекидывая из руки в руку консервную банку. Он знал, с каким нетерпением ждёт Мика сигнал.
А Мика в это время хоронил овчарку.
Утром Платайс рассказал о ночном происшествии и сыну, и управляющему. Мика чуть не расплакался от жалости. Он не сомневался, что Чако убил какой-то бандит, собиравшийся ограбить дом. Управляющий тоже подумал о ворах. И только Платайс знал, что произошло.
Он не спал всю ночь, а когда рассвело, вновь вышел за ворота и осмотрел овчарку. Она была убита одним ударом ножа, убита натренированной рукой. Ещё ночью у Платайса мелькнула мысль: не семеновский ли филёр бродил у забора. Уж очень ловко и быстро расправился этот человек с сильной овчаркой.
Осмотрев на рассвете убитую собаку, Платайс опять подумал о том же. Неужели за домом установлена слежка? Неужели семеновцы пронюхали что-нибудь? Не связано ли это с Бедряковым?
Платайс присел на бревна и огляделся. Он хорошо знал приёмы наружного наблюдения. Основное правило требует, чтобы наблюдатель находился в таком месте, откуда все видно и в то же время сам он никому не виден. Таким местом могла быть колокольня. Это днём. Ночью с неё ничего не увидишь. Где шпик отсиживался по ночам? Не бродил же он все время вокруг забора! Это неосторожно, тем более что во дворе — собака. Он, вероятно, подошёл к забору, когда заметил огонёк в окне особняка. Но откуда он пришёл? Где прятался до этого?
Платайс поставил себя на место филёра и сразу же обратил внимание на ржавый железный кожух от круглой печки. Эта широкая труба лежала в канаве у дороги. Из неё виден и дом, и ворота. И в дождь там неплохо прятаться: сухим останешься.
Уверенный в своей догадке, Платайс дошёл до кожуха и заглянул внутрь. Никаких сомнений больше не оставалось. Туда кто-то втащил нёсколько досок, чтобы удобней было сидеть. Валялась груда окурков. Столько папирос за одну ночь не выкуришь. За домом уже следили нёсколько ночей. Значит, эта слежка никак не связана с Бедряковым. Он заходил только вчера. Почему же семеновцы установили этот тайный пост? Где допущена ошибка? Что вызвало их подозрение?
Мрачный вернулся Платайс в дом. Он пока ничего не решил, но твердо знал, что больше ни с Карпычем, ни с Лапотником ему встречаться нельзя. Он вынул донесение и сжёг его.
Напрасно Карпыч ждал утром у ворот. Вышел управляющий и сказал, что господин Митряев нездоров и никуда сегодня не поедет.
Хоронили Чако без Платайса. Ицко выкопал яму у брёвен и опустил в неё овчарку. Мика стоял рядом и всхлипывал не стесняясь. Девчонкам положено плакать.
— Не плачь, Мэри! — сказал Ицко, закапывая яму. — Он уже старый совсем. Он даже потемнел от старости. Помнишь — он же светло-серый был. Или тогда у вас другая собака жила?
Вкрадчивый голос управляющего насторожил Мику. Он вытер платком слезы.
— Ничего не другая! Эта же! Чако!… И шерсть у ней ничуть не потемнела!
— А хочешь я тебе новую собачку приведу?
— Ничего мне не надо! И не лезьте!
Мика топнул ногой и побежал к воротам, а Ицко разогнулся и пристально посмотрел ему вслед. И опять, как и всегда, в этих бегущих ногах, в широко размахивающих руках он почувствовал какую-то неуловимую фальшь. Что-то было не так. Но что? Сколько раз Ицко ломал над этим голову, но так и не мог понять, в чем проявляется эта фальшь. Он старался почаще встречаться с Мэри, ласково заговаривал с ней, а она обрывала разговор на полуслове, убегала и запиралась в тех комнатах, куда управляющему без вызова входить не положено. Он бы мог не посчитаться с запретом, но боялся. Хозяин обещал, закончив дела, хорошо с ним расплатиться. А в том, что приехал настоящий Митряев, управляющий почти перестал сомневаться. Если бы это было не так, подполковник Свиридов не стал бы ждать столько дней.
Утрамбовав ногами землю, Ицко закинул лопату на плечо и вернулся во двор. Только он закрыл за собой дверь и отнёс лопату во флигель, как по двору с грохотом покатилась переброшенная через забор пустая консервная банка.
Выйдя за ворота, Ицко долго грозил кулаком и ругал убегавшего прочь Трясогузку, а Мика, приплясывая и улыбаясь во весь рот, ворвался к отцу в кабинет.
— Все, папа! Кончилась беда! Была — и вся вышла!
Платайс неодобрительно посмотрел на сына.
— Ты плохо себя ведёшь, Мэри!
— Да нету его!
— Кого?
— Управляющего! Он во дворе… И этого, Бедрякова, тоже нету! Ура!
Платайс вскочил, до боли стиснул сыну плечи.
— Тихо!
Это было сказано таким тоном, что Мика сразу стал серьёзным.
— Нету, папа, Бедрякова, — повторил он.
— Куда он делся?
— Не знаю.
— А что ты знаешь?
— Мне сигнал дали, что беды больше нету!
— Кто?
— Тр…
— Тр… — дальше? — спросил Платайс и вдруг догадался сам: — Трясогузка?
Мика кивнул.
— И Цыган здесь?
— Да, папа, — признался Мика.
* * *
Ни Бедряков, ни филёр так не напугали Платайса, как это неожиданное появление в Чите Трясогузки и Цыгана. Что они там натворили с Бедряковым? Что вообще делают? Не их ли неосторожность привела к тому, что за домом Митряева установили слежку?
Мика успел рассказать, как он встретился с ребятами, как устроил их с помощью девчонок на работу, как сообщил Трясогузке о Бедрякове. А что они сделали с ним, он не знал.
Потом вернулся в дом управляющий, и больше разговаривать было нельзя. С укором и болью смотрел Платайс на сына и, взяв со стола карандаш, хотел написать ему горькие резкие слова, но сдержался. Сейчас лучше не наказывать Мику даже словами. Не время. Раз уж так получилось, надо выяснить все до конца.
— Мэри! — обычным ровным голосом сказал Платайс. — Сходи к Нине. Узнай.
Мика понял, у кого и что надо узнать. Понял он и то, что отец перестал сердиться. Окрылённый полетел он к церкви, а вернувшись, долго писал на листе все, что рассказал ему Трясогузка. Мика был в восторге и часто ставил жирные восклицательные знаки. Платайс стоял у него за спиной, читал, но в восторг не приходил. Конечно, ребята ловко все это подстроили, только не подумали, что будет дальше. А дальше будет допрос Бедрякова. И он обязательно назовёт фамилию своего влиятельного токийского знакомого Митряева, за которым и так уже установлена слежка.
Платайс сжёг исписанный лист и молча заходил по кабинету. Мика ждал, что отец похвалит его друзей, но вместо этого услышал:
— Иди поиграй, Мэри! Не мешай мне…
И он ушёл, не понимая, чем недоволен отец…
Недаром говорят: беды вереницами ходят.
Бродил, бродил Мика по дому. Делать нечего. Вздумал поиграть с Чако, но вспомнил: нету Чако! Ещё тоскливее стало. Присев у окна в спальне, увидел колокольню и позавидовал Трясогузке. До чего же хорошо быть мальчишкой! Брюки натянул, рубаху накинул — и порядок! Нигде не трёт, не жмёт, не стягивает! А подумал он об этом потому, что заныли ноги. Скинул Мика опротивевшие туфли и потёр пальцы с большими мозолями. Зачесалась и голова. Ничего удивительного! Походи-ка с волосами, связанными в дурацкий узел! В этом платье походи! Да резинки не забудь, чтобы чулки не поползли вниз, как шкура со змеи! Все трёт, и везде чешется!
И решил Мика истопить ванну. Не так ему хотелось помыться, как просто побыть без этой, как он называл про себя, сбруи. Куб нагрелся быстро. Наполнив ванну, Мика с наслаждением сдёрнул с себя платье и бултыхнулся в тёплую воду. Лежал минут пять неподвижно, потом намылил голову и не слышал, как мимо ванной комнаты прошёл управляющий.
Он прошёл ещё раз, вернулся, постоял у двери, ухватился руками за притолоку и, подтянувшись, заглянул в щель. Он увидел голого мальчишку. Это так его поразило, что он, опустившись вниз, прижался лбом к двери и простонал:
— Дурак я, дурак!
— А знаете, почему? — спросил сзади голос Платайса.
Ицко повернулся пружинисто, с кошачьей ловкостью, но в руке у Платайса был пистолет.
— Не надо! — предупредил он и закончил фразу: — Потому что излишне любопытны… Давно это с вами?
— С тех пор, как приехали вы, господин… Не знаю, как величать!
Платайс пожал плечами.
— Напрасное любопытство… Все было так хорошо! А теперь? Что мне с вами делать? Подскажите!
Ицко был не очень труслив. А когда он злился, то мог сойти и за храбреца. Сейчас он был зол. Надо же попасться как последнему глупцу!… А раньше — ещё глупее! Нужно быть слепым, чтобы не отличить мальчишку от девчонки!
— Я бы знал, что мне делать! — с угрозой ответил он.
— Вам легче! — вздохнул Платайс. — Впрочем что мы здесь стоим? В кабинете лучше… Вы пойдёте впереди, и очень прошу вас — без этих, без попыток.
— Умирать я не собираюсь!
— Вот и отлично. Значит, мы договоримся…
А Мика беззаботно плескался в ванне и так ничего и не слышал. Вымывшись, он снова влез в свою «сбрую», завязал волосы в тугой узел на затылке и пошёл к отцу.
Платайс, как показалось Мике, мирно беседовал с управляющим. Отец сидел за столом, а Ицко — в кресле у стола. Но послушать, о чем они говорят, не удалось.
— Не мешай нам, — сказал Платайс. — Я тебя позову.
Пришлось уйти, а в кабинете продолжался разговор, от которого Платайсу становилось все легче и легче. Эту беседу никак нельзя было назвать допросом. Платайс умел расспрашивать. Он даже у Митряева смог выпытать самые затаённые, глубоко запрятанные мысли и факты. С Ицко было проще. И все же этот разговор затянулся до вечера. Зато Платайс узнал со всеми подробностями и о встрече управляющего с подполковником Свиридовым, и об ответе на телеграфный запрос, посланный во Владивосток.
Положение прояснялось. Теперь было понятно, что слежка за домом — всего лишь предупредительная мера. Никакими конкретными фактами контрразведка не располагала. Ещё несколько спокойных дней — и подполковник Свиридов снял бы этот ночной пост у дома Митряевых.
Но по-прежнему главная опасность оставалась. Это Бедряков. И ещё предстояло тоже нелёгкое дело — освободиться от управляющего. Платайс посмотрел на собеседника, и тот понял, что сейчас решается его судьба. Злость у Ицко давно прошла, а с ней ушла и храбрость, но он старался не показывать страха.
— Без суда — не в ваших правилах! — произнёс он, с трудом заставляя себя не смотреть на ствол пистолета, лежавшего за чернильным прибором. — Я же понял, кто вы… Не имеете права!
— Имею! — твёрдо сказал Платайс. — Но вас пока не за что! — Он подчеркнул голосом это коротенькое «пока» и перебросил через стол лист бумаги. — Пишите!
Ицко, ни о чем не спрашивая и не возражая, написал под диктовку Платайса короткую записку: «Не ищите меня и Мэри, пока не распродадите все имущество. Мне — половину барыша, а я вам — дочь. Место обмена сообщу. Алексей Ицко».
МАСКАРАД ОКОНЧЕН
Как всегда, в девятом часу утра к воротам особняка Митряева подъехал Карпыч. Ждать ему не пришлось. Вышел сам Платайс.
— Садитесь, господин Митряев! — Карпыч снял шапку. — Эх, и прокачу! Беру недорого — везу быстро!
— Спасибо, Карпыч! Но мне сегодня ломовой извозчик нужен.
— Лапотник! — догадался старик. — Это можно. Прислать?
— И поскорей! Мусор надо вывезти… И подальше — за город.
Через час приехал на телеге Лапотник. Ворота были открыты, и он направил лошадь к крыльцу.
— Вас папа зовёт! — крикнул Мика из окна.
Лапотник вошёл в дом, а Мика наоборот — вышел во двор с куклой и стал играть у самых ворот, чтобы видеть всю дорогу.
Платайс с Лапотником вынесли какой-то длинный предмет, завёрнутый в старые половики, и уложили его в телегу.
— А если закричу? — послышалось из половиков.
— Вы же неглупый человек, — ответил Платайс. — И вилы рядом с вами лежат. Острые!… Зачем кричать?
Оставив связанного управляющего на телеге, они вернулись в дом. Здесь Платайс отдал Лапотнику деньги, тоже завёрнутые в какое-то тряпьё, и объяснил:
— Успел продать кое-что митряевское… Партизанам пригодятся. А это, — он вынул из тайника вновь написанное донесение, скрученное в небольшой шарик, — самое главное!
Они пожали друг другу руки, и Платайс почувствовал в его пальцах такую силу, что не смог скрыть удивления.
— Не рассчитал! — произнёс Лапотник и ухмыльнулся в бороду.
Подойдя к телеге, он бросил деньги на связанного управляющего и подвёл лошадь к большой куче мусора за флигелем. Поплевал на ладони, взял вилы и нагрузил порядочный воз. Спросил, пригнув голову к борту телеги:
— Хватит иль добавить?
— Иди ты!… — управляющий выругался замогильным голосом.
— Хватит! — решил Лапотник. — Ещё подохнет в дороге.
Он взялся за вожжи и выехал со двора. Мика закрыл за ним ворота и кинулся к дому, будто там должно произойти чудо. А все чудо состояло из груды старой рваной одежды, лежавшей в кабинете на диване.
— Переодевайся! — разрешил Платайс и улыбнулся, видя, с какой радостью сын стаскивает с себя платье.
— Ты жалеешь, что взял меня? — спросил Мика, натягивая дырявые широченные брюки, грубо подрезанные внизу ножницами.
— Об этом поговорим, когда вернёмся, — ответил Платайс и подумал, что начальник дивизии все-таки был прав.
Мика не смог стать безупречно похожим на девочку, потому и пришлось расстаться с ним. Разгадал Ицко, может разгадать и ещё кто-нибудь. Пусть лучше Мика снова станет мальчишкой. Со своими друзьями он не пропадёт — это уже проверено жизнью. И ещё одна мысль заставила Платайса ускорить расставание с сыном. Из-за Бедрякова могла произойти катастрофа. Так пусть хоть Мика уцелеет.
Переодевание заняло не больше минуты. Вместо нарядной, но угловатой и грубоватой девчонки в кабинете у стола стоял мальчишка-босяк с сияющими от радости глазами.
— Хорош! — похвалил Платайс. — Садись… Ты все запомнил?
— Наизусть!
Платайсу было жалко расставаться с сыном, хотелось приласкать его на прощанье, но он сказал нарочито сурово и сухо:
— Никаких собственных выдумок! Только то, что я сказал, — не больше! Так и передай своим дружкам! Ни одного шага без моего разрешения!
— А разве плохо с Бедряковым вышло? — вспомнил Мика.
— Не знаю, — ответил Платайс. — Хвалить не буду. Это дело не окончено. Как оно ещё повернётся?…
— Да его уже, наверно, кокнули за листовки! — вырвалось у Мики.
— Не так все просто! — возразил Платайс и встал. — Пора, сынок! — Он прижал Мику к себе. — Будь умницей!… Скоро холода настанут — не простынь. — Платайс поцеловал сына и долго смотрел ему в глаза, точно хотел запомнить навсегда. — Уйдёшь через полчаса после меня!
Он широко раскрыл дверь сейфа и вышел из кабинета, прихватив с собой платье, туфли и все, что осталось от маскарада.
Мике было радостно и тревожно. Больше радостно. Он подрыгал ногами, не чувствуя на них ни туфель-колодок, ни чулок. С непривычной лёгкостью помахал руками, не обтянутыми надоевшим шёлком. Тряхнул головой
— волосы разлетелись, как им хотелось. Он тихо рассмеялся, представляя, как явится к своим друзьям и как они удивятся, увидев прежнего Мику.
Потом он подошёл к окну, чтобы проводить отца. По двору шагал офицер, а Платайс стоял на крыльце. И Мика услышал разговор, от которого его радость померкла.
— Доброе утро, господин Митряев! — приветливо сказал офицер. — Боялся, что придётся вас будить!
— Я встаю рано, — ответил Платайс. — С кем имею честь?
— Адъютант подполковника Свиридова!
— О-о!… Разведка!
— Контрразведка! — поправил его офицер.
— Эти тонкости не для меня! — улыбнулся Платайс. — Впрочем, в любом случае — я к вашим услугам. Прошу! — он отступил от двери, приглашая офицера в дом. — Рад гостю!
— Спасибо, но… разрешите в гости прийти в другой раз… У нас произошла одна история… Короче — подполковник Свиридов просит вас приехать!
— Сейчас?
— Коляска — у ворот!
Мика видел, как отец, улыбающийся и спокойный, сел в коляску с офицером. Солдат-ездовой погнал лошадь.
Что-то оборвалось внутри у Мики. Мыслей было много, но все обрывочные, бестолковые, суматошные. Они, как насмерть перепуганные цыплята, суетились и толкались, мешая друг другу. Вежливый тон разговора не обманул Мику. Ему хотелось немедленно предпринять что-то, но что? Хотелось бежать куда-то, но куда? Позвать кого-то, но кого и зачем? Ему казалось, что все пропало, погибло. Злое и бессильное отчаянье охватило его. Взорвать бы, уничтожить семеновцев до единого! Подпалить бы этот город со всех сторон! «Подпалить! Подпалить!» — про себя повторял Мика, чувствуя в этом слове какую-то надежду.
На этой наивной мальчишеской мысли и остановилась карусель в его голове. Запалить этот проклятый дом! Нет! Дом нельзя! А флигель можно!… Мике представилось пламя до небес, дым на всю Читу, шум, переполох, бегущие в страхе люди… Неужели отец не воспользуется этой паникой? Не может быть! Он умный! Он смелый! Он догадается!…
Подполковник встретил Платайса с большим почтением: встал из-за стола, подвёл к дивану и сам сел рядом, подчёркивая этим неофициальный характер предстоящего разговора.
Платайс был спокоен, потому что подготовился к самому плохому — к провалу. Если Бедряков назвал фамилию Митряева, то подполковник, конечно, воспользуется такой отличной возможностью ещё раз проверить токийского богача, который почему-то вызвал подозрение у своего управляющего. Свиридов ничем не рисковал. Стоит устроить очную ставку — и все решится. Если Бедряков узнает Митряева, подполковник извинится за беспокойство. Если не признает — тем лучше! Платайс предвидел такой ход и знал, что в этом случае ему останется лишь одно: успеть с толком разрядить свой пистолет.
— Я слышал, что вы завершаете свои дела в городе? — сказал подполковник.
— В городе — да, — ответил Платайс. — Но у моего брата оказался склад и на станции Ага. Кровельное железо. Никак не могу найти покупателя!… Прошу вас поверить — ни одного лишнего дня я здесь не пробуду… Мне понятно, что вас тревожит: город прифронтовой, посторонний человек — помеха и лишняя вам забота!
Подполковник высоко поднял брови.
— Мне?
— Может быть, я и ошибаюсь, — произнёс Платайс. — Но вы сами показали осведомлённость в моих делах, а всякая осведомлённость требует затраты определённого времени.
— Вы преувеличиваете! — рассмеялся подполковник. — Никакого времени! Обычное чисто формальное ознакомление!
— Но это формальное ознакомление, — улыбнулся Платайс, — стоило жизни моей овчарке.
Подполковник отшатнулся, но понял, что разыгрывать удивление — глупо.
— Проверю! — произнёс он бархатистым баритоном. — А вас я все-таки не отпущу! Даже когда все дела закончите — не отпущу… без хорошего дружеского ужина!
— Заранее примите моё приглашение! — любезно сказал Платайс. — День уточню попозже.
— Приятно иметь дело с таким человеком! — воскликнул Свиридов и доверительно положил свою руку на руку Платайса. — А теперь разрешите по существу… Напоминает ли вам что-нибудь фамилия Бедряков?
«Начинается!» — подумал Платайс и сделал кислое лицо.
— Напоминает… В среду мне предстоит скучная встреча с этим господином.
— Почему же скучная?
— Человек он… Как бы вам сказать? — Платайс помолчал, потом махнул рукой: — Вам можно!… И даже нужно, наверно!… Он торгует опиумом. А я, знаете, не люблю грязное ремесло!
Подполковник вздохнул, погладил усы.
— Понимаю вас… И все же, раз уж начали, позвольте до конца… Этот Бедряков попал в непонятную, в какую-то нелепую историю… Но мы готовы отпустить его под ваше поручительство. Он сам об этом просит. Вот письмо. Прочитайте, пожалуйста… Его почерк?
— Почерка его я не знаю, — ответил Платайс и прочитал письмо.
Бедряков слёзно умолял Митряева заступиться ради их старого знакомства. Клялся, что листовки ему подсунули какие-то негодяи. Письмо заканчивалось так: «Ваше высокое поручительство спасёт меня и сделает верным рабом до гроба».
Платайс долго не отвечал подполковнику, перебирая в уме возможные варианты и стараясь выбрать самый лучший.
— Хочу уточнить, — произнёс Свиридов, видя его затруднение. — Речь идёт не о коммерческом лице Бедрякова. В этом смысле, уверен, и мать родная за него не поручится. Речь идёт о его политической благонадёжности.
Платайс нерешительно вертел в руках письмо Бедрякова.
— Для меня — это тесно связанные понятия. Он живёт торговлей опиумом. Почему ему не поднажиться на листовках?
— Но кто их купит?
— Ему могли заплатить за распространение.
Это предположение заставило подполковника рассмеяться вполне искренне.
— Я сказал какую-нибудь глупость? — догадался Платайс.
— Просто вы не знаете большевиков!
— Согласен, но…
— Нет, нет! Это невозможно! — Свиридов перестал смеяться. — Итак, отказ?
— Безусловно!
— Тогда — лично моя просьба…
Понимая, что последует за этим, Платайс незаметно напрягся, подтянул ноги поближе к дивану, чтобы вскочить в любой момент.
— Я её выполню с удовольствием!
Подполковник склонил голову набок и просительно, почти умоляющим взглядом ощупал лицо Платайса.
— Взгляните на него!… На Бедрякова. Тот ли это человек?… Его сейчас приведут.
— Пожалуйста! — воскликнул Платайс с таким облегчением и с такими чистыми радостными глазами, что Свиридов подумал, стоит ли затевать эту комедию, разве не видно, что это настоящий Митряев, которому нечего бояться ни контрразведки, ни Бедрякова.
И все-таки подполковник, вероятно, приказал бы привести арестованного. Но с улицы долетели тревожные выкрики. Надсадно ударил и зачастил пожарный колокол.
— Что такое? — Свиридов недовольно поморщился и, перегнувшись через спинку дивана, посмотрел в окно. — Дым!
Платайс тоже повернулся к окну.
— Пожар, кажется…
— Пожар! — крикнул, вбегая в кабинет, адъютант Свиридова. — И говорят… — Он как-то по-особому взглянул на Платайса. — Говорят… ваш дом, господин Митряев!
— Что-о? Не может быть! — подполковник распахнул окно и выглянул, но ничего, кроме далёкого дыма, не увидел.
А Платайс покачнулся, схватился руками за голову.
— Деньги! Мои деньги! — пролепетал он помертвевшими губами и ринулся из кабинета, удивляясь счастливой случайности, которая пришла ему на помощь.
— Коляску возьмите! — крикнул ему вслед подполковник и приказал адъютанту: — Посадите его в коляску! И помогите — соберите солдат с вёдрами!
Офицер побежал за Платайсом, а Свиридов остался у открытого окна. На улице происходило что-то непонятное. Дым виднелся далеко справа, а люди и здесь суетились, метались и кричали, словно пожар был совсем рядом. Потом все бросились врассыпную. Часовые, охранявшие дом контрразведки, побежали в ближайший переулок. У подполковника мелькнула мысль: не ворвались ли в Читу партизаны? Но выстрелов не было. Слышался приближающийся грохот колёс, дикий перезвон и трубный яростный рёв.
Свиридов вышел на крыльцо.
По узкой улице мчалась обезумевшая тройка лошадей, запряжённых в длинную пожарную линейку. Все в пене, кони задирали головы, ржали и неслись с такой скоростью, что тяжёлый экипаж подпрыгивал, как игрушечный, а колокола, прикреплённые к деревянным стойкам, и ведра, висевшие на крюках, трезвонили на всю Читу. Пожарников на линейке не было. Вожжи волочились по земле. А сзади в клубах пыли, поднятой колёсами, бежал слон. Он остервенело размахивал хоботом и, прихрамывая, гнался за трезвонящим экипажем, приняв его за врага, увешанного свернувшимися в клубок змеями пожарных рукавов.
Напротив дома контрразведки вожжи зацепились за врытую у ворот тумбу и натянулись. Коренник, скаля жёлтые зубы, резко бросился влево, увлекая за собой пристяжных лошадей. Хрустнули и сломались оглобли, полетели разорванные ремённые постромки. Линейка с грохотом подмяла под себя забор, врезалась в сарай и остановилась.
На секунду наступила тишина. Но слон был уже рядом. Он настиг своего врага. Затрещали доски забора под его ногами. Забренчал колокол, вырванный хоботом вместе со стойкой. Взвился в воздух пожарный рукав. Заскрежетали ведра. Слон бросал их под ноги и превращал в железные лепёшки.
Подполковник опомнился и выхватил пистолет, но, взглянув на громаду слона, не выстрелил.
— Часовые! — крикнул он.
Никто не ответил. Многие солдаты впервые видели слона и попрятались от страха.
А слон продолжал крушить пожарную линейку.
— Не стреляйте! Ради бога, не стреляйте — услышал подполковник.
К крыльцу подскакал на статной холёной лошади какой-то бритоголовый человек в ермолке.
— Не стреляйте! Умоляю! — повторил он, спрыгивая на землю. — Это же тысячи! Многие тысячи!
— Цирковой? — спросил Свиридов.
— Так точно! — заторопился человек, боясь, что подполковник передумает и выстрелит в слона… — Сегодня приехали… Он смирный!… Но в дороге цепью натёрло ногу… Рассердился! А тут пожарники! Звон-перезвон!…
— Забирайте его! — сердито приказал Свиридов, кивнув на слона, который тужился перевернуть линейку.
— Оло! Оло! — закричал человек, боязливо подступая к задним ногам слона.
Подполковник с любопытством ждал, что будет дальше, но вдруг лицо его изменилось. Он вспомнил, что в этом полуразрушенном сарае был заперт Бедряков. Держась подальше от слона, который начал успокаиваться, Свиридов подошёл к противоположной стене сарая, где находилась дверь. Её заклинило перекосившимися досками. Подполковник отодвинул засов и с трудом вырвал дверь из гнёзда.
Бедрякова в сарае не было. Когда слон выдернул бревно из развороченного линейкой угла, в стене образовалась большая дыра, и Бедряков сумел выползти наружу. Это он сделал от страха. Сарай мог завалиться и придавить его. Но оказавшись на свободе, Бедряков решил, что глупо самому возвращаться в руки контрразведки. На поручительство Митряева он не очень рассчитывал, а на правосудие семеновцев — тем более…
Деревянный флигель пылал весело и ярко. С колокольни было видно, как упругое пламя вырывалось из окон, точно внутри горел гигантский примус.
— Керосину плеснул? — поинтересовался Трясогузка.
Мика не ответил. Перевесившись через перила, он смотрел не на пожар, а на дорогу, по которой увезли отца. А там, внизу, от окраинных домов бежали люди с вёдрами, с баграми, с лестницами.
Трясогузка уже все знал и понимал, куда смотрит и кого ждёт Мика. Командир обнял друга за плечи.
— Ты не думай… Твой батя знаешь какой? Да он и без пожара выкрутится!
Но Мика так ничего и не сказал, пока не увидел ту же самую коляску, на которой увезли отца. Тот же солдат-ездовой нахлёстывал гнедую лошадь. Сзади сидели отец и офицер, который приходил утром.
Мика с шумом выдохнул воздух и, схватив Трясогузку, чуть не поднял его. Трясогузка обрадовался не меньше Мики.
— А я что тебе говорил?… Твой батя — он такой!…
Коляска промчалась мимо забора, который уже начинал дымиться, и влетела во двор.
— Слава богу — дом цел! — дрожащим голосом произнёс Платайс и спрыгнул на крыльцо.
Адъютант Свиридова выскочил за ним.
В кабинете, увидев распахнутую дверь сейфа, Платайс застонал, боязливо, бочком приблизился к нему, взял лежавший на виду лист бумаги, пробежал глазами и, обессилев, опустился в кресло. Офицер подхватил упавшую на пол бумагу и прочитал записку управляющего Алексея Ицко.
МИКА ГОТОВИТ ПЕРЕВОРОТ
В царстве Хряща порядок был строгий. С утра все беспризорники уходили «на работу». В разрушенной лесопилке оставался только он сам, два его телохранителя и караульный, который всегда сидел наверху за трубой и подавал сигнал, если кто-нибудь приближался к развалинам.
До обеда Хрящ играл в карты с телохранителями — на щелчки. Проигрывал он редко, но и проиграв, не подставлял свой царственный лоб. В этом случае телохранители тянули жребий и тот, кому не повезло, получал щелчки вместо Хряща.
К обеду беспризорники начинали по одному возвращаться «с работы». Несли все, что удавалось стащить или выпросить за день. Добыча целиком поступала в распоряжение Хряща, и он делил её, но не поровну, а как ему вздумается. Никто не имел права съесть до прихода «домой» ни кусочка. За это не только лишали порции на несколько дней вперёд, но и били без всякой жалости. Обмануть Хряща было невозможно. Посмотрит — и горе тому, кто утаил или съел хотя бы селёдочный хвост.
В тот день первым вернулся «с работы» Конопатый — любимчик Хряща. Конопатый не голодал даже тогда, когда несколько дней подряд приходил пустой. Царёк всегда выдавал ему порцию из общего котла.
Конопатый притащил с собой рулон какой-то бумаги и развернул перед Хрящом. Это была сорванная с забора цирковая афиша. Большой слон держал в хоботе флаг с надписью: «Цирк шапито. Слон и другие всемирно-известные аттракционы. Спешите! Спешите! Спешите!»
— Вот это верблюдище! — сказал один из телохранителей.
— Это слон! — поправил его Хрящ.
— Всемирно-известный! — добавил Конопатый.
— Откуда знаешь? — спросил царёк.
— Написано.
— Где? — Хрящ поводил глазами по афише, хотя не знал ни одной буквы. — Не вижу!
— Не видишь? — хитренько переспросил Конопатый. — Пожа! — Он вытащил из-за пазухи бинокль и повторил: — Пожа!… Глаз — как шило! Сказал — наколол!
— За это получишь добавку! — объявил Хрящ, приставил бинокль к глазам, посмотрел на афишу и подтвердил: — Теперь вижу… Надо будет сходить… Разведай про цирк!
— Могу.
Наверху просвистел караульный — два раза. Это означало, что идут не свои, но и особой опасности нету.
— Кого несёт? — удивился Хрящ и спрятал бинокль.
Мальчишки замолчали, выжидательно поглядывая на заваленный кирпичами вход в бывшую котельную. Послышались шаги, уверенные, хозяйские, и в подвал вошли Трясогузка и Мика.
— Хрящу — наше с кисточкой! — поприветствовал царька командир. — И Конопатый тут?… Здорово, Конопатый!
Трясогузка чувствовал себя как дома.
— Слушай, Хрящ! Опять к тебе… Без тебя, знаешь, — туго!
Ну, чего, чего? — спросил польщённый царёк.
— Привёл своего человека! — Трясогузка показал на Мику. — Ты уж его не обижай и работать не заставляй — воровать он не умеет.
— На что такой нужен? — произнёс Хрящ. — Второй Малявка! Лишний рот!
— Мы за него пай вложим! — пообещал Трясогузка. — За нами не пропадёт! Сам знаешь!… Поладили?… Не обижай — наш человек!
— Отчаливай! — согласился Хрящ. — Не обидим.
Трясогузка протянул Мике руку.
— Держись… Мы часто заходить будем.
— Эй! — крикнул Хрящ, когда Трясогузка уже пошёл к выходу. — Лови!
Блеснув стёклами, полетел бинокль. Трясогузка поймал его, вернулся и похлопал Конопатого по плечу.
— Спасибо! — А Хрящу сказал: — И тебе это зачтётся!
— Ха! — презрительно ухмыльнулся царёк, но в душе он был рад слышать это многозначительное обещание.
С первой встречи с Цыганом и Трясогузкой Хрящ почувствовал, что за этими мальчишками, внешне похожими на других беспризорников, скрывается какая-то таинственная сила. А силу царёк уважал.
Когда Трясогузка ушёл, все уставились на Мику. Конопатый даже обошёл вокруг него, осмотрел со всех сторон и спросил:
— А не ты в шляпке бегал?… Глаз — как шило!… Может, ты — девчонка?
Мика похолодел. От первой встречи зависит все. Как он себя покажет, так к нему и будут относиться потом. И Мика набросился на Конопатого. Оба упали на пол.
— Я девчонка? — кричал Мика, работая кулаками. — Девчонка?… Девчонка?
Драться Мика не умел, но сила у него была, и Конопатый почувствовал её. Вывернувшись из-под Мики, он отскочил в сторону. А Мика упрямо шёл на него, приговаривая:
— Девчонка?… Девчонка?… Сейчас получишь от девчонки!
— Отстань! — оттолкнул его Конопатый.
Он тоже не умел и не любил драться. Но Мика петухом наскакивал на него, пока Хрящ не гаркнул:
— Ша!… Расчирикались!
Телохранители растащили мальчишек.
— Проверил? — насмешливо спросил Хрящ у Конопатого. — Девчонка?
Тот потёр ребра и признался, без всякой злобы посмотрев на Мику:
— Не похоже! — А потом добавил с недоумением: — Но глаз-то — шило! — и опять взглянул на Мику.
Один за другим стали появляться беспризорники. Начался обычный предобеденный ритуал. Хрящ сидел в плетёном кресле перед широкой доской, положенной на кирпичи. Мальчишки подходили и выкладывали на доску свою добычу. Отчитавшись перед царьком, они усаживались вдоль стен, поджидая остальных беспризорников. Мика стоял сзади царька, как третий телохранитель. Мальчишки видели его, но никто не спрашивал, кто это такой. Хрящ знает — этого достаточно.
А на доске росли и росли горки всякой снеди: творог в тряпице, горсть подсолнечных семечек, четыре огурца, кусок вяленой медвежатины, два яйца. Следующий беспризорник подошёл к доске и потряс плечами, освобождаясь от какого-то невидимого груза. К его ногам из-под одежды выпала связка сушек. Он поднял её и положил перед Хрящом. Царёк только взглянул на телохранителей, и те набросились на беспризорника. Четыре руки огладили, ощупали его, и на доске очутились ещё две сушки, которые мальчишка прятал за пазухой.
— Без обеда! — изрёк Хрящ.
Подошёл Малявка, жалкий, с обречённым лицом, с губами, заранее сложенными на плаксивый манер. Руки он держал за спиной.
— Опять? — спросил Хрящ и, не дожидаясь ответа, повернулся к левому телохранителю. — Который день он пустой?
— Третий.
— Позавчера кормили?
— Кормили.
— Вчера?
— Кормили.
Хрящ посмотрел на Малявку и вынес приговор:
— Вчера задарма кормили, позавчера кормили — сегодня великий пост.
Малявка всхлипнул и без всякой надежды показал палку, которую держал за спиной.
— А это не примешь?
— Покажи-ка! — воскликнул Мика.
— Не лезь! — осадил его Хрящ и сам взял палку с большим серебряным набалдашником.
Мике показалось, что именно эта палка была в руке у Бедрякова, когда он приходил к отцу.
— Где взял? — спросил Хрящ у Малявки.
Маленькая надежда засветилась в глазах у мальчишки, и он, всячески стараясь разжалобить царька, рассказал, как его чуть не убили в лесу за станцией. Он скрыл, что собирал там бруснику, а в остальном не соврал ни слова.
Сначала он услышал крики, потом выстрелы. Малявка испугался и спрятался в кустах. Мимо пробежал хромой человек с палкой. За ним гнались солдаты, стреляли на бегу. Человек с палкой упал. Солдаты уволокли мёртвого к станции, а палка осталась в брусничнике. Не заметили её семеновцы или забыли.
Хрящ погладил серебряный набалдашник, как скипетр, взял трость, приосанился. Эта вещица ему понравилась.
— Пост отменяю! — сказал он и добавил: — На два дня.
А Мика готов был расцеловать Малявку за эту новость. Теперь отцу ничто не угрожало…
Беспризорники все шли и шли. На доске уже лежали и куски домашней колбасы, и сахар, и снетки. Стояли даже два глиняных горшка, украденных из чьего-то погреба. В одном горшке — ещё тёплая гречневая каша, в другом — сметана.
Увеличилось и число наказанных. Иной раз Хрящ просто тыкал пальцем в какого-нибудь беспризорника и, ничего не объясняя, говорил:
— Ты уже наелся. Обедать будешь завтра.
Никто не спорил, потому что царёк редко ошибался. Он каким-то чутьём узнавал провинившегося.
Когда все пришли, Хрящ торжественно объявил:
— Делёж!
Все бросились к доске. Наступил самый ответственный момент. Хрящ мог дать больше или меньше, мог выбрать что-нибудь вкусное, а мог сунуть горсть семечек — и все.
— Слушай, Хрящ! — смело, как Трясогузка, сказал Мика. — Подожди!… Сколько, по-твоему, вся эта еда стоит?
Царёк снял цилиндр, положил его рядом с собой на доску.
— Купить хочешь?
— Продай!
— Гони десятку!
Беспризорники думали, что все это шутка. И Хрящ назвал цену тоже в шутку. Откуда у этого оборвыша десятка? Да и зачем ему эта торговая сделка! Но Мика вытащил из кармана десять рублей и положил на цилиндр.
— Моё? — спросил он, указывая на еду.
— Забирай, — растерянно произнёс Хрящ, не успев сообразить: выгадал он или проиграл.
— Жадюга! — крикнул Малявка Мике. — Обожрёшься! Лопнешь!
— Не лопну! — весело ответил Мика. — Конопатый! Ты своим глазом хвастаешься!… А ну-ка, раздели на всех поровну!…
ПОМОЩНИКИ
О несчастье, которое произошло в доме Митряевых, узнала вся Чита. Старики припоминали прошлое и говорили, что над этим родом всегда висело какое-то проклятье. Пожар и бегство управляющего, прихватившего с собой деньги и девочку, — новое тому подтверждение. И когда Платайс, мрачный, подавленный случившимся, вошёл в церковь, многие оглянулись на него — кто со злорадством, а кто и с сожалением.
Он выждал, пока уляжется любопытство, вызванное его приходом, и подошёл к стойке, за которой Трясогузка продавал свечи. Это была их первая в Чите встреча.
— Выдрать бы тебя, — тихо сказал Платайс, подавая мелочь, — да нельзя в церкви!
Трясогузка не моргнул и глазом. Выбрав свечу, он протянул её, доложил скороговоркой:
— Мику отвёл к Хрящу. Бедрякова убили семеновцы. А с колокольни виден склад со снарядами.
Чтобы оправдать задержку у стойки, Платайс вынул ещё одну монету и спросил:
— О Бедрякове — точно?
Трясогузка подал вторую свечу.
— Точно! Видел один шкет не из врунов. И палка с набалдашником у Хряща. Могу достать.
— Не надо. А за складом понаблюдай сверху.
Платайс отошёл, около иконы зажёг свечи, постоял, глядя в пол, послушал негромкий говорок священника и вышел с опущенной головой.
День начинался удачно. Платайс ещё ночью проверил, есть ли у дома секретный пост, и убедился, что он снят. Потом приехал Карпыч и, пока вёз Платайса к церкви, сообщил, что Лапотник благополучно доставил груз партизанам. А теперь ещё это известие о Бедрякове! Но можно ли верить мальчишкам? Где бы перепроверить это известие? Может быть, у самого подполковника Свиридова?
Платайс улыбнулся этой нелепой мысли, но она вновь и вновь возвращалась к нему. Если Бедряков жив, то рано или поздно с ним придётся встретиться. Стоит ли играть в жмурки? Не лучше ли сразу разрубить узел, связывающий руки? И Платайс, взвесив все, решил пойти навстречу опасности. Решил твёрдо, без колебаний, потому что где-то внутри был уверен в мальчишках.
Карпыч ждал его за оградой церкви.
— Куда прикажете, господин Митряев?
— Дом контрразведки знаешь?
— Знаю, однако.
— Вези… Там опять подождёшь…
Солдаты чинили сарай и забор, вспоминали вчерашний переполох, посмеивались над часовыми, которые от страха удрали с поста. Подполковник Свиридов вчера же отправил их на передовую. Но и это наказание было милостью. Сначала Свиридов хотел их расстрелять, но отсрочил расстрел на три часа и приказал найти убежавшего заключённого.
Говорили солдаты и про слона. Оло прославился на весь читинский гарнизон. Особенно удивлялись солдаты тому, что подполковник не пристрелил слона. Объясняли это тем, что он дорого стоит. Цена на Оло росла и росла, пока один из солдат не заявил, что слоны ценятся на вес золота: сколько пудов он тянет, столько золота можно получить за него. Большей цены никто не мог придумать…
Платайс прошёл мимо солдат. Адъютант встретил его в коридоре и, поддерживая под руку, как больного, ввёл в кабинет Свиридова.
— Простите!… Знаю — не по вашей части, господин подполковник! — ещё с порога заговорил Платайс. — Но мне не к кому больше!… Прошу вас
— найдите мою дочь!
— Садитесь, садитесь! — подполковник заботливо пододвинул кресло.
— И просить не надо! Я обязан!… Я чувствую себя виноватым в какой-то мере… Этот вчерашний вызов…
— Если б я вчера был дома! — простонал Платайс.
— Не надо водить знакомство с сомнительными людьми! — кольнул Свиридов. — Кстати, вы хорошо сделали, что не захотели поручиться за него.
Никаких других подтверждений смерти Бедрякова Платайсу не требовалось.
— Не до него мне сейчас! — воскликнул он. — Я ничего не пожалею, господин подполковник!… Ту половину, которую требует этот мерзавец управляющий, я раздам тем, кому вы поручите поиски Мэри!
— Зачем же им? — с обидой произнёс Свиридов. — Им достаточно моёго приказа.
— Ну не им! Любому! — вырвалось у Платайса, и он подметил, что подполковник не оставил без внимания эти слова.
Свиридов обещал принять меры, но не сказал, что розыски уже начаты. Проводив Платайса, он долго расчёсывал специальной щёточкой пушистые усы. Подполковник думал. Никак ему не удавалось чётко определить своё отношение к этому человеку. Кажется, уже все ясно! Митряев — как на ладони! И в то же время что-то настораживает, настраивает против него. Появились какие-то подозрения у Ицко, а теперь он сбежал и требует выкупа за дочь. Был Бедряков, лично знавший токийского богача, но и его уже нету. Случайность это или нечто другое?
Вошёл адъютант и подал срочную депешу с пометками самого Семенова. Содержание было таково, что подполковник надолго забыл о Митряеве и его дочери. В депеше сообщалось, что японские оккупационные части начинают постепенно эвакуироваться из Забайкалья. Это означало, что семеновцы остаются одни против Красной Армии…
Платайс предполагал, что Свиридов смотрит на него из окна, и до конца вёл себя как убитый горем человек. Он устало сел в коляску и не сразу ответил на вопрос Карпыча — куда ехать? Старик второй раз спросил:
— Куда прикажете, господин Митряев?
Платайс безразлично махнул рукой.
— Вези куда-нибудь… Хоть в кабак, хоть к черту!… Давай в трактир!
И церковь, и трактир — все это оправдывалось условиями той игры, которую вёл Платайс. Он ещё ни разу не заходил в церковь, но случилась беда — и он пришёл помолиться, поставил у иконы две свечки. Обедал он всегда дома, но сбежал управляющий — пришлось ехать в трактир, чтобы поесть и выпить с горя.
Цыган увидел Платайса из своей каморки. Первое, что он почувствовал — это испуг. Достанется же ему от Микиного отца и за побег, и за то, что они с Трясогузкой пробрались в Читу! Потом мальчишка понял, что Платайс и слова сказать не сможет, даже сделает вид, что не знает и не видел его никогда.
Но Цыган ошибся. Когда он подбежал к столику, за которым сел Микин отец, и стал обмахивать салфеткой и без того чистую скатерть, Платайс сказал:
— И будет же тебе на орехи, чертёнок!
— Извините! — ответил Цыган и сунул записку.
Платайс прочёл её уже дома и не мог понять, каким образом Цыган узнал все это. Мальчишка писал корявыми буквами: «Японцы начинают сматывать удочки. А семеновцы захватили эшелон с нашими ранеными и по приказу какого-то Свиридова гонят его на станцию Ага».
Сколько ни думал Платайс, он так и не догадался, как добыл Цыган эти сведения.
А Цыгану помог бинокль.
На чердаке в трактире было окошечко, которое выходило в тупик с дровами. За дровами в соседнем доме, который Цыган вначале принял за тюрьму, работал телеграф. Окно с решёткой — как раз напротив чердачного окошка, только ниже его. Видно, как входят в аппаратную и выходят какие-то военные, как выползает из аппарата белая лента. Ещё лучше, когда над аппаратом зажигают свет. Тогда виден и стол с бумагами, и чернильница. Все видно, кроме самого главного — слов на ленте. В одну из ночей Цыган торчал на чердаке несколько часов и таращил в окошко глаза, пока не разболелась голова. Вот тогда он и подумал о бинокле.
Цыган дождался вечера, забрался на чердак, нацелил бинокль на ленту и опять ничего не разобрал. Все зависело от того, как повёрнута лента. Если она сползала с ролика ребром к Цыгану, то прочитать слова было невозможно. Иногда дежурный подходил к аппарату и совсем заслонял ленту спиной.
Но Цыган терпеливо ждал у окошка, и ему повезло. Лента развернулась в его сторону, и он прочитал сообщение про эшелон с ранеными. Часа через полтора — новая удача. Тут уж помог дежурный унтер-офицер. Телеграмма об эвакуации японских частей взволновала его. Прежде чем нести депешу к начальству, он оторвал ленту, приблизился к лампе и перечитал текст — на этот раз вместе с Цыганом.
ГЛАЗ — КАК ШИЛО
Начавшаяся эвакуация японцев поставила белогвардейцев в затруднительное положение. Бывший казачий есаул Семёнов, посланный в Забайкалье ещё Керенским, не хотел уходить из Читы, в которой хозяйничал с 1918 года. Делались попытки укрепить читинскую «пробку», состоявшую из 20 тысяч солдат, 50 орудий, 11 бронепоездов и 4 самолётов. Для того времени это была значительная сила.
По ночам шла передвижка войск. С артиллерийского склада за колокольней увозили на передовую снаряды. По улицам скакали вестовые и курьеры.
Платайс воспользовался этой суетливой растерянностью и очень быстро завершил то, что начал до появления Бедрякова, — создал подпольную группу из железнодорожников. Секретная информация потекла к нему широкой рекой. Он составлял короткие донесения, засовывал бумажную трубку в дно свечи, передавал её Трясогузке, а тот — Лапотнику, с которым Платайс из осторожности больше не встречался.
Этим же путём пришло к партизанам сообщение об эшелоне с ранеными красноармейцами, которых по распоряжению Свиридова везли на станцию Ага. Даже Платайс не догадывался, в чем смысл этого приказа. Железная дорога в те дни была перегружена, и эшелон с ранеными подолгу стоял на станциях и полустанках. На каждой стоянке медицинские сестры, попавшие в плен вместе с красноармейцами, хоронили умерших. Штаб партизанского отряда принял решение — спасти раненых красноармейцев.
Армия Трясогузки тоже не бездействовала. Командир все свободное от церковных дел время проводил на колокольне. Иногда он брал у Цыгана бинокль и изучал подходы к складу, тропинки, по которым ходили часовые, порядок и время смены караулов.
Мика воевал с Хрящом. Это была очень трудная война, требовавшая выдержки, смекалки, военной хитрости.
Царьку понравилось каждый день брать по десятке за еду, которую приносили беспризорники. Мика не жалел денег, полученных от отца. Нечего жалеть бумажки! Как только в Читу придут красные, эти десятки и сотни превратятся в ничто. И Мика, не скупясь, покупал еду, а Конопатый делил её на всех, никого не обижая. Полное равенство! Но не совсём. Во-первых, сам Хрящ получал и еду и деньги. Во-вторых, произошла обезличка. Никого не наказывали, не лишали обеда. Многие беспризорники воспользовались этим. Они съедали то, что удавалось раздобыть в городе, приходили с пустыми руками, но порцию свою требовали. А эти порции становились все меньше и меньше.
Больше всего Мика переживал из-за того, что не выполнил наказ отца. Платайс дал деньги, чтобы сын мог жить без воровства и попрошайничества. Мика не воровал и не выпрашивал, но ел-то он все-таки ворованное!
Однажды утром Мика проснулся вместе со всеми. Лежал, смотрел, как беспризорники собираются «на работу», и думал, что бы такое сделать, чтобы покончить с воровством. И придумал. Даже удивился, почему раньше не сообразил, как можно распорядиться деньгами.
— Все, ребята! — крикнул он, вскакивая. — Больше этого не будет! Можете никуда не ходить!… Я предлагаю назначить Малявку начпродом, как в армии!
— Это что такое? — спросил Конопатый.
— Это — начальник по продовольствию. Я буду ему каждый день выдавать по десятке, а он будет покупать еду и приносить сюда. Покупать! — повторил Мика. — Помощников к нему прикрепим…
Все по привычке посмотрели на Хряща. Что-то скажет он? Мика приготовился к трудному и долгому спору. Но царёк уже давно смекнул, что с приходом этого оборвыша, начинённого десятками, его собственная власть поколебалась. Да и предложение было такое, что не могло не понравиться беспризорникам. Спорить опасно. И Хрящ сказал:
— Как в армии?… Ладно! — он надел цилиндр и важно произнёс: — Утверждаю Малявку начальником по жратве! А тебя, — Хрящ взял Мику за рукав и подтянул к себе, — назначаю начальником по деньгам… Гони десятку на сегодня!
— Почему тебе? — возмутился Мика.
— Как в армии! — усмехнулся царёк. — Малявка — начальник над едой, ты — начальник над деньгами, а я — над всеми начальник! Гони десятку!
Чувствуя, что победа близка, Хрящ нанёс Мике ещё один удар. Он быстро оглядел стоявших вокруг беспризорников и спросил у них:
— Правильно?
И те опять по привычке закричали:
— Правильно!
— Гони! — Хрящ протянул руку, и Мика вложил в неё десять рублей.
Царёк подозвал к себе Малявку.
— Держи! Даю при всех… Принесёшь сдачу — трёшку! И карт ещё купи, а то теперь делать нечего. Турнир устроим!
Но работа для беспризорников нашлась, и придумал её Цыган.
В ту ночь ему снова повезло. Он опять дежурил на чердаке с биноклем и хотя не полностью и не до конца, но сумел прочитать текст одной телеграммы. Кто-то приказывал незамедлительно, на следующий же день, отправить вечерним поездом из Читы офицера связи с документами. Что за документы и куда их надо везти, Цыган не понял. Но для него это было не так уж и важно. Главное он знал. Офицер связи не повезёт пустые бумажки. Поедет он завтра. Поезд назван в телеграмме вечерним. Значит, это не воинский состав из тех, что отходят и прибывают без расписания. Это пассажирский поезд, который отправляется ежедневно в девять часов вечера.
Утром Цыган заготовил дров и воды и решил сбегать к беспризорникам. Но к Хрящу надо приходить с подарками. Цыган пошёл на кухню и принялся чистить медные кастрюли. Он точно рассчитал время. Как раз к этому часу поспевали супы, каши, котлеты, гуляши. Повар с подручными уходил завтракать.
Оставшись один на кухне, Цыган схватил длинную вилку-трезубец и вытащил из котла большой кусок жирного мяса. Завернув его в бумагу, а сверху в тряпицу, он улыбнулся — вспомнил Малявку и его ошпаренные руки.
— Ах та-ак! — послышалось от двери. — Воруешь?
Прислонившись к наличнику, подбоченясь, в дверях стояла Варя и с торжествующим злорадством смотрела на Цыгана.
— Продашь? — угрюмо спросил он.
— Захочу — продам, захочу — куплю! — девчонка протянула руку и приказала: — Целуй, черномазый, тогда прощу!
Уж лучше бы она ударила его! Цыган не знал, как поступить. Но не пропадать же всему делу из-за этой толстой противной девчонки! Он зажмурился, чтобы не видеть пухлые, точно ниткой перетянутые пальцы, и чмокнул в мягкую, пахнущую яичным кремом ладонь.
— Ещё!
Он и ещё раз чмокнул. Варя победно захохотала и убежала. Цыган сплюнул, вытер губы рукавом, взял мясо и незаметно выбрался из трактира.
Он не ожидал, что застанет на месте всех беспризорников.
— Забастовка у вас или отгул? — спросил он у Хряща.
— Коммуния наступила! — ответил царёк и подмигнул Мике. — Так я говорю?
— Эх ты! — укоризненно произнёс Мика. — Над этим не шутят!
— Чего мне шутить? Сам выдумал! — Хрящ переглянулся с телохранителями. — Только вот беда — вернётся ли наш начпрод?
Цыгану было некогда разбираться в этих разногласиях.
— Получай! Дело будет! — сказал он, сунул царьку мясо и вывел Мику из подвала.
Узнав про курьера и документы, Мика предложил обо всем сообщить отцу. Цыгана это не устраивало. И он был прав. Где искать Платайса и вообще — найдёшь ли его до вечера? А курьер уедет и документы увезёт.
Вызвали на совет Хряща и Конопатого. Мика хоть и не любил царька, и спорил с ним чуть ли не каждый день, но понимал, что без его помощи в таком деле не обойтись. Ещё знал Мика, что Хрящу и другим беспризорникам эту тайну можно доверить. Только про отца нельзя сказать ни слова.
Все получилось так, как предполагал Мика. Хрящ не стал расспрашивать, что это за документы и кому они потребовались. Он уже привык к мысли, что Цыган, Трясогузка, а теперь и Мика — какие-то необычные люди, что-то они скрывают, кто-то за ними прячется и даёт им силу и власть. То они разыскивают таинственных пташек, то просят достать бинокль, а этот беспризорный богач сорит деньгами — кормит за свой счёт всю ораву мальчишек…
Хрящ подошёл к вопросу по-деловому. Он спросил, как узнать офицера связи, который повезёт документы? Мальчишки ничего не могли сказать. Тогда Конопатый заявил:
— Я узнаю.
— Как?
— Глаз — как шило! — ответил Конопатый, не вдаваясь в подробности.
— А где он прячет документы? — спросил Хрящ.
Мика и Цыган не знали.
— Я узнаю! — уверенно заявил Конопатый.
— Как?
— Глаз — как шило! — ответил Конопатый.
На этом допрос и закончился. Цыган убежал в трактир, а Хрящ вернулся в подвал и сел в кресло обдумывать операцию. Но ему помешали: пришёл Малявка с двумя помощниками.
Блаженно раскрыв рты, беспризорники смотрели, как из объёмистого мешка начпрод с серьёзным и важным видом вынимал одну за другой буханки хлеба, два полуфунтовых куска масла, связку сосисок, пучки лука и наконец кулёк с леденцами.
— Дели! — сказал Малявка Конопатому и отдал Хрящу три рубля и две новых колоды карт.
Царёк карты не взял. Приказал:
— Спрячь! Сегодня турнира не будет… Эй, братва! — повысил Хрящ голос. — Сегодня — тёпленькое дельце! Сам вас поведу!
— Не дельце, а боевое задание! — поправил его Мика.
— Тогда, может, ты и поведёшь? — огрызнулся царёк.
— Не я начальник над всеми, а ты! — уклончиво ответил Мика.
— Ну и помалкивай!
— Бери, начальник! — первую порцию Конопатый подвинул к Хрящу, вторую подал Мике, а остальным скомандовал: — Забирайте!
Мигом опустела доска. Обедали дружно и молча. Внешне все оставалось прежним: и мрачные стены бывшей котельной, и царёк на плетёном троне, и обед всухомятку. Но что-то было уже другим. Оно вмешивалось в жизнь беспризорников и незаметно, но упорно поворачивало их куда-то в неизвестное…
Хрящ давно не выходил за границы своего царства. Незачем было — все, что нужно, приносили беспризорники. Но он не потерял те качества, которые необходимы маленьким бездомным бродягам. Цилиндр он снял и оставил на кресле — эта штука слишком приметная, а беспризорник должен быть серым, безликим. Тщательно отобрал он и мальчишек. Взял с собой не всех. Даже Мику оставил «дома».
— Ты хоть и начальник над деньгами, а тютя! — сказал он. — Мешать будешь… Жди здесь. Получишь документы в собственные ручки!
Это непонятное и какое-то унизительное слово — тютя — обидело Мику, но спорить он не стал: понимал, что в этой операции толку от него мало.
Хрящ отобрал лучших карманников и самых быстроногих мальчишек. Отец Хряща служил когда-то ямщиком на перекладных. Царёк помнил его рассказы о почтовых станциях, на которых уставшие лошади заменялись свежими, и экипаж без задержки мчался дальше по бесконечному сибирскому тракту. И сейчас это помогло Хрящу расставить беспризорников. От развалин лесопилки до вокзала по самым тёмным дорожкам и переулкам протянулась цепочка мальчишек, которых царёк назвал по-отцовски перекладными. Эта цепочка оканчивалась под деревянной платформой, к которой обычно подавался вечерний поезд.
Карманники вместе с Хрящом залегли у забора слева от вокзала. Тут были сложены дрова. Конопатый забрался на высокую поленницу и следил за привокзальной площадью. Все зависело от него. Нужно каким-то образом узнать офицера связи. Только тогда могли вступить в дело карманники, на которых Конопатый не очень надеялся.
Он действительно был глазастый мальчишка, с цепкой памятью, с врождённым уменьем наблюдать и запоминать. Он не знал, видел ли когда-нибудь хотя бы одного курьера или офицера связи, но был уверен, что узнает его. Какой-то смутный образ возникал в его воображении, когда он думал о документах и о человеке, который повезёт их. Не случайно Конопатый ещё в подвале разыскал тряпку и завязал в неё увесистый булыжник. Этот с виду безобидный узелок и сейчас лежал рядом с ним на дровах.
Было уже темно. Привокзальная площадь освещалась только окнами окружавших её домов, да горели три фонаря у входа в вокзал. Состав давно стоял у платформы. Подходили и подъезжали на извозчиках пассажиры. Гражданских мало. Все шинели и шинели — офицерские, солдатские…
Конопатого не мучили обычные в таком случае сомнения. Он не гадал: вот не этот ли офицер с чемоданом? Не тот ли с ярко блеснувшими погонами? Он смотрел и твёрдо знал: нет, не эти, тот ещё не появлялся! Так же уверенно сказал он себе: «Вот он!», когда увидел подъехавших на извозчике офицера с портфелем и двух солдат с винтовками. Именно таким представлялся Конопатому военный курьер. Мальчишка понял: карманникам к нему не подступиться — солдаты с винтовками надёжно охраняют его.
Объясняться с Хрящом было некогда. Конопатый спрыгнул с поленницы, сказал, чтобы царёк и карманники забрались под платформу и ловили портфель, а сам побежал к путям.
До отхода поезда оставалось минут пятнадцать. Офицер с портфелем спокойно шёл к середине состава. Два солдата шагали чуть сзади, по бокам. У дверей вагона — обычная проверка. Офицер показал документы и левой рукой взялся за поручень. В тот момент, когда он перешагивал с платформы в тамбур, сверху упал какой-то узелок.
«Глаз — как шило!» — похвалил себя Конопатый, увидев, что булыжник, завёрнутый в тряпицу, точно ударил по портфелю, вышиб его из руки и вместе с ним провалился в щель между вагоном и платформой.
Офицер, выкатив глаза, взглянул на руку, в которой только что был портфель, и, наливаясь яростью, обернулся. Ему показалось, что кто-то выхватил портфель сзади. Оба солдата в растерянности и страхе смотрели куда-то вверх — в тёмное осеннее небо. Они тоже не понимали, что случилось. Но под коленками Конопатого предательски хрустнула железная крыша вагона.
— Стой! — услышал он. — Держи-и-и…
Громыхнул выстрел. Таиться больше не было смысла. Конопатый вскочил на ноги и побежал по крышам вагонов к паровозу. За ним по платформе бросилось сразу несколько солдат. Переполошился весь вокзал. Кто-то полез под платформу. С тендера перепрыгнул на первый вагон высокий молодой унтер-офицер и, растопырив руки, пошёл навстречу Конопатому.
А портфель с документами уже летел на перекладных к развалинам лесопилки. Вместе с портфелем мальчишки передавали друг другу тревожное известие: схватили Конопатого!
БЕССОННАЯ НОЧЬ
Платайс уже собирался ложиться спать. Он прошёлся по пустому темному дому. Запер двери. Войдя со свечой в спальню, откинул одеяло и замер: кто-то постучал в окно. С той стороны к стеклу приплюснулся Микин нос.
Мика помнил наказ: никогда не приходить к отцу в этот дом. Но, заглянув в портфель, он решил, что имеет право нарушить приказ. Так же подумал и Платайс, когда увидел оперативные планы и карту нового расположения семеновских войск. У него язык не повернулся обругать мальчишек за то, что они опять действовали без его разрешения.
Отложив документы, Платайс задумался над возможными последствиями операции, которую провели беспризорники. Все было бы хорошо, если бы не задержали Конопатого. На стойкость мальчишки он не надеялся. Под страхом смерти и не такие люди начинают говорить. Что же он может сказать семеновцам? Назовёт беспризорников, которые участвовали в этом деле. Значит, мальчишкам надо уйти из Читы.
И ещё: необходимо как можно скорее вернуть семеновцам документы. Получив документы в целости и сохранности и, главное, очень быстро, они могли подумать, что карта и планы не рассекречены, что беспризорники порылись в портфеле и, не найдя ничего ценного, выбросили его. Это, Возможно, облегчит и участь Конопатого.
Платайс дал Мике ещё денег и второй раз распростился с ним. Теперь они могли встретиться только на станции Ага. Туда приказал Платайс сыну увести беспризорников. Туда же и он сам должен был приехать к началу наступления красных войск.
Мика побежал к трактиру, чтобы предупредить Цыгана, но пробраться в центр города было трудно. Поднятые по тревоге солдаты прочёсывали прилегавшие к вокзалу улицы. На площади у трактира горел большой костёр, толпились семеновцы. Здесь был устроен временный штаб по розыску документов. Отсюда направлялись на облаву все новые группы солдат.
По задворкам, по канавам, за заборами Мика подползал к трактиру все ближе и ближе, пока не очутился на огороде напротив заднего крыльца трактира. Здесь он застрял надолго.
Во дворе у колодца стояли осёдланные кони, а на крыльце сидели кавалеристы, курили махорку. Мика зарылся в кучу подсохшей картофельной ботвы и стал ждать.
А Платайс уже заканчивал срочное донесение. Сведения были настолько важные, что он не побоялся нарушить правила конспирации и решил этой же ночью лично вручить донесение Лапотнику и заодно передать портфель с документами одному из железнодорожников, входивших в состав подпольной группы. Платайс знал, что в городе тревога, что пройти незамеченным почти невозможно. Но он должен был сделать это невозможное. Одевшись во все тёмное, он вышел за ворота особняка…
Не спал в ту ночь и Свиридов. Он приказал привести к нему пойманного на вокзале беспризорника. Конопатого так избили, что, прежде чем ввести в кабинет, его пришлось отливать водой. Подполковник наполнил коньяком стопку, заставил мальчишку выпить и не задал ни одного вопроса, пока не заметил, что хмель начал действовать. Левый глаз у мальчишки оживился и заблестел. Заблестел бы и правый, но его не было видно за бугристой фиолетовой опухолью.
— Ловко ты сработал! Снайпер! — похвалил беспризорника Свиридов.
— Глаз — как шило! — прошепелявил Конопатый разбитыми губами.
— Тебя, наверно, Шилом и прозвали? — поинтересовался подполковник.
— Конопатый я!
— А я бы тебя Снайпером прозвал! — льстил подполковник. — Хочешь, в армию возьму?… Винтовку выдам с особым прицелом! Форму получишь — погоны, сапоги… А?
— Не ври! — сказал захмелевший беспризорник. — Знаю, чего хочешь!
— Знаешь! — согласился Свиридов. — Ты не дурак — вижу!… Если отпущу, принесёшь портфель обратно?
— Принесу! — пообещал Конопатый и пьяно рассмеялся. — Только пустой! Идёт?
— А где же… — подполковник подумал и закончил: — Где же то, что в портфеле было?
— Разделили на всю бражку и режутся в очко!
— Где?
— За станцией… Там много землянок в лесу… Только б мою долю не просадили! — Конопатый с беспокойством поморгал единственным глазом и спросил у подполковника: — А сколько там было?… Не надули бы меня!
— Чего сколько?
— Денег!
Свиридов не ответил, налил вторую стопку.
— На-ка, пей лучше!
Конопатый выпил с удовольствием, потому что хмель заглушал ноющую боль в боку. Ещё на платформе солдат ударил его по рёбрам носком сапога.
От второй стопки закружилась голова. Все быстрей, быстрей. Тело стало лёгким, а шея обмякла. Подбородок уткнулся в грудь.
Не рассчитал Свиридов — слишком большие были стопки. Подполковник крутил беспризорнику уши, бил наотмашь по пылавшим от коньяка щекам, но Конопатый уже ничего не чувствовал и бормотал что-то непонятное.
Свиридов вытер платком пальцы и подумал, что воровство портфеля — очень неприятное происшествие, но оно никак не связано с тем, чего он опасался больше всего.
Не мог этот грязный жалкий воришка выполнять чьё-то задание. Какое тут задание! Увидели беспризорники офицера с портфелем, заметили солдат-охранников и решили, что в портфеле деньги. О чем ещё могут думать эти оборванцы!
Зазвонил телефон. И словно подтверждая мысли подполковника, начальник вокзала сообщил, что в уборной нашли подброшенный кем-то портфель и что офицер связи повёз документы в штаб на проверку. Через полчаса, созвонившись с начальником штаба, Свиридов узнал, что документы в порядке. Вызвав адъютанта, он приказал унести мальчишку и пристрелить где-нибудь в лесу.
Рослый солдат взял Конопатого поперёк туловища, как мешок, перекинул через плечо и вынес на улицу. Голова и руки мальчишки постукивали солдата по животу. От Конопатого пахло спиртным.
— Никак напоили шкета? — удивился солдат и жадно втянул носом аромат коньячного перегара. — Добро переводят!…
Начало светать. Семеновец дошёл до кустов, за которыми начинался овраг. Там обычно расстреливали заключённых. Но он не сбросил Конопатого вниз, а положил под куст на жёлтые опавшие листья и, криво улыбаясь, смотрел, как мальчишка поёрзал по земле, потом сложил обе ладони вместе и, подложив их под щеку, затих.
Солдат снял винтовку, перекрестился, несколько раз переступил с ноги на ногу, прислушиваясь к прерывистому посапыванию беспризорника.
— Разве ж это война! — произнёс он хрипло и, выругавшись, пальнул в воздух…
С рассветом утихла, успокоилась Чита. Разошлись по домам участвовавшие в облаве солдаты. Только у трактира ещё дымил догоравший костёр и ржали лошади. Теперь их было много. Кавалеристы расположились и во дворе и на площади.
Из-за них Мика так и не смог попасть в трактир. Мальчишка не знал, что документы уже найдены, и боялся показаться кавалеристам на глаза. Теми же задворками и канавами, по которым он пробирался ночью, Мика отполз от трактира и, оказавшись за чертой города, побежал к развалинам лесопилки.
Тут он и догнал Конопатого, который очнулся от предутреннего холода под кустом и в полуобморочном состоянии брёл к «дому».
— Ты? — обрадовался Мика. — Живой?
Конопатый застонал и, чтобы не упасть, ухватился за него.
— Как тебя разделали! — ужаснулся Мика. — Гады!
— Но я им ничего… — Конопатый прохихикал слабо, как умирающий.
— Ничего не сказал… И про шляпу…
— Про какую шляпу? — спросил Мика.
Конопатого качало из стороны в сторону, говорил он еле-еле, но все-таки в голосе слышалась гордость.
— Про твою… — невнятно произнёс он распухшими губами. — В которой ты бегал… Глаз — как шило! — Конопатый попытался улыбнуться и, почувствовав, как вздрогнул Мика, успокоил его: — Не бойся!… Забыл! Все забыл!… Только и Хрящ, чует… Но ты и его не бойся…
— Ты бредишь! — сказал Мика. — Держись за меня крепче… Идём!
— Брежу! — согласился Конопатый. — Идём… Глаз — как шило!
Беспризорники не спали. Когда караульный просвистел один раз, вся орава высыпала из подвала. Конопатого на руках внесли в котельную и уложили на самом удобном месте. Его ни о чем не расспрашивали и не удивлялись, увидев распухшие губы, заплывший глаз. Мика задрал Конопатому рубаху, посветил огарком свечи. Грудь, спина, плечи — все было в синяках.
— Подорожник надо приложить!сказал Малявка и убежал за травой.
— Ребра целы? — спросил Хрящ,
— Не знаю, — ответил Конопатый. — Я ещё пьян. Меня коньяком угощали.
Ему не поверили, а он не стал спорить — больно было говорить.
Вернулся Малявка с пучком широких листьев и приклеил их ко всем синякам и ссадинам. Конопатого накрыли тряпьём. Он пригрелся и заснул. Беспризорники сидели вокруг, молчали, и каждому почему-то припомнилась своя короткая и такая несчастная жизнь.
Только Мика думал о другом. Беспризорников из Читы уводить нельзя: Конопатый не может сейчас отправляться в трудную дорогу. Не бросать же его здесь одного! Как же быть? Что бы сделал отец? Отменил бы свой приказ или нет? Наверно бы отменил! Да и опасность, вроде, миновала. Конопатого отпустили — значит, и других, мальчишек искать не будут. Можно переждать несколько дней. А пока надо подготовить беспризорников к переселению. Момент для решительного разговора, к которому Мика готовился давно, был подходящий. Он оглядел мальчишек.
Свечка скупо освещала невесёлые задумчивые лица. Снаружи завывал осенний ветер. Сквозняк раскачивал жёлтый язычок пламени. По стенам котельной метались большие косматые тени. Было тоскливо и холодно. А мальчишкам хотелось хоть чуточку тепла и ласки. Но впереди ничего этого не было видно, и они старались не думать о будущем.
Они думали о прошлом, о том далёком прошлом, в котором у каждого осталось что-то хорошее, казавшееся теперь сказочно прекрасным. Был дом, была своя кровать, были заботливые руки матери и были руки отца — сильные и добрые. Где все это? Куда исчезло?
— У меня мама ещё при царе умерла, — неожиданно произнёс Мика. Он отгадал, о чем думают ребята.
— А у меня обоих нету, — отозвался Малявка. — Они врачами были… Спрятали раненого партизана, а семеновцы пришли — и все… Мы на берегу жили… На обрыве расстреляли… И в воду…
— Кому ещё навредили семеновцы? — спросил Мика.
Сразу заговорили несколько мальчишек.
— Руки! — крикнул Мика. — Поднимайте руки!
Поднялось несколько рук.
— А унгерновцы кому?
Ещё поднялось три руки.
— А японцы?
Растопырив пальцы, вытянул руку Хрящ.
— А каппелевцы? — продолжал опрос Мика и подсчитал руки: — Пять!… А Колчак?
Пострадавших от Колчака было больше всего.
— Ничего себе счетик, — сказал Мика и задал самый главный вопрос, ради которого он и затеял весь этот разговор: — А кого большевики обидели? Есть такие?
— Есть!
Все повернулись к одному из телохранителей Хряща.
— Врёшь! — крикнул Мика и подскочил к парню. — Говори честно!
— Красные моего старшего брата кокнули! — ответил мальчишка.
— За что? — вскипел Мика. — Врёшь!
— Не вру!… Во ржи… Там бой был, а он убитых обшаривал. Его поймали — суд… Трое сбоку — ваших нет!
— Ну и правильно! — сказал Хрящ. — Воровать у мёртвых — последнее дело!… И катись от меня! — царёк оттолкнул парня. — Ты больше не телохранитель!
— Вот я и спрашиваю, — опять заговорил Мика, — кого обидели большевики? — Он поднял свечу над головой и по очереди оглядел всех мальчишек. — Нет таких?… И не будет!… А мы что — так урками и останемся? Скоро красные сюда придут, а мы так и будем по подвалам прятаться? Не надоело?…
— Заговорил! — улыбнулся Хрящ. — Давно бы так, а то мутил да темнил… Мы народ дошлый — все понимаем!…
СТАРЫЕ ДРУЗЬЯ
Владелец передвижного цирка проклинал тот день и час, когда он привёз свою труппу в Читу. Не вовремя приехали они сюда. Гвоздь программы — слон Оло выступал все хуже и хуже. У него никак не заживала нога, повреждённая в вагоне цепью. Ему бы надо дать передышку, но без слона зрителей в цирк не заманишь ничем. После каждого выступления раскрывался шов на задней ноге Оло. Слон возбуждался и не хотел подпускать к себе дрессировщика. Скучал Оло и по старому хозяину, который продал его и уехал в Китай.
Владелец цирка с радостью перебрался бы из Читы куда-нибудь на восток, но для переезда требовалось четыре грузовых вагона, а дорожная служба не могла предоставить ни одного. Застрял цирк в читинской «пробке». Чтобы не прогореть совсем, владелец не разрешил отменять представления. Он даже заботился о расширении актёрского состава. Узнав, что распалась одна из бродячих трупп, гастролировавших на станциях КВЖД (китайская восточная железная дорога, участок старой Транссибирской магистрали пролегающий через территорию Китая), он послал артистам приглашение и обещал хорошую плату, но ответа пока не получил.
Брезентовый купол шапито был раскинут там же, где когда-то стоял цирк, в котором выступали родители Цыгана. Рядом громоздились подсобные пристройки. В отдельном щитовом сарае с высокой дверью помещался слон.
Цыгана давно тянуло побывать в цирке. Но вечером, когда начинались представления, в трактире — самый наплыв посетителей, не выберешься. А днём в цирке делать нечего. Цыган по афишам определил, что это не та труппа, в которой он знал всех, начиная от хозяина и кончая глухим сторожем. Но все-таки он не вытерпел и пришёл днём к цирку.
Настроение у Цыгана было расчудесное. Он только что бегал к Мике и узнал, что операция с документами прошла удачно. Правда, избили Конопатого, но это не беда. Парень он жилистый — поправится дня через два.
Уходить из Читы вместе с беспризорниками Цыган не собирался. Они с Микой немножко поспорили, но потом и Мика согласился. Семеновцы успокоились, опасность миновала. Зачем же терять такой превосходный наблюдательный пункт, из которого можно читать самые секретные распоряжения врага?
Насвистывая какой-то цирковой мотивчик, Цыган раздвинул полотнища, закрывавшие вход под купол, и заглянул внутрь. Там был полумрак. Смутно виднелись круто подымавшиеся кверху ряды скамеек. На арене, посыпанной опилками, тускло поблёскивала металлом тренировочная перекладина. На Цыгана пахнуло неповторимым, знакомым цирковым запахом. Пусто. Тихо. Только хлопал на ветру брезент у вентиляционного люка. Да где-то за цирком у служебных помещений сердито кричали люди.
Цыган подбежал к снаряду, подпрыгнул, ухватился за перекладину, крутанул «солнце» и мягко приземлился на подушку из опилок. А крики за цирком все усиливались. Мальчишка нырнул под брезентовую стенку, очутился перед сараем слона и невольно рассмеялся. У открытой двери метались люди. Они подскакивали, приседали, кидались в сторону, увертываясь от вылетавших из сарая предметов. Кто-то с силой выбрасывал оттуда то табурет, то фонарь, то буханку хлеба. Красной картечью вылетела из сарая и рассыпалась по земле морковь. Затем из двери показался хобот и два бивня. Слон грозно протрубил. Люди отскочили ещё дальше. А Цыган не испугался. Он смотрел на слона и не верил глазам. Но ошибки быть не могло. Один бивень прямой, чуть загнутый кверху, а второй отогнут не вверх, а влево, и на нем — глубокая, заметная издали чёрная зазубрина.
— Оло! — крикнул Цыган. — Оло! Голубчик!
Слон перестал реветь, скосил злые маленькие глаза на мальчишку, пошевелил ушами и протянул к нему хобот.
— Оло! Слонище-дружище! — ласково приговаривал Цыган, приближаясь к слону. — Ну, узнай меня! Узнай!
Слон дотронулся до его плеча, скользнул по шее, по волосам, а потом обвил за плечи и подтянул к себе.
Цыган слышал, как ахнули сзади.
— Не бойтесь! — крикнул он и, подобрав валявшуюся под ногами буханку хлеба, подал её слону. — Ешь, Оло! Ешь!… Что ты расшумелся?
Буханка исчезла во рту у слона.
— Узнал! — обрадовался Цыган и прижался щекой к хоботу. — А папку моего помнишь, Оло? А мамку?
Слон приподнял мальчонку хоботом и покачал его из стороны в сторону, издавая дружелюбное урчанье.
Трое мужчин стояли поодаль и с удивлением и страхом следили за этой сценой. Дрессировщик — бритоголовый человек в ермолке пожал плечами.
— Чертовщина какая-то!
Фельдшер снял пенсне, поморгал красными подслеповатыми глазами и рассудительно произнёс:
— Вы же видите — цыган. У них особый дар на животных. Они, как вы знаете, могут любую дикую лошадь образумить. Язык, вероятно, знают или некий подходец имеют, который позволяет им…
Третий мужчина — владелец цирка — прервал эти рассуждения.
— Не теряйте время! — сказал он, — Мальчик! Ты поласкай его пока! Поласкай!
Фельдшер засуетился. Схватил буханку, надрезал её ножом и насыпал из пакетика большую дозу снотворного. Фельдшер рассчитывал, что Оло, проглотив с хлебом этот порошок, станет на какое-то время вялым, безразличным и позволит наложить на больную ногу пластырь с лекарством.
Но перехитрить слона не удалось. Он взял буханку и закинул её за сарай. Цыган расхохотался.
— Заработать хочешь? — спросил у него хозяин цирка.
— Для Оло могу и бесплатно!
— Дайте ему! — приказал хозяин, и фельдшер отдал Цыгану пакетик с порошком, нож и новую буханку хлеба.
Мальчишка подумал, понюхал порошок и отказался.
— Отравится ещё!
— Это всего лишь снотворное! — пояснил фельдшер.
— Я и без него справлюсь!
Тогда фельдшер принёс большой кусок холста, покрытый толстым слоем мази.
— Этот пластырь надо приклеить к задней ноге. У него там рана.
Цыган отбросил нож, пакетик со снотворным порошком сунул в карман, буханку хлеба отправил в рот Оло и, взяв пластырь, наклонился и полез слону под брюхо. Оло протянул за ним хобот, но не остановил, только похлопал по спине, точно хотел предупредить, чтобы он не сделал больно.
Оло стоял в дверях. Задняя половина туловища находилась в сарае, и мужчины не видели, что делает Цыган. Они слышали только, как он сочувственно приговаривал:
— Ой, какая болячка!… Но ничего, слонище-дружище, потерпи! Заживет! Вот та-ак!… Потерпи ещё немножечко.
И Оло терпел, хлопал ушами-лопухами и ни разу не двинул ни одной ногой. Когда Цыган закончил перевязку и вышел из сарая, слон опять обнял его хоботом.
— Ап, Оло! Aп! — попросил мальчишка, и Оло послушно усадил его к себе на спину.
Хозяин с нескрываемым пренебрежением взглянул на дрессировщика, произнёс: «М-да-а!» — и сказал Цыгану:
— Слушай, парень! Оставайся у меня в цирке! Не обижу.
— Остался бы! — Цыган вздохнул с искренним сожалением. — Не могу… Работаю в другом месте.
— У меня лучше будет!
— Не могу! — повторил мальчишка. — А где старый дрессировщик?
— Ты его знал? — удивился хозяин.
— Нет! — соврал Цыган. — Просто вижу, что этот не того!…
— Ну-ну! — прикрикнул человек в ермолке. — Поговори мне!
— И поговорю! — не испугался Цыган. — Довёл слона!… Тебя бы самого на цепь посадить надо! И чтобы она тёрла тебе ноги днём и ночью!
Человек в ермолке схватил палку с крючком и колючкой на конце — с этой палкой он выводил Оло на манеж — и замахнулся на мальчишку. Но слон так свирепо махнул головой, что дрессировщик отскочил.
Цыган, как с горки, съехал вниз по слоновьему хоботу и с достоинством сказал хозяину:
— Нужно будет — позовёшь. Меня в трактире найти можно.
Он ушёл, а Оло долго трубил — звал своего маленького друга.
С какой бы радостью вернулся мальчишка в цирк и остался бы в нем навсегда! Надоели ему грязные тарелки и пьяные голоса. Опротивел запах трактира. Но Цыган знал: если будет нужно, он не уйдёт из трактира до самой старости, до смерти.
Задумавшись, он шёл посередине улицы и не услышал приближающегося цокота лошадиных копыт.
— Посторонись! — крикнул Карпыч.
Цыган отскочил к забору и пропустил коляску. Платайс поднял руку в лайковой перчатке и погрозил ему пальцем. «Не ушёл! — подумал Платайс. — Наверно, и Мика с беспризорниками ещё в Чите…»
— Ему никак нельзя, — тихо, не оборачиваясь к седоку, сказал Карпыч, продолжая начатый до встречи с Цыганом разговор. — Он — телеграф твой! Сгинет по дурному случаю — и конец, однако! До партизан без него не достучишься! Ни ты, ни я ходов к ним не имеем… С этой бухалкой мне в самый раз идти будет! Только б она не трахнула безвременно, окаянная!…
Карпыч насторожённо взглянул под ноги — на пол коляски. Там, с обратной стороны, между колёс была прикреплена проволокой к днищу коляски самодельная мина с часовым механизмом. Её по просьбе Платайса смастерил партизанский умелец, славившийся на все Забайкалье. Лапотник, передав донесение, составленное по документам, добытым беспризорниками, взамен получил эту мину и привёз в Читу. Через Карпыча он сообщил также, что партизаны одобрили предложенный Платайсом план неожиданного захвата станции Ага. Оставалось теперь согласовать срок с командованием Амурского фронта.
Платайс предполагал, что, получив последние чрезвычайно важные сведения, командование ускорит подготовку общего наступления на читинскую «пробку». Поэтому и сам он должен поторопиться. Надо было побывать и на станции Ага. И здесь, в Чите, предстояло организовать взрыв склада с боеприпасами. Для этого и предназначалась мина с часовым механизмом. Но кто подложит её? Об этом и толковал Карпыч. Он считал, что Лапотника надо поберечь, потому что через него была налажена связь с партизанами.
— Моё это дело — и не спорь! — сказал он Платайсу и повторил: — Только не сыграла б она, однако, прохвостка!… Коня жалко!
— Подумаем, Карпыч, подумаем, — ответил Платайс. — А мины не бойся. Езди спокойно по любым колдобинам — не сработает. Лучшего места не найти: и под рукой всегда, и никто не догадается.
Карпыч остановил коня у дома контрразведки.
— Приехали, господин Митряев!
Платайс заезжал сюда чуть ли не каждый день, как и положено отцу, потерявшему дочь. Но подполковник Свиридов не принимал его. Выходил вежливый адъютант и произносил одну из двух заученных фраз: либо подполковник в отъезде, либо подполковник просит извинить — он очень занят.
И на этот раз Свиридов не принял Платайса.
НОВАЯ БЕДА
Трясогузка бойко торговал свечками. Было воскресенье. Народу пришло в церковь много. Он уже знал в лицо почти всех богомольцев и мог отгадать, кто и какую свечу купит. Эта старуха в чёрном платке возьмёт самую тоненькую — грошовую. Если судить по свечке, слабо она верит в бога. А вот этому солдату потолще приготовить надо. Он не пожалеет гривенника. Только не поможет! Всем семеновцам крышка будет!
Пришёл и трактирщик, у которого работал Цыган. Давай, давай полтину — не жалей! Трясогузка отобрал большущую витую свечу. Покупай, пока деньги водятся! Скоро ликвид-нем твоё заведение в пользу народа!
А зачем это Нинка вдруг заявилась?
Последнее время дочка священника сторонилась Трясогузки. Увидит его — и убежит. А в первые дни отбоя от неё не было: куда Трясогузка, туда и она. Даже церковь подметать помогала.
Нина подошла к стойке, за которой хозяйничал Трясогузка, и как-то странно потупилась, замялась.
— Батя подослал? — ехидно прищурился мальчишка. — Деньги проверяешь?
— Дурачок ты! — робко произнесла девочка, сунула ему какую-то бумажку и убежала.
Трясогузка прочитал: «Ты мне очень-очень нравишься! Только никому не говори!» Он сердито засопел, скомкал в кулаке записку, но потом разгладил её, положил во внутренний карман и забыл про свою торговлю.
— Заснул? — спросил у него Лапотник.
Он через день заходил в церковь, чтобы узнать, нет ли чего от Платайса.
Трясогузка торопливо протянул Лапотнику две свечи. Если бы он дал одну, это означало бы, что никаких поручений пока нет. Свеча потолще была с «начинкой», предназначенной для отправки на партизанский телеграф. Платайс передавал кое-какие новые данные и просил командование фронтом как можно скорее сообщить точное время начала наступления, чтобы приурочить к этому дню захват станции Ага.
Толстую свечу Лапотник засунул под зипун, а с тонкой подошёл к иконе, зажёг и вставил в многоместный подсвечник, в котором уже горело штук десять разнокалиберных свечек. В это время сзади громыхнула об пол медная тарелка, в которую Трясогузка клал деньги. Зазвенела покатившаяся во все стороны мелочь.
Обернулись молившиеся в церкви люди. Священник замер на секунду с приподнятой рукой, качнул головой, глядя на Трясогузку, собиравшего рассыпавшуюся мелочь. И только Лапотник знал, что тарелка упала не случайно.
Он перекрестился несколько раз, подошёл к другой иконе, вынул из-за пазухи толстую свечу, зажёг и поставил перед плоским, бестелесным и холодным ликом святого. Можно было дождаться конца службы, но Лапотник понимал: если за ним пришли, то и они дождутся, не уйдут, не упустят. Он ещё раз перекрестился и, повернувшись к выходу, увидел в дверях офицера и двух солдат. Они, как и все, стояли с благочестивыми лицами, без фуражек. Но по их острым взглядам Лапотник понял, что Трясогузка недаром подал сигнал тревоги.
Не взглянув на мальчишку, он пошёл прямо на солдат. Они расступились.
— Сам идёшь? — насмешливо шепнул офицер.
— Ноги есть пока, — спокойно ответил Лапотник. — Иду.
Они вчетвером вышли из церкви…
— Здравствуй, борода, здравствуй! — приветливо встретил Лапотника подполковник Свиридов.
— Здравствую пока, ваше благородие.
— Почему пока? — возмутился Свиридов. — Будешь честным — будешь здравствовать и дальше.
— Чести сроду не занимал! — ответил Лапотник.
— Вот мы и посмотрим! — воскликнул подполковник. — Садись, борода!
Лапотник сел в кресло. Подполковник сидел за столом, а адъютант подошёл к Лапотнику, встал над ним и, скрестив на груди руки, спросил:
— Помойку у господина Митряева ты выгребал?
— Помойки не было, — покачал головой Лапотник и подумал: «Дознались-таки! Откуда?»
Но он не разгадал эту загадку. Да и Платайс потом так и не узнал, как свиридовская контрразведка напала на след.
— А что было? — спросил подполковник.
— Мусор был: щепа, опилки, сучья…
— Кто же тебя позвал?
— А ентот… управляющий митряевский.
Лапотник не сомневался: живым его отсюда не выпустят, и потому он решил умереть, но с пользой. Решил своими показаниями подтвердить «бегство» управляющего.
— Ну, ну, рассказывай! — поторопил его Свиридов. — Позвал, значит, и что дальше?
— Позвал и — сотенную…
Лапотник испуганно умолк — сделал вид, что сболтнул лишнее.
— Смелей! Смелей! — подбадривал его подполковник.
— А чего смелей? Позвал и заплатил!
— Сотенную? За воз мусора?
Оба офицера рассмеялись.
— По сто рублей за возик! Ты же миллионер! Зачем в лаптях ходишь? — подполковник постучал пальцем по столу. — Проговорился ты, борода! За что же он тебе сотенную сунул?
Лапотник промолчал. Подполковник встал.
— Ты припомни! Может быть, не он, а сам господин Митряев отвалил тебе этот кусочек от щедрот своих?
— Не-е… Управляющий…
— Да за что? — крикнул адъютант.
Лапотник махнул рукой.
— Ладно… Скажу… Велел он, как уезжать буду, флигелёк во дворе подпалить.
— Кто велел?
— Да ентот… управляющий.
— А где он сам был?
— Где ж ему быть-то!… Убег! Как Митряев ушёл с офицером из дома, так и он — тигаля!
— Один?
И опять замялся Лапотник. И уже по этому хорошо разыгранному замешательству можно было догадаться, что управляющий убежал не один.
— С кем? С кем? — нетерпеливо спросил подполковник.
— С кем ещё?… Да с ентой — с дочкой митряевской… Руки-ноги повязал, в мешок — и пофитилил!
— Куда?
— Не знаю.
— Не ври, борода! Говори, куда? — подполковник снова постучал пальцем по столу.
— Куда? — повторил за ним адъютант, вытаскивая из кобуры пистолет.
Левой рукой он схватил Лапотника за бороду и заставил встать, а правой ткнул ему в лицо дуло пистолета.
— А етто зря, ваше благородие! — прохрипел Лапотник. — Не пужливый!
Быстро, рывком он заломил руку с пистолетом офицеру за спину и, как железным обручем, сдавил его до хруста в костях, перегнул чуть ли не вдвое, отшвырнул в угол кабинета и молча пошёл на подполковника, большой, взъерошенный, с напружиненными руками и растопыренными пальцами.
— Осатанел, борода? Сядь!довольно спокойно приказал Свиридов и вдруг крикнул: — Не стрелять!
Но адъютант не мог остановиться. Лёжа в углу, придерживая ослабевшую правую руку левой, он с перекошенным от боли и ненависти лицом посылал пулю за пулей в широкую, туго обтянутую зипуном спину.
Лапотник покачнулся, схватился за подлокотник кресла, хотел повернуться к стрелявшему, но подвели колени. Он устало осел в кресло, будто решил отдохнуть после трудной работы, по-хозяйски выставил ноги в лаптях и больше не пошевельнулся.
Со стоном выполз из угла адъютант. Подполковник недовольно посмотрел на него.
— Какая нелепость!… Зачем вы стреляли?… Такого медведя уложили!
Офицер виновато молчал и, приохивая, ощупывал себя.
— Земля без мужика — не земля! Пустыня! — сказал Свиридов. — А нам пустыня не нужна!… Хотя… — Он нахмурился и с усмешкой произнёс:
— Нам!… А где мы будем завтра? На какой земле?…
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Наступил октябрь 1920 года. По ночам уже приходили с севера морозы. Стекленели лужицы. Мальчишки позатыкали дыры в подвале, но теплей не становилось. Спать укладывались плотной кучкой, которая с каждым днём уменьшалась. Беспризорники по трое переселялись на станцию Ага.
Этот распорядок установил сам Хрящ или, как его теперь называли, всенач, то есть всеобщий начальник. Он знал, что всем сразу из Читы не уехать: семеновцы не собирались предоставлять им специального вагона. Приходилось пользоваться обычными местами, издавна закреплёнными за беспризорниками, — тормозными площадками, угольными ящиками, крышами вагонов. Но и эти места нужно было занимать тайком. Всей оравой на поезд не нагрянешь. Заметят и после того случая с портфелем могут избить, как Конопатого. Потому и уезжали по трое. Хрящ с Микой выбирали очередную тройку и назначали старшего. Первыми отбыли начпрод Малявка и два его помощника.
Мальчишки не спрашивали, почему нужно уезжать из Читы и не в какой-то другой город, а именно на станцию Ага. Так приказывал Хрящ, а ему — начфин Мика, а Мике — ещё кто-то таинственный, добрый и сильный. Таинственный потому, что никто, кроме Конопатого, не представлял, что это за человек. Добрый потому, что все понимали: не сам же Мика печатает эти бесконечные десятки, на которые живут беспризорники. А сильный потому, что большевик. Ведь Мика не скрывал, что они будут воевать за большевиков. И, наверно, эта война как раз и начнётся на станции Ага. Переедут они туда, и тогда им скажут, что надо делать.
Но Платайс назвал эту станцию только для того, чтобы снова не потерять сына. Сам он предполагал встретить красные войска на станции Ага, потому и Мике велел перебраться с мальчишками туда же.
Таков был первоначальный план, но неожиданная гибель Лапотника могла нарушить все. Со смертью Лапотника связь с партизанами прервалась. Платайс не мог узнать день и час наступления. Без этого операция на станции Ага лишалась смысла. Захватить станцию нужно в день решительного штурма читинской «пробки». Тогда семеновцы не смогут ни подбросить подкрепления к Чите, ни откатиться на юг к маньчжурской границе.
Но как теперь узнать эту дату? И Платайс откладывал поездку на станцию Ага. Он ждал и верил, что партизаны и командование фронтом найдут возможность связаться с ним. Им известны все адреса: и особняк Митряева, и церковь с Трясогузкой, и трактир с Цыганом.
И Платайс дождался.
Ночью постучал в окно Трясогузка. Войдя в дом, он загадочно улыбнулся и протянул свечу.
— Кто принёс? — спросил Платайс, срезая донышко.
— Отгадайте?
— Гадать некогда! — строго сказал Платайс.
— Тётя Майя, — обиженно ответил Трясогузка.
— Кто-о?
Платайс торопливо вытащил из свечи бумажку и сразу же увидел самоё главное — дату. Ему приказывали в ночь на 19 октября обеспечить захват станции Ага партизанами. План этой операции оставался прежним. Кроме того, командование фронтом приказывало оказать помощь Майе, которая приехала в Читу как артистка. Владелец цирка, послав приглашение актёрам распавшейся труппы, и не подозревал, что приобретёт сразу и хорошую воздушную гимнастку, и советскую разведчицу.
Не только для связи с Платайсом приехала Майя. Её направили в тыл врага с важным заданием, касавшимся предстоящего освобождения от оккупантов всего Дальнего Востока. Вот почему командование приказывало помочь Майе и всему цирку выбраться из Читы до начала боев.
— Держись, парень! — весело сказал Платайс Трясогузке. — Сознайся: надоело псалмы и молитвы слушать?
— Привык уже.
Платайс подсел к мальчишке.
— Жди сегодня Карпыча. Покажешь ему своё хозяйство. Бинокль возьми у Цыгана.
Трясогузка все ещё сердился и отвечал вяло, односложно.
— Да ты не дуйся! Пойми — некогда в гадалки играть! — Платайс похлопал его по колену. — Что бы я без вас делал? Без таких помощников!…
— Не заигрывайте!
— И не думаю! — Платайс встал. — Слушай приказ!
Встал и Трясогузка.
— Склад с боеприпасами — твоё хозяйство. Ты за него и отвечаешь вместе с Карпычем!
— Сделаем.
— Верю! И сразу же уходи!… Ребят найдёшь на станции Ага.
— Ясно! — повеселел Трясогузка…
На следующее утро, забрав с собой все деньги, Платайс вышел за ворота. Карпыч был уже на месте.
— Доброе утро, господин Митряев!
— Доброе, Карпыч, доброе! — Платайс сел в коляску. — Время, Карпыч, пришло… Сегодня!
— Ну-у! — старик оживился. — Слава тебе, господи!… Надоело, однако, на проклятущей ездить. Взыграет — коня жалко!
— Что конь! Ты сам будь… — Платайс запнулся. — Не имеешь ты права ошибиться! Хочу тебя целым видеть!
— Кто умирать хочет?… А только она не спрашивает, однако, смертушка-то!
— Хочу видеть тебя целым! — повторил Платайс.
— Авось свидимся, однако… Не кручиньтесь, господин Митряев!
— Я её на три часа заведу, — сказал Платайс, и больше они об этом не разговаривали.
Карпыч, как большинство извозчиков, болтал всякие байки, вспоминал последние городские сплетни и слухи. Платайс удивился, когда узнал, что вся Чита говорит про новую цирковую артистку Габриэллу. Она выступила всего один раз — вчера вечером, но её уже запомнили.
— Красива, говорят, шельма, до невозможности, — болтал Карпыч. — И по воздуху, говорят, прямо-таки порхает, как мотылёк весенний… И набожная, однако. Как приехала — сразу в церковь. Помолилась — дело у неё опасное…
— Куда уж опаснее! — отозвался Платайс.
— Может, она — Лапотник без лаптей? — спросил хитрый старик. — Потому, может, и утро доброе сегодня?
Эту тайну можно было и не открывать Карпычу, но Платайс почему-то не смог соврать. Он просто не ответил на этот вопрос.
— Какого человека потеряли! — сказал он. — Когда все это кончится, Карпыч?
— Кончится, однако! — сказал старик. — Народ — он своё возьмёт! А что народу надо? Тишь надо, да гладь, да всякую благодать!… Заживём, господин Митряев!… А Лапотнику я крестик обряжу… Видел, где зарывали его, однако…
Платайс в первую очередь побывал на вокзале, выяснил через своих людей, что от цирка давно подана заявка на четыре грузовых вагона. Он попросил найти и предоставить их цирку. Выдал деньги, чтобы их подсунули кому надо. Заказал он и ещё один грузовой вагон — для себя лично. Этот вагон железнодорожники должны были в течение дня перегнать на станцию Ага.
Затем Карпыч повёз своего седока к дому контрразведки. Платайс ехал к Свиридову и не чувствовал ничего, кроме ненависти. Он не знал, как погиб Лапотник, но был уверен, что от него в контрразведке не добились никаких показаний. Он надеялся, что подполковник опять не примет его. Это было бы очень кстати. Не хотелось видеть Свиридова. Платайс опасался, что, встретившись с человеком, погубившим Лапотника, он не сможет сыграть роль несчастного отца, потерявшего надежду на возвращение дочери. Но и не ехать нельзя. Покажется странным, что Митряев перед отъездом из Читы не попытался ещё раз навести справки о Мэри.
Как назло, Свиридов приказал адъютанту пропустить Платайса. Он вошёл в кабинет и сказал с надеждой в голосе:
— Вы несколько раз отказали мне в приёме. Я боялся, что и сегодня… И вдруг!… Неужели вы… обрадуете меня?
— Кое-что начинает проясняться, — сухо ответил подполковник. — Но и вы со своей стороны могли бы помочь мне!
— Как? — вырвалось у Платайса. — Я все… Я готов! Прикажите только!
— Надо заставить этого подлеца дать о себе знать. Вы же помните, чего он ждёт.
— Я так и делаю! — воскликнул Платайс. — В Чите все продано, кроме дома. А сегодня я еду на станцию Ага.
— Ага? — переспросил подполковник.
— Да. Там железа на несколько тысяч… Я даже думаю обмануть этого негодяя! Если покупателей не будет — заставлю погрузить железо в вагон. Он подумает, что все продано, и назначит место и время встречи. Ведь так он писал!
Эти рассуждения показались Свиридову наивными, но он не стал разубеждать собеседника и снова спросил:
— Так значит — в Ага?… Интересное совпадение!… Если не возражаете, я буду вашим попутчиком.
— Вы тоже туда? И тоже сегодня? — Платайс сделал над собой усилие и приветливо улыбнулся. — Очень приятно!
И оба подумали об эшелоне с ранеными красноармейцами. Платайс почему-то не сомневался, что этот выезд подполковника каким-то образом связан с эшелоном, который уже второй день стоял в тупике на станции Ага. Знал Платайс также, что в вагонах раненых не было. На одном из перегонов партизаны остановили состав, подменили охрану и увезли раненых в свой лагерь. Вместо них в вагоны погрузился диверсионный отряд. Для маскировки всех бойцов заранее обмотали марлевыми повязками и бинтами. И сейчас на станции Ага в тылу у семеновцев находился кулак, всегда готовый к бою. Если Свиридов решил поехать туда, чтобы присутствовать при расстреле красноармейцев, то он просчитался. Расстрела не будет, но помешать операции — рассекретить раньше времени этот боевой кулак — он мог.
Так думал Платайс, а у Свиридова мысли были другие. Никого расстреливать он пока не собирался. Он хорошо изучил все донесения семеновской разведки и предвидел близкий разгром. Даже по ночам ему виделась карта «пробки». Трезво оценивая обстановку, он представлял будущие бои и понимал, что семеновцам не миновать окружения, «мешка», из которого трудно будет выбраться. На этот случай и приказал он перегнать эшелон с захваченными в плен ранеными на станцию Ага. По его тайному распоряжению их даже неплохо кормили и снабжали кое-какими лекарствами, над которыми бойцы диверсионного отряда хохотали до слез.
Подполковник боялся, что, попав в окружение, а потом в плен, он неминуемо предстанет перед военным судом. За эшелон со спасёнными ранеными Свиридов надеялся выторговать если не свободу, то хотя бы жизнь.
— Вы надолго туда? — спросил Платайс.
— Дня на два.
— А помните… — Платайс опять помрачнел. — Ещё до всего этого… Помните, вы пошутили, что не выпустите меня из Читы без прощального ужина?… Настроение у меня — сами понимаете… Но для вас… Возможно, и самому полегче будет… Что, если мы на этой станции гульнём немножко?
— В Ага?… Что вы, господин Митряев! Там буфет с бутербродами ещё николаевских времён и больше ничего!
— Но я слышал: буфет принадлежит читинскому трактирщику… Если хорошо заплатить… Выедет с поваром и обслужит наш пикник…
— Да, но… сколько это будет стоить!
— Что мне деньги!… Мне дочь дороже всех сокровищ! Я без Мэри отсюда не уеду!
— Даже если сюда придут красные?
— Даже!… Уж они-то найдут мою дочь!
— Зачем же так мрачно! — подполковник покачал головой. — Вам действительно надо поразвлечься!…
От Свиридова Карпыч повёз Платайса в трактир. За обедом он спросил у трактирщицы, какой доход приносит их заведение за день работы. Не зная, куда клонит господин Митряев, она раза в три завысила цифру. Платайс отсчитал названную сумму и сказал:
— Завтра вечером вы будете обслуживать моих гостей, но не здесь, а на станции Ага.
Трактирщица приоткрыла рот, но он не дал ей говорить.
— Знаю! За хлопоты по переезду получите дополнительно проценты.
Он отсчитал ещё несколько сотен. Но трактирщица опять приоткрыла рот.
— Что ещё? — спросил он. — Мало?
— Господин Митряев… Мы обслужим вас в лучшем виде!… Но хотелось бы, чтобы и здесь трактир не закрывался. Смею вас уверить — это вам не помешает! На станции Ага будет все самое лучшее!
— Хорошо! — ответил Платайс. — Да!… Вот ещё что… У вас цыганенок служит. Пошлите его туда с гитарой! Пусть повеселит моих гостей…
ВПЕРЁД, ОЛО, ВПЕРЁД!
Дотемна Карпыч и Трясогузка просидели на колокольне. Старик смотрел в бинокль, а мальчишка рассказывал. Он знал своё «хозяйство» так, будто сам разводил и проверял караулы. Семеновцы выбрали для склада очень удобное место. Мелкий березняк хорошо маскировал многочисленные навесы, под которыми хранились ящики с боеприпасами. А вокруг склада с трех сторон было чистое поле. И лишь справа, недалеко от дороги, проложенной к воротам, длинным языком тянулась болотистая низина, поросшая кустарником. Она вплотную подходила к сторожевой тропе, сразу же за которой начинался забор из колючей проволоки. По тропе ходил наружный патруль — по одному часовому на каждую из четырех сторон склада. Внутренний караул с пулемётами находился на сторожевых вышках, установленных по углам.
Чтобы подбросить мину, надо было проползти низиной до тропы. От неё до ящиков со нарядами не больше пяти метров.
— А фонарей у них нету? — спросил Карпыч.
— Каких? Карманных?… Есть, наверно, — ответил Трясогузка.
— Да не про то! — Карпыч забыл нужное слово. — Ну, этих… больших, однако!
— Прожекторов? — догадался Трясогузка. — Нету! Не бойся!
— Не бойся, говоришь? — улыбнулся старик.
— А боишься — давай я!
— Горяч ты, паря, однако!… Не торчи ночью наверху. Я складов не взрывал, — может, половина Читы развалится?… Поберегись!
— А я взрывал! — Трясогузка вспомнил, как они сыпали порох в кухонную трубу. — Ничего особенного — печку и стену разворотило, и все!
— Поберегись, однако! — повторил Карпыч. — Укройся — мне спокойней будет.
— Ладно! — пообещал Трясогузка и подумал: «Шиш-то я уйду отсюда!»
Караул у склада сменялся в полночь. Карпыч решил подбросить мину до смены, когда часовые уже устали и с томительным ожиданием поглядывают на караульное помещение: не показался ли разводящий унтер-офицер с новыми патрульными.
В десятом часу Карпыч спустился с колокольни, а Трясогузка остался наверху. Порывами налетал ветер. Потом набрался сил и упруго подул с севера, плотный и холодный. Стало ещё темнее, и повалил первый в ту зиму снег.
— Снег-снежок! Белый пушок! — пропел кто-то внизу.
Трясогузка узнал голос Нины и услышал её быстрые шаги. Она поднималась на колокольню. «Чего ей надо! — недовольно подумал он. — Лезет, когда не до неё!»
— Ты здесь? — спросила Нина.
— Ну, здесь.
— Я так и думала!… Смотри — первый снежок!
— Ну и что?
— Ничего… Я всегда радуюсь первому снегу… А почему — не знаю. Как праздник!
Нина подсела к Трясогузке. Было темно-темно. Долго сидели они молча. Нина все никак не могла решиться. Наконец решилась и чуть слышно спросила:
— Ты читал?
— Ну, читал.
— Чего-нибудь мне скажешь?
— Пристала! — рассердился Трясогузка. — Может, и ты нравишься, а что из этого! Некогда мне сейчас!
— Мне больше ничего и не надо, — покорно ответила Нина. — Хочешь, я уйду?
— Ладно, сиди! — разрешил Трясогузка. — Я сам скоро уйду от вас.
— Тебе у нас плохо?
— Не плохо, а нужно… Могу вернуться потом, только вас тут не будет!
— Почему?
— Твой батя от красных удерёт.
— А он их не боится. Знаешь, что он говорит?… Красные хоть и антихристы, а люди хорошие.
— Тогда, может, и вернусь.
— Я тебя ждать буду!
— Ну, жди… Только я в церкви работать не стану! И ты чтоб в попа не превратилась!
Нина рассмеялась весело, счастливо.
— Женщина не может быть священником!
— Ну и хорошо… А то будешь махать кадилом, как дура!…
У склада раздался выстрел. Трясогузка вскочил и подбежал к перилам. Выпучив глаза, уставился в упругую, смешанную со снегом тьму. Ничего не было видно…
Ничего не видел и только что выстреливший часовой. Он стоял на тропе и, как Трясогузка, пялил глаза. Вокруг — снег и ветер. И ничего больше. А несколько секунд назад ему показалось, что в низине по тонкой снежной подстилке, прикрывшей болотные мхи, кто-то прополз от куста к кусту. Часовой пальнул наугад и теперь стоял и с суеверным страхом прислушивался.
К нему уже бежали из караулки унтер-офицер с фонарём и несколько солдат.
— Чего стрелял? — спросил унтер, видя, что никого из посторонних поблизости нет.
— Вроде двигалось… Шевелилось вроде… — неуверенно сказал часовой, указывая дулом винтовки в сплошную стену несущегося по ветру снега. — А потом — сгинуло… Ни-ни!
— Проверил?
— С тропы, никак нет, не сходил! Без лыж туда не сунешься!
Унтер тоже знал, что болото топкое. Чуть отойдёшь от края и провалишься по пояс в жидкую грязь, смешанную со снегом. Ползком пробраться можно или на лыжах. Но пачкаться унтеру не хотелось, а лыж часовым ещё не выдавали. Никто не ждал такого раннего снега.
— Небось в кошку бил, серятина! — обругал он солдата и приказал, сменившись с поста, достать лыжи и прочесать кусты на болоте…
А Трясогузка словно примёрз к чугунным перилам колокольни. Нина что-то говорила, тормошила его. Он не отвечал. Порой ему казалось, что через плотную пелену снега от склада пробивается свет. С каждой минутой чувство тревоги усиливалось. Сколько дней провёл мальчишка на колокольне и никогда не слышал, чтобы у склада стреляли. Неспроста прозвучал выстрел! И ещё этот свет ночью!…
Трясогузка повернулся к Нине, схватил её за руки.
— Есть у тебя одёжа какая-нибудь белая?
— Замёрз?… Принести пальто?
— Оглохла! — горячился Трясогузка. — Оно у тебя белое, что ли?
— Коричневое… А зачем тебе белое?
— Надо! Надо! — почти прокричал Трясогузка.
— Балахон хочешь?
— С мертвеца?
— У покойников — саван, — пояснила Нина. — А балахон — у кучеров, которые отвозят мёртвых на кладбище.
— Давай балахон!…
Длинный до пяток, из грубого, какого-то калёного материала балахон мешал Трясогузке бежать, но зато делал его почти незаметным. Добравшись до первых кустов и почувствовав под ногами зыбкое болото, он лёг на живот, чтобы не провалиться. Снег был чистый, нетронутый, белый, и даже в темноте Трясогузка быстро нашёл следы Карпыча.
Мальчишка ни о чем сейчас не думал. Какая-то сила гнала его вперед, и он, где на четвереньках, а где ползком, продвигался от кочки к кочке. Он заметил, что следы сапог кончились. Дальше Карпыч тоже не шёл, а полз. В снегу остался неглубокий ровик, заплывший ледяной кашицей. Холода Трясогузка не ощущал. Он ничего не чувствовал — даже страха.
Полз и полз по оставленной Карпычем бороздке, пока не уткнулся головой во что-то твёрдое. Приподнялся на локтях — перед носом чернели подмётки.
— Карпыч! — шёпотом позвал Трясогузка и постучал по подмётке.
Ноги не шевельнулись. Мальчишка принял вправо и припал ухом к груди старика. «Тик-тик-тик-тик…» — услышал он и подумал: «Жив!». Но под ухом была какая-то твёрдая круглая штука. Тикал часовой механизм мины. Когда Трясогузка понял это, он растерялся.
Потом такая отчаянная злоба поднялась в нем, что он, вытащив из-под одежды убитого тяжёлую, похожую на консервную банку мину, готов был броситься напролом к складу. Убьют, так убьют!… Но кому от этого лучше будет? Им же, семеновцам! И мальчишка не вскочил, не побежал, а пополз осторожно, медленно, метр за метром.
Он не добрался до сторожевой тропы. У склада началась смена караула. За сумятицей снега угадывались светлые расплывчатые пятна фонарей. Послышались голоса и шлёпанье лыж по мокрому снегу. Световые пятна приближались. И Трясогузка, прижав к груди тикающую мину, пополз назад.
Куда теперь? Что делать с миной? Как взорвать склад?
Десятки вопросов и ни одного ответа! И посоветоваться не с кем: Платайс и Мика с беспризорниками уехали. Один Цыган ещё в Чите. Но что они могут придумать даже вдвоём?…
* * *
Солдаты нашли убитого Карпыча. Принесли его в караулку. Многие знали старого извозчика в лицо. Удивились, зачем он полез в это болото. Унтер снял с Карпыча сапоги, обшарил всю одежду и ничего не нашёл. Сел писать донесение о случившемся. И тогда один солдат сказал:
— Не перехватил ли он лишку?… А мы тут гадаем — в диверсанты старика записываем!
Кто-то нюхнул. От щетинистых усов Карпыча явно пахло водкой. Перед тем, как лезть в болото, выпил старик косушку, чтобы не застудиться, а бутылку выкинул.
Унтер разорвал начатое донесение: пьяный старик — не происшествие, а то, что убили его, — сам виноват. Ещё раз обругав серятиной солдата, стрелявшего в Карпыча, унтер ушёл в свою комнатушку. Но спать в ту ночь ему так и не удалось. Только он лёг, не разуваясь, на скрипучую кровать, как где-то у ворот склада раздался новый выстрел.
На часового, охранявшего ворота, из темноты и снега, кружившегося над дорогой, надвигалось что-то огромное, бесформенное. Пятясь, солдат лихорадочно дёргал застрявший затвор винтовки.
— Дяденька! Не стреляй! — зазвучал в темноте голос Цыгана. — Он больной! Не стреляй! Он поправится!
— Не стрелять! — приказал часовому подбежавший унтер-офицер.
Солдат уже и сам опустил винтовку: он узнал циркового слона. Оло знали уже все.
— Заворачивай его! Заворачивай! — проревел унтер. — Сюда нельзя!
Цыган сидел на слоне и прокричал в ответ:
— Его не завернёшь! Он больной! — а потише мальчишка повторял: — Вперёд, Оло, вперёд!
Тихой рысцой слон добежал почти до самых ворот и, повинуясь лёгкому хлопку Цыгана, свернул влево на сторожевую тропу и затрусил вдоль проволочного забора. Сзади у ворот продолжали шуметь и кричать, но уже не зло, а скорее шутливо, сочувственно:
— Ноги ему не отморозь!
— Слева болото — не завязни!
Зычно на всю линию постов гаркнул унтер:
— По слону не стреля-а-ать!
Увидев штабеля ящиков, Цыган размахнулся и перебросил мину через забор под навес.
— Быстрей, Оло, быстрей!
Ни Трясогузка, ни Цыган не знали, когда должен сработать часовой механизм. Освободившись от страшного груза, мальчишка лёг на спине у слона и нетерпеливо постукивал кулаком по шершавой коже.
— Быстрей, быстрей, Оло!
Болото слева кончилось. Цыган заставил Оло свернуть с тропы на снежную целину. Забор склада остался сзади.
— Вперёд, Оло, вперёд!
На голове слона была огромная шапка-ушанка, на спине — ковровая попона, на ногах — меховые унты. Он бежал, оставляя на снегу широкие круглые вмятины…
НА СТАНЦИИ АГА
От Читы до станции Ага четыре часа езды. Вместо вокзала деревянный приземистый дом, похожий на длинный барак, три-четыре десятка изб по ту и другую сторону железнодорожного пути, на отлёте заколоченный склад купца Митряева — вот и вся станция. Три колеи: две основных, а третья вела в тупик. Здесь стоял изрешечённый пулями и осколками эшелон с красными крестами на стенах теплушек. В конце состава — пассажирский вагон. В нем размещалась охрана эшелона, пригнанного сюда по личному распоряжению подполковника Свиридова.
С недавнего времени на станции появилась и четвёртая колея. Она отходила от основного пути и заканчивалась в лесу. Это была стоянка бронепоезда. Сейчас колея пустовала. Бронепоезд подтянули к Чите. В лесу остались землянки и блиндажи. За лесом начиналось болото с густыми островками камыша, с чёрными зловещими окнами стоячей воды.
Как и все станции от Читы до маньчжурской границы, Ага была хорошо укреплена. Две роты семеновцев жили в избах, в землянках, вырытых вдоль железнодорожной насыпи. Патрульные дрезины с пулемётами днём и ночью разъезжали по дороге. Охранялись все подступы к станции. Только в лесу, на пустовавшей стоянке бронепоезда, не было часовых. Се-меновцы знали: болото — лучший сторож. Лишь зимой замерзали бездонные окна, твердели мхи, а осенью это было гиблое место. Никто не проберётся.
Гарнизон станции отупел от однообразной караульной службы, от томительного предчувствия надвигающейся беды, Солдаты потихоньку воровали с митряевского склада листы железа и обменивали их у местных жителей на самогон. Офицеры собирались в грязном буфете, пили, ссорились, играли в карты.
Приезд подполковника Свиридова с адъютантом и господином Митряевым был для офицеров неожиданным и приятным сюрпризом. Платайс намёкнул, что офицеры могут рассчитывать на ужин, и попросил выделить людей для погрузки железа в вагон.
Платайс и Свиридов приехали в шестом часу утра, а в девять телеграф принёс известие о взрыве склада с боеприпасами в Чите. На подполковника это подействовало самым удручающим образом. Он не сдержался и сказал адъютанту при Платайсе:
— Плохо… Нервы сдают… Кажется, что кто-то стоит за спиной, вмешивается, диктует свою волю… Документы… Теперь этот склад…
— Документы? — спросил Платайс.
Свиридов уже взял себя в руки и заговорил о другом:
— Не хотите ли отправиться со мной на экскурсию?
Платайс недоверчиво улыбнулся.
— Едва ли здесь найдётся хоть что-нибудь примечательное!
— Как вам сказать… Я боюсь, что вы уедете в Японию, так и не повидав настоящих красных.
— Есть пленные?
— Целый эшелон… Пойдёмте?
— Любопытно! — воскликнул Платайс, хотя никакого любопытства не чувствовал.
Этот визит был очень опасен. Подполковник мог раскрыть секрет эшелона. Да и бойцы диверсионного отряда — люди решительные. Пристукнут Свиридова, а заодно и Платайса. Ведь никто не знает, что за гражданский тип пожаловал к ним в гости.
— А не опасно? — спросил Платайс.
— Гарантирую! — небрежно ответил подполковник.
В сопровождении адъютанта они вышли на пути.
Выстроившись в длинную цепочку между складом и железной дорогой, солдаты грузили в вагон железные листы.
— С вас причитается, господин Митряев! — крикнул унтер-офицер, руководивший погрузкой.
— Будет! Будет! — обещал Платайс. — Когда кончите, загоните вагон на ту ветку! — он указал на колею, уходившую в лес. — Подальше, чтоб никому не мешал!
— Не извольте беспокоиться! — обрадовался унтер и подбодрил солдат:
— Шевелись! Шевелись!
«Глупец! — подумал о Платайсе Свиридов. — Тебе бы бежать отсюда без оглядки, пока бои не начались, а не с железом возиться!»
К санитарному эшелону подавали маневровый паровоз. Вступал в силу план Платайса. Железнодорожники из подпольной группы сумели добиться от коменданта станции разрешения на перегонку эшелона из тупика на пустовавшую лесную колею. Там должны оказаться рядом и вагон с железом, и диверсионная группа. Вечером бойцы вместе с охраной эшелона, состоявшей из переодетых в семеновскую форму партизан, сгрузили бы листы железа и проложили бы через болото железную тропу, обеспечив безопасный и незаметный проход на станцию дополнительного партизанского отряда.
Все было предусмотрено, кроме приезда подполковника Свиридова и этой экскурсии к эшелону…
Увидев маневровый паровоз и узнав, что комендант распорядился перегнать санитарный состав в другое место, подполковник отменил этот приказ. С сожалением смотрел Платайс, как паровозик, отфыркиваясь паром, отошёл от состава. Стройный план дал трещину, которую трудно было заделать.
Свиридов заговорил с охраной эшелона — с одетыми в семеновские шинели партизанами.
— Живы? — спросил он у синеглазого парня в лихо заломленной фуражке.
— Раненые-то? — часовой покосился на теплушки, из которых выглядывали встревоженные санитарки. — Живы!… Теперь чего не жить: и кормят, и бинты дают.
— Никто не убежал по дороге?
— От неё не убежишь!парень похлопал по винтовке.Пуля и не калеченных догоняет!
Свиридов оглянулся на Платайса.
— Можно начинать экскурсию.
Но парень с винтовкой решительно преградил дорогу к вагонам.
— Не могу, господин подполковник! Никого пускать не велено!
Свиридову понравилась такая строгость, и он спросил:
— Кто не велел?
— Подполковник Свиридов! — отчеканил часовой.
— Он — перед тобой! — Свиридов шутливо прищёлкнул каблуками. — Спасибо за службу!
Но парень не сдался.
— Не могу! — повторил он. — Разрешите вызвать начальника караула?
Подполковник разрешил, и из пассажирского вагона прибежал начальник — молодой курносый унтер-офицер. Он вежливо осведомился, по всем ли теплушкам желает пройти подполковник Свиридов, предупредил, что воздух там тяжёлый и что раненые не стесняются в выражениях.
— Мы не барышни! — успокоил его подполковник. — А по всем не надо. Думаю, хватит и одной.
Унтер махнул рукой, и два солдата притащили откуда-то деревянный щит. Свиридов, Платайс и адъютант, как по сходням, поднялись в теплушку и остановились в дверях. Внутри было темно. Удушливо пахло лазаретом. У стен теплушки лепились трехъярусные нары. Желтели бинты. Раздавались стоны.
«Артисты!» — восхищённо подумал Платайс и еле удержал рвавшуюся с губ улыбку.
— Братцы! — негромко сказал подполковник, вспоминая заранее обдуманные фразы. — Раненые перестают быть врагами!
На нарах зашевелились и застонали ещё громче. Люди повернулись к Свиридову. У кого был завязан глаз, у кого прихвачена бинтом челюсть, а с самой нижней полки на него смотрел марлевый шар с тремя чёрными дырками — для глаз и рта. Эта страшная белая голова невольно приковывала внимание, и подполковник, произнося короткую миролюбивую речь, не спускал с неё глаз.
— Мы вас кормим и будем кормить! — говорил он. — Это обещаю я — подполковник Свиридов! Мы делимся с вами нашими медикаментами! Я надеюсь, вам не на что жаловаться?
— Домой бы! — прошепелявил кто-то из темноты.
— Я тоже хочу домой! — с пафосом воскликнул Свиридов. — Будем же, братцы, надеяться, что все мы скоро разойдёмся по домам!…
— К чему эта комедия? — спросил Платайс, когда они возвращались к вокзалу.
Подполковник шевельнул усами.
— Вы считаете это комедией?
— Конечно. Вы же их все равно расстреляете!
— Не знаю! Не уверен! — растягивая слова, произнёс Свиридов и, заметив вдалеке облачко дыма, прищёлкнул пальцами. — А вот, кажется, и наш ужин едет?…
С этим поездом приехала кухонная бригада во главе с трактирщицей. Тайком прибыл и Трясогузка. Цыгану было известно, что его командир мёрзнет в узком и грязном угольном ящике под вагоном. Сам Цыган ехал барином в купе. На станции Карымская, где поезд стоял минут пятнадцать, он навестил своего командира и принёс ему бутерброд. Они обменялись последними новостями и обсудили одно заманчивое предложение, которое пришло Цыгану в голову, когда он узнал, что будет банкет для офицеров. Требовался шприц, и Трясогузка обещал на станции Ага поднять на ноги всех беспризорников и раздобыть его.
Состав был смешанный. Пассажирские вагоны чередовались с грузовыми. В хвосте поезда в четырех вагонах ехала цирковая труппа.
Когда поезд остановился, Трясогузка вылез из ящика под вагоном, лёжа на шпалах, огляделся и увидел за канавой сложенные в длинную гряду щиты, которые зимой устанавливаются вдоль пути, чтобы предотвратить снежные заносы. Он выполз из-под вагона, перепрыгнул через канаву, забежал за щиты и столкнулся с посланцем Хряща.
Мальчишки по очереди дежурили на станции — встречали своих переселенцев. Вчера приехала последняя тройка: Мика, Хрящ и второй телохранитель с плетёным креслом. Вроде все. Но Мика настоял на продолжении дежурства. Он знал, что Цыган и Трясогузка тоже переберутся на эту станцию.
Трясогузка дружески ткнул беспризорника кулаком в живот.
— Кого ждёшь?
— Тебя и Цыгана.
— Остальные все приехали?
— Приехали.
— Снимайся с поста! — приказал Трясогузка. — Где устроились? Веди!
Беспризорники жили в блиндаже, вырытом в лесу командой бронепоезда. Здесь было теплее, чем в развалинах лесопилки, но зато голодно. Микины деньги помогали плохо. У солдат ничего не купишь, а на станции
— ни базара, ни лавчонки. Начпрод Малявка с помощниками сбился с ног в поисках еды.
Когда бывший телохранитель привёл Трясогузку, мальчишки как раз заканчивали скудный обед. В блиндаже был тот же порядок, что и в подвале. В центре в плетёном кресле сидел Хрящ. Рядом с ним на ящике из-под снарядов — Мика и второй, ещё не получивший отставки, телохранитель. А остальные располагались вокруг.
— Здорово, ребята! — сказал Трясогузка и пожал Мике руку. Подошёл к царьку. — Здорово, Хрящ! Дельце у меня к тебе будет!
— Я не Хрящ! — ответил царёк. — Я теперь всенач!
— И делишками мы больше не занимаемся! — добавил Мика, подмигнув другу.
— А как это у вас теперь называется? — спросил Трясогузка.
— Боевое задание, — подсказал Мика.
— Ясно! — Трясогузка подтянулся. — Товарищ всенач! — Он по-приятельски толкнул Хряща. — Выручай! Пропадём без тебя!
— Ну, чего, чего? — улыбнулся царёк. — Пушку притащить или пригнать бронепоезд?
— Шприц нужен!
Хрящ не знал, что такое шприц, но расспрашивать не стал, крикнул, как всегда, хотя мальчишки и так слышали весь разговор:
— У кого шприц на примете имеется?
Никто не отозвался. Потом все по привычке повернулись к Конопатому. И он тоже скорей по привычке, чем осмысленно, сказал:
— У меня.
— Добыть можешь?
— Глаз — как шило! Могу!… Только что это такое?
Беспризорники расхохотались, а Мика объяснил, как выглядит шприц и для чего он применяется.
Конопатый ещё не совсем поправился после побоев. Болело сломанное ребро. Но он не отказался от задания. Ушёл и часа через три вернулся с настоящим медицинским шприцем.
БАНКЕТ
Слух о том, что на станцию приехал Митряев, быстро распространился по округе. В крестьянском хозяйстве всегда есть нужда в железе, а в те годы она была особенно острой. Разрушенная войной промышленность почти ничего не давала селу.
Во второй половине дня на станцию пришли деревенские ходоки.
Платайс занимал светёлку в просторном доме недалеко от вокзала. Мужики разузнали, где он живёт, и всей гурьбой ввалились к нему.
Не до них было Платайсу. Он видел из окна, как солдаты закончили погрузку железа и без паровоза, своими силами откатили вагон на лесную колею. Но теперь это было ни к чему. Некому воспользоваться железными листами!
— Берите их хоть задаром! — в сердцах сказал он мужикам.
Ходоки неодобрительно закрякали. Седой дед выступил вперёд и укоризненно посмотрел на Платайса.
— Мы — не голь перекатная, господин Митряев! Мы привыкли за добро платить! Сделай милость — назови свою цену!
Переговоры затягивались. Платайс думал о другом. Вспомнив о мальчишках, он повеселел и мигом закончил торг:
— Приходите завтра. Вам будет выгоднее — цены понизятся!
Он выпроводил озадаченных мужиков и задумался. Нет ли какого-нибудь просчёта? Не погубит ли он ребят этим заданием? Не лучше ли вообще отказаться от железа? Может быть, станцию удастся захватить силами одной диверсионной группы из санитарного эшелона?
В дверь опять постучали. Пришла трактирщица окончательно согласовать меню на ужин. Он и её выпроводил довольно быстро. Из-за спешки трактирщица забыла спросить, ставить ли на стол самогон или только водку и коньяк. С этим важным для неё вопросом она прислала к Платайсу Цыгана.
Мальчишку так и подмывало рассказать, как ловко они с Трясогузкой и Оло подорвали склад, какой был фейерверк над Читой, как полыхало высоченное пламя и рвались снаряды, точно красные уже штурмовали город. Но Цыган не успел похвастаться.
— Мика здесь? — спросил Платайс, даже не поздоровавшись.
— Здесь.
— А Трясогузка?
— У меня. Дрова для кухни колет.
— А беспризорники?
— Тут.
— Где?
— Вон в том лесу! — Цыган показал рукой в окно. — Там блиндаж — Трясогузка рассказывал…
Платайс на листке бумаги быстро начертил небольшой план: лес с железнодорожной колеёй, почти доходившей до болота, топь с камышами и мхами, а на противоположном берегу — сопка. Между этой сопкой и тупиком колеи он провёл стрелку и вдоль неё написал: «150 метров».
Выслушав Платайса, Цыган убежал, тоже забыв спросить про самогон. Пришлось вернуться.
— Самогон не помешает! — сказал Платайс. — Чем больше, тем лучше.
— Всем хватит! — загадочно улыбнулся мальчишка. — А вы сами пейте только самогон! — предупредил он. — Он из хлеба — полезный.
— Постараюсь не пить ничего.
— Самогон можно! — разрешил Цыган. — Но я вам ещё напомню перед банкетом!
— Ты что-то не договариваешь? — насторожился Платайс.
— Не бойтесь! Напомню! — сказал мальчишка и убежал.
Он пока не хотел раскрывать свой секрет…
К вечеру потеплело. Вчерашний снег растаял. Грязи прибавилось.
В сумерках беспризорники вышли из блиндажа. Все — даже Хрящ. Телохранитель вынес плетёное кресло.
— Сто пятьдесят метров — это триста шагов! — вслух подсчитал Малявка.
— А хоть и пятьсот! — оборвал его Хрящ и приказал: — Берись! Дружно!
Мальчишки, как мухи, со всех сторон облепили вагон, стоявший на рельсах.
— И-и-и взяли!… И-и взяли! — тихо командовал Трясогузка.
На пятый раз вагон стронулся с места и медленно покатился к земляной подушке, в которую утыкались рельсы. Здесь путь обрывался. Дальше шёл пологий спуск к болоту, через которое и надо было проложить железную тропку.
Мальчишки разбились на две группы. Одними командовал Мика. Они выгружали из вагона железо и подносили к самому берегу трясины. Другими — Трясогузка. Им предстояло самое трудное — укладывать листы поверх болота. Хрящ, как и положено всеначу, осуществлял общее руководство. По его приказу телохранитель поставил кресло на земляную подушку тупика. Царёк уселся наверху и оттуда покрикивал на мальчишек:
— Чего встал — в носу зачесалось?
— Не греми железом: Семёнов услышит, уши оборвёт!
— А ты чего пальчик сосёшь?… Порезал, бедненький?… Бегом, бегом — заживёт!
Его уже не очень-то слушали. Все понимали, что главные среди них
— Мика и Трясогузка.
У края болота дело шло быстро. Железная тропка, нацеленная на черневшую за болотом сопку, все дальше уходила от прибрежных деревьев.
Вскоре работать стало труднее. Грязная жижа продавливалась и наползала на железные листы. Пришлось укладывать на мох по два листа — один вдоль, а на него — второй, поперёк. И опять работа оживилась. Глухо похрустывало под ногами железо, булькало и чавкало болото.
Чтобы не ходить взад-вперёд по зыбкой железной тропке, мальчишки устроили конвейерную передачу. Трясогузка сам укладывал листы под ноги, постепенно удаляясь от берега.
Как ни старались мальчишки не шуметь, железо — не вата. Над болотом стоял приглушённый ломкий жестяной шорох. Будто шла невидимая рать в кольчугах и шлемах, с мечами и щитами. И словно от них, от этих железных доспехов, раздавалось в ночи тихое, но грозное бряцанье.
Совсем уже стемнело. Скучно стало Хрящу в своём кресле. Ничего не видно.
— Неси кресло на болото! — приказал он телохранителю.
В темноте они с трудом пробрались по узкой железной тропке до Трясогузки. Телохранитель перехватил несколько листов, переданных по живой цепочке, и рядом с тропкой выложил на болоте железную площадку. Поставил на неё плетёное кресло.
Теперь царёк восседал в центре трясины. Здесь он не покрикивал — побаивался Трясогузки. Но Хрящ долго не усидел: под его тяжестью листы перекосились, ножки кресла заскользили по железу, и он чуть не упал в болото. Выругав телохранителя, царёк со злостью схватил кресло, размахнулся и далеко зашвырнул его в топь.
Сидеть больше было не на чем. Вязкая грязь приклеивала ноги к железу. В рваные ботинки просачивалась вода.
— Эх! — произнёс Хрящ. — Была не была!…
Он переступил со своей площадки на железную тропку и, приняв очередной лист железа, потащил его к Трясогузке.
— Правильно! — похвалил его командир. — Ты давай ещё уволь телохранителя. Делать ему больше нечего — кресла-то нету!… А если кто обидеть тебя вздумает, мы всей армией заступимся!
— Обмозгую! — ответил Хрящ.
— Обмозговать надо! — согласился Трясогузка. — Я вот тоже мозгую — не сбиться бы! Темно — сопки не видно!
— Не собьёмся! — сказал Хрящ. — Посмотри — сигналят!
Впереди в темноте мигал огонёк. Мигал не как-нибудь, а ритмично, с явной целью. Он точно звал: «Сюда! Сюда! Жду!…»
— Тихо! — полетела по цепи команда Трясогузки.
На этой стороне болота все замерло. Мальчишки перестали хрустеть железом. И тогда все услышали другие звуки: осторожное позвякиванье топоров, сухой треск хвороста. С той стороны навстречу мальчишкам тоже прокладывали по болоту гать.
— Поднажмём! — передал по цепи Трясогузка. — Ужин стынет! Банкет ждёт!…
— Ужин стынет! — полетело по цепи, — Банкет ждёт!
И опять весело забряцало железо…
Приготовления к банкету заканчивались. Длинный стол был накрыт в самой большой комнате вокзала. Цыган притащил последний ящик с бутылками. Официантки расставили их. Трактирщица придирчиво оглядела сервировку.
— Кажется, все!… Ты больше не нужен, — сказала она. — Иди умойся и приготовь гитару.
Цыган вышел. Досталось ему в этот день. Болели и руки и ноги. Присел он на деревянную скамью и от усталости прикрыл глаза. Поспать бы!…
— Расселся, черномазый! — Варя толкнула его коленом. — Работай, работай!
— Все уже сделано!
— Врёшь!
Цыган с ненавистью посмотрел на толстощёкую девчонку. Она стояла перед ним с тарелкой в руке и лениво жевала пирожное.
— Варя! — послышался голос трактирщицы.
— Иду!
Девчонка поставила тарелку на скамью и побежала к матери. А Цыган вдруг озорно улыбнулся, вытащил из кармана шприц с остатками какой-то прозрачной жидкости и через иголку выдавил её в недоеденное пирожное.
Много уколов сделал сегодня Цыган этим шприцем: проколол все пробки во всех бутылках, потому и ныли руки от непривычной работы. В коньяк, водку и вино он добавил раствор порошка, предназначенного для Оло…
Был первый час ночи, когда Трясогузка вывел свою разросшуюся армию из леса. Мокрые, грязные с ног до головы мальчишки неудержимо лязгали зубами. Они замёрзли, и есть хотелось страшно.
Впереди тускло горели пристанционные фонари. Пьяные голоса пели где-то разухабистую казачью песню. Платайс щедро расплатился самогоном с солдатами, которые грузили железо. Это их голоса раздавались на станции. А на вокзале громко играл граммофон.
— Теперь — рассыпаться! — приказал Трясогузка. — Сбор у вокзала!
И мальчишки рассыпались, растворились в темноте, чтобы по одному, незаметно пробраться к вокзалу. Там их ждал ужин. Кто его приготовил для них, зачем, почему — это сейчас не интересно беспризорникам. Мальчишки привыкли верить Мике и Трясогузке. Раз они говорят, что будет ужин, значит, он будет!
Но у вокзала произошла непредвиденная задержка. Раньше здесь не было специальной охраны. Только один часовой стоял у двери в комнату, где работал телеграф. А теперь вокруг вокзала ходили пять или шесть караульных с винтовками.
— Кто это, а? — тревожно спросил Трясогузка.
— Не знаю! — ответил Мика с беспокойством. — Мимо них не проберешься!
На вокзале вовсю гремел граммофон, но больше ничего не было слышно. В освещённых окнах никто не появлялся, ничья тень не заслоняла свет, будто внутри — никого!
Громко топая сапогами, подошли два подвыпивших семеновца. Навстречу выдвинулись два караульных.
— Куда? — громко спросил один из них — молодой, в лихо заломленной фуражке. — Не положено! Господа офицеры гуляют! Приказано никого не пускать!
Семеновцы заспорили пьяными голосами, но второй караульный — курносый унтер-офицер скомандовал:
— Кру-гом!… Не разговаривать!
И семеновцы ушли.
Вокзал охраняли те самые партизаны в семеновской форме, которые днём стояли у санитарного эшелона. Но мальчишки не знали этого. Кто в канаве лежал, кто прятался за забором — и все ждали сигнала Трясогузки. А какой сигнал мог он подать? Банкет для беспризорников срывался! Когда Трясогузка уже собирался отводить мальчишек, пока их не заметили, в одном из освещённых окон показалась голова Цыгана. Он приоткрыл раму и спросил у часового:
— Никого?
— Застряли твои гости!
— А можно я свистну?… Они, может, прячутся в темноте?
— Свистни! — разрешил часовой.
Цыган свистнул. Трясогузка тотчас ответил.
— Скорей! — крикнул Цыган. — Ужин стынет!
И мимо удивлённых караульных к открытому окну побежали Трясогузка, Мика, а за ними и остальные. Про дверь никто не подумал — все полезли через окно.
Это был буфет. За стойкой спала трактирщица: видно, и она хлебнула коньячку. В углу, раскинувшись на стуле, сладко сопела Варя. В отместку за все Цыган углём нарисовал у ней под носом густые чёрные усы.
Из буфета Цыган повёл мальчишек к банкетному столу. В комнате надрывался граммофон. А за столом спали офицеры. Беспризорники остолбенели.
— Мёртвые! — растерянно пробормотал Малявка.
— Какие они мёртвые! — захохотал Цыган. — Спят! И поесть не успели! Я им слоновую дозу вкатил!
— Шприцем? — спросил Конопатый. — Каждому?
— Всем сразу — ответил Цыган. — В бутылки!… Здорово придумано?
— Расхвастался! — проворчал Трясогузка и скомандовал: — Расчищай места! Волоки их к стенам!
Он первый взялся за стул, на котором с присвистом храпел Свиридов, и, придерживая обмякшего подполковника, потащил стул к стене.
Орал граммофон, скрипели передвигаемые стулья. Чтобы офицеры не падали, стулья ставили вплотную друг к другу. Вперёд не свалишься — стена мешает и в сторону не упадёшь — сосед спит рядом.
Закуски на столе были почти не тронуты. Офицеры выпили только по две-три рюмки.
— Сейчас начнём! — сказал Трясогузка, потирая руки.
— Не пить! — предупредил Цыган.
— И вилками, а не руками! — подсказал Мика.
— Стоя? — спросил Хрящ и вздохнул. — Бедное моё кресло!
— Начпрод! — Трясогузка подмигнул Малявке. — Командуй!
— Ужин! — поспешно объявил начпрод.
Голодные мальчишки потянулись к тарелкам, блюдцам, салатницам, но где-то рядом торопливо застучал пулемёт.
— Тревога! — крикнул Трясогузка.
— Отставить тревогу!
Это сказал Платайс, входя в комнату.
— Не для вас тревога… Справимся! Вы своё сделали!…
Бой на станции разгорался. Семеновцев зажали с двух сторон: от тупика наступали бойцы из эшелона, от леса — партизаны из переправившегося через болото отряда.
А на севере под станцией Карымская, под Читой, тоже вступали в бой передовые части красноармейцев.
Начиналась ликвидация читинской «пробки».










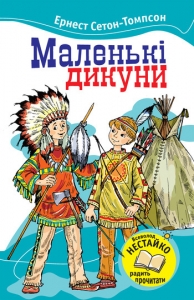



Комментарии к книге «О смелых и отважных», Александр Ефимович Власов
Всего 0 комментариев