Тайна Зыбуна
БЕРЕСТЯНОЕ ПИСЬМО
У большого кедрового бора, где Зыбун выходит к берегу крутонравного таежного Чутыма, раскинулся плес. Десятками ручьев шлют болота свои ржавые воды на плес, но теплые донные ключи разбавляют черные, как кофе, потоки, прижимают их к берегам, гонят вниз. У плеса, на белопесчаном яру, в урожайные орехом, а значит, богатые и зверем годы, бывает, дымится много юрт.
Сейчас осталось две. В одной летом ночует старый охотник-селькуп Нюролька, в другой живет бабушка Эд.
— В юрте я ротилась, в юрте и помирать путу, — говорит она.
Поселение так и зовется — Юрты, или Юрты Жуванжи. Жуванжа — хант, охотник. Сын его, Санька, учится вместе с внуком Нюрольки, Хасаном, в Рыльске, за семьюдесятью плесами.
— А сколько это, деда, километров? — спросил как-то Хасан.
— А шайтан мерял, да сажень утопил.
Нынче ребята впервые за пять лет ученья проводят зимние каникулы дома.
Нюролька давно обещал взять Хасана с собой на зимнюю охоту и разбудил его наутро затемно. Кедрачи, облюбованные им, были далеко. Их так и звали: Дальние борики. Охотники сюда заглядывали редко.
Густая темень, разлохмаченная редкими проблесками невидимой луны, наползала со всех сторон; шла по пятам, забегала вперед, таилась в глухом сумраке еловых лап. Светлеющее небо рвало темень сверху, а снег — снизу, но она упорно гнездилась в подлеске, в тяжелой хвое. По ночной тайге Хасан шел впервые, и малейший шорох верхового предрассветного ветерка чудился вздохами зверя — то умирающего, то переводящего дыхание перед прыжком.
Хасан и сам не заметил, когда стянул с плеча ружье, взял его на руку. Его воображение дорисовывало то шалого медведя, то рысь, изготовившуюся к прыжку… «Вот она сжалась в комок, взметнулась!» Он, Хасан, на лету перехватит ее дуплетом. Дед зло обернется, чтобы ругнуть его за баловство с ружьем, но тут к ногам деда упадет кровожадный хищник. Мертвым. А Хасан спокойно будет перезаряжать ружье…
Но как ни вслушивается Хасан в дыхание тайги, слух ловит только два звука:
— Шшшш… Хруп! Шшшш… Хруп!
Это размеренно спокойно шагает дед.
Шли долго: урманы[1] перемежались болотцами, мелколесьем. Подволожные[2] лыжи с легким приятным похрустыванием шуршали слежавшимся за ночь снежком. Повизгивая от радости, впереди серым шаром катился Музгарка. Свежело; утренние туманные сумерки оседали быстро и бесследно. Вышли к прогалине, ровной, как стол.
— Смотри, деда, это ж, наверно, озеро!
— Озеро!
— И рыба в нем есть?
— А как же. Щучье озеро, да без рыбы!
— Деда, а где Пескарево озеро?
— А вот оно и есть.
— Так это же Щучье!
— Сейчас Щучье, а было Пескаревым. Потому голимый пескарь в нем жил. А вот лет тридцать назад невесть кто пустил в него щук — расплодились они, стервы, пожрали начисто пескаря. Теперь жрут друг друга.
Нюролька вынул из-за пояса топорик, срубил березку. Тонкие сучки обрубил, а один, потолще, оставил. Получился крюк.
— Это, деда, зачем?
— Рыбу удить.
— Ну уж!
Нюролька сделал у берега прорубь, поводил в ней березовым крюком и вытащил на лед садок. Внутри трепыхались десятка два щук-травянок.
— Ы-ы… Ты уже был здесь, — разочарованно протянул Хасан. — Деда, а это здесь нашли пулемет? — вдруг оживился он.
— Здесь. — Ссыпав травянок в лузан, Нюролька продолжал: — В восемнадцатом году наши тут одну шайку белых прижали. Награбили добра в Рыльске и бежали. Да главный только ихний полковник с проводником, немым Епишкой, и ушли на Зыбун…
— Деда, а это правда, что никто с Зыбуна не возвертался?
Нюролька крякнул, сплюнул. Не любили говорить о Зыбуне в Юртах.
Начались Дальние борики. Нюролька разыскал сложенные под кедром плашки, стал расставлять их, а Хасан присматривался к деду, помогал.
Управившись с плашками, перекусили и пошли промышлять с ружьями — вдвоем с одной собакой.
Вдруг «Фурр! Пуфф!» — будто старый обгорелый пень с грохотом и треском вырвался из промерзшей земли и черной тенью унесся в чащу столетних елей. Даже Музгарка на какое-то мгновение растерялся.
«Глухарь!»
Хасан от неожиданности обмер.
Дуплетом, с почти неуловимым на слух интервалом, бьет Нюролька. Музгарка взвизгнул, исчез в ельнике.
— У-ушел?
Нюролька не отвечает, молча поднимает краснобрового таежного красавца из-под самого носа Музгарки. Глухарь огромный, тяжелый. Хасан прячет его в лузан. Тяжесть добычи постоянно напоминает о себе, радует. И словно теплее, уютнее становится в просветлевшей тайге.
Музгарка уже лает на рябчиков — яростно, самозабвенно. От всей своей собачьей души.
— Деда, дай я! — просит Хасан. А сам уж обходит его. Пыхтя от азарта, он бежит на лай.
— Ишь, не успеет! — добродушно ворчит дед. — Никуда они теперича не денутся.
…Зимняя ночь подкрадывается незаметно, и едва засумерничало, Нюролька облюбовал сухостой, срубил его, раскряжевал. Подтесав кряжи, положил одно на клинья вдоль другого, а между ними насовал щепы, сушняку. Получилась нодья — зимний охотничий костер, который и тепла дает много и горит всю ночь. Спи без заботы.
— Похоже, бурелом будет, — говорит Нюролька.
— Да, — солидно подтверждает Хасан, стараясь догадаться почему.
Нюролька раскидал снег, развел огонь. Пока рябчики варились, устроил навес. Хасан нарубил пихтовых лап — спать на них тепло, удобно. А на прогалинке уже легкими струйками завихрялась пороша. Лес зашевелился.
Хасан торопливо дул на ложку и, обжигаясь, ел жадно; никогда суп не казался ему столь вкусным. Поели и легли на пихтовые лапы меж нодьей и навесом. От навеса тепло отражается и греет со всех сторон. Приятно, тепло у нодьи. А тайга уже заскрипела, зашуршала, запосвистывал ветер в шумливых вершинах. С глухим хрустом упал где-то сухостой. Поодаль тихо стонал старый кедр.
— Придавит нас, деда…
— Чудак-человек, аль я не вижу, куда наклон. И ветер.
— А если ветер переменится?
— Наклон.
Вдруг кедр всхлипнул как-то особенно жалобно.
— У-ух! — присвистнул Хасан.
Глубоко в снежный бугор врезался кедр и будто развалился надвое.
— Деда, а де… — Испуг и изумление перехватили дыхание Хасана: бугор осел, заворочался, ожил. Хочет крикнуть Хасан и не может. Бурая лохматая голова показалась из-под дерева. — А-а!
Вот-те на! Нюролька схватил ружье, взвел курок: левый ствол всегда заряжался пулей. Хасан тем временем пришел в себя, кубарем скатился под навес, схватил топорик.
А Музгарка уже «висел» на медвежьем заду. Громыхнул выстрел. Взревел косматый и, взбивая снежную пыль, завертелся на месте. Музгарка прыгал, захлебываясь от лая и визга.
«Неужели дробь? — пронеслось у Нюрольки. — Нет, левый… — Он достал новый патрон, зарядил. Медведь стоял на задних лапах, рыча тер ослепшие глаза. — Дробь и есть».
Выстрел. Косматый обмяк. Нюролька разломил ружье, вынул патроны: так и есть, с пулей оказался в правом стволе.
— Это ты баловал с ружьем?
— Я только патроны поглядел и обратно вставил.
— «Вставил»! Вот вставил бы тебе косматый, узнал бы, как патроны путать. Чего с топором-то?
— Я бы зарубил медведя, — искоса, с упрямством взглянул на деда внук.
— Ха-ха-ха! — схватился Нюролька за живот. Хотя ему и не смешно, но смех трухнувшего деда — просто нервная разрядка, и, он, скрывая дрожь в руках, хохочет так, что черная с проседью голова вздрагивает. Захохотал и Хасан. Нюролька умолк. Не годится старому таежнику скалить зубы с мальчишкой невесть над чем.
— Ладно, будет!
Закидали тушу снегом, завалили хвоей.
— Ой, сколько серы! — Хасан склонился над глубокой раной на стволе упавшего кедра. — Я, деда, сейчас, я немного отковырну. — И вдруг закричал: — Деда! Там письмо!
Нюролька подошел. Под янтарным наплывом, верно, слова. Писано на бересте, прибитой на затесе. Со временем письмо выцвело, а с краев затянулось. Только три полоски — в каждой по несколько букв — и сохранили смоляные слезы дерева.
«…овари… ковника… ли… яд… зер…
…ил тиф… олото… на… ел… ка… ел…
тр… ша…»
Хасан уже принялся было читать письмо, но Нюролька заторопился:
— Ладно, дома разберешь. Клади в лузан[3]. Спать надо.
Наутро Нюролька разрубил тушу медведя на части. Прихватив по ноше мяса, охотники отправились домой. «Зачем пропадать добру? — рассуждал старый охотник. — Нельзя зря губить зверя». Да и у Хасана уже пропал интерес к охоте. Не терпелось увидеть Саньку, расшифровать таинственное письмо. Едва вернулись — Хасана и след простыл.
— Знаешь, дед говорит, что письму этому не меньше сорока лет, — шептал почему-то Хасан, хотя Санька воспринял рассказ о нем с откровенной насмешкой.
— Ну, и что? Кому оно теперь нужно?
Но по мере того, как, расшифровывая его, ребята стали делать различные предположения и фантазировать, настроение Саньки менялось.
Берестяное письмо Хасан с Санькой прочитали так:
«Товарищи! Полковника догнали на гряде, у озера. Но нас свалил тиф. Золото спрятали на гряде, под отдельным камнем, от ельника в трех шагах…»
— Вот только в трех, тринадцати или тридцати? — усомнился Санька.
— Это смотря где лежит отдельный камень.
— Знаешь, давай расспросим бабушку Эд и твоего деда, — предложил Санька. — Кто, когда проходил через Юрты. Выспросим все о Зыбуне.
— С дедом бы надо сначала. Только вдвоем бы… Он ведь проводником у партизан был.
* * *
Болото по-хантыйски — нарым.
— На полночь из Юрт пойдешь — нарым, на полдень ли — опять есть нарым, — неторопливо говорит Нюролька. — А вот Зыбун — только там, — машет он рукой в сторону юга. — Хмарь, топь. Сухой тайга совсем маленько.
Он заглядывает ребятам в глаза и спрашивает в упор, сердито:
— А вам для чо?
Так ни с чем и ушли ребята от Нюрольки.
ПО СЛЕДАМ ЛЕГЕНД
— Пойдем к бабушке Эд! — настаивает Санька.
Ну что ж, к бабушке так к бабушке.
— Ладно. Нарубим ей заодно дров. Совсем, однако, худая стала, — солидно говорит Хасан, явно подражая деду. — Пошли!
Никто не знает, сколько лет бабушке Эд.
— Шбилась я, однако, сама, — говорит она, не выпуская трубки изо рта. — Дефятой десяток, однако.
Но память у бабушки Эд — всем бы такую!
— Шама-то я, внучки, из рода Карамо, — попыхивая трубочкой, шепелявила бабушка Эд. — Кочевали мы далеко на полночь. Когда сюда пришли — не шнаю. Тавно было. На бобров шдешнее-то племя охотилось. Олешек разводило. Прогнал его наш род. Не мирно в те годы жили.
— А кто здесь жил?
— Какое племя, бабушка? — уточняет Санька.
— Этого, внучки, я не шнаю. На Сыпуне шаманы их сахоронены. Наши туда не ходят. И вам сачем? Проклятое место. Не шмейте!
— Почему, бабушка? — заискивающе ловит взгляд бабушки Эд Санька.
И а от о чем рассказала бабушка Эд.
…Давным-давно это было. Богатством у людей тогда были не олени и ружья, а огонь. Весело трещал он в юртах, обогревая людей. И однажды искра вырвалась из дерева и попала ребенку в глаз. Заревел он. Мать схватила тесло, крикнула: «Не плачь, я ему! Изрублю, залью, затушу! Я корми его дровами, а он, неблагодарный, жечь моего ребенка?! Вот ему, вот ему!» — махала женщина теслом, швыряя на огонь снег.
Покачиваясь в такт словам, бабушка Эд говорит неторопливо. В паузы скосив глаза на котел с начавшим «дымиться» мясом, она посасывает короткую самодельную трубку. Пряди седых волос обрамляют ее коричневое морщинистое лицо.
…Ни одного глаза-искорки не осталось у огня. Потемнело в юрте, захолодало. Громче заплакал ребенок. Опомнилась мать, побежала в соседнюю юрту. Только вошла — очаг погас. И с тех пор к кому бы ни входила та женщина, огонь умирал… Упали тогда люди на колени: стали просить огонь у Молнии, у Ветра, у Солнца, у Сырой Земли… Сжалилось Солнце: нагрело Сырую Землю, подняло в небеса тяжелые тучи. Ветер пригнал их к людям Севера. И сказала тогда Молния: «Ладно, дам я людям Вечный Огонь! Только добуду его из сердца сына женщины, осквернившей Огонь».
С тех пор там, где стояла юрта той женщины, горит Вечный Огонь, но нет к нему людям пути…
Бабушка Эд закрывает глаза. Ребята вспоминают: в ясные морозные дни, случалось, было видно, как на Зыбуне столбом уходил ввысь туман. И впрямь, не то дым, не то пар. Бабушка Эд говорит: где горит Вечный Огонь, день и ночь кипит вода, и туда ушло побежденное племя.
Что же там — за сограми, за хлябью, за трясинами?..
— Нечего там, на Зыбуне, было делать, вот и нет пути! — сказал Хасан, выбравшись из тесной юрты бабушки Эд. — Мало ли всяких сказок!
— А помнишь, уже при нашей, при Советской власти, в Зачутымье скит нашли! — торопливо заговорил Санька. — Будто лет двести назад поселились первые-то люди там и все жили! Что на земле делалось — ничего не знали! Еще как-то по-церковному шпарили: даждь, днесь… Ткали холст из льна, а железа, говорят, и в помине не было. Повывелось все. Землю деревянной сохой пахали… Это точно!
Хасан тоже, еще совсем маленьким, слышал о ските, но ему до этой минуты и в голову не приходило, что на гряде могут быть люди. Он ответил не сразу.
— А знаешь, — оживился Санька, — если туда на лыжах, а? Уговори деда, пусть он попросит моего батьку рассказать о Зыбуне. Он что-то знает. Мой дед ведь тоже там погиб. Говорил, он знал дорогу на Зыбун — с какого-то березового мыса.
Хасан мнется.
— А ты что? Спроси сам.
— Не расскажет мне. Еще вздует…
Жуванжа мечтал воспитать из Саньки замену себе — меткого стрелка и следопыта, а у того лишь книжки на уме, в тайгу не выгонишь палкой. К охоте не лежала душа у Саньки. Бывало, идет по тайге за отцом, а мысли где-то с героями книг.
— Ты что — спишь? — сердится Жуванжа. — Уши заткнуты ватой?
Редко удавалось Жуванже выпроводить Саньку на охоту. Да и пойдет — ни с чем вернется. «Пролежал, поди, леньтяк, где-нибудь на солнышке, аль ягоду жрал, — подозревает Жуванжа сына; сопит, сердится: — Только бы читать да слушать сказки!».
Санька втайне мечтает о путешествии на космическом корабле. А на худой конец — летать на вертолете. О том, чтобы выучить Саньку на летчика, в последнее время подумывает и сам Жуванжа. «Ведь только не выучится. Лежебока», — человек прямой и грубоватый, беззлобно думает он.
— Глист в ём, — убеждала Жуванжу бабушка Эд. И советовала: — Ты помори его да шалом медвежьим горяченьким, шалом!
— Отчего ж красный-то? Вон рожу-то наел, — возражал Жуванжа. — Леньтяк он. Поморить, однако, надо. — И он ругал учителей: — Забили парню башку: летчик будешь. Анженер будешь… А он, сопляк, и рад, уши развесил.
— Весь, говорит, сыпун оплетаю, — поддакивала бабушка Эд, — на этом, вертлявом…
— Вертолете, — подсказывает Жуванжа.
— Фот, фот!
— Я ему, стервецу, облетаю!
Санька запоем читал фантастику и занимательную астрономию, возился с летающей моделью вертолета.
Но и Жуванжа не отступается. Увещевает:
— Я, бывало, в твои-то годы…
Санька слушает, но ни один мускул не шевельнется на его полном, казалось, всегда немного сонном лице. Он не оправдывается, не спорит. Единственное оружие Саньки — молчание. Жуванжа старается задеть его самолюбие:
— Хасан, вон, и учится не хуже тебя, засони, и на охоте мужику не уступит…
Учатся Хасан с Санькой в пятом классе в Рыльске и живут в интернате. И вот как-то в каникулы Жуванжа попросил Хасана:
— Походи ты с мим, приохоть…
Хасан уговорил Саньку погонять зайцев, пострелять косачей. Есть близ Чутыма большой, километра на четыре, осиновый, или заячий лог. Договорились, Хасан пойдет с одного конца, Санька — с другого. Но снег рыхлый, лыжи оседают глубоко. Не хочется Саньке идти, продираясь сквозь подлесок. Залез он на сучковатую сосну, уселся поудобнее, так чтобы сучья не мешали стрелять, и стал ждать. Но зайцы почему-то не бежали. Хасан задержался.
Посидев с час, он замерз, слез, побегал вокруг сосны, забрался снова, а ни зайцев, ни выстрелов… Задумался: а не махнуть ли в березник за косачами? И вдруг совсем близко на полянке увидел лисицу. Лиса «мышковала». Припадая к земле, замирала, игриво взвивалась, зарывалась мордой в снег; рыжий пушистый хвост ее отражал то настороженность, то наслаждение хищницы мышиным мясом. Холодным пламенем рдел на снегу ее пушистый мех. Но стрелять Санька не решается — далековато. Авось еще подпетляет…
Стряхнув с ветвей веер золотистых снежинок, застрекотала сорока.
«У, чтоб тебе! Прорвало!»
Лиса подняла голову, подозрительно повела носом и вдруг метнулась вбок. Санька нажал спуск. Огненный ком перевернулся в воздухе и распластался. Санька заскользил вниз, перехватывая сучки через два на третий, поцарапал кожу на руке. Когда подошел, понял: можно было не спешить. В зубах хищницы завязла мертвая мышь…
Только перекинул Санька лису через плечо (чтоб виднее было!) из ельничка вышел Хасан уставший и сердитый.
— Ты чего не… — начал он и осекся.
— Понимаешь, водить меня за нос вздумала! — кивнул Санька на лису. — Пришлось задержаться.
Хасан молча потрогал мех, осмотрел лапы.
— Ты что, думаешь, из чьего-нибудь капкана вынул? — подозрительно взглянул на него Санька.
Шли молча. Хасан раздумывал, где бы около Юрт найти косачей, а размечтавшемуся Саньке не терпелось домой. Однако он не выдержал.
— Мне только неохота этим делом заниматься, — с небрежным равнодушием заговорил он. — А так… слышал? С одного выстрела, с ходу подковал.
Хасан не ответил. Санька еле сдерживал готовый прорваться поток слов. Стоило Хасану спросить его о чем-либо, и он подробно, забыв о своем «с ходу», рассказал бы, как сидел на дереве. Но Хасан ни о чем не спрашивал. И Санька изредка ронял небрежно:
— Вздумала водить меня за нос! Вот пойдем на Зыбун…
Чутьем Хасан понял: в Саньке просыпается охотничья страсть.
Увидев Саньку в окно. Жуванжа выбежал из избы, обрадованно, с неуклюжей мужской игривостью толкнул сына в грудь.
— Во, молодец! А то…
Подмигнул Хасану и вдруг нахмурился, кашлянул.
— Сам?
— А то кто еще!
Жуванжа пригласил Хасана в избу. «Сейчас и расспросим!» — решил Санька. Жуванжа потчевал ребят вяленой нельмой, горячим чаем. Разговорился.
— Не знаю, может сказка, — предупредил Жуванжа. — В детстве слышал. Старый эвенк говорил, обычай был такой. Увозили на Зыбун умершего шамана два молодых охотника и две девушки. Жена шамана с ними. Обратно, однако, никого не было. Мой отец ушел с кем-то. Не вернулся! Всех забрал Нуми-Торум, Хозяин неба. Ладно. Пусть сказка. А где ж они?.. Собирался я сам на Зыбун, как подрос, — продолжал Жуванжа. — Да все не до того было. Потом медведь помял. Плохой ходок стал. Недавно летчика просил. Маленько крюк на вертолете делал. Есть острова. Лес есть. Там, тут, — тыкал Жуванжа пальцем в сторону юга. — Нужна дорога. Ай, сколько леса при сплаве гибнет! Ищи, парень! — хлопнул он Хасана по плечу. — Найдешь — дорогу построят!
— И найдем! — горячится Санька.
— А зимой… Разве нельзя сходить на Зыбун на лыжах? — с подчеркнутой простецой удивляется Хасан.
Нахмурился Жуванжа, запосасывал потухшую трубочку. Потом достал табак, набил трубочку снова, закурил, обвел внимательным взглядом притихших ребят, словно решая: стоит ли говорить об этом?
Вот что рассказал Жуванжа. Услышал он как-то до войны еще, куропатки на Зыбуне лают. Собрался, пошел. Верно, есть. Одну, с краю, добыл, дальше идет. Опять есть. Загорелся. А отчего не пробежать по Зыбуну: что там, за хлябью, за трясинами?
Пошел. Ходко идет, поет про себя. И вдруг будто кто придержал за ноги: стой, не ходи! Заскрипел, зашуршал снег под лыжами, потянулись по лыжне борозды. Снял Жуванжа лыжу, а она обледенела. Вот-те на! Намокла где-то, отсырела и враз прихватило ее морозом. Повернул Жуванжа обратно. Переступая с ноги на негу, пошел к Юртам напрямик. Задумался, загляделся, чуть не сполз в воду, одетую плотным серым, как грубая вата, туманом. Попятился Жуванжа. Испугался. Побрел назад. Свернул на старую лыжню: дальше, зато безопасней. А ноги свинцом налились, лыжи дерут снег, что терки. Сел Жуванжа, срезал с лыж кисы[4] вместе со льдом…
Еле выбрался. Закаялся ходить на Зыбун и зимой, и летом.
— Топь, хмарь. — пояснил ом. — Ни днища у ней нет, ни крышки…
ПОКА ЖУВАНЖА КОЛЕТ ДРОВА
— Сань. Вставай!
Между русской печью и столом, где разложены горячие хлебы, снует маленькая женщина. Это Санькина мать, Марфа.
Санька слышит голос, но молчит, старается вспомнить какой-то интересный сон. Ах, да… золото! Они с Хасаном нашли его. Рыли землю ножами, руками, целый день вытаскивали цепочки, кольца, деньги. Санька припоминает: какие они? Нет, деньги — он это хорошо помнит — бронзовые, обыкновенные пятаки с серпом и молотом. А какие они, золотые-то?
Этого Санька не знает. Он хочет еще раз посмотреть клад, долго лежит с закрытыми глазами и незаметно засыпает.
Отец Саньки спозаранку ушел пилить, или, как говорит мать, резать дрова. Хотя лес рядом, но так уж заведено, что дрова в Юртах заготовляют весной и летом на весь год. Обычно выходят все от мала до велика. Ребятишки укладывают дрова в поленницы, Нюролька и Марфа пилят, Жуванжа колет. «Коммуной» веселее.
Но сейчас Санька с Хасаном отдыхают. Они недавно вернулись из школы-интерната.
— Побегайте. Ишо хватит и вам делов, — с напускной суровостью сказал на другой жо день после их приезда Жуванжа.
Просыпается Санька от неприятного ощущения скатывающейся от виска к носу капельки пота. День разгулялся такой, что на душе легко и радостно. Тут уж не до сна. Он даже не сразу вспомнил, что на Зыбун его не отпускают. Санька вытирает лицо рукавом и спускается в погреб. До чего ж приятно в такую жару пить бросающее в дрожь молоко! От стен погреба несет сыростью, холодом. Санька посидел, остыл, сунул в карман на всякий случай несколько прошлогодних морковок и отправился к Хасану — напрямик через огород и коровник, в котором сделан лаз. Сначала заглянул в юрту. Пусто. Нечастый гость в это время — солнце — греет так добросовестно, что идти в избу Саньке не хочется, и он свистит. Ждет. Хасан не появляется. Санька влазит на завалинку, смотрит в окно. Точно! Удрал. Санька идет к Чутыму. Так и есть. За яром, в заводи, Хасан верхом на коряге.
— Ха!
Хасан не оборачивается. Его рука с огромным удилищем взлетает вверх, и Санька видит, как над водой трепещет окунишка. Сняв рыбу с крючка, Хасан тихо отвечает:
— Чо?
Санька садится на песок. Хасан снова закидывает удочку. Река спокойна. Почти безоблачное небо отражается в воде, и Чутым кажется глубоким-глубоким, бездонным. Парит.
— Искупаться бы! Хасан, здорово, а?
Санька ежится, будто уже залез в воду, засучивает штаны, расстегивает единственную оставшуюся у рубашки пуговицу. Но купаться здесь опасно: ил, коряги, ямы. Да и вода еще очень холодная, Санька достает из кармана штанов брусочек лиственничной серы, стирает о рукав налипшие песчинки и бросает в рот.
— Ха-асан…
Саньке хочется сказать, что отец не пускает его на Зыбун, надо посоветоваться, как быть, но он вдруг заколебался: стыдно, столько было разговоров, планов и… да и, может, он еще убедит отца. Все равно идти еще нельзя, пусть болота подсохнут.
— Чо? — наконец откликается Хасан.
— П-шли в лес. Зоить соочьи гнезда! — не переставая жевать серу, говорит Санька.
Предложение соблазнительное. Хасан ненавидит сорок. Куда ни пойди в лес, а они уж тут как тут:« Чел-ловек идет! Чел-ловек идет!» Леску с удочкой он отгрызает и сует в карман.
Лес рядом. Кедровые островки иногда перемежаются молодыми соснячками, а дальше от Чутыма — осинниками, зарослями старого тальника и черемушника или, по-местному, сограми. Километрах в двух от Юрт начинается Зыбун; здесь он клином врезается в прибрежную тайгу. Сначала ребята идут по берегу: теплее, солнечней, «просторней».
Корни кедров висят над водой. Сквозь прошлогодние иголки и листья пробивается зелень, на полянках краснеют шарики огоньков, синеют «кукушкины слезы».
— Хасан, смотри, вон! И вон!
— Это дроздиные. А маленькое, вон то — зябликов.
— А давай переменим им птенцов, — предлагает Санька.
Дрозды не умеют считать. У них можно взять половину яиц — и не заметят. У малиновок, бывает, исчезнут два-три яйца — они даже не обратят внимания. Но тронешь гнездо зяблика — родители улетят, бросив не только яйца, но и крошечных беленьких птенцов не гибель.
Это Хасан знал и даже не подходил к их гнездам.
— Не трогай, пошли! — тихо говорит он Саньке.
Гнезд много, но ребята ищут сорочьи, ястребиные, а они в таких местах, что не скоро доберешься. И комары донимают. Они тучей летят следом.
— Вон! — Хасан показывает Саньке на согру, где чернеют два больших гнезда из прутьев и палок. Обычно сорока строит несколько гнезд. Одно — настоящее и сделано «на совесть», другие — кое-как, для отвода глаз. Заметив опасность, лесная сплетница стрекочет, садится в пустое гнездо. Хасан не раз попадался на ее уловки и сейчас осведомляется у Саньки:
— В какое села? В ближнее?
Ко Санька жует морковь и только мычит, потом показывает, куда села сорока, рукой.
— Тогда лезь к тему вон, на березе, — распоряжается Хасан.
Но березу окружает непролазная чаща. Вдобавок в распадке еще не высохла вода. Санька мнется, машет рукой.
— А ну ее!
— Эх, ты! А еще — на Зыбун! Ты думаешь — что? Мне хотелось посмотреть, можно ли с тобой на такое дело.
— Сравнил! Зыбун — и какое-то паршивое гнездо. А если найдем золото — напишем письмо самому Хрущеву и попросим наделать вертолетов для охотников.
— Все одно. Важен факт! — солидно говорит Хасан.
— Важно зачем! — возражает Санька, шлепая себя по лбу. Из-под ладони на кончик носа брызнула капелька крови. — Чтобы было настоящее дело, а не сорочье! Да я сдохну, а на Зыбуне побываю! И если хочешь — без тебя. Понял?
— Ну, ладно, давай подумаем, что надо к походу, — миролюбиво предлагает Хасан и садится на поваленную ветром старую сосну. Санька ложится на спину.
— Ружья с патронами…
— Сухари дня на два, три. Соль. Коробок спичек.
— Есть, — подтверждает Санька. Хасан — «начальник», он и в школе член Совета пионерской дружины. Санька — «завхоз» экспедиции. — Только спичек надо коробка три. И один завернуть так, чтобы и в воде не отсырели!
— Организуй!.. Так, ножи, котелок прихватим, две ложки…
— Сала бы взять соленого. И нельмы вяленой, — Санька даже облизнулся.
— Тю, нельмы! Окромя сухарей и соли, в тайгу разве что берут? Ружье прокормит! Накомарники надо будет не забыть, вот что?
— Мы ж не в тайгу. Мы на Зыбун.
— Все одно. Там что, дичи нет? Помнишь, где куропатки лают? Все на Зыбуне!
— Но ведь охота сейчас запрещена, — выкладывает Санька главный свой довод. — На всякую дичь.
Он уже похрупывает сочными лентами сока, который лежа снимает ножичком с растущей рядом с валежиной сосенки. Сок холодный, сладкий.
— Нам можно. Мы, если хочешь знать, как научная экспедиция.
— Ну, а когда отчалим? Все одно надо подождать, пока подсохнут болота и ягода поспеет.
— Ясное дело!
…Вверху тихо ворчат угрюмые ели. На чистинке быстро-быстро лопочут осинки. Лесной главврач-дятел простукивает деревья: тук-тук… «Где что болит»? А от Чутыма, из старого березняка, доносится «ук!», «ук!». Это Жуванжа колет дрова.
«Э-эй!… Эг-гей!… А-тта!» — вдруг доносится до ребят с Чутыма.
— Идем туда!
Они побежали, как всегда обгоняя друг друга.
— Смотри! — запыхавшись, остановился Хасан, когда в просвете между сосен засинела вода. — Смотри!
По Чутыму во всю ширину его плыли зверьки, трубой подняв вверх рыжие пушистые хвосты. Еще бросок — и ребята съезжают с песчаного яра к самой воде. Только теперь они заметили какого-то охотника на резиновой надувной лодке. Вот он догнал одного зверька, легонько стукнул его веслом-лопаткой по голове, схватил за хвост и еще раз ударил о весло. Бросил в лодку и поплыл за белками к берегу, крича:
— У, чертенята!.. Эгей! Я вас!
— Да это ж Володька Око! — узнал Хасан.
— Володька! — крикнул он.
— Око за око! — заорал Санька.
В Рыльске Володька учился первый год. Геологоразведочная партия, которую возглавляет его отец, Максим Око, готовилась к летней разведке верховья Чутыма. Странная фамилия — Око — доставляла Володьке много неприятностей.
В первый же день после уроков Володька догнал Саньку, остановил.
— Хочешь, намылю шею?
— За что?
— За просто тек! — отрезал Володька, и не успел Санька раскрыть рта, как в глазах его замельтешили искры.
На Санькино счастье сзади шел Хасан. Отшвырнув сумку, он, как рысь, прыгнул на Володьку, стиснул шею. Володька — на голову выше Хасана, сильный — рванулся, повел плечами, и ноги Хасана поднялись, описывая круг. Но Хасан все же удержался. Тогда Володька через плечо закинул одну руку за спину и, пригнувшись, перебросил Хасана через голову. Не успел Володька отцепиться от свалившегося в снег Хасана, как Санька метнулся ему под ноги. Володька упал, а Хасан уже на ногах.
И вот забияка уже отплевывает набившийся в рот снег, мямлит:
— Ст-таюсь…
— Сдаются а честном бою. Понял? — петушится Санька, сидящий ка нем верхом. — А сейчас, если хочешь знать, мы с тобой, Око-белобоко, можем что хошь сделать!
— Я больше не трону.
— Никогда?
— Н-никогда.
— Никого?
— Н-никого.
— Честное-пречестное?
— Ну, что я, трепач?
— А за что Саньке закатал? — вступил в допрос Хасан.
— А что, — захныкал Володька, — я рассказывал, как слюду на Алтае нашел, а он Всевидящим Оком меня обозвал…
— Ну и что? Всевидящее — это разве обзыв? Чтоб никого интернатских не трогал! Понял?
Володька понял, и сейчас он остановился, раздумывая: «А не повернуть ли подобру-поздорову обратно?» — и стал подгребаться к берегу.
— Ты как очутился тут?
— А вы как? — не меньше ребят удивился Володька.
— Мы — понятно. Мы живем здесь, в Юртах.
Володька начал рассказывать, что база геологов теперь за поворотом, на берегу Чутыма, и он на целый месяц приехал к отцу, но ребята его уже не слушали. Не каждый день в Юртах увидишь переселение белки. Об этом Хасан, к примеру, слышал только от деда.
— От чертянята! — восхищался он.
— И почему хвосты они так?
— Если белка замочит хвост — утонет, пояснил Хасан.
— Почему?
— Не знаю.
— Наверно, оттого, что он станет очень тяжелым, — предположил Санька. — Вон какая метла!
— А чего им приспичило? Не горит же! — недоумевал Володька.
— Значит, неурожай орехов будет в Зачутымье: Белка она такая: заранее все узнает.
— Это точно! — согласился Володька. — Папа говорил, что на Зачутымские кедровники шелкопряд напал.
— Значит, конец кедрачам. Этот начисто сведет, — авторитетно подтвердил Хасан и вдруг насел на Володьку. — Ты чего браконьерствуешь?
— Подумаешь! Одну пришиб… А то станешь рассказывать, что ловил их за хвост и в лодку, — не поверят. А теперь спросят: «А ты ловил?» — «Ловил!» Пускай не верят, а я ее за хвост — и в лодку! — захлебывался он от радости.
— Слушай, Хасан, а почему белка идет прямо на Юрты? Ведь там, за нами, Зыбун? — спросил взобравшийся на яр Санька.
Хасан не ответил; пригласив Володьку в Юрты, он помог ему взвалить на голову лодку, сам взял весла.
Санька повторил свой вопрос близ Юрт и, не ожидая ответа, вскочил на пень, азартно крикнул:
— Смотрите! Смотрите!
Да, белка уходила на Зыбун. Почему? Зачем?
— Вот бы за ней следом, а? — произнес Хасан.
— Рано. К осени ближе — болота подсохнут..
— Чо рано? Грязь не сало, высохло — отстало.
— А что тут геологи ищут? — сорвался наконец вопрос, давно вертевшийся на Санькином языке.
— А все! Экспедиция комплексная, — важно пояснил Володька. Он с минуту помолчал, потом не удержался, бросил небрежно: — Кое-что уже наклевывается. Папа срочно на Черный Чутым уехал… Там у нас главный геолог работает. Не старый, а седой весь, — невольно перешел на шепот Володька. — Ог-громадный такой.
— Не бреши, — вяло протянул Санька. — Главному геологу в Москве дел хватит. Поедет тебе он сюда! Как же!
— Тю, знахарь! Главный геолог есть в каждой партии. — Володька даже приподнял над головой лодку, чтобы лучше видеть Санькино лицо.
— Тогда никакой он и не главный! — ничуть не смутился Санька.
Володька уже раскрыл было рот, как Хасан прыгнул вперед, крикнул:
— Смотрите!
Из старого скворечника, почему-то забракованного даже воробьями, выглядывала усатая мордочка белки. Санька обнаружил двух белок в сенях: они воровали сухие грибы и ягоды. Видимо, зверьки, подчиняясь приказам инстинкта, решили отдохнуть и основательно подзаправиться перед походом на Зыбун.
Под честное-пречестное слово о соблюдении тайны ребята показали Володьке письмо на бересте, решили расшифровать еще раз.
— Мы установили: письмо написано в 1918 году, — сказал Хасан. — А тогда на Зыбун удул жандармский полковник.
— Обождите, не подсказывайте, — остановил его Володька. — Я сам.
По Володькиному толкованию письма выходило, что на гряду надо идти с какого-то березового мыса. И дело не только в золоте. Володька пояснил:
— Ведь они, наверно, оставили письма родным, оружие — свое и взятое у белых. Может, даже пулемет или наганы есть. Точно?
— Вот здорово!
— Надо, одним словом, найти дорогу на гряду, — глубокомысленно изрек Володька.
— Сначала надо разыскать березовый мыс. С него…
— Мыс — это чепуха! Раз мыс — значит, это на краю тайги. От Щучьего озе-а пойдем к Зыбуну — и порядок! — глотая от нетерпения слоги, воскликнул Санька.
— Значит, говоришь, беляками командовал полковник?
— Да, хапнул золота и хотел скрыться. Но его догнали партизаны. Настичь-то настигли, только сами сгинули. Тиф свалил. Понял?
— Ну и жмем сегодня! Я б это дело, — Володька даже сплюнул сквозь зубы. — Такое дело, а они… в сорочьих гнездах шарятся!
— Еще б недельку-две, — начал Хасан.
— Вернется папа, и мне уже не смотаться. Поняли? А сейчас я запросто. Съезжу, одену кожанку, прихвачу консервов, свой рюкзачишко замету — и обратно. К вечеру мы уже будем… — Володька присвистнул. — Поняли?
Хасан и Санька молчали. Слишком неожиданный оборот… Конечно, к походу все готово, и все-таки ребята колебались.
— Настоящие дела так и делаются! Без лишнего трёпа, — продолжал Володька.
— А что? — заглянул в глаза Хасану Санька. — Он будет у нас главным геологом.
— Ну, давай! — тяжело, с придыханием выдавил Хасан Володьке.
Все притихли. Володька соображал: о чем бы спросить, что выяснить? Из лесу отзвуком далекого эха доносилось равномерное «ук!», «ук!». Жуванжа колол дрова.
* * *
Не успел Хасан перекусить, примчался Санька. Сообщил, что спрятанные им сухари исчезли. Санька высказал предположение, что его приготовления заметила мать.
— А где прятал? Может, мыши, крысы? Они ведь доберутся — не столь съедят, сколь переносят.
— Н-не знаю. На чердаке прятал, — совсем приуныл Санька.
— День туда, день обратно. Там день, — загнул Хасан три пальца. — Ладно. Обойдемся! На мясо нажимать будем. Возьмем два ружья.
— Патроны вот только у меня заряжены давно, могут осечки быть.
— Ладно, я возьму про запас пистонов. Если что — перезарядим.
…Володька и впрямь выглядел, как заправский геолог: легкая кожанка на «молниях», непромокаемая с накомарником кепка, новые яловые сапоги. Настоящий брезентовый рюкзак с кармашками. На «кавказском» ремне болтались алюминиевая фляжка и кожаные ножны, из которых торчала самодельная ручка из цветного плексигласа.
Не было у него лишь ружья.
Хасан первым делом ухватился за нож.
— Покажи!
Володька попытался оттолкнуть Хасана, но тот уже выдернул нож, взмахнул и… вернул обратно. Нож оказался столовым, тупым. Хасан подумал было предложить ему охотничий нож деда, но по лицу понял: обидится.
— А что во фляжке? — булькнул Хасан.
— Да так… граммов двести, — подмигнул Володька.
— Водка?
— А что? Это для дезинфекции ран и царапин. Я и бинт, и иод взял.
Хасан стал еще раз проверять, не забыли ли чего.
Санька притих в сторонке, помрачнел: в мыслях он сейчас стоял перед отцом.
Вспомнилось обидное «леньтяк». И он тут же, пожалуй, впервые мысленно стал возражать отцу.
«…Пойдет тебе, ежели кто ленивый, на Зыбун! Ленивый, он и над книгой уснет. А я их перечитал — на коне не увезешь. И спросит — любую расскажу…»
— Ты чего, Сань? — начал было Володька и — осекся, понял состояние товарища: шутки — шутками, а когда впервые самостоятельно решился на такое — задумаешься. Мало ли.
До сих пор Володька особенно как-то и не задумывался, какие трудности и опасности ждут их на Зыбуне, просто плохо представлял, куда, где и как придется идти.
— Ребята, а не найдется ли ружья и для меня?
— Ты чо? — удивленно посмотрел на него Хасан. — Да мы и второе-то берем уж так.
Володька нахмурил брови, стал суетливо проверять карманы…
РАННИЙ ГОСТЬ
Чуть свет прибежал к Жуванже Нюролька.
— Наш не у тебя ночует? — И заметив, что Саньки тоже нет в избе, присел на край лавки. — На плесе где разве зорюют? Все с удочками возился…
— А чо имя? — потянулся невыспавшийся Жуванжа. — Запалят костер, напекут в золе окуней. Ночь не в ночь. Чо имя… А у меня спина к дождю, видно, ноет.
Жуванжа прожил нелегкую жизнь; не раз мяли ему бока медведи. Однажды он напоролся на двоих в одной берлоге. Раненая медведица содрала со спины кусок кожи с ладонь вместе с мясом. Спасли собаки, повисшие на медвежьем заду. Зверь, огрызаясь, обернулся, и это стоило ему жизни. Для верности три раза по самую рукоять всадил ему Жуванжа свой нож. Еле добрался до дому, долго лежал в больнице. С тех пор стал побаиваться медвежьей охоты в одиночку, и к перемене погоды побаливала спина.
— Дождь, обожди, пригонит! — говорит он о ребятах спокойно, с усмешкой.
Жуванже не было и шестидесяти, а выглядел он, пожалуй, не моложе Нюрольки, хотя тому шел семидесятый. Охотничье счастье ни разу не изменяло Нюрольке. Семьдесят медведей убил он за свою жизнь. А глухарей, охоту на которых особенно любил, бывало, добывал по сотне за зиму. В последнее время, однако, и он стал сдавать: поседел, хуже видели глаза.
— Это ладно, если так, — вздохнул Нюролька. — Да ведь с рекой не шути. Всяко может.
Волосы у Жуванжи редкие, и он расчесывает их только по большим праздникам. А в будни, умываясь, смочит водой, пригладит ладонью — и ладно. У Нюрольки — волос копна: и зимой, бывает, ходит без шапки. Тряхнув волосами, черными, как смоль, с проседью, он по привычке пропускает бороденку свою через кулак.
— Ладно, коли дождь… Обождем, буди.
И уходит.
А дома Нюрольку ждал гость — охотовед Степан Мажоров. Сообщил: собрался на пенсию и в последний отпуск надумал проехать по Чутыму, посмотреть места.
— Приглянется — годок-два поживу охотой. Чего без дела-то сидеть? Лодка моторная есть, купил.
Нюролька поддакивал, торопил жену. Льстило старику, что не к бригадиру Жуванже, а к нему завернул охотовед. Пропустив бороденку через кулак, хитровато скосил глаза на стол.
— Давай-кось, чем бог послал.
Когда выпили, Нюролька вспомнил о Жуванже: нехорошо — не пригласил, не известил о приезде начальства.
— Старуха, сходи-ка за ём.
— А где внук? — заинтересовался Степан.
— Пропал. Оба с Санькой, его, Жуванжи, сынишкой. Вторые сутки нету. И где пропадают — ума не приложу.
«На Зыбун ушли! — сообразил Степан. — Хитрит старик. Однако отчего же не пошел сам?»
— А что это, слыхал я, за письмо на бересте, где оно? — просто спросил Степан.
— А, — махнул рукой Нюролька. — Какое письмо, ежели без мала сорок лет прошло? Баловство одно.
— Интересно все-таки, писали люди…
— Писали да сгинули и косточек не найдешь. Не только что… Отец Жуванжи уходил с кем-то — мы у Пескарева озера были, — пояснил он. — Опять же двое наших догоняли какого-то полковника. Тоже никто не вернулся. Может, их письмо… Значит, с восемнадцатого года.
«Все ясно, все ясно, — твердил себе Степан. — Значит, на Зыбуне и шарятся ребятки!»
— Да-а, — протянул Степан. — Ушли от вас люди на Зыбун — обратно не вернулись. И никто палец о палец не ударил, не подумал поискать! Эх, вы!
Нюролька не подал виду, что его обидело обвинение Степана.
— Жуванжу медведь помял в те поры, — зажав бороду в кулак, ответил он.
— А ты что? Ведь не кто-то — единственный сосед пропал, товарищ.
— Ранен я был, — не сразу ответил Нюролька. Сердце старого таежника уловило фальшь в осуждении и необычный интерес к столь давнему прошлому. — Если б, как сейчас, — вертолеты были… — возбуждаясь, заговорил он громче.
— Что, так никто и не ходил на розыски? — прищурился Степан и отвел взгляд.
— Лежал я, — повторил Нюролька. — Оно, может, что и запамятовал. Однако кто мог? К Пескареву озеру-то я вел…
— Ну и без проводника бы можно. Люди ведь…
— Зыбун опять же. Зачем зря голова терять?
— Это ты прав, — миролюбиво закивал Степан. — Не до поисков мертвых в те годы было.
С приходом Жуванжи разговор пошел живее, но все на темы, мало интересующие Степана.
— Слушай, а ты не собирался с Хасаном на Зыбун? — вдруг спросил Жуванжа Нюрольку.
— Да я ополоумел — летом на Зыбун? — Только сейчас до него дошел смысл вопроса. — Неужто на Зыбун укатали? Вчера бы — настичь можно. А мне, старому дураку, и на ум не пришло.
Нюролька охал, качал головой. Жуванжа вспомнил о письме на бересте: «Разобрали-таки, наверно… А Санька-то, Санька — ну, варнак!»
Разговор с Нюролькой и Жуванжой окончательно убедил Степана: надо попытать счастья. И немедля!.. Тогда он уехал бы отсюда ко всем чертям. Поди, не меньше пуда унесли Куперины серебра и золотишка!
Многое из событий тех дней стерлось в памяти, но все до мелочей помнил Степан, как много суток подкарауливал он Купериных в Сухом болоте, да так и не дождался.
«Сцапали их, голубчиков, туземцы, — сокрушался он, услышав несколько выстрелов. — Гребанули золотишка!»
Были у Степана основания не попадаться на глаза «туземцам», и он тогда не вернулся в Рыльск. Три дня добирался из Сухого болота до жилых мест в соседнем крае. Сначала уехал на Амур, потом еще дальше — на Камчатку…
Грамотешка у Степана была так себе — «гимназия на дому», но торговать умел. Знал толк в мехах. И хотя охотоведом работал немного, директор Рыльской охотничье-промысловой станции говорил о нем с гордостью: «Степана у меня не проведешь». Жил безбедно, хотя все сорок лет мотался по стране — от Камчатки до Урала и от Тувы до факторий на Таймыре. Была у Степана и семья, да жена умерла, а дочь вышла замуж. Вот и потянуло в родные места. «Мало ли что было, — рассудил он. — Было, да быльем поросло…» Никто, однако, не помнил бывшего купеческого приказчика Степана Мажорова, никто не узнал. Он решил дотянуть до пенсии в Рыльске и тогда уж махнуть куда-нибудь на юг. И вдруг случайно узнает от Саньки, часто забегавшего в контору станции, что с Зыбуна никто не возвращался. «Значит, так и лежит золотишко сверкающими горками. Или, зачуяв погоню, господа Куперины сбросили мешавший груз в укромное место и начали отстреливаться. А мертвые, они молчали. Так золотишко и осталось где-нибудь в кустах неподалеку от скелетишков господ Купериных. Откуда было знать туземцам о золоте?» И, взяв отпуск, Степан Мажоров приехал в Юрты.
ТАЕЖНОЙ НОЧЬЮ
Пока шли охотничьими тропками, Володька то и дело вырывался вперед. Заметит куст красной смородины, прыгает, кричит:
— Чур моя! Чур моя!
На нем хотя и потертая, но кожаная куртка, яловые сапоги. Хасан с Санькой в свитерах, в броднях. Кепку Хасан не нашел, идет в одной тюбетейке.
Когда начался «целик» — пришлось идти через многовековые останки деревьев, то задубевших в воде, то до трухи сопревших. Володька даже перестал озираться по сторонам, плелся сзади. Сорвавшись со скользкой валежины в яму с водой, зачерпнул в сапог. Пройдя с полкилометра, начал просить:
— Хасан, а Хасан? Давай посидим — я подсушу портянку.
— Да ты очумел? — урезонил его Хасан. — Тут без огня за день не просохнет. Вот выберемся на мыс…
— Хлюпает, — ныл Володька.
— Ты и не выжал? — остановился Хасан.
— Ты что, оглох, не слышишь хлюпа? Тебе хорошо в броднях…
— А чо там копался! Ты же все ноги погробишь! Ходок! Скидывай.
Володька сел на кочку, стал разуваться. Чтобы не снимать с плеч лузана, Хасан прилег на спину. Санька рвал черемшу. Совсем рядом по сухостойной сосне вниз головой бежал поползень — в голубой рубашке с красным галстуком. Нос — как штык, извещает лесную братию:
— Твуть! Твуть!
Тут, мол, тут. Слетайтесь! Прыгает, сует нос в каждую дырочку. Не спрятаться, не уйти от костяного штыка врагам леса — короедам, усачам, пилильщикам.
— Твуть! Твуть! — разносится по тайге веселое, призывное.
— Ой! — вскочил Володька, растирая ягодицы. — Кто-то цапнул.
Хасан поднялся.
— А ты б еще вон на ту кочку сел. Да штанцы снял.
За соседней кочкой оказался муравейник. Ребята с любопытством понаблюдали, как эти сильные и умные санитары леса со всех сторон тащили пищу, различные стройматериалы: кусочки коры, сухие стебельки трав, всевозможных погибших козявок.
— Ноги завернул в сухие концы? — спросил Хасан.
— В сухие.
— Пошли! Мыс надо засветло найти. На нем и заночуем.
Но сколько ни искали березовый мыс, с которого ходил на Зыбун Жуванжа-дед, ничего похожего не было. Кое-где березник чуть вдавался в Зыбун, но сразу же за окружающими его тальниками начинались непроходимые топи.
Правда, километров пять назад ребята встречали большой мыс, но сплошь еловый и на край его не пошли. Между тем, солнце уже садилось, да и Володька вовсе выбился из сил. Решили найти сухостой для костра и ночевать. Горечь первой неудачи скрасило то, что совсем неожиданно Санька, срезавший пихтовые лапы для подстилки, спугнул рябчика. Солнце уж село, но в прогалинках, на фоне неба, было еще видно, и Хасану удалось его подстрелить. Проголодавшийся Санька заплясал от радости и вызвался кухарить.
— Ну вот! А ты говорил — возьмем мяса! — старался говорить как можно равнодушнее Хасан. Но и он этому рябчику радовался больше, чем медведю, убитому с дедом.
* * *
Хасан любит костры. В искусстве разжигать их тягаться с ним не может даже Нюролька. Для этого мало опыта. Нужна романтика. Страсть молодого сердца.
Конечно, всякий настоящий таежник разожгет костер в любую погоду, и если нужда заставит, то и без спичек. Но как будет он гореть — с шипеньем и едким дымом или с веселым треском, с пляской искр — это не всякий охотник скажет заранее. И уж вовсе обремененный заботами таежник не станет задумываться, отчего и как пахнут костры. А каждое дерево, сгорая, дает свой неповторимый запах и аромат. Не оттого ли так вкусна рыбацкая «уха с дымком»? Но ведь дым дыму рознь. Мало приятного, к примеру, в едкой горечи сгорающей осины. Самый заядлый рыбак обычно мечтает найти в сыром тальнике занесенные половодьем, сухие сосновые сучья, березовые поленья, не подозревая, что вкуснее всего и душистей уха, сваренная на костре из тонких прутьев полусухого тальника. Он и сырой горит превосходно, с веселым треском.
Дегтем пахнут жаркие сучья березы, смолой — фейерверочный костер из тяжелых сосновых лап, из желтых иголок и старых шишек. А сколько чудесных ароматов исходит от лесных кустарников и трав, которые пучками бросает Хасан на красные язычки огня! Туда же летит и чага — грибовидный нарост на старых березах. Дыма сгорающей чаги боятся комары.
У такого костра можно молчать часами. Даже живые, искрометные охотничьи байки как-то меркнут перед живой поэзией ночного костра, поддерживаемого искусной рукой таежного романтика.
Санька с Володькой легли спать, лишь разжевав все косточки бедного рябчика. Хасан примостился у костра на колодине; сидел, опершись на руку, смотрел в огонь и думал… Что если не найдут они этот мыс? Вернуться или все же рискнуть?
Косматая темень подбиралась к самым языкам огня. Лишь сзади маячил похожий на чугунную трубу двухметровый кусок гладкоствольной пихты, да чуть поодаль, когда из-под верхнего бревна вырывались золотые паруса, из темноты выступали меднокованные пластинки корабельной сосны. На фоне сизого столба дыма видно, как толчется и пляшет, предвкушая пир, неистребимое комариное племя.
— Жжжж-ж-ж…
Ни тише, ни громче. Хоть всю ночь обкуривай их дымом, лови, дави в тысячу рук, все так же будет гудеть воздух.
Дым и жар их все же отпугивают; они храбро пикируют лишь на открытую шею Хасана. Он передвигает тюбетейку с одного уха на другое, поднимает воротник свитера, глубже втягивает голову в плечи и прислушивается к звукам ночи. Но тайга затаилась. Только где-то далеко ухает филин, да изредка всхрапывает Санька. Охотясь с дедом, Хасан, обычно намаявшийся за день, всегда укладывается первым. Теперь не спалось. Воображение рисовало то обозленного на человека медведя, то голодную рысь, и Хасан-охотник мысленно спорил с Хасаном-мальчиком, доказывая, что все звери боятся человека и особенно у огня.
«А если придет кто?» Хасан-охотник соглашался, что сейчас им никакой зверь не страшен. Но почему на охоте мысли об этом даже не приходили в голову? Хасан стал доискиваться источников своей тревоги. Зимой кто попало по тайге не шатается. Не очень-то пошляешься по снегу, да в мороз. А вот летом бывает, случается… Но все-таки главное, понял Хасан, то, что и они сейчас идут не на охоту, а искать золото, разгадывать тайну гибели людей. А кто знает, когда и как они гибли?
Хорошо Саньке с Володькой: спят себе, а тут беспокойся о них, думай!
«Нет, надо все-таки уговорить деда! — решил Хасан. — Вот ведь не нашли без него мыса? Не нашли! Так и другое… Вернемся и уговорим. Ведь не просто — тайна! И письмо опять же…»
И неожиданно страхи рассеялись. Все ясно и просто: они только переночуют в тайге и вернутся. А ночевать — что? Не привыкать. Тайга человека любит. Сначала Хасан хотел разбудить Саньку — пусть теперь он подежурит, а потом подумал: костер не погаснет, а к огню какой зверь сунется? Привалившись спиной к Володьке, Хасан уснул в обнимку с ружьем.
Тихо потрескивал костер.
Медленно светлело таежное небо.
ТАЙНА ИСЧЕЗНУВШЕГО БЕРЕЗНИКА
Утром Хасан заговорил о возвращении. Санька не поверил. Разлохмаченный, с пятнами от высохших грязных брызг на лице, но превосходно выспавшийся, он кривлялся от избытка-энергии, пел, как эвенк, о том, что видел. Хасан не удивился, если бы он сейчас заорал, как однажды на пионерском сборе: «Каррамба! Я вождь исчезнувшего племени гип-гип!»
Бывает, привяжется к тринадцатилетнему человеку какое-нибудь мудреное слово и, смотришь, он весь в его власти.
— Каррамба! — И одобряет он что-либо и осуждает, грозит и подает сигнал помощи…
Книжные болезни эти, бывает, проходят лишь с возрастом, с годами…
Саньку в классе звали Гипотезой.. И не потому, что он любил читать научно-фантастические повести, а просто полюбилось ему это мудреное слово, и он начал вставлять его кстати и некстати. А однажды объявил всему классу:
— Есть такая гипотеза: пятого урока не будет. Немка заболела.
Незаметно сгреб учебники — и ушел. Когда начался следующий урок, в класс пришел директор — поругал, почему не ушли в перемену — будете, мол, теперь шуметь по коридору, мешать другим. Тут и выяснилось происхождение Санькиной «гипотезы»: объявить классу о конце занятий ему поручал директор.
— Эй, ты, Гипотеза! — взял его назавтра в оборот весь класс.
— Ходячая!
С тех пор Санька и стал Ходячей Гипотезой..
— Обратно? — растерянно заулыбался и Володька, щуря удивленные глаза.
Хасан обернул все в шутку: солнце так щедро оделяло землю приятно ласкающим теплом, что от ночных страхов не осталось и следа. Теперь Хасану было стыдно даже вспоминать какие-то доводы против похода, но он все же спросил:
— Слушайте, а что станем делать, если не найдем березового мыса?
— А ну-ка, где письмо? Еще посмотрим, — попросил Володька.
Он посидел над ним с минуту-две не больше, шлепнул себя по лбу:
— Олухи мы! Да яснее ж ясного: это они сообщают, что золото и оружие спрятаны на каком-то еловом мысу, а мыс — на гряде!
— Ну вот! Значит, мы правильно прочитали! — обрадовался Хасан.
— А на гряду мы вовсе не знаем дороги, — вздохнул Санька.
— Рванем напрямик! — ничуть не задумываясь, с жаром заговорил Володька. — Полезем через топь, если надо — поплывем через озера! А по готовым тропкам теперь и сопливые девчонки ходят, где хочешь!
— Пошли хоть на этот еловый мыс! Все меньше брести по болоту, — тоном, не допускающим возражений, сказал Хасан; обиделся, захотелось назло сказать Володьке: «Лезь!» Небось сразу скис бы!
Близ елового мыса наткнулись на старый затес.
— Смотри, партизанский затес! — обрадовался Санька. Он уже орудовал ножичком, отколупывая серу.
— С чего взял, что партизанский? — Хасан уже чувствовал внутреннюю потребность охлаждать пыл своих слишком опрометчивых спутников.
— Очень просто! Зачем оставлять затесы жандармам? Чтобы быстрее догнали их? А партизаны шли без проводника. Тятю медведь помял, а твой дед был ранен.
«Ишь, ты! И верно, — удивился Санькиной сообразительности Хасан. — А ханты по затесам не ходят, хант — «человек тайги».
Мыс вдавался в Зыбун на километр — полтора. За ним шло сравнительно сухое болото.
— Пойдем? — кивнул на Зыбун Володька. — Вырубим по шесту и…
— Нет, надо найти березовый мыс, с которого ходил Санькин дедушка, — не сдавался Хасан. — Может, партизаны потому и не вернулись, что пошли здесь.
— Как раз вернулись! Они же в тайге погибли! Заболели тифом, — поддержал Володьку и Санька. — Тогда, в двадцатом, и муж бабушки Эд умер от тифа.
Хасан стоял на своем. Тут надо разобраться. Прошло почти сорок лет — мало ли что могло случиться! И пожар мог быть, и… — Хасан вспомнил, как они с Санькой где-то недалеко от Щучьего искали Пескаревое озеро, не зная, что Щучье и называлось тогда Пескаревым. И тиф их, ясное дело, свалил не вдруг. Мало ли куда могли зайти?
— Обождите подсчитаем, сколько ельнику лет, — предложил Хасан. Он разрыл в нескольких местах зачем-то землю.
— Слушай, Хасан, а если так: «Золото нашел. Закапал на еловом мысу в трех шагах…». Видишь? — совал ему Санька замусоленную копию письма. Хасан посмотрел, рассмеялся:
— Грамотей! Закопал, а не закапал.
— А вдруг это партизан сделал ошибку? Ведь мог он ошибиться? Мог? — стоял на своем Санька. — Что, это зря все «ел» да «ел»? Ясно, в ельнике…
Хасан прервал его.
— Пятьдесят лет назад, когда тут проходил дедушка, этот мыс был еще безлесным, а лет сорок назад здесь рос молодой березник, — сказал он изумленным ребятам. — Это, ребята, точно. Потому что березы немного старше елей, но они уцелели только с краю, а в ельнике все погибли…
…Вот что произошло на мысе.
В десятых годах, в то время, как здесь впервые проходил отец Жуванжи, мыс уже заняли семена елей. Но на окраине тайги росли и березы, и осины. Из каждой сережки осины вылетали сотни белых парашютиков — семян. Вслед за ними целые облака березовых семян приносил сюда ветер. На влажной почве осинки и березки росли быстро, целыми стайками поднимаясь вровень с елками. Но осины и березы светолюбивы и в тени елей они быстро чахли, гибли.
Борьба, однако, продолжалась. Молодые ели боятся ветров и холода. И едва наступала осень — множество елочек с корнем повыдергали свободно гулявшие на Зыбуне ветры, а остальное довершили ранние морозы: влажная земля трескалась и рвала слабые корни. Березки и осинки, которых не сразу и заметишь в буйной поросли травы, победили. Их веселые и поначалу, казалось, разрозненные стайки, поднимаясь, смыкались все теснее, в дружный хоровод. Они лет десять радовались солнцу, торопливо тянулись навстречу свету и теплу. Таким, березово-осиновым, и видели партизаны этот мыс, далеко вдающийся в Зыбун. Он как бы показывал: «Гряда — там! Иди, придешь!»
Гордо шумели юные победители листвой, прикрыв ею от ледяных ветров новые поколения елочек. Под лиственным шатром достаточно елям и тепла, и света. И вот быстрорастущие ели, обогнав в росте березы, через тридцать лет, к пятидесятому году, заглушили их, лишили пищи и, главное, света. А осинки и вовсе плохие бойцы: вечно дрожат, робко машут хрупкими руками, словно заклиная ели не трогать их. Минуло еще десять лет, и хилые березки и осинки погибли. Лишь кое-где, по краям мыса, они еле проглядывали в мрачной стене елового леса.
Довольные собой, приятно возбужденные своим открытием, ребята выбрались на опушку, присели отдохнуть.
* * *
— Что же все-таки означает это «ка» и второе «ел»? — вслух размышлял Санька. — Искать, песка, леска, мыска… Слушайте, а вдруг они так и писали: «Надо идти с елового мыска»?
— А что тогда означает второе «ел»? «От ельника в трех шагах» не подходит. Ельник большой, — пояснил Володька.
— А если так: «…золото зарыто в конце елового мыска…» под какой-то приметной елью. Толстой или сухой.
— Все равно не получается. Если их тиф свалил на гряде, то через болото они не перешли бы. И опять же перед «ка» и «ел» стоит «зер». А на мыске нет озера.
— А озеро ли это? — включился в спор и Хасан.
— Зер… Зеркало, зерно, — опять забубнил Санька. — А если это фамилия партизана?.. «Зернова свалил тиф, через Зыбун его и золото не перенести. Он останется на еловом мысу, а я пойду к Пескаревому озеру…» Вот и «ка»: пес-ка…
Володька вскочил, потянул из рук Саньки копию письма.
Завязался спор не на шутку. Чтобы избежать ссоры, Санька притих.
— Тут мы ни до чего не дотолкуемся. Надо искать гряду, — заключил Володька. — А то у тебя выходит, что партизан товарища бросил, а золото понес. Да еще сам и пишет об этом. Ерунда у тебя получается.
…И вот Хасан, «начальник» экспедиции, вскакивает и командует:
— На Зыбун ша-а-гом марш!
— Ур-ра! — не раздумывая, кричат в ответ «завхоз» и «главный геолог».
…В небе — ни облачка. Только на синей зубчатой стене зачутымских кедрачей пасутся пушистые белые барашки; теплый южный ветерок тихо гонит их по-над Чутымом в голубую даль. Где-то в вышине радуются лету и солнцу жаворонки. И только далекий, скрипучий голос вечно чем-то раздраженного коростеля как бы фальшивит их виртуозные жизнерадостные трели…
А НАЗАД ТОМУ СОРОК ЛЕТ…
Мало кто в дореволюционном Рыльске не знал немого Епишку, саженного детину, работника известного на всю Сибирь купца Куперина.
Однажды в сарай, где работал и спал Епишка, зашел молодой куперинский приказчик Степан Мажоров. Стараясь не коснуться липких стен, он поманил Епишку пальцем.
— Хочешь, — Епифан, в сукне ходить и французские булки кушать?
Епишка помычал, жестикулируя и, наверное, догадавшись, что Мажоров все равно ничего не поймет, закивал головой.
— Иди за мной. Да не рядом, ты! Сзади иди.
И Епишка покорно поплелся вслед.
А накануне произошло вот что.
Вызвал Степана к себе на дом «сам», сказал ему.
— Изволил я усердие твое заметить.
— Премного благодарен вам, Порфирий Евграфыч! — склонился Мажоров.
Куперин предложил приказчику пробраться в верховья Чутыма и на его малые притоки, собрать с туземцев «ясак», поторговать.
— Только смотри, — предупредил Куперин. — Финтить станешь — под землей сыщу! Слышал, небось, о полковнике Куперине? Брат мой. Вся губернская полиция в его руках. Смекаешь? И он тоже в моем деле участие имеет. Это понял?
— Как не понять, ваше степенство! Да я жизни своей не пожалею…
— Вот, вот! И что он или я в этом деле — ни гу-гу!
Куперин взял с Мажорова расписку и, кроме подписи, заставил его приложить палец.
— Линии на ем — не перестряпаешь, — не стесняясь, рассуждал он. — С собой Епишку возьмешь. Этот не разболтает!
Куперин подал Мажорову сверток, пояснил:
— В мундир унтера его оденешь. С двумя Георгиями!.. Что хошь говори, что хошь делай, а пушнинка чтоб была. Понял?
…В первую же ночь, нагрузив лодку охотничьими припасами, спиртом да яркими безделушками подешевле, Степан и Епишка отплыли в верховья Чутыма. Завидя стойбище у Зыбуна на Белоярском плесе, Мажоров помог Епишке натянуть тесный мундир унтера и выстрелами известил о прибытии «властей». Сойдя на берег, зычно потребовал ясак. Нюролька, тогда еще молодой, лучший в округе медвежатник, отец Жуванжи и несколько подкочевавших с севера эвенков робко жались друг к другу. От крестов и пуговиц Епишкинского мундира, надраенных суконкой, отражались, рассыпаясь лучами, десятки маленьких солнц.
— Брони бог…
— Слышали? Война с германцем идет? Самый главный сказал: «Иди на войну или пушнину дай». Поняли?
— Борони бог, зачем война?.. Бери пушнину.
Епишка, вскинув ружье «на плечо», словно окаменев, стоял в трех шагах сзади. Целый день потратил Мажоров на обучение «унтера», но цели достиг: Епишка внушал страх перед грубой, безжалостной силой, глухой ко всему на свете… И если шкурки ложились к ногам скупо, Епишка стрелял в воздух, а Мажоров повторял:
— Ясак! Ясак! Нет пушнины — садись в лодку! На войну!
Затем Степан выносил из лодки бидон со спиртом и короб с безделушками: раскладывал ленты, зеркала без оправы цветные кисеты и наливал охотникам спирт.
— Пейте! Огненная вода снимает все болезни, все горести-печали. Пейте!
После угощения начиналась «торговля»…
Нелегким был путь по многочисленным речушкам — притокам Чутыма, но, вспоминая сейчас об этом, Степан остро, с болью в сердце чувствовал, что те дни были лучшими в его жизни. Он почти не спал сам, измотал Епишку, как одержимый рвался все дальше и дальше. Успех пьянил, и он ни до, ни после этого не чувствовал себя таким счастливым. Лодка уже еле вмещала мешки, с пушниной. Только начавшиеся по ночам заморозки заставили Степана повернуть обратно. Но было уже поздно. Пришлось зимовать вдали от жилья, там где застал ледостав. Только лоси спасли их с Епишкой от голодной смерти и от холода. Степан охотился. Епишка свежевал туши, носил мясо, строил из шкур чум…
Затем Степан отправил Епишку к жилью, добывать оленью упряжку. Немой ушел и не вернулся. У Степана вышли спички.
Приходилось день и ночь поддерживать костер. Однажды, уже весной, он пошел в тайгу и вернулся к покареженной огнем куче шкур вместо чума. На Чутыме стояла наледь: еще неделя — и лед тронется. Но Степан не стал ждать, отправился по берегу реки пешком. Недели через три, когда большая вода уже скатилась, Степан добрался до Юрт и здесь от отца Жуванжи узнал о том, что круто изменило всю его жизнь: еще полгода назад в России свершилась революция.
Жуванжа рассказал ему: рано утром через Юрты на Зыбун прошли двое. Явно второпях бежали из Рыльска: один даже без фуражки, повязан чем-то и очень смахивает на купца Куперина. Жуванжа до этого видел Куперина давно и лишь один раз, но охотничий глаз зоркий. Степан решил, что, видимо, Куперин, опасаясь за свою жизнь и солидные капиталы, бежал вместе с братом, жандармским полковником, и конечно, не с пустыми руками.
— Проведешь? Ружье отдам! Трехствольное — вот!.. Нельзя упускать этого кровососа!
«Но как же решились идти через Зыбун без проводника Куперины? — подумал Мажоров. — Не обознался ли Жуванжа?» Степан вышел из юрты, чтобы наедине спокойно обдумать план своих действий.
…Эти минуты и сейчас, спустя сорок лет, Степан помнил до мельчайших деталей. Едва вышел он на берег, как увидел километрах в полутора лодку и в ней человек пять с винтовками. «Партизаны! — решил он. — Гонятся за Купериным! Надо немедленно уходить! Надо увести Жуванжу! Без проводника они не смогут преследовать Купериных, и все золото их достанется ему, ему одному!»
Он так и сделал. Но на Зыбуне Мажоров с Жуванжой никого не встретили. Жуванжа уверял: Куперины не могли прийти на гряду раньше их. Они разминулись где-то в пути. В сограх это просто — готовых троп нет.
«Что ж, теперь он справится один», — решил Мажоров и здесь же, на краю гряды, покончил с Жуванжой, а труп бросил в кусты. Чтобы Куперины не вышли позади него, он прошел за кедрач и там, в Сухом болоте, залег.
И все зря!
И сейчас, вороша в памяти события тех дней, Мажоров презирал себя за слабость, за трусость (чего он боялся, скрываясь в Туве, на Камчатке?). Надо было вернуться в Юрты! Сразу проверить, что за выстрелы слышал он, лежа в Сухом болоте? В конце концов, он мог убить и партизан — ведь их на Зыбун уходило только двое!
Мажоров наметил план действий, нашел удобное место для засады. Потом задумался: а если ребята выйдут в другом месте? Или, по неопытности, утопят золото где-нибудь в трясине? Взвесив все, Мажоров решил догнать ребят и последить за ними. Раз они сразу пошли на Зыбун, значит, золото там! И они нашли не «пустое» письмо, как уверяет Нюролька, а точный план. Не случайно скрыли содержание его даже от родителей. Ушлый пошел народец!
Пожалуй, всего вернее опередить их и отправить к праотцам в сограх у гряды. По плану он найдет золотишко и без них. Уж теперь-то он не упустит случай! Золото само плывет в руки…
ПРИШЕЛЕЦ ИЗ АФРИКИ
Щурясь от яркого солнца, Володька озирался по сторонам, оборачивался к Саньке, тяжело хлюпавшему сзади.
— Это что! Вот в горах…
Или:
— Да не брызгайся, ты!
Он почти на голову выше Хасана и видит, что осоку, растущую обычно на кочках, неподалеку разрезает полоса пырея. Значит, там суше. Но просто сказать об этом ему не позволяет сознание воображаемого превосходства. «Таежники! — думает Володька. — Чуть было не струсили…» И он придумывает, как бы задеть самолюбие Хасана, порисоваться перед Санькой.
— Лево руля, начальник! — командует он.
— Почему?
— А потому! Надо чувствовать землю и нюхом, и ногами, — и он первым сворачивает к пырею. Действительно, здесь оказались остатки узкой, но длинной гривы. Не было ни воды, ни кочек.
— Ты смотри, Хасан, и верно! — простодушно восхищался Санька. — Вот это нюх!
На гриве присели отдохнуть. Санька снова забубнил:
— Ка, пока рука, Ока… Слышишь, Ока?
— Я говорил: наш дедушка тоже погиб где-то в Зачутымье. Бежал из ссылки и погиб…
Санька достал бересту, повертел ее в руках и сказал:
— Почему с обеих сторон этого «ка» стоит «ел»? И перед «ка» ясно видно полукруглую вмятинку на бересте. Тут было «О» и не простое, а заглавное. Видишь? — поднес Санька бересту к лицу Хасана.
И вот он, отодвинувшись на всякий случай от Володьки, читает письмо по-новому:
«Полковника догнали на гряде за озером, но меня свалил тиф. Золото взял Ока, а меня завел в тайгу и бросил, — скороговоркой выпалил Санька. — Я не ел трое суток…»
— Я тебе дам Оку! — вскочил Володька.
Он рванул Саньку за плечо так, что тот слетел с ног. Между ними тотчас встал Хасан.
— Ты чо? Волчьих ягод объелся? Забыл?
— А что он тут сочиняет? Мой дедушка был большевиком, а не бандитом! Поняли?
— Там же ясно: Ока завел, не ел трое… — упрямился Санька.
Володька опять рванулся из рук вцепившегося в него Хасана, и Санька примолк. Потом примирительно протянул:
— Ну, ладно, уж и нельзя…
— А что ладно?
Санька, не ожидавший такой горячности от Володьки, опешил.
— Достань! — поддержал Володьку Хасан, кладя ружье и рюкзак на плотный ковер пригнутого пырея. Сел. Рядом с ним на корточки опустился и Володька.
Санька достал бересту. Беззвучно пошевеливая губами, Володька вглядывался в нее и карандашом вносил в свою копию какие-то еле видимые закорючки. Санька с тревожным любопытством косил глаза то на бересту, то на Володькино лицо, Хасан невозмутимо жевал зеленую былинку.
— Трепло ты, вот кто! — прервал затянувшееся молчание Володька. — Во-первых, если бы было «я не ел трое суток…», то в письме это «ел» и «тр…» стояли бы рядом, а тут видишь какой между ними пробел? На целых два слова! И «ка». Разве оно стоит рядом со словом «золото»?… Ты посмотри, Хасан.
— Ну, ладно, Санька прочитал не так. А ты как? Ты что предлагаешь? — И он поднялся, положил бересту в свой рюкзак.
— А я считаю, что сначала надо найти гряду. А там я прочту, не беспокойся!
Гривка кончилась у кустов, в середине которых стояло целое озерко воды. В таких местах после половодья остается много рыбной молоди: щурят, налимов. Нередко попадаются и рыбы покрупнее.
— А давайте посмотрим, может, кто есть? — предлагает Санька. — Тогда взмутим воду и…
И тут Володька вмешался по-своему.
— Вот и пойди с ними на серьезное дело. Им бы рыбку в мутной водичке ловить!
Кусты обошли. За ними начался зыбкий, качающийся под ногами мох.
— Фур-рс! Фур-рс! — засвистел воздух. Это взлетела пара серых куропаток. Хасан не успел даже сдернуть с плеча ружье, как они исчезли. По краям омшаника густо белела, местами еще вовсе зеленая, клюква. Моховое болото тянулось, видимо, не на один километр, и обходить его — собьешься с пути не хуже, чем в тайге.
— Пройдем!
Но ходьба по омшанику выматывает быстрее, чем грязь и кочки. Это оттого, что нервы и мускулы постоянно напряжены, каждый шаг делается с опаской, осторожно. Поначалу изредка встречались и карликовые березки, черемухи, даже кедерки. Хилые, невысокие, они тем не менее плодоносят. На кедерках зеленеют по две-три шишки, а черемухи густо обсыпаны коричневатой ягодой. Середина болота была чистой, ровной. У последнего деревца ребята присели, сняли рюкзаки.
— Перекусим? — предложил Санька. — Я почищусь и обсушусь.
— Уже? Быстро ты оголодал! — усмехнулся Володька, хотя у самого тоже посасывало под ложечкой.
Хасан молча достал сухари и банку консервов. Санька выудил из кармана луковицу, Володька — запылившийся кусок сахару. Все разделили, съели.
— Пойдем напрямую? — спросил Санька у Хасана.
— Давай! Где наша не пропадала! — разошелся заморивший червячка Володька и ткнул Хасана в бок. — Ты что все отмалчиваешься? Думаешь, все пооткрыто до нас?
Хасан кисло улыбнулся и принялся вырубать из ствола черемухи палки.
— Мне и своих двоих хватит, — и тут не удержался от искушения поострить Володька. Но уже через минуту он пожалел о свей опрометчивости. Мох прогибался, сквозь него быстро проступала вода; шумно бурлили, вырываясь из-под ног, пузырьки воздуха.
— Са! Ха! — Володька помахал над головой руками, будто ловил невидимые сучья и шлепнулся на бок. Левая нога его провалилась в трясину. Хасан скинул рюкзак, положил на него ружье.
— Крек-с! Крек-с! — вдруг где-то совсем рядом раздался скрипучий деревянный голос. Володька вздрогнул и уже не сводил немигающих глаз с лица Хасана. Он боялся прорвать слой торфяника, лежал неподвижно, ожидая помощи. На свою палку Хасан оперся коленом, а Володьке протянул Санькину.
— Держись!
Оправившись от испуга, Володька ждал, что вот-вот Хасан начнет высмеивать его («Чего же сейчас не отказался от палки?»), но и Хасан, и Санька, казалось, уже забыли об этом. Хасан насвистывал, подражая какой-то птице, Санька жевал серу. А идти Володьке стало намного тяжелей: в сапогах хлюпала грязная вода. Он крепился, старался не подавать вида, но солнце уже припекло по-настоящему, и лицо будто обрызгалось соленой росой. И ноги заплетаются.
— Уже расписался? — искренне удивился Санька.
Несмотря на добродушный тон, слова Саньки кажутся Володьке жестокими, ранят его обидчивое сердце, но он только сопит и время от времени начинает моргать: часто-часто.
— Черт его… пот одолел. Как в Африке.
— А, знаешь дергач пешком из Африки к нам придрапал, — вдруг говорит Санька, и Володька пытается понять по тону голоса: сказано это просто так, без задней мысли, или в укор ему, Володьке?
— Не бреши хоть! — угрюмо тянет Хасан. Видимо, и он устал.
— Голову наотрез! — неожиданно горячится Санька. — У самого Бианки читал. Летает он вроде курицы, а бегает — на коне не догонишь. Понял?
— Крекс-крекс! — раздалось где-то совсем рядом. «Ага, это и есть дергач», — понял Володька.
— Слышишь? А попробуй найди его?
Говорить не хочется и ему. Во рту сухо, в горле першит. Но болотная вода кишмя кишит всякой тварью.
— Сдохнуть лучше!
Чем, мол, пить такую жижу.
Солнце почти над головой. Ни облачка. Мелкой рябью ввысь медленно уходит теплый воздух. И хоть бы одна былинка дрогнула! Бодрый голос дергача (или тут много их?) преследует, звучит как вызов.
— Крекс-крекс…
— Хлюп-с, хлюп-с, — несется в ответ. Из каждого следа, бурля, вырывается болотный газ. Володька безучастно смотрит, как лопаются пузырьки, Санька про себя считает шаги.
Хасан молчит. И, не оборачиваясь, идет вперед.
Володька вдруг чувствует, что ему легче, он усваивает какой-то ритм ходьбы Начинает втягиваться.
Из травы вылетел кулик. Санька, несший ружье в руке, выстрелил ему вдогонку, и кулик перекувыркнулся в воздухе и упал. Санька метнулся к нему. Крылья его, как два надломленных ветром паруса, взлетали вверх и тихо падали; очевидно, он пытался взлететь и не мог. Санька на бегу выстрелил еще раз и промазал. А до кулика оставалось три-четыре шага. Санька в азарте (не до перезаряжения!) рванулся к нему, надеясь добить стволом ружья, и с разлету провалился в трясину. Хочет Санька вскрикнуть и не может; раскинув руки, он запрокидывает назад голову, надеясь увидеть ребят, но трава скрывает от него горизонт до самых облаков. Трава и небо — спокойное, равнодушное. А ноги сковало холодом: вода внизу ледяная. Санька раскрывает рот, хватает воздух.
— Ой! ой! ой!..
* * *
Поиски ребят начались на следующий день. Накануне вечером У Нюрольки снова появился Мажоров; вызвал его из избы, где мать Хасана, Фатима, стряпала, на улицу.
— Смотри, на Чутыме нашел. Прибило к берегу, в кустики.
Нюролька не сразу узнал кепку Хасана. Вертел в руках, словно надеялся: вдруг окажется не его? Но нет, внукова кепка. Фатиме он сказал, что сходят на рыбалку, а сам с Жуванжой проехали у берегов Чутыма вниз по реке, но никаких признаков гибели ребят не обнаружили. Тогда они поднялись выше по течению и встретили Володькиного отца, ехавшего в Юрты. После разговора с ним сомнений не осталось: ребята ушли на Зыбун. И втроем. Отец Володьки вернулся к палаткам, а Нюролька с Жуванжой стали собираться на Зыбун пешком.
— А где же Степан? — хватился Нюролька.
— Сказал, к Пескареву озеру схожу, может, там они, — сообщила плачущая Фатима. — Просил обождать. Ребята, мол, не без припасов пошли, да и с ружьем — не оголодают. Да что-то не верю я ему. Уж шли бы сами.
— «Не верю!» — хмыкнул Нюролька. — А какой ему резон врать-то. Раз искать обещал, значит, искать и станет. Что ему ищо-то в тайге делать?
Но больше всего он, конечно, надеялся на самих ребят, на Хасана. Не маленькие! А и хлебнут горького — поделом. Вперед наука!
Но успокоение не приходило. Мужики-охотники не возвращались с Зыбуна, а что ребятишки? Если шестов хороших не вырубили, то перетонут в первой же трясине. Будут спасать друг друга и все утонут…
Не прошло и получаса — Нюролька собрался и вышел из дому. Но сначала он решил завернуть к Пескаревому озеру, обойти его: вдруг и в самом деле ребята там? На худой конец — найдет Мажорова, вдвоем и на Зыбун идти сподручней.
А Мажоров в это время уже шел по свежим следам ребят…
* * *
Саньку спасло ружье. Орудуя им, как палкой, он держался, пока Хасан не кинул ему свой шест. Выбираясь, Санька извалялся в грязи и вымок по самую шею, а главное, когда вылез, — обнаружил, что патронташа на поясе нет. И сколько потом ни шарились, не нашли. Кулик же, придя в себя, так и уполз куда-то в траву.
— Лучше б сразу промазать! — сокрушался Санька, стряхивая с рук и ног ошметки тины Ружье Санька передал Володьке, а сам на ходу отжимал свитер. Лицо и руки его расписали ржавые подтеки.
— Как вождь из племени фур-фур, — снова донимал его насмешками Володька. — Не хватает только кольца в носу…
…Вечером Володька «возлежал» на ложе из срезанных ножом кочек, обсасывал косточки бедного дергача, подстреленного Хасаном и сваренного Санькой, и философствовал:
— А он это правильно, что сюда, в Азию, притопал. В Африке разве его съели бы с таким почетом? Для пигмеев[5] это и не дичь вовсе. Им подавай гиппопотама…
Никто ему не ответил.
…Рядом дотлевали хилые талинки.
«Ук! Ук!» — услышал Володька. Но увлекшись, он не обратил на это внимания. Но вот звук повторился: «Ук!» Поначалу Володька, не задумываясь, решил: Санькин отец колет дрова. И только спустя минут пять сообразил: до Юрт не меньше десяти километров. А лес сильно заглушает звуки. Рубили километрах в двух, не больше. Володька попытался сориентироваться: в какой стороне деревня? Получалось, Юрты на северо-западе, а рубили на юго-западе, совсем в другой стороне. Он разбудил задремавших было Хасана и Саньку, и ребята долго прислушивались к звукам ночи. Володька прижал, залил водой дымившие остатки костра и по просьбе ребят повторил, что за звуки и через какие промежутки он слышал. Хасан взял топор, взмахнул: «Ук!» Ук!» И пояснил: «Это кто-то с двух сторон подрубил деревцо». «Ук!» — это обрубил ветку. Значит, решил Хасан, кто-то вырубил шест. Но зачем это понадобилось делать ночью? Не пойдет же разумный человек по Зыбуну сейчас!
— Вырубали таганок — варить ужин, — заключил свои предположения Хасан.
Но кто? Значит, на гряде живут люди!
— Постой, — ввязался в разговор Санька. — Если там уже гряда, то зачем им таганок? У них же дома или юрты есть…
— Ну мало ли! — отмахнулся от Саньки Хасан. — Рубили и не на гряде. У какого-нибудь озера рыбаки ночуют. Поняли?
КОГДА ЕСТЬ БУЛАВКА
Долго не спал в эту ночь Хасан. Оказалось, просчитались во многом. Не учли, что аппетит будет зверским, а во-вторых, гряду ребята надеялись найти в первый же день к вечеру. Но вот кончился второй, а грядой и не пахнет. Сухари таяли на глазах: добавить хотя бы хлеба на Володьку впопыхах забыли. Правда, он захватил три банки консервов и полукилограммовую пачку сахару, но из них — свиного печеночного паштета — создали, как полагается, НЗ[6].
— А, настреляю завтра куликов! — неожиданно для себя вслух произнес Хасан.
— Ты чего? — привстал уже задремавший было Санька.
— Говорю, поищу завтра куликов.
— Озеро бы найти! — мечтательно протянул Санька. — Настоящее, с рыбой. Там и кулики. И утки…
Непередаваемой трелью раздался безмятежный всхрап Володьки.
— Хасан, а Хасан? — приглушенно зашептал Санька. — А вдруг на этой гряде живут разбойники? Ружье-то теперь у нас, считай, одно.
— Скажешь тоже! Что они тут жрать будут? Разбойники на лесных дорогах были, а тут кто ходил?
— Ну, просто живут, сеют хлеб, рыбачат, а кто зайдет — укокают.
— Не сочиняй.
— Найдем — всю-всю гряду облазим! — размечтался Санька. — Ведь, если где золото и оружие спрятано, его так просто сейчас не найдешь. Позаросло все…
— Сухарей вот только у нас мало. И с мясом, видишь, — ерунда получается. Может, все-таки лучше вернуться? — неожиданно для Саньки начал он.
— «Забоялся», — решил Санька и неуверенно протянул:
— Засмеет он нас. И в школе…
— Шалапутный он, это верно. Только бы насмех кого поднять. А чо он тогда сам не взял сухарей? Не к мамке пошел!
— Хасан, а Хасан? А если мы найдем много золота, то могут на него специально в Рыльске построить вертолетный завод? Мы так и скажем: искали золото, чтоб больше построить для Севера вертолетов…
— Могут…
— Ну вот! А ты говоришь — вернуться!
— Тише! Спи. Завтра видно будет.
Но через минуту-две с юга на север волнами прокатился гром, и Санька опять приподнялся.
— Хасан, а Хасан, а если дождь? И без костра ничего? Зверь не…
— Спи ты! Какой на Зыбуне зверь? А от дождя — не сахарный — не растаешь. — И, помолчав, успокоил: — Над нами, видишь, небо чистое — значит, стороной пройдет.
…Раньше всех проснулся бодрый, улыбающийся Володька.
— Эй, вы р-р! — зарычал он так, что Санька вздрогнул и вскочил, ошалело озираясь. — Вы где — в походе или на даче?
— Чо ты орешь! — протер глаза успокоившийся Хасан. И переспросил: — Где?
Он впервые слышал это слово — «дача».
— Эх, хлопцы! — вместо ответа потянулся Володька. — И жрать же я хочу! Слушай, начальник, давай срубим банку из НЗ. Все равно гряда скоро, а там дичи нащелкаешь.
«Вот и заговори с ним о возвращении, — невесело подумал Хасан. — По ему и до гряды три шага, и рябчиков там навалом…
— Да вы что оба скисли?
Хасан с Санькой молчали.
— Все-таки что на завтрак?
Санька с затаенным любопытством ждал: сейчас Хасан взорвется. Володькина безалаберная беззаботность и смешки над другими давно уже злили не по годам рассудительного, но горячего Хасана. Однако он сдержался. Только решительней и тверже обычного, совсем как настоящий начальник, сказал:
— Во-первых, с сегодняшнего дня ремешки будем подтягивать. И до завтрака по холодку пойдем искать гряду.
Неожиданно и для Саньки, и для Хасана Володька, казалось, даже оживился.
— Искать, так искать. Нечего тянуть резину, — встал он. — Раз на Алтае мы целые сутки одну ягоду ели.
— Подумаешь, сутки!
Санька облегченно вздохнул «Хороший все же парень и не неженка! — подумал он о Володьке. — И весело с ним». Однако Хасана Володькина решимость не обрадовала: «Он думает, гряда вон, за согрой. Добежал, набил рябчиков — и вари да загорай на солнышке». Но винил он за непредусмотрительность все же только себя. И чем беззаботней вел себя Володька, тем большую ответственность за судьбу похода чувствовал на себе Хасан. А ведь он так надеялся на Володьку! Все-таки сын старого геолога и, говорит, был в настоящей экспедиции…
— Ребята! — вскочил Санька. Его слегка веснушчатое лицо расплылось в улыбке, брови удивленно поднялись. — Ребята, у меня есть булавка!
Хасан, приятно вздрогнувший от ожидания, что Санька по меньшей мере увидел дорогу к гряде или охотничий лабаз с едой, сплюнул с досады, а Володька, как балаганный зазывала, развел руками:
— Граждане, внимание! Фокус Саньки Жуванжи: суп из булавки!
Санька слишком обрадовался своей идее, чтобы обидеться.
— Мы сделаем крючок и наудим карасей.
Это уже что-то.
— Хэ! — вспомнил Хасан. — Да у меня же есть удочка! И с леской! Помнишь, — обернулся он к Саньке, — мы пошли зорить гнезда, я ее с удилища снял и…
Никто его уже не слушал. Володька, сунув отощавший рюкзак под мышку, брел к кустам, близ которых поблескивало небольшое озерко.
«Легко сказать — наудим, а сколько времени проваландаешься? — с каким-то усталым безразличием брел сзади всех Хасан. — Сегодня уже начнут искать», — подумал он о матери, о деде, о Жуванже.
* * *
Есть такое крылатое насекомое — поденка. Три года — тысячу дней и ночей — проводят личинки поденок в темных глубинах озер, копошатся в иле, едят зеленую вонючую тину. И вот наступает день, когда они, обретя крылья, взвиваются над озером. Дикая, пьянящая радость обуревает поденками, и они пляшут, кружатся в воздухе до тех пор, пока одна за другой мертвыми не попадают на воду, на листья кувшинок, на землю. Тогда за легкие трупики их с веселым бульканьем возьмется рыбная мелочь, всякая хищная живность болот.
На поденку и решили ребята ловить карасей. Озеро оказалось нешироким, но длинным и кривым. Почти сплошь оно было затянуто ряской — плавучими зелеными лепешечками с продолговатыми выступами: стебельками и веточками. Листьев у ряски нет. Размножается она до изумления просто и быстро: отломится от стебелька-лепешки лепешка-веточка и станет из одного растеньица два. Попробует рыбак бороться с ряской — разгоняет, рубит ее веслом, да только поможет ей. Еще быстрее и плотнее затягивает она озеро. А опустятся утки — прилипнет ряска к лапам, перелетит с ними на другое озеро…
Много раз — и в траву, и на «чистинки» забрасывали удочку ребята, но поплавок, где касался воды, там и замирал.
— Нажрались они поденок, что ли?
— А давайте на личинок комара попробуем? — предложил Хасан.
И Володька и Санька посмотрели на него с удивлением: чего чудит человек? Какие личинки? Где их возьмешь?
— Смотрите! — склонился Хасан к застойной воде у самого берега так, словно собирался пить.
…Вьются, снуют взад-вперед волосатенькие червяки и чуть различимые в ржавой воде куколки с рожками. Это личинки и куколки комаров — страшного врага таежного края.
— На них разве только гольянов… — неуверенно протянул Санька.
— А что — озера с гольянами на Зыбуне должны быть.
Меж тем Володька поймал стрекозу и какого-то жучка. Для приманки для верности стрекозу насадили целиком.
— Сразу не дергать! — через каждые две-три секунды предупреждал Санька Володьку. Но поплавок мирно покоился на лепешечке ряски. Саньке вспомнилась щедринская сказка о карасе. И он, перевирая события и присочиняя, рассказал ее.
Володька понял с его слов лишь одно: и в литературе карась известен как ленивая, трусливая и вообще глупая рыба.
— Это уж точно, — поддержал его и Хасан. — Чуть где-то стук-бряк — он мордой в ил, в тину. А после грома так сутки или двое и не вылазит из ила. А ночью слышали как грохотал?
— Всю жизнь дрожит, жрет тину, а для чего? Поденки вон хоть на один день взлетают к солнцу, радуются так, что себя не помнят…
Володька выдернул удочку. Стрекоза зацепилась за ряску и осталась на ее лепешечке.
— Сорвалась?
— По-моему, карась не лучше ряски, — с философским спокойствием заключил Володька, сматывая удочку.
Ребята ненавидели карася. И презирали ряску.
ЧЕЛОВЕК ИДЕТ К ЦЕЛИ
Бывает, люди долго поднимаются в гору; идут по каменистым тропам, а то и вовсе без дорог, поддерживая друг в друге силы словами: «Это последний перевал. Преодолеем — и все…» Однако с вершины этого перевала им открываются не только новые горизонты и дали, но и новые, более трудные перевалы. Цель по-прежнему где-то впереди. И пойдешь ли ты упрямо к цели, к главному перевалу всей твоей жизни или разобьешь свою палатку у одного из первых, уже решается и сейчас, когда тебе лишь четырнадцать лет. На пути человека жизнь ежечасно ставит большие и малые «перевалы» — через одни ты проходишь, даже не замечая их, у других, бывает, пасуешь, ищешь причин для остановки. И причины находятся…
Совершенно не думая об этом, и Хасан, и Санька, и Володька, каждый по-своему, испытывали это «чувство перевала»: все они за каждой согрой рассчитывали, наконец, увидеть гряду, лес, озеро с холодной и прозрачной водой. И еще что-то таинственное, волнующее… Надежды, однако не сбывались. Но росло и упорство: «Сколько шли, мучились — и зря?» — думал один. «Дома все равно попадет, но меньше, ежели гряду найдем», — рассчитывал другой. «А что скажем на пионерском сборе?» — волновало третьего. И никто не хотел первым заговорить о возвращении. Никому не хотелось оказаться слабее или трусливее других. Вот почему время близилось к обеду, а никто из ребят не заговаривал даже о завтраке. Каждый, пока были силы, старался отдалить нелегкое решение, каждый надеялся, что цель — рядом, надо только сделать к ней еще один шаг, еще шаг, еще…
Будь любой из троих один — давно бы вернулся. Не будь у них определенной конечной цели — они вернулись бы и втроем. Но все складывалось так, что они не могли остановиться на полпути: их было трое, трое пионеров, умеющих ценить и жар костра и тень походной палатки, — разных и в чем-то схожих. И у них была цель. Самими открытая, выношенная, своя, может быть, первая настоящая цель в жизни.
А идти становилось все тяжелее. Перебрались через одну трясину, а за согрой, тянущейся по краю неширокой гривки, уже виднелась другая — с поблескивающими лунками полузатянутых тиной, мхом и резуном озер. Опять начали донимать комары. Володька совсем скис.
Гривка тянулась круто в сторону, и он предложил пройти по ней, поискать дорогу посуше. Убеждал:
— Хуже этого некуда.
Прошли с километр по-за кустами меж сухих кочек, темневших на земле, как бородавки, И Санька вдруг крикнул:
— Смотрите, пихта!
Невеселое дерево — пихта. Она любит таежную глушь, сырость. Неужели столько времени они петляли где-то по краю Зыбуна, близ тайги?
— Придется залезть, — вздохнул Хасан. — Может, тайгу с нее видно?
Санька уже сбросил рюкзак, сдернул бродни. В чем-чем, а в лазанье по деревьям нет Саньке равных во всем Рыльске. Не успели Хасан с Володькой напиться пахнущей прелыми листьями и глиной воды, как Санька добрался до вершины. Слегка, ради шика раскачиваясь, выкрикивает:
— Есть! Лес! Близко!
* * *
Степан Мажоров без труда обнаружил следы ребят. Пройдя за ними немного, он понял, что если пойдет напрямик, через затопленные водой пади, которые придется перебрести, то выиграет не менее суток. Так он и сделал.
Подыскав место, где он ляжет в засаду, Степан осторожно подрезал ветки кустарника, мешавшие стрельбе, и отправился на охоту. До ребят, прикинул он, далеко, выстрел не услышат. А консервы Степан решил приберечь: вдруг ребята проплутают, и не один день придется ждать их, не разводя костра, с минуты на минуту? Несколько раз Степан намеревался отойти подальше, однако ноги сами заносили его то вправо, то влево, и он весь день прокрутился около скрадка. У первой же ямы с водой он развел огонь и сварил суп из мясных консервов с гренками вместо хлеба. Потом долго сидел у костра, думал о своей нелепо сложившейся жизни, вспоминал о том, что пережил он в этих краях сорок лет назад…
Только предгрозовой ветер, пахнув прелой листвой, вернул его к действительности. Оба патрона в стволах ружья были заряжены дробью. Мажоров вынул их и вставил новые, заряженные пулями.
А на гриве, куда вышли ребята, наперебой лопотали осинки, качали головами одуванчики. Речными волнами заперекатывался желтый ковер лютиков, или, по-народному, куриной слепоты. В лица пахнуло холодком, свежестью, запахом дальних лесов. Солнечные полосы блекли, растворялись в сумраке одна за другой.
— Шалаш давайте! — воскликнул Хасан, ломая все, что попадется под руку: и тальник, и вереск, и можжевельник. Санька надламывал и склонял навесом густую поросль ивы.
— Зачем? — усмехнулся удивленный суетой ребят Володька. — Встанем все под пихту. Вон какая!
Не отрываясь от работы Хасан крикнул:
— А молния…
Он не договорил. Где-то в стороне Юрт с грохотом рванули небесный шелк, и ломкий зигзаг белого огня расколол почерневший северо-запад. Володька рванулся с места, вошел в азарт.
— Давай, давай!
Волнами — одна другой темнее — набегали тени. Налетел, тряхнул ветвями ветер и на свинцовую лужу за пихтой легла желтая пороша рыжих иголок. По лютиковому ковру пробежали редкие крупные капли…
— Лезь! — командует Хасан. Володька кряхтит, лезет первым. Санька еще волокет охапку ивовых веток. Бросает сверху, кричит:
— Чур, мне в середку!
Ребята жмутся друг к другу; тучи рвутся, трещат по всем швам. Лужа похожа на опрокинутую терку. Уже не капли, а водяные шнуры падают, разбиваясь о землю. Навстречу им взлетают фонтанчики грязных брызг, и десятки ручейков, соединяясь в потоки, подхватывают иссеченные грязноватые лепестки лютиков, перекатываются через ощипанные стебли одуванчиков. Пышный белый наряд их, перемешанный с ржавым торфом, грязью, стекает в болото.
Навес уже не спасает; холодные струйки текут на лица, за воротники. Ребята ежатся, толкают друг друга. Хасан завороженно следит за пляской фонтанчиков-брызг, за веселой работой ручейков. Санька прилаживает над головой свой рюкзачишко. Володьку одолевают мысли одна мрачней другой.
До чего же слаб человек! Под дерево не стань — звезданет молния. Кругом вода, и каждая лужица кажется бездонной трясиной. Побежишь — так и смотри, ухнешь — досыта наглотаешься грязи, вонючей тины. Да и выберешься ли? Может, заплутали уже. Приешь все, что есть, а дальше?
…Но гроза прокатилась. Ветер быстро разогнал остатки туч, и солнце засучив рукава-лучи, с таким жаром взялось за дело, прихорашивая землю, что Володька невольно забыл о своих страхах.
От его лица и кепки струился пар. Он победно оглянулся вокруг. Молния? Не становись под высокое дерево. И дома на печи кирпич может на голову упасть. Трясина? А не беги по ней, не трусь. Кончился дождь — смотри. На то глаза. Без глаз и на городском асфальте живо свернешь шею. Заплутаешь? Есть звезды, деревья. Умеешь читать небо или землю — выйдешь. Не умеешь — молчи, учись, выведут. Трое — не один. А с голоду с ружьями в тайге мрут только в сказках.
На траве, особенно на цветах, сверкают, прозрачные капли. Володька сразу ощутил на лице грязь — следы болотных брызг. Раскинув над лютиками ладони, он быстро свел их в пригоршню.
— С ума спятил? — остановил его Хасан. — Кто же умывается водой с куриной слепоты?
— А что?
— Каждый вечер слепнуть будешь, вот что!
Володька не поверил. Но умываться не стал.
— Пошли! Нечего терять время, — нашелся он. — Мы у цели…
Хасан молча согласился. Гривка заметно расширялась, стали попадаться островки молодого пихтача, затем потянулись заросли вереска.
Лес оказался старым кедрачом.
— Ура! — вопил Володька. — Я же говорил!
А Хасан приуныл: «Заплутали, — решил он. — Дали крюк по Зыбуну и вернулись в тайгу же. Только куда? Где мы теперь?»
— А может, это и есть та гряда? — неуверенно высказал затаенную мысль Санька.
Теперь это была уже высокая сухая елань. Кое-где на несколько метров поднимались холмики — то сплошь затянутые мхами, то скрытые порослью кедра.
Решили позавтракать на ходу, всухомятку, чтобы быстрее добраться до кедрача, разлаписто темневшего километрах в двух.
— Кедрач! Видите? — захлебывался Санька, то и дело вспоминая отца, бабушку Эд, интернат. — А где кедрач, там и зверек и птица. Сюда и уходила белка. Значит, это и есть та гряда!
И все-таки Хасану не верилось: отчего же не могли добраться другие? Оттого, что ходили в одиночку?.. Хасан мысленно оглядывался назад: где и почему могли гибнуть другие? Но размышление об этом сразу привело к догадке: а разве кто-нибудь мог идти точно там, где прошли они? Ведь они брели без троп, полагаясь лишь «на нюх», на чутье. Долго блудили, петляли. И, может, именно это спасло их. Они случайно нашли тот единственный, прерывистый путь к гряде. Но тогда обратно не выйти: ведь следы, и без того запутанные, окончательно уничтожили дождь и ветер. Мысль эта настолько удручала Хасана, что он не решился высказать ее товарищам. Ведь это он повел их на верную гибель…
НАД КИПЯЩИМ ОКЕАНОМ
Да, это и есть таинственная гряда; теперь уже никто не сомневался. Было видно, что она круто расширяется, достигая у горизонта нескольких километров. Часть ее и рядом с кедрачом оставалась голой.
— Камень и песок. Диабаз, — определил Володька. То и дело на пути встречались ломаные выступы каменных глыб, то замшелых, с пучками хилой травы, выбивающейся из трещин, то отполированных до блеска. — У какого дерева могли они зарыть золото?
Никто ему не ответил.
Голые плешины, покрытые лишь желтыми кедровыми иглами, местами перехватывались зелеными поясками можжевельника, папоротников, да изредка у сгнивших валежин голубели круглые наросты мхов. И лишь в низинках — впадинах, куда обильно стекала дождевая вода, буйно выбивалась вверх, к солнцу, трава, густыми гнездами всходила кедровая поросль. По краям гряды робко жались друг к другу тонкие осинки; грубые листья их при малейшем дуновении ветерка начинали тихо роптать на свою судьбу.
— Лопочут, — прошептал Хасан, словно боялся спугнуть их веселую стайку.
И опять долго шли, утихомиренные величием вековых кедров, усыпанных шишками.
— Как гранаты-лимонки.
Это говорит Володька. Лет пять-шесть назад он, бывало, в десятый раз рассказывает сверстникам содержание фильма, в котором есть повод для любимой, коронной фразы: «Тут матрос ка-ак выхватит гранату-лимонку». Девочки шести-семи лет жмутся в страхе, а Володька вскакивает, повторяет движение матроса…
— Еще без орехов они, — после паузы шепчет Володьке Хасан.
Тихо на гряде Хорошо, видно, сторожат покой ее сотни болот и трясин Зыбуна. Внимание, слух у ребят, однако, напряжены. Ружье Хасан несет на руке. Сильнее всего на свете ему сейчас хочется услышать испуганные хлопки крыльев куропатки, увидеть беззаботно прикорнувшего под кустом зайца. От предвкушения свежинки он то и дело глотает слюнки. Но дичь нужна Хасану не только для еды. Она нужна и «для авторитета», который поставил его во главе «экспедиции». С минуты на минуту он ждет ехидное Володькино нытье. Но тот молчит. Рот его полуоткрыт, на носу нависла капелька пота. Ему тяжело.
— Пшена надо бы взять, вот что! — начинает на этот раз Санька. — И мяса б сухого. Где вот она, твоя дичь? Не привязал!
Молчит Хасан. Что на это скажешь? Пустынно, грустно на долгожданной, не раз в ребячьих снах исхоженной гряде. Только изредка вспорхнет с пути какая-нибудь невзрачная пичужка, пересядет на ветку чуть повыше. Хасан следит за ее беззаботными кокетливыми прыжками, запрокидывает голову.
— Б-бах! — гулко разносится по лесу.
— З-зачем ты ее? — опешивает Санька.
Но на плешину под кроной кедра падает не пичужка, а… белка.
— А ее зачем? — теперь уже интересуется Володька.
— Варить станем.
— Варить? Белку?
— А что? Не ел? Пальчики оближешь!
— Да ее ж не едят!
— Скажешь тоже! — И уже тише добавляет: — Мало ли что… Чем питается белка? Не падалью? Нет. Орехом, грибами. Самый чистый зверек. И мясо у нее, точно говорю, очень вкусное. Один эвенк говорил…
— Тогда надо настрелять белок больше! — загорелись глаза у Володьки.
— Настреляешь! — усмехнулся Хасан. — Не очень-то настреляешь ее в это время да еще без собаки. Это уж так… случайно.
Тут же разожгли костер. Суп из белки, в самом деле, оказался вкусным. Жаль только, маленькая она…
Теперь ребята идут по краю гряды. Здесь больше света, солнца и вероятности поднять зайца или куропатку. Шагается и дышится легко, ноги то мягко погружаются в мох, то похрупывают сухими иголками. В осинничках густо растут душистые кусты иван-чая, огненные сгустки «татарского мыла». И Зыбун отсюда кажется уже не страшной хлябью, а цветущим лугом. Изредка Санька находит разноцветные сыроежки и по-братски делится с Володькой. Ни белых грибов, ни масленников еще нет. Рано.
Хасан изображает из себя сытого… Ему неудобно: ведь это по его вине не взяли ни сухого мяса, ни вяленой рыбы.
— Смотрите, озеро! — вдруг закричал Санька, взобравшийся в поисках сыроежек на холм повыше. — Прямо на гряде!
Озеро в каменных разломах и совершенно чистое. Ни травинки! Ребята спустились к воде. Санька зачерпнул… Горячая!
Это уже что-то. Не белка в супе и не кедрач, которого немало и в Причутымье.
— Здо-орово! — восхищается Володька.
— А помнишь, Санька, — говорит Хасан, взбираясь на замшелую каменную площадку, чуть не нависающую над водой. — Помнишь, бабушка Эд говорила: «Не то дым, не то пар». Значит, ключи на дне озера такие бьют, горя…
Жуткая оторопь охватила Хасана; он чуть не запнулся за отбеленный временем череп, мертвым оскалом зубов впившийся в землю, видимо, надутую ветрами на камень. Рядом, в буйно разросшейся меж ребер траве, лежал второй огромный скелет. Одежда истлела, и остатки ее размыли дожди, разнесли ветры. Лишь на позвоночнике того, что поменьше, чернел тоже сгоревший от времени застегнутый, однако, как положено, ремень, да в ногах торчали подошвы кованых сапог.
— Р-ребята, — еле выдавил Хасан.
Хасан и Санька смотрели на скелеты с пяти-шести шагов, лишь Володька как ни в чем не бывало обошел их, поковырял носком сапога землю, даже сострил:
— Без белья, а в портупее!.. Да идите вы ближе! А то дрожат, как осиновые листья. Они?
— Кто? — шагнул вперед Санька. — Дед наш погиб где-то здесь.
— Тут эти… Епишка и полковник.
— На черепах у них не написано, — окончательно освоился Санька, хотя за нарочитым ухарством слов угадывалось волнение и до конца не исчезнувший страх.
— Смотри, пистолет! — склонился Володька к скелету поменьше.
Металл уже поизъела ржавчина, однако можно было ожидать худшего. Видимо, его много лет предохраняла деревянная кобура, трухлявые остатки которой под ним еще лежали.
— Возьмем, отчистим, точно? — предложил подскочивший Санька. — В музей сдать можно. И фляжка! Смотри, Хасан, стеклянная фляжка!
— Бандитский пистолет — и в музей! — наконец пришел в себя и Хасан.
— А ты откуда взял, что бандитский?
— А оттуда, что тот вон, длинный, — немой Епишка. Говорят, он метров двух был. Видишь? Его полковник забрал в проводники.
Володька, до сих пор молча осматривавший скелет, вдруг воскликнул:
— А их убили не партизаны!
— А кто же еще?
— Если б партизаны, то оружие и патроны они бы взяли. Что-что, а уж оружие…
Володька обшарил все вокруг, кое-где разрыл землю, постоял и высказал такое предположение:
— Было у полковника золото или не было его, он все равно не доверял Епишке, батраку, боялся его. И про себя он, конечно, давно решил: как пройдут Зыбун — пристрелит проводника. Зачем ему свидетель? Да и с едой, может, было туго. Когда Зыбун остался позади, он, неверно, не мог и спать, думал: «А если этот немой надеется сделать с ним то же самое? Вон какая туша — навалится и… Может, он вовсе не немой, а неизвестно кто». Одним словом, полковник не выдержал и в затылок его… Видите, дырки в черепе?
— А кто ж полковника кокнул? — с недоверием прищурился Санька, уже невозмутимо нажевывающий серу.
— На костях у него следов пули нет.
— А в сердце костей не бывает.
— Ты думаешь, он сам себя? Этого не могло быть, — авторитетно заключил Володька.
— А я и не сказал, что сам! — горячо запротестовал Санька. — На ремне Епишки — видите, он расстегнут! — и висела эта фляжка со спиртом. Полковник снял ее, отвинтил — видите? — и тут же хлебнул. Все же проводника своего убил, не собаку. Хлебнул спирту, да тут и трахнулся чуть не на Епишку. Спирт был отравлен… очень таким ядом… Иначе он хоть отполз бы от мертвого Епишки. И фляжка — видите — так и валяется под ним.
Но тут сразу и Хасан, и Володька засыпали Саньку вопросами. А где же тогда золото? И откуда у немого яд, да еще такой сильный? Кто ему дал, где когда, зачем? Знал ли он, что спирт отравлен?
— Этого я не знаю, — откровенно развел руками Санька.
Хасан с удивлением посмотрел на Саньку и, пожалуй, с уважением за это необъяснимое умение его фантазировать так, что не хочешь, а веришь. И даже когда чувствуешь, что вранье, хочется верить. Или придумать что-нибудь о том же самому. Нет, не зря Саньку назвали Ходячей гипотезой!
Неожиданная находка отодвинула было озеро на второй план. Теперь, когда история гибели полковника была установлена Санькой и принята Володькой и Хасаном, все тотчас вспомнили об озере. Но Володьку уже не манили тайны Зыбуна.
— Поись бы чего, — жалобно протянул он.
Остро ощутил голод и Санька. Договорились сначала пойти добыть что-нибудь поесть. Хасан распределил обязанности. Он пойдет на охоту. Володька с удочкой отправится на ближнее «холодное» озеро, а Санька к лесу, разведет костер и на всякий случай сварит грибовницу.
— Долго, — вздохнул Санька.
Володька грустно посмотрел на Хасана.
Хасан почесал затылок. Все ясно! Все «за»!
И ребята мужественно съели последний сухарь. Оставался НЗ — печеночный паштет — да немного сахара и соль.
* * *
Приближение грозы заставило Степана искать убежища в кедраче. Дождь начавшийся неожиданно, захватил его в пути. В одну минуту он промок до нитки и хотел вернуться — теперь, мол, все равно, но до кедрача добежал, чтобы обдумать все спокойно под защитой могучих кедровых лап. Ход его мыслей был, примерно, таков.
Гроза захватила ребят где-то на Зыбуне; возможно, они заплутали надолго. Во всяком случае сейчас по моховым болотам и трясинам идти нельзя, пока не рассосутся, не испарятся дождевые лужи. Это задержит ребят на сутки, не меньше. Зачем ему сидеть в сырой ложбине, мокрым? Чего доброго, еще схватишь воспаление легких. Он решил развести костер, обсушиться, сварить обед. Чтобы дым не был виден с Зыбуна, когда гроза кончилась, Степан ушел на западный склон гряды, за кедрач. Здесь он сварил суп с консервами. Солнце, тепло костра да сытная горячая пища после трехдневной еды всухомятку и холодного душа разморили усталое тело Степана, и он так уснул, что не услышал даже выстрела, которым Хасан убил белку. Впрочем, до ребят было не меньше двух километров, а в лесу, особенно днем, звуки далеко не распространяются.
Степан проснулся лишь под вечер. Голодный, но готовый бодрствовать хоть всю ночь.
* * *
Вечером Санька подозрительно часто и долго пробовал грибницу — на соль, на готовность и просто так, вкусна ли. На второе и третье предполагался чай…
К НЗ, однако, не притронулись.
— Я слышал, что глубоко-глубоко в земле огромная-огромная жара, такая, что даже металлы и камни кипят, — заговорил вспотевший у костра Хасан. Санька понял, к чему он клонит, перебил:
— А, знаете, вдруг с миллион лет назад был здесь горный хребет, вроде подводного хребта Ломоносова[7], а потом он осел, опустился, как Атлантида[8], и осталась над землей только самая верхушка его. А оседая, разломился он, и по трещинам пошел вверх пар, горячая вода. В земле воды этой — реки. И может, когда-нибудь откроют на земле еще один, подземный, кипящий океан…
Он говорил, глядя куда-то поверх голов ребят, словно и впрямь видел все, о чем рассказывал.
За дровами идти никому не хотелось. С горем пополам вскипятили чай. Медленно, молча тянули пахнущую прелыми листьями воду.
— Надо бы весь сахар в НЗ, — запоздало посоветовал Володька. «Ну что бы взять кусок вяленой нельмы!» — думал Санька.
— Мяса бы сухого, — вздохнул Хасан.
— Давайте рассказывать анекдоты, — предложил Володька. Он озорно и весело заглянул в лицо одному, другому. — Чай с анекдотами! Здорово!
— Я не знаю анекдотов, — смутился Санька. — Но запоминаю их, — поправился он.
Солнце тихо сползло за согру, золотя лишь верхушки ив. Припорошенные золой, медленно дотлевали угли. Остатки чая остывали в кружках.
— Ребята! Вспомнил! Летчик рассказывал, — вдруг воскликнул Санька и от волнения даже разлил чай. — Слушайте. «Однажды самолет догнал маленький зеленый вертолет, сбавил скорость и говорит ему:
— Эй, братец, кто ж так изуродовал тебя? Чего доброго, орел примет тебя за жирную стрекозу и проглотит.
Самолет захохотал, но вдруг почувствовал, что горючее кончилось. Он сделал круг, другой и врезался в болото. Повис над мим вертолет и спрашивает:
— Что ж ты, братец, при твоей красоте и скорости сел в вонючую лужу?
Но никто ему не ответил: внизу лежала лишь груда металла…»
Мечтая стать летчиком, Санька не первый раз выказывал свое преклонение перед вертолетами, но почему-то только сейчас Хасану показалось это нарочитым, рисовкой: подумаешь, летчик нашелся! Где-то в глубине души давно жило чувство обиды за тайгу, за профессию отцов и дедов, неуважение к которой сквозило в Санькином увлечении. Поначалу Хасан намеревался было рассказать веселую историю о трусливом медведе, но это новое чувство воскресило в памяти полузабытую притчу о куропатке, изменившей своему племени.
Сумерки сгущались. Все быстрее прорезывались в небе звездочки. Приглушенней и все-таки громче обычного зазвучал на притихшем болоте неунывающий голос Хасана:
— В сетях, растянутых для просушки, рыбак поймал куропатку. Заплакала она и говорит: «Не убивай меня, и я заманю в твои сети очень много куропаток». Рыбак ответил: «Я хотел освободить тебя, в это время люди не ловят полезных птиц. Но ты сейчас умрешь, потому что ради спасения собственной шкуры предаешь свое племя». И рыбак свернул ей шею…
— Крекс! Фур-c-cl — донеслось из-за согры.
— Дергача кто-то спугнул, — прошептал Володька.
— Это он сам… набрел на куропатку, наверно.
— А знаете, по-моему, здесь надо спать по очереди, — и Володька наговорил такого, что все притихли, боясь проронить слово.
Тянуло сыростью, прохладой. Где-то тихо булькала вода. Теперь разговаривали только шепотом. Бросили жребий. Кому за кем дежурить. Первому досталось Володьке. Он взял Хасаново ружье и отполз в ближайший куст, замаскировался. Прислушиваясь к звукам, — а жизнь окружающих гряду болот не замирала всю ночь, — крутил головой, вглядывался в наползающий с Зыбуна туман.
Костер давно погас, и лежать было зябко, по телу пробегала дрожь. Володька ерзал, сжимался, дул на стынущие пальцы. Хорошо еще, что кожанка предохраняла от сырости.
В эту ночь он впервые пожалел, что пошел на Зыбун. Он и раньше думал не о золоте — просто увлекал сам поход в компании сверстников, вольная, полная приключений жизнь под открытым небом. Теперь Володька думал только о возвращении домой. Он не признался бы в этом даже самому себе, мысленно спорил то с Хасаном, то Санькой, но все его существо хотело сейчас одного — скорей бы кончалась ночь. Завтра же они отправятся обратно…
Мажоров не спеша собирался, прислушиваясь, не выдадут ли себя ребята стуком или-криком. Спустился ниже, навстречу ползущему с болот туману, с наслаждением умылся росой, обильно оседающей в венчиках лютиков. Затем проверил, не выкатились ли пули — одна, он помнил, сидела некрепко — и, стараясь не брякнуть котелком о ружье, отправился на поиски ребят. Он пересек гряду поперек; здесь она была еще неширокой — километра полтора, но никаких следов ребят не нашел. Рассудив, что на ночь они должны остановиться где-нибудь на опушке леса, он отправился по краю гряды, чтобы по-за сограм пройти за озеро к ельничку.
Едва он вышел из кедрача, как до него донесся и стук — кто-то брякнул котелком — и голос. Говорил один, — монотонно, как шмель. «Сказочками пробавляются», — решил Мажоров. Мысленно он уже не раз расправился с ними, и сознание того, что сейчас, через несколько минут, он пристрелит ребят, не волновало. Он раздвигал кусты, высматривая свои жертвы, как азартный охотник — зверя и птицу. Большую поляну, «чистинку», он обошел стороной, по-за согрой. Ступал осторожно, стараясь не хрустнуть сучком. Однако едва добрался до вереска, окружающего ельничек, за которым сидели ребята, как вокруг стало твориться что-то необъяснимое. Степан знал: после грозы небо очистилось, и ночь, ожидал он, будет лунной и звездной. Но едва солнце закатилось, как землю стала окутывать такая мгла, что не только заозерные холмики, но и деревья в двух шагах уже не различались. Мажоров брел наощупь в ельник, выставив перед собой ружье и отводя ветви кустов свободной рукой. Что же случилось на гряде? — запрокинул он голову, всматриваясь в небо. Протер глаза и понял: куриная слепота! Он перестал видеть ночью. Мажоров знал: нужны витамины A и B2. Но где взять их? У него ничего нет, кроме сухарей и консервов…
Мажоров, как заяц, забился под куст и лег.
Вспомнилось, как он ночевал на Зыбуне с Жуванжой. Проводник нарезал ножом кочек, настлал их рядами, развел костер. Тепло, удобно. Однако утром Степан еле встал: ноги ломило, болели плечи и руки.
— Жуванжа, донеси и мой мешок — что хочешь, куплю, — попросил он проводника.
— Припасу дашь? — оживился тот. — Ружье молчит. Шибко худо…
Все пообещал ему тогда Степан: и дробь, и порох. Знал: не охотиться больше Жуванже, не виться дымку над его чумом.
И теперь страх охватил Мажорова: не судьба ли привела его через сорок лет к могиле убитого? Суждено ли выбраться ему отсюда?.. Но он подавлял, глушил страх торопливым шепотом:
— Но ведь золото! Столько золота! Не было в Рыльске человека богаче Куперина…
ГИМН ГИПОТЕЗЦЕВ
— А ну-ка, где письмо? — чуть свет разбудил Хасана так и не уснувший в эту ночь Володька.
— Какое письмо? — не сразу пришел тот в себя. Затем достал аккуратно завернутую в тряпочку бересту. Хотя ребята сняли три копии, но копии копиями, а при чтении письма на месте все важно: какой где пробел между буквами и вообще… Взглянул и ясно. А то с копией гадай: так — не так…
Володька начал рассуждать:
— Допустим, партизаны нашли полковнике и Епишку, когда оружие поржавело… Пусть, просто забыли его. Но почему они спрятали золото на гряде? Они должны были понести его с собой в отряд. Точно?.. Тогда зачем они пишут о гряде, озере, каком-то ельнике?.. Выходит, они его все-таки где-то закопали. Ребята, а может, они указывают ельник на берегу Щучьего озера?
— Тогда оно называлось Пескаревым, — вставил Хасан.
— Они зарыли его, когда их совсем свалил тиф. Зарыли где-то у озера, — предположил Санька.
Володька подал Хасану свою копию с текстом, подписанным к сохранившимся на бересте буквам простым карандашом.
«Товарищи! Полковника не догнали. На гряде у озера нас свалил тиф. Болотом вышли на большой еловый мыс. Пока будем в ельнике, на тропе. Ждем помощи. Если что — прощайте…»
— Ну, и так далее. В конце они наверняка указывали, где, если не поправятся, оставят оружие и, может, письма родным. Поняли? — с победоносным видом посмотрел на товарищей Володька. Купца с полковником и Епишкой, сами видели, нет. Скелета-то два. Значит, никакого золота и не было.
Весь поход в глазах Саньки как-то принизился и обесцветился.
— А может, попробуем? У ближнего дерева? — не сдавался он. — Помните, толстый-претолстый кедр на отшибе стоит…
Без энтузиазма воспринял Володькино толкование письма и Хасан. Все, конечно, подходит, да только письмо получилось какое-то неубедительное и очень уж спокойное. Неинтересное. Возвращаться, не копнув нигде земли, не хотелось.
— «олото» надо читать не «золото» а «болото». Ну и пусть! Точно? Что золото? Подумаешь! — разошелся Володька. — Мы открыли целую Зыбунью с горячей водой! Это, может, важнее всякого золота. Возьмут и проведут по нашей гряде дорогу в Зачутымье. Даже железную. Парников здесь настроят — целый совхоз. И, может, санаторий. А что? Думаете, зря в Зачутымье нефть ищут? Ничего не зря! Она есть, только папа не знает, где точно…
Ну и мастер же на фантазии Володька! Санька даже рот раскрыл, размечтался. Словно волшебник, Володька пересадил Саньку с одного ковра-самолета на другой и вот летит он с ним в будущее своей Зыбунии…
Однако сколько ни сиди, ни мечтай, а домой возвращаться надо. И чем быстрее, тем лучше. Володька так и сказал:
— Пока не поздно, давайте сматывать удочки.
Но как только разговор зашел о возвращении, тотчас нашлись неотложные дела. Во-первых, надо дать гряде название.
— Так и назовем — Зыбуния, — предложил Санька. Он уже проголодался и спешил.
— Чушь! — безапелляционно заявил Володька.
— Ничего не чушь! Есть же такой остров в тихом океане — Океания?
— Океания — это звучит! И она обитаема.
— И ты сочини новую гипотезу: столько-то тысяч лет назад здесь от горячих ключей было тепло, как в Африке, и жило могущественное племя гип-гип или там-там…
— А что? И это надо проверить.
— Знаете? — осенило Хасана. — Назовем гряду Гипотезией! А, Санька!
— Поставим у озера флаг, — подхватил Володька, — зароем под ним фляжку с письмом: когда, кем открыта, и все такое.
— Напишешь! Бумаги-то нет! — буркнул Санька. Он решил, что те просто вышучивают его.
— На бересте! Пошли!
Обняв Хасана и Саньку, Володька потянул их к озеру. Он запел, импровизируя:
Всегда идем, Всегда втроем. Мы все изроем, Мы все откроем, Мы все найдем! Всегда идем, Всегда втроем…Санька подтягивал. Ему даже расхотелось есть.
— Знаете? — остановился Володька, когда ребята взобрались на самый высокий холм у озера. — Это будет гимн Гипотезии!
Взгляд Саньки упал на кости, белевшие в траве на соседней каменистой площадке. Нет, он не хочет оставлять здесь свой скелетишко.
— Поись бы…
Его уже не вдохновлял даже гимн гипотезцев. Что это за страна, которая не может накормить трех своих открывателей! Не достойна она ни флага, ни гимна!
— Надо идти обратно, — уже тоном старшего сказал Хасан.
— С одной банкой? — обернулся к нему Санька. — Голодовки пионерскими ступенями не предусмотрены.
— Это что, острота? — разулыбался Володька. — Когда съедим консервы — будем петь гимн Гипотезии:
Всегда идем, Всегда втроем…Впрочем, открытие новых земель необязательно. Даже пионерам третьей ступени. Я закрываю Гипотезию!
Володька вошел в свою роль…
* * *
Внешне, казалось, поведение и отношения ребят оставались прежними, и все-таки каждый чувствовал, что во многом друг на друга, да и на самих себя они смотрят иначе, чем несколько дней назад. Хасан Саньку и то видел другим. Вспомнив о совместной охоте, он теперь поверил, что Санька может стать хорошим охотником, но только, наверняка, не захочет. Выучится на летчика. Хасан легко представил Саньку даже в космосе. Володька, конечно, станет геологом. А вот для него, Хасана, жизнь тайги полна волнующих звуков и запахов, маленьких тайн, и разгадывание их увлекает, радует. Каждый шаг в тайге — новая страница огромной и вечно живой книги. А наука, техника — это что-то тоже хорошее, но для разума, а не для сердца. Мир техники для сердца Хасана оставался немым….
— Что это? — остановился Володька. — Гудит что-то.
Санька зажмурил глаза, прислушался.
— ЛИ-четыре. Идет на нас, — прошептал Санька, и ребята невольно присели.
— Это, наверно, папа возвращается с Черного Чутыма, — предположил Володька.
— Ну да! — рассмеялся Хасан. — Черный Чутым вон где, а это какой-нибудь…
Но какой — не все ли равно?
— Всегда идем, Всегда втроем, —снова начал было Володька. Его никто не поддержал. Петь не хотелось. Хотелось есть.
НА МУШКЕ ЗАУЭРА
Степан всю ночь пролежал в кустах. Ребят он услышал сразу, едва над кустами взошло солнце. «Нашли! — решил он. — Прыгают! Как телята… дорвавшись до свежей травки», — подумал он, торопливо вынося вперед лежавший у ног «зауэр три кольца». Вызванный в воображении образ телят как-то расслаблял, напоминая собственное детство, и Мажоров нахмурился, скривил губы, потом выругался — нехорошо и зло.
Санька и Володька обнялись и, раскачивясь в такт словам, пели:
…Мы все изроем, Мы все откроем, Мы все найдем!Войдя в ельник, Володька попросил у Хасана ружье, сказал:
— Мне всегда везло, авось хоть зайчишку…
Хасан молча снял ружье с плеча, облегченно вздохнул. Ребята примолкли. Затаил дыхание и Степан. В наступившей тишине явственно донесся гул мотора: по краю тайги от Юрт шел вертолет. «Значит, ищут их, сопляков», — понял Степан.
Заметили вертолет и ребята.
— Слушайте — приостановился Володька, — а вдруг это все-таки нас ищут? Ведь мы же никого не предупредили!
Санька, приложив ладонь ко лбу, внимательно следил за просветами в пихтаче, в которых медленно проплывал вертолет, похожий на объевшуюся стрекозу.
— Подумаешь, генерал! — не оборачиваясь, съязвил он. На вертолете искать его будут! Наши и без предупреждения знают, где мы. — И вздохнул: — Вот вздуют только, когда вернемся…
— Знают — потому и ищут нас здесь, — упрямился Володька. — Давайте запалим костер!
Последняя фраза, сказанная погромче, донеслась до Мажорова. Он понял, что надо во что бы то ни стало помешать этому: дым сразу привлечет внимание летчика. Он решил: как только ребята остановятся — выйдет из засады и перестреляет их в упор там, где они попытаются разжечь костер. Неожиданное препятствие ожесточило Степана, и он взял ружье наизготовку и стал осторожно пробираться вперед.
Наконец, меж кустов и елей Степан стал видеть ребят: то одного, то другого. Еще немного и… но почему их трое? Кто третий? Откуда? Степан растерялся: чтобы убить третьего, понадобится перезарядить ружье. А Степан теперь даже не знал, сколько ружей у ребят. Определить это, когда сквозь кусты и подлесок угадываются лишь силуэты, почти невозможно. «Но ведь пока перезарядишь, третий, если не растеряется… Хасан не растеряется. Итак, первым Хасана, вторым — будет видно. Схватится за ружье Санька — его…»
Первым, с ружьем наизготовку, шел кто-то незнакомый Степану. Как ни сдерживал себя Мажоров, мушка плясала. Он ничего не мог поделать с руками. «Надо было перезарядить ружье патронами с картечью. Тогда бы не промахнулся», — с запозданием сообразил Мажоров.
Хасан шел последним. Ружья у него не было. Это уже лучше. Ребята удалялись, и кустарник скрывал то одного, то другого.
Степан понял: не только появление кого-то третьего, на нервы, видимо, подействовали и вертолет (а вдруг летчик услышит выстрелы?), и ружья, взятые «на руку». Раньше он рассчитывал, что в крайнем случае двумя пулями покончит с Хасаном, а если и Санька не струсит, успеет перезарядить… Теперь дело осложнялось. Но главное — эти руки! Несмотря на судорожные усилия, он никак не мог побороть в себе чувство страха, боязнь промахнуться. Промахнись он один раз и… Он ничего не может поделать с руками! Даже когда ребята прошли и он ни в кого не целится! Только сейчас Степан понял, как трудно стрелять по людям, которые тоже с ружьями. Трудно стрелять, когда ты можешь не стрелять, не рискуя своей жизнью. И как он сразу не догадался зарядить ружье картечью!
— Трус и дурак! — ругал он себя и, пригнувшись, стал торопливо перезаряжать ружье.
«Мы все изроем, Мы все найдем», —вспомнил он. «Найдем!» Нет у них золота. Не нашли они его!.. Надо осторожно поговорить с ними — что, как — и поискать самому! Теперь они все равно не уйдут от него!
— «Найдем»! — прошептал. — он. — Я вам найду!
* * *
…Санька предложил развернуться в цепь, набрать хоть грибов. И едва Володька свернул в чащу ельничка, как чуть не из-под самых ног его вырвался косач. Да как-то странно: чуть отлетел, упал, приподнялся снова и понизу потянулся в кусты — будто тетерка, уводящая от гнезда. Володька выстрелил вслед ему раз, другой, и косач упал. Не успел рассеяться дым, а руки ребят уже тянули косача в разные стороны.
— Ого!
— Справный?
— Я говорил!
Тут же разложили костер. Санька пошел искать воду, Хасан ощипывал птицу, Володька переживал удачу, подбрасывая в костер сучки.
— Я говорил!
Только звякнули о котелок ложки, из ельничка вышел Мажоров. Хасан и Санька не раз встречались с ним в конторе охотничье-промысловой станции.
— От друзья! Ну друзья! — шел он, качая головой. — А их ищут — с ног сбились! — Он чавкнул, облизнул губы, глотнул слюну, не сводя глаз с котелка.
— Дядя Степан, садитесь за компанию! — пригласил Хасан.
— Не откажусь, не откажусь! — еще говорил он, а ложка, невесть когда появившаяся в руке, уже булькнула в котелке.
Давясь непрожеванным мясом, хехекнул:
— А я, хе-хе… приплутал. Спасибо, ребятки. Не я вас, а вы меня, хе-хе…
В душе же Степана, словно зверь, издыхая в судорогах, все кипело и клокотало. Вот так всю жизнь хочешь «бах! бабах!», а получается «хе-хе…»
Он ненавидел сейчас весь мир, все живое.
КТО КОГО?
А Хасан и Санька обрадовались Мажорову. Разговорились. Все-таки пожилой, опытный человек, а главное — знакомый. Только Володька, видевший Степана впервые, насторожился. Зачем занесло его сюда? Искать нас пошел? Врет! А когда из разговора Степана с Хасаном Володька почувствовал, что и в Юртах он появился непонятно зачем, подозрение сразу переросло в убеждение. Он уже не спускал с Мажорова глаз, прислушивался: нет ли еще кого с ним? Не прячется ли кто поблизости?
«Значит, кто-то — Санька или Хасан — болтнул ему о Куперинском золоте! — решил Володька. — Вот и потянуло. Как медведя на мед».
Между тем Санька с Хасаном, перебивая и дополняя друг друга, рассказали о своих злоключениях и переживаниях. Не умолчал Санька даже о том, что утопил патроны.
— Ничего бьет? — взял Мажоров двухстволку Хасана. Повертел в руках, разрядил, заглянул в стволы. — Доброе ружье. — Снова зарядил, аккуратно положил туда же. Вздохнул:
— У меня тоже шестнадцатый. Жаль, не подойдут и мои патроны к Санькину ружьецу… — И с необычным для него оживлением бодро воскликнул: — Да, покажите-ка эту бересту!
— Я сжег ее! — не дал Хасану рта раскрыть Володька.
— Сжег?
— Растопки не было, а все сырое… А что с нее?
Мажоров сделал вид, что поверил, а про себя решил: значит, какое-то указание на то, где спрятано золото, в письме на бересте есть.
— А знаете чьи вы нашли скелеты? Братьев Купериных! Один был богатейшим купцом, другой жандармским полковником, Поняли?
«Никакой, значит, то не Епишка», — подумал Хасан о длинном.
«Все ясно! — понял Володька. — Он знает побольше нас!»
Мажоров рассказал, что один охотник-хант, умирая, поведал ему тайну бесследного исчезновения Купериных в ту ночь, когда власть в Рыльске перешла к Советам.
Мажоров повел ребят к озеру. Несмотря на необычную для его шестидесяти лет оживленность, шутки, он не выпускал из рук ружья, не стоял и не сидел спиной к ребятам. И сейчас идти старался сзади всех или сбоку. Володька пробовал отставать, Мажоров тотчас находил предлог и сворачивал в сторону. Неясно было Володьке только одно: отчего это? Осторожность, ставшая привычкой, или Мажоров догадывается, что ребята не доверяют ему? Если последнее — развязка наступит сегодня же ночью.
На ремне Мажорова, в матерчатых чехольчиках, болтались легкий топорик и военного образца малая саперная лопата.
«Нас искал!» — невесело усмехнулся Володька, и сердце его билось все взволнованней и тревожней.
По озеру пятнами пробегала мелкая рябь, словно ветерок — легкий, освежающий — пробовал, не тверда ли вода, не горяча ли…
Ребята приостановились, залюбовались озером.
— А ну, хлопцы, — за дело! Куперины, подыхая, могли зарыть золотишко рядом. Человек — животное такое: пока не отдаст концы — все на что-нибудь надеется.
Он подал Володьке заостренную осиновую палку, Хасану — свою лопатку, а Саньку заставил отгребать землю.
До Володьки, занятого своими мыслями, только сейчас, наконец, дошло, что он говорит «Куперины». «А что — вдруг полковник бежал не с Епишкой, а со своим братцем, купцом?.. — подумал он. — Тогда, конечно, золота тут может быть столько, что…
— Живей, живей, шевелись! — прервал его размышления сипловатый басок Мажорова.
Володька старался разгадать, как может поступить Мажоров и как лучше от него избавиться? Допустим, найдут они золото. Мажоров заберет его и скроется, уедет куда-нибудь, может, даже за границу. Но попытается ли он разделаться с ними! По лицу Хасана, его увлеченности Володька видел: он все еще верит Мажорову.
— Н-нашел!! — заикаясь, обрадованно заорал Санька. — Дядя Степан!
Мажоров, забыв о предосторожности, бросил ружье и обоими руками принялся разгребать землю. В трухлявых остатках кожи и бумаги тускло блеснула золотая монета. Под ней — несколько серебряных и медных, ставших совершенно зелеными.
Больше ни золота, ни серебра не оказалось.
«Ясно! — понял Мажоров и потянулся к ружью. — Здесь сгнил лишь кошелек господина полковника». А вслух сказал:
— Ройте, ройте глубже!
— Поись бы, дядя Степан, — жалобно протянул Санька.
«Пропадешь с ними! — все мрачнее становилось на душе Володьки.
Мажоров каждому обвел лопаткой по участку земли, распорядился:
— Перекопать все на полметра. После этого будет завтрак. Поняли? А деньги возьмите себе. Можете считать их трудовыми.
И он отправился за своим рюкзаком, сказав, что по пути насобирает грибов.
— Работайте на совесть. Золото разделим поровну. Поняли? — И, перехватив взгляд Володьки, добавил после небольшой паузы: — Или сдадим государству. Потому — деньги это народные. Поняли?
Мажоров не рассчитывал, что золото может быть зарыто где-то здесь, но он решил: добром или худом, а намучает ребят так, что они сами будут проситься копать там, где надо… И, довольный собой, отправился в кедрач.
Едва Мажоров спустился с приозерного холма, Хасан схватился за ружье, ойкнул и растерянно взглянул на Володьку.
— Что? Что? — привстал Володька и вдруг рывком обернулся, одновременно падая на землю: он решил, что сзади в него целится Мажоров.
Санька осторожно переводил взгляд с Володьки на Хасана и тоже начал оглядываться: нигде никого. Что с ними?
Володька понял, что попал впросак. Он сконфуженно поднялся и, объясняя свое поведение, полез в штаны:
— Какая-то жужелица ка-ак цапнет! Вот здесь… — и он усиленно начал тереть мягкое место. — Я подумал — змея!
— Ребята, — зашептал Хасан. — Я потерял бойки!
— Оба? — враз спросили Володька и Санька.
— Ну, уж это треп! — не поверил Володька и взял у Хасана ружье. — Не разыгрывай!
Бойков не было.
— Один, это точно, держался на честном слове, — пояснил Хасан. — Деда давно собирался в Рыльск отвезти ружье к мастеру… А второй сидел крепко.
Володька взял Санькино ружье, осмотрел, как крепятся бойки.
— Чепуха! Второй не мог сам выпасть!
— Да честное слово, ребята, не разыгрываю! — чуть не всхлипнул Хасан.
— Тогда этот Мажоров — неизвестно кто. Поняли? И неизвестно зачем здесь. Это он вынул! Я заметил: смотрел в стволы, а правой рукой ковырялся.
— Не сочиняй, — скривившись, протянул Санька. — Не знали б мы его — другое дело.
— А что ты о нем знаешь?
Да, знал о нем Санька немногое. И верно: друг он или враг?
— Почему у меня не потерялись? Потому, что потерялись патроны. И он знает: патронов двадцатого калибра у нас нет и твое ружье вроде палки.
— Две гильзы-то есть.
— А что гильзы?
В душе Хасан тоже не верил Володьке, но исправный боек действительно не мог выпасть сам. А может, это Володька подшутил и теперь разыгрывает их? С чего бы он так мотанулся? И отвернулся! Прыснул со смеху и отвернулся, разыграл укус!
— Ну, ладно, хватит дурить, — шагнул Хасан к Володьке. — Где бойки?
— Какие бойки? Ты что?
— А то! Еще «не разыгрывай!» Я же видел — ты сам вынул! — напропалую врал Хасан.
С Володьки сразу слетела игривость, и он понял, что если уж Хасан потерял голову, значит, дело худо.
— Да вы что, ребята? Мне не верите? Может, я заодно с Мажоровым?
Не верить было нельзя; для таких шуток сейчас не время.
— А что делать?
Володька достал складешок и стал разряжать патроны Хасана. На недоуменный вопрос Саньки Володька, наверное, впервые без иронии, объяснил, что у него, Саньки, осталось две гильзы двадцатого калибра. Их он и зарядит. Один — дробью, а другой, на всякий случай пулей.
— Лучше картечью! — предложил обрадовавшийся Санька. Даже веснушки на его носу, казалось, стали светлее.
— А есть?
Хасан молча подал новый патрон.
— И чтоб при Мажорове ни гу-гу о том, что Санькино ружье заряжено, — предупредил Володька. — С картечью будет в правом стволе.
— И о бойках будем молчать, — предложил Хасан.
— Почему? — не понял Санька.
— Скорее выдаст себя.
— Это точно, — согласился Володька. — И следить за ним надо всем. И чуть что — не трусить!
«Ежели ты не струсишь — никто не струсит!» — хотел сказать расхрабрившийся Санька, но вовремя сдержался: все-таки это Володька догадался перезарядить патроны.
— А знаете? — Володька даже улыбнулся своей мысли. — Точно: это нас ищут на вертолете, потому Мажоров и боится заставлять нас работать силой. Потому и хитрит. И ничего он с нами не сделает. Поняли? Давайте потребуем у него консервов на дорогу, заплатим ему за них — и пойдем…
— Чем? У нас с Санькой нет ни копейки.
— Да, верно, — вздохнул Володька. — Денег и у меня нет. А за так он и сухаря не даст…
— Слушай, да перестань ты сочинять про человека! — не вытерпел Хасан. — Зверь он какой, что ли? Собирает — уши вянут!
Но Хасан говорит это уже без прежней запальчивости, а так, на всякий случай. Но примолкнувшего Саньку слова его заставили задуматься. Поначалу ему нравилось приписывать Мажорову черт знает что, а возражения Хасана только подливали масла в огонь. Это было вроде игры, хотя временами он искренне верил в свои и Володькины подозрения. Но едва Санька осознал, чем все может кончиться, играть этим не захотелось. Не до таких шуток, когда нет еды и два патрона на оба ружья. Вот почему после доводов Хасана он невольно стал искать в поведении Степана не то, что вызывает подозрение, а доказательств правдивости его рассказа. И странно: доказательства сразу нашлись. В хорошее-то верить куда приятнее…
Он поделился своими мыслями с Хасаном.
— Я так и думал. Наши попросили его, а он и попер. Ему что тайга, что Зыбун, — хмурясь для солидности, говорит Хасан. — Чудной!
* * *
Поиски ребят на вертолете спутали Мажорову первоначальный план. Поразмыслив, он решил, что убивать ребят из ружья не следует. Где ни спрячешь трупы, их нетрудно найти. На след могут пустить собаку-ищейку. Все-таки трое ребят — не трое телят. Огнестрельные раны не скроешь, подозрение падет на него, это ясно. Значит, надо покончить с ними как-то иначе. Как? Решение пришло до изумления простое, едва он увидел ярко-красную с белыми точками шляпку мухомора. Но мухоморы не годились. Их знают все, а главное, они недостаточно ядовиты. Мажоров вспомнил, что где-то недалеко он видел много бледных поганок. Их яд убивает наверняка. Несколько ложек грибницы с отваром из бледных поганок хватит, чтобы убрать сопливых кладоискателей с дороги и остаться вне подозрений, даже если станет известно, что он был на гряде. Скажет, что не нашел их. Он даже бойки из Хасанова ружья вставит на место. И ребят так и оставит близ котелка с этим варевом. Все решат, что это дело рук неопытного в грибах Володьки. Да и мало ли: в сумерках, мол, с голодухи не разобрались — и вся недолга…
Найдя еще несколько молодых толкачиков и дождевиков, Мажоров сварил грибницу, пригласил:
— Присаживайтесь. Устали, небось? — И предупредил: — Грибов мало, супец жидок. Но есть надо, иначе не дотянем. Ешьте, я не работал, так что схожу еще за дровами, вскипячу чай. Мне оставите.
— И это все? — кивнул Санька в котелок.
— Разделим банку консервов. Но кто плохо будет есть суп, второго не получит.
И ушел.
На этот раз не только Володьку — даже Саньку удивило то, что он, отправляясь за дровами, прихватил не только ружье, но и рюкзак.
Хасан попробовал рассеять их сомнения:
— Ружье — понятно: вдруг косач, заяц… Р-раз! — и в рюкзак, — попытался он даже пошутить, помешивая дымящуюся грибницу ложкой, чтобы скорее поостыла.
— Или не доверяет нам консервы. Мол, навалимся, съедим без него, — предположил Санька и первым полез в котелок.
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ
Добравшись до Щучьего озера, Нюролька дважды обошел его — по берегу и поодаль, но никаких следов ребят не нашел. Места тут нехоженые, дикие берега озера захламлены стволами давно упавших деревьев, и Нюролька устал. Присев на зеленую замшелую колодину, стал думать, что делать дальше. Неожиданно рядом, в двух-трех шагах, он увидел прибитую какой-то гильзой старую бересту. В свертке оказался кожаный кисет с письмом Максима Око… жене.
— Максим Око? Отец, однако ж, Володьки — поразился Нюролька. — Ишь, варнаки, придумали! Игрушки им! — вдруг озлился он на ребят и решил, что разминулся с ними на пути к озеру. Он даже не стал дочитывать письма: не силен был в грамоте Нюролька и письменные буквы разбирал с трудом. Кисет с письмом, однако, сунул в карман и про себя решил, что непременно выпорет Хасана.
Но и в Юртах ребят не оказалось. Ничего не дали и поиски на вертолете. Летчик, отец Володьки и Жуванжа совещались у юрты бабушки Эд.
— О чем они расспрашивали вас, бабушка? — допытывался Максим Максимович.
— Я коворила им: не шмейте! Проклятое мешто! Ушли… Вот! Всех забрал Нуми-Торум. Не хотите туда. Нихто не вернется!
Бабушка Эд закрывает глаза и, посасывая трубочку, тихо раскачивается из стороны в сторону. Максим встает; к ощущению постоянной болью отдающейся в сердце тревоги за сына примешивается еще нетвердое чувство надежды: «Смелые ребята! Ничего не испугались. Такие не должны пропасть. Вот только кто этот Мажоров? Что надо на Зыбуне ему?»
— Значит, смотрел гряду? — прервал его, размышления Нюролька.
— Над самой пролетали. И по краю…
* * *
Письмо оказалось подлинным. Только писал его… дед Володьки, погибший в 1918 году.
Максим Максимович рассказал об отце, участнике баррикадных боев на Красной Пресне, отправленном вскоре на каторгу в Сибирь.
— А вот где, когда и как погиб он — никто не знал. Было известно лишь, что он бежал с каторги, воевал с Колчаком. «А почему у нас такая смешная фамилия — Око?» — не раз спрашивал его Володька. Однако он так и не объяснил ему, что Око — это подпольная партийная кличка его деда. Максим знал о терзаниях Володьки из-за этой действительно необычной для русского фамилии. А не открывал ему тайны происхождения ее из-за боязни, что он будет бравировать этим, рассказывать историю ее кстати и некстати. Говорили, что отец Максима любил пословицу: «Зуб за зуб, око за око». И вот однажды ему выписали новый, конечно, как тогда говорили, липовый паспорт на имя Максима Око. С ним он встретил революцию, женился…
Текст берестяного письма оказался самым обыкновенным:
«Товарищи! Полковника и Епишку нашли на гряде мертвыми. Озерова свалил тиф. Через болото нес на себе. Заболел сам. Пока есть силы, буду делать затесы, тропу потерял. Если что — прощайте…»
* * *
Санька с жадностью набросился на грибницу, хлебнул и — сплюнул.
— Эх, тяпа он, растяпа! А посолить-то забыл! Где соль?
Хасан достал соль и, размешивая, обратил внимание на необычный для грибницы из толкачиков цвет отвара.
— Слушайте, ребята, — склонился Хасан над котелком. — Сварены одни толкачики и дождевики, а навар не такой, не светлый, да и очень уж густ. И грибов-то кого? Мало. А навар? — заговорил он так, будто с ним спорили.
— А что он мог? — принялся помешивать, грибницу и Володька. — Отравы какой подсыпал?
— Скажешь тоже! — усмехнулся Санька.
— Вот что! — осенило Володьку. — Пошли обратно, домой! Пока он ходит — мы уже будем на Зыбуне, за сограми…
Но никто ему не ответил. Да и сам он понял, что идти с одним НЗ и двумя патронами — безрассудно. Но и времени терять нельзя.
— Надо попробовать добыть белок, — предложил Хасан.
— Чем?
— Будем разряжать мои патроны. Пистоны у нас тоже есть. Еще штук десять.
— Да, выстрелить — выстрелишь, а снова зарядить он не даст. Отберет письмо и заставит копать силой.
— Тогда зачем ему нас травить? — облизывался Санька, не отрывая глаз от котелка. — Ведь золото мы еще не нашли!
Никто не ответил Саньке: кто знает, что у Мажорова на уме?
— А давайте отольем супу во фляжку! В Рыльске попросим проверить, — предложил Володька.
Но как быть с водкой? Решили ее не выливать. С водкой и грибница дольше сохранится.
— А что скажем Мажорову? — и на недоуменные взгляды товарищей Володька ответил: — Если грибница отравлена, а с нами ничего не случилось, он поймет, что мы его обманули. Слушайте и учитесь! — встал Володька и вылил остатки грибного супа на песок. — Вы ругайте меня, скажите, что я растяпа, обжегся и выронил котелок. Все разлил. И мы съели последнюю банку…
— А если дядя Степан станет проверять?
— «Дядя, дядя», — не выдержал Володька. — Серый волк ему племянник. Полезет по рюкзакам нахально — ты, Санька, бей его прикладом, а я палкой. Ты, Хасан, схватишься за его ружье…
Когда Мажоров вернулся, голодные желудки помогли Хасану и Саньке разыграть бурное возмущение Володькой.
— И банку НЗ открыл он! — разошелся Хасан.
— Съели НЗ? — Да как ты смел? А обратно думаешь идти? Или я буду тебя кормить? Молокосос!
Не выпуская ружья, Мажоров без стеснения, впрочем с подчеркнутой небрежностью обшарил карманы Володьки, отнял фляжку. Мысль направить злость юртинцев против Володьки понравилась Степану, и он не стеснялся.
«Ухватится за Санькино ружье — тресну его по затылку прикладом, — решил про себя Хасан, мысленно примеряясь, куда и как будет удобней ударить. — Втроем-то мы его живо!»
Мажоров взболтнул фляжку.
— Что в ней?
— Смотрите, — буркнул Володька.
Мажоров отвинтил пробку, понюхал: «Вино! Вот-те и молокососы! С настоечкой шарятся!»
— А вот с вином ходить тебе еще рано, — и он прицепил фляжку к своему ремню.
— А ну, копать! — приказал Мажоров и отошел, сел под куст.
Володька, похудевший сильнее всех, уже пошатывался от голода и усталости. Руки, не привыкшие к физической работе, поламывало в суставах. Но на открытый «бунт» и он не решался.
* * *
Вечером, едва начинало темнеть, Мажоров торопливо уходил спать почему-то в кусты, хотя, по его же словам, комары там, как звери. Утром он появлялся чуть свет. Сегодня, несмотря на то, что солнце уже поднялось над лесом, Мажоров не появлялся.
«Отчего бы это? — задумался Володька. — Уж не сбежал ли он, украв берестяное письмо?»
Он разбудил Саньку, кинулся к рюкзаку. Поиски письма прервал явственно доносившийся гул вертолета. Он вылетел из-за кедрача, шел низко, вдоль гряды.
— Санька, стреляй! — зашептал Володька.
— А Степан?
— Оставишь один патрон! Управимся! — поддержал Володьку и Хасан.
Санька побелел, руки его задрожали.
— А где он?
Только сейчас ребята заметили, что Мажоров лежал под кустом метрах в двадцати. Ружье валялось рядом. Володька вырвал у Саньки ружье и выстрелил. Летчик, видимо, и без того заметил людей, стал быстро снижаться. Мажоров не шелохнулся.
Вертолет сел, и из кабины вылез отец Володьки.
Хасан кинулся будить Мажорова: окликнул его, потом заглянул в лицо и понял: Степан мертв. Рядом валялась раскрытая фляжка…
* * *
Бездымными холодными кострами догорало северное лето. Что ни день — все ярче пылали осины, бесконечным хороводом окружившие тайгу. А Зыбун и редкие еще не сожранные им луга напоминали бескрайнюю палитру, на которой вслед за зелеными мешали только блеклые коричневые краски. Ржавели на притаежных озерах стальные пики камышей, осыпались нежные бутоны кувшинок. Только корзинки ядовитого веха да розовые початки водяной гречихи еще скрашивали озерный пейзаж. Не сдавался осени лишь курчавый вереск: кажется, он зеленел пуще прежнего и наперекор осени озорно смеялся лилово-розовыми султанчиками.
…Заплакал от радости Нюролька. Жизнь его напоминала чем-то непокорный осенним сиверам вереск. С семи лет начал он промышлять вместе с отцом. Без промаха бил зверя. А ни юрты доброй, ни достатка в пище не было. Случалось, до нитки обирали стойбище царские чиновники, купцы. Вот почему почти никто из рода карамо, с которым кочевал Нюролька, не доживал до сорока лет. Человеку тайги — обильной и щедрой — всегда грозила голодная смерть. Болеть нельзя — Шаман не накормит, не вылечит. Шаман сам ест за чужой счет. А больной человек не выследит зверя, не принесет мяса. Больной человек может и промахнуться. А промахнуться человеку тайги нельзя.
— Худо будет. Беда, — говорит Жуванжа. — Нельзя ранить медведя, нельзя ранить лося, звереет зверь. И надо беречь припасы — порох, свинец. Нужда учила бить хозяина тайги одной пулей или ножом, учила бить белку в глаз. Нужда учила и уменью добывать зверя и птицу без ружья — силками, плашками, кулёмами. Дешевле! А труд человека тайги — не в счет.
И только одному не учила нужда — радоваться жизни, улыбаться. Вот почему и сейчас, когда глаза Нюрольки смеялись, блестели молодо и весело, лицо оставалось хмурым: морщины щедро изрезавшие его, не перечертишь… Следы былого на лице не сотрешь, а вот сердце, даже самое зачерствелое, изрубцованное, отходит. Добр был Нюролька.
И эта доброта помогла ему понять ребят, с уважением отнестись к их затее.
Не выпорол, вопреки ожиданию, и Жуванжа Саньку. Однако сами ребята были недовольны результатами своего похода. Кто же из Купериных погиб на Зыбуне — полковник или его степенство купец первой гильдии? Ведь от этого зависели окончательная разгадка тайны берестяного письма и выполнение посмертной просьбы Максима Око-старшего.
…Ответ пришел оттуда, откуда его никто не ждал.
Во время капитального ремонта детского сада рабочие нашли в стене тайник. В нем, в пачке чистых паспортов и выцветших долговых расписок, лежала и та, с отпечатками мажоровских пальцев. Тут же валялись горсть патронов от нагана, бутылка с английским ромом.
Прибывший на место происшествия начальник ремстройконторы вспомнил, что особняк до революции принадлежал купцу Куперину. В найденном сейчас тайном сейфе Куперин хранил как-то компрометировавшие его документы. Ром также оказался особым… Одну чайную ложечку его влили в рот кролику и тот сразу издох. На пути к богатству его степенство Порфирий Евграфыч не очень разбирался в средствах…
Событие это само по себе прошло не особенно замеченным, но оно помогло восстановить недостающие у ребят звенья. Выяснилось, что Порфирий Куперин эмигрировал в США. И не без капиталов. Стало ясно, что золота на гряде и не было. Брат его уже не застал Порфирия дома, едва унес из Рыльска ноги и погиб с Епишкой на Зыбуне.
А осенью гипотезцам, как теперь звала тройку путешественников чуть не вся школа пришло письмо из Сибирского отделения Академии наук СССР.
«Дорогие ребята! — писал вице-президент Академии наук СССР М. Лаврентьев. — Большое спасибо вам за письмо. Горячие ключи на Зыбуне убедительно подтвердили недавно выдвинутую учеными гипотезу о том, что в Западно-Сибирской низменности на глубине полутора-двух километров находится целое море горячей воды. Эта вода, ребята, будет служить человеку и поможет преобразить природу и экономику нашего сурового, но богатейшего края…»
Так маленький камень, упавший с вершины скалы, увлекает за собой другие, все большие.
Так в горах рождаются грозные обвалы.
Так, с малого, в жизни начинается все… А у Саньки, Хасана и Володьки все только начиналось…
Примечания
1
Острова старого хвойного леса.
(обратно)2
Лыжи, обитые шкурой обычно с ног лося или оленя.
(обратно)3
Лузан — особой формы охотничий рюкзак с несколькими отделениями для шкурок, а также продуктов.
(обратно)4
Шкурки с ног лося, которыми оклеиваются охотничьи лыжи.
(обратно)5
Пигмеи — одно из племен Конго.
(обратно)6
НЗ — неприкосновенный запас.
(обратно)7
Подводный хребет в Ледовитом океане.
(обратно)8
По древнему преданию, огромный остров в Атлантическом океане, населенный культурным и могучим племенем атлантов, который в результате землетрясения погрузился в океан.
(обратно)
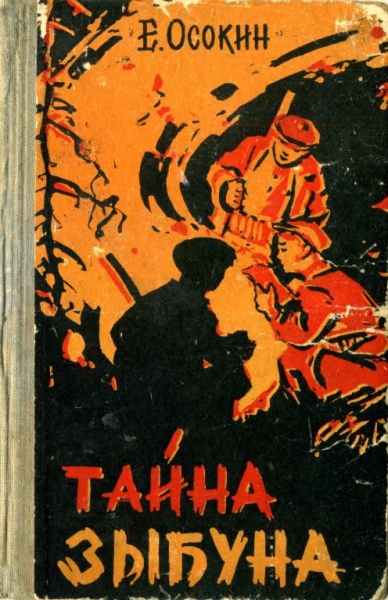




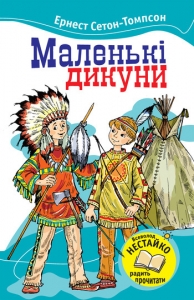

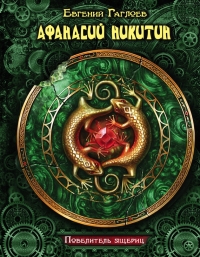

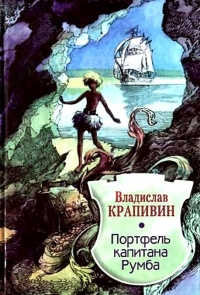
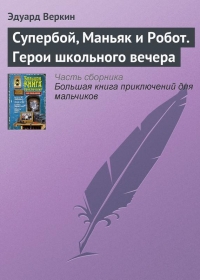
Комментарии к книге «Тайна Зыбуна», Евгений Васильевич Осокин
Всего 0 комментариев