Если вы думаете найти здесь рассказ про какие-нибудь необыкновенные приключения, то не тратьте время понапрасну. Я должен описать в этой книге те три дня, в которые я переменился. По-моему, я буду только зря бумагу переводить, но писатель, который подбил меня на это дело, говорит, что читателям, то есть вам, мой рассказ покажется интересным. А зовут этого писателя Геннадий Семёнович Мамлин.
Писатель принёс мне целую пачку чистой бумаги и попросил, чтобы я описал всё, как я ему рассказал. Но я сказал, что так у меня не получится. Когда я рассказываю, я не подбираю слова, а когда пишу, стараюсь брать только те, в которых нетрудное правописание. Я говорю: «он покраснел», а пишу: «ему стало стыдно», потому что у меня плохо с безударными гласными и я не знаю, как правильно написать — «покраснел» или «покроснел».
А ещё он сказал, чтобы я описал всё, как было, и не старался показаться лучше, чем я есть. Это мне очень понравилось. Кем-нибудь казаться очень трудно, это почти работа, а быть самим собою так же легко, как ходить или дышать.
А теперь я повторю то, с чего начал: если вы думаете найти здесь рассказ про какие-нибудь необыкновенные приключения, то не тратьте время понапрасну. Зато про природу я ничего не буду писать, так что можете быть спокойны. Если мне в книжке попадается списание природы или что-нибудь про рассвет и закат, я эти места пропускаю. Природу, конечно, я люблю, но читать про неё скучно, потому что писатель, любуясь окрестностями, забывает про своих героев и с ними ничего не случается.
А ещё скажу, что зовут меня Толя Корзинкин. Мне 12 лет, и учусь я в пятом классе.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Я слышал, будто есть несколько способов для нашего воспитания. Нам можно объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Можно засадить нас за книги, в которых герои совершают благородные поступки. А ещё нас можно воспитывать на личном примере. Считается, что этот способ мы усваиваем легче других. Поэтому папа воспитывает меня на личном примере. Когда я был маленьким, он мне говорил:
— Не болтай ногами за столом. Посмотри на меня, посмотри на дедушку. Разве мы болтаем за столом ногами?
Я смотрел на дедушку и на папу. Их ноги доставали до паркета и были неподвижны, как колонны, поддерживающие дом.
У моего дедушки была палка, которая могла превращаться в зонтик, коллекция бабочек и микроскоп. И я понимал, что, болтая за столом ногами, я никогда не приобрету достоинств, позволяющих человеку владеть такими удивительными сокровищами.
Однажды, когда я впервые сыграл в футбол на соседнем дворе, папа сказал, внимательно разглядывая оторванную подмётку:
— Можешь ты представить, чтобы я прыгал в воротах, словно клоун, которого дёргают за верёвочку?
Мой папа близорук. Он не может отличить пепельницы от ложки. Чтобы представить его вратарём, надо иметь необычайное воображение. И я перестал мечтать о славе футболиста. Я начал учиться игре на аккордеоне. Я хотел, как и папа, учиться на флейте, но мама сказала, что две флейты в доме — это хуже, чем два медведя в одной берлоге. На аккордеоне я теперь играю хорошо. Это я говорю совсем не для хвастовства. Мне в этой истории ещё придётся иметь с ним дело, так вот я хочу, чтобы вы потом не удивлялись, а с самого начала знали, что на аккордеоне я играю хорошо.
Ещё, прежде чем таблицу умножения, я выучил назубок, что папа никогда не ввязывается в драку, не ложится спать с грязными руками и не вырывает страниц из дневника. Знакомым папа говорил, что я близок к совершенству, но продолжал воспитывать меня: ведь никто не знает, где предел у этого самого совершенства.
А теперь я начну рассказывать вам мою историю.
Она началась в тот день, когда папа с мамой уезжали отдыхать на Рижское взморье, а меня отправляли в пионерский лагерь. Мой поезд уходил на два часа позже.
Чемоданы родителей были уложены, и теперь папа колдовал над моим рюкзаком. Папа всегда сам укладывал мои вещи — считалось, что это входит в методику воспитания личным примером.
Вещи лежали на столе. Рюкзак лежал на стуле. Вещей было много. Рюкзак был один. Папа был похож на фокусника: он кидал вещи в мешок, садился на него, встряхивал, а потом извлекал из него несчётное количество трусов и маек.
Укладывание вещей похоже на игру в «Шестнадцать». Есть только одна комбинация свёртков, в которой рюкзак согласен поглотить их без остатка. Папа комбинировал. Я и мама наблюдали.
Выхваченное из рюкзака полотенце развернулось в воздухе, и оттуда выпал свёрток, перевязанный бечёвкой. От металлического звука, с которым он шлёпнулся об пол, я вздрогнул, а папа нахмурился.
— Что это? — спросил папа и, опередив меня, поднял свёрток. Он был маленьким, но увесистым. Папа посмотрел на меня в упор и, наверное, заметил, что я покраснел. Папа надорвал уголок, и на пол посыпались рыболовные крючки. Они сыпались медленно и равномерно, как песок в песочных часах. Их было столько, что если бы на каждый поймать по одной рыбке, понадобился бы океанский пароход, чтобы вывезти улов. Они были маленькими и большими, чёрными и блестящими, обыкновенными и запрятанными в хитрые блесны.
— Что, это такое? — повторил папа, потирая уколотый палец.
Я придал своему лицу самое безразличное выражение и сказал, что это крючки, хотя при всей своей близорукости он не смог бы их спутать с зубной щёткой или мылом. На папин вопрос мог быть только один правдивый ответ, но почему-то он рассердил папу.
— Ах вот как! Это крючки! — с нарочитой медлительностью произнёс он и развернул ещё одно подозрительно туго свёрнутое полотенце. На пол полетели свинцовые грузила и мотки разноцветных лесок. Папа брезгливо оттолкнул их ногой и сел в кресло.
— Объясни мне, куда ты едешь. В лагерь или к берегам Антарктиды с китобойной флотилией «Слава»?
Очень трудно отвечать на папины вопросы. Он ставит их так, что непривычный человек никогда не сможет на них ответить. Надо было пожить с папой с моё, чтобы научиться отвечать не задумываясь. Я не стал отвечать, что не еду в Антарктиду: папа знал это не хуже меня. Не стал я отвечать и насчёт китов: ведь каждому известно, что пустое это дело — ловить их на обыкновенные крючки. Задавая мне вопрос, папа хотел услышать, что я еду в лагерь. Я знал, что папа ждёт именно такого ответа. Но, услышав правду, папа очень удивился и сказал маме, показывая на меня пальцем:
— Посмотри на него. Оказывается, он едет в лагерь.
И мама, которая ещё не произнесла ни слова, тоже изобразила удивление, словно и она была уверена, что я собрался в Антарктиду.
— Разве ты видел, — продолжал папа, — чтобы, уезжая отдыхать, я набивал свои чемоданы железом?
Этот вопрос я пропустил мимо ушей и сказал, что лагерь наш стоит возле самой реки и все ребята собираются ловить рыбу. Он может спросить об этом хотя бы у братьев Рыжковых. Но лучше бы мне этого не говорить. Мой папа не любил, когда я сравнивал себя со всеми ребятами. Он пожал плечами, поднялся и отошёл к окну. А если папа отходил к окну, значит я сказал такую нелепость, на которую он не считает нужным даже отвечать. Демонстративный отход к окну был ещё и сигналом для мамы. Это была та самая минута, когда ей надо было заняться моим воспитанием. У мамы была своя манера разговаривать со мной. Мама нумеровала свои фразы.
— Во-первых, — сказала она, загибая палец, — я не понимаю, зачем одному человеку столько крючков. Человек может превратиться даже в рыболова, но у него от этого не появятся добавочные руки. И, во-вторых, — загнула мама второй палец, — не все мальчики в лагере ловят рыбу. Я уверена, что Алёша, например, никогда не стал бы тратить время на такие нелепые пустяки.
Услышав это имя, я глубоко вздохнул и опустил голову. Это у меня такой рефлекс, совсем как у подопытной собаки.
С прошлого лета родители решили воспитывать меня не только на личном примере. Нашёлся в этом мире ещё один достойный подражания человек. Но это был не Коперник, не Ньютон и не Ломоносов, а мальчишка с самым обыкновенным именем Алёша. Папа работал в министерстве, а Алёша был сыном папиного начальника.
Я прочитал много книг, написанных специально для детей, и крепко усвоил, что у больших начальников хороших детей не бывает. Видно, все писатели сговорились между, собой. Как только в книжке появляется сын академика или генерала, так я уже сразу знаю: он задавака. Всё время говорит про то, какой у него замечательный отец. Его просто распирает от гордости. Он готов на каждом перекрёстке кричать; «Глядите! Я — сын генерала! А разве у генерала может быть обыкновенный, невыдающийся сын?» А потом сразу выясняется, что он ещё и эгоист. Но ему мало быть просто эгоистом — ему надо, чтобы каждый встречный знал это и перевоспитывал его. Я таких глупых мальчишек в жизни не встречал, но писателям я верю. Раз они так пишут, значит так оно и есть.
Алёша тоже был «сынком», только, назло писателям, он решил сделаться исключением из правил.
Папа и мама познакомились с этим мальчишкой в Ялте. Они там вместе с ним и с его родителями отдыхали в прошлом году. Мой папа уплыл далеко в море, а тут как раз выглянуло солнце. Тогда мама стала охать, как бы он не получил там солнечный удар, потому что, когда на голове нет ни одного волоска, солнцу очень легко расправиться с человеком. Алёша схватил папину шляпу и поплыл к нему навстречу. Я, конечно, в этом поступке ничего особенного не вижу. Может, даже Алёшка обрадовался, что ему лишний раз искупаться удалось. Но папа с тех пор только и говорил о том, какой он, этот Алёша, замечательный человек.
Из Ялты родители привезли мне оклеенную ракушками коробку и достойного подражания мальчишку. Коробку я потерял и забыл о ней через неделю. Забыть о новом мальчишке было невозможно.
Не проходило дня, чтобы имя его не упоминалось в доме. Его образ возникал передо мной всякий раз, когда родители считали, что я провинился. В отличие от меня он никогда не получал по черчению тройки, Двину он находил на карте с закрытыми глазами. В его дневнике не было никакого разнообразия: он возвращался домой с одними пятёрками. Он не вылавливал лука из супа, чистил ботинки по утрам, уходя спать, говорил «спокойной ночи» и никогда не докатывался до желания ловить в лагере рыбу.
Раньше мне по ночам снились белые пароходы и ракеты, летящие на Луну. А с прошлого лета мне снился мальчик с вовремя остриженными ногтями. Он приторным голосом желал мне спокойной ночи и осыпал меня пригоршнями пятёрок по русскому языку.
Я думаю, что каждый человек вправе что-то ненавидеть. Раньше я ненавидел горячее молоко и десятичные дроби. Но оказалось, что это моё чувство было просто смешным по сравнению с моей новой ненавистью к образцовому мальчишке. Я ни разу не видел Алёшу, но мечтал о том дне, когда моя справедливая месть испепелит его. Я верил, что один человек не может безнаказанно угнетать другого.
Вот почему я вздохнул, услышав про Алёшу.
Папа устроил моим вещам самый тщательный осмотр. Он вывернул наизнанку все мои трусы и рубашки. В одном из рукавов он обнаружил сетку для сачка. На одном из свёртков я сделал убедительную надпись: «Три куска мыла». Я был уверен, что папе не придёт в голову заглядывать туда. Но, ободрённый успехом, он размотал бечёвку и жестом предложил маме убедиться в коварстве собственного сына. Один кусок мыла там действительно был. Два других заменяла спиннинговая катушка.
Рыболовные снасти были заперты в запретный ящик папиного письменного стола. Папа взвесил на руке рюкзак и остался доволен. Потом он взглянул на часы и надел пиджак.
— Пора, — сказал он и положил руки мне на плечи. — Помни, что с этого часа ты на целый месяц предоставлен самому себе. Ты становишься самостоятельным, а быть самостоятельным — это прежде всего быть рассудительным. А быть рассудительным — это прежде всего быть неторопливым в своих решениях и поступках…
В таком духе папа говорил две минуты: я как раз успел сосчитать до ста двадцати.
всё, что говорил папа, было теорией. Практиком в нашем доме считалась мама.
— Слушайся тётю Катю, — сказала мама, — она придёт через час и отвезёт тебя на вокзал. Это во-первых. Переходи улицу только при зелёном свете светофора. Это во-вторых. Яблоки мой кипячёной водой. Это в-третьих…
Мама пронумеровала ещё десяток полезных советов, привлекла меня к себе и поцеловала в нос и в обе щёки. Папа был сердит, держался со мной официально и поэтому поцеловал меня только в лоб. Потом они забрали свои чемоданы и отправились на вокзал.
Теперь, когда дверь за родителями захлопнулась, я мог подсчитать свои потери.
Я достал из кармана два носовых платка и вытряхнул оттуда несколько десятков маленьких крючков. Потом я снял тюбетейку и отвязал леску, прикреплённую к волосам. Из-за пазухи я достал двенадцать поплавков. Со всем этим ещё можно было отправиться на рыбалку, но на беду у меня не осталось ни одного грузила. Тогда я вспомнил о двух блестящих крышечках на папином чернильном приборе. Я взял их в руки и принялся, размышлять. Папа обрадовался бы, узнав об этом. Он всегда говорил, чтобы я размышлял почаще, чтобы у меня было меньше необдуманных поступков. Я рассудил, что против свинцовых грузил цена этим крышечкам, конечно, грош. Но если у меня не осталось ни одного грузила, то лучше всё-таки крышечки, чем ничего. Так, как следует всё обдумав, я положил блестящие, крышечки в карман. Самое удивительное, что папа так и не спросил, зачем мне понадобилось столько крючков. И, может быть, скажи я ему это, крючки остались бы у меня. Мой папа любил, когда я проявлял смекалку.
Поплавки, крючки и грузила в лагере — это целое богатство. Волшебная палочка — ничто по сравнению с обыкновенным копеечным крючком. Его можно обменять на стакан компота, плитку шоколада, новую панаму и на всё, что только можно пожелать. За десять крючков можно потребовать половину улова удачливого рыбака, а двумя десятками откупиться от самого неприятного дежурства. В лагере я не знаю ничего дороже поплавков, грузил и крючков. Рыбак устроен так, что запасается всем, кроме самого необходимого. Честное слово, не растеряйся я от неожиданности, и папе не пришлось бы запирать в ящик большую часть моего богатства.
Ждать тётю не имело смысла. Ешёлё надо было переводить через улицу, покупать ей перронные билеты и вообще оказывать массу услуг.
Я отдал ключ соседям, взвалил на плечи рюкзак и отправился в путь. Гордость распирала меня. Я был самостоятелен, как папа.
Разве я знал, что в это самое время, через два квартала от нас, с таким же рюкзаком за плечами, лихо посвистывая, съезжал по перилам лестницы мальчишка, которому было суждено сыграть такую значительную роль в моей жизни?
ГЛАВА ВТОРАЯ
Дул горячий порывистый ветер. Казалось, это он перегоняет по улице стремительные потоки автомашин. На перекрёстке строили подземный переход, и я остановился посмотреть, как прожигала асфальт гудящая огнём металлическая коробка и вгрызались экскаваторы в обнажённую землю. Потом, не пропуская ни одной витрины, я медленно пошёл дальше. Магазин «Мосодежда» выставил на обозрение меховые воротники и шапки-ушанки — на них жарко было смотреть. Зато рядом прохладно стекала вода по витринам овощного магазина и над окнами «Гастронома» хлопали на ветру белые парусиновые навесы. Я купил себе эскимо, укрылся в тени и принялся рассматривать витрину.
Братья Рыжковы говорили, что у меня нет ни капли фантазии. Они забирались в бетонную трубу, лежащую во дворе, сами себе кричали какие-то команды, долго и противно гудели на одной ноте и вообще вели себя как ненормальные. В трубе было неуютно, сыро, и вдобавок там надо было лежать на животе. Я к этой трубе и близко не подходил, а они делали вид, будто летят в ракете на Луну, и поэтому говорили, что у них есть фантазия, а у меня нет. Но я-то знал, что у меня её побольше, чем у всех мальчишек на дворе. Только к самой смелой своей фантазии я подхожу с практической точки зрения. Когда я думаю о дальних путешествиях, я думаю и о снаряжении для них. Вот почему при одном только взгляде на эти консервные пирамиды мои мысли сразу заработали в фантастическом направлении. Я начал думать о космических полётах.
Я сосчитал банки. Их было шестьдесят. Я прикинул и решил в дороге обходиться всего одной банкой в день. Выходило, что целых два месяца я мог не думать о голодной смерти. С таким запасом я мог бы долететь и до Марса, не то что до Луны… Так, немного помечтав о космических полётах, я незаметно съел всё эскимо и отправился дальше. Я переходил улицу, как вдруг порывом ветра у меня сдуло с головы тюбетейку. Я знаю таких обладателей тюбетеек, которые никогда не носят их на голове. Тюбетейка лежит у них в кармане вместе с богатством, которому нет цены. Они считают, что ржавый гвоздь — вполне подходящее для неё соседство. Из тюбетейки они пьют воду, ловят ею рыбу, бабочек, стрекоз и всё остальное, до чего они способны дотянуться, чтобы поймать. В воде тюбетейка становится пароходом, а на берегу — крепостною башней в городе, построенном из песка. Тюбетейка превращается то в футбольный мяч, то в кошелёк, то в мочалку, а то даже и в носовой платок… Из расшитой всеми цветами радуги она становится грязно-серой. Но, видно, это ничуть не огорчает её, она служит своему хозяину верой и правдой.
Я свою тюбетейку всегда носил на голове. Я оберегал её от воды и пыли. Я позволил ей зазнаться, и она сыграла со мной скверную штуку, без которой мне, может быть, не пришлось бы браться за эту книгу.
Моя тюбетейка покатилась, как колесо, к ограде сквера. Можете не думать, что я тут же погнался за нею, нет, ведь бегать за собственной тюбетейкой — эго всегда смешно. Все прохожие останавливаются и смотрят на нелепый поединок человека с ветром. А я не любил быть смешным. С некоторых пор я учился вести себя с достоинством. Когда я переходил улицу, шофёры и велосипедисты сворачивали в сторону и посылали проклятья мне вдогонку. Я холодел от страха, но не убегал от идущих мне наперерез машин. Я считал, что бегущему человеку невозможно сохранить чувство собственного достоинства. Молочница, бывало, ворчала, ожидая, пока я открою ей дверь, а соседка смеялась и говорила, что с таким медленным достоинством, с каким я иду по коридору, шествует на приём к королю посол уважающей себя державы.
Вот таким самым шагом я и шёл за убегающей от меня тюбетейкой. Я рассчитывал поднять её у тротуара. Я даже не смотрел на неё. Прохожим предоставлялось право думать, что это катится не моя тюбетейка. А она тем временем уже катилась по тротуару и, неожиданно подпрыгнув, проскочила сквозь металлическую ограду сквера и улеглась там в самом центре цветочной клумбы.
Я огляделся. На тротуаре я был один. Прохожие шли по другой, теневой стороне улицы. Ограда тянулась далеко. Нигде не было ни лазейки, ни ворот. Люди попадали в сквер совсем с другой стороны. Тогда я смерил взглядом высоту железных прутьев, украшенных чугунными цветами, и быстро опустил глаза, чтобы удержаться от соблазна. Однажды, когда я был ещё неразумным первоклассником, мне случалось перелезать на даче через забор. Я был наказан уже тем, что свалился в крапиву. Но когда я поднялся на террасу, меня ждала ещё и двадцатиминутная речь папы, никогда не лазившего через забор.
Я размышлял, как мне поступить, когда за моей спиной кто-то решительно сказал:
— Снимай рюкзак!
Рядом стоял мальчишка одного со мной роста, в такой же рубашке с отложным воротничком и с таким же рюкзаком за плечами. На груди у него был старенький, видавший виды пионерский галстук. Он выгорел под летним солнцем так же, как и волосы на голове у мальчишки. А вообще-то во внешнем виде незнакомца преобладали коричневые тона. Коричневыми были ботинки и штаны, глаза и веснушки.
Не сообразив, почему это я должен снимать рюкзак, я промолчал, стараясь придать своему лицу выражение превосходства. Между прочим, делается это очень просто: выпячивается нижняя губа и чуть прищуриваются глаза.
— Да снимай же! — повторил мальчишка.
— Зачем?
— Чудак. Не с рюкзаком же тебе через забор перелезать. Ну, что же ты? А может, ты через заборы лазить не умеешь?
— Это я-то не умею!
— Похоже, что и ты.
— Да я, если хочешь знать, и не через такие заборы перелезал.
— Вижу… альпинист.
Я замолчал, придумывая, что бы такое пообиднее ответить мальчишке, но тот вдруг сбросил с плеч лямки, положил рюкзак у моих ног и мигом перелез через забор. Он положил в карман мою тюбетейку и полез обратно, как вдруг рядом раздалась трель милицейского свистка. Я обернулся и ахнул: лавируя в потоке машин, переходил улицу милиционер и направлялся прямо ко мне. Мальчишка прыгнул с верхней перекладины забора, подхватил рюкзак и, толкнув меня в спину, крикнул: «Бежим!»
В слове этом заключена такая непонятная, волшебная сила, что, прежде чем ты успеешь сообразить, почему тебе надо именно бежать, а не стоять на, месте, ноги уже несут тебя, и нет такой силы, которая могла бы заставить их остановиться.
Был у меня на даче приятель по имени Тукай, но все мы называли его не иначе, как Тикаем. Однажды, когда мы с ним рвали яблоки в саду, кто-то закричал из-за кустов смородины:
— Эй! Тикай!
Нам не пришло в голову, что кто-то может звать моего друга по имени. Побросав корзинки, мы выскочили за калитку и босиком по стерне помчались к лесу, темнеющему вдали. Я слышал, будто на Востоке говорят, что нет ничего на свете быстрее мысли. Так вот мы с Тукаем мчались ещё быстрее. Потому что пока мы не добежали до леса, у нас в голове не появилось ни одной мысли, ничего, кроме желания как можно дальше очутиться от забора. А когда у нас появилась первая мысль, мы рассмеялись над собственной глупостью: мы никак не могли взять в толк, зачем нам понадобилось спасаться бегством из сада, принадлежавшего нашей дачной хозяйке, никогда не запрещавшей нам рвать яблоки в её саду. Это я рассказал, чтобы показать, какая в этом слове есть непонятная магическая сила.
Так вот, мы с незнакомым мальчишкой припустились бегом, добежали до конца ограды, повернули направо и очутились в хорошо знакомом мне тупичке. Мы бежали так быстро, что, остановившись, не могли сразу разговаривать целыми фразами. В перерыве между вдохами и выдохами мы перебрасывались отдельными словами:
— Видал!..
— Ага…
— Здорово бежали!..
— Сумасшедший!
— Кто?..
— Ты…
— Почему?..
Но я не мог объяснить удивлённому мальчишке, почему я сейчас назвал его сумасшедшим. Если бы мне хватило дыхания на большую речь, я растолковал бы ему, что только сумасшедший способен на глазах у представителя власти нарушать правила поведения граждан в общественных местах; только дурак может задать стрекача, услышав властный свисток, требующий немедленной сдачи в плен и раскаяния, за которым немедленно последует полное прощение. А ещё бы я сказал, что нечего было, не спросясь, делать меня своим соучастником в тот самый день, когда я впервые встал на путь самостоятельной жизни. Но вместо этих длинных фраз я сказал только одно слово, и, по-моему, оно было яснее всех этих длинных фраз.
Надо было продолжать ссору или расходиться. Смешно выпятив губу, незнакомый мальчишка смотрел на меня, оценивая с обидной невозмутимостью. В карих глазах прыгали смешинки. Когда молчание стало тягостным, он усмехнулся и спросил:
— В лагерь собрался небось?
— Ну, собрался. Ну и что?
— А ничего. Поезжай.
— Вот найду такси и поеду, — совершенно неожиданно для себя сказал я, доставая из кармана брюк два рубля пятьдесят копеек — целое состояние, выданное мне на карманные расходы. Я уверен, что этот мой жест был полон независимости, но он не произвёл на мальчишку никакого впечатления.
— Ладно погоди, — всё так же усмехаясь, сказал он, — как бы нам опять на того старшину не налететь.
Он дошёл до угла дома и, зачем-то присев на корточки, осторожно выглянул из-за водосточной трубы.
От усталости у меня подкашивались ноги. Я хотел прислониться к забору, но вовремя заметил, что он только что окрашен. Маляры ушли обедать, а лестницу и ведро с краской оставили под деревом в тени. Лестница была прислонена к стволу, и на нижней перекладине её сидел старичок, одетый не по погоде. На нём были суконные брюки, заправленные в хромовые сапоги, чёрный, застёгнутый на все пуговицы пиджак и высокий картуз, увидеть который можно только в кино из дореволюционной жизни. Старичок дотронулся до ведра, зачем-то понюхал палец и сказал:
— До чего же удивительно быстро дома у вас в городе растут!
— Строят, — неопределённо ответил я, не очень расположенный вступать в разговор.
— «Строят», — передразнил меня старичок. — Ты вон погляди, какую махину под небо возвели. Чего же ты нос воротишь? Ты погляди.
— Видал. Мне на этот дом не то что смотреть, мимо и то противно проходить.
— Не угодили, значит, тебе?
— Не угодили.
И, уже не знаю почему, я вдруг выпалил:
— Самый мой заклятый враг в этом доме живёт.
— Ну-ка, ну-ка, кто такой? — неожиданно заинтересовался старичок.
— А вам зачем?
— А у меня в этом доме сын и два внука живут. Вот там, на седьмом этаже.
— Мой пониже, на втором.
Я хотел уже отойти, но старичку торопиться было некуда, и он считал, что до конца разговора ещё далеко.
— Значит, не просто враг, говоришь, а заклятый, словно он всей жизни твоей погубитель.
— Погубитель и есть. Приятно вам будет, если отец, что ни день, станет повторять, что вам до него, как травинке до сосны? И тем он удался, и этим хорош… Вспомнить о нём спокойно не могу.
— Серьёзный у отца твоего разговор. А ты, стало быть, и этим не удался и тем нехорош?
— В образцовые не лезу.
— Так-так-так, — раздумывая, произнёс старичок и уже собрался, должно быть, сообщить мне что-нибудь очень воспитательное, как над его головой раздалось такое жалобное «мяу», что он сразу же забыл обо мне.
Тут как раз вернулся мальчишка и увидел старичка, который ходил под деревом, запрокинув голову, и пальцем, словно человека, подманивал к себе крошечного котёнка.
— Видали? Глупенький какой. Видать, на дерево сгоряча залез, а спуститься боязно. Достать бы его.
У мальчишки сразу загорелись глаза, словно это был не котёнок, а по крайней мере жар-птица.
— Сейчас, дедушка, я на дерево заберусь, — радостно заявил он и тут же очутился на верхней перекладине лестницы.
— Эх, не достать! Палку бы мне.
Старичок неожиданно возмутился.
— Палку ему! А ну, слезай!
Он схватил мальчишку за ногу и стащил его вниз.
— Я ростом повыше, я и без палки дотянусь… Лестницу держи! И ты рот не разевай!
Последние слова относились ко мне. Я подошёл к мальчишке и вместе с ним стал поддерживать стремянку. Старичок стоял на последней перекладине, ухватившись одной рукой за толстенную ветку и стараясь другой дотянуться до жалобно мяукающего котёнка. Вдруг мальчишка толкнул меня в бок и кивнул в сторону улицы. Я оглянулся и увидел старшину, показавшегося из-за угла. От неожиданности мы присели, хотя это было глупо, потому что нас нельзя было не увидеть, даже если бы мы легли на мостовую ничком.
— Эй, эй! — испугано закричал старичок, стараясь сохранить равновесие на покачнувшейся лестнице. — Циркача-то уж не получится из меня.
Но тут милиционер засвистел в свой свисток и побежал прямо на нас. Не сговариваясь, мы с мальчишкой вскочили и побежали. 3а нами раздался грохот. Это упала лестница, которую я нечаянно задел ногой.
За всем, что произошло дальше, мы наблюдали издалека.
Старичок на вытянутых руках, словно на трапеции, повис на ветке. Картуз с его головы упал, рубашка вылезла из-под пиджака. Старшина милиции остановился под ним и дважды пронзительно свистнул.
— Гражданин!
— Я, сынок, я, родименький… я, — бормотал старичок, продолжая дрыгать в воздухе ногами и не решаясь разжать руки, глядя на двухметровую высоту под ним.
Словно из-под земли, в пустом тупичке появились люди. К месту происшествия спешили взрослые, сломя голову мчались мальчишки. Когда старичка сняли с дерева, он разразился речью, из которой выходило, что всё это мы сделали нарочно.
— Хулиганство произвели над стариком! — бушевал он под одобрительные возгласы толпы. — Вот такое положение, товарищ постовой милиционер. Хватайте их, добрые люди! Хватайте!..
Но хватать было некого. «Преступники», то есть мы, как говорится, «скрылись в неизвестном направлении».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Мы укрылись во дворе двухэтажного дома, обнесённого глухим забором. На улицу был только один выход — через арку, длинную, как тоннель. Мы стояли за углом, а с той стороны арки, окружённый толпою сочувствующих, гневался старичок. Арка гудела. Голоса, призывающие наказание на наши головы, бушевали под её каменными сводами. Они напоминали отдалённый шум моря. Дворик был той самой тихой бухтой, где благоразумные капитаны пережидают бурю.
Из подъезда, неся прикрытое газетой ведро, вышла девчонка. Она была рыжей-прерыжей, второй такой, пожалуй, и во всей Москве не найти. Девчонка сбежала по лестнице через две ступеньки, и в этом не было ничего удивительного: когда у человека на голове полыхает такой костёр, никто не ждёт, что он будет ходить спокойно. Это была вчерашняя Верка, только мне с нею разговаривать не хотелось, и я сделал вид, что не узнаю её.
Вера подозрительно покосилась на мальчишку, потом на меня.
— А, это ты, — неопределённо произнесла она и опустила ведро на землю.
Я не ответил. Во-первых, я не очень-то любил девчонок. Они почему-то считали меня толстым и упражнялись на мне в своём плоском остроумии. Во-вторых, это был действительно я, и соглашаться или не соглашаться с этим было бы просто глупо.
— Котёнка, не видали? — спросила она, обращаясь к мальчишке. — Маленький такой, серый?
— Не видали, — ответил я, потому что мой приятель по несчастью, словно воды в рот набрал, стоял и смотрел на неё во все глаза.
— А мы, если хочешь знать, камеру купили, — презрительно сощурив глаза, сообщила мне рыжая девчонка. — Сложились по десять копеек и купили. Мы бы и по рублю не пожалели, лишь бы тебя на площадке больше не видать.
И, обращаясь к мальчишке, который всё ещё пялил на неё глаза, добавила:
— И живут же такие сквалыги на свете! Бабушка, ты сама не неси, я сейчас поднимусь! — крикнула она в раскрытое окно и, ещё раз подозрительно покосившись на нас, скрылась в подъезде.
От встречи с этой рыжей девчонкой я скис ещё больше. Вчера на соседнем дворе я играл в волейбол. А когда пришло время идти обедать, вытащил из покрышки свою камеру, только и всего. И хотя я не искал сочувствия у незнакомого мальчишки, я заметил с безразличием, показывая, что не придаю никакого значения словам рыжей Веры:
— Видал! Всё чужим попользоваться норовят. Подумаешь, камера! Камеру мне не жалко. Я её не из жадности, а из принципа забрал.
— Правильно. Принципы штука полезная, улыбаясь, ответил мальчишка. И улыбка была такой, что я почувствовал: он, как и Вера, не одобряет вчерашней истории.
И тут я понял: он один из тех, про которых мне дома говорили, что от них надо держаться подальше. Мама уверяла, будто им всегда больше всех надо, а папа добавлял, что они вечно суют нос не в своё дело. Есть, например, такие поговорки: «Семь раз примерь — один отрежь», «Поперёд батьки в пекло не суйся». Но они выдуманы совсем не для таких людей. Никогда нельзя сказать наперёд, что они могут выкинуть через минуту. Нормальный человек всегда думает, как бы ему самому в беду не попасть, а они вдруг метнутся в сторону с пути и давай кому-то помогать, доказывать что-то. Взять хотя бы этот случай с моей тюбетейкой. Да разве я полез бы из-за чужой тюбетейки через забор? Да ни за что на свете! А вот он полез, и что из этого вышло? И самому целый километр от погони бежать пришлось и другого за собой потащил. Или с котёнком этим, за которым он на дерево полез. Сидим мы теперь из-за него на чужом дворе, прячемся, словно украли что.
Всего этого я ему говорить, конечно, не стал. Бесполезно, да и неприличным считается об этом вслух говорить.
— В мелкие собственники небось запишешь меня? — спросил я потому, что мальчишка всё ещё улыбался и молча смотреть на эту улыбку было невозможно. Мальчишка пожал плечами и не ответил.
В окне показалась Вера и кинула нам под ноги засохший букетик цветов.
— Эй, бросьте на помойку! — крикнула она, даже не взглянув на нас.
Вера скрылась, а незнакомый мальчишка всё ещё смотрел на окно.
— Ух, до чего рыжая! — воскликнул он, словно у него захватило дух.
— Подумаешь! Рыжих у нас в классе сколько угодно. У нас даже один альбинос настоящий есть. Глаза у него как у кролика, а волосы и брови белые.
Я хотел выложить всё, что знал об альбиносах, чтобы рыжая девчонка потеряла в его глазах всякий интерес. Но мальчишка пересёк двор, открыл крышку круглого бака для мусора и кинул туда превратившийся в веник букет.
— Эй, давай ведро! — крикнул он мне. Приказывал он прямо как своему ординарцу, а как меня зовут, даже и поинтересоваться забыл.
Это показалось мне обидным, и я решил не подчиняться ему. Но потом подумал, что всё это он истолкует по-своему. Выйдет, что я не только мелкий собственник, но ещё и эгоист, раз я каждому встречному-поперечному помогать не хочу.
— Чего стоишь? Давай ведро, тебе говорят!
— Это ещё зачем? — спросил я, чтобы показать свою независимость.
— Высыплем и мусор заодно. Всё равно без дела стоим.
— Вот и высыпай, — сказал я, но ведро всё же поднял и понёс.
Если бы я мог знать, что произойдёт через десять секунд, я бы и не прикоснулся к этому прикрытому газетой ведру. Но, ничего не подозревая, я поднял его и перевернул над баком. Раздался звон разбитого стекла. Вслед за банкой с мёдом и бутылкой с молоком из ведра посыпались кульки и свёртки. От неожиданности я вздрогнул и выпустил ведро. Мне показалось, что, ударили в литавры. Привлечённая грохотом, в окне появилась Вера. Она широко раскрыла рот, но, не найдя подходящих к этому случаю слов, метнулась в глубину комнаты, к двери.
Мы кинулись к арке. Новый страх, погнавший нас вперёд, был сильнее старого, о котором мы уже забыли. Но как только мы подбежали к арке, он напомнил нам о себе. Мы увидели стоящего к нам спиной милицейского старшину. Он прощался за ручку с пострадавшим старичком, и нечего было и думать, что нам удастся незаметно проскочить мимо него. Теперь у нас был не один страх, а два: представитель власти и рыжая Вера. Нам некогда было размышлять, какой из этих двух огней горячей. Деваться было некуда, мы готовы были вскарабкаться вверх по стене, но одного нашего желания было мало. Мы огляделись и увидели груду фанерных ящиков, сваленных в глубине двора, у самого забора. Мы кинулись туда и скрылись за ними в тот самый миг, когда из подъезда выскочила разъярённая девчонка.
Я и раньше знал, что рыжие девчонки не плачут. Они горят жаждой мщения. Но эта была страшнее тигрицы, у которой украли любимого тигрёнка. Попадись мы ей в руки, она разорвала бы нас на самые мелкие кусочки. Её голос раздавался то справа от нас, то слева. Она носилась по всему двору и кричала так, что захлопали окна и все наперебой начали спрашивать, из-за чего она подняла такой переполох. И разошлась же эта Вера! Если бы она была колдуньей и желания её исполнялись, то у нас бы сначала отсохли языки, потом повылазили волосы, а напоследок нам ничего бы не оставалось, как ради её удовольствия взять да и провалиться сквозь землю. Вволю наругавшись, Вера рассказала, как было дело. Оказалось, как и мы, она едет в пионерский лагерь. Бабушка уговорила её взять с собою, кроме чемодана, и ведро, чтобы было с чем по грибы и по ягоды ходить. Бабушка сама упаковала это ведро, прикрыла газетой, а Вера снесла его вниз… Ну, а о том, что было дальше, я уже описал.
Тут во двор вошёл старшина милиции. Мы сразу поняли, что это он. Только милиционеры, ещё не узнав, в чем дело, говорят: «Спокойно, граждане».
Вера обрадовалась, что можно всё повторить с самого начала. Только теперь она разукрасила всё таким бессовестным образом, что меня так и подмывало выскочить из укрытия и самому рассказать, как было дело. Из её слов выходило, что мы пришли во двор специально, чтобы выбросить в мусорный бак её банку с мёдом. И ещё выходило, будто она смотрела на меня через окно, а я смотрел на неё и переворачивал это ведро медленно и со злобной усмешкой. Старшина догадался, что самой Вере нипочём не остановиться, и как только она упомянула, что нас было двое, перебил её:
— Постой, постой! Двое, говоришь?
— С рюкзаками. Один веснушчатый такой, курносый и худой (это он про незнакомого мальчишку).
— Ну-ну?
— А другой толстый, как бегемот, аккуратненький, и глазки у него противно бегают по сторонам (это она про меня, мерзкая рыжая девчонка!).
— Так, — сказал старшина. — Опять же, выходит, они. Ну ничего. Я до этих братьев-разбойников доберусь. От меня они далеко не уйдут.
Говорят, что от страха у человека на голове начинают шевелиться волосы. Как только я услышал слова старшины, я понял, что люди говорят правду.
— Слыхал? — прошептал я. — Разбойниками назвал.
— Не разбойниками, чудак, а братьями-разбойниками. Пьеса такая есть.
— Всё равно заберёт.
— Тш-ш! Услышит — тогда, как пить дать, заберёт!
— Тебе хорошо, сам на чистое сел, а меня вон в какую грязь посадил. Давай меняться.
— Давай.
Мы сидели между ящиками и забором. Он на рюкзаке, который так и не успел надеть на плечи, а я на корточках. Мы поменялись местами, но сидеть мне всё равно было неудобно, рюкзак притягивал меня, и я с трудом сохранял равновесие.
— Тебе чего! — прошипел я и ткнул его кулаком в бок. — А я ещё, может, ни разу в милиции не сидел.
— Ты что же, думаешь, я там каждый день сижу? — ответил мальчишка и, чтобы не оставаться в долгу, тоже ткнул меня кулаком.
— А всё ты! — сказал я и ткнул его посильнее.
— Как же! — толкнул он меня. — Я, что ли, ведро перевернул?
— А кто мне сказал, чтобы я его нёс?
— Я тебе, остолопу, про мусор сказал. Взял бы да и заглянул в ведро.
Теперь мы уже сопровождали толчками почти каждое слово. И вдруг, не удержав равновесия, я опрокинулся на спину. Ногою я задел ящик, и груда зашевелилась. Голоса во дворе сразу смолкли, и мы поняли, что все смотрят сейчас в нашу сторону.
— А ведь сбежать отсюда они не могли, — раздумчиво произнёс старшина. — Значит, кроме как за этими ящиками, им во дворе негде быть. А ну, Вера давай-ка их в клещи возьмём.
Я не понял, как это нас будут брать в клещи, но слово это мне не понравилось. Секунды нашей свободы были сочтены. Мы были в ловушке. Без надежды на спасение мы оглянулись и вдруг увидели в заборе дыру. Дыра была у самой земли, а под нею ослепительно сверкала помойная лужа. Раздумывать было некогда. Незнакомый мальчишка просунул в дыру свой рюкзак, лёг животом в самую грязь и уже через секунду очутился по ту сторону забора.
Папа строго-настрого запретил мне лазить через заборы, об этом я уже говорил. Но никогда ни словом он не обмолвился, что под ними нельзя пролезать.
Шаги приближались.
Я кинул прощальный взгляд на свои белые штаны и рубашку и шлёпнулся на живот. Я просунул в дыру голову и плечи и тут же почувствовал, что застрял.
Рюкзак не пускал меня ни назад, ни вперёд.
Последнее, что я увидел, была спина ставшего ненавистным мне мальчишки. Последнее, о чём я подумал, это о тюбетейке, которая так и осталась у него в кармане.
— Хорош! — раздался надо мной голос старшины.
Потом слышал радостный возглас и смех рыжей девчонки. Я закрыл глаза и опустил голову на руки.
И тут я почувствовал, что кто-то схватил меня за локти и рванул вперёд. Словно по льду, я заскользил по грязной жиже и вскочил на ноги уже по ту сторону забора.
— Бежим! — крикнул вернувшийся, чтобы спасти меня, мальчишка, и мы опять побежали. А за нами раздался резкий, ставший уже привычным милицейский свисток.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
Есть такая штука — цепная реакция. Что это такое, я вам объяснять не буду, знаете сами. Так вот, я заметил, что если у тебя с утра начались неприятности, то первая приведёт за собой вторую, вторая — третью, третья — четвёртую, ну прямо по поговорке «Пришла беда — отворяй ворота». Поэтому я был уверен, что не все наши неприятности уже позади.
Пробежав шагов двадцать, мы остановились. Ради удовольствия поймать нас ни старшина, ни Вера, конечно, не полезут в дырку под забором, этого можно было не бояться. Проделать такое можно только от глупости или от страха.
Я посмотрел на свой костюм и ахнул. По груди и по животу сверху вниз шла ровная полоса грязи. Под солнцем она блестела как тушь. Можно было подумать, что кто-то специально провёл по мне огромным плакатным пером. Куриный пух приклеился к штанам и коленям. В старину, когда человека хотели опозорить на всю округу, его вымазывали дёгтем и вываливали в пуху. Так поступали с колдуньями и ворами. Может, колдуньи к этому привыкли, а может, им было не так уж обидно, потому что они чувствовали за собою кое-какую вину, но мне стало так горько-горько, я даже побоялся, как бы не заплакать. Тогда я решил разозлиться: я не знаю лучшего средства, чтобы сдерживать слёзы. Говорят, будто можно заплакать от злости, но я не могу. Если я злюсь, значит не заплачу. А сейчас мне даже не надо было притворяться, что я разозлился, до того я ненавидел этого мальчишку.
— Ну, — сказал я, — Дон-Кихот проклятый! Может, ты и теперь скажешь, будто я, а не ты во всём виноват?
Мальчишка нагнулся и снял у меня со штанины пушинку.
— И чего ты злишься на меня? Ну при чём здесь я? Ты пойми: такое стечение обстоятельств.
— Ишь ты, нашёл, на что сваливать! У нас в квартире бабка одна старенькая, тоже, чуть какую оплошку сделает, всё сваливает на судьбу.
— Чудак человек! Я же не говорю: «судьба» — я говорю: «стечение обстоятельств».
— Обстоятельства здесь ни при чём. Здесь другое при чём. Идёшь себе мимо и иди. Дураки и без тебя на свете найдутся.
Он посмотрел на меня с удивлением, и я понял, что всё это ему нипочём не втолковать. Это для него всё равно как высшая математика: не поймёт.
— И чего ты привязался ко мне? — в сердцах сказал я, взглянул на свои штаны и опять чуть не заплакал. — Ну как я теперь в таком виде по улице пойду?
Тогда он достал свой носовой платок и с самым серьёзным видом стал вытирать мне рубашку. У него у самого были в грязи штаны и колени, но он этого вроде и не замечал. Есть такие люди, что про свою беду забывают и всё стараются утешить других, думают, таких героических личностей, как они, на целой земле не сыскать. Но я так считаю, что это от гордости, а как считают они — не знаю.
Грязь на солнце и на ветру подсохла и начала светлеть. Мальчишка посмотрел на меня с прищуром, словно это не я, а картина в Третьяковской галерее, и сказал, что через час на рубашке останется только пятно. Может, он был и прав, но стоять тут целый час я не мог.
Проходными дворами мы вышли на улицу.
Мимо нас прошёл военный. Посмотрел на меня и усмехнулся. Потом прошёл долговязый юноша в очках. На голове у него была голубая шапочка с козырьком, которые носят велосипедисты и трёхлетние младенцы. В одной руке у него был футляр с аккордеоном, в другой — тяжёлый чемодан. Он тоже посмотрел на меня, хотел что-то сказать, но вместо этого покачал головой и пошёл дальше. Переходя улицу, прямо на нас шла женщина с крохотной девчушкой. Девчушка плакала, не хотела идти, но мама дёргала её за руку, и она летела по воздуху, широко раскинув ноги, прямо как балерина. В другое время я бы посмеялся над ней, а тут вышло наоборот. Как только она увидела мой костюм, она перестала плакать и начала смеяться. Я показал ей язык, но от этого она стала смеяться сильнее, а я отвернулся.
И тут я заметил, что мальчишка тоже смотрит на меня и улыбается. Это было как предательство, и я почувствовал, что у меня на глазах появляются слёзы.
— Смеёшься? — воскликнул я, а он вдруг откровенно расхохотался и сказал:
— Посмотрел бы ты на себя!
— У-у-у! — загудел я, сжимая кулаки, — А кто меня по всей луже на животе протащил?
— Да пойми же, чудак человек: стечение обстоятельств!
И тут я прямо сам не знаю, что со мной сделалось. Мне захотелось то ли избить кого-нибудь, то ли закричать, то ли заплакать, уж не знаю что, только мне непременно надо было что-нибудь сделать. И тогда вышло так, что я сделал самое неожиданное. Я стукнул его в грудь и как-то непонятно засмеялся.
— Ха-ха-ха! Как же это я до двенадцати лет дожил и не знал, что каждому встречному-поперечному обязан помогать?..
Потом я оглянулся и закричал:
— Эй, люди, подходи, кому помощь нужна!
Мальчишка дёрнул меня за рукав и то ли изумлённо, то ли испуганно зашептал:
— Да брось ты дурака валять! Перестань!
Но меня прямо-таки понесло.
— Старшины боишься? — кричал я, отталкивая его руками и не то смеясь, не то плача, до сих пор вспомнить не могу. Это у меня реакция такая была нервная. Мне про это потом один знакомый доктор объяснил. Я вёл себя с бесстрашием человека, которому терять нечего. А мальчишка всё хватал меня за рукава и, наверное, считал, что я рехнулся. Да так в эту минуту оно и было. В обыкновенном состоянии я бы ни за что так себя не вёл. Мне попался на глаза тот долговязый юноша в детской шапочке. Он ещё не дошёл до троллейбусной остановки. Чемодан и аккордеон стояли на тротуаре, а он носовым платком вытирал себе лицо и шею.
— А ну, Дон-Кихот Ламанчский! — крикнул я и толкнул мальчишку в спину. — За мной!
Он как-то даже растерялся на секунду, но я, не оглядываясь, шёл вперёд, увлекая его за собой. Я тогда понял, как это просто — увлекать людей за собой. Надо только быть уверенным, что они пойдут, и идти не оглядываясь. Только есть люди, которые могут делать это всю жизнь, а меня хватило всего на одну минуту, да и то самую глупую в моей жизни.
Долговязый стоял к нам спиной. Мы подбежали к нему. Я схватил аккордеон и показал мальчишке на чемодан:
— Бери!
— Да брось ты, говорю! — забормотал он и опять хотел схватить меня за рукав, но я только посмотрел на него и пошёл вперёд. Он пожал плечами, оглянулся на юношу и, схватив чемодан, понёс его за мной к троллейбусной остановке.
Но этот долговязый почему-то не понял, что мы действуем из самых благородных побуждений. Он посмотрел на всё это совсем с другой, неожиданной для нас стороны. Сначала очень растерянно и несмело он крикнул нам вслед:
— Эй, граждане!.. Товарищи!..
— Тащи, ничего, — сказал я мальчишке, который, перевалясь на один бок, кряхтя, нёс чемодан, стараясь не отставать от меня.
— П-правильно, — на ходу говорил он. — П-почему человеку не помочь? Он, видал, какой худой! Где ему два чемодана унести? Будет нас потом благодарить.
— А как же! — зло ответил я. — В ножки поклонится тебе. «Благодетель, — скажет, — в рабство к тебе за это пойду».
Но вместо этого долговязый вдруг закричал: «Караул!» Своими журавлиными ногами он сделал каких-нибудь десять шагов, догнал нас и схватил мальчишку за лямки рюкзака. И не просто схватил, а встряхнул с такой нечеловеческой силой, что лямки соскочили, рюкзак опрокинулся, раскрылся, и из него на тротуар посыпались вещи. Мальчишка сказал: «Ой!» — и выронил чемодан. Он стукнулся углом и тоже рассыпался. Из чемодана вывалились рубашки, майки, книги, ноты и ещё разные вещи. Они смешались с вещами мальчишки, и, словно по команде, мальчишка и очкастый юноша упали на колени и стали хватать вещи и запихивать их: один — в рюкзак, другой — в чемодан. И сразу толпа окружила нас.
Как только всё это дошло до моего сознания, у меня внутри будто что-то оборвалось, натянутое туго-туго, и, сев на футляр с аккордеоном, я уткнул лицо в руки и заплакал. А толпа разговаривала надо мной:
— Ишь ты, теперь в слёзы, пожалейте, дескать, меня.
— Да ить как не пожалеть, голубчик? Дитя ещё малое, разуму в ём с гулькин нос.
— Ты, бабушка, своё сердобольство до другого случая побереги. Галстуков бы пионерских постыдились, черти неумытые!
— Что галстуки! Э, голубчик! Ныне которые и в шляпах на это идут…
В самом центре толпы со своим «Спокойно, граждане!» появился наконец-то настигший на старшина. Следом за ним к нам протиснулись пострадавший старичок и Вера.
Наше шествие в милицию было даже не лишено торжественности. Впереди с гордым видом шли пострадавшие. За ними мы, вернее — тащил нас за руки старшина. Замыкала шествие толпа свидетелей, было их человек пятьдесят. Но всё это я припомнил только потом. Тогда же я ничего вокруг себя не видел и не слышал; я думал о том, что сказал бы папа если бы узнал, как начался первый день моей самостоятельной жизни.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Фамилия старшины была Березайко. На все телефонные звонки он отвечал так: «Старшина милиции Березайко слушает». На вид ему было лет тридцать пять. У него были весёлые, завивающиеся кольцами волосы и хмурые, опущенные к низу усы. Я знаю, что полагается ещё описать и глаза, но я даже не могу сказать, какого они были цвета: я в них не посмотрел ни разу.
Мы сидели с одной стороны стола, старшина — с другой. Обстановка в комнате была официальной: телефон, графин с водой на тумбочке у стола, на стене плакат, где было нарисовано, как надо висеть на подножке трамвая, и было сказано в стихах, что делать это запрещено. Окно было обыкновенное, без решёток. Но как только я бросал взгляд на протокол — пять страниц, исписанных неторопливым, старательным почерком старшины, — я не сомневался, что решётки ещё будут.
Если про человека написать, что он «гражданин» и назвать его не просто Толей, а Анатолием Корзинкиным, двенадцати лет, то этому человеку лучше и не надеяться очутиться на свободе. Всё население земного шара милицейский протокол делит на задержанных, свидетелей и пострадавших. Спорить с ним бесполезно. Самым главным пострадавшим я считал себя, но у протокола было совсем другое мнение на этот счёт. Он упорно называл этим словом рыжую девчонку, повисшего на ветке старичка и юношу с журавлиными ногами.
Пострадавшие пошумели, пожаловались, наговорили нам разных обидных слов и ушли. Свидетели ушли ещё раньше. Как только старшина сказал, что будет составлять протокол, их словно ветром сдуло: шла за нами целая толпа, а потом я оглянулся — пусто, ни души.
Задержанными были мы — мальчишка, которого, как выяснилось, звали Алёшей, и я, невинная жертва ужасающих недоразумений. Старшина был очень доволен своей работой: раза три, любуясь, перелистал он протокол. Потом он почесал в затылке и закурил.
— Дежурный по отделению занят. Что мне с вами делать, ума не приложу.
Алёша, должно быть, решил, что с ним советуются. Он поразмыслил, как ему вывести старшину из затруднительного положения, и сказал:
— Если бы я был на вашем месте, а вы на моём, я бы на все четыре стороны отпустил.
— Это за все-то художества? — спросил старшина и углубился в чтение протокола. — Подведём итоги. Н-да… Неприглядная в общем-то получается картина. Нарушение правил поведения граждан в общественных местах — раз.
— Да не нарушали мы ничего!
— Должен заметить, что голословное отрицание только отягчает вашу вину.
— Ну и пускай отягчает! Правда, Корзинкин? Чего нам бояться, если мы виноватыми себя не признаём?
— Не признаёте? А через ограду сквера кто перелезал?
— Я.
— Вот то-то. Дальше. Уличное хулиганство, объектом для коего был выбран престарелый гражданин, что уже само отягчает вашу вину.
— Да что вы всё повторяете «вина» да «вина».
Я уже объяснил; это не мы, а лестница виновата.
— Задержанный, помолчите. Вот сообщник ваш молчит, поскольку осознал (это про меня). А вы для пользы дела слушайте без пререканий и осознавайте.
Я вздрагивал каждый раз, как старшина произносил слова «задержанный» и «сообщник». Я часто-часто моргал и глотал слёзы, а старшина, казалось, не замечал моих мучений. Он всё время обращался к Алёше, и я не мог понять, лучше это для меня или нет.
— Дальше, — продолжал старшина, перелистывая протокол. Он недоуменно пожал плечами. — Нет, объясните вы мне, в чём перед вами Вера провинилась. Никак я этого в толк взять не могу.
— Какая Вера?
— Ишь ты! Память коротка. Та самая, которой вы, — старшина поискал нужную строчку в протоколе, — «нанесли материальный ущерб в виде уничтожения продуктов путём выбрасывания таковых в мусорный бак».
— Ни в чём не провинилась, — вздохнул Алёша.
— Тоже, стало быть, ошибка произошла?
— Это я уже тоже объяснял.
— Стечение обстоятельств, — не поднимая головы, хмуро заметил я.
— Вот в сообщник твой заговорил.
Я опять вздрогнул и, неожиданно подскочив на стуле, сказал:
— Вы не имеете права задерживать нас!
— То есть как это не имею права? — очень искренне и даже с некоторой угрозой в голосе возмутился старшина. — Что же, я самоуправством занимаюсь? Так вас понимать? Нет уж, извините. У меня в руках протокол. Документ! Дальше. Итак, совершив уличное хулиганство, вы сделали попытку совершить преступление уголовное.
Услышав эти страшные слова, я опять подскочил и выпалил:
— Я!.. Я запрещаю вам так говорить!
Я и сам удивился, как это я осмелился бросить такие слова в лицо представителю власти, но отступать было поздно. — Вот скажу папе, чтобы он вашему начальнику позвонил, будете знать, как честного человека в милицию забирать.
Старшина внимательно посмотрел на меня.
— Ну, насчёт честности это мы потом поговорим. — И опять, забыв про меня, он повернулся к Алёше. — Так. Ну, а твой отец тоже будет на моё начальство нажимать, чтобы я действия его сына своими словами не называл?
Я ждал, что Алёша тоже перейдёт в наступление и скажет, какие у него родители грозные и влиятельные люди, но он опустил голову и негромко сказал:
— Нет… не будет.
— Ясно. В большие начальники, значит, не вышел родитель твой?
Старшина помолчал, усмехнулся и опять принялся перелистывать страницы протокола.
— Вернёмся к попытке увести чемоданы у гражданина Басова Вениамина Павловича, двадцати одного года, холостого, проживающего и так далее…
Тут не выдержал и Алёша.
— Товарищ старшина, — горячо заговорил он, — ну, вот хотите, я вам честное пионерское дам? Хотите, поклянусь, что…
— Погоди, не клянись, — перебил его старшина и повернулся ко мне. — Вот ты положением отца хотел меня напугать. А ведь он небось каждый день внушает тебе, чтобы ты поменьше о себе, побольше о других людях думал. Чтобы не пакостил ты им, а помочь старался, чтобы не проходил мимо чужой беды. Говорил он тебе это? Говорил или нет?.. Молчишь? Так и будет твой товарищ вместо тебя отвечать?
— Никакой он мне товарищ мне, — зло ответил я.
— Отказываешься, значит, от него?.. Так… Слёзы-то не глотай. Слезами теперь делу не помочь. И на часы не косись. Ничего не поделаешь, граждане задержанные. Без вас поезд уйдёт.
Старшина погасил папиросу, встал и спросил у меня:
— Приводы были?
Я не понял, что это та кое, и старшина объяснил:
— В милицию, спрашиваю, приводили тебя?
— Приводили.
— За что?
— Ни за что. Потерялся я в метро. Маленький был.
Я хотел сказать, что тогда меня поили чаем, развлекали игрушками и что в милиции мне очень понравилось, но передумал и промолчал. Старшина что-то подчеркнул в протоколе и спросил у Алёши:
— Значит, дом восемь, квартира двенадцать?
— Тринадцать.
— Проверим. Что ж, придётся вам тут посидеть. — И, захватив протокол, старшина вышел.
Мне было не то чтобы страшно, а тоскливо-тоскливо, даже заплакать по-настоящему и то я не мог.
— И что же с нами будет теперь? — спросил я, а Алёша ответил, думая о чём-то другом:
— Судить тебя будут, вот что.
— Судить?!
У меня даже дух перехватило от такого нахальства.
— Это за что? Тебя надо судить, а не меня!
— Ну, и меня, конечно, заодно… Да перестань ты кулаки сжимать! Шучу. Справки он пошёл о нас наводить.
— Позвонить бы кому-нибудь. Пускай приедут выручат. Пропадём мы тут с тобой ни за что. Жаль, папа у меня уехал на курорт.
— Что ты всё «папа» да «папа»! Сам не ребёнок, двенадцать лет. Не за ручку же тебя по жизни водить.
Алёша подкрался к той двери, в которую вышел старшина, и заглянул в неё. Потом он попробовал, не закрыта ли дверь, ведущая в коридор, подмигнул мне и шёпотом сказал:
— Бежим отсюда, Анатолий Корзинкин, двенадцати лет.
— Как это «бежим»? — испугался я.
— Откроем дверь и убежим. Нас ведь никто не сторожит.
— Убежишь — так они будут нас самыми настоящими преступниками считать.
— А если останешься, думаешь, они тебя по головке гладить придут?
В словах Алёши была какая-то правда. Надо было, как учил меня папа, всё обдумать и взвесить, но Алёша стоял надо мною и толкал меня в плечо.
— Ну, — говорил он, — ну же! Думать некогда. Пошли.
— Искать будут.
— Пускай ищут. Таких ребят, как мы, в Москве целый миллион.
Я вовсе не считал, что таких, как я, в Москве целый миллион, но сейчас не время обсуждать это.
— Найдут, — сказал я. — Всю милицию на ноги поднимут, а найдут.
— Как же! С собаками по твоему следу пойдут. Нужен ты им!
Он посмотрел на часы.
— В общем, ты как хочешь, а я на поезд могу опоздать.
Алёша выглянул в коридор.
— Никого. Бежим.
Я покачал головой.
— Да бежим, тебе говорят!
Он схватил меня за рукав, видно всерьёз решив сделать из меня то, что в протоколе называется «сообщник».
— Вечно тебя на аркане надо тащить! Вставай! Он потащил меня к двери, а я упирался, во что бы то ни стало стараясь остаться честным человеком.
Наши рюкзаки лежали у самой двери. Я уцепился за лямку рюкзака. Но это был лёгкий предмет, и Алёша продолжал тащить меня вместе с рюкзаком.
— Пусти! — упирался я. — Оставь!
Я ни за что не хотел покидать эту комнату и поэтому решился на последнюю меру.
— Товарищ старшина! — заорал я, но Алёша закрыл мне рот рукой и вытолкнул за дверь.
В коридоре действительно никого не было. Распахнутая дверь на улицу была в каких-нибудь трёх шагах от нас. Я думал, что Алёша тут же припустится бежать, а он задумался на секунду и опять повернулся к двери в комнату, из которой только что выпихнул меня. Я сразу кинулся обратно.
— Я, значит, беги, — зашипел я, стараясь оттолкнуть его от двери, — а ты в честные люди попадёшь?
— Дурак! — отрывая меня от дверной ручки, говорил он. — Вот дурак! Второго такого я… и в жизни… не… не видал… Рюкзак… рюкзак, понимаешь, захвачу! Не могу же я в лагерь ехать без рюкзака.
Наконец он оторвал меня и приоткрыл дверь. Но о том, чтобы схватить рюкзак, нечего было и думать: в комнату уже входил старшина.
И опять мы побежали. Алёше было хорошо: он бежал налегке, а я с грузом за спиной.
Мы остановились у новой стройки, и здесь произошло самое удивительное из всех событий этого дня. Я расскажу об этом, хотя уверен, что вы уже и сами догадались обо всём.
Алёша поднял с земли кусок проволоки и загнул один конец.
— Давай вернёмся на минутку. Попробуем рюкзак через окно утащить.
— Твой рюкзак — твоя и забота, — сказал я и повернулся, чтобы уйти и никогда не встречать этого мальчишку, но вдруг вспомнил и спросил: — А почему ты старшине адрес неверный дал?
— Почему же неверный? Дом восемь, квартира тринадцать.
— Хитёр! А ты знаешь, кто в квартире этой живёт? Образцовый ученик. Маменькин сынок.
— Путаешь ты, чудак человек. Никакой не маменькин сынок, а я там живу. Я, Алёша Петухов.
Он улыбнулся мне и, сказав: «Счастливо отдохнуть», — повернулся и пошёл обратно в сторону милиции. А я, может, только через минуту спохватился, что стою с открытым ртом. Я никак не мог сообразить, как могло получиться, что достойный подражания человек, давно ставший для меня домашним пугалом, и мальчишка, из-за которого я чуть в преступники не попал, — одно и то же лицо…
ГЛАВА ШЕСТАЯ
На вокзал я приехал за двадцать минут до отхода поезда. Наши два вагона можно было заметить сразу: около них было празднично. Суетились провожатые, пестрели цветы, и сверкали трубы духового оркестра. Ко мне сразу подошла Валентина Степановна, наша старшая пионервожатая, и спросила, почему я один и почему я чуть не опоздал. Она смотрела на меня строго-престрого, только ей этим взглядом всё равно никого не удалось обмануть. Валентина Степановна была сестрой нашего Васи Спичкина, целый год грозилась выпороть его за двойку по математике, а вместо этого решала ему задачки по вечерам. Я собрался ответить что-нибудь правдоподобное, но тут, будто сорвавшись с цепи, загрохотал духовой оркестр. Все вздрогнули и старательно заулыбались. Валентина Степановна нагнулась ко мне, внимательно посмотрела на мои губы и, ткнув пальцем в мою рубашку, изобразила на лице знак вопроса. Но, видно решив отложить выяснение до той счастливой минуты, когда музыканты выдохнутся, она повернула меня лицом к вагонной площадке и подтолкнула в спину. Я понял, что своим костюмом порчу ей всё торжество, но не почувствовал никакой обиды. Ребята смеялись и что-то кричали мне вдогонку, братья Рыжковы гримасничали и извивались так, будто хотели вывернуться наизнанку, а я, не обращая на них внимания, прошёл а вагон, нашёл свободную верхнюю полку, забрался на неё и лёг, отвернувшись к стене.
Я думал, что все мои беды позади, и пытался сосредоточиться на чём-нибудь приятном. Но не тут-то было. Как только я закрыл глаза и захотел представить себе лагерную речку и лес, передо мной, заслоняя природу, появилось лицо Алёши Петухова. Тогда я начал думать про то, как хорошо, что мне удалось отвязаться от этого сумасшедшего мальчишки. Но тут кто-то тронул меня за плечо и Алёшиным голосом спросил:
— Тут рядом с тобою не занято ещё?
Я сперва подумал, что это у меня галлюцинация слуха, но, обернувшись, увидел его перед собой. Можете представить, какое выражение лица было у меня в эту минуту.
Алёша был удивлён ничуть не меньше моего, но его удивления хватило не больше чем на секунду.
— Хорошо, что мы в один лагерь едем с тобой, радостно сказал он.
Но я в этом ничего хорошего не видел.
— И чего ты привязался ко мне! — с надрывом воскликнул я, а Алёша зашикал на меня и оглянулся по сторонам. Он вёл себя прямо как настоящий заговорщик.
— Нам теперь друг за друга держаться надо. Тш-ш! Тихо! Не вскакивай, тебе говорят! Зря мы из милиции убежали, вот что я тебе, Анатолий Корзинкин, скажу.
— Сам же говорил, таких, как мы, в Москве, может, целый миллион.
— Осмелел! — Алёша говорил всё это свистящим шёпотом. — Я когда к окошку милиции подошёл, слышал, как старшина наши приметы по телефону сообщал. Так, понимаешь, он нас расписал, хоть портреты рисуй. И где какая родника у кого, и про цвет глаз, и даже про то, что у тебя выражение такое, будто ты того и глади без всякой причины заревёшь.
— А про твоё выражение ничего не говорил?
— Про моё нечего говорить. У меня выражение обыкновенное.
— Глупое у тебя выражение. На тебя только взглянуть, и сразу видно: вот человек, который только и думает, как бы поглупее поступок совершить.
— Всё дуешься на меня? — беззлобно спросил Алёша, дотронулся до моего рюкзака и вдохнул: — Так и не удалось свой рюкзак утащить. Буду теперь целый месяц, как доисторический человек жить. Мыла и, того у меня нет.
— На моё не надейся. У меня у самого-то один кусок.
— Ладно, обойдусь. Нам теперь самое главное — в милицию не попасть.
— Смелости твоей на час только и хватило, как я погляжу. Ничего, Петухов, не трусь. Сейчас поезд двинется и — фьють! Попробуй догони нас тогда.
Алёша прищурил один глаз и усмехнулся.
— А хочешь, я тебе штуку одну покажу? Сейчас и твоя смелость в пятки уйдёт.
Он за ногу стащил меня с полки, подошёл к проходу, выглянул и, отпрянув назад, пальцем поманил меня к себе. Я тоже выглянул в проход и увидел девчонку лет восьми, которая с чемоданом в руках шла прямо к нашему купе. А позади этой девчонки шёл не кто-нибудь, а та самая рыжая Вера. И правда, душа у меня сразу ушла в пятки. Бежать 6ыло некуда, а Вера приближалась. Нам ничего не оставалось, как кинуться на верхние полки и отвернуться к стене.
Маленькая девчонка, как только вошла в купе, сразу закричала:
— Чур, моё место у окна!
— Пожалуйста! — согласилась Вера. — Я на второй полке даже больше люблю… Смотри, занято уже тут. Спят… Ну-ка, подвинься, я пока рядом с тобой посижу. Тебя как зовут?
— Маринка. Только ты близко ко мне не садись: я ещё одно место для брата займу.
— Для брата? — переспросила Вера, громыхая своим ведром. — А у меня вот ни брата, ни сестры нет.
— Ничего, может, народятся ещё, — успокоила её Марина, но Вера вздохнула и сказала:
— Где уж! Мама умерла. Только бабушка у меня да отец… Ой, он же попрощаться со мной прийти обещал. Ты мои вещи покарауль, а я на перрон пойду.
Вера вышла, и мы с Алёшей повернулись друг к другу.
— Ну?!
— Дела!
— Алёша! — обрадовалась Маринка, как только увидела его.
Но Алёша, не обращая на неё внимания, осторожно выглянул в окно.
— Алёша, ты почему на вокзал так поздно пришёл?
— Отвяжись.
— Почему это отвяжись? Бабушка мне поручила следить за тобой.
— Ну и следи.
Сразу было видно, что Маринка — Алёшина сестра. Только с младшими сёстрами разговаривают так. Всем известно, что от них в жизни одно беспокойство.
— Бабушка! — закричала Маринка в окно. — Ты не волнуйся, нашёлся он.
— А чего волноваться! — проворчал Алёша. — Я же сказал, что к приятелю по дороге зайду… Забирай, Толя, рюкзак. В другой вагон перейдём.
Мы спустились с полок, но Маринка двумя руками вцепилась в брата и потащила его к окну.
— Ты куда? Бабушка попрощаться хочет с тобой.
— До чего же ты девчонка противная у меня! — в сердцах сказал Алёша, отцепляя от себя Маринку. — Некогда мне!
Помните, я про цепную реакцию говорил? В этом всё и дело. Началось всё с того, что у меня тюбетейка слетела с головы, а конец этой истории будет только на самой последней странице. Хотите — верьте, хотите — нет, но дальше дело было так.
Мы вышли в тамбур, и здесь душа у нас снова ушла в пятки. Со своими чемоданами по ступенькам карабкался Вениамин Павлович, долговязый юноша, двадцати одного года, холостой и так далее. Мы бросились обратно, забрались на свои полки и сделали вид, что смотрим в окно. Маринка от удивления захлопала глазами, но тут в купе вошёл Басов и спросил у неё, есть ли здесь свободное местечко. Алёша изловчился и дёрнул Маринку за косу. Он думал, что она догадается и скажет «нет», но она не догадалась.
— Ты что сказала? — спросил Басов, запихивая чемодан под полку.
— Я?.. Я сказала «ой».
— Ну и превосходно, — заметил Басов, который вопрос о месте задал просто из вежливости. — Я сейчас пойду письмо опущу, а ты, будь добра, скажи, что одно место занято уже, — Он угостил Маринку конфеткой и вышел.
— Какое стечение обстоятельств! — сказал Алёша, широко раскрыв глаза то ли от восхищения, то ли от страха.
— Ничего, — успокоил я его, — может, он на следующей остановке сойдёт.
— Дожидайся! В футляре-то у него что? Аккордеон! Он работать едет. Будет целое лето в нашем лагере жить.
— Значит, будет у нас в лагере весёлая жизнь! — обрадовалась Маринка.
— Это уж точно будет, — вздохнул Алёша.
— Ты чего это меня за косу дёрнул? — вдруг вспомнила Марина. — Ты от меня рукой не отмахивайся. Я тебе не муха, а сестра. И где твой рюкзак?
— В багаж сдал. Марина!
— Что?
— Ты в общем того… Что бы ни случилось — молчи.
— Как?
— Как рыба. Ясно? Давай! Придётся нам через окно отсюда бежать.
Последние слова относились ко мне. Алёша улучил момент, когда стоящий у двери Басов отвернулся, и кивнул мне головой. Повторяя все Алёшины движения, я лёг на живот а стал сползать в окно ногами вперёд. Мы уже вылезли почта до пояса, как услышали знакомый голос старшины милиции товарища Березайко.
— Ребята, вы не видели здесь?.. — обратился он к нам, но так в не закончил вопроса, должно быть, от удивления, что есть чудаки, которые высовывают в окно не головы, а ноги. Ему ничего не стоило схватить нас за них, но он и не подозревал, что это те самые ноги, за которые он должен хватать. Не повернув головы, мы замерли, не произнеся ни звука. В такой нелепой позе мы провисели не меньше минуты. Просто чудо, что старшая вожатая не заметала нас. Потом голос старшины раздался у соседнего она, и мы опять вползли на свои полки. С ужасом посмотрели мы друг на друга.
— Что ты на это скажешь, Алёша Петухов?
— А я уже сказал, что зря мы убежали оттуда. Говорил я тебе, что они ещё с собаками по нашему следу дойдут.
— Ты мне это говорил! Это я тебе говорил насчёт собак, а ты только усмехнулся в ответ.
— С чего бы это я стал усмехаться? Я про этих собак побольше твоего книжек прочёл.
Мы начала спорить, кто из нас оказался таким умным, что первый догадался насчёт собак, но вовремя заметили Маринку, которая с подозрительным любопытством прислушивалась к нашим словам, и замолчали.
Тут в купе вошёл Басов, и мы опять отвернулись к стене.
— Марина! — закричала с перрона Алёшина бабушка. — Где же он?
— Он здесь, бабушка. Вот он, на второй полке лежит.
— Да что же он прячется от меня?
Маринка старалась дотянуться до брата рукой.
— Алёша!.. Эй, Алёшка! Уснул ты, что ли, там?
— Угу, — будто во сне пробормотал Алёша и стал очень старательно храпеть.
Басов тоже считал, что прощание бабушки с внуком должно состояться. Он потряс Алёшу. Алёша захрапел ещё громче. Басов стал трясти Алёшу двумя руками и старался перевернуть его на другой бок. Ещё бы мгновение, и он узнал Алёшино лицо, но тут загудел паровоз, грохнул оркестр и Басов кинулся к окну, чтобы помахать рукой провожающим.
Мы сделали последнюю попытку перебраться в другой вагон, но и она окончилась неудачей. Мы соскочили с полок, но не успели сделать и двух шагов по коридору, как заметили Веру, идущую нам навстречу. Мы нырнули под полки — это было единственное, что нам оставалось для спасения. Шум оркестра удалялся, колёса всё чаще постукивали на стыках.
— Поехали, — шёпотом и без всякого энтузиазма сообщил Алёша. — Придётся нам всю ночь до самого лагеря под этой полкой пролежать.
Я это понял уже и сам и решил устроиться поудобнее, положив под голову рюкзак.
— Достань-ка мне чего-нибудь под щёку подложить, — попросил Алёша.
— Ещё чего! Чтобы ты чистые вещи по полу валял?
— Ладно, попросишь у меня чего-нибудь!
— А что с тебя взять, если твой рюкзак в милиции лежит?
Но всё же я решил дать ему тряпочку, в которую были завёрнуты боты. Я развязал рюкзак, и под руку мне попалась панама.
— Алёша, смотри! — удивился я.
— Ну, вижу, панама.
— Так ведь это ж не моя.
— А ну, покажи.
Алёша повертел в руках панаму, рассмеялся, но, вспомнив, что нас могут услышать, зажал себе рот рукой. Когда приступ его дурацкого смеха прошёл, он наклонился ко мне и прошептал:
— Конечно, не твоя. — Он напялил панаму себе на голову. — И рюкзак, значит, не твой. Это ты вместо своего мой рюкзак из милиции захватил…
Как я это пережил, рассказывать не стоит. Помню только, я сказал:
— Что же, под колёса, что ли, мне бросаться теперь?
А Алёша достал мне из рюкзака свою куртку и ответил:
— На вот лучше под голову себе положи. Эх, Толя, Толя! Самое-то страшное у нас с тобой ещё впереди!
— Придумываешь ты всё, — всхлипнул я. — Хуже уже ничего не может быть.
— Будет. Придётся нам целый месяц скрываться с тобой. Будем вне закона как самые настоящие братья-разбойники жить.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Почти всю ночь, скрючившись, пролежал я на полу вагона. У меня болела шея. Но самая главная боль была у меня где-то внутри. Я не мог бы сказать, где именно, но она была. Она командовала моими мыслями, и все они были о том, что случилось непоправимое, что лето испорчено и что я самый несчастный человек на земле.
Проснувшись утром, сквозь марлевую занавеску я увидел солнце, ещё не оторвавшееся от линии горизонта. Я с удивлением осмотрелся, не понимая, как я сюда попал. Комната была маленькой, в ней с трудом уместились шкаф, тумбочка и две кровати. В комнате была только одна стена, остальных стен не было. То есть они, конечно, были, если можно назвать стенами огромные окна, затянутые марлевыми занавесками. Не сразу я сообразил, что это не комната, а терраса.
На соседней кровати, сладко посапывая, спал Петухов. И я сразу вспомнил, как на рассвете мы сошли с поезда и, стараясь попасть не на тот автобус, где ехали аккордеонист и Вера, приехали сюда. Я смотрел на Алёшу. Лицо у него было спокойное. Казалось, это спит самый рассудительный мальчишка на земле. Это потому, что озорными у него были только глаза, а когда они были закрыты, лицо становилось самым обыкновенным. Я смотрел на него и не мог понять, как это ему удалось, одурачить моих родителей. Сколько раз мама хвалила папину проницательность. Один раз он даже предсказал, что через два месяца во Франции сменится правительство. И действительно, через два месяца мама раскрывает газету и узнаёт, какой у нас папа проницательный человек. Мама тогда целое утро рассказывала об этом по телефону всем знакомым. И правда, тут было о чём порассказать. Их там, может, человек двадцать, министров этих, и ни один не знал, что им больше двух месяцев в министрах не ходить. А мой папа всё взвесил, и знал, и маме об этом рассказал.
Но тем более было удивительно, что двадцать министров не могли моего папу вокруг пальца обвести, а один обыкновенный мальчишка смог. И тогда я догадался, почему всё это произошло. Наверное, папа так никогда и не заглянул в Алёшкины глаза: дело было на юге, и Алёша, как пить дать, даже в море влезал в тёмных очках.
На дереве за окном чирикали птицы. Раньше, какой бы плохой мне ни снился сон, стоило утром за окном зачирикать обыкновенному воробью, и моего плохого настроения как не бывало. Но сейчас всё было совсем по-другому. Всё вчерашнее не сон, и никаким птичьим пением этого не отогнать.
Я стал думать, что это значит — жить вне закона. Так живут самые закоренелые преступники. Они скрываются от всех потому, что каждый может их поймать и наказать их без суда, раз закон не берёт их под свою защиту.
Конечно, мы с Алёшей не такие уж преступники. И насчёт того, что нам придётся жить вне закона, он сказал просто для красного словца. Но скрываться нам придётся всё равно. От встречи с аккордеонистом или с рыжей Верой ничего хорошего ожидать для нас нельзя.
Тут проснулся Алёша. Я сразу увидел, что настроение у него отличное. Он высунулся в окно и поглядел на небо. Потом он повернулся ко мне и сказал:
— «Мороз и солнце, день чудесный. Ещё ты дремлешь, друг прелестный…»
Я уже не дремал, а на улице была не зима, а лето, поэтому я догадался, что всё это Алёша говорит не от себя, а читает чужие стихи.
Он выглянул за дверь и убедился, что весь лагерь ещё спит. Тогда он подошёл к моей кровати и опять стал декламировать стихи. Он стащил с меня одеяло и сказал: «Одеяло убежало». Я уцепился руками за простыню, но он вырвал её и швырнул на свою постель. «Улетела простыня», — сказал он, но дальше читать стихи ему не пришлось. Я не стал дожидаться, чтобы моя подушка, как лягушка, ускакала от меня, и соскочил на пол.
Алёша считал, что нам непременно надо искупаться. Он в этом лагере был уже прошлым летом и знал самый короткий путь к реке. Даже купаться мы должны были не тогда, когда купаются все. Начиналась наша весёлая лагерная жизнь.
Лагерь мне понравился. По обе стороны посыпанной красным песком дорожки стояли двухэтажные бревенчатые домики с террасами по бокам. Построены они были в самом лесу. Пели птицы и шумели деревья. Если вы захотите написать письмо в лучшее место на земле, то можете отправлять его по этому адресу, не ошибётесь. Лагерь был обнесён забором, за которым проходила дорога. За дорогой было поле, а за полем опять лес, но бесконечный и дремучий.
Речка мне тоже понравилась.
На зарядку мы в это утро не дошли, и это нас не очень огорчило. Мы сунулись было в столовую, но из этого ничего не вышло: у самого входа сидела рыжая Вера. Казалось, она специально выбрала это место, чтобы мимо неё никто незамеченным пройти не мог. Без зарядки человек может прожить всю жизнь, а вот без еды ему и месяца, не протянуть. Было похоже, что голодной смерти нам не избежать.
Говорят, что голод не тётка. Раньше я этого не понимал. Но теперь, прислушиваясь к неприятному ощущению под ложечкой, видя перед собой в воображении тарелку с дымящейся гречневой кашей, я очень хорошо понял, что голод не тётка.
Мы улеглись в постели и решили не делать лишних движений. Нам надо было беречь свои силы. Минут десять мы пролежали молча, а потом Алёша вздохнул и мечтательно произнёс:
— Эх, Толя, заболеть бы нам с тобой!
— Зачем это? — удивился я, про себя подумав, что у него от голода помутилось в голове.
— А затем, что тогда и завтраки и обеды нам будут прямо в постель приносить.
Я ошибся: голова у него работала вполне нормально.
— Чумой бы, например, заболеть! — всё так же мечтательно продолжал Алёша.
— Хватил! Чумой теперь и не болеет никто.
— Ну холерой тогда. Лежали бы в изоляторе с тобой. Красота! Карантин! На пушечный выстрел ни кто и близко не подходи. Тогда нас не то что Верка, милиция с ищейками и то бы не нашла.
Мы стали мечтать, как здорово было бы целый месяц проваляться в постели. Только мне больше нравился сыпной тиф: при нём состригают волосы, значит при такой жаре это очень подходящая для нас болезнь. Мы до того размечтались, что даже не заметили, как отворилась дверь.
— Вот вы, оказывается, где! — услышали мы и, от неожиданности подскочив на кроватях, кинулись к окну.
— Что это у вас за игра? — спросил тот же голос, и только тогда мы сообразили, что это Марина.
— Игра, — как можно безразличнее ответил Алёша. — Знакомься, Толя, это Маринка, моя сестра.
Я пожал девчонке руку, хотя мы уже познакомились с нею в вагоне. Маринка внимательно посмотрела на меня и прыснула со смеху. После купанья я напялил на себя Алёшины штаны. Они не сходились у меня на животе, и пришлось подвязать их шпагатом. Я хотел дать ей затрещину, но вспомнил, что она ещё маленькая, и решил не обращать внимания на этот смех. Маринка смеялась, а мы молчали. Ни один мускул не дрогнул на наших кислых физиономиях, и тогда Маринка тоже перестала смеяться.
— А у нас комната тоже на двоих, — сообщила Маринка, — я в ней вместе с Верой живу. Я боялась в незнакомой комнате спать, а она говорит: «Не трусь, если что-нибудь — разбуди меня». Она вчера двух преступников поймала и сама в милицию их отвела.
Мы с Алёшей переглянулись, и он спросил у сестры:
— Так прямо и сказала? Она небось сказала «хулиганов», а ты ходишь тут и болтаешь всякую ерунду. И Верке скажи, чтобы она про этих хулиганов своих сказки не рассказывала ребятам. Всё равно никто не поверит. Только засмеют.
— Не засмеют, — убеждённо ответила Маринка. — На неё кто ни посмотрит, сразу увидит: она не то что хулигана — разбойника встретит в лесу и того в милицию отведёт… А что это вы скучные такие? Хотите, я вас с Верой познакомлю? Сейчас я её к вам приведу.
— Марина, стой! — закричал Алёша, кидаясь за ней вдогонку. — Ты к нам никого не приводи. Я, понимаешь, того… заболел.
— Ну да? — недоверчиво посмотрела на брата Маринка. — Ты же вчера совсем здоровым был.
— Живот у него болит, — хмуро сказал я.
— Сильно? — обеспокоилась Маринка.
— Не очень, пройдёт, — пряча глаза, ответил Алёша.
— Холера у него, — уточнил я, но на Маринку это слово не произвело никакого впечатления.
— Холера — это ничего, — обрадовалась она, — главное, чтобы простуды не было. И солнечного удара.
Алёшино внимание привлёк оттопыренный карман на фартуке его неразумной сестрёнки.
— Чего это у тебя? — спросил он.
— Хлеб.
— А ну, покажи! — оживился Алёша и, словно не веря своим глазам, понюхал ломоть. — Да-а, хлеб!
— Я его с пола подняла. Пойду сейчас рыбок в пруду кормить.
Маринка протянула руку за хлебом, но Алёша поспешно сунул его к себе в карман.
— Ишь ты! Сама с пола не станешь есть, а рыбкам, значит, всё равно?
— Чудак он у меня человек, — обращаясь ко мне, словно оправдывая брата в моих глазах, сказала Маринка.
— Ладно, иди, — подтолкнул её к двери Алёша.
— До свидания, мальчики. Я к вам попозже зайду.
Как только дверь за Мариной закрылась, мы разломили хлеб пополам и набили им полные рты.
— Мальчики! — раздалось за нашими спинами, и мы дружно поперхнулись. В окне цвела доброжелательная улыбка Марины. — Вы до обеда не ешьте ничего.
— М-мм, — пропели мы в знак согласия.
— Может, врача к вам позвать?
— М-мм! — энергично промычали мы, качая головами.
Маринка исчезла, и мы тут же проглотили всё до крошки. Только есть нам после этого захотелось ещё больше. Алёша вспомнил, что зимою у него в рюкзаке лежало печенье, и если поискать хорошенько, то его можно там и найти.
Все вещи из рюкзака мы высыпали на кровать и запустили туда сразу четыре руки. Алёша не ошибся: печенье у него в рюкзаке действительно было. Только теперь оно превратилось в крошки. Мы вытряхнули целых три горсти и разделили их пополам. Я ещё ни разу в жизни не едал такого вкусного печенья. Я запихивал крошки в рот и запивал их водой из графина.
И вот тут-то Алёша и заметил среди вещей, конверт и скатанный в трубочку носовой платок. Он повертел конверт и прочёл на нём: «Пеночкину Степану Петровичу». Потом раскатал платок и достал оттуда деньги. От удивления он даже захлопал глазами.
— Гляди! Деньги — десять рублей!.. Толя! Это не моё — и деньги и письмо.
— Ясно не твоё, — сразу догадался я, — это ты, когда с мостовой вещи хватал, по ошибке платок и конверт к себе в рюкзак положил.
— Правильно. Смотри, на конверте слово «Срочно» два раза подчёркнуто красным карандашом. Надо письмо и деньги Вениамину Павловичу передать.
— Попробуй передай. Он тебя сразу за шиворот — и в Москву. Вот, мол, те, что чемоданы хотели у меня украсть.
— А если Маринку попросить отнести?
— А он у Маринки спросит, кто ей эти вещи передал?
— Да-а! А может, подбросить ему это письмо?
— Подбрось. Он сразу поймёт, что преступники где-то рядом. Искать начнёт.
— Положение! Что же делать теперь?
— Надо письмо на почту отнести.
— А деньги?
— Деньги тоже можно по почте переслать.
Алёша опять повертел письмо, и вдруг мы заметили, что адреса на конверте нет. Вместо него начерчен план, и под нимвсё написано, что надо идти «от лагерных ворот до станции Завалишино — 3 км. От станции налево, до деревни Клишевы, 1 км».
— Это письмо студенту кто-нибудь с оказией передал, — сообразил Алёша, — придётся нам самим его по адресу отнести.
Услышав это, я даже жевать перестал.
— Мало тебе, что в преступники попал?! Опять нос не в своё дело суёшь?
— Да ведь прочти: «Срочно»!
— Ну, и пускай «Срочно». Мало ли что на конверте можно написать? Это тебе не пакет, а обыкновенное письмо. И ты не связной, а обыкновенный мальчишка. Вот увидишь: свяжешься с этим письмом — опять в беду попадёшь.
Тут хлопнула дверь, и на террасу вбежала Валентина Степановна. Она была взволнована и устремилась прямо к Алёше.
— В постель! Немедленно в постель! Что у тебя в руке?
Опешивший Алёша раскрыл ладонь, и старшая вожатая безжалостно стряхнула на пол целых два глотка замечательных крошек. Потом она выхватила у меня графин и понюхала воду.
— Вода может, быть сырой, вылей её, Корзинкин. Покажите языки.
Мы, словно загипнотизированные, послушно высунули языки.
— Что у тебя болит, Петухов?
— У меня? Ничего у меня не болит, — ответил Алёша и вдруг догадался о причине внезапного и бурного появления вожатой на нашей террасе. — Да что вы, Валентина Степановна! Эту Маринку прямо хоть на цепь сажай. О чём ни услышит, сразу всем рассказывать побежит. Никакой я не больной. Это я всё в шутку сказал.
— Глупые шутки, Петухов.
Валентина Степановна сразу успокоилась, повернулась и сказала уже в дверях:
— Сырой воды не пить! Ягод не рвать! Ещё съедите по ошибке какую-нибудь дрянь! За лагерные ворота ни на шаг — под машину попадёте ещё!
— Какие уж тут машины, в лесу!
— Есть. На соседней птицеферме одна да в леспромхозе две.
— Ладно, Валентина Степановна. Это мы всё будем выполнять. А можно нам сейчас на почту сходить? — спросил Алёша и, предупреждая возражения, поспешно добавил: — Мы, понимаете, обещали, как только приедем, телеграммы родителям дать. Они даже деньги дали нам. Видите? Десять рублей.
Валентина Степановна для чего-то взяла протянутые Алёшей деньги и задумчиво повертела их в руках.
— Вместе с Корзинкиным тебя отпустить?
— А я на почту не собираюсь идти, — подчёркнуто, не столько для вожатой, сколько для Алёши, сказал я. — Мои родители и открыткой обойдутся вполне.
— Хорошо, — подумав, сказала вожатая, — если ты дашь мне честное слово…
— Честное слово! — с готовностью произнёс Алёша.
— Что честное слово?
— Что я не попаду под машину и не буду с дороги сворачивать в лес…
— И купаться в реке, — подсказала вожатая.
— И купаться в реке, — послушно повторил Алёша.
— То я разрешаю тебе отправиться на почту.
А ты, Корзинкин, пойди к Вениамину Павловичу и помоги ему ручку к чемодану приделать; совершенно он беспомощный у нас в этом смысле человек.
— К Вен-н-ниам-м-мину П-павловичу?! — заикаясь, переспросил я и бросился вслед за вожатой. — Валентина Степановна! Вспомнил! Мне непременно на почту надо попасть: как раз в это время мама будет мне по телефону звонить…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Алёше было хорошо: он топал по шпалам босиком, а я шёл в его сандалиях и ремешок натирал мне ногу. Чтобы переслать деньги на почту в Завалишино, нам пришлось шагать на соседнюю станцию. Старичок на переезде сказал, что до неё километров пять, только не знаю, кто их отмерял, эти километры. Наверное, он, мерил их шагами, а шёл на ходулях, не иначе. От столба к столбу мы шли не меньше часа. Это только из окна вагона весело смотреть, как мелькают километровые столбы. Навстречу пешеходам они ползут, как улитки.
Алёша смотрел на природу и говорил, что она красивая. А я смотрел под ноги и старался наклонить голову так, чтобы видеть, как дорога уходит назад. Даже на поезде и автомобиле, когда смотришь назад, а не вперёд, кажется, что едешь быстрее.
Наконец за поворотом показались заводские трубы, а потом и станционные здания. Станция называлась Перегудово. Алёша направился к почте, а я сказал, что подожду его на скамеечке в тени. Как только дверь за Алёшей закрылась, я вскочил и бросился за угол вокзала: когда мы проходили мимо, я заметил там маленький пристанционный базар. Поезд ещё не подошёл, и у прилавка я оказался один. У меня даже слюнки потекли от вида всего этого изобилия. Тут были и яйца, и варёные куры, молоко, простокваша, овощи и фрукты. Если бы у меня хватило денег, я купил бы и проглотил, не переводя дыхания, всё, что уместилось на этом столе. Но в кармане у меня было только шестьдесят копеек. Делиться с Петуховым было бы просто глупо. Если каждый из нас съест на тридцать копеек, мы оба будем голодны, а так хоть один из нас будет сыт.
Я выбрал себе большую жареную рыбу за пятьдесят копеек и кучку рыжих огурцов за десять копеек. Рыба была зажарена в сухарях. К скамейке я нёс её двумя руками, не в силах оторвать от неё глаз. Но не успел я поднести её ко рту, как меня по спине стукнул Алёша.
— Видал! Людоед проклятый! Я его по всей площади ищу, а он на базар убежал! Чего это у тебя? Ух ты! Рыба! Жареная! Тёплая ещё небось. Ты погоди, сначала дело сделаем, а тогда и поедим. Слушай, Толя, деньги у тебя есть?
— Нет.
— Как же нет, если ты вон какую рыбину купил! Давай мне пятьдесят копеек.
— Говорят тебе, ни копейки не осталось.
Я опять поднёс рыбу ко рту, но Алёша вырвал её у меня из рук.
— Стой! Не надкусывай!
— Не бойся, не отравлюсь.
— Травись на здоровье, только чем-нибудь другим. Стой! Огурец тоже кусать не смей. Иди продукты отдай, пятьдесят копеек обратно заберём. Нам как раз пятьдесят копеек нужны. Понимаешь, чтобы десять рублей телеграфом перевести, надо ещё пятьдесят копеек заплатить.
Я уже давно понял, что Петухова не переспоришь. Если ему какая-нибудь мысль в голову взбредёт, всё равно выйдет, как скажет он.
Я пошёл обратно на базар и, стараясь не глядеть на рыбину, положил её на прилавок перед бабкой.
— Вот, — сказал я, — я эту рыбу даже и не надкусил. Вы её, пожалуйста, обратно заберите и отдайте мне пятьдесят копеек.
— Али не по вкусу пришлась? — нахмурившись, спросила бабка.
— Говорю, не попробовал. А только рыбина мне ваша не нужна. Мне сейчас деньги нужны.
— Глядите-ка, люди добрые, — разводя руками, зашумела бабка, обращаясь к соседям по прилавку, — купил у меня рыбу, унёс, а теперь обратно товар у него принимай! А где это сказано, чтобы товар обратно принимать? А может, он жулик, и это уже не рыба, а обыкновенная палка, обвалянная в сухарях?
— Да что вы, бабушка, — смущаясь от такого неожиданного наскока, сказал я, — разломайте её пополам, поглядите. Что я, рехнулся, что ли, чтобы палки обжаривать в сухарях?
— Ишь ты! Рыбу ему пополам ломай! А кто её, люди добрые, купит тогда у меня? Вот если у тебя претензия есть, тогда оборот дела выйдет другой. Вот ты попробуй её и, ежели она, скажем, горчит, по полному своему праву деньги обратно стребуй с меня… Только надкусанную рыбу я обратно тоже не обязанная принимать.
Я уже хотел было эту рыбу забрать, но тут как раз подошёл поезд и нас обступили пассажиры. Они были в пижамах, халатах и тапочках на босу ногу. Они бегали вдоль прилавка, заглядывали через плечи протиснувшихся вперёд, наспех щупали яблоки и нюхали малосольные огурцы.
Бабка сразу отодвинула от себя мою рыбину и стала кричать надтреснутым голосом:
— А вот рыба! А вот свежая рыба! С утра из речки, в обед из печки!
Женщина с очень толстыми накрашенными губами протиснула руку к рыбине, лежащей на прилавке. Пальцем, на котором было надето огромное кольцо, она дотронулась до хвоста и спросила:
— Сколько?
Я не успел ей ответить. Пока я сообразил, что она собирается купить уже купленную мной рыбину, её оттёрли от прилавка, и она побежала приценяться к живым курам. Передо мною оказался мужчина в соломенной шляпе, с толстым лоснящимся лицом. Он посмотрел сперва на бабкины рыбины, потом на мою. Моя была лучше, я выбрал у бабки самую красивую и большую. Мужчина быстро завернул мою рыбину в газету и достал деньги.
— Сколько тебе за этого пескаря в сухарях? — спросил он, протягивая мне рублёвую бумажку.
— Шестьдесят копеек, — быстро ответил я, — только, дяденька, у меня сдачи нет.
— Можно и без сдачи, — согласился мужчина и, протянув мне три монетки, исчез.
Увидев, как ловко я продал рыбину, бабка вдруг стала совсем не своя. Она выскочила из-за прилавка, растолкала вокруг меня народ и, когда я оказался в пустом пространстве, встала напротив меня и закричала, тыча мне в грудь пальцем:
— Эй, люди добрые! Поглядите на этого огольца! В бесстыжие его глаза поглядите, добрые люди!
Она кричала так громко, что все послушались и стали глядеть мне в глаза.
— Это ведь ни один последний купчишка в старое время себе такого нахальства не позволял. Да это кто же тебя к такому спекулянству с малых лет приучил? Полюбуйтесь, люди добрые! Купил у меня рыбку за пятьдесят копеек и тут же за шесть гривен перепродал!..
Как только я это услышал, я почувствовал, что похолодел. Я совсем забыл, что за шестьдесят копеек купил не только рыбину, но и кучку огурцов, которые сейчас лежали у меня в кармане. Я готов был провалиться сквозь землю. Но ведь это только легко сказать — провалиться. Я часто слышал, что многие готовы были это сделать, но ни разу не видел, чтобы кому-нибудь это удалось. Я знал, что стоять и ждать, пока земля разверзнется подо мной, пустая трата времени. Я растолкал людей и побежал к поезду. Бабка что-то кричала мне вслед, но я не слышал что.
Я бежал снова вдоль состава и заглядывал в окна. Я боялся, что, если не отдам своему покупателю огурцы, всю жизнь я буду краснеть, если при мне скажут это страшное слово «спекулянт».
Поезд уже тронулся, а я всё ещё бежал вдоль вагонов, обгоняя их. До конца платформы осталось уже каких-нибудь шагов пятьдесят, когда я увидел, наконец, соломенную шляпу.
— Дяденька! — задыхаясь от бега и волнения, закричал я и швырнул в окно один огурец. Он посмотрел в окно, узнал меня и помахал мне рукой. Тогда, продолжая бежать, я швырнул в окно второй огурец, и мой покупатель едва уклонился от него. Я одной рукой протягивал ему деньги, а другой показывал на них. На лице покупателя появилось недоумение.
— Ты что? — спросил он, высовываясь из окна. Обсчитал я тебя?
Но я не мог сейчас сказать ни слова. Я швырнул в окно третий огурец, но неудачно. Он сбил с моего покупателя шляпу. Лицо у него сделалось сердитым. Он погрозил мне кулаком и вдруг поступил совершенно неожиданно для меня. Он схватил со столика купленную рыбину и, размахнувшись, швырнул её под ноги мне.
Я остановился и стоял, пока за поворотом не скрылся последний вагон.
Он не понял меня, этот гражданин в соломенной, шляпе. Он решил, что я считаю себя обманутым и явился потребовать ещё денег. И теперь я уже ничего не смогу объяснить ему.
Я поднял рыбину и швырнул её в урну. В кармане у меня остался ещё один огурец. Я бросил его на землю и растоптал ногой.
Потом я отправился на почту, сразу же решив ничего обо всём этом не рассказывать Алёше. Я размышлял о том, как трудно быть спекулянтом. От кого-то я слышал, что они здорово наживаются. Но если каждый раз, чтобы заработать один рубль, надо со стыда проваливаться сквозь землю, то мне тогда и наживы не нужно никакой.
Алёша сидел на почте и сочинял те несколько слов, которые можно было написать на бланке телеграфного перевода. Я ещё раньше предложил написать так: «Страдающие по недоразумению Толя и Алёша», — но ему это не понравилось. Он сказал, что придумает попроще. Я не видел, чего он там сочинял, но писал он старательно, обдумывая каждое слово, поглядывая на потолок.
— А я думал, ты эту рыбину съел. От тебя всего можно ожидать, — сказал Алёша, взяв протянутые мной деньги, и пошёл к окошечку сдавать перевод.
Дежурный, усатый дяденька в форме связиста, должно быть, решил, что Алёша убежал из сумасшедшего дома. Я сам видел, как у него полезли на лоб глаза, когда он читал бланк нашего перевода. У меня с глазами было то же самое, как только мне, заглянув в окошечко, удалось прочесть, что он там понаписал: «Примите сей дар с совершеннейшим к вам почтением, с уверением, что вы всегда можете положиться на неизвестных вам друзей». В здравом уме ни за что такого не сочинишь. Хорошо, что нет закона, запрещающего психам пересылать деньги по телеграфу, а то я просто не знаю, чем бы всё это кончилось.
Перечитав раза три Алёшино творчество, дежурный выписал нам квитанцию, и с чувством, как сказал потом Алёша, исполненного долга мы покинули почту.
Пока мы были на станции Перегудово, дорога на Завалишино успела вырасти вдвое. Мне показалось, что она стала не короче расстояния от Ленинграда до Москвы. А вот обещанный километр от Завалишино до Клишевы оказался самым обыкновенным, состоящим не из десяти тысяч метров, а из одной.
Это потому, что с самого утра мы топали по солнцепёку, а этот километр шли лесом. Мне даже дышать легче стало, когда огромные деревья обступили нас со всех сторон.
Мы нашли две сыроежки и съели их. Не знаю, кому это пришло в голову назвать их сыроежками. Весь остаток пути мы плевались.
Лес кончился сразу, и мы увидели деревню — домов двадцать на берегу реки, той самой, на которой чуть выше по течению стоял и наш лагерь. Сверяясь с планом на конверте, мы перешли через мост и остановились перед четвёртым домом справа. Дом был за невысоким забором, огороды за ним спускались к самой реке. На дворе лежало несколько брёвен и перевёрнутая лодка. Алёша постучал в калитку и крикнул:
— Эй, кто-нибудь! Люди добрые! Пустите в теремок!
На крыльце появился человек. Он был стареньким. Он был знакомым. Он был тем самым, который повис по нашей милости на ветке. Он был нашим врагом номер три.
Про цепную реакцию я вам уже говорил. Теперь я хочу сказать о другой удивительной вещи: почему это нам в жизни так не везёт? Иногда с соседями по году не встречаешься в Москве, и вдруг — на тебе! — посторонние люди, а будто сговорились: куда ты, туда и они…
Мы повалились в высокую траву и прижались к забору. Нас спасла близорукость старика. Он подошёл к калитке, постоял над нами и, пробормотав: «Мерещится всё на старости лет», — повернул обратно к дому.
— Эх, Алёша! — горестно прошептал я. — Прямо хоть в омут головой. Судьба!
— А, какая там судьба! — следя за стариком, шёпотом ответил Алёша. — Стечение обстоятельств, десятый раз тебе говорю… Как же теперь письмо? Один словом, Толя, придётся идти на риск. Носовой платок у тебя есть?
— Зачем? — настораживаясь, спросил я, потому что риска не любил.
— Надо будет нам с тобой щёки подвязать.
— Заговариваешься ты.
— Чудак человек. Не понимает. Ну, как будто зубы у нас болят. Вот, гляди…
Алёша достал носовой платок, подвязал им щёку, сделал узел на макушке и скорчил самую глупую из всех своих гримас.
— Похож?
— На кого?
— На себя, бестолочь! На кого же ещё?
— На сумасшедшего ты похож.
— Вот видишь, — обрадовался Алёша, — нипочём нас не узнать.
Пришлось мне тоже подвязывать щёку и натягивать панаму на самые глаза. Но так просто подчиниться ему я не мог и поэтому проворчал, вкладывая в свои слова всё ехидство, на какое был только способен:
— Жаль, что у нас медалей за благородство не дают. А надо бы тебе самую большую медаль повесить на грудь. Глядите, мол, все, вот он, герой, что привык, не подумав, сплеча рубить, чтобы нормальные люди и близко не подходили к тебе.
Мы поднялись и Алёша закричал хриплым голосом:
— Дедушка, а дедушка! Пеночкин Степан Петрович здесь живёт?
Старик обернулся и, прищурясь, посмотрел в нашу сторону.
— Входите, входите, не бойтесь. Собак не держу.
— Вы лучше попросите, чтобы он сам вышел сюда.
— Ну что ж, можно и так, — согласился старик и подошёл к калитке: — Вот он я, Пеночкин Степан Петрович. С чем пожаловали к старику?
Мы с Алёшей переглянулись и вдруг начали строить такие рожи, каких и в обезьяньем питомнике не увидишь.
— Что это вы? — удивился старик.
— Зубы у нас болят, — чужим голосом объяснил Алёша и Степан Петрович сочувственно покачал головой.
— А ведь мы встречались никак, — словно вспомнив что-то, произнёс он, — ваша личность мне вроде знакома.
Он приблизил ко мне своё строгое лицо, и я уже готов был повернуться и бежать, но он неожиданно мягко спросил:
— Не вы ли это в прошлом году из лагеря приходили по хозяйству мне помогать?
— Ну да, — облегчённо вздохнул я, — конечно, мы. А я вот тоже стою и думаю, где же это я видел вас. Здравствуйте, Степан Петрович.
— Здравствуйте, здравствуйте, добры молодцы — Он пожал нам обоим руки. — Пришли, значит, навестить старика?
— Мы ещё и письмо вам привезли, — сообщил Алёша. — Нас в Москве просили: зайдите, говорят, передайте письмо.
— Кто говорил? — спросил Пеночкин, принимая конверт.
— Ну… они, — растерялся Алёша.
— Кто «они»? — Степан Петрович поднёс конверт к самым глазам. — Сын, стало быть?
— Ну да, сын.
— Я ведь стар, стар, а сразу вижу, его рука. В Москву вчера ездил к нему, да малость припоздал. В Ташкент он улетел, на концерт. Профессор он у меня, музыкант.
Степан Петрович отвернулся от нас, вскрыл письмо и, словно бы между прочим, сказал:
— Шефы, те что по хозяйству приходили мне помогать… один рыжий был, на голову повыше вас, а другой в очках.
Мы сразу поняли, к чему он это говорит. Нам показалось, что сейчас он резко обернётся и схватит нас за шиворот обоих. Чтобы не дожидаться этого, мы стали на цыпочках отступать к калитке.
— Впрочем, это я про позапрошлый год говорю, — сказал старик, и мы остановились. — Тоже славные ребята были, из тех же тимуровцев, видать… На брёвнышко садитесь, вот сюда.
Старик углубился в письмо, а мы насторожённо следили за ним. Нам казалось, он играет с нами в кошки-мышки. Мы никак не могли понять: узнал он нас или нет.
— Ну, спасибо, ребятки, — Степан Петрович снял очки и положил их в карман. — Вовремя письмо доставили.
Алёше сразу же захотелось увидеть в этом какой-нибудь необыкновенный поступок. Очень желая, чтобы было именно так, он спросил, значительно глядя на меня:
— А если бы не доставили, то беда могла бы случиться, да?
Но старик не дал ему вознестись в моих глазах.
— Зачем же беда? Просто человека я мог подвести. Пишет сын, что приедет сюда на рыбалку один его фронтовой друг. Десять лет об этом мечтал, всё выбраться не мог. Должен я, стало быть, лодку подготовить для него.
Степан Петрович опять надел очки и проверил какую-то строчку в письме:
— Ну, а кто же из вас на аккордеоне мастер играть?
Мне послышался в этом вопросе подвох, но врать у меня не было причины.
— Я мастер играть. А что?
— Значит, — сказал старичок, присаживаясь рядом с нами и поглаживая колени, — будет у меня к тебе дело деликатного свойства. Что же ты, шутник, не сказал, что вы с моим сыном давние друзья.
Я даже приподнялся от неожиданности. Но Алёша дёрнул меня за рубашку, и я шлёпнулся обратно.
— Ну, конечно, давние друзья, — поспешно ответил он вместо меня. — Вот чудак человек! Сам же мне об этом сто раз говорил, а теперь удивляться решил.
Старик оглядел меня с ног до головы.
— Гм… Пишет сын, что знает тебя шестнадцать лет, с тех пор, когда ты ещё только чижика-пыжика на рояле играл.
— Ну да, — подхватил Алёша и осёкся. Потом он смущённо погладил меня по голове и сказал, пытаясь изобразить на лице улыбку: — Вундеркинд.
— Выходит, родиться не успел, а уже на рояле бренчал, — без улыбки посмотрев на нас, сказал Степан Петрович. — Описка тут, видать. Рассеян он у меня, сын.
— Профессор, — сочувственно вздохнул Алёша.
— А пишет сын о том… — Старик опять развернул письмо. — Вот лучше я вам его доподлинные слова прочту: «Доставит тебе это письмо Веня, мой ученик. Кроме всего прочего, он превосходно играет на аккордеоне. По этому случаю такое у меня поручение к тебе: поговори, старик, от моего имени с ним. Тут приезжал ко мне на днях директор вашего леспромхоза, что за рекой, тот самый Витюша, с которым я лет тридцать назад рыбу за Петровский мост глушить ходил. Между прочим, рассказывал, что в субботу вечер самодеятельности состоится у них. И певцы, и чтецы, и танцоры — все у них есть, а вот с баянистом беда. Пообещал я им Вениамина, который всё лето будет в лагере, километрах в десяти от них. Да закавыка в том, что приедет он за этим письмом, когда я уже в дороге буду. Объясни ему. Очень я на тебя надеюсь, старик…» Вот дело, какое. Что же, мне уговаривать тебя? Или сам в ситуацию вник?
Я до того опешил, что не мог сказать ни слова, и это моё молчание Степан Петрович принял за согласие.
— Ну, вот и хорошо. Сказано тут, что сегодня в семь часов вечера будет тебя леспромхозовская машина ждать возле лагерных ворот. Спасибо. Не заставил старика упрашивать себя. Пожалуй, стоит и медком вас за это угостить.
Старик поднялся и ушёл за дом.
— Ну, — сказал я, — доигрался, Дон-Кихот!
— Почему же я? — невинно улыбнулся Алёша. — Сам выскочил, сказал, что на аккордеоне играет. А я теперь виноват!
— Так разве я знал, для чего он спрашивает меня? Людей подведём.
— Не подведём.
— Аккордеона-то у меня всё равно нет. И что ты командуешь всё?
— Вениамин! — послышалось из-за дома — Вениамин!
Алёша толкнул меня в бок, и я сообразил, что это зовут меня.
— Чего, дедушка?
— В сотах больше любишь или так?
— Так. Ну, погоди, Петухов, посчитаюсь я с тобой за всё, что по твоей милости за эти два дня пережил.
Степан Петрович принёс банку мёда и сказал, чтобы мы забирали её с собой. Не век же нашим зубам болеть.
— Так, значит, не подведите старика, поскольку понадеялся на меня сын, — говорил он, провожая нас до калитки. — Сегодня в семь у ворот.
— Не сомневайтесь, дедушка, — пообещал Алёша, — не подведём.
— И людям приятность, и вам без труда. Ну не забывайте старика. — Он пожал нам руки, хитро, прищурился и, опять, словно бы между прочим, спросил:
— Там ещё сын о посылочке написал, дескать посылаю тебе её вместе с письмом…
— По-по-посылочка? — захлопал глазами Алёша. — Ах, по-по-посылочка! Посылочка есть. А как же! Правда, Толя? Посылочка есть, Только мы это… забыли её захватить.
— А вы не волнуйтесь, — зло сказал я. — Он вам её завтра с утра принесёт.
Старик очень внимательно посмотрел на меня и ласково ответил:
— А я и не волнуюсь. Только почему же он?
Вместе приходите, нравитесь вы мне. Ну, счастливого пути…
По дороге в лагерь, проходя через лес, я вспомнил поговорку, в которой всё было про нас и всё было правдой: «Чем дальше в лес, тем больше дров».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Домой мы вернулись уже после обеда. Весь лагерь спал. Только один мальчишка суетился на берегу. Он швырял в воду комья земли и выкрикивал: «По левому борту глубинными бомбами огонь!.. По правому борту глубинными бомбами огонь!» Это был один из братьев Рыжковых, тех самых, что считались самыми отъявленными фантазёрами на нашем дворе. Митя был на год старше своего брата Кости, но считался младшим, потому что Костя был заводилой. Я не привык видеть их по отдельности, они, как сиамские близнецы, всегда были вместе. Они до того были одним целым в моём представлении, что я путал их имена, хотя братья были совсем не похожи друг на друга: Митя был чёрным и упитанным, Костя — белобрысым и худым. Только по оттопыренным ушам и можно было догадаться о их родстве. И вот теперь, увидев знакомые уши, я принялся отыскивать глазами вторую пару ушей. А Митя всё швырял в воду комья земли и при помощи своей бурной фантазии называл это сбрасыванием глубинных бомб.
— Вижу масляные круги, — доложил он сам себе, — одна лодка потоплена, товарищ капитан.
— Слышу шум моторов, лодка продолжает уходить, — сказал Алёша и подошёл к Мите.
Он включился в игру, не считая нужным даже познакомиться с мальчишкой. Наверное, он считал обстановку боевой, и церемонии показались ему излишними. Митя мельком взглянул на него и, ничуть не удивившись его появлению, доложил кому-то третьему, кого обыкновенный человек не увидел бы, если бы даже смотрел в микроскоп:
— Товарищ капитан, радисты докладывают: слышен шум моторов.
Митя превратил Алёшу в радиста, но не такой Петухов был человек, чтобы позволить командовать собой даже в игре.
— Лево руля! — приказал он, тем самым превратив себя в капитана.
— Есть лево руля, — отозвался Митя и двумя руками начал перебирать воображаемый руль.
— Вижу перископ! — заорал Алёша и ткнул пальцем вправо.
Я знал, что перископ этот так же невидим для нормального человека, как и капитан, которому докладывает Митя, но всё же посмотрел туда. К удивлению, я и в самом деле увидел над водой перископ. Он плыл вдоль берега вниз по течению, и четыре пригоршни земли (четыре глубинные бомбы) тотчас обрушились на него. Подводная лодка поднялась на поверхность и погрозила вражеским кораблям кулаком. По оттопыренным ушам я сразу узнал Костю. Во рту у него была изогнутая трубка, а на лице маска, в которой он был похож на лягушку. Костя выскочил на берег и шлёпнулся на песок. Из командира подводной лодки он превратился в командира десантной группы. То, что он сам это считал, меня не удивило. Было удивительным, что Алёша и Митя каким-то чудом догадались о его превращении и тоже шлёпнулись на животы, отдавая себя под начало новоявленного командира.
— Ложись! — скомандовал мне Алёша, и я, считая всё это глупым и смешным, нехотя опустился на четвереньки.
— К вражескому доту, на приступ — вперёд!
«Вражеским дотом» была большая зелёная будка, где девочки могли переодеваться после купания. Когда мы доползли до неё («под ураганным огнём артиллерии», — как нам сказал Митя), я перевернулся на спину и заявил:
— Ну вас к чёрту с вашей дурацкой игрой. Я вам не черепаха, чтобы живот по земле волочить.
И вдруг, будто гром средь ясного неба, откуда-то раздался громкий, негодующий голос:
— Почему молния не испепелит твой преступный язык за эти нечестивые речи?
— Ой! — сказал я и на всякий случай перевернулся опять на живот.
А ребята раскрыли рты от удивления и, затаившись, глядели друг на друга, пока к командиру группы не вернулась способность говорить.
— Приказываю отступать! — шёпотом скомандовал он, но чей-то невидимый голос гневно произнёс:
— Ты, червь, будешь приказывать? А если на твоё приказание ответят презрительным смехом?
Голос был женским. И мы уже поняли, что исходил он из фанерной будки. Алёша влезал на плечо Косте, чтобы заглянуть за фанерную перегородку, а таинственный голос в это время завывал:
— Я чувствую в себе силы коня, мечущего из ноздрей искры, ярость тигрицы, преследующей победно ревущего похитителя её детёнышей.
Я никогда не видел людей, которые умеют говорить так непонятно красиво, и очень хотел узнать, кто это там упражняется сейчас в своём необыкновенном красноречии.
Алёша поднимался всё выше, но тут в лагере прозвучал горн, хлопнула фанерная дверь с противоположной стороны будки, и там стало тихо.
Мы вошли в будку и на единственной полочке нашли книгу, прикрытую лопухом.
— Всё ясно, — сказал Алёша, — репетиция. — И показал обложку, на которой было написано: «Шиллер. Разбойники. Драма в пяти действиях».
Не прошло и двух минут, как наша десантная группа превратилась в разбойников, тех самых, о которых рассказывается в знаменитой пьесе.
Я и раньше знал, что Фридрих Шиллер — великий драматург. Но никогда мне не приходилось читать его пьесы. Герои Шиллера не похожи на обыкновенных людей. Они не разговаривают, а восклицают.
О! О! О! — стоит на каждой странице этой замечательной пьесы.
«Ты мне снился всю ночь», — могу сказать я приятелю, и это будет самая обыкновенная фраза. «Ты царил в моих сновидениях», — скажет герой шиллеровской пьесы, и надо поломать себе голову чтобы понять, что он хотел этим сказать.
Любой мальчишка может сказать про себя: «Я был болен». А вот если бы он сказал: «Я лежал на одре болезни», — все вокруг аплодировали бы ему, потому что только великий драматург может придумать такие непонятные слова.
Ребята были в восторге. Свирепое выражение появилось на их лицах. Они раскрывали книжку то на одной странице, то на другой и по очереди читали разные роли.
— По моей вине они окружены, — прорычал Алёша, воздевая руки к небу. — Ребята, или погибнем, или будем драться, как раненые вепри.
— Э! — прочитал Митя, потрясая кулаком. — Э! — произнёс он ещё раз и умолк. И тут же два указательных пальца упёрлись в страницу, показывая знаменитому разбойнику потерянную строчку.
— Э, да я, распорю им клыками брюхо, так что у них кишки повывалятся! — залпом выпалил Митя. — Веди нас, атаман! За тобою — в огонь и в воду!
— За-ря-дить все ружь-я! — по складам скомандовал Алёша. — По-ро-ху дос-та-точ-но? — не очень бегло осведомился он и опять передал книгу Косте, который тут же завопил:
— Швейцар! Вскакивая!..
Алёша и Митя с удивлением посмотрели на Костю и проверили его слова по книге.
— Чего вскакивая? — спросил Алёша, найдя глазами нужную строчку. — И при чём тут швейцар? Не швейцар, а Швейцер. Это в начале строчки фамилия написана, чтобы всем было понятно, что это сейчас не я, а ты будешь говорить. А «вскакивая» написано в скобках.
— Ремарка, — подсказал я из угла, откуда наблюдал за этим представлением.
— Верно. Это называется ремаркой. Это автор из скобок подсказывает, как тебе эти слова произносить. Ясно?
— Ясно.
— А если ясно, так вскакивай и произноси.
Швейцер — он же Костя — подпрыгнул и закричал:
— Пороху столько, что от него… что от него земля могла под… могла бы подпрыгнуть до самой луны!
Это было здорово! Даже я позавидовал артистам, которые могли при всех произносить такие красивые фразы. Ребята вырывали книгу друг у друга и вопили наугад одну строчку на одной странице книги, другую — на другой.
— Перестань ругаться… не то я…
— Король плутов! Великий Могол всех мошенников на свете!
— Злодеяния, вопиющие к возмездию и взывающие к трубе архангела, которая возвестит конец мира!
Последняя фраза была настолько великолепна своей полной бессмыслицей, что от восторга у Алёши захватило дух. Он прочёл её ещё раз, потом уже наизусть — третий, и только тогда заметили, что в дверях стоит старшая вожатая Валентина Степановна.
— Зачем вы взяли эту книгу? — спросила она, протягивая за нею руку.
Ребята даже растерялись оттого, что придётся сейчас опять говорить самыми обыкновенными словами.
— Эту книжку мы нашли… вот здесь, — не сразу ответил Алёша.
— Найти можно то, что потеряно. А то, что лежит на месте можно только взять, а, как известно, делать без спросу это не рекомендуется.
— Вот бы нам, Валентина Степановна, эту пьесу сыграть! — взволнованно сказал Костя.
— Эта пьеса не из пионерского репертуара. Но сейчас речь о другом. Если ещё раз во время тихого часа я увижу вас на берегу, то вопрос о вашем поведении будет разбирать начальник лагеря.
И она пошла к лагерю, ни разу не обернувшись.
А мы вышли из будки и пошли к тому месту, где Алёша оставил подаренную нам банку мёда.
— Ладно, — вздохнул Костя, — можем и не в разбойников, можем и в капитанов играть. Даже интересней.
Алёша опять решил изображать из себя высокое морское начальство. Он кивком головы подозвал к себе братьев Рыжковых и небрежно спросил:
— Кстати, товарищи капитаны, не случалось ли вам встречать на берегу рыжую девчонку по имени Вера.
— Случалось, — в один голос ответили братъя-капитаны, — мы с нею в одном доме живём.
— Превосходно. Не будете ли вы столь добры передать ей подарок, присланный специально для неё одним моим другом с Азорских островов?
Я насторожился.
— С удовольствием, — ответил Митя, — будем столь добры.
Алёша поднял с земли банку подаренного нам мёда и протянул её Косте.
— И если вас не затруднит, капитан, не откажите в любезности приложить к подарку и этот цветок. Алёша сорвал василёк и засунул его за бечёвку, которой была перевязана банка.
Я кинулся на Алёшу, как лев, и вцепился ему в руку. Но он с силой оттолкнул меня, я полетел прямо в густой кустарник и повалился на спину. Пока я барахтался, стараясь выбраться, Алёша продолжал изъясняться с братьями на своём вежливом морском языке:
— Мой друг посылает с Азорских островов этот сосуд с бесценной жидкостью взамен того, который был им по нелепой случайности разбит при весьма глупых обстоятельствах. Мой друг с Азорских островов будет счастлив отплатить вам за эту небольшую, но весьма необходимую ему услугу.
Митя взял банку, понюхал её и заявил, что доставит её на берег немедленно.
— Прощу вас, капитаны! — задержал братьев Алёша. — Скромность не позволяет моему другу назвать своё имя. Вы никогда ничего не слышали ни обо мне, ни о моём друге. Будет лучше всего, если этот подарок Вера найдёт в своей тумбочке у изголовья кровати.
— Мы вас понимаем, капитан, — с дурацкой многозначительностью сказали братья. После этого все трое улыбнулись друг другу и отдали честь, приложив руки к «пустой» голове.
Когда я выбрался из кустарника, братья Рыжковы уже ушли. Я не стал объясняться с Алёшей. Ссориться с ним я тоже не стал: мы и так всё время были в ссоре, просто мы были связаны одной верёвочкой и поэтому должны были всё время быть вместе. А к тому же, если рассудить спокойно, это действительно я разбил Верину банку с мёдом, и возвратить её было даже справедливо. Мне даже понравилось, что Алёша додумался до этого.
В этот день мы совершили два некрасивых поступка.
Возле лагерных ворот жил огромный пёс Бармалей. У его конуры стояла огромная миска, куда ребята сносили суповые кости, остатки котлет, пудингов и даже хлеб. Котлеты и пудинги Бармалей съедал, а хлеб складывал в кучу. Отвлекая пса, Алёша изображал скачущую лягушку, а я в это время выхватил из кучи пять самых больших кусков.
Мы ушли по берегу подальше от лагеря, разожгли костёр, накололи хлеб на прутья и обжарили его на огне. Было очень вкусно. Потом мы напились из ручья и вернулись в лагерь. Там было весело и шумно. Рыжая Вера качалась на качелях, и Алёша минут пять наблюдал за ней из кустов.
— Алёша, — сказал я, — и охота нам было ехать в этот леспромхоз. Пойдём лучше за сарай в городки играть. Там нас Верка нипочём не найдёт.
— Городки — это, конечно, лучше, чем на аккордеоне играть. Только никак нам нельзя в леспромхоз не идти.
— Почему?
— Сам сообрази. Если аккордеонист к ним на вечер не приедет, директор леспромхоза обязательно Пеночкину скажет, что он его подвёл. А Пеночкин в лагерь придёт Басова корить за то, что тот слову своему не хозяин. А как только он настоящего Басова увидит, так и поймёт, что ты неспроста за другого себя выдавал. Начнёт он тогда выяснять, кто это и зачем его обманул. Скажет вожатой, а она…
— Ладно, — перебил я Алёшу, — и сам вижу, что хочешь не хочешь, а придётся в леспромхозе на аккордеоне играть.
В половине седьмого мы прокрались на террасу, где жил Басов, и, никем не замеченные, вынесли аккордеон. Он оказался тяжёлым, и несли мы его вдвоём.
Машину мы ждали не у ворот, а у калитки: всё равно она должна была проехать мимо нас. И действительно, ровно в семь на дороге показался вездеход — юркая зелёная машина, с брезентовой крышей, которую почему-то называют «козлом».
И приди она на минуту позже, мы бы попались. Едва мы успели сесть в машину и захлопнуть за собой дверь, как мимо на своём голубом мотороллере промчалась старшая пионервожатая Валентина Степановна.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Шофёр был курносый, голубоглазый и ещё совсем молодой. Он спросил, как нас зовут, и сказал, что его зовут Николаем. Как только мы выехали из лесу на ровную дорогу, он спросил, не возражаем ли мы, если он восстановит в памяти один монолог. Мы не знали, что такое монолог, но возражать не стали. Тогда шофёр вскинул голову и заговорил в нос, нараспев:
— Вы видите здесь семьдесят девять человек. Я их атаман. И ни один из них не умеет по одному кивку или по команде исполнять приказание или плясать под пушечную музыку. (По виду шофёра никак нельзя было предположить, что он атаман разбойничьей шайки. Мы с Алёшей растерялись.) А там стоит тысяча семьсот человек, поседевших под ружьём… (Мы посмотрели в направлении его указательного пальца, но не увидели ничего, кроме двух одиноких берёз.)
— Слушайте же, что скажет вам Моор, атаман убийц и поджигателей. Правда, я убил имперского графа. Поджёг и разграбил доминиканскую церковь. Забросал горящими головнями ваш лицемерный город. И обрушил пороховую башню на головы добрых христиан. Но это ещё не всё. Я сделал гораздо больше.
Тут ему пришлось резко затормозить, и он прервал то, что называл монологом.
— Ну как? — спросил он у нас, не оборачиваясь.
Мы промолчали, а он опять начал перечислять свои злодеяния, но у него их было так много! Он забыл, что он там ещё успел натворить за свою сравнительно короткую жизнь. Он попытался вспомнить, и не смог. Тогда он попросил передать ему книгу, что лежит где-то на заднем сиденье возле нас. Действительно, рядом со мной лежала книга в потрёпанном переплёте. Передавая её, я успел взглянуть на заглавие. Книга называлась «Разбойники». Это была та самая пьеса, которая нам понравилась сегодня днём и, про которую мне сказал Алёша, когда мы прятались от старшины милиции товарища Березайко. Мы сразу всё поняли и расхохотались. Оказалось, что монолог — это слова из роли, когда артист говорит долго и один, а Николай никакой не разбойник, а участник художественной самодеятельности. Мы рассказали шофёру, как мы чуть было не приняли его за настоящего разбойника, и мы стали смеяться втроём. Так, не скучая, мы и приехали на место.
Длинное одноэтажное здание леспромхоза стояло недалеко от большого села. У крыльца висела афиша. Мы прочли о том, что сегодня в клубе: «1. Доклад директора. 2. Танцы. 3. Концерт силами художественной самодеятельности. 4. Сцены из трагедии Шиллера «Разбойники». 5. Танцы».
В здание входила нарядная публика, и все посматривали на нас. Потом к нам подошёл грузный седеющий мужчина в очках. Он поблагодарил нас за то, что мы приехали, спросил, кто из нас играет, и сказал про меня всем оказавшимся рядом:
— Вот, товарищи, приехал к нам из столицы ученик нашего Васи Пеночкина. Прямая, так сказать, выгода нашему леспромхозу из того, что один из односельчан стал профессором по музыкальной части. Вы не глядите, что он в пионерском галстуке, он Московской консерватории студент. У них там, говорят, и помоложе встречаются. Музыкальный талант — он иногда и в четыре года знать о себе даёт… Тебя как зовут?
Я сказал.
— Гм. Вася вроде тебя Вениамином называл.
Алёша пришёл мне на выручку.
— Вениамин — это его полное имя, — быстро сказал он, — а дома его Толею зовут.
— Уменьшительное, значит? Ну что ж, тогда и мы тебя будем Толею звать. Вот что, хлопцы. Лично у меня сейчас начинается ответственный момент: доклад о положении в нашем леспромхозе в связи с перевыполнением плана. А вас вот в тот сарайчик отведут, вы там с хором порепетируйте пока. Песни-то все знаешь?
— Знаю.
— Ну и хорошо. Классика — вещь полезная, а родную песню тоже забывать нельзя. А ты что же, танцуешь или поёшь? (Это к Алёше.)
— Я-то? Нет. Я просто так. Ассистент.
— Ассистент?! Вот, товарищи, прошу познакомиться — ассистент баяниста, есть, оказывается, и такая должность на земле. Про меня-то знаете, кто я такой?
— Знаем. Вы тот самый Витюшка, что с нашим профессором рыбу ходил за Петровский мост глушить.
— Ну, это когда было. А нынче директор я. Вот этого самого леспромхоза директор. Так что вы вроде в гостях у меня. Что такое леспромхоз, слыхали?
— Это где дрова, — глупо ответил я. — «В лесу раздавался топор дровосека…»
— Топор дровосека! — рассмеялся директор. — Нет, хлопец, у нас тут не только дрова. Топорами тут много не натюкаешь. На всю область заготовляем лес. Тут тебе и на строительство, тут тебе и на мебель, тут тебе и на бумагу. Хозяйство! Одних тягачей двадцать штук…
Я уже говорил в самом начале, что на аккордеоне играю хорошо. Алёша не знал этого и волновался. Он боялся, что нас выгонят с позором. Но сразу же после репетиции он подошёл ко мне и молча пожал мне руку. Мне понравилось, что молча. И ещё понравилось, что он не разрешил мне нести аккордеон самому. «Перед выступлением, — сказал он, — надо беречь силы». Хор в леспромхозе был небольшой, но хороший. Одну песню — албанскую — он пел даже на четыре голоса. Доклад ещё не кончился, а мы все уже собрались за кулисами.
— Эх, если бы я умел так играть! — шептал мне на ухо Алёша. — Я бы с собой аккордеон и в школу, и на каток, и на демонстрацию брал. С музыкой всегда всё выходит веселей.
— Учись, — равнодушно ответил я.
— Учился, — вздохнул Алёша. — Я целый год на рояле играл. Только слуха у меня нет.
Все видели, что Алёше очень хочется принять участие в концерте. Ему даже предложили номера объявлять, но от этого пришлось отказаться. Синий Алёшин костюм надел я, а он был в трусах и майке. И хотя это был не Большой театр, всё равно не мог же он перед зрителями показаться в таком виде.
А я всё думал, как бы не уронить аккордеон. Это был очень дорогой немецкий аккордеон «Хонер», на сто двадцать басов, с множеством регистров. На нём можно было изобразить и скрипку, и флейту, и даже саксофон.
После доклада мы с хором вышли на сцену. В зале было человек двести. И все они смотрели на меня и на аккордеон, покрытый перламутром. Хор исполнил «Подмосковные вечера», «Калинку», албанскую народную песню, и частушки, мелодию которых я подобрал по слуху. Нам громко аплодировали, и это было приятно. Директор сидел в первом ряду и, протягивая ко мне руки, пожимал одну другой. Это он так благодарил меня отдельно от других.
Потом танцевальный кружок исполнил гопак и чардаш. Меня поставили возле самого края сцены, и я всё боялся, как бы не свалиться в зрительный зал. Но всё равно я ни разу не сбился, и, когда закрылся занавес, танцоры долго меня благодарили, а две девушки даже поцеловали меня в правую щёку.
Не знаю уж почему, но мне вдруг захотелось выйти на сцену ещё раз и сыграть «Музыкальный момент» композитора Шуберта, который у меня получался особенно хорошо. Как только я предложил это, все обрадовались и стали толкать меня на сцену. Но ко мне подошёл Николай, шофёр, который нас привёз (я совсем забыл сказать, что он был на этом вечере самым главным распорядителем), и спросил, как меня объявлять. Я сказал, что зовут меня Толя, а фамилия моя… Но тут меня перебил Алёша и опять объяснил, что Толя — это уменьшительное, а вообще-то зовут меня Вениамин Басов. Конечно, зрителям было всё равно, какую им объявят фамилию, но мне почему-то захотелось, чтобы они узнали настоящую, мою. И тогда я сказал, что я не просто Басов, а Басов-Корзинкин, и все засмеялись. Даже фамилия у меня была не простая, а музыкальная, как Римский-Корсаков или Иванов-Крамской.
Так Николай и объявил про меня: «Соло на аккордеоне исполнит Анатолий-Вениамин Басов-Корзинкин».
«Музыкальный момент» мне пришлось повторить два раза, а потом был перерыв на танцы, и нас с Алёшей повели в буфет.
Наконец-то нам удалось наесться вволю. Мы съели по два бутерброда с колбасой и по два с сыром и выпили по целой бутылке фруктовой воды. Расплачивался за нас сам директор леспромхоза. Ко мне подошла девочка с бантами — десятилетняя Нюра, директорская дочка — и протянула мне букет полевых цветов. Я хотел отказаться, но у меня был набит рот, и я не успел это сделать. Алёша взял букет, очень торжественно поблагодарил её от моего имени и потом всё время носил эти цветы за мной. В общем всё было очень хорошо, и мы с Алёшей были очень довольны.
Мы пошли за кулисы искать Николая, чтобы он поскорее отвёз нас в лагерь, пока там не хватились пропажи аккордеона.
Пока мы были в буфете, сцена превратилась в настоящий дремучий лес. С потолка свисали зелёные тряпки — из зала они должны были казаться ветвями огромных сосен. Вокруг нас сновали люди в странных нарядах — усатые, с надвинутыми на глаза шляпами, закутанные в чёрные плащи. Я понимал, что это артисты, но не хотел бы встретиться с ними в тёмном лесу. Среди всей этой кучи разбойников выделялся один. У него была острая бородка, длинные кудри и кинжал. Он подошёл к нам и поклонился, размахивая шляпой так, будто хотел стряхнуть с пола пыль.
— Разбойник Моор приветствует вас. Да, друзья, мир так прекрасен! Земля так чудесна! А я так отвратителен в этом прекрасном мире. Я изверг на этой чудесной земле.
Это был Николай. Говорил он так же, как в машине: в нос и нараспев.
К Николаю подошёл ещё один разбойник, одноглазый, с рыжей бородой, и сказал, что это безобразие, индивидуализм и что вообще за такие вещи надо этого разбойника из комсомола гнать. Оказалось, самый молодой из артистов обиделся, что ему вместо чёрного парика достался рыжий, в котором он был похож на горохового шута, сбросил свои бархатные разбойничьи штаны и укатил на мотоцикле на станцию в кино. А костюм для этого разбойника шили девушки, и им теперь обидно: никто не увидит, какие замечательные они пошили куртку и штаны. Тогда Николай стал думать, кого бы ему в этот костюм обрядить. Николай думал вслух, а Алёша вдруг покраснел и принялся натирать пол то одной ногой, то другой. Я понял, до чего хочется ему напялить на себя этот рыжий парик. Николай это тоже понял и спросил:
— Слушай, ассистент, а ты случаем никогда в драмкружке не состоял?
— Состоял, — конфузясь, ответил Алёша. Я в третьем классе зайца играл.
— Скажи пожалуйста! — обрадовался Николай. — А я решил, что у тебя никаких талантов нет. Эй, братья-разбойники, выдать сему новоявленному гению бархатные панталоны и рыжий парик!
Алёшу повели одевать, а я пошёл в зал, и директор усадил меня рядом с собой. Погас свет, и занавес раскрылся.
В пьесе рассказывается про двух разбойников. Они были братьями. Один из них убивал людей, грабил, и все знали, что он разбойник. А другой притворялся благородным, а на самом деле был похуже любого фашиста. Он даже отца родного умертвил. И хотя он никого не убил собственными руками, он был куда большим разбойником, чем его брат.
К концу пьесы почти всех поубивали, но Алёша остался жив. В рыжем парике, усатый, с приставным носом, он был просто великолепен. Он не произнёс ни одного слова, но так потрясал кулаками! Так носился по всей сцене! Любая угорелая кошка могла бы позавидовать ему. Правда, он один раз зацепился за ногу убитого разбойника и упал, но всё равно я поверил, что у него есть настоящий драматический талант.
А ещё мне понравилась главная героиня этой пьесы. Её звали так же, как мою двоюродную тётю, Амалия. Но моя тётя была похожа на раскрашенное огородное пугало, а эту Амалию иначе, как красавицей, нельзя было и назвать. В белом сверкающем платье, гордая и печальная, ходила она по маленькой сцене, и белокурые локоны, спускающиеся до самых плеч, плавно покачивались в такт её шагам.
Она казалась очень хрупкой. Лёгкий ветерок мог бы сдуть её со сцены и поднять высоко в небо. Но руки у неё были покрепче, чем у любого боксёра. К ней там приставал один из братьев, негодяй по имени Франц. Амалия долго терпела это, а потом так стукнула его ладонью по щеке, что Франц, не удержав равновесия, схватился за фанерную колонну и с грохотом хлопнулся на пол.
Все зрители закричали «бис!». И я тоже.
Я всё хотел вспомнить, где это я слышал голос Амалии, но вспомнить так и не смог.
После спектакля я побежал за кулисы. Мне хотелось ещё раз поглядеть на эту красавицу, но Николай сказал, что она уже уехала. Она так торопилась домой, что не успела даже как следует разгримироваться.
Да, артисты были замечательные. И пьеса тоже.
Но после этого спектакля в голове у меня появились разные грустные мысли. «Плохо наше дело, — думал я, невольно покачивая головой, — если уж сам старшина сравнил нас с этими братьями, то хорошенького же он мнения о нас…»
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
В пять часов вечера Вениамин Павлович Басов получил телеграфный перевод. Другой бы обрадовался, а он испугался. Басов слонялся по лагерю и каждому встречному объяснял, что это ошибка. Но на телеграмме стояли его имя и фамилия, и ему не верили. Это очень угнетало Вениамина Павловича. Ему казалось, что на него смотрят, как на жулика который хочет получить чужие деньги. Конечно, такая мысль и в голову никому не приходила, но Басов был тем, кого называют мнительным человеком, и поэтому считал, что никто и не может думать о нём иначе. Вот и сейчас он остановил под фонарём старшую пионервожатую и, смущаясь, спросил:
— Валентина Степановна, верите ли вы в сверхъестественное?
— А как же! — не задумываясь, ответила Валентина Степановна. — В бога, в чёрта, в дьявола и в ведьму с лысой горы.
— Вы?! — оторопел студент консерватории. — Не может этого быть… А между тем взгляните. Вот телеграмма.
— Вижу.
— Перевод на десять рублей.
— Поздравляю.
— Позвольте, но ведь здесь написано: «от неизвестных друзей».
— Ну и что?
— Но у меня нет никаких неизвестных друзей. Это же абсурд. Как мне может быть неизвестен человек, если я с ним дружу?.. Погодите. Куда же вы? Три часа я вас по лагерю искал. Я поговорить с вами, посоветоваться хочу.
Валентина Степановна взяла Басова за локоть и покачала головой.
— Ах, Веня, Веня. Вы исчезнувшим письмом голову заморочили мне. А теперь ещё пристаёте с переводом на десять рублей… Девочки, пойдите сюда! — Это она крикнула Маринке и Вере, которые шли по аллее, обнявшись.
Вениамин Павлович обиделся, сел на скамейку и говорил не то старшей пионервожатой, не то самому себе:
— С утра до вечера вокруг тебя крик, беготня, а поговорить не с кем. Если здесь с кем-нибудь и случится несчастье, так это со мной. Я вам не мальчишка, уважаемая Валентина Степановна. Я вырос из коротких штанишек и ничего таинственного не люблю.
Он опять прочёл телеграмму и погрузился в размышления насчёт всяких непонятных явлений жизни.
— Девочки, — сказала вожатая Вере и Маринке, — идите спать. Незачем вам по аллеям бродить.
— Так ведь, Валентина Степановна, — удивилась Маринка, — мальчики ещё не нашлись. Вас не было, а дежурная нам приказала искать. А мы искали, искали — нигде не нашли.
— Мальчики ваши вернутся. Но ты, Петухова, так и знай: с братом твоим у меня будет самый решительный разговор.
Валентина Степановна посмотрела на часы.
— Неужели они искупаться решили перед сном? Отправляйтесь спать. А я к речке спущусь. Боже мой, и кто их только выдумал, эти реки!
Девочки сделали вид, что уходят спать, но, когда Валентина Степановна ушла, сели рядом с басовым на скамейку.
— Когда я был мальчишкой, — без всяких предисловий, обрадовавшись новым слушателям, начал Басов, — мне хотелось таинственности. Я даже мечтал о загадочном письме, которое мне подсунут под дверь. А сейчас, когда я уже не молод, я ничего таинственного не люблю…
Он неожиданно приподнялся и закричал в сторону, куда ушла старшая пионервожатая:
— И иронизировать над собой не позволю никому! Категорически!
Потом он так же неожиданно успокоился и сунул в руки несколько напуганной Маринке телеграфный перевод.
— Полюбуйтесь. «Примите уверения в совершеннейшем к вам почтении». Идиотизм!
— Королям тоже раньше так писали, — заметила Вера.
— А я вам не король! — вскочил студент и помахал указательным пальцем перед Вериным лицом. — И прошу зарубить это себе на носу. — И он опять отправился мерять аллею своими журавлиными ногами.
— Ой, Вера, — прошептала Маринка, — он думает, что это мы ему телеграмму послали.
Рыжая Вера только плечами повела.
— И куда это твой брат подеваться мог! Часов двенадцать уже. За такие дела его завтра же отправят домой, это уж точно.
— А может быть, в лесу они заблудились? — поёжилась Маринка. — Страшно там сейчас, темно. А может, разбойники напали на них.
— Разбойников теперь нет.
— Как же нет, если ты сама рассказывала вчера?
— Ну, какие это разбойники! Обыкновенные хулиганы, и всё. Пускай теперь в милиции посидят.
— Конечно, пускай. А разбойников теперь и вправду нет. Только в книгах пишут про них. Правда, Вера?
— Правда.
— Нам с тобою ни капельки не страшно, правда? А какие они были, разбойники эти?
— Обыкновенно какие. В шляпах и плащах. С красным носом и рыжие.
— Почему рыжие?
— Не знаю почему. Про рыжих писать легче. Написал: разбойник был одноглазый и рыжий, и сразу видно, какой из себя он.
— А жили они в самых дремучих лесах, правда, Вера? Только кого же там грабить, если в дремучих лесах одни звери живут?
— А они проезжих купцов грабили. Спрячутся у дороги и сидят, ждут.
Маринка невольно оглянулась, посмотрела на кусты за спиной и вдруг завизжала.
— Ты что?
Маринка показала пальцем, и у рыжей Веры лицо тоже сделалось испуганным. Она не завизжала, но схватила Маринку за руку и попятилась назад. Потом девочки повернулись и побежали.
Всё, что я рассказал, мы видели и слышали сами. Мы стояли в кустах за скамейкой. Это нас испугались Вера и Маринка. Только сначала я не понял, почему так сильно. Я даже решил, что Вера приняла нас за привидения: ведь только они могут пройти сквозь, стены не то что милиции, а и подземелья, чтобы ровно в полночь (а сейчас была как раз полночь) появиться перед своим обидчиком. Но потом я посмотрел на Алёшу и всё понял. Свет фонаря падал на его лицо, а оно было точь-в-точь таким, каким его описала Вера, рассказывая о разбойниках. Алёше до того понравился рыжий парик, приставной нос и шляпа с пером, что он и после спектакля не хотел их снимать. Николай посоветовался с артистами, и они подарили всё это Алёше в память о сегодняшнем концерте.
Мне на память ничего не подарили. Но настроение у меня было такое, словно мне подарили обещанный к дню рождения велосипед. Раньше я играл на аккордеоне лишь для себя и для папы с мамой. Иногда родители хвастались моими способностями и перед знакомыми. Я развлекал гостей, пока стол уставляли закусками. А потом они ели и обязательно третью рюмку поднимали за юное дарование — за меня.
На двор и в школу брать аккордеон мне не разрешали. Мама говорила, что кто-нибудь его непременно уронит. А папа считал, что музыкантов в коллективе всегда эксплуатируют и незачем в школе рассказывать, что я умею играть.
Первый раз в жизни я сделал приятное незнакомым людям, и они благодарили меня так, что я готов был сквозь землю от смущения провалиться. О мои щёки можно было спички зажигать, до того я покраснел, — так сказал Алёша. Сам директор пожал мне руку, и, может, не стоит об этом говорить, но он был не простым директором, а ещё и Героем Советского Союза. Он был танкистом, командовал целым полком и дошёл с ним до самого Берлина. Вот от кого я благодарность получил. Мне хотелось каждому встречному-поперечному рассказывать о таком замечательном событии в моей жизни, а надо было таиться и жить вне закона.
Мы прятались в кустах, ожидая удобного момента, чтобы поставить на место аккордеон. Мы не боялись переполоха, который поднялся из-за нас. Я придумал снять с кроватей одеяла, лечь за террасой возле самых кустов, а потом сказать, что мы спасались от жары, уснули в девять часов и ни о каком переполохе не слыхали.
А Алёша всё думал, как это мы завтра отнесём Степану Петровичу посылку.
— Слушай, Толя, — сказал он, — а что, если нам эту посылку украсть?
— Что-то ты больно легко это слово произносить стал. Аккордеон украли уже, стоим вот трясёмся из-за него.
— Так ведь не по-настоящему украли. Не для себя. Это даже не кража, а благородный поступок.
— А как же ты узнаешь, чего красть? Может, это обыкновенные носки или рубашка и они у Басова среди других вещей в чемодане лежат!
— Это верно. Только это хорошо, если рубашка. Рубашку можно и не красть, а пойти в сельпо и купить. Костюм продать, а рубашку купить.
— Какой костюм?
— А тот, что на тебе, синий. Совсем новый почти.
Я успел уже забыть, что костюм это не мой, а Алёшин. Я опять подумал о рюкзаке, оставшемся в милиции, и мне стало тоскливо-тоскливо.
— Нам бы, Толя, главное, узнать, чего сын Степану Петровичу прислал.
— Поди у Басова спроси, — с горькой усмешкой посоветовал я.
Алёша задумался, а потом сказал: «Верно». Как раз в это время Басов опять подошёл к нам и сел на скамейку.
— Верно, — повторил Алёша шёпотом, — в парике ему нипочём меня не узнать.
— Опять дурь на тебя нашла! — зашипел я, — Про Басова это ведь я в шутку сказал.
Но Алёша снял приставной нос, надел мне на голову свою разбойничью шляпу и стал осторожно пятиться назад.
— Ничего, Толя, не трусь. Видал, какие двояковыпуклые очки у него? В таких не то, что одного мальчика от другого — столб от дерева не отличишь.
— Только ты не сразу спрашивай, — прошипел я ему вдогонку. — Стороной подходи.
— Соображаю.
Алёша выбрался из кустов, обошёл их скучающей походкой, подошёл к Басову и сел рядом с ним. Ночь была тёмная, фонарь стоял шагах в десяти от скамейки.
Басов смотрел на звёзды. Алёша тоже. Так они сидели минуты две и всё молчали. Потом Алёша набрал полную грудь воздуха и сказал:
— Вениамин Павлович, а ведь звёзды — они далеко.
— Что? — спросил Басов, только сейчас обратив внимание на Алёшу. — Звёзды? Ах, звёзды! Да, они далеко. А ты почему не спишь?
— Я-то? М-мм… Мальчики пропали тут у нас, Корзинкин и Петухов.
— Найдутся. Я сам в детстве однажды целые сутки пропадал: ногу ушиб до крови и боялся, что йодом будут прижигать. Я в городском саду прятался, ждал, пока само заживёт. Слушай, молодой человек, стал бы ты, разыгрывая приятеля, посылать ему по телеграфу перевод на десять рублей?
— Я-то? — задохнулся Алёша. — Нет, я бы не стал.
— Вот именно. Абсурд какой-то. Нонсенс. Десять рублей — деньги немалые, чтобы ими шутить.
— А может, вы их потеряли, а кто-то нашёл и обратно прислал?
— Зачем?
— Как это зачем? Честный человек.
— Я вполне допускаю, что честный. Но почему прислал? Почему сам не отдал? И потом не терял я десяти рублей. И взаймы никому не давал. Это я уж помню.
Басов вздохнул, и Алёша вздохнул. Басов вздохнул ещё раз, и Алёша вздохнул ещё раз.
— Ты что это? — покосился на Алёшу студент.
— Вздыхаю вот… думаю… Не мешаю я вам? Никак придумать не могу, чего бы мне старику одному из Москвы в подарок привезти.
— Валенки привези. В деревне валенки нужны.
— Валенки! — очень громко, чтобы услышал я, повторил Алёша. — Ясно?
— Мне-то? — от неожиданности подпрыгнул студент. — Конечно, ясно, если говорю. Варенье можешь привезти. Я тут старичку одному варенье привёз, да вот только адрес потерял, не знаю, куда нести.
— Варенье! — громко сказал Алёша.
Басов встал, удивлённо посмотрел на Алёшу, огляделся и снова сел.
— Ну да, варенье. И потом местным жителям крючки рыболовные и лесы нужны.
— Лесы и рыболовные крючки, — почти нараспев, весело потирая руки, повторил Алёша.
— Что за манера каждое слово повторять?
— А это я запоминаю. Если громко повторить, ни за что не забудешь потом.
Вдруг Басов начал к чему-то принюхиваться. Алёша тоже начал принюхиваться, а студент наклонился к голове Алёши и сказал:
— Ну и запашок от тебя!
— Да ну?! — удивился Алёша и, машинально сдёрнув парик, понюхал его. У меня прямо ноги затряслись, когда я это увидел. Но Басов уже не смотрел на него, и Алёша, спохватившись, тут же надел парик.
— Можно подумать, что ты лет десять в сундуке пролежал.
Басов встал и пошёл к себе на веранду, а Алёша вернулся ко мне в кусты. Он снял парик и, прежде чем сунуть в карман, поднёс его к моему носу. От парика пахло нафталином так, что хотелось чихать.
— Значит, так, — очень довольный своей вылазкой, сказал Алёша, — валенки — раз, варенье малиновое — два, крючки и лесы — три. Теперь давай обсудим, где нам всё это достать… Вот жизнь! Поговорить и то спокойно не дают.
Это он, сказал потому, что на аллее показались старшая вожатая, Вера и Маринка. Они, остановились перед скамейкой, и Вера ткнула пальцем в нашу сторону.
— Вон в тех кустах.
— Раздвинул кусты и смотрит на нас.
— Глупости.
— Если бы я своими глазами не видела…
— Ой, Валентина Степановна, — запричитала Маринка, — ой, миленькая, не ходите туда!
— Боитесь? Ну хорошо, не ходите за мной. Сторожа позовите сюда.
— Сейчас! — закричали девочки, убегая.
Валентина Степановна подошла к кустам, прислушалась и, наверное услышав наше дыхание, сказала:
— Кто прячется здесь? Выходи.
Она протянула в кусты сразу обе руки, нащупала и вытащила нас.
— Вы? — обрадовалась она, оглядывая нас с ног до головы, щупая наши волосы и даже поворачивая за плечи, чтобы посмотреть, какие мы сзади, и сразу стала строгой-престрогой. — Вас ищут по лагерю уже два с половиной часа. Где вы изволили пропадать? Молчите? Хорошо. Если у вас хватает мужества только на то, чтобы прятаться по кустам, я завтра же поставлю вопрос о вашем пребывании в лагере. Больше мне с вами не о чем говорить. Можете идти.
Но мы продолжали стоять. Мы не могли уйти от кустов, в которых стоял аккордеон. А Валентина Степановна решила, что мы не двигаемся с места просто так, из упрямства.
— Хорошо, — помолчав, сказала она, — тогда уйду я. — И, не оглядываясь, пошла по аллее.
— Строгая! — сказал я и тяжело вздохнул.
— Притворяется.
— Ну, может, и притворяется. Только тебе не легче, если она из притворства возьмёт да и отправит тебя обратно в Москву. А что отправит, так это как пить дать.
Тут как раз по ступенькам террасы скатился Вениамин Павлович и помчался вдогонку за старшей пионервожатой.
— Валентина Степановна! — кричал он. — Караул!
— Хватился, — спокойно сказал Алёша. — Надо было тебе, пока я переговоры с ним вёл, аккордеон на террасу оттащить. Ну да ладно. Успеем ещё.
Мы схватили аккордеон, потащили его к ступенькам террасы, но, не сделав и десяти шагов, поняли, что поздно. К дому быстро шли Басов и Валентина Степановна, а за ними, догоняя их, бежали Вера и Маринка.
— Сторож не идёт, — запыхавшись, кричала Вера, — говорит, не его это дело — разбойников ловить.
— Говорит, их, разбойников, сейчас и в помине нет, — добавила Маринка.
— Правильно говорит, — ответила Валентина Степановна. — Воображение богатое у вас. Вернулся твой брат. Куда же вы меня тащите? (Это Басову.) Отправляйтесь немедленно спать! (Это Вере и Марине.)
А Басов тащил Валентину Степановну за руку и внушал ей, стараясь говорить спокойно:
— Украли. Понимаете? Ка-ра-ул!
— Да скажите же, наконец, что украли? Понимаете, что?
— Аккордеон.
— Да что вы, Веня! Разве могут здесь украсть? У нас ведь не грабители — дети.
— Рыжий тут крутился один. Любознательный такой.
Басов втащил пионервожатую по ступенькам террасы и ткнул пальцем в угол.
— Здесь он у меня стоял.
— Здесь он и стоит, — сказала Валентина Степановна, повернулась и ушла.
А Басов глазел на аккордеон и бормотал:
— Наваждение какое-то. Ничего не понимаю. То письмо, то телеграмма, то аккордеон!
А мы с Алёшей стояли за углом дома и радовались. Это здорово получилось, что Алёша взобрался мне на плечи и, пока вожатая и Басов поднимались по ступеням, через окно, с другой стороны террасы, успел поставить на место аккордеон.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Под утро мне приснилось, что Валентина Степановна схватила меня за шиворот и потащила к воротам. «Эту дрянь давно пора бы уже выбросить, — говорила она громким, раздражённым шёпотом, — неужели каждый день надо одно и то же вам повторять!»
Я удивился, что она называет меня на «вы», и проснулся. Перед нашим окном в самом деде стояла Валентина Степановна и наш завхоз. И я сразу догадался, что выбросить она собирается не меня, а рассохшуюся бочку, которая неизвестно почему стояла возле щита для стенгазеты.
— И скамейки пора бы покрасить и починить, — продолжала вожатая, — только Пантелеймона на эту работу не нанимайте: он столько запросит, что придётся нам всем лагерем по миру пойти.
Я не знал, кто такой Пантелеймон, и не понял, почему она говорит так раздражённо. По-моему, совсем не плохо всем лагерем прогуляться по белу свету.
Я опять уснул. А когда проснулся и лежал с открытыми глазами, мне показалось, что кто-то через окно смотрят на меня. Я повернулся, но в окне никого не оказалось.
— Тш-ш! Ложись! — услышал я Алёшин шёпот. — Притворись спящим.
Я повернулся на левый бок, лицом к окну, крепко зажмурил один глаз, а другой прикрыл ладонью, оставив между пальцами щёлку. «Ничего себе, — думаю, — до того дошло, что скоро мы от собственной тени шарахаться начнём».
Так я лежу и вдруг вижу, как над подоконником начинают вырастать две макушки. Потом появились лбы, а потом и глаза. Глаза показались мне знакомыми, но чьи они, я сразу вспомнить не мог. Они смотрят на маня, я на них. Только я знаю, что они меня видят, а они думают, что я сплю. Так мы глядели друг на друга не меньше минуты. Но тут мне на зажмуренный глаз села муха, я пошевелил веком, в головы исчезли.
Алёша сполз с кровати, подкрался к окну и неожиданно выглянул в тот самый момент, когда головы снова начали расти над подоконником.
— А, это вы! — спокойно сказал он, и головы исчезли с такой поспешностью, будто Алёша стукнул по ним молотком. — Ладно, нечего тут грядки топтать. Заходите, капитаны, поговорим.
Алёша подошёл к двери, распахнул её, и к нам на террасу поднялись братья Рыжковы. Они не были ни капельки смущены.
— Броедо троу, — сказал нам Костя и кивнул брату, — дивхо.
Я сразу решил, что сегодня воображение занесло братьев в самые далёкие края. Они изображали не то индейцев, не то марсиан. Алёша подтолкнул им наш единственный стул и закрыл дверь на крючок. Рыжков-младший опасливо покосился на Алёшу и сказал брату на своём только им понятном языке:
— Дисьса.
— Вы чего это под чужими окнами околачиваетесь? — спросил Алёша.
— Шнеголи не лтайбо! — сказал брату Рыжков-младший.
— Мы не околачиваемся, — сказал Костя, — мы играем.
— В чужие окна заглядывать — такой игры нет. Знаешь, как это называется? Шпионство. Ясно?
— Тне, — по привычке ответил Костя на незнакомом языке и тут же перешёл на обыкновенный русский: — А Может, мы в шпионов и играем как раз. Может, у нас такое задание есть — шпионов ловить.
— От кого задание? — быстро спросил Алёша.
— Лчимо! — строго произнёс Митя.
— Ни от кого, — помявшись, ответил Костя. — Игра.
— Йдемпо рейско, — сказал брату Митя и взялся за крючок.
— Диси! — резко сказал Алёша, к моему удивлению, обнаружив превосходное знание неизвестного языка.
— Втракатьза здаетеопо, — пожав плечами, сказал Митя и уселся рядом с братом.
— Не опоздаем, — ответил Алёша по-русски, и тут я понял, что говорят они на самом обыкновенном языке, только переставляют назад первый слог каждого слова. Это очень просто, но когда быстро говоришь, ни за что тебя не понять.
— Видал, Толя, Шерлоки Холмсы нашлись! — презрительно скривился Алёша. — А ну, выкладывайте, кто вам подглядывать за нами приказал?
— Мы не подглядываем, а наблюдаем, — обиженно сказал Рыжков-старший.
— А мы вам не подопытные кролики, чтобы за нами наблюдать, — отрезал Алёша. — Ну! Будете говорить?
— Нечего нам говорить, — поднялся Костя, — сказано — игра, и всё.
Алёша загородил ему дорогу к двери и осуждающе покачал головой.
— А ещё называется капитаны! Я-то вчера подумал, что друзей в лагере нашёл. А они предавать нас пришли.
Не знаю, на что надеялся Алёша, но он нашёл единственно правильный путь. Старший Рыжков засовестился и, чуть помедлив, сказал:
— И правда, Костя, охота из-за какой-то девчонки дружбу терять.
— При чём тут девчонка? — спросил Костя, но было уже поздно.
— Какая девчонка? — шагнув вперёд, в упор спросил Алёша. — Молчишь? Тогда я тебе скажу. Девчонка эта рыжая-прерыжая и зовут её Вера. И ещё я скажу, что это я сам попросил её такое задание вам дать: очень интересно было мне проверить, какие вы друзья.
— Ладно, — сказал Костя и почему-то крепко потёр ладонями уши, — тогда и я тебе тоже скажу. Во-первых, мы тебе никакие ещё не друзья: мы с тобой познакомились только вчера. Во-вторых, ничего ты про нас Вере не говорил, это ты сейчас на ходу сочинил. А понаблюдать за вами она нас попросила — что правда, то правда. Только она не знает, что мы именно за вами должны наблюдать. Понятно?
Нам ничего не было понятно. Рожи у нас с Алёшей были преглупые, и поэтому Костя стал объяснять всё до порядку.
— Мы вчера Вере мёд принесли, понятно? А она спрашивает: «От кого?» А мы говорим: «От неизвестного друга с Азорских островов, понятно?» А она говорит: Азорские острова далеко, а Москва близко. У меня вчера в Москве дна хулигана банку с мёдом разбили. Они теперь в милиции сидят, а об этой банке никто, кроме них, здесь не знает. Так что всё это очень подозрительно, и за этим другом с Азорских островов надо понаблюдать». Ей мы ничего про вас не сказали, а про себя решили понаблюдать. Теперь всё понятно? Или ещё чего-нибудь объяснить?
— Теперь всё понятно, — сказал Алёша, — а больше всего понятно, что девчонка пошутила, а вы взяли да и поверили ей. Вы что же, думаете, мы те самые хулиганы и специально из милиции убежали, чтобы ей банку мёда вернуть?
— А кто вас знает! — сказал Митя, — Вот понаблюдаем и решим. С чего бы это ты ей вдруг целую банку мёда подарил? И потом неизвестно, где это вы вчера пропадали до ночи. Мы по всему лагерю вас искали — никак найти не могли.
На улице было солнечное утро, но мне стало зябко и грустно. Из-за банки с мёдом круг замыкался. Пеночкнн, Басов, Вера всё плотнее и плотнее окружали нас. Стоит только братьям показать Вере, где мы живём, как нас узнают, отправят в милицию и будут судить. Положение мне казалось безвыходным. Рыжковы уже спускались по ступеням, когда Алёша решительно окликнул их и вернул обратно.
— Хорошо, — сказал он, — если на то пошло, я вам скажу, почему я Вере мёд подарил. Только вы мне поклянётесь, что никогда не расскажете ей, кто этот неизвестный друг с Азорских островов.
Братья дали честное пионерское, что сохранят всё услышанное в тайне.
— Я её люблю, — твёрдо, не поперхнувшись, произнёс Алёша.
— Кого любишь? — не сразу уразумел старший Рыжков.
— Верку, конечно! Кого же ещё?
— А как?
— Обыкновенно, — не краснея, объяснял Алёша. — Тайно. Ты что же, никогда девчонку не любил?
— Никогда, — с некоторым испугом признался Костя.
— Тогда понятно, почему ты тут какую-то чушь насчёт милиции нёс. Я ей мёд подарил, чтобы сделать приятное. Когда любишь, всегда хочешь сделать приятное. Чего ты глазами хлопаешь? Кино, что ли, не смотрел, какое детям до шестнадцати лет не разрешается? Ну в общем понимаешь? — она про моё существование и не знает, а я её люблю.
— Почему? — всё ещё хлопая глазами, спросил Костя.
— Потому, что она рыжая! — зло ответил Алёша, и, хотя это было глупо, братья поверили…
Тогда-то я понял, что Алёша не обыкновенный, а героический человек. Я бы никогда, даже во имя спасения, не мог признаться, что мне нравится девчонка. Я, конечно, знал, что Алёша соврал, но про это я не мог бы даже соврать.
Братья Рыжковы были потрясены этим признанием не меньше моего. Алёшино доверие их подкупило, и они решили немедленно сыграть какую-нибудь роль в его тайне.
— Здорово! — сказал Митя. — Я тебе поклялся, что об этом ни одна живая душа не узнает, так вот ты моей клятве верь. А теперь давай садись и записку ей пиши. Мы передадим.
— Ну вот ещё! — удивился Алёша. — С чего это я стану записки ей писать?
— Не знаю. Полагается — значит пиши. Пускай она знает, что эту банку ей не из хулиганства прислали, а из любви.
Алёша подумал и согласился. Он написал записку, сложил её восемь раз и передал Косте.
— За обедом передадим, — пообещал Костя, — сейчас её не найти. Их отряд в первую смену завтракает и уходит в лес.
— Алёша, а можно, мы эту записку прочтём? — спросил Митя. — Вдруг ты там чего-нибудь не то написал?
— Прочти, — пожав плечами, ответил Алёша.
Митя развернул записку и прочитал вслух: «Ты мне нравишься. Ешь мёд на здоровье. С. П.»
Митя покраснел, будто это он, а не Алёша признавался, что Вера нравится ему, и спросил:
— А «С. П.» — это «с приветом»?
— С приветом.
— Ловко… А мёд, между прочим, мы съели.
— Как это съели? Кто это вам позволил чужой мёд есть? — спросил я, приподнимаясь на кровати и впервые вмешиваясь в разговор.
— Мёд не чужой. Алёша его Вере отдал, а Вера — нам. Значит, он уже не Алёшин, а наш. И съели мы его не вдвоём — нас за столом пятнадцать человек сидит. Старший Рыжков показал мне язык и скрылся за дверью. Пробегая мимо окна, он крикнул:
— На завтрак не опоздайте! Там сегодня к чаю по целому блюдечку малинового варенья дают!
Мы вздохнули с облегчением. Одной опасностью стало меньше.
Алёша потребовал, чтобы я выложил на стол все свои рыболовные крючки и лесы. Он пересчитал их и пятьдесят положил в тумбочку, а сорок восемь себе в карман. Я было возмутился, но Алёша сказал, что сейчас мы эти крючки будем менять на малиновое варенье. Алёша считал, будто с этим вареньем нам удивительно как повезло. У Алёши на бумажке было записано всё, что под видом посылки от сына мы должны отнести старику. Крючки и лесы значились под цифрой 3. Когда он зачеркнул эту тройку, я понял, что остальных крючков мне тоже не видать. Мне было обидно, но спорить я не стал: в самом деле, не ехать же в Москву их покупать!
Около столовой нас встретила Валентина Степановна. Она посмотрела на нас как-то странно, но ничего не сказала. Мы проспали горн на подъём и на зарядку, и было удивительно, что никто нас не разбудил. То ли старшая вожатая решила дать нам выспаться, то ли уже решила отправить нас в Москву и на наше дальнейшее поведение махнула рукой.
В столовую мы попали вовремя. Ребята уже съели котлеты, манную кашу и принимались за чай с малиновым вареньем.
— Внимание! — громким шёпотом сказал Алёша. — В целях развития рыболовного спорта производится выдача крючков лучшего качества.
— Чего-чего? — закричали ребята, а Алёша зашикал на них и продолжал:
— Рыболовный спорт укрепляет здоровье здорового человека, а малиновое варенье — больного. Разве прописывают больному человеку встать с постели и пойти на речку удить рыбу? Нет. Больному человеку прописывают малиновое варенье, чтобы он ночью пропотел. А зачем же здоровому человеку потеть, когда на улице и без того жарко? Так что бросайте своё варенье и укрепляйте здоровье вот этими рыболовными крючками. Меняю один крючок на одну чайную ложку варенья.
Ребята засмеялись, но речь им понравилась. Крючки тоже. Не прошло и пяти минут, как мы набрали полную банку варенья и, наспех позавтракав, вернулись на террасу.
В своём списке Алёша зачеркнул цифру 2. Под цифрой 1 значились валенки. Да, было над чем поломать голову. Где их возьмёшь в лагере, да ещё летом?
Тут я увидел, что к нашему дому бежали братья Рыжковы. Они бежали в ногу друг за другом, и младший держал старшего за рубашку. Сейчас они были двухступенчатой ракетой и поэтому гудели на высокой ноте. Возле нашей террасы вторая ступень отделилась и передала мне письмо.
Конечно, письмо было от моих родителей: кроме, как от них, я ещё ни от кого писем не получал. Когда родители уезжали, они писали мне регулярно и поучительно. Из их писем можно было бы составить книгу полезных советов.
«Мы боимся, — писали родители, — что ты не до конца усвоил всё сказанное тебе, и поэтому пишем прямо с дороги. Во-первых, не занашивай белую рубашку и панаму, отдавай их в стирку каждые три-четыре дня. Во-вторых, не ходи по солнцепёку. В-третьих, выбирай себе в друзья настоящих, воспитанных детей. Помни, что Алёша…» (тут шла целая страница, написанная маминым почерком, о том, какой он замечательный, какой он послушный, какой он!!! — Алёша Петухов).
«Когда я, будучи ещё ребёнком, был впервые предоставлен самому себе, — писал папа, — я всегда думал, как бы в том или другом случае на моём месте поступил мой отец. Я хотел бы, чтобы именно этим разумным правилом ты руководствовался в своей самостоятельной жизни. Помни, что разумный человек живёт осмотрительно, не позволяя втягивать себя в дела, которые могут обернуться неприятностями для него…»
Не знаю почему, но мне сейчас как-то неловко было читать это письмо.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Валенки мы всё же достали. Но вышло это не просто, и об этом даже стоит рассказать в отдельной главе.
Между прочим, от этой главы ничего хорошего для нас ожидать всё равно нельзя. Вы уже и так заметили, что каждый день с нами случаются разные несчастья, а уж тринадцатая глава никак не может без них обойтись. В приметы, конечно, я не верю (я даже родился тринадцатого числа), но, если говорить по совести, не нравится мне эта цифра. Ничего плохого я про неё сказать не могу, а вот не нравится, и всё.
Пока я сочинял ответ на письмо родителей, Алёша сходил к дяде Пантелеймону, к тому самому, про которого утром Валентина Степановна говорила завхозу.
Дядя Пантелеймон жил недалеко от лагерных ворот, в новом доме, выигранном по лотерейному билету. Он ужасно гордился своей удачей и, чтобы все знали об этом, прибил над калиткой вделанный в рамку лотерейный плакат, и дом, нарисованный на нём, жирно обвёл красным карандашом.
Алёша сказал, что дом у Пантелеймона новый, а замашки старые, но я тогда не понял почему. Давным-давно дядя Пантелей на охоте нечаянно отстрелил себе два пальца на правой руке. Он считал себя инвалидом и в колхозе не работал. А работал ночным сторожем у нас.
Алёша попросил у дяди Пантелея валенки для постановки в драмкружке. Алёша предложил обменять их на два новых полотенца и синюю куртку. Дядя Пантелей удивился: прошлым летом у него брали для спектакля полушубок и вернули даже с новой пуговицей на рукаве. Тогда Алёша объяснил, что валенки нужны насовсем, потому что пьеса эта про злого волшебника и в конце он вместе с валенками сгорит на волшебном костре. Дядя Пантелей не поверил, будто валенки сгорят, но на всякий случай синюю куртку оставил у себя в залог. А ещё он сказал, что валенки отдаст вечером, если мы согласимся ему в одном деле помочь.
Алёша согласился, но вернулся злой, и меня это удивило. Я думал, для него главное в жизни удовольствие — каждому встречному-поперечному помогать. Я ему так про это и сказал, а Алёша ответил, что дядя Пантелей тип, а ещё кулак. Тогда я удивился ещё больше: всех кулаков давно раскулачили, и Алёшке про это пора было бы уже знать.
Но сказать об этом я не успел: к нам прибежала Маринка и сообщила, что Вера вместе с аккордеонистом уехала на машине в город покупать подарки на день рождения сразу трёх пионеров из первого отряда.
Ух, до чего счастливыми мы почувствовали себя, услышав об этом! Не случись с нами таких неприятностей вечером, я начал бы с этой фразы новую, четырнадцатую главу.
Первым делом мы побежали на речку. У всех на глазах мы носились по берегу как угорелые. Братья Рыжковы придумали новую игру в строительство ГЭС, и мы перегородили плотиной маленькую речушку, которая выше моста впадала в нашу главную речку — Березнянку.
После тихого часа в лагере устроили субботник. Календарь уверял всех, что в этот день был понедельник. Но все так здорово взялись за работу, что всё равно получился субботник.
Мы с Алёшей красили садовые скамейки. Нам досталось три штуки, а из-за четвёртой вышла драка. Мне расквасили нос, но ребята из первого звена скамейку у нас всё равно отобрали.
В общем, этот день мы провели замечательно.
А потом наступил вечер.
Вокруг дома дяди Пантелея стоял высокий глухой забор. Как только мы подошли к калитке, за нею залаяла собака. Она носилась вдоль забора, пока не нашла узкий лаз под ним. Тогда она принялась подгребать лапами землю и всё старалась просунуть свою морду на улицу. Она, бедняжка, даже скулила от огорчения, до того ей не терпелось разорвать нас на мелкие части.
Калитка отворилась, и мы попятились. Но оттуда выскочила не собака, а вышли два человека. Один был толстый с короткими руками, совсем лысый, а другой маленький, худенький. На нём был хороший костюм, но брюки были заправлены в резиновые сапоги. И ещё у него была очень смешная причёска: волосы из-под шляпы опускались до самых плеч.
Дядей Пантелеймоном оказался толстый.
— Ну, будьте готовы, — сказал он нам, как другой сказал бы «добрый вечер». (Голос у него был насмешливый, с хрипотцой.) — За что я, Пафнутий Ильич, юных пионеров уважаю, так это за то, что хозяева они своему слову.
— Похвально, — весело отозвался длинноволосый и потрепал меня по щеке, — ибо сказано: «Блаженны данное слово держащие. — Он достал из кармана две конфетки «Золотой ключик» и протянул их нам по одной. — И воздастся им за это не токмо на небеси».
— Пошли, что ли? — сказал дядя Пантелей и взвалил на плечо большой, но, видно, совсем не тяжёлый мешок.
— А валенки? — спросил Алёша.
— А валенки по уговору за помощь получишь, а не за просто и за так… Ну, ну, Фома неверный, не хмурься. Здесь они у меня, в мешке.
Я хотел спросить, куда это нам надо идти, но дядя Пантелей уже зашагал по тропинке к лесу. За ним пошёл длинноволосый, потом Алёша, потом я.
— Про уговор наш не забыл? — спросил дядя Пантелеймон. — Алёша! У тебя спрашиваю. Не забыл, говорю, про уговор?
— Помню.
— Ну то-то.
— Дело это вечное, богу угодное, — певучим голосом, не оборачиваясь, сказал Пафнутий Ильич, — и не любит хвастовства. И ещё сказано: молчание — золото.
Я дёрнул Алёшу за рубашку, остановил его и спросил:
— Это про какой он уговор говорит?
— Да чепуха. Просил никому не рассказывать, что мы помогать ему взялись.
— А почему?
— А я почём знаю! Говорит, примета такая есть.
— Алёша, а ты слыхал, как этот длинноволосый смешно говорит? Ты думаешь, он кто?
— Да ничего я не думаю про него. Я про валенки думаю. С чего бы это Пантелей валенки в мешок положил? Обманет он нас.
— А я думаю, он из цирка артист. Клоун.
— Старый он.
— Ну, может, теперь на пенсию ушёл. Обыкновенные люди никогда так смешно не говорят.
— Эй! — закричал издали дядя Пантелей. — С тропки не сбейтесь. Я тут направо беру.
Мы побежали и опять пристроились в шеренгу за Пафнутием Ильичом.
Когда мы вышли к реке, уже совсем стемнело. Это было то самое место повыше моста, где река становится узкой и глубокой.
Дядя Пантелей развязал мешок, достал оттуда валенки, зашитые в белую тряпку, и протянул Алёше.
Пафнутий Ильич спросил:
— Так, значит, говоришь, сгорят валенки-то?
— Сгорят, — ответил Алёша хмуро.
— И пьеска-то, полагаю, не светского содержания. Супротив господа нашего всемогущего пьеска-то, говорю. О-хо-хо! В церкви-то, артист, небось отродясь не бывал? Лба перекрестить не умеешь, а бога между тем собираешься в лицедействе своём публичному осмеянию предавать.
— Оставь ты эти разговорчики, Пафнутий, — сказал дядя Пантелей, — не к месту они.
— Полагаю, в заблуждении находишься ты, — ответил длинноволосый, — ибо всечасно и повсеместно должен человек о вере своей радеть.
Он произнёс это с таким серьёзным видом, что я не выдержал и засмеялся.
— А я догадался, — сказал я, — вы клоун.
Пафнутий Ильич приблизил ко мне своё лицо, внимательно посмотрел на меня и вздохнул:
— Все мы, отрок, клоуны здесь, на земле, ибо нелепы и смешны в грехах своих для господа, взирающего на нас… Так-то. А валенки сжигать на костре — занятие пустое. В старину вот богоотступников предавали огню.
— Оставь, Пафнутий! — строго сказал дядя Пантелей. — В другой раз про это поговоришь. Лучше вот сеть мне распутать помоги.
Пока я разговаривал с Пафнутием Ильичом, дядя Пантелей и Алёша вытряхнули из мешка сеть с гирляндой поплавков и теперь раскладывали её по земле.
— И вот ещё что, — оглядываясь по сторонам, сказал дядя Пантелей, — кричать здесь тоже ни к чему. Рыбацкое дело шуму не любит.
Согнувшись, он прошёл вдоль сети, загасил окурок и, засмеявшись, хлопнул меня по спине.
— Ну, хлопец, будем мы сейчас рыбачить с тобой. Ты небось прежде рыбку, как кустарь-одиночка, ловил — на крючок. А мы её зараз артельно — сетью будем из реки выгребать.
— А лодка у вас есть? — спросил я.
— А вот лодки-то у меня, хлопец, и нет. С лодкой бы я и без вас управился тут. Плавать умеешь?
— Умею, только плохо, — признался я.
— Ну и ладно. Будешь здесь с нами, на берегу. А ты, Алёша, давай в воду лезь.
Алёша разделся, пошёл в воду. Дядя Пантелей дал ему верёвку, привязанную к одному концу сети, и сказал:
— Как ногами достанешь дна, так сеть дальше не тяни. Выходи на берег с верёвкой и в траве на ощупь колышек поищи. Я его, не поленился, сегодня утром вбил. Там одинокий куст будет стоять, так колышек этот аккурат за кустом. Привяжешь верёвку и обратно плыви.
Алёша потащил за собой сеть, а мы трое следили, чтобы она не запуталась на этом берегу. Лес в этом месте подступал к самой речке, и, как только Алёша отошёл шагов на пять, его не стало видно. Когда с другим концом сети я подошёл к самой воде, Алёша закричал:
— Достал! Дно!
— Тш-ш! — вдруг зашипел Пафнутий Ильич, оглянулся на лес и покачал головой — Долго ли с таким громоподобным голосом рыбу распугать!
Пока я привязывал камень и относил его в воду, а дядя Пантелей, ловко орудуя своей трёхпалой рукой, закреплял сеть, Алёша вернулся.
— Уф, — отдуваясь, сказал он, — тройным узлом завязал. А дальше что?
— А дальше всё, — ответил дядя Пантелей, — надевай рубашку да топай с приятелем спать.
— Спать? — разочарованно протянул я. — А как же рыба? Надо же нам эту рыбу из сети вынимать?
— А уж за этим мы с Пафнутием Ильичом сами придём. Чуть светать начнёт. А вас, хлопцы, прошу в обед на уху пожаловать ко мне. Про валенки-то, Алёша, не забудь. И про уговор наш тоже.
Пафнутий Ильич перекрестился на тёмную воду и пропел:
— Пошли нам, господи! Ибо не ты ли возвестил: благословенны трудом своим добывающие пропитание себе.
— Спасибо, хлопцы, — сказал дядя Пантелей, — по берегу идите. За мостом тропинка, она вас прямо в лагерь приведёт.
Пафнутий Ильич строго посмотрел на меня.
— А грешников-то, богоотступников в древние времена не миловали. Не валенки сжигали тогда. А самих их, прости господи, бросали в очищающий душу огонь.
Потом он тихо засмеялся и вслед за дядей Пантелеем пошёл в тёмный лес.
— У, кулак! — вдогонку ему прошипел Алёша, а я сказал:
— Какой же он кулак? Он же из цирка. Это он так смешно говорил, чтобы нас повеселить.
— Да я не про него. Я про Пантелея говорю.
— И про дядю Пантелея это ты зря. Ты бы лучше спасибо сказал, что он на рыбалку взял нас с собой.
— Дурак! — ответил Алёша. — Да кто тебя на рыбалку брал? Как сеть ставить — так мы, а как вытаскивать — так: «Мы уж, хлопцы, управимся и без вас». Его в прошлом году даже с работы хотели снимать. Он тут, знаешь, какую лавочку открыл! Он на станции мороженое скупал и в лагерь приносил. А у ребят денег нет, так один тапочки на три порции сменяет, другой новое полотенце за пять порций отдаст. Хорошо это?
— Плохо, — согласился я, — только какой же он кулак? Спекулянт обыкновенный, вот и всё.
— А зачем он десять поросят держит во дворе? Сам он, что ли, будет их есть? А забор у него, видал, какой? Разве честный человек станет за таким забором жить?
— Верно, Алёша, — сказал я, — честный человек не станет глухой забор вокруг дома городить.
Тут я вспомнил, как Пафнутий Ильич пугливо оглянулся, когда Алёша крикнул на другом берегу, и неожиданная мысль пришла мне в голову.
— А я знаю, почему он нас ночью сюда привёл. Разве честный человек станет рыбачить вот так, без костра, крадучись, да ещё других предупреждать, чтобы никому об этой рыбалке не говорили? Никакой он, Алёша, не рыбак, а этот… слово забыл… браконьер. Тот, который рыбу ловит и охотится там, где запрещено.
Алёша стукнул меня по лбу и сказал:
— Голова! Верно, Толь. Он браконьер. И длинноволосый никакой не клоун, а браконьер. И мы с тобой, выходит, теперь тоже ничем не лучше их.
— Я и раньше знал, что сетью запрещено рыбу ловить, да почему-то забыл. Пойдём Валентине Степановне расскажем, какой он тут сторож у нас.
— Это после того, как мы ему сеть поставить помогли? Нет, Толя, я им, этим браконьерам, устрою сейчас весёлую жизнь… Эх, ножика у меня нет! Я там такой узел морской завязал, что в темноте нипочём не развязать.
— Перочинный ножик есть у меня. А зачем?
— А затем, что мы эту сеть сейчас срежем и спрячем в кустах. Ещё раз поставит — ещё раз срежем. Так и будем каждый вечер на это место приходить.
Я протянул Алёше ножик. Он опять скинул рубаху и пошёл в реку. Не знаю, может, так и надо было этих браконьеров наказать, только мне не нравилось оставаться одному возле чёрного леса, на берегу почти невидимой реки.
Алёша плыл саженками. Он тридцать два раза шлёпнул руками по воде, пока не доплыл до того берега. Провозился он там недолго. Было так тихо, что я слышал, как он пилит ножом верёвку.
Пока он плыл обратно, я вытащил всю сеть на берег. Вдвоём мы обмотали её вокруг кола, вбитого в землю. Мы хотели так и оставить, но оказалось, что кол легко вынимается из земли. Тогда Алёша придумал замечательную штуку. У нас не было бумаги, но в кармане, надетой на мне Алёшиной куртки нашёлся огрызок карандаша и обёртка от конфеты «Мишка на севере». Он написал на ней: «Берегитесь, броконьеры! Так будет с каждым!» И подписался: «Господь бог».
— Этот длинноволосый всё про бога вспоминал, так вот пускай и подумает, что бог взял да и наказал его за грехи.
Мы нацепили записку на прутик, прутик воткнули в сеть, а сеть мы положили возле самой воды. Потом Алёшу осенила ещё одна мысль, и он в третий раз поплыл на тот берег. Алёша решил вытащить кол и забросить его в кусты. Это уже он старался специально для Пафнутия Ильича. Чтобы он не догадался, что сеть срезали ножом. Пафнутий Ильич часто вспоминал про своего бога. Вот и пускай он подумает, что это не мы, а бог его наказал.
И тут справа от себя я услышал шорох, потом треск кустарника и возмущённый шёпот:
— Врёте вы всё! Каждый день новые фантазии у вас.
— Тихо ты! И дальше не иди. Они где-то рядом здесь. Услышат… Мы с Митей от самого лагеря за ними шли. А потом побежали за тобой.
— Нечего было бегать за мной. Сами не маленькие: поймали бы их на месте преступления и в лагерь привели. Испугались небось?
— Митька, может, и испугался. А я с полдороги обратно пошёл, чтобы за ними следить.
— Ну?
— Подползаю сюда и слышу, как они говорят, что надо отрезать её.
— Кого?
— Ясно кого — сеть! Алёшка на тот берег отрезать поплыл, а Толька вот на этом месте из воды её тащил.
— У-у! Бандиты! И подумать только, что мы с такими в одном лагере живём.
— Да тихо ты! Услышат ещё!
— Не бойся. Они эту сеть срезали, теперь другую искать пошли. Их тут на реке небось не одна стоит.
Вера (а это была, конечно, она) помолчала, а потом приказала братьям Рыжковым (этих предателей я тоже сразу узнал):
— Вы идите в сторону лагеря, а я вниз по течению пойду. Может, ещё и натолкнёмся на них.
— Ладно. Если чего, ты кричи.
— Сам кричи. Вы без меня только и годитесь, чтобы по кустам лазать да записки глупые передавать. И почему вы мальчишками называетесь, понять не могу.
— Ты, Верка, так разговаривать с нами не смей, а то…
Так и не окончив угрозы, Митя замолчал, а Вера спросила с насмешкой:
— Ну? Чего «а то»?
— Ничего, — ответил Митя и вздохнул. — А то мы и без тебя можем обойтись.
— Правильно, — сказал Костя, — уйдём домой, и всё.
— Герои! — с презрением прошипела Вера. Ну, да некогда на разговоры время терять. Свистеть умеешь?
— Спрашиваешь! Я, если хочешь знать, и через два пальца и через четыре могу.
— Удивительно… Ну, марш!
Братья Рыжковы уползли, а Вера вышла из кустов и подошла к самой воде. Она прислушивалась. А я стоял на четвереньках в трёх шагах от неё и думал: слышал Алёша шёпот или нет? Я было уже решил, что слышал, раз он так долго обратно не плывёт, но как раз в это время раздалось хлопанье его ладоней по воде.
Минут пять назад появилась луна. Она была ещё низко, за лесом. Тени деревьев ложились на реку. Они доставали до этого берега, и тень от самой высокой сосны надёжно укрывала меня. Зато Вера была освещена луной, и я подумал, что Алёша увидит её белую майку. Но Алёша не смотрел на этот берег. А может, и смотрел, но принял Веру за меня. Пока он плыл в тени, его не было видно. Но на середине реки Алёша взял левее, и я увидел его голову, освещённую луной.
Это была очень неприятная минута. Стоило Алёше ещё раз пятнадцать взмахнуть руками, и он непременно столкнётся с Верой лицом к лицу. Крикнуть ему? Но тогда выйдет ещё хуже. Не он, а я окажусь в руках рыжей девчонки, от которой никакой жалости нечего было и ждать.
Тогда я собрал горсть мелких камешков и швырнул их в Алёшу.
— Эй! — крикнул Алёша и перестал плыть.
— Кто там? — спросила Вера, подаваясь вперёд.
Алёшина голова торчала посредине лунной дорожки, и Вера не могла не видеть её. На всякий случай я швырнул ещё один камешек, побольше. Я метил в сторону, но угодил в Алёшу. Он замычал, но ничего не сказал, потому что уже узнал голос Веры.
— Ты что, тонешь там? — спросила встревоженная Вера и вошла по колени в воду.
Тогда, увидев, что Вера приближается к нему, Алёша нырнул и не вынырнул. То есть он, конечно, вынырнул, но в тени. Я сразу догадался, что этим способом он хочет избежать неприятной встречи. Но Вера не знала этого. Сгоряча она подумала, что там кто-то тонет. Она молча бросилась в реку и поплыла к тому месту, где Алёша ушёл под воду.
Я тогда так и не узнал, чем кончилось это «спасение утопающего». Во всяком случае, за Алёшу я был спокоен. Не такой это человек, чтобы ни с того ни с сего утонуть в реке.
Моё внимание привлекли голоса со стороны леса. Четыре человека вышли на опушку. Двое были нашими браконьерами. Третьего я узнал по голосу — это был Степан Петрович. Четвёртого я не знал. (Когда они подошли поближе, я разглядел, что он совсем молодой, со смешным мальчишеским хохолком на голове, у него были быстрые движения и звонкий голос.) Степан Петрович говорил сердито:
— Ты знай иди! И претензии свои брось. Мы тебе не милиция, чтобы непременно на месте преступления ловить. Мы тебя, Пантелеймон, и так знаем хорошо. И сети твои знаем.
— Напрасно вы это нас, Степан Петрович, — отвечал дядя Пантелей, — довольно несознательно в вашем возрасте поклёп на человека возводить. Да и не обязан я с вами ходить. Вот встану и не пойду.
— Иди, иди, — подтолкнул его в спину молодой, — не пойдёшь, так понесём.
— Я ведь днём заприметил, как ты тут колья вбивал, — продолжал Степан Петрович, — не иначе, думаю, как сеть на ночь ставить решил.
— А тебе, Сенька, абсолютный грех конфузить меня. Вспомнил бы, что считал меня твой отец закадычным своим дружком.
— Не слыхал от отца про такую к тебе от него любовь, — сказал тот, кого называли Сенькой. — А вот как мать в первый год войны пришла к тебе подарок отцовский на молоко менять, а ты за новый шерстяной платок полтора литра отцедил, про это слыхал.
— Ага! — почему-то обрадовался дядя Пантелей. — Прошу свидетелей учесть: он не по гражданской совести, а счёты сводить со мною пришёл.
— О-хо-хо, — вздохнув, тихо сказал Пафнутий Ильич, — оскудевает чувство благодарности в душе человеческой. Не указано ли нам господом нашим добром, а не злом платить за добро? Ибо…
— А вам, святой отец, лучше бы помолчать, — перебил длинноволосого Степан Петрович, — никак я не ожидал, что при своём духовном сане станете вы поступки такие совершать.
— А деяние это, святой отец, между прочим, уголовным кодексом предусмотрено, — заметил Сеня.
— Бог нам судья, — всё так же тихо и нараспев сказал Пафнутий Ильич. — Ему и судить о помыслах наших и делах.
— Не знаю, как насчёт божьего суда, а перед народным судьёй предстанете, святой отец. Это я вам обещаю.
— О-хо-хо! Не ропщу на тебя, сын мой, ибо в заблуждении пагубном ты.
Тут они подошли к реке. Степан Петрович осмотрелся и сказал:
— Здесь она должна стоять. Если сеть не успели поставить, то кол всё равно должен быть.
— Ищи, ищи, — ухмыльнулся дядя Пантелей, — выслуживайся перед начальством своим. В тюрьму ты меня, инвалида, всё равно не упечёшь. А штраф я, так и быть, заплачу в память нашей дружбы с твоим отцом.
Степан Петрович нагнулся над тем самым местом, где был забит кол, и пощупал землю руками.
— Нету, — сказал он с удивлением, — ей-богу, нету.
— Терпел господь и нам терпеть завещал. И обидчикам нашим прощать завещал.
— Погоди, отец, опосля будешь нас прощать. Сеня! Гляди. Ямка в земле есть, а кола нет.
— Врёшь! — встревожился вдруг дядя Пантелей, подошёл к Степану Петровичу и присел рядом с ним на корточки. Потом он быстро поднялся и увидел перед собой братьев Рыжковых. Они успели дойти до лагеря и вернуться обратно. Дядя Пантелей, видно, принял их за меня и Алёшу (в лагере нас было много, и все мы для ночного сторожа были на одно лицо). Он шагнул к ничего не подозревающим братьям, схватил их за плечи и крепко встряхнул:
— Что, юные пионеры, шутки решили со мною шутить? Сеть где?
— К-какая с-сеть? — заикаясь, прошептали братья.
Не знаю, что бы дядя Пантелей сделал с братьями Рыжковыми, если бы не раздался голос Степана Петровича:
— Оставь ребят. Вот она, твоя сеть. У самого берега под кустом лежит.
Сеня поднял сеть, увидел записку, прочитал её и рассмеялся.
— Неудачное ты для браконьерства место выбрал, Пантелеймон. В другой раз подальше от лагеря уходи. Только я тебя и в другом месте найду. А уж если найду, тогда на себя пеняй.
Он кинул дяде Пантелею сеть, и тот ловко поймал её.
— Ступай… И вы ступайте, святой отец. Глаза бы мои не глядели на вас.
Дядя Пантелей молча вытащил из сети кол, перекинул её через плечо и пошёл к лесу. За ним, тоже не сказав ни слова, а только молча перекрестившись, пошёл и Пафнутий Ильич.
А Сеня растрепал братьям Рыжковым волосы, улыбнулся и сказал:
— Ну, посланцы господа на земле! Браконьеры, между прочим, через «а» пишется, а не через «о». И чему только учат вас на небеси!.. А в общем метод ваш одобрить не могу, а похвалить вас хочется.
Не знаю, какие ещё слова говорил Сеня ничего не понимающим братьям Рыжковым.
Захватив Алёшину рубашку и валенки, я отполз к лесу, а там поднялся и побежал домой.
По дороге я думал про то, какие мы с Алёшей невезучие люди: все неприятности достаются нам, а похвалы за наши поступки — другим.
Я уже лежал в постели, когда в комнату вошёл Алёша. Первым делом он спросил, принёс ли я валенки. С него ещё капала вода, и был он возбуждён.
— Рассказывай, как тебе от Верки удрать удалось, — попросил я.
— Удалось, — ответил Алёша, развязывая рюкзак, чтобы достать оттуда сухие трусы. — Она, понимаешь, спасать решила меня. Метров сто за мною плыла. Едва оторвался. Ух, Толька! Я таких девчонок ещё в жизни не встречал.
— Ну и хорошо, что не встречал. Если бы они все были такими, как бы ты тогда девчонку от мальчишки отличил?
Но Алёша ничего мне не ответил на это.
— А знаешь, Алёша, — сказал я, — длинноволосый этот, оказывается, вовсе не клоун, а поп.
— Ну и чёрт с ним, — укладываясь в постель, ответил Алёша.
Через минуту он уже спал. А я долго думал про этого попа, потому что он был первым, которого я видел за всю свою жизнь.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
На другой день после завтрака мы отправились к Степану Петровичу, но до деревни не дошли, потому что встретили его по дороге к лесу. Мы заметили его раньше, чем он нас, и успели достать носовые платки и повязать ими щёки.
Степан Петрович обрадовался нам.
— А, добры молодцы! Хорошо, что повстречались вы мне… Однако вы, я вижу, не иначе, как на полюс собрались.
— Это, дедушка, мы с Толей вам посылку от сына несём. Валенки вот, варенье и крючки.
— Ну-ка, ну-ка, — обрадовался старик, — про валенки я ему, почитай, ещё полгода назад говорил… С кем, говоришь, несёте?
— С ним, с Толей, — ответил Алёша. — Не помните разве его?
— Да как же не помнить! Помню. Лицо-то у него то же, вчерашнее лицо, а имя-то я другое в памяти держал. Прости, Анатолий, старика. Память стариковская, известное дело, она вроде как решето. Надо бы узелок завязать. Анатолием, мол, его, а не Вениамином зовут.
Говоря всё это, старик присел на пенёк и перекусил нитку, которой была зашита серая тряпка. Едва взглянув на валенки, мы с Алёшей ахнули. Они были старыми-престарыми, бурыми-пребурыми и годились разве что в утильсырьё.
Пеночкин молча рассмотрел валенки со всех сторон, просунул в один из них руку и пошевелил пальцами, показавшимися из дыры на пятке.
— Однако шутник у меня сынок.
— Да-а… — протянул я, а Алёша нашёлся и сказал:
— Никакой он не шутник. Если хотите знать, старую вещь в подарок приятнее, чем новую, принимать. Так ещё в старину было заведено. Царь и тот своим боярам не новую, а поношенную шубу дарил. Так и говорили тогда: шуба с царского плеча.
— Ну разве что так, — усмехнувшись, согласился старик. — Только на ком же я здесь точно такие царские валенки видал? Память-то, говорю, стариковская у меня. Вот и с вареньем тоже: помнится, я у сына кисленького просил прислать, малину-то я сам варю да в город посылаю ему… Ну, а вам, добры молодцы, спасибо за труд, за уважение к старшему… А я, между прочим, в лагерь к вам иду.
— Зачем? — испугавшись, в один голос спросили мы.
— А нужен мне гражданин Басов. Есть там у вас такой?
Мы молчали, не зная, что сказать. Ведь Басовым он должен считать меня. Зачем же ему идти в лагерь, если я вот он, сам перед ним стою? Не дождавшись от нас ответа, старик достал вчерашнее письмо из кармана и надел очки.
— Неужто фамилию перепутал? — покачал с огорчением головою Степан Петрович. — И часу не прошло, как я в это письмо заглянул… Да нет, вот оно, чёрным по белому сказано: «Зайдёшь в пионерский лагерь к Басову и скажешь ему…»
Пока старик читал эту строчку, я успел заглянуть в письмо и прочесть то место, где написано, кто привезёт ему это письмо и кого надо уговаривать поехать на концерт в леспромхоз. Там было написано просто: Веня. «Доставит тебе это письмо мой ученик Веня». Тогда мне сразу всё стало понятно. Профессор писал письмо наспех, и получилось не очень понятно. Можно было подумать, что Веня — это один человек, а Басов — другой. Я взял из рук старика письмо, будто для того, чтобы своими глазами прочесть фамилию, а на самом деле думал только о том, как бы ему в голову не пришло перечитать всё письмо и увидеть, что там написано не Толя, а Веня.
— Ну так как же, есть такой гражданин Басов у вас?
— А он вам, дедушка, зачем? Что вы должны ему сказать?
— Да всё в продолжение вчерашнего разговор. Приятель сына телеграмму прислал: дескать, должен я его к вечеру ждать. А Басов этот тоже, видать, рыболов. Вот и должен я его предупредить, что приедет ему для рыбалки компаньон. Есть тут у нас неподалёку заводь одна. Очень хорошо там, в камышах, рыба клюёт. Однако для такого лова лодка нужна, а с нею-то у меня и получается конфуз. Никак не успеть мне проконопатить её. Я бы, конечное дело, успел — тут часа на четыре работы всего, — да попросили меня нынче в колхозном саду помочь, а в этом деле никак я отказать не могу. Вот и придётся мне этому Басову сказать: «Не взыщи, дорогой, ежели хочешь рыбку удить, потрудись малость, лодку в порядок приведи». Теперь понятно, добры молодцы, что к чему?
— Понятно, — сказал Алёша, — только в лагерь вам можно и не ходить. Басов у нас есть. Только не тот это человек, чтобы он лодку конопатить стал.
— Что же, рук у него нет?
— Руки у него есть. Да только для такого дела он совсем нетрудоспособный человек.
— Скажи на милость! Больной, стало быть? Однако надо мне посоветоваться с ним. Человек ведь из Москвы приезжает. Не подводить же его!
— Конечно, не подводить, — согласился Алёша, и вдруг его осенило: — А лодку мы с Толей в порядок приведём.
— Вы? Там и для взрослого работа не проста. — Степан Петрович задумался. — А вот если сделать так: вы меня покуда замените в колхозном саду — работа там не тяжёлая, яблоки собирать, — а часа через четыре я подойду, подменю вас.
— Правильно, дедушка! — обрадовался Алёша, — Яблоки собирать — это даже не работа, а удовольствие для нас. Правда, Толя? А в лагерь вам незачем ходить. Правда, Толя? Пускай он домой идёт, лодку в порядок приводит.
— Хорошие, я скажу вам, ребята у нас растут! — вставая, торжественно сказал Степан Петрович. — Из леспромхоза человека я повстречал. Очень довольны остались они. И за это благодарю… Ну, так я, стало быть, к Пантелею зайду. Паклю возьму — и домой. А вы вот по этой дорожке — прямо в колхозный сад. Объясните там, что к чему.
Степан Петрович пожал нам руки и отправился к дяде Пантелею, унося с собой валенки. Представляю, как бы удивился дядя Пантелей, увидев свои валенки в руках Степана Петровича. Пришлось предложить оказать старику ещё одну услугу: занести варенье и валенки к нему домой. Старик согласился, зачем-то ещё раз пожал нам руки и спросил:
— А зубы-то всё болят, говорю?
— Болят.
— Сегодня, стало быть, наоборот?
— Как это наоборот?
— Вчера у тебя, Вениамин… то бишь Анатолий, — извини старика, — у тебя, говорю, слева болел, а у Алёши справа. А сегодня, стало быть, наоборот.
Мы долго смотрели Степану Петровичу вслед, а потом я сказал:
— Въедливый старичок. Наблюдательный. Вот увидишь, попадёмся мы из-за него.
— На этот раз обошлось, — сказал Алёша и постучал себя пальцем по лбу: — Голова!
— От твоей головы ногам одно беспокойство. Смотрю, смотрю я на тебя и всё никак понять не могу: умный ты или дурак?
Алёша рассмеялся.
— Наверное, дурак: целый месяц десятичные дроби понять не мог… Пошли яблоки собирать.
В это утро нам везло, как утопленникам. Мы и раньше думали, что хорошо бы подготовиться к встрече с Верой, если она когда-нибудь нечаянно состоится. Но мы увидели её совсем неожиданно для себя. Мы чуть было не натолкнулись на Веру. На маленькой полянке она собирала цветы. Спрятавшись за толстенной сосною, мы с ужасом прислушивались, как она подходила к нам всё ближе и ближе. Нам показалось, что Вера обходит дерево справа, и мы попятились налево. Но мы ошиблись и столкнулись с нею лицом к лицу.
Растерялись мы все трое, но Вера пришла в себя первая.
— А, это вы! — усмехнувшись, наконец, сказала она.
— Мы! — вызывающе ответил Алёша.
— Мне бы давно догадаться, что вы здесь, — сказала Вера, прилаживая к букету только что сорванный цветок, — то разбойник объявился, то аккордеон в лагере исчез. Выпустили, значит, вас?
— Выпустили, — с тем же вызовом, за которым, наверно, он хотел скрыть смущение, ответил Алёша.
— Ну и зря. А ну, отойди! — сказала она мне. — Отойди, тебе говорят!
Я сделал шаг, назад, и она сорвала цветок на том месте, где я стоял. Кулаки у меня сжались сами собой.
— Эх, дать бы тебе! — сказал я, подаваясь вперёд.
— Попробуй дай…
Можете быть уверены, я живо разделался бы с нею, если бы не Алёша.
— Вера, — спросил он, — можно тебя об одной дружеской услуге попросить?
— Если без кулаков, то можно. А с кулаками я… — Она сделала шаг ко мне, и уж не знаю почему, но я отступил. — Эх вы, братья-разбойники!
Она опять сорвала цветок, а потом посмотрела Алёше прямо в глаза:
— Ну?
— Ты, понимаешь, не говори никому, что видела нас.
— Это ещё почему? А может, вы хулиганить приехали сюда?
— Мы?! Чудак человек! Да пойми же, наконец, никакие мы не хулиганы. Просто такое стечение обстоятельств.
— Судьба! — упрямо сказал я, но Алёша махнул на меня рукой. — Лагерь узнает весь. Смеяться над нами начнут.
— Вот как! Значит, вы не сами по себе, а в лагере здесь?
— Ну да. Подумают ещё, что из милиции сбежали мы с ним.
— А может, вы и вправду сбежали?
— Да что ты уговариваешь её! — рванулся я вперёд. — Я вот сейчас как дам ей!
Но Алёша опять удержал меня.
— Вера, ты не слушай его. Ты со мной говори.
— А не тебя ли я спасти хотела вчера?
Алёша промолчал.
— Ясно. Плаваешь ты хорошо. Только братьям Рыжковым ты бы объяснил, зачем это тебе сеть понадобилось срезать, а то благодарность получили, а за что — не могут понять… И записок своих дурацких писать мне больше не смей.
— Ладно, — потупившись, сказал Алёша, — не буду. Только, Вера, и я тебя по-дружески прошу: не говори ты никому, что с нами в Москве произошло.
— Хорошо, не скажу, — сразу согласилась Вера и, собирая цветы, медленно пошла по поляне.
Нас она уже не замечала. Можно было подумать, что мы испарились. Победа была одержана с такой лёгкостью, что это обеспокоило нас.
— Толя, может, компас ей подарить? — спросил Алёша.
— всё равно разболтает: девчонка! Я тебе говорю, дать бы ей раза!
— Ты перед ней кулаками махать брось. А то она сама тебе как даст, так отлетишь до той сосны…
И вдруг в голову мне пришла фантастическая мысль.
— Алёша! Слушай! Она ведь нас чуть ли не настоящими разбойниками считает!
— Как же, видела она их.
— И хорошо, что не видела. Пусть считает. Значит, мы и должны поступить так, как поступили бы разбойники на нашем месте. Надо напугать её, чтобы у неё от страха язык к гортани присох. Не понимаешь? Ладно, стой здесь и смотри. Увидишь, как я сам обойдусь. Парик у тебя с собой? Давай! А нос где? Нету? Ладно. А это что? Валенки? Давай. Тоже сойдут…
Алёша смотрел на меня с удивлением, а я на его глазах превратился в одного из тех разбойников, что носились вчера по сцене. На мне не было бархатных штанов — я был в трусах, но для солидности я влез в валенки, и они, как ботфорты, закрывали мои ноги выше колен. Я надел парик, подпоясался тряпкой и воткнул за неё суковатую палку. Потом я прищурил один глаз и, с трудом переставляя ноги в валенках, догнал Веру.
— Слушай ты, змея, шипящая во прахе! Ящерица, пригретая на нашей благородной груди! — басом сказал я.
Вера, моргая, посмотрела на меня и перевела взгляд на Алёшу, стоящего поодаль.
— Да, мы разбойники! И мы говорим тебе: если когда-нибудь ты раскроешь рот, чтобы поведать людям о чёрных делах наших, помни, что мы… помни, что мы… что я…
Я никак не мог придумать, что мы сделаем с нею, если она выдаст нашу тайну. Тогда я принялся цитировать великого Шиллера, который пришёлся здесь очень кстати.
— Мы распорем тебе клыками брюхо так, что у тебя кишки повывалятся! Ты, король плутов! Великий Могол всех мошенников на свете! О, злодеяния, вопиющие к возмездию и взывающие к трубе архангела, которая возвестит конец мира!!
Я отдышался, посмотрел на Веру и решил, что с неё хватит. Она, должно быть, была такого же мнения. Она постучала пальцем по моему лбу, потом по стволу дерева, повернулась и пошла.
— Видал? — сказал я Алёше. — Делает вид, что не испугалась, а у самой от страха язык к гортани присох: ни одного слова сказать не могла.
Алёша посмотрел на меня и, тоже, ни слова не сказав, повернулся и пошёл в сторону деревни. Я снял валенки и, очень довольный собой, пошёл за ним.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Раньше я думал, что все знаменитые люди живут в Москве. Но получается совсем наоборот. В Москве знаменитых людей я вижу редко: когда они приходят к нам на сбор дружины или в Дом пионеров. А в деревне они встречаются на каждом шагу. Обыкновенный директор леспромхоза оказался Героем Советского Союза. А в это утро я встретил сразу двух героев Социалистического Труда. Один был председателем колхоза «Рассвет». Он был женщиной и звали его Марфа Семёновна. У Героя Труда была коса, уложенная вокруг головы, певучий голос и весёлые, всегда прищуренные глаза. Она была толстая, но совсем не пожилая. Марфа Семёновна мне очень понравилась, хотя она и спросила, как мы учимся в школе. Я думаю, ей просто было некогда, а то бы она придумала вопрос поинтересней. Мы объяснили, что до обеда поработаем взамен Пеночкина, и Марфа Семёновна послала нас в сад в бригаду Белобородко.
Сад был огромен, как лес. В белых стволах яблонь можно было заблудиться. Яблоки собирали сперва в кучи потом насыпали в плетёные корзины и на телегах отвозили в амбар. Я никогда не видел сразу такого количества яблок. Одному человеку их и за три жизни не съесть.
Тут, в саду, у меня тоже получилась неожиданная встреча. Я узнал того самого Сеню, что приходил вместе со Степаном Петровичем ловить браконьеров. Этот Сеня и оказался тем самым бригадиром Белобородко. По возрасту он годился нам в старшие братья, но мы знали, что он тоже уже Герой Труда и знаменитый на весь район человек.
Я думал, что Герои Труда только командуют другими, но бригадир сам грузил на телегу огромные корзины.
— Марфа Семёновна, говорите, прислала? Добре, хлопчики, добре. А что-то я вас раньше не примечал. Вы откуда?
Алёша неопределённо махнул куда-то рукой.
— Ну-ну! Лишние руки нам нужны. Головы, между прочим, тоже. Как у вас насчёт соображения, есть? Тогда ступайте на конюшню, запрягайте Серко — и сюда. Я вас поначалу в возчики определю. Лёньке скажите, что наряд на коня выправлен, в правлении лежит… Ну, живо, одна нога здесь, другая там…
Это было здорово! Всю свою сознательную жизнь я мечтал покататься на лошади. Среди моих знакомых было много счастливцев: один летал на вертолёте, другой плавал на океанском теплоходе. Но ни один не мог похвастать, что держал в руках настоящие вожжи.
— Алёша, — сказал я, — давай с тобой жребий тянуть, кому лошадью управлять.
— Это ещё зачем?
— А затем, что лошадь одна, а нас двое.
— Давай тяни, — пожав плечами, сказал Алёша.
Я знал, что вытяну счастливый жребий. Есть у меня один секрет, и потому всегда мне везёт. Я сорвал две травинки и зажал их в руке. Если бы Алёша потянулся к длинной, я бы вскрикнул, будто меня укусила пчела или комар, разжал руку, а потом поменял бы травинки местами. Но мне повезло: Алёша сразу ухватился за короткую травинку. Теперь никто не стоял между мною и лошадью с редким и красивым именем Серко.
Конюшней было длинное бревенчатое здание с широкими воротами и с маленькими окнами почти у самой крыши. У входа нас встретил Лёнька, загорелый мальчишка с толстыми губами.
Он был меньше меня, но держался гордо.
— Незнакомым людям коня не дам, — отрезал он, когда мы объяснили, зачем явились.
— Чудак человек, — мягко пытался втолковать ему Алёша, — Зачем же каждого заранее конокрадом считать? Ты в сторону не гляди. Ты на меня гляди. У жулика на лице написано, что он жулик, он честному человеку в глаза не может посмотреть. А я вот тебе прямо в глаза смотрю. Да ты не отворачивайся. Видишь? Я тебе в глаза смотрю и даже не мигаю. Разве я на конокрада похож?
— Рассуждения твои здесь ни при чём, — ответил Лёнька, продолжая загораживать вход. — Меня сюда поставили за коней отвечать. Значит, я должен свою ответственность понимать. Вы мне люди неизвестные. Письменное распоряжение мне принесите, и чтобы по форме: и подпись и число.
— Бюрократ! — сказал я. — Что же, нам из-за бумажки целый километр до сада бежать?
— А можно и не бежать. Вон председатель на полуторке едет. Садитесь в кузов, довезёт.
Марфа Семёновна сидела в кабине. Поравнявшись с нами, она сказала:
— Вижу, бригадир вас уже на место определил, — и, обернувшись добавила, высунув голову из окна: — Увидимся ещё, поговорим. Мы бросились было за машиной, чтобы на ходу забраться в кузов, но Лёнька сказал:
— Ладно. Берите коня. Сразу бы сказали, что вы для Марфы Семёновны не посторонний народ.
Я впервые видел лошадь близко. Когда глаза мои привыкли к полумраку, я увидел большой печальный глаз, которым она смотрела на меня.
Лошадь стояла в стойле. Перед нею лежало сено. Она брала губами кусок и тащила в сторону, отрывая от охапки.
Когда я был маленьким, я думал, что лошади питаются удилами. Я так думал из-за стихов, в которых лошадь «не потряхивает гривой, не грызёт своих удил».
Мне вдруг захотелось говорить стихами.
— «Гляжу, поднимается медленно в гору», — с выражением сказал я, а потом подумал и добавил: — «Ямщик, не гони лошадей».
Вот оно, животное, которое заменяло нашим предкам и автомобиль, и самолёт, и тепловоз. А я был человеком — царём зверей!
Я хотел, чтобы у Алёши и Лёньки не было сомнений насчёт моего умения обращаться с этим великолепным домашним животным. Я положил руку лошади на спину, но лучше бы мне этого не делать. Мне показалось, будто меня ударило током. Лошадь взмахнула хвостом и быстро повернула голову в мою сторону.
— Ну, не балуй! — сказал Лёнька, и я не понял, к кому это относится: к лошади или ко мне. — Ты её за спину руками не хватай, у неё холка сбита. Ветеринар никому её давать не велел.
Лёнька подошёл к лошади и погладил её по морде между глаз и ниже, по тому месту, которое у человека называется «нос».
— Как же это не велел? — несколько придя в себя, спросил я. — Не можем же мы вместо Серко в телегу впрягчись?
— Впрягчись! — передразнил меня Лёнька. — Серко и впрягай, а Гнедой ещё с неделю без работы постоит.
И только тут я заметил, что в дальнем углу конюшни стояла ещё одна лошадь. Она была серого цвета, и я сразу понял, почему её назвали Серко. Мы все трое подошли к ней поближе. Сразу было видно, что характер у неё беспокойный. Она лихо двигала острыми ушами. К тому же Серко была модницей: она носила чёлку и коротко подстриженную гриву.
— Ничего лошадка, — сказал я с видом знатока.
— Видал! — подтолкнул Лёнька Алёшу. — Лошадка! Это тебе не лошадка, а конь.
— Вижу, что не верблюд, — ответил я, хотя и не понял, какая разница между лошадью и конём. — А как он вообще? Не очень?
Я хотел спросить про норов коня, и Лёнька правильно понял меня.
— Характер есть. Упрям. И с кнутом к нему лучше не подходить. Не любит он этого. Если ударишь, с места не сойдёт.
— Ну и правильно, — сказал я, осторожно дотрагиваясь до крутой шеи коня, — к домашнему животному надо с лаской подходить. Давай, Лёнька, запрягай нам коня.
— Сам не маленький, запряжёшь. А у меня тут, между прочим, больше делов нет. Я к этому коню приставлен был. Теперь в правление за новым заданием пойду.
Он пошёл и, обернувшись уже за воротами, крикнул:
— Смотри, чтобы шлея набок не съехала. Он в упряжке порядок любит. Аккуратист.
— Ладно, учи учёного, — сказал я упавшим голосом и с надеждой посмотрел на Алёшу.
Он ещё не сказал ни слова, просто стоял и смотрел на меня.
— Чего стоишь? Запрягай, — равнодушно произнёс он и облокотился о жердь, показывая этим, что будет стоять и смотреть, как я буду это делать. — Тебе в жеребьёвке повезло. Любишь кататься — люби и саночки возить.
Делать было нечего, и я принялся запрягать.
Я огляделся и увидел, что сбруя висит на стене. Хитро соединённые кожаные ремни я оставил на потом, а начать решил с хомута, похожего на пристежной воротничок без рубашки. Сделан этот воротничок был из толстой кожи.
Папа говорил про лошадь и собаку, что к одной надо подходить спереди, а к другой сзади. Только я никак не мог вспомнить, к кому с какой стороны надо подходить. Я подумал и сообразил, что хомут всё равно не наденешь с хвоста, так что, хочешь не хочешь, а придётся лезть под самую лошадиную морду.
Серко смотрел на меня с любопытством. Я поднял хомут и начал напяливать его на голову коня. Я делал это не без опаски: зубы у Серко были подлиннее, чем у волка. Конь был терпелив, я тоже. Но как я ни пыхтел, как ни уговаривал коня протиснуть голову в хомут, ничего у нас не выходило. Я решил сдвинуть его назад, чтобы мне было попросторнее. Я оттолкнул коня ладонью, но он не пошёл. Я оттолкнул его двумя руками, он только головой замотал.
— Эй, Алёша! — крикнул я. — Чего стоишь? Оттяни его за хвост.
Но Алёша мне не ответил. Как каменный стоял он с травинкой во рту и смотрел на меня. Тогда я упёрся ногами в стену, а спиною в грудь коня, так что его морда оказалась у меня над головой. Но как я ни кряхтел, я не мог ни на шаг сдвинуть эту огромную тушу. Вдруг Серко повернулся и пошёл, а я шлёпнулся на спину. Я вскочил и бросился за конём. Двор вокруг конюшни был огорожен жердями, но ворота были открыты. Серко шёл к ним широким, спокойным шагом. Я обогнал его и закрыл ворота. Теперь далеко убежать он не мог, но даваться мне в руки он всё равно не собирался. Вот тут-то и началась настоящая потеха. Я бегал вокруг коня, кричал и махал на него руками, а он, не обращая на меня внимания, пощипывал траву.
А Алёша стоял с травинкой во рту и смотрел на это. Теперь я понял, почему он не хочет мне помочь. По дороге к конюшне я сказал ему глупую фразу. «Подумаешь, — сказал я, — лошадь не вертолёт. Надо быть последним дураком, чтобы не суметь справиться с ней». И вот теперь он стоял и смотрел, как я сам доказывал себе, какой я есть последний на свете дурак.
Прибежал Лёнька и закричал:
— Чего же это вы делаете с конём? Не умеете запрягать, так бы и сказали. Зачем же его по двору гонять?
Тогда Алёша выплюнул свою травинку и спокойно сказал:
— А с чего это ты взял, что мы не умеем запрягать?
— А с того, что вы из Москвы приехали. Мне в правлении сказали.
— А хоть и из Ленинграда! Выходит, если мы приезжие, значит хуже тебя?
— Хуже не хуже, а не вашего это ума дело — коня запрягать. А ну, ты! Перестань руками махать, не пугай коня. Отойди, сам запрягу.
— Чудак человек! Ты лучше не кричи, а сядь на брёвнышко и отдохни. Мы, если хочешь знать, коня специально вывели во двор. Застоялся он у тебя, вот мы и гоняем его, чтобы размять.
Алёша подошёл к Серко, взял его за уздечку и потянул за собой. Это было непостижимо, но упрямый конь вмиг позабыл о своём упрямстве, высоко поднял голову и послушно пошёл за Алёшей.
А всего, что произошло дальше, я уж никак не мог ожидать.
Алёша потрепал коня по шее, поднял хомут, и то ли шире стал хомут, то ли голова у лошади Серко стала уже, но хомут сразу оказался на месте. В этом была своя хитрость. Алёша надевал хомут вверх ногами, а потом, уже на шее, перевернул его. Алёша расправил на туловище коня шлею, перекинув через неё хвост, на спину коня положил маленькое седло и пристегнул его широким, как у пожарного, ремнём.
Не веря своим глазам, смотрел я, как он неторопливо делал всё это. Потом Алёша поставил коня между оглоблями телеги, лежащими на земле, и поднял одну из них левой рукой. Внизу у хомута с каждой стороны была кожаная петля. Алёша подцепил её кончиком дуги, повернул дугу, и она оказалась прикреплённой к оглобле. Даже не взглянув на меня, он пошёл к другой оглобле, поднял её и приставил к ней дугу. Перекинув сверху через оглоблю вторую кожаную петлю, он ловко насадил её на торчащий кончик дуги. Теперь конь был впряжён в телегу, но был он похож на расхлябанного человека с распахнутым воротником. Снизу на хомуте были два деревянных крюка и рядом болтался длинный ремешок. Алёша обкрутил ремешок вокруг крюков и стал тянуть за него, упёршись в крюк ногой. Крюки сошлись, и хомут, как застёгнутый на пуговицу воротничок, сразу плотно обхватил лошадиную шею. Но и это ещё было не всё. На одной оглобле посередине был ремешок, который надо было пропустить через колечко на маленьком седле на спине коня и привязать его к другой оглобле. Потом Алёша размотал и пристегнул вожжи и ловко, одним движением засунул коню в рот удила.
Если бы Алёша сел за руль автомобиля и повёз меня по самым оживлённым улицам Москвы, я удивился бы меньше.
Лёнька подошёл к телеге, ухватился двумя руками за оглоблю, потряс её и одобрительно сказал:
— Ладно, вроде бы сойдёт, — Он пошёл и открыл ворота. — Трогай! Только шибко не гони: конь с норовом, понесёт — не удержишь.
— Где же ты лошадь научился запрягать? — спросил я у Алёши.
— Известно где, в деревне. Мы с отцом каждый год к его брату ездим гостить. На охоту ходим, сено косим и вообще отдыхаем от городских дел.
Жеребьёвка жеребьёвкой, но было бы просто смешным напоминать о ней Алёше. Я взобрался на телегу, рассчитывая быть простым пассажиром. Но Алёша дал мне в руки вожжи.
— Держи. Только осторожней, забор не сверни, музыкант.
— Будь уверен, — облегчённо вздохнул я. — Ты не смотри, что я запрягать не могу, лошадью править — совсем другое дело.
Алёша уселся на телегу с другой стороны, но Лёнька попросил его помочь запереть конюшню. Серко положил голову на оглоблю и смотрел на меня, словно не веря, что мне доверили командовать им, но я показал ему вожжи, крепко зажатые в моих руках, и он, поверив, отвернулся и принялся махать головой. И вдруг, не дожидаясь моей команды, он пошёл вперёд.
— Но! — сказал я, чтобы остановить его, но он не остановился.
— Но! Но! Куда ты? — крикнул я упрямому коню и дёрнул вожжи, чтобы потянуть его назад, но Серко только прибавил шагу.
— Но-о-о! — закричал я что есть духу и погрозил кулаком. Но конь не хотел останавливаться. Он побежал. Телега дёрнулась, и я опрокинулся на спину и выронил вожжи.
Как меня не вытряхнуло, не понимаю. Телега прыгала по кочкам и громыхала. Я приподнялся и увидел перед собой мелькающие ноги коня. Потом я увидел вожжи. Они зацепились за край телеги. Я потянул их на себя и увидел, что правая вожжа запуталась у Серко в ногах. Я огляделся. Мы скакали по полю. Слева был лес, справа — река. Я понял, что мне нипочём не остановить этого упрямца, которого почему-то величают мирным домашним животным. Он был ещё хуже необъезженного мустанга: тот бежит сам по себе, а этот тащит за собой телегу, в которой сижу я. Надо было действовать. Я решил повернуть его на дорогу, которая шла вдоль леса. С силой я потянул на себя вожжу, которую держал в левой руке, но упрямец повернул направо, к реке.
Помню, я уже собирался выпрыгнуть из телеги. Не нырять же мне в реку из-за того, что коню вдруг взбрело в голову искупаться вместе с телегой. До берега оставалось каких-нибудь метров сто, и я уже примеривался, в какую сторону лучше сигануть, как на телегу сзади взобрался запыхавшийся Алёша. Он выхватил у меня вожжи и, упёршись о передок телеги, откинулся назад. Лошадь запрокинула голову, остановилась и заржала.
— Ну и конь! — сказал я. — Прямо вулканическое извержение, а не конь. И как это тебе удалось догнать его?
— А я на… пе… ре… рез, — с трудом переводя дыхание, ответил Алёша.
— Я его как только увидел, так и понял, что он не в себе. Я ему кричу: «Но! Но-о!», а он, понимаешь, и слушать не хочет, бежит.
— А ты бы ему, дурья башка, «тпру» попробовал закричать.
— Да?
— Да. Ты уж его прости, только он с детства к этому приучен… Тоже мне конник! «Тпру» от «но» не может отличить. Иди вожжи распутай.
— Ещё лягнёт. Честное слово, ненормальный он. Что я ему вместо «тпру» «но» кричал, это верно. Это я сгоряча перепутал. Только где левая сторона, где правая, я знаю. Я его налево тяну, а он, мастодонт проклятый, направо бежит.
— А жаль, что он тебя в реке не искупал. Лево от права ты, может, и отличишь, а вот поглядеть, куда какая вожжа идёт, на это твоего ума маловато, видать. Видишь, вожжи переплелись? Ты левой рукой какую вожжу тянул? Ясно?.. Иди, говорю, вожжи распутай. Ну?!
Мы ругались совсем недолго. Мы выехали на дорогу и, не спеша поехали к саду. На минуту мне вдруг показалось, что Алёша спас меня и что нас связывает уже не только наша проклятая жизнь вне закона.
И как только мои родители могли подумать, что Алёша пай-мальчик! В эту минуту мне казалось, что он просто необыкновенный, замечательный человек. Вот только не всегда, как говорят взрослые, бывает на высоте положения. Бывает, что ему и удаётся попасть на эту высоту, но долго ему там ни за что не усидеть.
Вот и сейчас, пока я так хорошо думал о нём, он вдруг рассмеялся, хлопнул себя ладонью по лбу и воскликнул:
— Вспомнил! Вспомнил, откуда у меня в рюкзаке оказались эти десять рублей! (Я не сразу сообразил, что он говорит про деньги, которые мы перевели Вениамину Павловичу по телеграфу.) Это же бабушка мне их в платок завернула. «Вот, — говорит, — тебе и Маринке на лагерные расходы». — И он опять рассмеялся: — Подумать только! Собственные деньги — фьють! — «с совершеннейшим к вам почтением»… Идиот!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Степан Петрович пришёл, как и обещал, часа через четыре. Но мы всё равно не захотели уходить, до того нам понравилось работать в саду. Домой мы опять вернулись только под вечер. Всю дорогу мы по очереди несли мешок яблок, подаренных нам, и очень устали. Алёша сразу бухнулся в кровать, а мне ложиться не хотелось, я устал ничуть не меньше Алёши, но он был спокоен, а я нет. Я сказал совсем неожиданно для себя: — А знаешь, Алёша, удивительные вещи происходят со мной. Если бы мне сказали в Москве, что я свои крючки могу какому-то старичку отдать, не поверил бы ни за что. А тут вот взял и отдал. И даже приятно стало, что вот взял и отдал. Отдал — и не жалко. Почему это, а?..
Но Алёша не ответил мне. Он спал.
Я распахнул дверь, подпрыгнул, повис на притолоке и подтянулся. Когда я спрыгнул на пол, то увидел, что передо мной стоит старшая вожатая. Её появление в комнате казалось мне необъяснимым чудом. Я даже протёр глаза от изумления, а Валентина Степановна протянула ко мне руку, словно предлагая убедиться, что это она.
— Добегался, Корзинкин? Живого человека начинаешь за привидение принимать?.. Петухов!
Не открывая глаз, Алёша приподнялся на локте.
— Бабушка, ну зачем ты разбудила меня?
— И этот уже не может вожатую от бабушки отличить! Петухов!
— А, это вы, Валентина Степановна?
— Да, — с трудом сдерживая гнев, сказала Валентина Степановна, — это я, а не бабушка, которая, я вижу, тебя распустила до того, что ты ложишься в постель, не снимая сандалий. Посмотри на себя!
Алёша спустил с кровати ноги и посмотрел на себя.
— Можно подумать, что ты мешки двухпудовые таскал.
— Приходилось и мешки, — потягиваясь, ответил Алёша. — Мне бы только отоспаться теперь.
— Искупаться бы хорошо, — сказал я, достал из кармана яблоко и откусил кусок.
— Купание придётся вам отложить до лучших времён, — сказала старшая вожатая. Она забрала у меня яблоко, помыла его водой из графина и отдала обратно. — Утром вы соберёте свои вещи и отправитесь в Москву.
— Валентина Степановна!
— Да, в Москву. Я не спрашиваю, где вы были целый день. Очевидно, как и вчера, у вас не хватит мужества ответить. Вы вышли у меня из доверия, Корзинкин и Петухов!
Она направилась к двери и остановилась.
— Вы даже не возражаете? (Мы молчали.) И очень хорошо. А это что?
— Яблоки.
— Целый мешок? Гм. Откуда они у вас?
— Это мы из колхозного сада принесли.
Валентина Степановна схватилась за голову руками.
— Боже мой! И они ещё смеют признаваться, что лазили за яблоками в колхозный сад!.. Утром!.. С первым же поездом!.. В Москву!!!
Вожатая вышла, и Алёша сказал, помолчав:
— На чём и оканчивается наша лагерная жизнь.
— Как это оканчивается? — возмутился я. — Здорово живёшь! 3а что? За то, что мы работали в колхозном саду? За то, что людям помогли? За то, что сам председатель колхоза нас благодарил? Ты чего молчал, когда она подумала про яблоки, будто ворованные, они? Надо было сказать, что нам их выдали вроде как на трудодни.
— Догони и скажи.
— И скажу.
— И скажи. А она спросит: «А с чего это вы вдруг отправились колхозу помогать?»
— А затем, чтобы старик Пеночкин лодку проконопатить успел, — запальчиво ответил я, будто передо мной был не Алёша, а сама старшая вожатая.
— Ах, значит, вы вместо Пеночкина работали в саду? — подражая вожатой, сказал Алёша, подозрительно оглядев меня с головы до ног. — Уважение старости решили оказать? А откуда вы знаете этого старичка?
— А я скажу… скажу…
— Нечего нам больше говорить, — вздохнув, сказал Алёша, — Начнёшь объяснять, так она непременно докопается, что мы в лагерь приехали, убежав из милиции. Нет уж, видно, придётся и в самом деле вещички собирать.
Мы замолчали, и в головы нам полезли всякие горькие мысли. Сейчас нам казалось, нет ничего страшнее возвращения в Москву. Но мы не знали, что самое страшное у нас всё равно ещё впереди.
С огромным листом свёрнутой в трубку бумаги к окну подошла Маринка.
— Эй, мальчики, гвоздиков у вас нет?
— Нет. Уйди.
— А чем же мы тогда стенгазету будем прибивать?
Я очень удивился.
— А нам всё равно, чем вы её будете прибивать.
— Конечно, не всё равно. Здесь и про вас карикатура есть.
— Ну да! — бросился Алёша к окну. — Покажи!
— Дайте гвоздики, тогда покажу.
— Странный ты, Марина, человек. Что тут, столярная мастерская, что ли, у нас?
Алёша протянул к, стенгазете руку, но Марина спрятала её за спину.
— А вы по карманам поищите. У всех мальчишек в карманах винтики или гвоздики есть.
Такая маленькая и такая вредная была эта девчонка. Я даже сплюнул на пол, показывая своё отношение к поведению Маринки.
— Я бы, Алёша, с твоей сестрою и часа вместе не прожил.
— Что же ты думаешь, я её сам выбирал?
Но всё это мы говорили для того, чтобы уколоть Маринку. За этими словами мы пытались скрыть смущение: девчонка ставила условие, и нам приходилось его принимать.
— Вот уж не думал, что ты в редколлегию попадёшь, — говорил Алёша, роясь в карманах, — пишешь ты, как курица лапой, рисуешь так, что паровоз от слона нельзя отличить…
— Во-первых, — сказала Маринка, принимая первый гвоздик, — рисую я в два раза лучше тебя, потому что у меня по рисованию пятёрка, а у тебя тройка с минусом стоит. Во-вторых, — Маринка получила второй гвоздь, — в редколлегию меня никто не выбирал. Это Вера попросила меня вместо неё стенгазету принести, потому что некогда ей…
— А в-третьих что? — презрительно скривив губы, спросил я, передавая ей единственный гвоздь (я нашёл его в кармане Алёшиных брюк, которые я носил уже два дня и почти привык считать своими).
— А в-третьих, читайте скорей. Меня редколлегия ждёт.
Маринка передала нам стенгазету и исчезла. Мы развернули огромный лист и сразу наткнулись на карикатуру.
— Здорово изобразили они тебя! — засмеялся Алёша. — Уши, как у осла, нос морковкой, а ножки тоненькие, как у паучка… А где же я? Ага, вот и моя нога из-за дерева торчит.
Алёша очень обрадовался, не найдя на карикатуре своего лица, и даже загордился.
— Это они меня за дерево потому спрятали, что на меня карикатуру очень трудно нарисовать. Ничего смешного в моём лице нет. Это, наверно, про то, как мы вчера утром от зарядки прятались с тобой. А что это изо рта вылезает у тебя, будто мыльный пузырь?
— Это не пузырь, — хмуро ответил я, — это как будто я говорю. Видишь, слова написаны в нём.
— «Выходи, Толя, — прочёл Алёша, — зарядка окончилась, можно завтракать идти…» Здорово! Что же это получается? Выходит, ты сам себе это говоришь?
— Это получается, — сразу просветлел я, — что это не ты, а я за деревом стою.
Алёша обиделся и стал ощупывать свои уши и нос.
— Когда у художника таланта нет, он обязательно всё шиворот-навыворот изобразит.
И тут под карикатурой мы прочли: «Братья-разбойники».
Значение этой подписи сразу дошло до нас, и мы застыли с раскрытыми ртами, глядя друг на друга. Потом я опомнился и сжал кулаки.
— Говорил я тебе, что ей надо по шее надавать! А ты психологию развёл. — Я достал из Алёшиной тумбочки ножницы и кинулся к стенгазете.
— Ты что?
— Пусти… Пусти, тебе говорят! Я сейчас эту мазню вырежу и на мелкие кусочки разорву.
— Болван! — Алёша толкнул меня так, что я полетел на кровать. — За такие дела, если хочешь знать, могут и из пионеров исключить.
— А если про наши подвиги узнают? — всхлипнув, сказал я. — Думаешь, благодарность будут нам объявлять?
— Одну карикатуру вырежешь — они сто других нарисуют. Да ещё презирать будут, что ты от критики спрятаться захотел.
— Мораль ты, я вижу, научился читать. Лучше скажи, что дальше?
— Ничего, — вздохнул Алёша и, сжав кулак, потряс им.
— Придётся с этой Веркой по-другому поговорить. Может, она ещё не всё успела ребятам рассказать. Марина!
— Что? — спросила Марина, появляясь в окне.
— Верка твоя где?
— Убежала.
— Куда?
— В лес.
— Куда?!
— Я же тебе рассказывала уже. Она после ужина прибежала и говорит: «Газету ребятам отнеси! А спать меня не жди, не приду». Я спрашиваю: «Куда ты?», а она говорит: «Некогда мне, потом расскажу».
— Врёт она всё! — убеждённо сказал я. — Это Верка придумала, чтобы мы не искали её.
Но Алёша только отмахнулся от меня.
— А ты не заметила, в какую она сторону побежала?
— А тебе зачем? — подозрительно спросила Маринка.
— А ты не спрашивай, когда тебе самой вопрос задают! — угрожающе надвигаясь на Маринку, сказал я.
Маринка посмотрела на меня с удивлением и спросила у брата:
— Это она тебе нужна или ему?
— Ему, — ответил Алёша и усмехнулся. — Он твою Верку к скале прикуёт и калёным железом будет ей язык выжигать.
Маринка, прежде чем исчезнуть, сказала:
— И когда, Алёша, ты научишься товарищей себе умных выбирать?
— Маринка эта твоя! — в сердцах сказал я и ещё раз сплюнул, — Ни одному её слову верить нельзя. Какая же это девчонка осмелится ночью в лес убежать?
Вместо Алёшиного ответа я услышал отдалённый гром. Алёша подошёл к окну и поглядел на небо.
— Ну, а если она действительно в лес ушла? — спросил он. — Ты плечами не пожимай… Собирайся!
— Куда?
— В лес.
— В лес?!
Алёша уже рылся в своём рюкзаке. Он извлёк оттуда кепку, компас, фонарик и плащ-накидку, которую швырнул на мою кровать.
— Никогда не думал, что Веру можно до такого состояния напугать. Понимаешь, как было дело? Сперва она по девчоночьей привычке, проговорилась про нас, а потом вспомнила, каким наказанием ты ей угрожал, когда комедию ломал, и побежала куда глаза глядят. Разве я мог подумать, что она это твоё кривлянье примет всерьёз!
— Ты что же, — заикаясь, спросил я, — хочешь за нею в лес отправиться? Так я всё это должен понимать?
— А ты что же, собираешься сидеть дома, когда из-за твоей глупости человек может заблудиться и погибнуть в лесу? Палку захвати — я у тебя под кроватью палку видел.
Я выглянул в окно и увидел низкие чёрные тучи. Я, конечно, не боюсь грозы, но гром действует мне на нервы. Я представил себе, что меня ждёт в лесу, но, подчиняясь неизбежному, полез под кровать за палкой. Я пошарил рукой и вытащил рюкзак. Эта находка до того ошеломила меня, что несколько секунд я стоял над ним, как над бомбой, готовой вот-вот разорваться. Потом я подбежал к двери и закрыл её на крючок.
— Это зачем? — спросил ничего не понимающий Алёша.
— А затем, что пропали мы с тобой, — дрожащим голосом ответил я. — Нам, может, ещё несколько минут осталось на свободе жить. — Я раскрыл рюкзак и вытащил из него панаму, на которой было вышито моё имя. — Видал? Это мой рюкзак. Тот самый, что в милиции остался тогда. Не веришь? Да провалиться мне на месте, если не он!
Алёша повертел в руках мою панаму и задумчиво сказал:
— Так… Значит, выследили они нас.
— Бежим!
— Куда? Они, наверно, с ищейками по нашему следу пришли. Марина где?
— Вон под навесом стенгазету прибивает к щиту.
— Марина! — закричал Алёша в окно.
— Чего?
— Иди сюда, если брат зовёт.
— Так ведь дождь… — появляясь у окна, сказала Марина.
— Не сахарная. Ну-ка, припомни, тут по лагерю никто подозрительный не ходил?
— Ходил.
— Кто?
— Я же говорила тебе: разбойник ходил вчера.
— Да разве, дурья голова, — вскипел я, — он про разбойников спрашивает тебя?
— Может, сегодня кто из посторонних по лагерю ходил?
— Ты Тольке своему скажи, если он будет меня дурьей головой обзывать, я к вашему окну совсем никогда не буду подходить.
— Ладно, скажу. Потом… Ходил или не ходил?
— Ходил. Милиционер один приехал.
— С собаками? — воскликнул я.
Марина, не желая разговаривать со мной, повернулась к Алёше:
— Какие собаки, если он на мотоцикле приехал!
— А ну-ка, лезь сюда! — сказал Алёша и втащил Маринку через окно. — Теперь слушай. Будешь в комнате сидеть. Если милиционер постучится, скажешь, что видела, как мы с Толей по дороге на станцию шли.
— Зачем же на станцию? — тихо, отведя Алёшу в сторону, сказал я. — Надо его со следа сбить, сказать, что мы совсем в другую сторону ушли.
— С тобой посоветоваться забыл! Так и выходит у нас: он за нами на станцию отправится, а мы за это время Веру успеем в лесу разыскать.
Ну что же, это было правильно. Нам с Алёшей всё равно погибать. Надо было перед этим хоть Веру вызволить из беды.
Маринка сидела на стуле и, хлопая глазами, смотрела то на меня, то на брата. Алёша захватил фонарик, и, предоставив Маринке думать о нашем поведении всё, что ей вздумается, мы выскочили в окно.
Возле калитки стоял мотоцикл с коляской. Уже шёл дождь, но на мотоцикле сидели братья Рыжковы. Старший наклонился и вцепился в руль обеими руками. Младший сидел сзади и тарахтел, изображая мотор. Увидев меня и Алёшу, они соскочили с сиденья и, выхватив деревянные пистолеты, бросились к нам.
— Стой! — закричал Митя. — Сдавайтесь! Вы арестованы.
Я так и не понял: то ли это была игра, то ли они были заодно с милицией. Мы сбили братьев с ног и бросились к лесу.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
— Алёша! Ау! Эй! Алёша! Ты где?
— Не видишь, что ли? Здесь.
Из-за дерева появился Алёша и шагнул ко мне.
— Я не сова, чтобы видеть в темноте, — обиженно сказал я, — Заблудились мы с тобой.
— Верно, Толя, — не сразу ответил Алёша, — ты не сова. Ты ворона. Каркаешь каждые пять минут: «Заблудились мы с тобой, заблудились мы с тобой». Вот выйдет луна, я на компас посмотрю, и дальше пойдём.
— Куда? — спросил я и присел на какую-то корягу.
— Куда надо, туда и пойдём. Может, на север пойдём. А может, и на юг. Нам до реки бы добраться с тобой, а там уж мы по берегу выйдем куда-нибудь.
— И Веру не найдём, и сами погибнем в лесу.
— Карр! Карр!!
— Не остроумно. Медведя не встретить бы нам.
— Карр!
— Дядя Пантелей говорил, что в этом лесу медведи есть. Я вот встану сейчас да домой уйду.
— С тебя станется, иди.
— Может, на север, а может, и на юг! — передразнил я Алёшу и вырвал у него из рук компас. — Дай сюда! Теперь я буду тебя вести. И вот ещё что: ты Верке не кричи, потому что от нашего крика она не к нам, а от нас будет бежать.
— Верно, — сказал Алёша, и даже в темноте я почувствовал, что он усмехнулся, — голова-то у тебя варит иногда.
Я вскочил и схватил Алёшу за рубашку на груди.
— Ну! — стряхнул мои руки Алёша, — Не злись… Что-то я раньше за тобой такой обидчивости не замечал.
Мы ссорились, потому что устали. Уже два часа бродили мы по тёмному лесу. Гроза прошла стороной, но и на наши головы туча вылила не одну цистерну воды. Мы вымокли до нитки, и нам уже стало всё равно, идёт дождь или перестал. Мы шли наугад и до хрипоты кричали Вере, что это мы и что бояться нас не надо. Я свалился в канаву, потерял фонарик, и дальше пришлось идти на ощупь. Было холодно и страшно. Изредка в разрыве туч показывалась одинокая звезда. Нас обступали деревья, и казалось, что смотришь на неё со дна глубокого колодца.
Потом мы заблудились.
И подумать только, что всё это началось с тюбетейки, которую ветер сорвал у меня с головы!
— Идём, — сказал я, — я замёрз, не могу больше без движения сидеть.
Выставив руки, мы пошли вперёд, натыкаясь на стволы деревьев. Наконец вышла луна, и стало ещё страшнее. Загадочные тени легли на землю, закачались верхушки деревьев, и всё вокруг — пни, коряги, холмики — приняло самые фантастические формы.
Стараясь не смотреть по сторонам, я поднёс компас к самым глазам и определил, что север у нас за спиной.
— Если север у нас сзади, — спросил я, щёлкая зубами, — то впереди мы видим что?
— Впереди мы видим речку! — радостно сказал Алёша и стукнул меня по плечу. — Я говорил, как по этому лесу ни петляй, всё равно выйдешь к реке.
Действительно, впереди за деревьями тускло блестела река. Потом мы увидели, как чуть левее на берегу вспыхнула спичка. Огонёк опустился вниз, почти коснулся земли и стал расти, разбегаясь в стороны и вверх. Два человека, сидя на корточках, разжигали костёр. Алёша сказал мне «Тш-ш», встал на пенёк и с минуту наблюдал за неизвестными, сидящими к нам спиной людьми в плащах, с острыми капюшонами на голове. Потом он соскочил, тихо вскрикнул и, обхватив руками левую ногу, сел на пенёк.
— Ты что?
— Ничего. Оступился.
Он встал, ступил на левую ногу и опять сел.
— Скажи, пожалуйста! Совсем не могу идти.
— Может, перелом?
— Какой, перелом? Вывих!
— Обопрись на меня. Я тебя до костра доведу.
— Нет, Толя, от этого костра нам надо сломя голову бежать.
— Беги.
— Вот посижу немного, и побежим. Я тебе серьёзно говорю. Ты к капюшонам присмотрись. Я таких в деревне ни у кого не видел.
— Ты что же думаешь, это милиция на берегу сидит?
— Определённо.
— Ты, может, считаешь, что они и весь лес окружили сейчас?
— А как же? С чего бы это двое из них на берегу стали сидеть?
— Больной ты, Алёша, человек, вот что я тебе скажу. Мания величия у тебя. Вся московская милиция приехала его ловить. Идём! Некогда тут возиться с тобой.
— А ты не возись, — зло ответил Алёша и оттолкнул меня. — Иди!
— Скажешь! Как же я брошу тебя?
— Ты уже не раз собирался меня бросать, вот и бросай. Ты же с детства привык мимо чужой беды проходить.
Эти слова, как кнутом, стеганули меня, и, словно лошадь, я взвился на дыбы.
— А ну, повтори! — сказал я и полез на Алёшу с кулаками.
— И повторю. Тебе лишь бы самому в беду не попасть, а до других тебе дела нет.
Это было непостижимо! Если бы три дня назад мне сказали такие слова, я бы только усмехнулся. Но сейчас я думал, что ничего на свете не может быть оскорбительней. Я, конечно, поступил подло, но в эту минуту я совсем забыл про Алёшину ногу. Я кинулся на него, повалил на землю и чуть было не стукнул его кулаком по лицу. Но Алёша оказался сильнее меня. Он не хотел драться со мной. Он только схватил меня за руки и стал выворачивать их. И вдруг мы замерли, ослеплённые ярким светом.
Из мрака за лучом фонарика насмешливый, спокойный голос сказал:
— Что же это вы? Такие неразлучные друзья, братья, как говорится, разбойники, и вдруг такое несоответствие — драка!
Это был Степан Петрович Пеночкин. Фонарик погас, и при свете луны мы увидели второго человека, склонившегося над нами. Это был не кто-нибудь, а сам старшина милиции товарищ Березайко.
«Ну, вот и всё! — мелькнуло у меня в голове, — Рука правосудия, как красиво пишут в книгах, настигла нас. И что ей, этой руке, до того, что я не виноват, что за последние три дня стал совсем другим человеком? Родная мама и та не узнала бы меня. Правда, и до этого я не совершал никаких преступлений. Но на многое в жизни смотрел я совсем другими глазами. И видели те глаза всё в жизни вкривь и вкось. И совсем не Алёша Петухов, а дядя Пантелей показался бы им тогда замечательным человеком. Но, конечно, это не преступление и за это надо не судить, а перевоспитывать меня. Только разве всё это рука правосудия поймёт? Ведь недаром же она рука, а не голова…»
Алёша отпустил меня, и я приподнялся.
— Вы меня не держите, — сказал я, хотя старшина и не думал дотрагиваться до нас, — я сейчас всё равно не убегу.
— А зачем же тебе бежать от меня? — спросил старшина и опустил руку в карман. Но достал он оттуда не пистолет, а папиросы и спички.
— Это, верно, — глубоко вздохнул я, — от вас всё равно не убежишь. Только вот что я вам скажу, товарищ старшина. Потом вы можете с нами делать что хотите, но сейчас не арестовывайте нас. Могу вам даже честное пионерское дать: как только мы одного человека спасём, сами к вам в милицию придём. А ещё лучше, если и вы поможете нам её в лесу отыскать. Раз вы милиция, значит должны людей из беды выручать. Правда, Алёша? У тебя вот нога подвернулась. Самим нам теперь её ни за что не найти.
Старшина присел рядом со мною на корточки и зачем-то осветил фонариком моё лицо.
— Ты погоди, Корзинкин, спокойно говори, думай, будто каждое твоё слово в протокол будет занесено. Рассказывай толком: кого надо спасать?
— Девчонка одна из лагеря убежала, — сказал Алёша.
— Какая девчонка?
— Ну, та самая, с которой вы ещё в Москве ловили нас, — ответил я. — Рыжая. И дура.
— Выдали характеристику, — сказал Пеночкин. — За что же, умник, ты её в дурочки записал?
— А разве умный человек ночью в лес побежит? Вы лучше скажите, поможете нам искать её или нет?
— Да как тебе сказать… — ответил Березайко. — Вроде бы и незачем её искать.
— Вам, значит, всё равно, если человек заблудится и погибнет в этом дремучем лесу?
Но старшина не ответил мне. Он только переглянулся с Пеночкиным и улыбнулся. Мы помогли Алёше подняться, и все вместе подошли к костру. Здесь мы увидели палатку. Старшина, всё не переставая улыбаться, подвёл нас к ней и посветил фонариком внутрь. Там, свернувшись калачиком, на надувном матраце спала Вера.
— Нашлась! — радостно закричал я и рванулся в палатку, но Пеночкин удержал меня:
— Да тихо ты, разбойник! Разве не видишь, спит человек?
— Видал, хитра до чего! — сказал я Алёше. — Мы с тобой под дождём два часа бродим из-за неё, зубами стучим, а она преспокойно под крышей спит и даже улыбается.
— В лагере, наверное, ищут её, — угрюмо заметил Алёша.
— Её-то? Не должны, — сказал Пеночкин. — Поскольку на сегодняшнюю отлучку вожатой разрешение специальное дано.
— Что это за праздник такой сегодня у нас? — всё так же хмуро поинтересовался Алёша.
— Для тебя он, может, и невелик, а для неё праздник. Отец её на два дня прибыл сюда.
Товарищ Березайко улыбнулся, потом щёлкнул каблуками, отдал нам честь и протянул руку:
— Будем знакомы. Как отец этой рыжей девчонки, прошу извинить, что напрасно потревожились вы из-за неё.
Я до того привык удивляться за эти два дня, что у меня уже не было сил удивляться.
— Стечение обстоятельств, — сказал я Алёше и осторожно пожал руку старшине. — Вы меня, конечно, извините за то, что я её дурой обозвал…
С Верою было всё в порядке, и теперь мы могли подумать и о своей судьбе.
— В Москву нас сейчас повезёте или до утра подождём? — спросил я, когда мы сидели возле костра и старшина, осмотрев Алёшину ногу, перетянул её своим носовым платком.
— В Москву? — с недоумением переспросил старшина и улыбнулся. — А вы, стало быть, всё ещё нарушителями считаете себя?
— Мы не считаем. Это вы считаете, если хотите нас в милицию обратно отвезти.
— Не медали же вам за ваши проделки выдавать!
— Мы вам объясняли: стечение обстоятельств. Не верите — не надо, — сказал я.
— Опять же из милиции вы убежали, — всё так же улыбаясь, сказал старшина, — доверие обманули моё.
— А ведь они, как явствует, — вмешался в разговор Степан Петрович, — полагают, что ты специально за ними из Москвы прикатил. Так?
— Ну, может, и не специально, — угрюмо ответил я, — может, и на Веру посмотреть заодно.
— Раньше, помнится, всё больше Алёша за тебя говорил, — сказал старшина и расхохотался. — А глупые вы, выходит, хлопцы, вот что я вам скажу. Моя Вера вам в этом деле, — он покрутил пальцем у виска, — сто очков вперёд даст.
Старшина милиции товарищ Березайко подтолкнул плечом Степана Петровича и, не переставая смеяться, принялся рассказывать ему нашу историю. Я понял, что рассказывает он её уже не в первый раз.
— Возвращаюсь я тогда, Степан Петрович, и вижу: задержанных моих и след простыл. Я туда, сюда, к двери, к окну — нету, будто ветром унесло. Родителей Петухова я тогда разыскал. С соседями Корзинкина обстоятельную беседу имел. Вижу, не могут ребята все эти поступки по злому умыслу совершить. Действительно, печальное стечение обстоятельств… Про Анатолия прямо говорят: трус и прежде всего о своём покое думать привык, неспособен он всё, что у вас в протоколе записано, по злому умыслу совершить. Ты уж, Анатолий, меня извини, как было, так и говорю. Тётя Катя твоя очень беспокоилась, как ты тут в лагере без рюкзака будешь существовать. Успокоил я её, говорю: «Я как раз в те края на рыбалку еду на три дня, отец дружка моего фронтового там в деревне возле самой речки живёт». Обещал я ей рюкзак с собой захватить…
Старшина вдруг замолчал и прислушался.
— Карась плеснул. Играет. Эй, хлопцы, а самое это разлюбезное занятие — ночь у костра просидеть, а рассвет с удочками в руках встречать.
Я думал, что старшина теперь долго будет говорить про природу что-нибудь лирическое, но он опять вернулся к нашему разговору.
— Ну, оставался ещё у меня и протокол, где все ваши художества изложены. Да и свидетельские показания тоже документ. Однако на имя начальника от одного свидетеля вскоре письмо пришло.
— От какого свидетеля? — спросил я, опять пугаясь этого слова.
— А вот от Пеночкина Степана Петровича. Что, дескать, снимает все свои обвинения, поскольку познакомился с задержанными, разобрался и видит, что все их поступки никак невозможно злым умыслом объяснить.
— Это когда же он познакомился с нами?
— Да в тот самый день, когда вы в гости пожаловали ко мне, старику, — ответил Алёше Степан Петрович.
— Неужели вы нас прямо сразу и узнали?! — удивился Алёша, — Значит, вы всё это время обманывали нас?
— Был грех. Однако я так рассудил: вы меня обманываете, почему же и мне, старику, вас не обмануть? А память у меня хоть и стариковская, а пока ни разу не подвела. И на сообразительность пожаловаться не могу.
Пеночкин заварил чай прямо в котелке и налил нам с Алёшей по полной кружке. Потом он обнял нас за плечи и привлёк к себе:
— Горячий вы народ, как я погляжу! — и он засмеялся жидким, дребезжащим смехом, — валенки-то… Слышь, Тимофей, валенки-то, говорю… Вы уж извините, добрые молодцы, старика, а не мог я их от вас в подарок принять. Я ведь тут первый мастер валенки подшивать. По заплате могу определить, какие чьи. Так что я их в тот же день Пантелею и отнёс. А крючки я вам обратно верну, поскольку от истинного Вени Басова нынче свои получил.
— Алёша, — сказал я, — помнишь, что шофёр Николай сказал, когда учил тебя разбойника на сцене играть? Он сказал: «Ты тут рожи не корчи. Это тебе высокая трагедия, а не водевиль». Ты спросил: «А что это такое, трагедия, и что такое водевиль?» А Николай сказал: «Трагедия — это когда с героями происходят разные трагические вещи и зрители верят, что происходят они всерьёз, а водевиль — это когда на сцене происходят с героями разные неприятности и недоразумения, а зритель знает, что всё выяснится и окончится благополучно, и ему уже заранее от всего, что он видит, смешно…» Так вот, никудышные мы, Алёша, артисты с тобой. Мы с тобой три дня думали, что это трагедия, а попали в водевиль.
— Ну и хорошо, что в водевиль, — улыбнувшись, ответил Алёша, — куда хуже было бы, если бы ты вместо водевиля в настоящую трагедию попал…
Я посмотрел на Алёшу. Лицо его было освещено костром и казалось очень серьёзным. И я подумал, как хорошо, что мы с ним оказались честными людьми. И это ничего, что нам пришлось три дня вне закона жить. Ведь про честного человека всё равно становится известно, что он честный… Позади меня раздался шорох. Я оглянулся и увидел Вениамина Павловича. Ощупывая перед собою пространство, он медленно приближался к костру. И только теперь я заметил, что сюда, к костру, ведёт тропинка, та самая, по которой мы только вчера утром спускались из лагеря к реке. Два часа мы петляли по лесу, а оказались в двадцати шагах от лагерных ворот.
— Заждались мы вас, — сказал Пеночкин Вениамину Павловичу, — беспокоиться начали уже.
— Извините, — протянул Басов руку старшине, а потом старичку. — Добрый вечер, добрый вечер.
Он протянул руку и нам, но вдруг на лице его появилось выражение испуга. Он протёр очки и ещё раз внимательно посмотрел на нас.
— Простите, — сказал он старшине вполголоса. Мне стало жаль его, потому что он выглядел очень смущённым. — Последнее время со мной происходят самые удивительные вещи, например — вот.
Он достал из кармана и показал старшине десятирублёвую бумажку.
— Я не очень полагаюсь на свои наблюдения, но не кажется ли вам, что эти двое и есть те самые, которые пытались в Москве похитить мои чемоданы? А?
— Эти? — удивлённо переспросил старшина и переглянулся с Пеночкиным.
— Может быть, конечно, я и перепутал что-нибудь, но…
— Перепутали, товарищ Басов, — твёрдо сказал старшина.
— Да? Ну и чудесно. А я, собственно, пришёл предупредить, чтобы не ждали вы меня. Я на рассвете прямо к камышам подойду. В лагере пропали двое ребят. То есть они постоянно пропадают и находятся, но, вожатая подняла такой переполох, что и мне придётся принять участие в поисках… Боже мой, какая тёмная ночь! Человека от осины с трудом отличишь.
— Петухов! Корзинкин! — где-то совсем рядом закричала вожатая, и мы с Алёшей подскочили. Но старшина удержал нас и посадил обратно.
— Что касается пропажи, то искать её нечего — вот она.
— Эти? — удивился Басов.
— Они.
— Ну и чудесно! — обрадовался он, схватил нас за руки и потащил в сторону леса. — Поймал! Валентина Степановна, поймал! Потом он остановился, приблизил ко мне своё лицо и пробормотал:
— Удивительное сходство! Удивительное!
Навстречу нам бежала старшая вожатая. За руку она вела Маринку. Маринка обрадовалась и закричала:
— Ты, Алёша, мне спасибо скажи! Это я весь лагерь на ноги подняла.
А Валентина Степановна заглянула нам в лица, убедилась, что это мы, и сказала:
— Завтра же домой. Категорически! Завтра же! В Москву!..
***
Но домой нас не отправили.
Утром на линейке нам объявили благодарность.
И не одну, а сразу две. Директор леспромхоза прислал телеграмму, а Марфа Семёновна приехала сама. Она предложила всему лагерю помочь колхозу в уборке урожая, и все согласились.
Телеграмму мне Валентина Степановна отдала, и я решил, что дома я её, будто почётную грамоту, к стенке прибью. В телеграмме директор благодарил меня и Алёшу Петухова, и я удивился, откуда он узнал Алёшину фамилию. Про свою я не удивился: её со сцены объявляли, когда я на аккордеоне играл, а Алёшину фамилию никто не объявлял. Я спросил об этом у Валентины Степановны, а она хитро прищурилась и сказала:
— Если ты, Корзинкин, дашь мне слово никому об этом не говорить, я отвечу на твой вопрос.
Я, конечно, дал честное слово, и тогда Валентина Степановна наклонилась к самому моему уху:
— Был там на вечере один человек, который с тебя и Алёши глаз не спускал. Как ты думаешь, кто?
— Ясно, кто, — сказал я, — Митька Рыжков или Костя. Кто же ещё?
— Нет, Корзинкин. Ходил этот человек по сцене в белом платье и говорил он вот так: «Она протянула вперёд руку и гордо откинула голову назад: «И ты, червь будешь приказывать?.. А если на твоё приказание ответят презрительным смехом?»
— Амалия! — воскликнул я. — Теперь я догадался, что это были вы. Я и тогда всё время сидел и думал: до чего же мне этот голос знаком!
Валентина Степановна приложила палец к губам и оглянулась.
— И, значит, в фанерной будке у реки репетировали тогда тоже вы? — зашептал я. — Неужели вы за два дня такую огромную роль выучили наизусть?
— Ну что ты! — ответила Валентина Степановна. — Я ведь и всю первую смену в этом лагере жила. Только помни уговор: об этом никому.
— Но почему? Знаете, как ребята обрадуются, когда узнают, что…
— Что их старшей, пионервожатой, — строго перебила меня Валентина Степановна, — два отъявленных разбойника признаются в любви? Нет, Корзинкин, в пионерской работе главное — это авторитет среди ребят.
И она направилась к трём девочкам, которые шли по аллее, обнявшись, и, пели песню. Сейчас по расписанию был не хоркружок а спортивные игры. А Валентина Степановна не любила беспорядка.
Потом ко мне подошла Вера и спросила, как там Алёшина нога. Я сказал, что это обыкновенный вывих и после обеда ему разрешат встать. Тогда Вера достала из кармана записку, которую ей передали братья Рыжковы, и, покраснев, спросила, правда ли, что написал её мой друг. Тогда я тоже покраснел от удовольствия, что она назвала Алёшу моим другом. Я не стал врать ей. Я сказал, что это написал Алёша, но не надо написанному верить. Это братья Рыжковы заставили его проявить героизм и написать ей такую записку. Такое уж тогда вышло печальное стечение обстоятельств для нас.
Вера вздохнула, разорвала записку и медленно пошла к столовой. И тут у меня мелькнула мысль, что Алёша написал в записке правду. Я вспомнил, какими глазами он смотрел на эту рыжую Верку и как он испугался, когда она вечером убежала в лес. Ну, конечно же, Алёша написал правду. Но я не побежал за Верой, чтобы сказать ей об этом. Не годится третьему вмешиваться в такие дела. Он, конечно, пускай рассуждает по-своему, а я девчонок всё равно не люблю. Пускай разбираются сами.
В это утро братья Рыжковы играли в регулирование уличного движения. Костя держал в руке палку, называл её жезлом и делал вид, что стоит на оживлённом перекрёстке. А Митя крутил воображаемый руль, дудел и ехал туда, куда ему указывала Костина палка. Но, увидев меня, они позабыли о своей игре, подбежали ко мне и стали наперебой говорить мне про то, как это здорово, что я за эти три дня так неожиданно для них переменился. Они хвалили меня и за леспромхоз и за работу в саду. И ещё они сказали, что это гениальная мысль — пойти всем лагерем работать в колхоз. Если б не я, сказали они, такая мысль бы и в голову не пришла никому. Мне было очень приятно слушать это, но я остановил их красноречие и сказал:
— Что вы тут разорались оба: «Молодец да молодец!» Когда преувеличивают, мне противно, слушать не могу. Если хотите знать, я тут и вовсе ни при чём.
— Рассказывай! Кто же тогда тут при чём?
— Ясно, кто, с гордостью сказал я, — мой лучший друг Алёша Петухов!
КОНЕЦ.
ОБ АВТОРЕ
Юные читатели!
Вы не раз, наверное, слушали по радио, па телевидению, читали в газетах, журналах, книгах весёлые, наполненные мягким юмором стихи автора этой книги Геннадия Семёновича Мамлина.
В детскую литературу Геннадий Семёнович пришёл в 1956 году с книгой «Никита Снегирёв». Затем вышли его книги «Лекарство от лени» и «О дяде Романе».
Повесть «А с Алёшкой мы друзья» — первая книга, написанная Геннадием. Семёновичем Мамлиным в прозе. Как вы уже убедились, прочитав эту книгу, и в ней, так же как и в своих стихах, писатель рассказывает о ваших сверстниках — двенадцати- четырнадцатилетних ребятах, о том, как они учатся, живут в пионерских лагерях, дружат, ссорятся, какие приключения порой переживают. Словом, все ваши ребячьи радости и горести близки сердцу писателя. И, высмеивая порой в своих произведениях недостатки ребят, писатель хочет одного — чтобы ребята от них избавились и выросли замечательными людьми, достойными своей великой Родины.






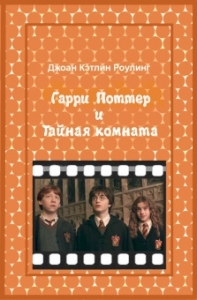



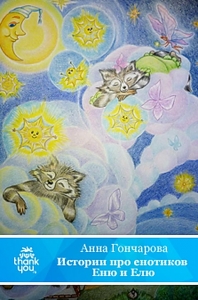

Комментарии к книге «А с Алёшкой мы друзья», Геннадий Семёнович Мамлин
Всего 0 комментариев