Хоуп Мирлис Город туманов
Памяти отца посвящаю
Сирены, как в древности, так и в современности, обозначают лишенные морального содержания жизненные порывы, властные желания, восторги любовные, художественные или философские; их волшебные голоса зовут человека из «Земли, куда стремится его сердце», к которой, внемля им, он может не возвратиться… но голоса эти будут петь и петь, проплывет ли он мимо, или остановится, чтобы послушать.
Джейн ХаррисонГлава I Натаниэль Шантеклер
Независимое государство Доримар — страна маленькая. С юга ограждена морем, с севера и востока — горами, между горами — просторная и богатая равнина, орошаемая двумя реками. Край этот весьма разнообразен — пейзажами и растительностью. На западе, удивительным образом контрастируя с пасторальной скромностью центральной равнины, облик этой земли становится если не тропическим, то уж, во всяком случае, экзотичным. Впрочем, чему удивляться: за Спорными горами, которые окружают Доримар с запада, лежит страна Фей или, как ее еще называют, Фейри. Однако государства эти не общаются между собой уже много столетий.
Общественным и торговым центром Доримара является его столица, город Луд туманный, расположенный у слияния обеих рек примерно в десяти милях от моря и в пятидесяти от Эльфовых гор.
В городе этом нетрудно отыскать все, что делает милым сердцу древнее поселение. Заросшая плющом старинная ратуша построена из радующего глаз золотистого кирпича, освещенная солнцем, она очень напоминает гнилой абрикос; есть в нем и гавань, в нее заходят суда под белыми, красными и бурыми парусами; а также невысокие кирпичные дома — не просто скорлупки, где прячутся человеческие создания, а древние живые существа, с каждым поколением обновляющиеся и изменяющиеся. Есть в нем стародавние арки, обрамляющие изящные ландшафты, и живописное старинное кладбище на самой вершине холма, и крохотные открытые площади, на которых несут караул забавные барочные статуи усопших граждан, окруженные стайками птиц, влюбленными парочками, роями насекомых и детей.
Не каждый город может похвастаться двумя реками. А Луд — может.
А деревьев в нем столько, что и представить себе невозможно.
Красивейший из домов Луда туманного из поколения в поколение принадлежал семье Шантеклеров, что на местном наречии означает петух. Дом сложен из красного кирпича, фасадом обращен в тихий переулок, выходящий на Высокую улицу, старательно оштукатурен, украшен изящными цветами, плодами и раковинами, а над дверью — задиристый стилизованный петушок — герб семейства. Позади дома — просторный сад, спускающийся к речке Пестрянке. Цветов здесь видимо-невидимо, однако растут они не везде, а только в окруженном стеной огороде, аккуратными лентами окаймляя грядки с овощами. Здесь же весной можно обнаружить приятнейшее среди всех возможных в саду сочетаний — густые тисовые изгороди и цветущие фруктовые деревья. За пределами огорода нужды в садовых цветах нет, ибо им находилось здесь множество заменителей. Ведь когда некая вещь оказывается не менее удивительной, чем первый букетик фиалок в марте, когда она своим изяществом, пестротой и неожиданностью намекает на то, что Создатель всецело поглощен эстетическими соображениями и сочетает предметы несочетаемые просто потому, что они так хорошо смотрятся вместе, тогда это нечто способно самым восхитительным образом исполнить роль цветка.
Ранней весной роль цветов в садике Шантеклеров исполняют голубки, чьи грудки переливаются сливовым цветом, и когда они вперевалку расхаживают на коралловых ножках по просторной лужайке, она кажется еще более зеленой. Стволы берез буквально слепят своей белизной, точь-в-точь как акация в полном цвету. Белый павлин в саду, создание суетливое и крикливое, тоже похож на цветок.
Наконец и сама река, как палитра художника, в ней отражаются широкими мазками краски неба и земли, осенью на ее поверхности красные и желтые листья, они вполне могли упасть в воду с деревьев страны Фейри, где находился ее исток, — даже сама река могла считаться одним из цветов, растущих в саду Шантеклеров.
Еще есть там оплетенная ветвями грабов аллея. Прогулка по такой аллее — настоящее приключение для наделенного фантазией человека. Сделаешь несколько шагов по аллее и понимаешь, что лучше было бы сюда не ходить. И дело вовсе не в воздухе, который ты вдыхаешь, а в тишине… в почти осязаемом молчании деревьев. И ты думаешь: неужели единственным выходом отсюда является то круглое и далекое крохотное отверстие, которое маячит где-то впереди? Но ты ведь не сумеешь протиснуться сквозь него! Надо повернуть назад… но слишком поздно! Просторный портал, через который ты вошел в аллею, превратился в маленькую круглую дырочку.
Господин Натаниэль Шантеклер, нынешний глава семьи, обладал типично доримарской внешностью: полный, румяный, рыжеволосый, со светло-коричневыми глазами, в которых играли еще непроизнесенные шутки, как форель в горном ручейке.
В духовной сфере он также походил на типичного доримарита; впрочем, классифицировать души своих соседей небезопасно: в конечном итоге всегда останешься в дураках. Любую встречу с любым другом нужно воспринимать как сеанс, когда друг невольно позирует перед тобой для портрета… портрета, который, впрочем, может остаться незаконченным даже после его или вашей смерти. И хотя занятие это считается увлекательным, художники к концу жизни превращаются в пессимистов. Ведь сколь симпатичным и веселым ни было бы лицо, сколь богатым ни казался бы фон первого примитивного наброска, тем не менее с каждым новым прикосновением кисти, с каждым крохотным пересмотром «ценностей», с каждым изменением светотени обращенные к вам глаза все более смущают вас. И в итоге оказывается, что вы в ужасе разглядываете собственное лицо — как в зеркале при свете свечи в наполненном тишиной доме.
Все, кто знал господина Натаниэля, не только удивились бы, но и ушам своим не поверили бы, скажи им, что он не принадлежит к числу счастливых людей. Тем не менее дело обстояло именно так. Жизнь его временами отравлял какой-то непонятный страх, он то усиливался, то утихал, но никогда не проходил полностью…
Натаниэль знал точную дату рождения этого страха. Однажды вечером, многие годы назад, он, совсем еще юный, и его друзья задумали одеться призраками своих предков и попугать слуг. В реквизите не было недостатка, поскольку чердак дома Шантеклеров был наполнен наследием прошлого: причудливыми деревянными масками, старинным оружием и музыкальными инструментами, а также старыми костюмами — трагическими жреческими одеяниями. Там пылились целые сундуки, набитые шелковыми тканями, с вышитыми или нарисованными на них любопытными сценками. Кто же не удивлялся и не пытался понять, в каких таинственных лесах наши предки находили модели для зверей и птиц, вышитых на их гобеленах, и на какой планете разыгрывались те сценки, которые были изображены на ткани? Кто знает, что именно некогда спрятали под стежками пальцы, вышивавшие их и теперь давно уже мертвые… можно только представить насмешливую улыбку, которой эти лукавые обманщики собственного потомства сопровождали свою работу. Действительно, слова февраль, соколиная охота или жатва хотят заставить нас поверить в то, что они всего лишь иллюстрируют занятия, присущие различным месяцам или временам года. Однако нас не проведешь. Эти занятия не присущи смертному человеку. И какого рода люди населяли землю четыре или пять столетий назад, какими странными познаниями они обладали, какие зловещие дела вершили, этого мы не узнаем. Наши предки надежно хранят свои тайны.
Среди старинных вещей в доме Шантеклеров не было недостатка и в тех утонченных и умудренных игрушках — веерах, фарфоровых чашках, гравированных печатках, — которые после смерти игравшей с ними цивилизации сделались жалкими и молящими — как веселые мелодии, неизбежно становящиеся жалобными после того, как превращается в пыль впервые пропевшее их поколение. Впрочем, всякий мог ощутить, что игрушки эти никогда не были по-настоящему фривольными — и в цвете их, и в очертаниях проступала некая любопытная серьезность. К тому же изображения на этих эфемерных предметах нередко имели особую мораль, потому что намекали на афоризм или загадку. Скажем, на веере, разрисованном одуванчиками и фиалками, было написано: «Почему меланхолия подобна меду? Потому что она сладка, и ее приносят цветы».
Эти пустяки явно принадлежали к периоду более позднему, чем маски и костюмы. И все же и они весьма далеко отстояли от жизни современных доримаритов.
Итак, когда они набелили лица мукой и нарядились самым фантастическим образом, Натаниэль схватил один из старых музыкальных инструментов, некое подобие лютни с резной петушиной головой, и, воскликнув:
— Посмотрим, можно ли выжать из старушонки какой-нибудь звук! — грубо тронул отсыревшие струны.
Вся компания услышала только одну ноту, настолько протяжную, леденящую кровь и завораживающую, что на несколько секунд молодые люди застыли, словно окаменев.
Наконец одна из девиц исправила положение: насмешливо взвизгнув и приложив руки к ушам, она воскликнула:
— Спасибо тебе, Нат, за кошачий концерт! Хуже не придумаешь.
Один из молодых людей со смехом подтвердил:
— Должно быть, эту ноту издал один из твоих предков, который хочет, чтобы его выпустили с того света и налили стаканчик любимого кларета.
Вскоре все забыли об этом инциденте. Все, кроме Натаниэля.
Он так и не стал прежним. Многие годы Нота эта венчала все его сны, являясь точкой, к которой сходились все их окольные и как будто бессмысленные хитросплетения. Казалось, Нота представляла собой нечто живое, подверженное закону химических превращений, — в том смысле, как закон этот реализуется в снах. Ему снилось, что старушка няня печет яблоко над очагом в своей уютной комнате и, пока оно пузырится и шипит, няня смотрит на него со странной улыбкой, какой ему ни разу не приводилось видеть на ее лице наяву, и говори т: «Но ты, конечно, понимаешь, что на самом деле это не яблоко. Это Нота».
Переживание это сказалось на его отношении к повседневной жизни. До того как господин Натаниэль услыхал эту Ноту, отец его уже испытывал некоторую неловкость, вызванную нелюбовью сына к повседневным делам и склонностью к путешествиям и всяческим приключениям. С уст молодого человека даже сошло пожелание быть капитаном любого из кораблей отца, но только не оседлым владельцем всего торгового флота.
Но после того как Нота прикоснулась к его слуху, во всем городе нельзя было найти среди молодых людей столь же уравновешенного домоседа. Звук этот пробудил в Натаниэле некую вдумчивую тоску по прозаическим предметам, которыми он и без того обладал. Ему стало казаться, что он потерял то, что на деле оставалось в его руках.
Отсюда родилось не покидавшее его ощущение тревоги, к которому примешивалось недоверие к нежно лелеемым им домашним вещам. Какой бы привычный предмет — гусиное ли перо, трубку или колоду карт — ни держал он в руках, каким бы заученным наизусть действием ни был занят: снимал ли с головы ночной колпак, или, напротив, водружал его на голову перед отходом ко сну, или же проводил еженедельную ревизию собственных доходов, это — скрытая то есть угроза — набрасывалось на него. И тогда он в ужасе взирал на свою мебель, свои картины и стены с единственной мыслью о том, какую невероятную сцену им предстоит однажды увидеть, какое жуткое испытание предстоит перенести ему самому в их окружении?
Посему иногда ему случалось взирать на настоящее с мучительной нежностью того, кто вспоминает минувшее: на жену, вышивавшую возле лампы и делившуюся с ним накопленными за день сплетнями; или на маленького сына, игравшего на полу с огромным мастифом. И эта ностальгия по тому, что было при нем, звучала и в крике петуха, который повествует и о плуге, вспарывающем землю, и об аромате сельских просторов, и о тихой суете на ферме, как о происходящих сейчас, одновременно, и сразу оплакивает их, как совершившиеся века назад.
Однако сия тайная отрава даровала ему и некие радости. Дело в том, что страшившая его неизвестная вещь иногда представлялась ему в виде, скажем, только что сложенного капюшона. Потом, с его точки зрения, было истинным и тонким удовольствием лежать по ночам в теплой пуховой постели, прислушиваясь к дыханию жены и шелесту листвы за окном.
Тогда он говорил себе: «Как все это приятно! Как уютно! Как тепло! Как непохоже на ту уединенную пустошь, когда на мне не было плаща, и ветер с радостью пробирался во все щели моего камзола, и ноги мои болели, и скудный свет Луны не мог помешать им то и дело спотыкаться, и это таилось во тьме!» — стараясь подчеркнуть свое нынешнее благополучие неким вымышленным и уже оставшимся позади неприятным приключением, изложенным подобными словами.
Поэтому господин Натаниэль также гордился тем, насколько хорошо находит путь в родном городке. Например, возвращаясь из Ратуши в свой дом, он говорил себе: «Прямо через рыночную площадь, вниз по переулку Яблочного бесенка и вокруг герба герцога Обри на Высокую улицу… здесь я знаю каждый шаг, каждый шаг!»
И он ощущал себя в полной безопасности, чему способствовало и чувство гордости, которое приносил ему каждый встреченный на пути знакомый, каждый пес, чье имя он знал и мог окликнуть. «А вот Хвостовиля, барбос Джоселины Шумихер. А вот и Маб, сука мясника Дайкуснута, я знаю их!»
Сам того не понимая, он пытался представить себя чужаком, незнакомым никому во всем Луде, как если бы был совсем невидимым, и оттого, как ловко он находит путь в совершенно неизвестном городе, в его сознание проникало чувство гордости.
Единственным внешним выражением снедавшего Натаниэля тайного страха была внезапная и необъяснимая раздражительность, когда какое-либо безобидное слово или реплика случайным образом пробуждала к жизни эти самые опасения. Он терпеть не мог, когда люди произносили при нем такие фразы, как: «Кто знает, что-то мы будем поделывать в этот день через год?» и попросту ненавидел такие выражения, как «ну, в последний раз», «теперь уже никогда», сколь бы тривиальным ни был повод, по которому они произносились. Например, он готов был снести голову жене — а зачем она этой бестолковой особе, — если та говорила: «Никогда больше не пойду к этому мяснику» или же «Это не крахмал, а одно недоразумение. Я в последний раз крахмалю им свои воротнички».
Страх этот пробуждал в господине Натаниэле тоскливую зависть к чужим судьбам, и он самым непосредственным образом интересовался жизнями своих соседей, ну, если они протекали в сферах, отличных от той, где развивалась его собственная. Подобное любопытство создало ему репутацию — откровенно говоря, не вполне заслуженную — человека весьма душевного и полного сочувствия, и он завоевал сердца многих — морских капитанов, фермеров, старых работниц — тем неподдельным интересом, который всегда проявлял в общении с ними. Их долгие и путаные повести о смиренной человеческой жизни стали для него тем самым вошедшим в пословицу взглядом, который бросает в опрятную и освещенную лампой гостиную задержавшийся допоздна в ночи путник.
Он завидовал даже усопшим и нередко задерживался на древнем городском кладбище, с незапамятных времен известном под названием Грамматические поля. Привычку свою он оправдывал тем, что с кладбища открывался очаровательнейший вид на весь Луд сразу и на его окрестности. Однако надо признать, хотя господин Натаниэль действительно самым искренним образом любил этот пейзаж, приводили его сюда эпитафии подобные следующей:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ ЭБЕНЕЕЗЕЗЕР СПАЙК,
ПЕКАРЬ,
КОТОРЫЙ ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ СНАБЖАЛ ГОРОЖАН ЛУДА СВЕЖИМ И ВКУСНЫМ ХЛЕБОМ И УМЕР В ВОЗРАСТЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ ВОСЬМИ ЛЕТ, ОКРУЖЕННЫЙ СЫНОВЬЯМИ И ВНУКАМИ.
Как охотно поменялся бы он местами с этим старым пекарем! Однако тут же являлась мысль, что, быть может, не всем эпитафиям следует полностью доверять.
Глава II О герцоге, который столько смеялся, что слетел с престола, и прочих традициях Доримара
Прежде чем приступить к нашей истории — чтобы обеспечить полное ее понимание, — следует сделать короткий обзор истории Доримара, а также верований и обычаев его обитателей.
Дома Луда были рассыпаны по берегам двух рек — Пестрянки и Долы, сходившихся в пригороде под острым углом, в вершине которого располагалась гавань. Продолжавшие город дома карабкались вверх по склону холма, где на вершине растянулись Грамматические поля.
Дола была наибольшей среди рек Доримара, и возле Луда она становилась настолько широкой, что, невзирая на то что этот город располагался в двадцати милях от моря, он пользовался всеми преимуществами морского порта, в то время как расположенный на берегу моря портовый городок на деле представлял собой просто рыбацкую деревушку. Пестрянка же, смиренный узенький ручеек, исток которого находился в стране Фейри (им служило соленое внутреннее море, как полагали географы), протекала в пещерах под Спорными горами и не играла никакой роли в коммерческой жизни города. Однако старинная доримарская премудрость велела каждому не забывать о том, что Пестрянка впадает в Долу. Поговоркой этой пользовались, когда хотели сказать, что не следует пренебрегать услугами людей смиренных; впрочем, возможно, что первоначально она имела совсем другой смысл.
Итак, источником процветания и благосостояния страны в основном являлась Дола. А потому девицы в самых отдаленных деревнях Доримара носили броши, изготовленные из моржового клыка, и лечили зубную боль, приложив к больному месту кусочек рога единорога; почти каждую каминную доску едва ли не во всех гостиных фермерских домов украшало яйцо страуса; а когда леди отправлялись за покупками или же сыграть в карты с подружками, их рыночные корзинки или сделанные из слоновой кости фишки несли за ними привезенные с Коричных островов крохотные индиговые пажи в красных тюрбанах; пигмеи-разносчики с дальнего севера торговали на улицах янтарем. Дола превратила Луд в город торговцев, и могущество и почти все богатство страны были сосредоточены в их руках.
Но так было не всегда. В прежние дни Доримар был герцогством, и население его состояло из людей знатных и крестьян. Однако постепенно возник средний класс, и класс этот, как водится, обнаружил, что не ограниченный Конституцией правитель и не знающий жалости привилегированный класс серьезно мешают торговле. Можно сказать, что оба этих фактора перегораживали Долу плотиной.
И в самом деле, с каждым поколением герцоги становились все более капризными и эгоистичными, пока наконец недостатки эти не нашли своего окончательного воплощения в персоне герцога Обри, горбуна, наделенного лицом ангельской красоты, казалось, одержимого демоном разрушения. По чистой прихоти он направлял свою охотничью кавалькаду через поле спелых колосьев, а прекрасные корабли поджигал только ради того, чтобы посмотреть, как они горят. С такой же небрежностью он обходился с добродетелью жен и дочерей своих подданных.
Как правило, его выходки были приправлены несколько зловещим юмором. Например, когда в канун свадьбы девушка, следуя установившемуся с незапамятных времен обычаю, предлагала свою девственность духу фермы, воплощенному в самом древнем дереве владения, герцог Обри выскакивал из-за ствола и, изображая помянутого духа, ловил ее на слове. Предание утверждало, что вместе с одним из своих дружков они заключили пари, утверждая, что сумеют заставить придворного шута совершить самоубийство. Для этого они начали обрабатывать его воображение жалостными песнями, повествовавшими о недолговечности всякой красоты, и мрачными сказками, в которых человек — всего лишь пастух, обреченный наблюдать, как голодный волк одну за другой разрывает его овечек.
Весельчаки свое пари выиграли; однажды утром, явившись в комнату шута, они обнаружили его висящим под потолком на веревке. Говорят, отзвуки хохота, которым герцог Обри встретил этот спектакль, до сих пор временами доносятся из этого помещения.
Однако в душе его можно было найти и приятные стороны. В частности, он был великолепным поэтом, и его сохранившиеся песни наполняла свежесть полевых цветов, оттененная одиноким криком кукушки. В сельских окрестностях по-прежнему рассказывали о его радушии и приветливости — о том, как он являлся на деревенскую свадьбу с повозкой, полной вина, пирогов и плодов, или как дежурил у постели умирающих — серьезный и полный сострадания, как священник.
Тем не менее мрачные купцы, одолеваемые желанием еще больше разбогатеть, подняли против него народ. Три дня на улицах Луда шла жестокая битва, в ней погибло все дворянство Доримара. Однако герцог Обри исчез — поговаривали, что он укрылся в стране Фейри, где живет и поныне.
За три дня кровавого бунта исчезли и священники. Так Доримар лишился одновременно своей веры и герцога.
Во времена герцогства на все, что относилось к Фейри, глядели с почтением, и самым торжественным религиозным праздником года было прибытие прятавших лица под капюшонами таинственных незнакомцев с белыми, как молоко, кобылами, груженными дарами — плодами страны Фейри, предназначавшимися для герцога и первосвященника.
Но после революции, когда торговцы захватили законодательную и административную власть, на все, что привозили из волшебного края, было наложено табу.
И неудивительно. Новые правители считали, что именно употребление в пищу плодов, произрастающих на землях Фейри, стало главной причиной вырождения герцогского рода. И действительно, подобная наклонность, всегда связывавшаяся с поэтическим и пророческим дарами, возникающими из неотступного ощущения собственной смертности, вполне может показаться болезненной с точки зрения природного здравого смысла образующегося бюргерского класса. Конечно, в людях победившей революции не могло быть ничего зловещего, и во время их правления то, что можно назвать трагическим восприятием жизни, исчезло из поэзии и искусства.
К тому же для доримаритов все, связанное с Фейри, сулило заблуждение и обман. Песни и легенды описывали страну Фейри как землю, где деревни построены из золота и коричного дерева, где священники, питающиеся только нектаром и амброзией, ежечасно возносят Солнцу и Луне несчетное множество павлинов и золотых быков. Однако же, если достаточно долго поглядеть честными и чистыми смертными глазами на все это великолепие, сверкающие замки превратятся в старые корявые деревья, фонари — в светляков, самоцветы — в битые черепки, а жрецы в великолепных одеждах вместе со своими роскошными приношениями — в вековых старух, что-то бормочущих над сложенными из хвороста кострами.
Сами фейри, как гласило предание, вечно ревновали к благословенной телесности смертных и, облаченные в невидимость, толпами слетались на свадьбы, поминки и ярмарки — всюду, где можно было пробраться к добрым съестным припасам, — и там высасывали соки из мяса и плодов, но безрезультатно, ибо ничто не могло сделать их материальными.
К тому же крали они не только еду. В глухих уголках страны до сих пор полагали, что трупов не существует, что это просто обманки, изготовленные фейри, лишенные подлинной вещественности… иначе почему это они так быстро превращаются в прах. И что истинную персону, чьим скудным замещением служил труп, фейри уносили с собой — ходить за их синим скотом и возделывать поля левкоев. Селяне и в самом деле не всегда могли точно отличить покойника от фейри. И тех, и других в деревнях называли Молчаливым народом, а во Млечном Пути видели ту дорогу, по которой мертвых уносят в Землю Фейри.
В другом предании говорилось, что фейри общаются между собой только с помощью стихов и музыки, а потому в селе называли и то, и другое языком Молчаливого народа.
Вполне естественным образом людям, учившим Долу течь золотом, рывшим каналы и строившим мосты, приглядывавшим за тем, чтобы торговцы пользовались надежной мерой и правильными гирями, любившим торговать не только собственностью, но и добродетелью, не хватало терпения на всякие бестолковые обманы.
Тем не менее новые правители создавали собственный вариант иллюзии, ибо они укоренили в Доримаре науку юриспруденцию, взяв за основу примитивный кодекс Законов, существовавших при герцогах, и приспособив его к современным условиям с помощью юридических казусов.
Господин Джосайя Шантеклер (отец Натаниэля), весьма изобретательный и ученый юрист, в одном из своих трактатов обрисовал любопытную параллель между волшебными предметами и законом. Люди революции, сказал он, подменили плоды фейри Законом. В то время как один только правящий Герцог и его жрецы имели право употреблять эти плоды, Закон был щедрой мерой дарован как богатым, так и бедным. Опять-таки волшебство являло собой обман, как и закон. Чары того и другого придавали реальности ту форму, которую выбирали. Но если волшебство фейри и их иллюзии служили для обмана и грабежа человека, магия Закона становилась на службу его благосостоянию, хотя и не без обмана.
С точки зрения Закона не существовало ни страны Фейри, ни волшебных предметов. Однако, как подметил господин Джосайя, Закон сам вертит реальностью как угодно, и никто на самом деле ему не верит.
Постепенно все, в какой-то мере связанное с фейри и их страной, наводило на доримаритов ужас, и общество, следуя закону, стало начисто отрицать их существование. Более того, само это слово «фейри» стало запретным, а если в гневе кто-то кого-то хотел оскорбить, говорил — фейрин сын.
Однако на расписных потолках древних домов, на шелушащихся фресках, сохранявшихся на стенах старинных житниц, в остатках старых барельефов, вмурованных в стены современных домов, и более всего в трагичных погребальных изваяниях Грамматических полей Винкельман[1], случись ему посетить Доримар, обнаружил бы, как сделал это в римском рококо восемнадцатого века, следы старого и торжественного искусства, чьи узоры служили образцами современным художникам. Например, хорошо известная реклама некоего сорта сыра (с изображением комичного и толстого человечка, угрожающего ножом и вилкой огромному сыру, повисшему в небе наподобие луны), на самом деле являлась неумышленной переработкой сюжета, отраженного в старинном доримарском изображении, на котором сама луна преследовала череду трагических беглецов.
Но за несколько лет до начала нашей истории Луд действительно посетил свой собственный Винкельман, чье имя так и осталось неизвестным, хотя область его исследований не ограничивалась изобразительными искусствами. Он опубликовал книгу под названием «Следы, оставленные фейри в обычаях населения, искусстве, растительности и языке Доримара».
Идея его была такова: в расе доримаритов наличествует несомненная примесь фейри, что можно объяснить лишь гипотезой о том, что некогда доримариты и фейри часто заключали браки между собой. Именно благодаря фейри, с его точки зрения, у доримаритов часто бывали рыжие волосы. Аналогичная тенденция, уверял он, существовала и среди домашнего скота доримаритов. Для последнего суждения у него были известные основания, ибо нельзя отрицать, что время от времени бурая или пестрая корова приносила теленка с синеватой шкуркой, а его помет отливал червонным золотом. Предание же гласило, что в стране Фейри весь скот голубой и что золото фейри превращается в навоз, едва оказывается за ее пределами. Предание также утверждало, что в стране Фейри все цветы красного цвета, и нельзя отрицать, что доримарские васильки иногда оказывались алыми, словно маки, а лилии пунцовыми, как дамасские розы. Более того, этот ученый муж обнаружил следы языка фейри в клятвах доримаритов и в некоторых из их имен. На него, как на чужака, безусловно, произвели странное впечатление возвышенные и пышные, чисто доримарские клятвы: Солнцем, Луной и Звездами, Золотыми Яблоками Заката, Жатвой душ, Белыми дамами Зеленых Полей и Млечным Путем, — срывающимися на едином дыхании с такими домашними ругательствами, как клянусь Грудастой Бриджит; Жареным сыром; страдающими кошками; Кормой Внучатой Тети; и имена, подобные Валериане, Амброзии, Луноцвете в сочетании с такими изысканными фамилиями, как Голодранс, Брехунд или Мукомолл.
Изучив рисунки на старинных гобеленах и древние барельефы, сей искусствовед пришел к выводу, что они изображают флору, фауну и историю страны Фейри, и бросил вызов ортодоксальной теории, объяснявшей изображения странных птиц и цветов не знавшей границ фантазией старинных художников или же несовершенством доступных им изобразительных средств и считавшей, что все фантастические сцены позаимствованы из обрядов старой религии. Нет, настаивал он, любые художественные изображения и обряды должны отражать реальность, а страна Фейри как раз и представляет собой то самое место, где существует то, что мы называем символами.
Выходило, что если антиквар не ошибся, доримарит, подобно голландцу семнадцатого столетия, чадившему своей трубкой посреди тюльпанов и обедавшему на тарелках дельфтского фарфора, приспособил к своему быту торжественное и полное одухотворенности искусство далекой и забытой земли, населенной, по его мнению, отвратительными и злыми созданиями, предающимися странным порокам и исповедующим странные культы… тем не менее в жилах доримаритского голландца, о чем он не знал, текла кровь этих самых злых созданий.
Легко представить себе ярость, которую вызвало в Луде туманном появление этой книги. Издателя, конечно, обложили огромным штрафом, однако он так и не сумел пролить свет на имя автора. Рукопись, уверял он, доставил ему крепкий рыжеволосый парнишка, которого ему не приходилось видеть ни разу. Все экземпляры были сожжены общественным палачом, и на сем дело пришлось прекратить.
Невзирая на то что закон объявлял страну Фейри и все, что связано с ней, несуществующим, все узнали, что любой желающий всегда мог раздобыть плоды фейри в Луде, хотя таинственные создания больше не привозили их со всей помпой привычного ритуала. Никто не пытался установить, каким способом и через чьи руки эти плоды проникают в город; дело в том, что употребление их в пищу считалось отвратительным и мерзким пороком, присущим недостойным ничтожным людям, таким, как моряки с индиговой кожей и пигмеи-северяне, посещавшим самые низкопробные таверны. Конечно, время от времени в ту пару столетий, что протекли после изгнания герцога Обри, случалось, что молодые представители добропорядочных семейств подвергались этому пороку. Однако одно подозрение в подобном грехе означало полный общественный остракизм, который вкупе с врожденным ужасом доримаритов к таковым продуктам, делал подобные случаи крайне редкими.
И все же примерно за двадцать лет перед началом нашей истории Доримар поразила засуха. Людям пришлось печь хлеб из вики, бобов и корней папоротника; болота и озера лишились зарослей тростника, пошедших на корм скоту, а Дола усохла до размеров самого обыкновенного ручейка, как и прочие реки Доримара, за исключением Пестрянки. Во время всей засухи воды в ней не убыло, однако этому не следует удивляться, поскольку река, чьи истоки находятся в стране Фейри, вероятно, обладает таинственными источниками влаги. Но не знавшая жалости засуха выжигала землю, и в сельских краях все большее количество людей покорялось пороку и начинало поедать плоды фейри. С трагическими последствиями для себя, поскольку, услаждая жаждущую гортань, плоды эти производили самый тревожный духовный эффект, и каждый день в Луд приходили свежие слухи (эпидемия — назовем это так — бушевала за городскими пределами) о сумасшествиях, самоубийствах, распутных плясках и прочем буйстве под луной. Однако чем больше ели селяне эти чужеземные плоды, тем больше жаждали их, и хотя признавали, что плоды эти приносят душевные муки, отказываться от них не хотели.
Как плоды проникали через границу, оставалось по-прежнему тайной, и все усилия чиновников магистрата преградить им дорогу не принесли результата. Тщетно изобрели они легальную уловку (как мы уже видели, Закон не признавал существования фейри как таковых), превратившую плоды страны Фейри в некое изделие из пряденого шелка и оттого контрабандой проникающее в Доримар; тщетно разили они словесными молниями в Сенате всех контрабандистов и обладателей развращенных умов и грязных привычек — плоды фейри продолжали поступать в страну, втихомолку и надежно удовлетворяя потребность в них. А потом, с первым дождем, пошли на убыль и спрос, и предложение. Однако о беспомощности магистрата в этом национальном кризисе так никогда и не забыли… «Ты — человек безответственный, как чиновник в великую сушь» — фраза эта стала пословицей в Доримаре.
Дело в том, что правящий класс Доримара был не способен справиться с любой серьезной ситуацией. Богатые торговцы Луда туманного, потомки людей, совершивших революцию и ставших наследственными правителями Доримара, к этому времени превратились в кучку праздных и обленившихся, самодовольных и склонных к развлечениям джентльменов, сердца которых не могла растрогать никакая трагедия — как, впрочем, и сердца их предков — однако лишенных золотых качеств ушедшего поколения. Класс, еще стремящийся утвердить себя, найти свою подлинную форму, пока остающуюся скрытой, как изваяние в блоке мрамора, в жестком и неподатливом материале самой жизни, должен по самой природе вещей отличаться от того же самого класса, когда резец и молоток уже отложены, и он сделался таким, каким старался стать уже давно. Например, богатство перестало быть в Доримаре изысканным и экзотичным цветком. Оно натурализовалось в Доримаре и сделалось теперь выносливым многолетником, послушно обновляющимся из года в год и не нуждающимся в уходе садовника.
Богатство родило досуг, эту брешь в прочной кладке трудов и дней, в которой находят себе место мириады мелких цветков, — и хорошая кухня, и сверкающая лаком мебель красного дерева, и модная одежда, которая, подобно барочному бюсту, фантастична одним своим остроумием, и фарфоровые пастушки, и юмор, и бесконечны шутки — все материальные и духовные игрушки цивилизации. Тем не менее они во всем отличались от игрушек той, прежней цивилизации, до сих пор загромождавших чердак дома Шантеклеров. В тех вещах угадывалось нечто трагическое и чуточку зловещее; в то время как проявления современной цивилизации подобны фонарю — фантастическому, но уютному.
Таковы были люди, в чьих руках находилось благосостояние страны. И следует признаться, они совсем немного знали о тех обыкновенных людях, от лица которых выступали, и еще менее интересовались ими.
Например, они и не подозревали о том, что память о герцоге Обри все еще жива в стране. Вполне законных детишек именовали здесь «отродьем герцога Обри»; увидев падающую звезду, старые женщины говорили: «Опять герцог Обри выстрелил по оленю»; а в годовщину его изгнания девушки бросали на счастье в воды Пестрянки венки, сплетенные из двух растений, присутствовавших в гербе герцогов — плюща и пролески. Герцог оставался реальным существом для страны и народа; реальным настолько, что, когда в чане обнаруживалась течь или когда запертая в конюшне лошадь поутру обнаруживалась в поту и пене, некоторые мошенники из сельских работников пытались избежать наказания, клятвенно сваливая вину на герцога Обри. Не было такой фермы и селения, где, по крайней мере, один из жителей не мог присягнуть, что видел его в канун Иванова дня или одной из ночей зимнего солнцестояния, скакавшего мимо во главе охотничьей кавалькады из фейри под звон бесчисленных колоколов и под развевающимися на ветру знаменами.
Однако о самой стране Фейри и обитателях ее сельский народ знал не больше, чем купечество Луда. Обе страны разделяли Спорные горы, где у подножий располагался Эльфов переход, изобиловавший, согласно преданию, всякими бедами и опасностями, как физическими так и моральными. Попытка преодолеть эти горы была равносильна смерти.
Глава III Начало скорбей
Общественная жизнь в Луде начиналась весной и заканчивалась осенью. Зимой граждане предпочитали находиться у собственного очага; ими овладевало неразумное стремление не выходить из дома после наступления тьмы, вызванное не столько страхом, сколько привычкой. Причем привычка эта, скорее всего, возникла после какой-то давно забытой опасности, вынудившей кого-то из их далеких предков опасаться тьмы.
Поэтому первые признаки весны они всегда приветствовали не только с радостью, но и с облегчением, на первых порах едва смея верить, что приход ее является истинной реальностью, общей для всего мира, а не оптической иллюзией, обманувшей их зрение в собственном саду. Там лужайка уже была зеленой, лиственницы и заросли терновника покрыты густой зеленью, а на миндале розовели бутоны; однако поля и деревья в туманной дали за стенами еще оставались серыми и черными. Да, окраска их собственного сада вполне могла измениться благодаря некоему приятному световому эффекту, и когда он переменится, зелень исчезнет.
Однако повсюду непреклонно и незаметно зимняя листва, то есть светлое небо и тускло-аметистовый сумрак превращались в зелень и золото.
Весь окружающий мир весной старательно следит за деревьями и с восхищением отмечает, как сетка ветвей на ильмах и вязах покрывается крошечными красновато-коричневыми цветками, похожими на маленьких жучков, попавшихся в паутину, и за тем, как мелкие, лимонного цвета почки покрывают терновник, и как с треском лопаются длинные золотисто-красные почки на конском каштане, и как бук выпускает свои идеальной формы листочки, и все деревья следуют его примеру.
А потом мы просто наслаждаемся разнообразием цвета и формы молодых листьев, замечая, что березовые напоминают рой зеленых пчел, а липовые прозрачны настолько, что их покрывает черными пятнами тень, бросаемая теми из них, что находятся вверху, и теми, что внизу, а листва вяза украшает небо самым очаровательным из узоров, который меняется медленнее всех остальных.
Но наконец мы перестаем обращать внимание на различия листьев, и они до осени сливаются в один неразрывный и скромный зеленый полог, лишь подчеркивающий более яркие и броские объекты. Нет ничего скучнее дерева в полной листве.
Весной пятидесятого года жизни господина Натаниэля Шантеклера посетила первая подлинная тревога. Она касалась его единственного сына, двенадцатилетнего Ранульфа.
В том году господин Натаниэль был впервые избран на высочайший государственный пост — мэра Луда и Высокого сенешаля Доримара.
По положению он являлся президентом Сената и Верховным судьей коллегии. В соответствии с Конституцией, принятой когда-то революционерами, он нес ответственность за безопасность и оборону страны в случае нападения с суши или моря; он обязан был следить за тем, чтобы должным образом вершилось правосудие и распределялось богатство страны; уделять свое время всякому, пусть и незаметному гражданину, в случае наличия у того какой-нибудь жалобы.
На самом деле — если не считать председательства в Судебной коллегии — обязанности его были не более обременительны, чем приветливое и достойное председательство в уютном и избранном клубе, каковым на деле теперь являлся Сенат. Можно было поспорить о том, приносит ли его деятельность какую-либо пользу, однако обязанности его были многочисленны и отнимали столько времени, что порой он забывал о подводных течениях в собственном доме.
Ранульф всегда был сонным и довольно нежным дитятей, несколько недоразвитым для своего возраста. Лет до семи изводил свою мать, когда, играя в саду, обращался к воображаемому компаньону. Еще он любил говорить несуразицу (по понятиям, принятым в Луде, достаточно непристойную) — о золотых чашах и белых как снег дамах, доящих лазурных коров, и о звонких уздечках, бряцающих по ночам. Впрочем, все дети склонны к подобным шалостям, но с возрастом это проходит, поэтому никто на эти шалости не обращает внимания.
Потом, когда мальчик стал старше, внезапная смерть юной судомойки произвела на него такое впечатление, что он два дня не прикасался к еде и, лежа в постели, никак не мог унять дрожь. Когда потрясенная и встревоженная мать (отец в то время отъехал по делу в морской порт) попыталась утешить его, напомнив, что он не испытывал особой привязанности к служанке, Ранульф раздраженно выкрикнул:
— Нет, нет, дело не в ней… а в том, что с ней произошло!
С годами Ранульф становился более нормальным. Тем не менее той весной его учитель явился к его матери Календуле, чтобы пожаловаться на невнимание, которое проявлял ее сын на занятиях, а также на внезапные и неблагоразумные порывы страстей.
— По правде говоря, мэм, по-моему, ваш сын нездоров, — заметил учитель.
И Календула послала за добрым старым семейным доктором, который сказал, что с Ранульфом не случилось ничего плохого, если не считать излишнего горячения крови, которое не так уж редко приключается весной, и прописал ему побеги бурачника в вине.
— Лучшего лекарства для ленивых школяров я не знаю, — подмигнув, он дернул Ранульфа за ухо, добавив, что в июне ему можно будет давать отвар лепестков дамасской розы, чтобы закончить курс лечения.
Однако побеги бурачника не помогли, Ранульф не стал более внимательным на уроках; и Календула уже без всяких намеков со стороны преподавателя поняла, что мальчик не в себе. Больше всего ее встревожило то усилие, с которым он явным образом пытался заставить себя сколько-нибудь реагировать на окружающее. Например, если она предлагала ему добавку за обедом, вместо того, чтобы сказать «да» или «нет», он стискивал кулаки, на лбу выступали капельки пота.
Мать и Ранульф никогда не испытывали друг к другу подлинной привязанности (она всегда предпочитала сыну дочку Прунеллу), и Календула понимала, что если просто спросит у него, в чем дело, то ничего не услышит в ответ, поэтому она обратилась к великой союзнице и наперснице Ранульфа, старой нянюшке своего мужа Натаниэля, мистрис Хэмпен.
Хэмпи, как звали ее в доме, прослужила семейству Шантеклер почти пятьдесят лет, практически с самого дня рождения Натаниэля, и теперь звалась домоправительницей, хотя обязанностей у нее почти не было — разве что хранить ключи от кладовок и чинить постельное белье.
Эта умная и здоровая старая селянка была наделена удивительным даром — умением занимать детей. Она не только знала все смешные детские истории Доримара (у Ранульфа любимой была история о паре честолюбивых очков, мечтавших пристроиться на носу того человечка, который живет на Луне, и в тщетных попытках добиться поставленной цели то и дело соскакивавших с носа своего законного и несчастливого обладателя), Хэмпи также была прекрасным товарищем в играх и, оставаясь в своем кресле, умела проявлять якобы неподдельный интерес к маневрам армии оловянных солдатиков или движениям марионеток. Более того, в ее уютной комнатке каждый предмет, пересекавший ее порог, с точки зрения Ранульфа, превращался в игрушку: страусиное яйцо, подвешенное к потолку на малиновом шнурке, крохотные восковые фигурки его деда и бабки на доске у трубы, старая прялка с колесом и даже пустые катушки, из которых получались великолепные деревянные солдатики, а также горшки с вареньем, выстроившиеся в очередь за ярлыком, все они предоставляли великолепные возможности для игры; даже огонь в ее очаге, казалось, мурлычит более умиротворенно, чем в других печках дома, и в его раскаленной красной сердцевине рождаются весьма приятные картинки.
Итак, с некоторой застенчивостью (ибо Хэмпи была остра на язык и всегда видела в своей госпоже юную и глупую нарушительницу порядков) дама Календула сообщила няне, что Ранульф ее беспокоит. Хэмпи бросила на нее резкий взгляд сквозь очки и, оттопырив губу, сухо произнесла:
— Долго же вам пришлось, мэм, потрудиться, чтобы заметить это.
Однако когда Календула попыталась выяснить у няни, что та думает по поводу происходящего, Хэмпи лишь загадочно покачала головой и пробормотала, что, мол, снявши голову, по волосам не плачут, чем меньше говорить, тем больше пользы для дела.
Когда же вконец озадаченная Календула поднялась, чтобы уйти, старуха пронзительным голосом воскликнула:
— Только, мэм, запомните — ни слова об этом господину! Он не любит волноваться. Точь-в-точь как его отец. Моя старая госпожа частенько говаривала мне: «Смотри, Полли, не проговорись господину. Он терпеть не может никаких волнений». Да, все Шантеклеры на редкость чувствительны.
— А вот у Виталиев буйволиная шкура, — неожиданно закончила она.
Календула, однако, пока не собиралась заводить разговор на эту тему с Натаниэлем. По собственному опыту знала, что малейшее беспокойство делало его безмерно раздражительным, была ли тому причиной особая чувствительность Шантеклеров или какая другая.
Сам же господин Натаниэль ничего не замечал. Большую часть времени проводил в Сенате и Счетной палате; его интерес к жизни других людей на домочадцев не распространялся.
Что касается его отношения к Ранульфу, следует откровенно признать, что господин Натаниэль видел в нем скорее семейную реликвию, чем сына. На деле он бессознательно помещал его в ту же самую категорию, что и хрустальный кубок, с помощью которого отец герцога Обри окрестил первый построенный Шантеклерами корабль, или меч, которым другой его предок помогал сбросить герцога Обри с престола — предметы, на которые он глядел крайне редко и так же редко вспоминал, хотя утрата хоть одного из них повергла бы его в крайнее огорчение и даже гнев.
Однако однажды вечером, в начале апреля, создалась ситуация, на которую он не мог не отреагировать, причем весьма болезненно.
К этому времени весна уже полностью явила себя миру, и горожане Луда начинали перестраивать свою жизнь на летний манер — извлекать из кладовок медные тазы для варки варенья, начищать их до блеска, подметать беседки в садах и готовить рыболовные снасти; ну а более длинные дни позволяли обывателям устраивать обеды для друзей.
Никто во всем городе не любил эти вечеринки больше, чем Натаниэль. Они приносили ему временное облегчение. Словно мелодию его жизни вдруг настраивали на другой, более веселый лад, хотя, по сути дела, ничего не менялось, кресла оставались на прежних местах, сидели в них люди, с которыми он каждый день встречался, и по-прежнему у него ныл зуб. Поэтому он рассылал открытки приятелям с великой радостью, приглашая их «полакомиться лунтравским сыром», как делал это каждый апрель последние двадцать пять лет.
Лунтравой звалась деревня, славившаяся в Доримаре своими сырами, — и вполне справедливо, потому что они были прекрасны, как паросский мрамор с его яшмовыми прожилками, и обладали доведенным до совершенства запахом, являющим смесь луговых ароматов с запахом убранного хлева. Именно сыр из Лунтравы послужил объектом комического объявления, упомянутого в предыдущей главе.
К семи часам вечера гостиную Шантеклеров наполнила толпа тучных, розовощеких, ярко-одетых гостей, болтавших и пересмеивавшихся, как стая попугаев. Молчал только Ранульф, чего, впрочем, и следовало ожидать от мальчишки двенадцати лет, находящегося в обществе взрослых. И все же он мог бы и не забиваться в угол, и не отвечать в столь мрачном тоне на обращенные к нему бодрые реплики приглашенных отцом гостей.
Господин Натаниэль был владельцем отменно укомплектованного винного погреба, и вечер начался с бокала восхитительного джина, настоянного на диком тимьяне, великолепного напитка, которым и был знаменит дом Шантеклеров. Но, кроме того, ему принадлежала доля в погребе, которым совместно владели все семейства правящего класса, погреба, полного старых и спелых шуток, их запас никогда не иссякал в противоположность бутылкам вина. И все, что было забавно или вызывало приязнь в каждом из членов компании, отливалось в одну из этих веселых историй, так что каждый мог опьянять себя личностью друга — глотать целый комический настой из всей компании. И поскольку накопленное в шутках и вызванное тесным знакомством раздражение испарялось и обретало сладость, подобно соку виноградной лозы, они вызывали дружелюбие и сердечность, скажем так, в рамках группы. Дело в том, что каждая разновидность юмора представляет собой нечто вроде тотема, служащего сразу единству и различию. Своих адептов она соединяет в тесное братство, ограждая их от всего остального мира. Быть может, главной причиной отсутствия симпатии между правителями Доримара и подвластным им народом как раз и было то, что с точки зрения юмора, они принадлежали к различным тотемам.
Однако все собравшиеся в тот вечер числились в одном тотеме, и каждый из них был героем какой-нибудь из старых историй. Натаниэля спросили, не следует ли считать его малиновые бархатные брюки черно-малиновыми. Дело было в том, что много лет назад он забыл надеть траур по тестю, и когда Календула робко указала ему на упущение, с гневом возразил:
— Но я же в трауре! — И когда та, подняв брови, посмотрела на канареечного цвета чулки, которые Натаниэль буквально только что приобрел, он в полном смятении ответил: — Но это же черно-канареечный цвет.
Немногие из вин обладают таким ароматом гроздий, как эта старинная шутка о господине Натаниэле. В ней воплощена вся его рассеянность, способность видеть вещи такими, какими они должны быть с его точки зрения (он совершенно искренне считал, что одет в траур), и, кроме того, в черно-канареечном цвете угадывалось стремление, унаследованное, возможно, от предков-законоведов, верить в то, что человек способен играть с реальностью и придавать ей форму по собственному усмотрению.
Потом спросили господина Амброзия Джимолоста, считает ли он сыр из Лунтравы настоящим сыром; дело в том, что господин Амброзий преувеличивал значимость собственного семейства, и когда однажды в суде зашла речь о том, следует ли считать дракона (а в дальних пещерах редко посещаемых уголков Доримара еще обитали несколько безвредных, едва ли не полудохлых драконов) птицей или рептилией, он тоном, не терпящим возражений, изрек:
— Мы, Джимолосты, всегда считали их рептилиями.
Жена его, Жасмина, на вопрос о том, не следует ли подать ей ужин «на бумаге» (имелась в виду ее привычка ловить мужа на всяком опрометчивом обещании, например касающемся приобретения четырехместной коляски), ответила:
— Пожалуйста, запиши это на бумаге, Амброзий.
Там были брат Календулы, господин Полидор Вигилий, и его жена, Валериана, старина Мэт Мукомолл со своей нелепой и болтливой леди, Перегрин Лакировщик, Джоселина Шумихер и Гиацинт Голодранс — практически все сливки общества Луда томанного, и каждый из них был помечен именной шуткой. Старинные эти остроты ходили по кругу, как бутылки с портвейном, и после компания веселилась все больше и больше. Упомянутый анонимный антиквар обнаружил бы в кулинарном словаре Доримара еще один тезис, подкрепляющий его теорию, поскольку меню обеда, составленное Календулой для гостей, звучало чередой трагических сонетов. Первое блюдо носило имя Горькая и сладкая тайна — это был приправленный травами суп, на успешном приготовлении которого основывалась репутация поваров Луда. За ним последовал Парад мечтаний, блюдо, составленное из таких деликатесов, как перепела, улитки, куриная печень, яйца ржанок и павлиньи сердца, погребенные под горкой отварного риса. За ним последовало Пепелище истинной любви — голубки, приготовленные особым способом. Завершали обед Фиалки смерти, в высшей степени неудобоваримый пудинг, украшенный засахаренными фиалками.
— А теперь, — радостно воскликнул господин Натаниэль, — наступает очередь нашего старинного друга! Наполните бокалы, чтобы мы могли выпить за короля сыров Лунтравы!
— За короля сыров Лунтравы! — отозвались гости, притопывая ногами и стуча по столу кулаками.
После этого господин Натаниэль схватил нож и уже был готов вонзить его в великолепную головку сыра, когда Ранульф вдруг подбежал к отцу и со слезами на глазах, пронзительным, полным ужаса голосом принялся умолять его не разрезать сыр. Гости, усматривая в происходящем пока непонятную шутку, сопровождали ее смешками, а Натаниэль, с недоумением поглядев несколько секунд на сына, произнес раздраженным тоном:
— Что случилось с мальчишкой? Не мешай мне, Ранульф, говорю тебе, не мешай! Или ты повредился в уме?
Однако глаза Ранульфа буквально переполняла ярость, повиснув на руке отца, он выкрикнул пронзительным детским голосом:
— Нет, ты этого не сделаешь! Не сделаешь! Не сделаешь! Я не позволю тебе!
— Правильно, Ранульф! — расхохотался один из гостей. — Сделай это вместо отца!
— Клянусь Млечным Путем! Календула, — взревел Натаниэль, теряя терпение, — что нашло на мальчишку, спрашиваю тебя?!
Календула явно разволновалась.
— Ранульф! Ранульф! — укоризненно воскликнула она. — Ступай на свое место и не дразни отца.
— Нет! Нет! Нет! — заверещал Ранульф. — Он не может убить Луну… Он не должен этого делать. Если это случится, в стране Фейри увянут все цветы.
Каким образом мне передать вам впечатление, произведенное на компанию этими словами? Не стоит даже просить вас представить себе те чувства, которые вы ощутите в смешанном обществе, если маленький сын хозяина вдруг разразится площадной бранью, ибо слова Ранульфа были не просто несоблюдением правил хорошего тона, они пробуждали в известной мере суеверный ужас, вызванный нарушением запрета.
Леди разом покраснели, на лицах джентльменов появилось суровое выражение, а побагровевший до корней волос господин Натаниэль громогласно приказал:
— Ранульф, немедленно ступай в постель… Я разделаюсь с тобой после.
Ранульф, вдруг потерявший всякий интерес к участи сыра, покинул комнату.
В тот вечер больше не было шуток, сыр остался нетронутым на большинстве тарелок; невзирая на старания некоторых гостей, разговор прискорбно увял, и вся компания разошлась уже в девять часов.
Оставшись наедине с женой, Натаниэль потребовал, чтобы она объяснила поступок Ранульфа. Однако та лишь устало пожала плечами, сказав, что мальчик, должно быть, рехнулся и что уже несколько недель ведет себя как-то странно.
— Но почему мне ничего не сказали? Почему я ничего не знал? — бушевал Натаниэль.
Но Календула вновь пожала плечами, в глазах ее блеснуло едва заметное насмешливое презрение. Кстати, глаза Календулы обладали свойством — часто встречающимся среди жителей Луда — казаться сонными и полными истомы, чему противоречила форма рта, наделенного длинной и ехидной верхней губой — прямо как у старого судьи — и причудливо приподнятыми уголками, что делало их взгляд насмешливым и чересчур веселым, то особенно проявлялось, когда она смотрела на Натаниэля. Она по-своему любила его. И все же относилась к мужу так, как снисходительная хозяйка к лохматому, норовистому, но исполнительному псу.
Господин Натаниэль принялся расхаживать взад и вперед по комнате, сжав кулаки, бурча под нос проклятия, направленные в адрес бестолковых женщин вообще и в частности, поминая невероятные горести, выпадающие на долю семейного мужчины. И в своей потребности найти жертву, на которую можно было бы излить свою ярость, он доходил до гнева на Календулу за то, что она вышла за него замуж и тем самым навлекла на него всю эту суету и неприятности, отчего дремлющий в его груди страх ощущался в куда большей, чем обычно, степени.
Наблюдавшая за мужем Календула решила, что он более всего похож на только что залетевшего в открытое окно майского жука, с тихим жужжанием старающегося отцепиться от тянущейся за ним по потолку тени — пятнышка, похожего на крупного черно-бархатного мотылька. Однако на Натаниэля жук походил скорее своей неловкостью и непрестанным жужжанием, а не попытками избавиться от собственной тени.
Взад и вперед маршировал господин Натаниэль, взад и вперед носился жук, туда и сюда металась неяркая, узкая тень. Вдруг — буквально по прямой линии — жук свалился вниз с потолка, и в этот же самый миг Натаниэль бросил через плечо:
— Я должен подняться наверх и поговорить с этим мальчишкой… — и поспешно вышел из комнаты.
Ранульфа он обнаружил в постели, тот ревел белугой, выплакивая свои беды, и, поглядев на жалкую, крохотную фигурку, отец ощутил, что гнев его испарился. Опустив ладонь на плечо мальчика, он произнес вполне дружелюбно:
— Ну-ну, сын мой, слезами горю не поможешь. Завтра же напишешь извинения кузену Амброзию, дяде Полидору и всем прочим, а потом… ну, потом попробуешь забыть обо всем. Когда мы не в себе, то неспособны ответить за свои слова… а твоя матушка сказала, что последние недели ты был не здоров.
— Не знаю почему, но я не мог этого не сказать, — рыдал Ранульф. — Что-то заставило меня.
— Вот что, это всего лишь отговорка, простой и легкий способ обелить себя, — продолжил господин Натаниэль более суровым тоном. — Нет, нет, Ранульф, подобному поведению вообще не может быть никакого оправдания. Клянусь Жатвой душ! — В голосе его звучало негодование. — Где это ты набрался подобных идей и выражений?
— Но они же правильные! Правильные! — взвизгнул Ранульф.
— Я не намереваюсь входить в обсуждение того, правильны они или нет. Мне известно только одно: о таких вещах не принято говорить леди и джентльменам. Ничего подобного я еще не слышал в моем доме и надеюсь, что никогда больше не услышу… Ты понял меня?
Ранульф застонал, и Натаниэль добавил уже более мягким тоном:
— Ладно, не будем больше говорить об этом. Твоя матушка мне сказала, что последнее время ты сам не свой. Это так?
Ранульф еще сильнее зарыдал.
— Я хочу уехать, уехать отсюда! — простонал он.
— Уехать? — В голосе господина Натаниэля прозвучало легкое нетерпение.
— От… от того, что происходит, — прорыдал Ранульф.
Сердце Натаниэля екнуло, однако он сделал вид, что ничего не понимает.
— От того, что происходит? — переспросил, стараясь придать голосу насмешливую интонацию. — По-моему, у нас в Луде ничего особенного не происходит, не так ли?
— От всего, — простонал Ранульф, — от лета и зимы, от дней и ночей. От всего!
Господину Натаниэлю вдруг представился Луд и весь окружающий край, неподвижный и тихий.
Возможно ли, чтобы и Ранульф оказался реальной личностью, персоной, в чьей голове также происходят события? А он-то считал себя единственной настоящей индивидуальностью в мире человекоподобных растений. Господин Натаниэль испытал в этот миг удивление, триумф, нежность и тревогу.
Ранульф наконец перестал рыдать и лежал совершенно тихо.
— Я словно бы весь целиком оказался в собственной голове, и мне больно… так бывает, когда болит зуб, — устало произнес он.
Господин Натаниэль поглядел на сына. Неподвижный взгляд, чуть приоткрытый рот, оцепеневшее тело, скованное несчастьем, слишком глубоким, чтобы шевельнуть хотя бы пальцем. Натаниэлю это состояние духа было хорошо знакомо. Однако поза эта, бесспорно, несла и облегчение, поскольку позволяла настроению владеть телом по собственной воле.
Теперь ему незачем требовать объяснений от своего сына. Он слишком хорошо знал, что подобное ощущение пустоты, втянутые внутрь чувства (как усики какого-нибудь насекомого, когда опасность перестала быть непосредственной, но все еще угрожает), так что физический мир исчезает, а сам ты как бы раздуваешься, занимая его место, и в то же время съеживаешься до какой-нибудь миллионной доли своего прежнего объема, превращаясь в орган чистого страдания, не имеющий ни эмоций, ни мысли; ему была известна и другая стадия, когда ты бежишь от дней и месяцев, как олень от охотников, как те беглецы на старой вышивке, которые спасались от Луны.
Но когда подобным образом страдает другой человек, как это тривиально, несмотря на жалость к нему! Как уверен ты тогда в своей способности прогнать эту муку рассуждениями и убеждением!
И, положив руку на голову Ранульфа, господин Натаниэль чуть хрипловатым голосом произнес:
— Ну-ну, сын мой, так не пойдет. — А потом, подмигнув, добавил: — Гони-ка этих черных грачей от своего амбара.
Ранульф усмехнулся.
— Черных грачей не бывает, все птицы золотые! — воскликнул он.
Господин Натаниэль нахмурился — на подобные вещи у него никогда не хватало терпения. Однако он решил пропустить эти слова мимо ушей и сосредоточиться на ситуации, которая пробуждала в нем искреннюю симпатию.
— Ну-ну, сын мой! — продолжил он с нежностью и воодушевлением в голосе. — Скажи-ка себе, что завтра ничего этого не будет и в помине. Надеюсь, ты не думаешь, что один такой на свете? Все мы иногда чувствуем себя подобным образом, однако не поддаемся настроению, не скулим, не ноем, не вешаем нос. Заставляем себя улыбаться и занимаемся своим делом.
Господин Натаниэль, произнося эти слова, наполнялся самодовольством. Раньше он не понимал этого, однако сколь сладкими были его тайные страдания все эти годы!
Однако Ранульф сел в постели и поглядел на отца со странной полуулыбкой.
— Я не такой, как ты, отец, — проговорил он негромко и вновь зарыдал: — Я ел плоды фейри! — выкрикнул он сквозь слезы.
Эти жуткие слова на мгновение пригвоздили потерявшего голову господина Натаниэля к месту. Потом он выскочил на лестницу и завопил изо всех сил, призывая к себе жену:
— Календула! Календула! Календула!
Та уже торопилась вверх по лестнице, испуганно восклицая:
— Что случилось, Нат? О, Боже! Что произошло?
— Живее, клянусь Жатвой душ, живее! Живее! Этот мальчишка говорит, что ел… то, чего мы не произносим вслух. Исстрадавшиеся кошки! Я сейчас сойду с ума!
Календула порхнула к Ранульфу, словно голубка.
И вскричала голосом, вовсе лишенным грудной голубиной нежности:
— О Ранульф! Непослушный мальчишка. О, Боже мой, это просто ужасно! Нат! Нат! Что нам теперь делать?
Отодвинувшись от нее, Ранульф бросил молящий взгляд на отца. После чего Натаниэль грубо схватил жену за плечи и вытолкнул из комнаты со словами:
— Если это все, что ты можешь сказать, лучше я поговорю с ребенком.
Календула же, спускаясь вниз по лестнице, охваченная ужасом, высокомерием, с болью в сердце, ощущала каждой клеточкой своего тела принадлежность к семейству Вигилиев и в гневе бурчала себе под нос:
— Ох уж эти мне Шантеклеры!
Итак, в дом Шантеклеров явилось худшее из несчастий, которое могло свалиться на честное доримарское семейство. Однако господин Натаниэль больше не сердился на Ранульфа. Какая в том польза? К тому же сердце его наполняла новообретенная нежность, и он мог только покориться ей.
Очень осторожно он выпытал у мальчика всю историю. Оказалось, что несколько месяцев назад невоспитанный и вредный парень по имени Вилли Клок, некоторое время проработавший на конюшне Натаниэля, угостил Ранульфа ломтиком незнакомого ему плода. Когда Ранульф съел предложенное угощение, Вилли Клок закатился издевательским смехом и крикнул:
— Ага, маленький господин, теперь ты вкусил плод фейри и никогда больше не будешь таким, как был… хо, хо, хо!
Слова эти наполнили Ранульфа ужасом и стыдом.
— Но теперь я почти всегда забываю о стыде, — проговорил он. — Теперь для меня главное убраться подальше… туда, где тень и покои… туда, где я смогу еще раз отведать этих плодов.
Натаниэль тяжко вздохнул, однако ничего не сказал и только погладил маленькую горячую ладошку, лежавшую в его руке.
— А однажды, — продолжил Ранульф, садясь в постели, раскрасневшись, глядя горящими и лихорадочными глазами, — я увидел их — то есть Молчаливый народ, — танцующих среди бела дня в нашем саду. Главный среди них был одет во все зеленое, и он обратился ко мне: «Эй, юный Шантеклер! Настанет день, и я пришлю за тобой своего волынщика, и ты поднимешься и последуешь за ним!» Теперь я часто вижу его тень в саду, только она не похожа на наши тени, она как яркий свет, что мерцает над лужайкой. И я уйду, уйду, уйду, уйду, однажды я уйду отсюда, я это знаю!
В его голосе звучал страх, смешанный с восторгом.
— Тише, тише, мой сын! — мягко произнес Натаниэль. — Едва ли мы отпустим тебя.
Однако на сердце его легла свинцовая тяжесть.
— И с того времени… с того времени, как я съел… плод, — продолжил Ранульф, — все стало пугать меня… не только после этого, потому что так было и раньше, но теперь все сделалось много хуже. Как с этим сегодняшним сыром… теперь что угодно может вдруг показаться мне страшным. И все же после… после того, я иногда как будто бы понимаю, почему так происходит, откуда берется этот ужас. Так вышло и с сыром, я до смерти испугался и не мог вытерпеть ни минуты.
Господин Натаниэль застонал. Его также пугали самые обыденные предметы.
— Отец, — вдруг проговорил Ранульф, — а что говорит тебе петух?
Натаниэль вздрогнул — он словно бы разговаривал с собственной душой.
— Ты спрашиваешь, что говорит мне петух?
Он умолк. Никогда никому не рассказывал он о своей внутренней жизни. Слегка дрогнувшим голосом он продолжил:
— Он говорит мне, Ранульф, он говорит… что прошлое никогда не вернется, но что мы должны помнить о том, что прошлое сделано из настоящего, а настоящее всегда с нами. Еще он говорит, что мертвые хотели бы вернуться на землю и что…
— Нет! Нет! — с досадой воскликнул Ранульф. — Мне он говорит о другом. Он велит мне уйти… уйти от всего настоящего… от того, что может ужалить. Вот что он говорит мне.
— Нет, мой сын. Нет, — твердым голосом возразил Натаниэль. — Он говорит совсем не это. Ты не понял его.
Тут Ранульф снова зарыдал.
— О, папа, папа! — простонал он. — Они охотятся на меня… эти дни и ночи. Обними меня! Обними!
И Натаниэль, ощутив прилив такой нежности, на которую, по собственному убеждению, просто не был способен, прилег возле ребенка, обняв его трепещущее тело, и принялся бормотать утешительные, полные любви слова.
Постепенно Ранульф успокоился и вскоре заснул мирным сном.
Глава IV Эндимион Лер прописывает лекарство Ранульфу
Натаниэль проснулся на следующее утро с куда менее закаменевшим сердцем чем того требовали обстоятельства. Случившееся с Ранульфом грозило Натаниэлю бесчестием, рассудок и жизнь сына находились в опасности. Однако к тревоге примешивалось отрадное чувство любви к сыну, которую он обнаружил в своем сердце, и он ощущал себя так, как когда-то еще мальчишкой, получив в подарок пони.
К тому же его не отпускало дурацкое ощущение того, что реальность эта не является прочной и неизменной и что факты представляют собой пластмассовые игрушки, а точнее, ядовитые травы, которые не обязательно вырывать, если нет желания. Ну а если тебе все же приходится пропалывать их, то подобные растения всегда можно отбросить в сторону и оставить засыхать на земле.
Ему хотелось бы направить свою ярость на Вилли Клока. Однако предыдущей зимой Вилли таинственным образом пропал, и хотя Натаниэль остался должен ему жалованье за целый месяц, никто с тех пор не видал его и ничего о нем не слышал.
Однако, невзирая на подобное толкование фактов, чувство ответственности, родившееся вместе с этой новой любовью к Ранульфу, заставило его предпринять некие материальные действия, и Натаниэль решил вызвать Эндимиона Лера.
Эндимион Лер объявился в Луд лет тридцать назад, причем неведомо откуда.
Он был врачом, имел большую практику, но в основном пользовал торговый народ и беднейшую часть населения, поскольку наилучшие семейства были консервативны и всегда относились к незнакомцам с некоторой настороженностью. К тому же они считали его человеком непочтительным, а его шутки — неуместными, даже пугающими Например, иногда он был способен напугать приличную компанию такими, произнесенными как бы в задумчивости, словами:
— Жизнь и смерть! Жизнь и смерть! Таковы краски, с которыми я имею дело. Неужели они оставляют пятна на моих руках? — задумчиво произносил он.
После чего со странным сухим смешком выставлял руки на всеобщее обозрение.
Однако умение его и познания были настолько велики, что даже тем, кто недолюбливал его, приходилось обращаться к нему за помощью.
Среди людей бедных имя его гремело, поскольку он всегда был готов согласовать плату за свои труды с возможностями пациента, а тех, у кого не было денег, лечил бесплатно. Все дело было в том, что он любил свою профессию. Однажды ночью его подняли с постели и повезли за несколько миль от города в сельский дом, где он обнаружил, что вызвали его к крохотному черному поросенку, единственному оставшемуся в живых, представителю ценного помета. Однако Лер отнесся к этому открытию вполне благодушно, он целую ночь провозился с маленьким животным и к утру мог уже сказать, что жизнь его находится вне опасности. Когда по возвращении в Луд его стали укорять в том, что он потратил столько времени на столь недостойный объект, он ответил, что и свинья, и мэр служат одному Господину и что вылечить и того, и другого можно, лишь проявив одинаковую меру искусства, а потом добавил, что хорошему скрипачу все равно, где играть — на свадьбе деревенского простака или на похоронах купца.
Интересы его не ограничивались одной медициной. Хотя по рождению Лер не принадлежал к числу доримаритов, мало что оставалось неведомым ему в древних обычаях приемной родины; и несколько лет назад Сенат обратился к нему с просьбой написать официальную историю Ратуши, которая до революции являлась дворцом герцогов и представляла собой самое яркое сооружение Луда. Какое-то время весь свой досуг он отдавал именно этому занятию.
У сенаторов не было более сурового критика, чем Эндимион Лер, он являлся автором большинства шуток, ходивших на их счет в городе. Однако к господину Натаниэлю Шантеклеру он как будто испытывал особую, личную антипатию и при редких встречах с ним держался едва ли не нагло.
Возможно, подобная неприязнь была вызвана тем, что Ранульф, будучи крошечным мальчиком, серьезно обидел его — указав на врача пухлым младенческим пальчиком, ребенок тоненьким голоском пропел:
— Когда крикнет Шантеклер, смолкнет Эндимион Лер!
Мать отругала его за грубость, на что ребенок ответил, что сему незамысловатому стишку его научил какой-то старик, которого он увидел во сне. Эндимион Лер смертельно побледнел — от ярости, решила Календула, — и несколько лет, обращаясь к Ранульфу, едва сдерживал злость.
Однако все это произошло давным-давно, и следовало предположить, что Лер забыл то, что, в конце концов, было всего лишь детской шалостью.
Мысль о том, что придется открыть этому выскочке позор семьи Шантеклеров, далась господину Натаниэлю нелегко. Однако если кто-то и мог исцелить Ранульфа, так только Эндимион Лер, поэтому господин Натаниэль спрятал гордость в карман и попросил врача прийти к нему и осмотреть сына.
Пока господин Натаниэль расхаживал взад и вперед по трубочной (как называлось его личное логово), ожидая врача, ужас случившегося обрушился на него в полной мере. Ранульф совершил ужасное преступление — отведал плода фейри. Если это обнаружится, — а подобного рода вещи всегда получают огласку, — мальчик до конца жизни останется вне общества. В любом случае его здоровью в ближайшие годы будет угрожать серьезная опасность. Натаниэль вдруг представил, как по городу поползут слухи: «Член семейства Шантеклер отведал плодов страны Фейри… Маленькому Ранульфу угрожает опасность…»
Тут паж объявил о прибытии Эндимиона Лера.
Это был невысокий кругленький человек лет шестидесяти от роду, курносый и веснушчатый, глаза разного цвета: один голубой, другой — карий.
Встретив его проницательный, чуть пренебрежительный взгляд, господин Натаниэль ощутил неприятное чувство, как обычно при встрече с врачом, — ему показалось, что тот способен прочесть его мысли. Поэтому он не стал ходить вокруг да около, а сказал все напрямик.
Эндимион Лер негромко присвистнул, бросил на господина Натаниэля едва ли не угрожающий взгляд и резким тоном спросил:
— А кто дал ему это зелье?
Господин Натаниэль ответил, что некогда прислуживавший ему парнишка по имени Вилли Клок.
— Вилли Клок? — с хрипотцой в голосе переспросил доктор. — Вилли Клок?
— Да, Вилли Клок… не думал, что он такой негодяй, — гневно произнес господин Натаниэль и спросил не без удивления: — Так вы знаете его?
Кто же не знает Вилли Клока? — ответил доктор. — Видите ли, я не торговец и не сенатор, а потому могу общаться с кем пожелаю, — произнес он насмешливым тоном. — Вилли Клок со своими выходками был настоящей чумой нашего города, покуда находился в нем, и горожане отнюдь не благословляли Вашу честь за то, что вы, будучи мэром, держите у себя в доме такого негодяя.
— Ну, как только я его встречу, в живых не оставлю! — яростно воскликнул господин Натаниэль.
Эндимион Лер поглядел на него с загадочной полуулыбкой на лице.
— А теперь вам пора отвести меня к вашему сыну и наследнику, чтобы я мог его осмотреть, — проговорил он после паузы.
— А вы… вы действительно можете вылечить его? — с тревогой в голосе спросил господин Натаниэль, провожая врача в гостиную.
— Я никогда не отвечаю на этот вопрос, пока не увижу пациента, а то и вовсе не делаю этого, ответил Эндимион Лер.
Ранульф лежал на кушетке в гостиной. Календула сидела возле него с вышиванием, бледная и взволнованная. Она по-прежнему ощущала себя принадлежащей к семейству Вигилиев и была полна негодования, направленного на двоих Шантеклеров, отца и сына, которые втянули ее в эту жуткую историю.
Бедный Натаниэль застыл в ожидании рядом, едва ли не теряя сознания от напряжения, пока Эндимион Лер обследовал язык Ранульфа, нащупывал пульс, не забывая в то же самое время расспрашивать о симптомах.
Наконец он повернулся к господину Натаниэлю и произнес:
— Оставьте меня наедине с мальчиком. Он тогда будет более откровенным.
Однако Ранульф в ужасе закричал:
— Нет, нет, нет! Папа! Папа! Не оставляй меня с ним!..
И потерял сознание.
У господина Натаниэля голова пошла кругом. А вот Эндимион Лер сохранял спокойствие и контролировал ситуацию. Натаниэля вежливо выставили из комнаты, и, заперши дверь прямо перед его носом, Календула последовала за мужем, и теперь обоим оставалось лишь дожидаться милости доктора в курительной комнате.
— Клянусь Солнцем, Луной и Звездами, я возвращаюсь! — в волнении вскричал господин Натаниэль. — Я не доверяю этому типу и не намерен оставлять с ним Ранульфа.
— Что за ерунда, Нат! — произнесла Календула усталым тоном. — Прошу тебя, успокойся. Пусть доктор занимается своим делом.
Примерно с четверть часа господин Натаниэль мерил комнату шагами, едва скрывая свое нетерпение.
Гостиная находилась напротив курительной, их разделял только узкий коридор, и когда Натаниэль открыл дверь собственной комнаты, он услышал доносящиеся из гостиной голоса. Это утешало, видимо, Ранульф очнулся.
Потом вдруг Натаниэль оцепенел, зрачки его расширились, лицо стало пепельно-бледным, и он вскричал:
— Календула, слышишь ли ты?
Из гостиной доносилась песня, милая, чуть жалобная мелодия, и, старательно вслушавшись, можно было разобрать слова:
Как врачу больного лечить, Как судьбу предсказать, Как понять и как научить, Как потом передать. С лилией на окне, с соком травы в вине. С зеленью многоликой, С ветвью хлесткой и дикой, С клубникой и голубикой.— Боже милостивый, Нат! — воскликнула Календула, изображая комическое отчаяние. — В чем же дело теперь?
— Календула! Календула! — возопил Натаниэль охрипшим голосом, хватая ее за руки. — Разве ты не слышишь?
— Я слышу вульгарную песню, если ты имеешь в виду именно это. Я знала ее всю свою жизнь. Очень любезно со стороны Эндимиона Лера превратиться в няньку и качать колыбель!
Однако то, что слышал господин Натаниэль, было Нотой.
На несколько секунд он замер, не имея сил шевельнуться, на лбу выступил пот. А потом, ослепнув от ярости, он бросился в коридор. Однако забыл о том, что гостиная закрыта, выскочил во входную дверь и ворвался в комнату через выходившее в сад окно.
Находившиеся в гостиной врач и пациент, настолько поглощенные друг другом, не заметили ни попытки господина Натаниэля прорваться сквозь запертую дверь, ни его появления из окна.
Ранульф лежал на кушетке с выражением крайнего мира и покоя на лице, а Эндимион Лер, склонившись над ним, негромко напевал мелодию, на которую были положены только что упомянутые слова.
Господин Натаниэль с бычьим ревом набросился на доктора, поднял его на ноги и принялся трясти, как терьер крысу, обрушив на его голову все известные ему оскорбительные эпитеты, не исключая, конечно, фейрина сына.
Тут Ранульф принялся хныкать и жаловаться на то, что отец все испортил, потому что доктор делал ему хорошо.
Шум заставил встревоженных слуг броситься к двери, в садовом окне появилась Календула и, порозовев от стыда, принялась тянуть господина Натаниэля за сюртук, истеричным тоном предлагая ему опомниться.
Натаниэль устал и выпустил наконец свою жертву, уже побагровевшую и задыхавшуюся — столь серьезной оказалась встряска.
С невыразимым отвращением Календула бросила взгляд на пыхтящего и победоносного мужа и обрушила на маленького доктора поток извинений и всевозможных укрепляющих средств. Не в силах вновь обрести дыхание тот рухнул в кресло, Натаниэль стоял, испепеляя его взглядом, а бедняга Ранульф, бледный и перепуганный, хныкал на кушетке. Наконец доктор поднялся на ноги, слегка встряхнулся, вынул платок, промакнул лоб, усмехнулся и вполне миролюбиво заявил:
— Хорошая встряска весьма полезна для восстановления телесных токов. Итак, ваша честь, вы превратились во врача! Благодарю вас… от всей души благодарю за лечение.
Пропустив его слова мимо ушей, господин Натаниэль сурово спросил:
— Что вы делали с моим сыном?
— Что делал? Просто лечил его. Песни стали считаться целебными намного раньше, чем травы.
— Мне было хорошо, — простонал Ранульф.
— И что же это была за песня? — все так же сурово спросил господин Натаниэль.
— Она стара, как мир. Это колыбельная, няни поют ее детям. Вы наверняка знали ее с самого детства. Как же она называется? Голубика — да, именно так. Голубика. Не правда ли, Календула?
Деревья в саду шевелились и что-то бормотали. Галдели птицы. Издали донесся колокольный перезвон часов на Ратуше, и в гостиной запахло весенними цветами и ароматической цветочной смесью.
Натаниэль вдруг успокоился. Поднес руку колбу, передернул плечами и смущенно усмехнувшись, произнес:
— Право не знаю, что на меня нашло. Разволновался из-за мальчика и, должно быть, сильно расстроился. Молю вас о прощении, Лер.
— В извинениях нет нужды… Ни один уважающий себя врач не станет обижаться на… больного. — И доктор метнул на господина Натаниэля какой-то странный взгляд.
Господин Натаниэль вновь нахмурился и с усилием пробормотал:
— Благодарю вас.
— А теперь, — продолжил доктор деловым тоном, — мне бы хотелось переговорить с вами с глазу на глаз об этом юном джентльмене. Разрешите?
— Ну, конечно же, конечно же, доктор Лер! — поспешно воскликнула Календула, заметившая, что муж колеблется. — Он восхищен вашим предложением, не сомневайтесь. Но вы наделены недюжинной отвагой, раз не боитесь такого чудовища. Нат, проводи доктора Лера в свою трубочную.
Первые слова доктора, когда они пришли в трубочную, обрадовали Натаниэля, страх рассеялся и Натаниэль даже забыл о своем позорном поведении.
— Успокойтесь, ваша честь! Я и на мгновение не могу поверить, будто ваш мальчик съел… не будем называть что.
— Что? Что? — радостно воскликнул Натаниэль. — Клянусь Золотыми Яблоками Заката! Значит, это была буря в стакане воды? Ах, негодник, как же он перепугал нас!
Конечно же, он знал, что это не могло быть правдой! Что факты не всегда упрямая вещь.
И этот несгибаемый оптимист проводил свои дни в ужасе перед неведомым. Впрочем, не исключено, что одно душевное состояние вытекает из другого.
Тут Натаниэль вспомнил сцену, разыгравшуюся накануне вечером между ним и Ранульфом, а также рассказанную сыном грустную историю, и на сердце у него снова стало тяжело.
— И все же… все же, — он осекся, — зачем было Ранульфу тогда рассказывать эту небылицу? С какой целью? Не может быть сомнений в том, что мальчик болен душой и телом, и все же клянусь Млечным Путем, не могу понять, зачем он выдумал, что Вилли Клок дал ему попробовать проклятую снедь? — Он умоляюще поглядел на Эндимиона Лера, словно хотел сказать: «Вот они, факты. Я ничего не скрываю от вас. Только будьте милосердны и придайте им не столь уродливую форму».
Именно этим и занялся Эндимион Лер.
— Откуда нам знать, что это была именно… «проклятая снедь»? — спросил он. — Свидетельством этого являются только слова Вилли Клока, а мы знаем цену словам этого джентльмена. Розыгрыши его известны всему Луду… Он готов сказать все что угодно, лишь бы напугать человека. Нет, нет, поверьте мне, он просто разыграл господина Ранульфа. У меня есть опыт в отношении истинной болезни… Как вам известно, практика моя велика, я пользую и тех, кто живет у причалов. Симптомов настоящей болезни у вашего сына нет. С таким же успехом можно сказать, что вы тоже вкусили плодов фейри.
Натаниэль загадочно улыбнулся и, потянувшись, промолвил:
— Благодарю вас, Лер, еще раз благодарю. Я едва с ума не сошел от страха. Вы были ко мне так добры, несмотря на мое постыдное поведение.
На мгновение господину Натаниэлю показалось, что он питает симпатию к этому странному, острому на язык выскочке.
— А теперь, — продолжил он уже с радостью, — чтобы я убедился в том, что все действительно прощено и забыто, не угоститься ли нам джином с тимьяном… Как вам известно, мой погреб славится им. — И он извлек из буфета два бокала и графин ароматного зеленого зелья, оставшийся здесь от вчерашней вечеринки.
Несколько минут они с наслаждением потягивали джин. И тогда Эндимион Лер, как бы обращаясь к себе самому, произнес:
— Да, быть может, в этом и есть решение. Зачем нам искать другое лекарство, когда есть тимьяновый джин, перегнанный нашими предками? Пусть тимьян — дикая травка. Но время не назовешь диким… Время, оно как джин, сливовый джин. Это весьма утешает.
Господин Натаниэль тихо хрюкнул. Он понял, о чем ведет речь Эндимион Лер, но виду не подал. Высказывания, связанные с философией и поэзией, смущали его. К счастью, в Луде редко заводили речь на подобные темы.
Посему, опустив бокал, он отрывистым тоном проговорил:
— А теперь, Лер, давайте приступим к делу. Вы сняли с моей души огромную тяжесть, но с мальчиком не все в порядке. Что же с ним происходит?
Со странной улыбкой Эндимион Лер в свою очередь спросил:
— А что происходит с вами, господин Натаниэль?
Мэр вздрогнул.
— Со мной? — холодным тоном переспросил он. — Я не обращался к вам за консультацией по поводу собственного здоровья. Давайте уж, если вам угодно, ограничимся здоровьем моего сына.
Однако эффект сих достойных слов оказался подпорченным бульканьем на манер индейского петуха и негромко брошенной фразой:
— Черт бы побрал этого типа вместе с его наглостью!
Эндимион Лер усмехнулся:
— Конечно, я могу ошибаться, — проговорил он, — однако иногда у меня возникает впечатление, что наш мэр, ваша честь, является достаточно сложной персоной, подверженной странным фантазиям. Знаете ли вы, как называют люди ваш дом? Насестом нашего мэра. Насестом мэра!
И он, запрокинув голову, расхохотался, в то время, как Натаниэль, лишившийся дара речи от ярости, готов был испепелить его взглядом.
— Вот что, ваша честь, — продолжил он уже серьезно, — если я проявил нескромность, простите меня, как я простил вас за сцену в гостиной. Видите ли, врач обязан видеть, каково состояние его пациента, и выписывать ему соответствующие лекарства. Для доктора все может стать симптомом, даже то, как человек зажигает трубку. Однажды я имел честь играть с вами в качестве партнера в карты, вы, наверно, уже забыли. Это произошло достаточно давно, в доме Мукомоллов. Мы проиграли. А почему? Потому что всякий раз, когда вам доставалась самая ценная карта в колоде — Лира Костей, — вы избавлялись от нее, словно она жгла вам пальцы. Подобные вещи заставляют врача задуматься, господин Натаниэль. Вы чего-то боитесь.
Господин Натаниэль покраснел. Он вспомнил, что одно время никак не хотел брать в руки Лиру Костей. Само название этой карты было в его представлении связано с Нотой. Он имел склонность объявлять запретными самые невинные вещи, но не думал, что кто-то может это заметить!
— А теперь поговорим о вашем сыне, — продолжал Эндимион Лер. — Поймите, человек может и на милю не подходить к плодам страны Фейри и тем не менее обладать всеми симптомами, характерными для регулярно потребляющей их персоны. Подождите! Подождите! Дослушайте меня до конца!
Дело в том, что господин Натаниэль, вскрикнув, вскочил с кресла.
— Я не хочу сказать, что у вас налицо все необходимые симптомы, это далеко не так. Однако, как вам известно, существуют и разные имитации многих телесных болезней, в точности следующие симптомам, и врачи часто принимают эти симптомы за истинные. Вы хотите, чтобы я ограничил свои рассуждения вашим сыном… ну, что ж, на мой взгляд, он страдает от ложного переедания плодов фейри.
Невзирая на раздражение, господин Натаниэль почувствовал облегчение. Подобное объяснение его собственного состояния лишало Натаниэля всякой тайны, каким-то образом делало рациональным, казалось столь же приемлемым, как лекарство. И посему он позволил доктору продолжать свое исследование без дальнейших препятствий, лишь иногда возражая какими-то нечленораздельными звуками.
— Мне пришлось самым тщательным образом изучить последствия употребления плодов фейри, — продолжал доктор. — Мы видим в них прежде всего болезнь. Однако на самом деле они скорее напоминают мелодию, мотив, который никак нельзя выбросить из головы.
И он стрельнул в сторону Натаниэля лукавыми, яркими, как у птицы, глазами.
— Да, — продолжил он задумчиво, — последствия употребления их, пожалуй, точнее всего можно описать как изменение внутреннего ритма, в котором мы живем. Случалось ли вам обращать внимание на трехлетнего или четырехлетнего малыша, которого отец ведет за руку по улице? Можно сказать, что каждый из них идет под совершенно разный мотив. В самом деле, хотя отец с сыном держатся за руки, они идут, словно по разным планетам, каждый видит и слышит совершенно другое. И если отец упорно продвигается к заранее намеченной цели, ребенок то и дело тянет его за руку, смеется без всякой причины, время от времени по-птичьи наклоняется к разным незаметным предметам. И тот, кто отведал плодов фейри (ваша честь простит меня, если я позволю себе называть вещи своими именами, ибо профессия требует от меня четких определений), итак, всякий, кто отведал плодов фейри, идет по жизни рядом с другими людьми, но под собственную мелодию… как упомянутый мною малыш и его отец. Однако можно родиться с собственной песней, что, как я предполагаю, и случилось с господином Ранульфом. Итак, если когда-либо он станет полезным гражданином, то не обязательно потеряет собственную мелодию, для этого ему будет достаточно научиться ходить в ногу с другими людьми. И он не научится этому здесь в настоящее время. Господин Натаниэль, вы не годитесь своему сыну в отцы.
Господин Натаниэль неловко шевельнулся в кресле и напрягся:
— И что же вы посоветуете?
— Посоветую научить его другому мотиву, — проговорил доктор. — Отличному от всех, которые ему приводилось слышать, но такому, под который ходят, кроме него, и другие люди. У вас есть капитаны и их помощники, господин Натаниэль, у каждого найдется крохотный домик в порту на берегу моря. Не найдется ли среди них надежный человек с благоразумной женой, у которых мальчик мог бы провести месяц или два? А то и подольше. — Он продолжил, не дожидаясь ответа господина Натаниэля: — Может, ему даже лучше пожить на ферме. Посев и уборка, тихие дни, запахи и звуки, похожие на старые песни, целительные ночи, опьянение медленно текущим временем! Клянусь Жатвой душ, господин Натаниэль, я скорее предпочел бы стать фермером, чем торговцем. Волны, бегущие по пшеничному полю, краше морских, телега прекраснее корабля, и грузят в нее более приятные и куда более полезные товары, чем все ваши шелка и пряности, ибо перевозят в них мир и душевный покой. Да, господин Ранульф должен провести несколько месяцев на ферме, и я могу предложить подходящее место.
Натаниэль был растроган словами врача. В них звучал петушиный крик, но без присущей ему меланхолии. Однако, ничем не выдав своих чувств, Натаниэль деловито спросил, где находится эта замечательная ферма.
— О, она там, на западе, — неопределенно махнул рукой доктор. — И принадлежит моей старинной знакомой, вдове Тарабар, женщине умной, деловитой, знающей все, что положено знать женщине, а ее внучка, Хейзл, — отличная, разумная и трудолюбивая девочка. Не сомневаюсь…
— Как вы сказали — Тарабар? — переспросил господин Натаниэль. Фамилия показалась ему знакомой.
— Да. Возможно, вы слышали ее имя в суде — оно не из обычных. Много лет назад на нее подали в суд. Насколько я помню, мошенник-работник, которого ее покойный муж уличил в воровстве и выгнал, потребовал от нее возмещения убытков.
— А где именно находится эта ферма?
— Примерно в шести десятках миль от Луда, возле деревни, которая зовется Лебедянь-на-Пестрой.
— Лебедянь-на-Пестрой? Но это же рядом с Эльфовым переходом! — вознегодовал господин Натаниэль.
— Примерно в десяти милях от них, — невозмутимо ответил Эндимион Лер. — Ну и что? Десять миль для деловой, углубленной в повседневный труд фермы все равно, что сотня миль для Луда. Впрочем, я понимаю, что вы боитесь запада. Придется придумать что-нибудь другое.
— Я действительно боюсь запада! — буркнул господин Натаниэль.
— Однако, — продолжил доктор, — вам незачем опасаться этой части страны. На самом деле ваш сын окажется вдали от искушений. Контрабандисты, уж не знаю, что они из себя представляют, серьезно рискуют, доставляя плоды в Луд, и они не станут расходовать их на селян и их работников.
— И все же, — стоял на своем господин Натаниэль, — я не намерен отсылать его так близко к известному месту.
— Месту, которое с точки зрения закона не существует, так? — усмехнулся Эндимион Лер.
Он подался всем телом вперед и пристально поглядел в лицо господину Натаниэлю:
— Господин Натаниэль, мне бы хотелось немного порассуждать. Рассудок, насколько мне известно, — это всего лишь лекарство и в таковом качестве не обладает постоянным эффектом. Подобно маковому молочку, он нередко приносит лишь временное облегчение.
Он умолк, как будто подбирая слова. И продолжил:
— Мы имеем несчастье обитать в стране, граничащей с неизвестным, отсюда и болезненные фантазии. Мы высмеиваем старинные песни и амбары, однако же они представляют ту основу, на которой мы ткем собственную картину мира.
Он помедлил секунду, наслаждаясь собственным глубокомыслием, и снова заговорил:
— Но давайте попробуем посмотреть в лицо действительности, назвать вещи своими именами. Возьмем, например, страну Фейри. Там никто никогда не был. Из поколения в поколение она считалась запретной землей. И как следствие любопытство, невежество и необузданная фантазия сошлись нос к носу и состряпали страну, где золотые деревья обвешаны жемчугами и рубинами, где живут бессмертные и ужасные, наделенные невероятными способностями создания и все в таком духе. Однако — и я ни в коем случае не присоединяюсь к мнению всем известного зловонного антиквара — не существует ни единственной домашней вещи, которая, если поглядеть на нее под определенным углом, не была бы волшебной. Представьте себе Пестрянку или Долу, на закате катящие свои воды на восток. Вспомните осенний лес или боярышник в майском цвету. Майский боярышник… вот оно — истинное чудо! Кто и когда мог бы подумать, что в корявом старом стволе таится сила, способная на такое? Конечно, мы давно привыкли к подобным зрелищам, но что бы мы подумали, если бы никогда не видали ничего похожего и прочитали в книжке описание такого чуда или увидели бы его впервые? Золотая река! Охваченные пламенем деревья! Деревья, внезапно покрывающиеся цветами! Кто знает, может быть, это Доримар кажется страной Фейри людям, живущим по ту сторону Спорных гор.
Господин Натаниэль впитывал каждое слово врача, как нектар. Наконец он ощутил себя в безопасности, и чувство это переливалось по его жилам, словно вино, даже слегка ударяя в голову. Эндимион Лер внимательно смотрел на него с едва заметной улыбкой.
— А теперь, — проговорил он, — надеюсь, ваша честь позволит мне немного поговорить о вашем собственном деле. Насколько я понимаю, хворь, которая мучает вас, называется «жизненной болезнью». Вы, так сказать, являетесь плохим моряком, и течение жизни кружит вам голову. Здесь, под вами, вокруг вас, вздувается и бурлит, откатывается и набегает огромная и неподвластная нам безжалостная стихия, которую мы зовем жизнью. Ее движение проникает в вашу кровь, туманит голову. Привыкните к ней наконец, господин Натаниэль! Я не хочу сказать — перестаньте ощущать ее движение, ощущайте себе на здоровье, только научитесь любить, а если не любить, то хотя бы переносить на твердых ногах и с ровной головой.
Глаза господина Натаниэля наполнились слезами и он кротко улыбнулся. В это мгновение ноги его, безусловно, находились на твердой земле; и как каждому из нас случается думать, что тому или другому настроению не будет конца, в тот миг он полагал, что голова его более никогда не замутится от присущей жизни морской болезни.
— Благодарю вас, Лер, благодарю, — пробормотал он. — За то, что вы сейчас сделали для меня, я готов оказать вам любое содействие.
— Отлично, — промолвил доктор. — В таком случае предоставьте мне возможность исцелить вашего сына. Лечить людей — для меня самая большая радость. Позвольте мне договориться о его переезде на ферму.
В своем нынешнем состоянии господин Натаниэль был просто не способен противоречить ему. И теперь Ранульфу в ближайшее время скоро предстояло отправиться в Лебедянь-на-Пестрой.
Прощаясь, Эндимион Лер произнес:
— Господин Натаниэль, хочу, чтобы вы запомнили одно: за всю свою жизнь я ни разу не назначил больному неправильного лекарства.
Рыся от дома Шантеклеров, Эндимион Лер хихикал себе под нос и потирал руки.
— Никак не могу перестать быть врачом и исцелять раны, — бормотал он. — Но какой политический успех! Он согласился отпустить мальчика на ферму.
Вдруг он вздрогнул и замер прислушиваясь. Издалека донесся едва слышный звук. Он вполне мог оказаться залетевшим из неведомых краев петушиным криком, иначе его следовало бы назвать отголосками полного издевки хохота.
Глава V Ранульф отправляется на ферму вдовы Тарабар
Эндимион Лер был прав. Рассудок — всего лишь лекарство, и его действие не может быть постоянным. Вскоре господин Натаниэль вновь стал страдать от своей морской, то есть жизненной, болезни, в той же степени, что и прежде.
Во всяком случае, отрицать, что в голосе Эндимиона Лера, певшего над Ранульфом, прозвучала та самая Нота, было нельзя, и факт этот мучил господина Натаниэля, невзирая на все доводы рассудка.
Однако одного только факта было недостаточно, чтобы заставить его усомниться в Эндимионе Лере. — Господин Натаниэль был убежден, что Ноту можно услышать в голосе ни в чем не повинного человека, так же, как крик нахальной кукушки может прозвучать из гнезда жаворонка или лесной завирушки. И тем не менее он не собирался отпускать Ранульфа на запад, на эту самую ферму.
А мальчик уже тосковал, нет, жаждал этой поездки, потому что Эндимион Лер, оставшись наедине с ним в то утро в гостиной, успел распалить его воображение прелестями далекой фермы.
Когда господин Натаниэль принялся выспрашивать у сына, о чем еще говорил Эндимион Лер, мальчик сказал, что тот задал ему целую уйму вопросов о том облаченном в зеленый наряд незнакомце, которого он видел танцующим в своем саду, и несколько раз заставил в точности повторить слова, сказанные этим человеком.
— А потом, — продолжал Ранульф, — он сказал, что своей песней сделает меня счастливым и здоровым. И я уже начинал чувствовать себя по-настоящему здоровым, когда ты, папа, влетел в комнату.
— Прости меня, мой мальчик, — извинился господин Натаниэль. — Но почему ты сперва так закричал и умолял меня не оставлять тебя с ним?
Ранульф поежился и опустил голову.
— Наверно, опять получилось, как с тем сыром, — сказал он смущенно. — Но, папа, я хочу поехать на эту ферму. Пожалуйста, отпусти меня.
Несколько недель господин Натаниэль упорно отказывался дать согласие. Он держал мальчика при себе — насколько позволяли дела и официальные обязанности, — стараясь подобрать для него занятия и развлечения, которые могли бы настроить ребенка на новый лад. Дело в том, что слова Эндимиона Лера, хотя и произвели не слишком большой эффект на его духовное состояние, но в память врезались самым решительным образом. И все же он не мог не замечать, что Ранульф увядает день ото дня, что речи его становятся все более и более фантастичными; и отец начал уже опасаться, что нежелание отпустить сына на ферму вызвано эгоистическим желанием оставить его при себе.
Хэмпи, как ни странно, была за то, чтобы отправить ребенка из дома. Старуха относилась ко всей этой истории прелюбопытнейшим образом. Ничто не могло заставить ее поверить в то, что Вилли Клок дал мальчику нечто другое, а не кусочек плода страны Фейри. Она сказала, что подозревала это с самого начала, однако заводить об этом речь было просто неразумно.
— Если он дал ему не это, так что же тогда? — спрашивала она презрительным тоном. — И что представляет собой сам Вилли Клок? Он оставил свое место — не взяв заработанных денег — в одну из двенадцати ночей после Рождества. А когда пес или слуга вдруг сбегает именно в это время, все мы знаем, что надо думать.
— И что же нам надо думать, Хэмпи? — спросил господин Натаниэль.
Старуха с таинственным видом покачала головой. Но в конце концов рассказала, что в некоторых уголках страны верят, что если фейри сумеет затесаться среди слуг, то он обязан возвратиться в родной ему край как раз в эти двенадцать дней после зимнего солнцестояния; а если среди собак окажется пес из своры герцога Обри, все эти ночи он будет выть и выть, пока его не выпустят из конуры, а потом исчезнет во тьме — и поминай как звали.
Натаниэль нетерпеливо заворчал.
— Ну, ты сам заставил меня произнести эти слова, и пусть ты у нас мэр и лорд Высокий сенешаль, над моими мыслями ты не властен… У меня есть полное право на них! — вознегодовала Хэмпи.
— Моя добрая Хэмпи, если ты действительно веришь в то, что мальчик кое-что съел, могу лишь сказать, что ты слишком легкомысленно относишься к этому факту, — рявкнул Натаниэль.
— А что пользы, если я изображу унылую харю, как у какой-нибудь статуи с Грамматических полей, хотелось бы мне знать? — парировала Хэмпи и добавила: — К тому же, что бы ни происходило, с Шантеклером ничего плохого случиться не может. Покуда Луду стоять, Шантеклерам суждено процветать. Поэтому, гладко ли все у тебя, или есть колдобины, меня это не беспокоит. Но на твоем месте, господин Нат, я отпустила бы мальчишку на волю. Когда болеешь — взрослый ты или ребенок, — нет ничего лучшего, чем жить по собственному разумению. Для больного — это все равно что лекарственная травка для прихворнувшего пса.
Мнение Хэмпи значило для господина Натаниэля больше, чем он готов был признать; но только разговор с Немченсом, капитаном йоменов городского ополчения, наконец заставил его отпустить Ранульфа.
Ополчение исполняло обязанности городского гарнизона и полиции поэтому господин Натаниэль приказал его капитану найти Вилли Клока.
Оказалось, что мошенник хорошо знаком капитану, Немченс подтвердил то, что говорил Эндимион Лер. Этот безобразник перевернул своими проказами весь город за те несколько месяцев, пока находился на службе у господина Натаниэля. Однако после его исчезновения, приключившегося во время Святок, в Луде более не слышали о нем, и Немченсу не удалось отыскать никаких следов проходимца.
Господин Натаниэль позволил себе выразить легкое недовольство бестолковостью йоменов, однако в сердце своем он почувствовал облегчение. Он постоянно опасался того, что Хэмпи права, а Эндимион Лер ошибается и что на самом деле Ранульф все-таки отведал плода из страны Фейри. Однако спящий факт лучше не будить, а он боялся, что при личной встрече с Вилли Клоком факты проснутся и начнут кусаться. Но что это вдруг стал говорить ему Немченс?
Выходило, что за последние месяцы в городе обнаружился заметный рост употребления плодов фейри — естественно в бедных кварталах.
— Это следует пресечь, Немченс, вы слышите меня? — с пылом воскликнул господин Натаниэль. — А главное, необходимо изловить и пересажать в тюрьму контрабандистов — всех до последнего сукина сына. Мы и так слишком долго миндальничали с ними.
— Да, ваша честь, — невозмутимо ответил Немченс. — С ними миндальничал еще мой предшественник, если ваша честь простит мне это выражение (Немченс обожал длинные слова, однако считал непочтительностью пользоваться ими при начальстве), и его предшественник, и так далее. А ведь считать себя умнее своих предков негоже. Иногда мне кажется, что с тем же успехом можно пытаться поймать Пестрянку и засадить ее под замок. Ваша честь, настали печальные времена, очень печальные… Все ученики лезут сразу в господины, каждый лавочник рвется в сенаторы, а каждый неумытый малец считает, что ему незачем уважать старших! Знаете ли, ваша честь, по своим служебным обязанностям — простите за выражение — мне приходится видеть и слышать много разного и всякого, но то, что тебе говорят глаза и уши, не складывается в слова, не так уж просто передать другим, что они говорят, эти самые глаза и уши. Вот гуси тоже знают, когда будет дождь, но сказать не могут. — Он почтительно усмехнулся. — Но я не буду удивлен, совсем не буду, если окажется, что в городе что-то зреет.
— Ради Солнца, Луны и Звезд, Немченс, не говорите загадками! — рассердился господин Натаниэль. — Объясните все толком.
Немченс переступил с ноги на ногу.
— Ну, ваша честь, начнем с того, что людишки как-то вдруг снова заинтересовались герцогом Обри. Девчонки носят дешевые брошки с его портретом, прикалывают к чепцам грубо сработанные веточки плюща и пролески, а на каждой, самой захудалой улочке, какаду, которых привозят моряки, верещат из своих клеток, что, мол, герцог еще вернется. И прочую чушь, и…
— Мой добрый Немченс! — нетерпеливо перебил его господин Натаниэль. — Негодяй герцог Обри умер более двухсот лет назад. Надеюсь, что хотя бы вы не верите в то, что он оживет?
— Я не говорил, что это случится, ваша честь, — уклончиво ответил Немченс. — Но мне ли не знать, что, когда в Луде начинают его вспоминать, это всегда предвещает беду. Помню, как старина Трипсенд, который командовал йоменами, когда я еще был мальчишкой, говорил, что подобные разговоры начались как раз перед великой засухой.
— Ерунда! — воскликнул господин Натаниэль.
Он немедленно выбросил из памяти все теории Немченса относительно герцога Обри. Однако то, что тот говорил о плодах фейри, весьма смутило мэра, и он начал подумывать, что Эндимион Лер был, в сущности, прав, полагая, что Ранульф окажется дальше от соблазна в Лебедяни-на-Пестрой, чем в Луде.
Он вновь переговорил с Лером, и было решено, что как только Календула и Хэмпи соберут Ранульфа в дорогу, он отправится на ферму вдовы Тарабар. Эндимион Лер сказал, что намеревается поискать нужные травы в ее окрестностях, и охотно проводит туда Ранульфа.
Господин Натаниэль, конечно же, предпочел бы сделать это собственной персоной, однако закон запрещал мэру покидать Луд, кроме тех случаев, когда этого требовала служба.
Вместо себя он решил отправить Люка Хэмпена, внучатого племянника старой Хэмпи. Парню было около двадцати лет, он работал в саду и всегда охотно прислуживал Ранульфу.
Итак, прекрасным солнечным утром, примерно неделю спустя, Эндимион Лер подъехал к дому Шантеклеров, чтобы забрать Ранульфа, который нетерпеливо дожидался врача в шпорах и сапогах; мальчик выглядел гораздо лучше, чем в предыдущие месяцы.
Прежде чем Ранульф сел в седло, господин Натаниэль смахнул с глаз слезы, поцеловал сына в лоб и шепнул:
— Черные грачи улетят, мой сын, ты вернешься загорелый, как ягодка, и веселый, как сверчок. Если я тебе понадоблюсь, пришли с весточкой Люка, и я поскачу самым скорым галопом, разрешает это закон или нет.
За решетчатым окошком на верхнем этаже появилась покрытая старая Хэмпи в ночном колпаке. Погрозив кулаком, она крикнула:
— Вот что, молодой Люк, если не усмотришь за моим мальчиком — схлопочешь!
Маленькую кавалькаду на мощеных улицах города то и дело провожали любопытными взглядами. Мисс Летиция Прим и мисс Рози Прим, симпатичные дочки главного городского часовых дел мастера, возвращавшиеся с рынка с покупками, дружно решили, что Ранульф очень мил верхом на коне.
— Впрочем, — добавила мисс Рози, — говорят, что он чуточку странный, и потом, скажу откровенно, жаль, что ему достались от отца имбирного цвета волосы.
— Во всяком случае, Рози, — возразила мисс Летиция, — во всяком случае, он не прячет их под черным париком, как это делает один из знакомых нам подмастерьев!
Засмеявшись, Рози дернула головкой.
Провожая их взглядом, многие женщины Луда благословляли Эндимиона Лера, выражая сожаление, что не он является мэром и Высоким сенешалем. Несколько грубых с виду мужланов глядели на Ранульфа хмурыми и злыми глазами. Однако мамаша Тиббс, полусумасшедшая прачка, которая, несмотря на свои сорок лет, танцевала куда изящнее, чем любая девица, и потому пользовалась огромной популярностью как партнерша в любой таверне города во время плясок, что играли огромную роль в жизни народных масс Луда туманного, — безумная, ничтожная и недостойная персона, наделенная тем не менее благородным и чистым лицом, эта самая мамаша Тиббс бросила ему букетик цветов и крикнула певучим, проникающим в душу голосом:
— Кукареку! Кукареку! Кукареку! А маленький господин едет в тот край, где все куры несут золотые яйца!
Однако никто не обратил на нее внимания.
Во время путешествия до Лебедяни не произошло ничего достойного упоминания, вокруг лежала прекрасная летняя земля. Буки карабкались вверх по крутым берегам, усыпанным бурой прошлогодней листвой; поляны были покрыты мятликом и щавелем; загорелые старые женщины звали своих коз; акации стояли в полном цвету, рассыпая белые лепестки. Время от времени эту красу пронзали земнородные кометы — то синий зимородок, то рыжая лиса.
А вдалеке там и сям неподвижно и в полном молчании жались к реке Пестрянке крытые красной черепицей деревни — наименее тщеславные из здешних красот, они никогда не засматривались на собственное отражение, а неусыпно разглядывали горизонт.
Были там увитые плющом, разрушенные замки. В полог этого плюща ныряли голубки, оставляя за собой аметистовый след. Круглые башни замков казались прочно вросшими в небо, так что и птица не могла бы пролететь сквозь соединяющий их с небосводом прозрачный мрамор.
А потом солнце садилось, и наши всадники могли видеть, как медленно меркнут краски вокруг. Неужели это дерево действительно осталось зеленым или же воспоминание о том, что оно было зеленым несколько секунд назад, еще не покинуло его?
А та нимфа, которую преследуют все путешественники, хотя никому еще не удавалось поймать ее, — белая столбовая дорога мерцала в сумраке, приглашая их продолжить путь.
Впрочем, все эти зрелища были знакомы каждому жителю Луда. Однако на третий день пути (ради Ранульфа длинных переходов не делали) пейзаж стал меняться, особенно деревья. Вместо акаций, буков и ив, хорошо знакомых живых созданий, вечно нашептывающих себе непонятные нам тайны, появились сосны, падубы и оливы. Поначалу они казались бездушными произведениями искусства, и Ранульф воскликнул:
— Ой посмотрите-ка на смешные деревья! Ну прямо как те старинные изваяния почивших предков на Грамматических полях!
Однако с тем же успехом их можно было уподобить персонажам написанной в давние времена трагедии. Если человеческий, да и сверхчеловеческий опыт и трагическое столкновение личностей можно выразить в пластической форме, почему бы не поверить в то, что эти корявые силуэты были согнуты ветром, создавшим духовное подобие какой-то старинной драмы.
Однако сосны и оливы не растут далеко от моря. Но ведь море лежало к востоку от Луда, и каждая миля удаляла путников от него.
Эти сосны и оливы процветали благодаря другому морю — невидимому отсюда морю страны Фейри, что лежит за Эльфовым переходом и горами.
На закате дня они добрались до деревни, Лебедяни-на-Пестрой — дюжины домишек, рассыпанных вокруг треугольного клочка необработанной общей земли, где росли оливы и чахлые плодовые деревья, и где находилась свалка. Вдалеке можно было видеть невысокие, заросшие соснами волны Спорных гор — превосходный и неизменный фон для быстро сменяющихся красок времени года. И в самом деле они придавали достоинство и значительность всему, что росло, располагалось и совершалось перед ними; и даже маленькие детишки, в синих рубашонках, игравшие среди мусора на деревенской площади, мимо которой проезжали путники, казались исполнявшими на фоне самой Судьбы некую великую роль, аналогичную той, которую выражали своими очертаниями сосны и оливы.
Миновав деревню, путники поехали по тележной колее, ответвлявшейся направо от столбовой дороги. Она уходила в долину, ее пологие склоны были покрыты виноградниками и пшеничными полями. Иногда тропа приводила их в рощи падубов, где из-под ободранных кусков коры проступали кроваво-красные пятна; повсюду росли невысокие, тонкие и крепкие кусты с ароматными цветами над которыми вились рои пчел.
С каждым мгновением горы как бы пододвигались все ближе, и сосны, которыми они были покрыты, начинали выделяться из зеленого ковра, образуя нечто вроде рельефа, похожего на толстый зеленый ковер водяного кресса на стоячих фиолетовых водах пруда. Наконец они добрались до фермы — отличного старого поместья, окруженного стайкой крытых красной черепицей амбаров; фасад здания с обеих сторон охраняли два великолепных геральдического вида платана с невероятно толстыми пестрыми стволами.
Гостей приветствовали дружным лаем собаки на шум поспешила наружу и сама вдова, которую сопровождала внучка, хорошенькая девушка лет семнадцати, по имени Хейзл.
Вдове Тарабар было не меньше шестидесяти лет, однако она оставалась на удивление красивой — высокой и статной, волосы переливались таким количеством оттенков красного и коричневого цветов, которым может похвастать разве что млеющая на солнце клумба желтофиоли.
Двое мужчин увели коней, а путников проводили в отведенные им комнаты.
Ранульфу отвели лучшую из них, как и подобало сыну Высокого сенешаля. Просторная и безупречно соразмерная, она была прекрасна, несмотря на обитую ситцем простую сельскую мебель и покрытый сухим тростником вместо ковра пол. В ней угадывались несомненные признаки прежнего великолепия, оставшиеся от тех времен, когда дом принадлежал не фермерам, а дворянам.
Потолок являлся превосходным образцом плоских эмалевых потолков, характерных для убранства интерьеров времен герцога Обри. Именно такой потолок был в спальне Календулы. И когда Ранульф расстраивал ее своим поведением, она, как поступали в подобных обстоятельствах все матушки из семейства Шантеклеров, разглядывала этот потолок, и краски и узоры его неразрывно сливались с ее нравственными мучениями.
Эндимиона Лера поместили в комнате рядом с Ранульфом, а Люку отвели уютную комнату на чердаке.
Долгая дорога, по словам Ранульфа, ничуть не утомила мальчика. Щеки его раскраснелись, глаза сияли, и когда вдова оставила их вдвоем с Люком, мальчик радостно запрыгал и воскликнул:
— Как мне нравится здесь, Люк!
В шесть часов вечера возле дома прозвенел колокол, по-видимому, созывавший работников на обед; и так как вдова предупредила их, что ужинают здесь на кухне, Ранульф и Люк, изрядно проголодавшись, поспешили вниз.
Огромная кухня тянулась вдоль всего дома; в прежние времена она служила пиршественной залой. Каменный потолок гармонировал с огромным, сложенным из камня камином, украшенным рельефными узорами из черепов, цветов и листьев, характерных для искусства Доримара. По обеим сторонам очага высились медные подставки для дров. Пол был вымощен мозаикой из коричневой, красной и голубовато-серой плитки.
Посреди помещения располагался длинный и узкий стол, уставленный оловянными тарелками и кружками, работники и служанки уже наполняли зал, сверкая свежими после мыла и мытья лицами, и теснились кучками у дальнего конца стола, ухмыляясь и робея в присутствии гостей. В соответствии с добрым йоменским обычаем они обедали вместе с господами.
Ужин был самым восхитительным — к огромному, пропахшему ароматным древесным дымком окороку подали маринованный первоцвет; еще было мясо, пирог с олениной и в честь почетных гостей — жирный жареный лебедь. В вино, изготовленное из собственного винограда, был добавлен мед и ароматная ежевика.
Вдова и Эндимион Лер вели между собой разговор. Он расспрашивал ее о том, много ли форелей выловили тем летом в Пестрянке и какого они были веса. Она сообщила ему, что недавно из реки вытащили лосося, потянувшего на целых десять фунтов.
Молчаливо жевавший Ранульф вдруг посмотрел на них и чуть улыбнулся той самой полуулыбкой, которая приводила в замешательство окружающих.
— Это не настоящий разговор, — проговорил он. — На самом деле вы разговариваете друг с другом совсем не так. А сейчас только изображаете беседу.
Вдова крайне удивилась, и на лице ее появилась досада. Однако Эндимион Лер от всей души рассмеялся и попросил Ранульфа объяснить, что, собственно, тот имел в виду. Ранульф не стал отвечать.
Однако Люк Хэмпен понял, о чем идет речь. В разговоре между вдовой и доктором не угадывалось истины; казалось, что их слова имеют двойной смысл, понятный лишь им обоим.
По прошествии нескольких минут в комнате появился высохший старик, который, блеснув на удивление яркими глазами, занял место среди работников. И тут Ранульф действительно перепугал всех: он перестал есть и некоторое время молча разглядывал вошедшего, а потом пронзительно вскрикнул.
Все взоры с удивлением обратились к нему. Однако мальчик словно окаменел, не отрывая глаз от старика.
— Что это значит, молодой человек? — резким гоном воскликнул Эндимион Лер.
— Что вас встревожило, маленький господин? — вскричала вдова.
Однако тот, не произнося ни слова, продолжал указывать на старика, поглядывавшего по сторонам и ухмылявшегося, радуясь всеобщему вниманию.
— Его испугал ткач Портунус, — хихикая, переговаривались между собой девицы.
И слова эти — Портунус, старый ткач Портунус — передавались из уст в уста по обеим сторонам стола.
— Да, ткач Портунус! — громко вскричала вдова, грозно поглядывая по сторонам. — И кто же здесь, хотела бы я знать, не любит ткача Портунуса?
Девицы опустили головы, мужчины с неодобрением пересмеивались.
— Ну? — потребовала ответа вдова.
Тишина.
— А кто, — продолжила она негодующим тоном, — самый обязательный и любезный старичок, которого можно отыскать в ближайшей округе на целые двадцать миль?
Умолкнув, она обвела стол грозным взглядом и вновь повторила свой вопрос.
И, словно повинуясь переданному взглядом приказу, вся компания дружно забормотала:
— Портунус…
— А кто приходит на помощь, если молоко для сыра не киснет, если масло не хочет сбиваться, а вино — бродить?
— Портунус, — хором отозвались все.
— А кто всегда готов прийти на помощь девицам, растрепать и расчесать пеньку или спрясть лен?
Кто, когда работа закончена, охотно сыграет им на скрипке?
— Портунус, — вновь пробормотали все.
Тут Хейзл вдруг оторвала взгляд от тарелки, и в глазах ее сверкнули вызов и гнев.
— А кто, — выкрикнула она, — думая, что никто не видит его, садится у огня, жарит живьем лягушат и ест их? Портунус.
Голос ее звучал все пронзительнее, становился все выше, но неожиданно оборвался. Люк заметил, как девушка вздрогнула под негодующим, холодным взглядом вдовы.
Заметил и еще кое-что.
В Доримаре, в йоменских и крестьянских домах, было принято вешать над каждой дверью пучок сушеного сладкого укропа, фенхеля; считалось, что фенхель оберегает от фейри. И когда Ранульф испустил крик, Люк столь же инстинктивно, как сделал бы в такой ситуации крестное знаменье средневековый христианин, посмотрел в сторону двери, чтобы ободриться при виде знакомого растения.
Однако фенхеля над дверью вдовы Тарабар не оказалось.
Мужчины ухмылялись, девицы хихикали, но никто не произносил ни слова. Ранульф между тем оправился от испуга и вновь приступил к еде, а вдова принялась его успокаивать:
— Помяните мои слова, маленький господин, вам придется научиться любить Портунуса так, как любим его все мы. Верьте Портунусу — он знает, где ловить форель, и где искать птичьи гнезда. Так, Портунус?
Портунус восторженно захихикал.
— Да и то, — продолжила вдова, — я знакома с ним уже двадцать лет. Он здешний ткач и переходит с фермы на ферму, а та комната, в которой стоит ткацкий станок, называется «гостиной Портунуса». На двадцать миль окрест ни один праздник или свадьба не обходятся без Портунуса — он прекрасно играет на скрипке.
Люк, от только что пережитого испуга сделавшийся необыкновенно наблюдательным, заметил, что Эндимион Лер погрузился в молчание и на лице его отразилась тревога.
Когда трапеза завершилась, служанки и работники немедленно исчезли, как и Портунус; однако трое гостей остались сидеть за столом, прислушиваясь к приятному пению прялок вдовы и Хейзл, лишь изредка переговариваясь, потому что после проведенного на воздухе долгого дня всех троих клонило ко сну.
В восемь часов в дверь негромко поскреблись.
— Это дети, — сказала Хейзл и, встав, открыла ее, после чего из сумерек на пороге появилось трое или четверо смущенных мальчишек.
— Добрый вечер, ребятишки, — радушно сказала вдова. — Явились за хлебом и сыром?
Смущенные присутствием незнакомых людей дети потупились.
— Эти деревенские дети, господин Шантеклер, по очереди стерегут наш скот по ночам, — обратилась вдова к Ранульфу. — Наше стадо пасется в нескольких милях отсюда, в долине, там, где хорошее пастбище, а пастух любит ночевать в собственном доме.
— И эти маленькие мальчики проведут снаружи всю ночь? — с невольным трепетом в голосе спросил Ранульф.
— Именно так! Их ждет веселое время. Они сооружают себе шалаши из ветвей и зажигают костры. О, им очень весело!
Дети расплылись в улыбке; и когда Хейзл выдала каждому хлеба и сыра, заспешили в сгущающиеся сумерки.
— Мне бы тоже хотелось как-нибудь пойти с ними, — проговорил Ранульф.
Вдова начала было возражать против самой идеи о том, что молодой господин может провести ночь под открытым небом вместе с коровами и деревенскими мальчишками, однако Эндимион Лер решительным тоном произнес:
— Чепуха! Я не хочу, чтобы с моим пациентом нянчились, как с младенцем. Да, Ранульф? Ты вполне можешь переночевать под открытым небом, если захочешь. Только придется подождать, пока ночи станут еще более теплыми. — Помедлив секунду, он добавил: — Скажем, до Иванова дня.
Они поговорили еще немного, то и дело зевая, и вдова предложила всем отправляться в постель, дав каждому сальную свечу, и только Ранульф, в виду его высокого положения, получил восковую, доставленную из Луда.
Эндимион Лер зажег свечу, поставил на вытянутую руку и принялся задумчиво рассматривать пламя, склонив голову набок.
— Трижды благословенное растеньице! — начал он таинственным тоном. — Цветок, выращенный из жира, с восковым стеблем и пламенными лепестками! Ты сильнее защищаешь от наговоров, ужасов и незримых угроз, чем фенхель, ясенец или рута. Приветствую тебя! Противоядие против смертоносных ночных теней! Процветая во тьме, добродетелью своей ты облегчаешь сердца и даруешь спокойный сон. Больные благословляют тебя, и женщины на сносях, и люди, смущенные умом, и все дети.
— Не корчи из себя шута, Лер! — грубо одернула его вдова совсем другим тоном, чем тот, деланно любезный, которым она вела с ним разговор.
Внимательный наблюдатель сразу понял бы, что на самом деле они знакомы куда более тесно, только скрывают это.
Впервые в жизни Люк Хэмпен не мог уснуть.
Всю прошлую неделю бабушка вколачивала в его голову, грозя дряхлым кулаком, следующую мысль: если с господином Ранульфом что-либо произойдет, вина падет на него, Люка; еще до отъезда из Луда этот честный парень, но отнюдь не герой, запаниковал, и все мелкие и весьма странные подробности прошедшего вечера не вселяли в него бодрость духа.
Наконец он почувствовал, что более не может терпеть. Встав, он зажег свечу, и осторожно пробрался по лестнице вниз, а потом в комнату Ранульфа.
Тот тоже не спал. Так и не погасив свечу, Ранульф, лежа на спине, изучал фантастический потолок.
— Что тебе нужно, Люк? — воскликнул он со злостью. — Почему никто и никогда не может оставить меня в одиночестве?
— Я просто хотел убедиться в том, что с тобой все в порядке, сэр, — стал оправдываться Люк.
— Конечно, в порядке. С какой стати может быть иначе? — Ранульф поглубже зарылся в постель.
— Я должен был знать это наверняка. — Люк помедлил, а потом умоляющим голосом попросил: — Прошу тебя, господин Ранульф, будь хорошим мальчиком и расскажи мне, что это произошло с тобой за ужином, когда в кухне появился этот выживший из ума старый ткач. Твой крик так перепугал меня.
— Ага, Люк! Знаю, но не скажу! — принялся дразнить его Ранульф.
Однако, в конце концов, он признался, что совсем еще маленьким часто видел Портунуса в своих снах.
— Причем сны были страшные, — сказал Ранульф.
И Люк с великим облегчением принял это объяснение. Сам-то он не видел снов и не придавал им особого значения. Мало ли что кому снится.
Заметив удовлетворение на его лице, Ранульф, состроив гримасу, сказал:
— Дело было не только в этом, Люк. Понимаешь, старый Портунус на самом деле мертв.
На сей раз Люк встревожился по-настоящему. Что, если его подопечный сходит с ума?
— Чего только ты не придумаешь, господин Ранульф! — воскликнул он по возможности шутливым тоном.
— Ничего, Люк, можешь не верить мне, если не хочешь, — сказал Ранульф. — А сейчас спокойной ночи, я хочу спать.
Задув свечу, он повернулся спиной к Люку. Тому ничего не оставалось, как вернуться в свою постель, и вскоре он уснул крепким сном.
Глава VI Ветер треплет Цветочки Кисл
Неделю спустя мистрис Хэмпен получила от Люка следующее письмо:
Дорогая тетя, надеюсь, что письмо это найдет тебя так же легко, как и оставило меня. Я помню, что ты мне говорила, и пытаюсь приглядеть за маленьким господином, однако место здесь странное, безо всяких сомнений, и я уже мечтаю, чтобы мы оба благополучно вернулись в Луд. Не то чтобы у меня были какие-нибудь жалобы относительно харчей и крова, и скажу тебе точно, что господина Ранульфа обихаживают здесь, как короля — тут у него есть и восковые свечи, и льняные простыни, и все остальное, как дома. Должен сказать, что давно уже не видел его таким довольным и счастливым. Однако вдовица эта употребляет ром, я в этом не ошибся, и для женщины слишком любит рыбачить. Они с доктором иногда на всю ночь отправляются на рыбалку, однако потом на столе не оказывается ни одной форели. Иногда она так странно смотрит на господина Ранульфа, что у меня от этого взгляда буквально мурашки бегут по коже. Еще она без всякой любви относится к своей внучке, но не родной, скажу я, а внучатой падчерице, которую зовут мисс Хейзл, говорят, что по завещанию старого фермера ферма принадлежит ей, а не вдове. Она настоящая молодая мисс, гордая, которая держится так, как ей положено. Но я рад, что она здесь живет, потому что на ферме все ее любят, и готов поклясться, пусть она и гордая, но прямая. А еще здесь есть сумасшедший старик, которого зовут Портунусом. С ним в доме все равно как при ручной сороке: вразумительно он не говорит, слышны лишь какие-то отрывки стишат, да сплошь проказы. Он здешний ткач и при этом свихнулся, как мамаша Тиббс, хотя и превосходно играет на скрипке. И кажется мне, что вдова до смерти боится этой самой старой птицы, хотя почему, ей-богу, сказать не могу. Старикашка на взгляд совсем безвредный, хотя временами и злится. Служанок он щиплет так, что руки их переливаются радугой, как спинка макрели. А с мисс Хейзл любезничает, хотя она терпеть его не может, и когда я спрашиваю ее о нем, она сердится и велит мне интересоваться собственными делами. Еще я боюсь, что здешний люд и меня считает за гордеца, потому что я помню твои слова и ни с кем тут не вожусь. Но кажется мне, что будь я поприветливей с самого начала (как велит мне собственная природа), то сумел бы кое-что здесь разнюхать. А этого свихнувшегося ткача не оторвать от старой каменной фигуры, которая стоит в саду. Он всегда скачет перед ней и строит рожи, как клоун на ярмарке. Но вдова-то боится его, это так же верно, как то, что меня зовут Люк Хэмпен. Еще господин Ранульф рассказывает о нем странные вещи, которые я не позволю себе упоминать в письме к старой леди. И я буду очень рад, тетечка, если ты попросишь его честь вызвать нас обратно, потому что мне не нравится это место, не нравится, что здесь над дверью не найдешь и веточки фенхеля.
Сим остаюсь Ваш преданный внучатый племянник, Люк Хэмпен.Хемпи прочла это послание, хмурясь, качая головой, а порой и пренебрежительно фыркая; как, например, в том месте, где Люк написал, что постельное белье у вдовы не хуже, чем у Шантеклеров.
Потом она на несколько минут погрузилась в глубокие раздумья.
— Нет и нет, — сказала она себе в итоге, — мой мальчик счастлив, рад и доволен, и ему там много лучше, чем было в Луде последние несколько месяцев. Пусть будет, что будет, и нет нужды беспокоить господина Ната.
И она так и не показала господину Натаниэлю письмо Люка Хэмпена.
Что касается Натаниэля, он был очарован приходившими от Эндимиона Лера сообщениями об улучшении здоровья Ранульфа, а также его умственного состояния. Сам Ранульф тоже присылал весточки, писал, как ему хорошо, и что он хочет остаться на ферме. Все это делало очевидным, что мальчик, пользуясь словами Эндимиона Лера, учится жить под другую мелодию.
А потом Эндимион Лер вернулся в Луд собственной персоной и подтвердил все, что сообщал в письмах о том, как хорошо и весело Ранульфу жить на ферме.
Летом все жило своим чередом, как и обычно в эту пору года. Жены сенаторов и бюргеров делили свое время между кладовыми и кухнями, делая настойки и варенья; по вечерам на улицах звучали оживленные голоса и раздавалась музыка, подмастерья плясали с дочерьми своих мастеров на городской площади и возле таверен до самой ночи. Сенаторы, зевая, выслушивали чужие речи, старались по возможности укоротить свои собственные, чтобы успеть половить в Пестрой форелей или поиграть в шары посреди превосходного бархатного сада, располагавшегося возле Ратуши. А когда какой-нибудь из их кораблей доставлял особенно изысканные вина или экзотические сладости, они приглашали к себе друзей и приправляли эти деликатесы добрыми старинными шутками.
Немченс ходил угрюмый и иногда пугал жену мрачными предсказаниями; и, наконец, понял, что бессмысленно пытаться пробудить от сна мэра и Сенат.
Господину Натаниэлю очень не хватало Ранульфа; но поскольку он по-прежнему получал хорошие новости о состоянии сына, забрать ребенка с фермы было бы эгоистично с его стороны — во всяком случае, до конца лета.
После долгого молчания деревья вновь заговорили желтыми и красными красками. Дни становились короче буквально на глазах. Плетеная аллея в саду господина Натаниэля становилась все желтее и желтее, и, когда густой белый туман клубами наползал от Пестрой, оставалась единственным ярким пятном, напоминая огромные золоченые компасы под стать тем, с помощью которых Демиург находит себе путь в хаосе.
Тогда-то и начались эти события — причем в самом неподходящем месте во всем Луде — в Академии для благородных девиц мисс Примулы Кисл. Мисс Примула Кисл двадцать лет «доводила до совершенства» дочерей видных горожан; учила их петь, танцевать, играть на спинете[2] и арфе, варить и засахаривать фрукты, стирать тонкие ткани и кружева, не разрезая спинки извлекать кости из куриных тушек, делать натюрморты из всякого способного изменять форму материала, съедобного и несъедобного — воска, масла, сахара, — а также вышивать по меньшей мере сотней различных стежков, в общем, готовила их ко всему, что необходимо девушке, когда она выходит замуж и становится хозяйкой в доме.
Когда будущая дама Календула Шантеклер и ее ровесницы поступали в Академию, мисс Примула была там всего лишь юной помощницей гувернантки, весьма сентиментальной и буквально напичканной всякими дурацкими идеями. Однако дурацкие идеи нередко сочетаются с великими практическими дарованиями, а сентиментальность относится к числу тех качеств, которые редко хоть сколько-нибудь влияют на поступки.
Как бы то ни было, забавная и кипящая энергией помощница гувернантки умудрилась шаг за шагом прибрать все заведение к рукам, а леди, которой прежде принадлежала школа, полностью ей подчинилась, и после ее смерти все перешло к мисс Примуле.
Здание школы, старый кирпичный особняк, располагался посреди просторного сада, чуть в стороне от столбовой дороги, примерно в полумиле от западных ворот Луда.
Дамы Луда сохранили приятные воспоминания об Академии. Шутки, над которыми смеялись в ее стенах, и секреты, которыми обменивались, гуляя по аллеям, были гораздо интереснее и ярче всего, что происходило с ними впоследствии.
Только не подумайте, что они испытывали какие-нибудь сантименты на этот счет. Леди города Луда были чужды сентиментальности. Свои школьные дни они запоминали как старинную смешную песенку. Однако старинные и смешные песенки мы всегда вспоминаем не без грусти. Так, примерно, леди Луда туманного воспринимали поэзию прошлого. И когда Календула Шантеклер и Валериана Вигилия и прочие бывшие ученицы Академии собирались за взбитыми сливками и марципаном, чтобы обменяться новыми стежками, они непременно заводили речь о веселых прежних днях и забавных деяниях мисс Примулы Кисл.
— Ох, а вы помните, — восклицала Календула, — как она намеревалась учредить так называемый День матери, когда все мы должны были одеться в белое и зеленое и изображать лилии, выросшие на могилах наших матерей?
— О, да! — восторженно произносила Валериана. — Моя мать так разгневалась, когда узнала об этом. «Да как это омерзительное создание смеет заживо хоронить меня?» — возмущалась она.
Эти воспоминания заставляли их хохотать до слез.
Каждое поколение имело собственные шутки и особые тайны, однако все они были устроены на один лад — как фарфоровые чашки с одинаковыми узорами из плюща и пролески.
Пролеска и плющ украшали собой всю Академию, они были вышиты на занавесках в каждой спальне и на всех подушках и ширмах, нарисованы на фризе, окружавшем стены гостиной, их даже выдавливали штемпелем на кусках масла. Дело в том, что одним из чудачеств мисс Примулы Кисл была романтическая влюбленность в герцога Обри, похожая на то почитание, которым принадлежащие к Высокой церкви[3] старые девы окружали в прошлом поколении память Карла I[4]. Над ее постелью висела небольшая акварельная копия находившегося в Ратуше портрета герцога, а в день годовщины его падения, считавшийся в Доримаре праздником, она всегда надевала траур.
Она прекрасно знала, что является предметом насмешек своих учениц и их матерей. Однако это не мешало ей развивать бурную деятельность в их присутствии, поскольку мисс Кисл была слишком практична, чтобы проявлять эмоции, когда речь шла о хлебе с маслом.
В тех случаях, когда задетая гордость брала верх над благоразумием, она не стеснялась продемонстрировать собственное презрение к их родословной, высмеивая девиц, дочерей выскочек и купчих, видимо, забыв, что является дочерью местного бакалейщика, и временами воображая, будто Кислы принадлежали к исчезнувшей аристократии.
Внешность ее была не менее гротескной, чем характер, — на круглом, как луна, лице располагались крохотные глазки и огромный рот, обычно растянутый в заискивающей улыбке. Она носила зеленый тюрбан и платье, сшитое по моде времен герцога Обри. Сидя в своем саду среди хорошеньких учениц, она напоминала ярко раскрашенную ярмарочную фигуру, носящую имя Салли, которую чудаковатый садовник поместил между деревьев, чтобы отпугивать птиц от своих вишен и слив.
Ее ученицы больше напоминали не плоды, а цветы, в первую очередь — сладкий горошек, душистый, веселый и скромный, когда в муслиновых платьицах, скроенных по одному образцу, но из разного материала, и маленьких капотах с белыми оборками, они парами прогуливались по улицам Луда туманного.
Во всяком случае, вид их всегда намекал на нечто сладкое и свежее, и в городе девочек из Академии называли Цветочками Кисл.
В последнее время Цветочки пребывали в состоянии полного блаженства. У них были основания предполагать, что у мисс Примулы завелся ухажер, причем не кто иной, как Эндимион Лер.
В качестве школьного врача он был знаком здесь всем. Однако до недавних пор мисс Примула часто становилась жертвой его безжалостного языка, и маленьким пациенткам нередко приходилось тихо хрюкать в простынку, чтобы не рассмеяться вслух, — настолько колкими и смешными были шпильки, которые он подпускал несчастной школьной мадам.
Однако тем летом его трость и шляпа цвета бутылочного стекла каждый вечер появлялись в холле Академии. Причины его визитов, как узнавали от слуг Цветочки, не были профессиональными, если только в обязанности доктора не входит вечерний визит к пациентам, чтобы сыграть с ними в картишки, отведать пирожков и вина из первоцвета.
Более того, мисс Примула постоянно меняла платья.
— Должно быть, собирает приданое! — съехидничала Прунелла Шантеклер и Цветочки так и покатились со смеху.
— Неужели вы и в самом деле думаете, что он на ней женится? — сказала Пенстемона Брехунд. — На этой уродине, старой гусыне? Он, говорят, очень умен.
— Вот и будут жить гусыня с мудрецом! — рассмеялась Прунелла.
— По-моему, он позарился на ее сбережения, — сказала Фиолетта Вигилия.
— А может, хочет добавить старушку к своей коллекции древностей, — хихикнула Амброзина Мукомолл.
— Или же водрузить вместо вывески над своей аптекой! — предположила Прунелла Шантеклер.
— Но каково будет герцогу Обри, — рассмеялась Луноцвета Джимолост, — уступить такую даму гадкому, старому докторишке.
— Да, — согласилась Фиолетта Вигилия. — Мой папа говорит, что уж лучше бы она снимала комнаты поближе к статуе герцога Обри, чтобы не отвлекаться на других мужчин.
Фиолетта хихикнула и чуть покраснела:
— Он говорит, что иначе ей не удастся пристроиться поближе к своему кавалеру.
Однако последний выпад не был встречен восторженным смехом, так как Цветочки Кисл нашли его слишком смелым.
В начале осени мисс Примула вдруг отослала служанок домой в далекие деревни, и, к общему негодованию ее Цветочков, их место заняли (временно, как уверяла мисс Примула) сумасшедшая прачка мамаша Тиббс и некая глухонемая красотка, крашеная и черноглазая. Мамаша Тиббс относилась к своей работе без особого рвения и большую часть времени попросту торчала у ворот, провожая прохожих взмахами платка. Ну, а если во время работы ей случалось услышать звуки флейты или скрипки, доносившиеся издалека, она немедленно бросала свое занятие и пускалась в пляс, порывисто размахивая метлой, сковородкой — любым обиходным предметом, который в это время дергала в руках.
Что касается глухонемой, то кухаркой она, может, была и хорошей, но не для заведения благородных девиц, поскольку в городе ее звали Распутная Бесс.
Однажды утром мисс Примула объявила девочкам, что отыскала для них нового учителя танцев (прежнего она вдруг уволила, причем неизвестно по какой причине) и что, завершив работы над шитьем, они должны собраться на чердаке, где будет урок.
Они поднялись на прохладный и темный чердак, там пахло яблоками, а к балкам были подвешены гроздья сгнившего винограда. Некогда здание Академии было фермой, и дубовые панели стен украшали переплетенные инициалы многих сельских влюбленных, скончавшихся века назад. К этим вензелям Прунелла Шантеклер и Луноцвета Джимолост недавно добавили и монограмму, запечатлевшую их собственную дружбу, — П. Ш. и Л. Д.
Новый танцмейстер оказался высок, рыжеволос и молод, на белом, заостренном книзу лице горели яркие глаза. Мисс Примула, всегда старавшаяся подчеркнуть, что преподаватели дают девочкам уроки, преследуя лишь филантропические цели, представила его как профессора Клока, любезно согласившегося обучать их танцу. Молодой человек отвесил ученицам глубокий поклон и, повернувшись к мисс Примуле, проговорил:
— Я прихватил с собой скрипача, мэм. Изумительного скрипача! Его привело сюда ваше шитье. Сам он по профессии ткач и страстно любит вышитые на шелке картинки. Он может предоставить вам несколько весьма симпатичных образцов, не правда ли, Портунус? — и учитель дважды хлопнул в ладоши.
После чего непостижимым образом — словно летучая мышь из-под стропила, как, ежась, шепнула Прунелла Луноцвете, — откуда-то из тени появился странный морщинистый старикашка, с такими же яркими, как и у профессора Клока, глазами, со смычком и скрипкой под мышкой, который дергался во все стороны.
— Юные леди! — торжественным тоном провозгласил профессор Клок. — Перед вами господин Портунус, скрипач его величества императора луны, старший среди шутов властелина призраков и теней… хотя шутки его обычно бессловесны. Ради вас, юные леди, он проделал долгий путь, посему настройте свои ножки на танец. Хо, хо, хо!
Тут легкий, как перышко, профессор подпрыгнул никак не меньше чем на три фута и приземлился на самые кончики пальцев, а господин Портунус тем временем оставался на месте, потирая ладони и по-стариковски хихикая.
— Какой вульгарный молодой человек! Просто дешевый ярмарочный шут, — шепнула Фиолетта Вигилия Прунелле Шантеклер.
Прунелла, внимательно разглядывавшая молодого профессора, тоже шепотом ответила:
— По-моему, когда-то он был у нас конюхом. Я видела его только однажды, но уверена, что не ошиблась. Почему Примула считает возможным приглашать в преподаватели столь ничтожных людей?
Прунелле, конечно же, никаких подробностей о болезни Ранульфа не сообщали.
Примула между тем встревожилась. Она не нашлась что сказать и только шевелила губами. Наконец она повернулась к старику и доверительно сообщила ему, что рада знакомству с еще одним мастером иглы; после чего обратилась к профессору Клоку и проворковала:
— Я просто обязана вышить пару шлепанцев в подарок на день рождения любезному доктору и хочу, чтобы рисунок был самым оригинальным, так что, может быть, этот джентльмен подаст мне какую-нибудь идею.
Тут профессор совершил еще один безумный пируэт и, от радости захлопав в ладоши, воскликнул:
— Да-да, именно Портунус и нужен вам. Портунус научит ваши стежки танцевать под его мелодию, хо-хо-хо!
И, тыча друг друга в ребра, они с Портунусом разразились хохотом.
Наконец, заставив себя успокоиться, профессор предложил Портунусу настроить скрипку и потребовал, чтобы юные леди построились в два ряда для первого танца.
— Начнем с Голубики, — проговорил он.
— Но ведь это всего только простой сельский танец, который любят батрачки, — недовольно оттопырила губку Луноцвета Джимолост.
Прунелла Шантеклер отважно подошла к мисс Примуле и сказала:
— Простите, пожалуйста, но разве мы не можем заниматься уже разученными нами жигами и кадрилями? Моей маме, наверное, не понравится, если мы начнем разучивать что-нибудь новое. Тем более такой вульгарный танец, как Голубику.
— Вульгарный! Вот это новость! — пронзительным голосом вскричал профессор Клок. — Вот что, моя хорошенькая мисс, Голубику танцевали при лунном свете еще в ту пору, когда на месте Луда была только буковая роща между двумя реками. Этот танец Молчаливый народ танцует вдоль всего Млечного Пути. Этот танец соткан из смеха и слез.
— Профессор Клок намеревается учить вас только самым старинным и аристократическим танцам, моя дорогая, — укоризненно проговорила мисс Примула. — Тем, которые принято было танцевать при дворе герцога Обри… Так ведь, профессор?
Старик скрипач уже настраивал свой инструмент, и профессор Клок, явно полагавший, что они и так потратили слишком много времени на разговоры, велел своим ученицам строиться и приготовиться к танцу.
Цветочки Кисл повиновались с большой неохотой, никто из них не считал этого балаганного шута преподавателем, а выученная старомодная пляска им никогда не пригодится.
Однако смычок старого скрипача явно оказался волшебным! В мире, конечно, не нашлось бы другой мелодии, столь же одинокой, зовущей в пляс и манящей! Противиться ей просто не было никакой возможности.
Не понимая, как именно все это произошло, скоро все они шагали, притоптывали, скользили и поворачивались, невзирая на снедавший душу огонь, в то время как мисс Примула в такт качала головой, а профессор Клок, выкрикивая наставления, сновал между танцующими так, что могло показаться, будто они — бусины, а он — нитка, на которую они нанизаны.
Вдруг музыка смолкла, и раскрасневшиеся, смеющиеся, обмахивающиеся платочками Цветочки Кисл попадали на пол возле груды полных мешков в углу, пожалуй, впервые в жизни не думая о том ущербе, который тем самым нанесли собственным юбкам.
Тут мисс Примула крикнула:
— Только не здесь, мои милочки! Только не здесь!
Ощущая легкое удивление, они уже было собрались встать, когда профессор Клок что-то шепнул на ухо наставнице, и, с пониманием кивнув ему, она сказала:
— Очень хорошо, дорогуши, оставайтесь там. Я просто подумала, что пол слишком грязен для вас.
— А что, вообще-то было даже очень забавно, — проговорила Луноцвета Джимолост.
— Да, — согласилась с ней Прунелла Шантеклер. — Этот старик действительно умеет играть!
— Хотелось бы знать, что находится в этих мешках? Яблоки были бы тверже, — сказала Амброзина Мукомолл, с праздным любопытством тыкая в тот, возле которого она сидела.
— И пахнет от них как-то странно, — заметила Луноцвета.
— Жуть! — молвила Прунелла, морща носик. А потом, хихикая, прошептала: — Что, если нашей гусыне уже приготовили и лучок!
Но в этот миг Портунус вновь начал настраивать свою скрипку, и профессор Клок предложил им снова построиться в два ряда.
— На сей раз, мои маленькие мисси, — проговорил он, — мы будем танцевать скорбный и торжественный танец, в котором должна принять участие и мисс Примула. Это очень аристократический танец, его танцевали при дворе герцога Обри! — Последние слова профессор произнес, подражая интонации мисс Примулы, и лукаво подмигнул девочкам, чем очень их насмешил, как и положено шуту.
— Но, прежде чем начать танец, прошу вас выслушать мелодию, — продолжил он. — Итак, Портунус!
— Ну вот! Опять эта Голубика… — презрительно промолвила Прунелла.
Однако слова буквально примерзли к ее губам, и она застыла на месте, околдованная и испуганная.
Это действительно была Голубика, но уже совершенно другая. Ибо с тех пор как они в последний раз слышали этот мотив, он, должно быть, скончался и перенесся в неведомые края, чтобы вернуться на землю гневным духом.
— А теперь все танцуем! — выкрикнул профессор Клок не терпящим возражений тоном.
Повиновались ему лишь из чувства самосохранения, словно движение могло спасти их от этой мелодии, казалось, исходившей из них самих.
Шаг вперед, два шага назад, Еще шажок и кругом, Туда и сюда, сюда и туда, Еще три шага бегом. С лилией на окне, с соком травы в вине. С зеленью многоликой, С ветвью хлесткой и дикой, С клубникой и голубикой, —пел профессор Клок, в такт мелодии сновали по лабиринту видений Цветочки Кисл.
Но вдруг мелодия изменилась. Стала веселой, и в то же время странной, какой-то зловещей.
Ищет девчонка герцога, На нем зеленый кафтан, В землях, где нету солнца, А есть лишь мрак и туман. С лилией на окне, с соком травы в вине. С зеленью многоликой, С ветвью хлесткой и дикой, С клубникой и голубикой, —пел профессор Клок, сновал между ученицами, впрочем, нет, не сновал, а метался, и с каждым мгновением его песня становилась все пронзительнее, а смех — более диким.
И тут — как и когда, сказать они не могли — к танцу присоединился новый участник.
Он был весь в зеленом, лицо прикрывала черная маска. Он тоже метался по залу, но ни разу никого не коснулся. Никто не мог его разглядеть.
Только Луноцвете Джимолост удалось заметить у него горб на спине.
Глава VII Амброзий Джимолост ловит ворон, и ему является видение
Господин Амброзий Джимолост, завершив полуденную трапезу, раскуривал трубку на усыпанной маргаритками лужайке в прохладной тени под ветвями огромной, раскидистой и уже желтеющей липы в обществе своей упитанной и уютной половины, дамы Жасмины, дремавшей в соседнем кресле с веером в руке и мопсом на коленях, который, высунув розовый язычок, мирно посапывал.
Господин Амброзий размышлял о скором прибытии янтарного цветка — золотистого восточного вина, его торговый дом владел монополией на его ввоз в Доримар.
Столь приятные размышления были прерваны громкими голосами, доносившимися от дома, повернувшись в кресле, он увидел собственную дочь Луноцвету, озиравшуюся по сторонам и растрепанную, сломя голову она мчалась к нему по лужайке; за ней неслась толпа слуг — трещавших без умолку.
— Мое дорогое дитя, что случилось? — воскликнул он с досадой.
— Кошмар среди бела дня! — простонала она с ужасом во взгляде.
Жасмина вздрогнула и, протирая глаза, воскликнула:
— Боже мой, кажется, я задремала! Но откуда здесь взялась Луноцвета! Амброзий! Что происходит?
Не успел Амброзий ответить, как Луноцвета издала три леденящих кровь вопля и затараторила:
— Ужас! Ужас! Эта мелодия все не умолкает! Сломайте скрипку! Сломайте скрипку! Ах, папа, надо подкрасться к нему сзади и перерезать струны. Перережь струны и выпусти меня, я хочу в темноту.
На мгновение она застыла, испуганно глядя, как затравленный зверь. Вдруг она с быстротой зайца пересекла лужайку, то и дело оглядываясь, будто кто-нибудь за ней гнался, и, выскочив за садовую калитку, исчезла прямо на глазах у потрясенных родителей.
Слуги, до тех пор державшиеся на почтительном расстоянии, теперь приблизились, ограничиваясь восклицаниями и утверждениями, такими, например, как «Бедная юная леди!», «У нее солнечный удар, это так же верно, как то, что меня прозывают Рыбьим хребтом!», «О, Боже! У меня аж сердце зашлось, когда она закричала!».
Тут мопс зевнул, надувшись при этом так, что едва не лопнул, а у дамы Жасмины появились первые признаки истерики.
Несколько секунд Амброзий стоял, возбужденно озираясь, а потом, выпятив подбородок, затопал через лужайку с такой скоростью, которую позволяли ему почти пятьдесят лет весьма сытой жизни, сперва к садовой калитке, потом по переулку и наконец по Высокой улице.
Здесь он влился в хвост бегущей толпы, которая, повинуясь закону, заставляющему человека преследовать беглеца, изо всех сил пыталась догнать Луноцвету.
Кровь отчаянно стучала в висках Амброзия, затопляя мозги. Единственное, что он ощущал, это огромное раздражение, направленное на Натаниэля Шантеклера, который все медлил с перекладкой брусчатки на Высокой улице, — камни стали необычайно скользкими. Однако тревога взяла верх над раздражением.
Так он следовал в самом конце погони, сопя, пыхтя, задыхаясь, скользя на мостовой, спотыкаясь, через старый мост, перекинутый через Пестрянку. Смутно, словно в бреду, отмечал он, что окна вокруг распахнуты, что из них торчат головы, доносятся пронзительные голоса, интересующиеся, в чем дело, и что из уст в уста через весь город передаются слова:
— Это маленькая мисс Джимолост дует от своего папочки.
Но когда они добрались до городских стен и западных ворот, погоне пришлось остановиться, ибо к городу приближалась направлявшаяся на Грамматические поля похоронная процессия. Хоронили — если судить по внешнему виду плакальщиков — кого-то из соседних фермеров. Словом, преследователям пришлось остановиться и встретить провожавших почтительным молчанием. Тем временем объект погони благополучно скрылся за поворотом столбовой дороги.
Амброзий от волнения не замечал, что происходит вокруг. Однако не мог не увидеть сквозь окна катафалка, что из гроба вытекает красная жидкость.
Вынужденная задержка разрушила стремление к общей цели, поначалу объединявшей преследователей. Теперь каждый вспомнил, что у него есть собственные дела.
— За вашей девчушкой не угонишься, — говорили они, с сожалением ухмыляясь.
— Да, она совсем потеряла голову и, боюсь, завела нас не туда, куда надо, — ответил господин Амброзий.
Только сейчас он осознал всю меру непристойности создавшейся ситуации — он, бывший мэр, сенатор и судья, более того, глава почтенного и древнего рода Джимолостов, топает по улицам Луда в одной толпе с ремесленниками и подмастерьями, преследуя свою непослушную, свихнувшуюся маленькую дочь!
«Жаль, что это случилось со мной, а не с Натом! — подумал он. — Его бы такая ситуация, пожалуй, развлекла бы».
Тут на дороге появился фермер в тележке и, увидев разгоряченных, запыхавшихся и вытиравших лбы людей, спросил, не девочку ли они ищут, поскольку он разминулся с ней четверть часа назад за заставой. Она скакала, как заяц, он хотел ее остановить, но она не обратила на него никакого внимания.
К этому времени господин Амброзий успел прийти в себя.
В хвосте погони он заметил одного из своих собственных клерков, велел ему мчаться к конюшне и без промедления послать троих конюхов в погоню за девочкой. А сам направился в Академию.
Хорошо, что он не слышал комментариев своих спутников по погоне на обратном пути в город, ибо не нашел бы в них ни приязни, ни уважения. Простые горожане не любили сенаторов. И, не слышав отчаянных воплей Луноцветы и ее диких речей, предположили, что отец хотел наказать Дочку за какую-нибудь мелкую провинность, после чего девочка и убежала.
— Но какой замечательный бекон получился бы, — мечтательно говорили они, — если бы эти жирные свиньи-сенаторы бегали по улицам так, как эта малышка!
Господину Амброзию пришлось долго и громко стучать в дверь Академии, прежде чем ее отворила сама мисс Примула.
Она была взволнованна и рассеянна, лицо опухло, веки покраснели.
— Ну, мисс Кисл! — прогремел он. — Что, скажите мне ради Жатвы душ, вы сделали с моей дочерью Луноцветой? Может быть, она заболела, но почему в таком случае нас не известили об этом? Я явился за объяснениями, и вы дадите их мне.
Мисс Примула, бормоча что-то невнятное, проводила разгневанного джентльмена в гостиную. Однако он так и не сумел выпытать у нее ничего вразумительного. Было ясно, что мисс Примула насмерть перепугана, но при этом пытается что-то скрыть.
Господин Амброзий, имевший судебный опыт, вскоре понял, что от Примулы толку не добьешься и нет смысла тратить на нее время, поэтому суровым тоном сказал:
— Вы явно не способны сейчас говорить здраво, но, может быть, кто-нибудь из ваших учениц еще не утратил этот бесценный дар? Предупреждаю, если с моей дочерью что-то случится, ответственность за это будет возложена на вас. А теперь пришлите ко мне Прунеллу Шантеклер, она девочка разумная и никогда не теряет головы. Она мне расскажет, что произошло с Луноцветой, чего вы, очевидно, сделать не в состоянии.
Мисс Примула принялась что-то бормотать относительно того, что сейчас занятия и их пропускать нельзя и что дорогая Прунелла сегодня не в себе.
Однако господин Амброзий повторил громовым голосом:
— Пришлите ко мне Прунеллу Шантеклер, немедленно!
Его суровый вид и массивная фигура производили весьма внушительное впечатление.
Поэтому мисс Примуле пришлось пообещать, что «дорогая Прунелла» немедленно предстанет перед ним.
Как только она вышла, Амброзий принялся в нетерпении расхаживать по комнате, хмурясь и то и дело качая головой.
Наконец он замер, погрузившись в глубокие раздумья, и рассеянно взял со стола туфлю из холстины, которую вышивали разноцветной яркой шерстью. Сперва он даже не смотрел на нее, а потом стал приглядываться! Наполовину законченный узор представлял собой стебли лесной земляники, только ягоды почему-то были фиолетовыми, а не красными.
Работа оказалась великолепной. Мисс Примула была весьма умелой мастерицей.
— Однако, что толку в этом шитье? Оно не способно научить человека здравому смыслу, — пробормотал он в негодовании. — И как это по-женски! — добавил он, пренебрежительно фыркнув. — Чем плоха красная земляника? Но мисс Примула пытается усовершенствовать природу своими глупыми фантазиями и фиолетовыми ягодами!
Он не имел ни малейшего желания попусту тратить время, рассматривая эту незаконченную вышивку, и отбросил туфель в сторону. Амброзий уже хотел выскочить из комнаты и позвать Прунеллу Шантеклер, когда дверь открылась и она появилась собственной персоной.
Если бы какой-либо чужак пожелал познакомиться с девицей из высшего общества Луда, он не нашел бы никого лучше Прунеллы Шантеклер.
Светловолосая, белокожая, пухлая и веснушчатая, как и ее мать, она обладала удивительным чувством юмора и здравым смыслом ее революционных предков. Однако, увидев ее сейчас, господин Амброзий был ошеломлен: «Какой простушкой стала девчонка!»
Разумеется, о вкусах не спорят. Некоторые сочли бы, что девочка стала куда красивее, чем прежде. Но Амброзию она показалась уже не такой пухлой и более бледной. Но главное, у нее изменилось выражение глаз. В них не было прежнего огня и задора. Девушка о чем-то сосредоточенно думала.
Невзирая на собственное достоинство, Амброзий почувствовал некоторое смущение, однако приветствовал ее тем покровительственным тоном, каким обычно обращался к дочери или ее подругам:
— Скажи, Прунелла, что вы сделали с моей Луноцветой? Когда она прибежала домой, я подумал, что это призрак. Она тут же умчалась и никто не мог ее догнать.
— Не думаю, чтобы мы что-нибудь с ней делали, кузен Амброзий, — ответила Прунелла негромко, без всяких эмоций в голосе.
После неожиданной встречи с Луноцветой Амброзия никак не покидало чувство, что факты начинают терять свою надежность; ведь он явился в этот дом с твердым намерением запугать окружающих, дабы вернуть фактам их прочную основу. Но факты разваливались прямо на глазах.
Однако у Амброзия нервы были крепче, чем у Натаниэля, да и решительности побольше. И потому два факта все-таки не потеряли для него своей основы. Факт бегства его дочери и то, что ответственность за это лежит на заведении мисс Кисл.
— Вот что, Прунелла, — сказал он строгим тоном, — здесь творится нечто весьма странное, и я надеюсь, что ты мне кое-что объяснишь. Ну? Я жду.
На лице Прунеллы появилась загадочная полуулыбка.
— А что вам сказала Луноцвета?
— Она была насмерть испугана и не осознавала, что говорит. Жаловалась, что солнце нещадно палит, хотя погода осенняя. Потом заявила, что нужно перерезать струны какой-то скрипки… не знаю, зачем это ей понадобилось!
Прунелла в ужасе вскрикнула:
— Перерезать струны скрипки! — и с усмешкой добавила: — Но она не сможет этого сделать!
— Вот что, юная леди, — жестким тоном произнес Амброзий, — я не желаю больше выслушивать эту чушь! Тебе известно, что произошло с Луноцветой, или ты ничего не знаешь?
Секунду-другую Прунелла взирала на него в полном молчании, потом неторопливо проговорила:
— Никто не знает о том, что происходит с другими людьми. Однако можно предположить… можно предположить, что Луноцвета отведала плодов страны Фейри…
Прунелла насмешливо улыбнулась.
Лишившийся дара речи от ужаса господин Амброзий только глядел на нее. И наконец взорвался:
— Ты, любительница крепких выражений! Как смеешь ты обвинять…
Тут глаза Прунеллы обратились к выходившему в сад окну, и господин Амброзий инстинктивно посмотрел в том же направлении.
На секунду ему показалось, что портрет герцога Обри, висевший в Ратуше, в зале Сената, переместился на стену гостиной мисс Примулы. В переплете окна, как в рамке на фоне листвы, недвижно застыл молодой человек в старинной одежде. Его лицо, темно-рыжие кудри, зеленый кафтан, сельский фон — все до последней детали, до оплетенного цветами охотничьего рога, который он держал в одной руке, и человеческого черепа — в другой, в точности соответствовало изображению на знаменитом портрете.
— Ну, Белые дамы Зеленых Полей! — пробормотал господин Амброзий, протирая глаза.
Когда же он снова посмотрел на окно, фигура исчезла.
На несколько секунд он замер, открыв в изумлении рот, и Прунелла, воспользовавшись моментом, выскользнула из комнаты.
Амброзий пришел в ярость. С ним, Амброзием Джимолостом, сенатором и бывшим мэром, разыгрывают штучки — грязные и вульгарные. А раз так, они заплатят за это, клянусь именем Солнца, Луны и Звезд, еще как заплатят! И он погрозил кулаком стенам, разрисованным плющом и пролеской.
Но пока — пока — платить приходилось ему самому. Его собственному и единственному ребенку было предъявлено ужасное обвинение, и, быть может, обвинение справедливое.
Амброзий успокоился и решил докопаться до истины, и либо избавить свою дочь от грязного обвинения, брошенного Прунеллой Шантеклер, либо — если этот кошмар окажется правдой (внутренний голос ему твердил, что так оно и есть) — ради блага всех горожан отыскать ответственных за случившееся и заслуженно покарать.
Вряд ли во всем Луде нашелся бы еще кто-нибудь, страдающий от подобного скандала в своей семье больше, чем Амброзий Джимолост. Но даже на мгновение сенатор и бывший мэр не допускал возможности замять дело, чтобы защитить тем самым репутацию дочери.
Нет, правосудие должно следовать положенным путем, даже если весь город узнает, что единственная дочь Амброзия Джимолоста — юная девушка, что делало ситуацию еще более трагичной, — вкусила от плода страны Фейри.
Что же касается появления герцога Обри, этот факт Амброзий отбросил, как галлюцинацию.
Прежде чем господин Амброзий покинул гостиную мисс Примулы, взгляд его упал на туфель с незаконченной вышивкой, который он нетерпеливо отбросил, увидев Прунеллу Шантеклер.
Он мрачно улыбнулся: что, если ягоды земляники оказались на канве фиолетовыми, а не красными не по глупой женской фантазии? Возможно, вышивала она, так сказать, с натуры.
Он опустил туфель в карман. Не исключено, что эта вещь пригодится ему в качестве вещественного доказательства в суде.
Однако господин Амброзий ошибался, предполагая, что вышитые на туфельке ягоды были привезены из страны Фейри.
Глава VIII Эндимион Лер кажется испуганным, в старой дружбе возникает брешь
Господин Амброзий нисколько не сомневался в том, что, явившись домой, обнаружит там одного из конюхов, отряженных им за Луноцветой вместе с самой беглянкой.
Однако он глубоко заблуждался. Оказалось, что Луноцвету в последний раз видели бегущей в сторону Запада с такой скоростью, словно в нее вселилась нечистая сила. Что, если она устремилась к Спорным горам? Ведь перевалив за них, она никогда больше не появится в Доримаре.
Надо немедленно отправиться к Немченсу и поднять тревогу. Пусть поисковые отряды обыщут страну из конца в конец.
Однако путь из дома ему преградила Жасмина, находившаяся в том тревожном и плаксивом настроении, которое всегда так раздражало его.
— Где ты был, Амброзий? — воскликнула она. — Сперва Луноцвета начинает кричать как взбесившаяся какаду. А потом убегаешь ты, прямо после обеда, бросив меня в обморочном состоянии. Где тебя носило, Амброзий? Ты должен сходить к мисс Примуле. Пусть запретит Луноцвете вести себя подобным образом. Эта вздорная девчонка так перепугала нас. Я готова отправиться в Академию и задать ей там хорошую трепку.
— Жасмина, прекрати болтать и позволь мне пройти! — вскричал Амброзий. — Луноцветы в Академии нет.
Выходя из комнаты, он не без злорадства бросил через плечо:
— Боюсь, Жасмина, ты никогда больше не увидишь собственную дочь.
Примерно через полчаса он вернулся домой в полном унынии, поскольку узнал от Немченса о том, что случаи употребления плодов фейри в городе становятся все чаще и чаще. В своей гостиной Амброзий обнаружил Эндимиона Лера.
Его вызвали встревоженные слуги, когда у Жасмины началась истерика. Слова мужа о том, что она больше не увидит дочери, сделали свое дело. Однако сейчас Жасмина успокоилась и на лице ее появилась улыбка. Видимо, доктор Лер ей помог.
— Ой, Амброзий! — воскликнула она, увидев мужа. — Мы так мило побеседовали с доктором Лером. Он сказал мне, что девушки ее возраста нередко перевозбуждаются, хотя со мной ничего подобного не бывало, и что ее, конечно же, доставят домой до наступления вечера. Но, я думаю, ее лучше забрать от мисс Примулы. Хватит с нее и того, чему она уже научилась. Лучших фигурок из масла, чем делает она, я просто не видела. Поэтому, на мой взгляд, до начала зимы надо устроить для нее бал, так что простите меня, доктор Лер, мне нужно еще приглядеть за некоторыми делами… — И она отправилась перебирать сундук с приданым Луноцветы, которое — кружева, бархат и парчу, — согласно обычаю матушек доримарских девиц, копила буквально со дня рождения дочери.
Жасмина не случайно считалась самой глупой женщиной в городе. Она не испытывала никаких чувств, пребывая в состоянии эмоционального идиотизма.
Поэтому Амброзий оказался в обществе одного лишь Эндимиона Лера и, хотя недолюбливал его, обрадовался возможности проконсультироваться с ним наедине. Амброзий хорошо знал, что при всех своих недостатках Лер, несомненно, является лучшим врачом в стране и к тому же чрезвычайно умен.
— Лер, — проговорил он торжественным тоном, когда его жена ушла, — в этой Академии творятся странные вещи… очень странные.
— В самом деле? — В голосе доктора звучало неподдельное удивление. — И что же там творится?
Господин Амброзий усмехнулся:
— Об этом не принято говорить вслух. Я человек здравомыслящий, но если бы задержался в заведении мисс Примулы подольше, мог бы лишиться рассудка, такая там обстановка, и даже у меня, Амброзия Джимолоста, там начались весьма забавные галлюцинации.
Слова эти заинтересовали Эндимиона Лера.
— И что же вам привиделось, господин Амброзий? — спросил он.
— О, не стоит об этом говорить, просто я убедился в том, насколько заразительными могут оказаться глупые женские фантазии. Мне привиделся в окне Академии портрет герцога Обри, который висит в Сенате. И раз уж я стал галлюцинировать, значит, в этом доме творится нечто непотребное.
Эндимион Лер взирал на него с невозмутимым видом.
— Оптические иллюзии давно известны науке, господин Амброзий, — промолвил он спокойным тоном. — Собственные глаза способны иногда подвести даже сенатора. Оптические иллюзии, закорючки закона — на них и держится мир.
Амброзий нахмурился. Доктор излагал свои мысли в оскорбительной манере.
Однако сердце его ныло от тревоги, ему было необходимо, чтобы опасения его либо подтвердили, либо отвергли, и он, не обращая внимания на насмешливый тон доктора, проговорил с усталым вздохом:
— Но все это пустяки. У меня есть серьезные основания предполагать, что моя дочь… что моя дочь… ладно, оставим словесные украшения… отведала плодов фейри.
Эндимион Лер в ужасе воздел руки к потолку и недоверчиво усмехнулся:
— Это невозможно, мой дорогой сэр, совершенно невозможно! Ваша супруга сообщила мне, что вы огорчены поведением дочери, однако позвольте заверить вас в том, что подобная идея кажется мне просто бредом. Это невозможно.
— Разве? — мрачным тоном вопросил господин Амброзий и, запустив руку в карман, извлек из него туфельку с незаконченной вышивкой. — А что вы скажете на это? Я обнаружил эту вещицу в гостиной мисс Кисл. Конечно, я не ботаник, но в Доримаре фиолетовой земляники не бывает… Поджаренный сыр! Что это с ним случилось?
Дело в том, что Эндимион Лер буквально позеленел, и его обращенные к туфельке глаза наполнил такой ужас, словно он только что увидел жуткого гоблина.
Амброзий интерпретировал эту реакцию как подтверждение собственных мыслей и испустил негромкий стон.
— Итак, это не столь уж невозможно, не правда ли? — проговорил он угрюмо. — Боюсь, что в именно такими ягодами и накормили мою бедную девочку.
Тут глаза его блеснули, и он вскричал, сжав кулак:
— Но в этом нет ее вины! Не пройдет и нескольких дней, как я выкурю это осиное гнездо! Повешу вздорную старуху на ее же дверном косяке. Клянусь Золотыми Яблоками Заката, что…
Получив передышку, Эндимион Лер постарался взять себя в руки.
— Вы имеете в виду мисс Примулу Кисл? — спросил он как ни в чем не бывало.
— Да, мисс Примулу Кисл! — громыхнул господин Амброзий. — Никчемную, злонравную, непристойную, старую…
— Да-да, — с добродушным нетерпением прервал его Эндимион Лер. — Смею сказать, что считаю ее во всех отношениях именно такой, как вы говорите, и все же не допускаю, что она способна совершить то, в чем вы ее обвиняете, то есть накормить вашу дочь тем, чем вы думаете. Признаться, вид этой туфельки испугал меня. В отличие от вас я в какой-то мере ботаник и, конечно же, не встречал подобных ягод в Доримаре. Но они могут расти по другую сторону гор. На Коричных островах и в оазисах пустынь Амбера встречаются самые разнообразные плоды. Кстати, их иногда привозят ваши собственные корабли, господин Амброзий. Леди Луда не испытывают недостатка и экзотических цветах и плодах, чтобы копировать их в своих вышивках. Нет-нет, господин Амброзий, вы слишком взволнованны, иначе не позволили бы себе высказать столь гнусные и необоснованные подозрения.
Амброзий застонал, а когда заговорил, в голосе его звучало напряжение:
— Доктор Лер, я не склонен подозревать кого-бы то ни было в деяниях такого рода, не имея на то хотя бы одной причины. Однако беда часто случается именно потому, что кто-то боится посмотреть правде в глаза. Как иначе объяснить то, что моя дочь бежала на Запад, словно одержимая? К тому же о том, что она съела… ну, кое-что, мне рассказала Прунелла Шантеклер… и… и… я хорошо помню великую засуху, и знаю вкус зла… словом, в этой Академии творятся поистине странные вещи.
— Если я вас правильно понял, вам рассказала об этом Прунелла Шантеклер? — спросил доктор Лер, сделав ударение на последнем слове, при этом глаза его как-то странно блеснули.
Амброзий удивился.
— Да, — проговорил он. — Прунелла Шантеклер, подруга моей дочери.
Эндимион Лер хохотнул.
— Шантеклеры… очень странные люди, — сухо промолвил он. — А известно ли вам, что Ранульф Шантеклер сделал именно то, в чем вы подозреваете свою дочь?
Господин Амброзий уставился на него, не веря своим ушам.
Ранульф всегда казался ему странным и достаточно неприятным мальчиком, к тому же он помнил его ужасную выходку на вечеринке в честь сыра из Лунтравы. Но чтобы он отведал плод фейри!
— В самом деле? Поверить не могу, — выдохнул он.
Эндимион Лер многозначительно качнул головой.
— Один из самых тяжелых известных мне случаев.
— И Натаниэлю известно об этом?
Эндимион Лер снова кивнул.
Волна праведного гнева накатила на господина Амброзия. Древностью и почтенностью своего рода Джимолосты ни в чем не уступали Шантеклерам, и вот он готов навеки очернить свое собственное имя и герб, заставить городского глашатая кричать о его позоре на рынке, пожертвовать положением, семейной гордостью, всем вообще ради блага общества. В то время как единственной целью Натаниэля, правящего мэра, было сохранить в тайне свое несчастье.
— Господин Амброзий, — продолжил Эндимион Лер, — если то, чего вы опасаетесь в отношении собственной дочери, окажется верным, винить в этом следует господина Натаниэля. Нет, нет, дослушайте меня до конца, — проговорил он, едва господин Амброзий попытался протестующе взмахнуть рукой. — Я знаю, что уже несколько месяцев назад Немченс сообщил ему о том, что потребление в Луде известного продукта возрастает. Это подтверждает также моя собственная практика в менее благополучных районах города. Поверьте мне, господин Амброзий, вы, сенаторы, совершаете огромную ошибку, не обращая внимания на происходящее в этих районах. Как известно, всякая дрянь не обязательно остается на дне пруда, стоит лишь взбаламутить воду, и она всплывет наверх. Господина Натаниэля предупредили о положении в этих районах, однако он не предпринял никаких мер.
Сделав паузу, он испытующе посмотрел на господина Амброзия и продолжил:
— Вы никогда не замечали, что Натаниэль Шантеклер — человек со странностями?
— Никогда, — холодно бросил господин Амброзий. — Что за грязные инсинуации, Лер?
Эндимион Лер передернул плечами:
— Что ж, с инсинуаций начали вы сами. Господин Натаниэль — человек одержимый, а из нечистой совести получается неплохой призрак. Если человек хоть однажды попробовал плод страны Фейри, он никогда не сможет стать прежним. Иногда мне кажется, что он и сам в молодые годы…
— Попридержите язык, Лер! — рассердился Амброзий. — Шантеклер — мой старинный приятель и к тому же двоюродный брат. Ничего плохого я в нем не замечал.
Но так ли было на самом деле? Несколько часов назад он высмеял бы подобное предположение. Но после того, что произошло с его собственной дочерью… брр!
Да, Натаниэль всегда казался ему немного странным. Совершал неразумные поступки, отпускал двусмысленные замечания.
Амброзий вспомнил один из вечеров много лет назад, когда они были еще мальчишками, вспомнил, какое лицо было у Ната, когда он услышал звук, произведенный старой лютней. Выражение его глаз тогда было точно таким, как у Луноцветы.
Нет-нет, так можно подозревать кого угодно, только не старого друга.
Поэтому оставим разговор о господине Натаниэле, он заинтересовался воздействием плодов страны Фейри на человеческий организм, пытаясь узнать, существует ли противоядие.
И Эндимион Лер решил использовать свой знаменитый бальзам.
В большинстве случаев, конечно же, он не помогал. Но если плод потреблял Джимолост, представитель породы, здоровой умом и телом, можно было надеяться, что никакой яд ему не повредит.
— Да, а если Луноцвета уже перешла границу? — спросил господин Амброзий.
Эндимион Лер пожал плечами:
— В таком случае ничего не удастся сделать.
Господин Амброзий глубоко вздохнул и откинулся в кресле.
Охваченный мрачными предчувствиями, Амброзий перебрал в памяти события дня и остановился на наименее важном из них — красной жидкости, сочившейся из гроба на катафалке встреченной ими погребальной процессии.
— А мертвые кровоточат, Лер? — спросил он вдруг.
Эндимион Лер даже подскочил в кресле, сначала побледнел, а потом залился краской.
— Что вы… что вы… — заикаясь, произнес он, — что вы такое говорите, господин Амброзий?
— Грудастая Бриджит! — раздраженным тоном воскликнул господин Амброзий. — Что, во имя Жатвы душ овладело вами сейчас, Лер? Возможно, я задал глупый вопрос, но он вполне безобидный. Сегодня у западных ворот мы встретили похоронную процессию, и я увидел, что из гроба сочится красная жидкость. Но, во имя Белых дам Зеленых Полей, сегодня я видел столько всяких странностей, что перестал доверять собственным глазам.
Слова эти вернули хорошее настроение Эндимиону Леру и, запрокинув голову, он хохотал до тех пор, пока по щекам не покатились слезы.
— Ну, господин Амброзий, — пробулькал он, — вы просто потрясли меня своим ужасным вопросом. Из-за прискорбного невежества населения здешних краев я привык к самым странным вопросам пациентов, но ничего подобного не слыхал. «Кровоточат ли мертвые?» Летают ли свиньи? Ха, ха, ха, ха!
Заметив, что на лице господина Амброзия появляется выражение жесткое и оскорбленное, он взял себя в руки и добавил:
— Ну что ж, на вашу долю сегодня выпали такие испытания, господин Амброзий, что вы имеете право на любые галлюцинации. Что только не придет в голову под влиянием сильных эмоций. А теперь мне пора. Рождение и смерть, господин Амброзий, не ждут никого, даже сенаторов. Я должен помочь маленьким жителям Луда явиться на свет, а старикам — покинуть его. А пока не теряйте надежды. В любое мгновение один из добрых йоменов Немченса может подъехать к дому с маленькой леди в седле. Ну, а если ваши опасения оправдаются, не удивлюсь, если юной представительнице рода Джимолостов не удастся справиться со всеми последствиями употребления мерзкого продукта и вырасти разумной женщиной — такой же, как ее мать.
Эндимион Лер попрощался и заспешил по делам. Господин Амброзий весь вечер не находил себе места, прислушиваясь, не раздастся ли стук копыт, который оповестит его о судьбе Луноцветы, Жасмина между тем не умолкала ни на минуту.
— Амброзий, напомни приказчикам, что, прежде чем войти в дом, надо вытирать ноги. Кстати, ты обещал мне сделать отдельную дверь на склад? Неужели забыл? Надо было записать.
— Как хорошо, что с Луноцветой не случилось беды! Не знаю, что было бы с мной, если бы доктор Лер не объяснил мне этого. Но как ты мог умчаться из дома, Амброзий, оставив меня в таком состоянии и даже не подав нюхательную соль? Мужчины все-таки настолько бессердечны.
Какая же негодница эта Луноцвета! Это же надо бежать с такой быстротой, чтобы никто не догнал! Интересно, когда наконец ее привезут? Эту зиму она должна провести дома. Не возражаешь? И какая жалость, что Ранульф Шантеклер не постарше, они так прекрасно смотрятся вместе, ты согласен со мной? По возрасту ей больше подходит Рориан Голодранс, но он не так богат.
Как, по-твоему, Календула, Валериана и все остальные будут шокированы безумным побегом Луноцветы? Доктор Лер говорит, что девочки всегда останутся девочками.
Ах, Амброзий, ты не помнишь мою шаль с кисточками цвета оленьей шкурки, вышитую звездочками и незабудками? Она была в сундуке с моим приданым. Кажется, пора переделать ее для Луноцветы. Прежде и сам шелк, и красители были гораздо лучшего качества, в них не подмешивали чернильный орешек или смолку. Так ты помнишь мою шаль с кисточками цвета оленьей шкурки или нет?
Терпение Амброзия лопнуло. Вскочив на ноги, он вскричал:
— Жасмина, считай, что я ответил тебе на все твои вопросы, а теперь пойду прогуляюсь.
Надо бы заглянуть к Нату. Может быть, мэр он не самый лучший, однако более близкого друга у Амброзия нет. А он нуждается в сочувствии.
— Если… если придут какие-нибудь известия о Луноцвете, я у Шантеклеров. Немедленно извести меня, — бросил он через плечо и вылетел из комнаты.
Не то чтобы он так уж доверял мнению Ната, поскольку сам был не дурак. Просто Амброзию хотелось поговорить с человеком, попавшим в такое же положение, как и он сам, если, конечно, переданная Эндимионом Лером сплетня окажется правдой. Но до чего же непорядочный тип этот Лер, ведь он не имел права разглашать профессиональный секрет.
События дня угнетали Амброзия, бросив тень также и на Шантеклеров, но он проявит великодушие и заверит мучимого совестью Натаниэля в том, что хотя в качестве мэра он и проявляет небрежение и слабость, строго судить его за эти ужасные события было бы несправедливо.
Амброзий забыл о пропасти, отделявшей магистратов от остальных жителей города. Хотя в тот вечер единственной темой разговоров на любой кухне, в любой таверне, в гостиной любого купца был побег маленькой мисс Джимолост от своего почтенного папаши и погоня за ней, не говоря уже о предполагаемых причинах бегства девчонки, которыми он поделился с Немченсом, о чем в прочих магистратах еще не знали.
И потому, едва дверь дома Шантеклеров распахнулась перед Амброзием, он услышал доносившийся из гостиной громкий смех.
Здесь проводило вечер семейство Полидора Вигилия, и вся честная компания старалась поймать одну-единственную моль, размахивая платками, спотыкаясь о мебель, поощряя себя к дальнейшим подвигам оленьей охоты.
— Амброзий, заходи и присоединяйся к общему веселью! — выкрикнул Натаниэль, покрасневший от напряжения и смеха.
Однако Амброзий ситуацию понял неправильно.
— Вы… вы… бессердечные, болтливые идиоты! — взревел он.
Охотники на моль застыли в изумлении.
— Исстрадавшиеся кошки! Куда это тебя понесло, Амброзий? — воскликнул Натаниэль. — Говорят, охота на оленя была прежде королевской забавой. Даже Джимолосты могут снизойти к подобному развлечению!
— Разве вы, Джимолосты, не называете моль оленем, Амброзий? — расхохотался Полидор Вигилий.
Впрочем, в тот вечер старая шутка явно утратила свой аромат.
— Натаниэль, — произнес Амброзий скорбным тоном, — проклятие нашей страны пало на тебя и меня… а ты гоняешься за молью!
Натаниэль панически боялся слова проклятие. Старательно избегал созвучных с ним слов и даже заставил свою жену Календулу уволить одну из судомоек только потому, что ее звали Проклой.
Посему слова друга привели его в ярость.
— Амброзий, возьми свои слова обратно! — взревел он. — Говори за себя. Твое пр… пр… словом, эта штуковина не имеет ко мне ни малейшего отношения.
— Это не так, Натаниэль, — резко возразил Амброзий. — У меня есть слишком веские основания предполагать, что Луноцвету поразила та же болезнь, что и Ранульфа.
— Ты лжешь! — завопил Натаниэль.
— …и что в обоих случаях, — безжалостно продолжал Амброзий, — причиной болезни явился… плод из страны Фейри.
Валериана Вигилия испустила задушенный вопль, Календула залилась румянцем, а Полидор воскликнул:
— О! Млечный Путь, Амброзий, ты зашел слишком далеко, даже в том случае, если бы здесь не было дам.
— Нет, Полидор. Наступают такие времена, когда даже дамы должны поглядеть в лицо фактам.
Ты видишь перед собой двоих обесчещенных людей — меня и Натаниэля. Один из наших статутов утверждает, что в стране Доримарской у каждого члена семьи должна быть своя собственность, и в совместном пользовании может находиться только позор. Но в скором времени, возможно, он падет и на твою семью, Полидор. Тому, кто нам дороже всего, грозит опасность, а вы, наши лучшие граждане, гоняетесь за молью! Нет, Натаниэль, нет, — продолжил он, повысив голос, — незачем смотреть на меня волком и рычать! Ты мэр города и несешь ответственность за случившееся сегодня, и…
— Солнце, Луна и Звезды! — взревел Натаниэль. — Я не имею ни малейшего представления о том, «что случилось сегодня», но уверен, что моей вины в этом нет. А ты был в ответе за то, что брехучая сучка мамаши Мукомолл сжевала любимые подтяжки старого Мэтта, которые вышила ему его первая зазноба, и когда…
— Ах ты, несчастный, трусливый и слабоумный шут! Преступный недоумок! Да, именно преступный! — Голос Амброзия звучал все громче. — Кто знал заранее о распространении этой заразы и ничего не предпринял, чтобы остановить ее? Чей сын приложился к ней? Да, во имя Жатвы душ, ты и сам мог потреблять ее, насколько я представляю…
— Умолкни, сквернослов, умолкни, надутый, безмозглый баран! Умолкни, мерзкий и болтливый фейрин сын! — стал брызгать слюной Натаниэль.
Так, клещами и молотом они за несколько минут разрушили то, что создавалось долгими годами дружбы и взаимного доверия.
Закончилась эта сцена тем, что Натаниэль приказал Амброзию покинуть его дом и впредь близко к нему не подходить.
Глава IX Паника и Молчаливый народ
На следующее утро капитан Немченс выехал, чтобы произвести обыск в Академии мисс Примулы Кисл на предмет обнаружения там плодов фейри. В кармане у него лежат ордер на арест упомянутой леди, если обыск даст положительные результаты.
Однако, явившись в Академию, он обнаружил, что все пташки разлетелись. Исчезла и мисс Примула. Старый, ветшающий дом опустел, в нем царила тишина.
Охваченный ужасом, капитан Немченс обыскивал опустевшие комнаты.
Ящики комодов были выдвинуты, изысканные наряды валялись на полу, видимо, бегство произошло самым поспешным образом.
Под каждой кроватью капитан находил пару туфелек, стоптанных и изношенных.
Дойдя до кухни, капитан обнаружил мамашу Тиббс, улыбавшуюся и тихо напевавшую что-то.
— Ах ты, безмозглая дура, — выкрикнул он грубо, — и что же ты тут делаешь, хотелось бы мне знать? Я уже давно приглядываю за тобой, моя красавица. И если не сумею заставить тебя говорить, то уж судьи наверняка сделают это. Что произошло с юными леди? Отвечай немедленно!
Однако мамаша Тиббс в тот день явно была не в себе в большей степени, чем обычно, и расхаживала по кухне, распевая старые песни — о том, что птичек выпустили на свободу, о небесных цветочках и о белых яблоках, что растут на Млечном Пути.
Заметив, что Немченс держит в руке туфельку, мамаша Тиббс выхватила ее у него и ласково погладила, как подраненную голубку.
— Танцуя, танцуя, танцуя… — пробормотала она, — танцуя весь день и всю ночь! Как трудно плясать во сне!
Гневно фыркнув, Немченс в очередной раз понял, что толку от мамаши Тиббс не добьешься, и нечего попусту тратить время.
И он вновь отправился в обход по дому, на сей раз в поисках плодов, привезенных из страны Фейри.
Плодов он не обнаружил, однако нашел пустые мешки с пятнами плодового сока, имевшими весьма странные цвета, которых капитану прежде не приходилось видеть.
Чудовищная весть об исчезновении Цветочков Кисл пронеслась по Луду, как лесной пожар. Все работы остановились. В Академии обучались дочери половины сенаторов и некоторых богатых торговцев, и беднягу Немченса осаждали отчаявшиеся родители, видимо, полагая, что он рассовал девиц по карманам. Все они призывали проклятия на голову мисс Примулы Кисл и требовали, чтобы ее разыскали и предали правосудию.
Честь поимки этой особы досталась Эндимиону Леру. Он доставил ее, рыдающую и стенающую, в караулку йоменов. И сказал, что обнаружил ее бродящей в полубезумном состоянии по причалам, где мисс Примула явно надеялась найти спасение на одном из отплывающих из города кораблей. Сама она утверждала, что даже не представляет, что именно могло приключиться с ее ученицами и что обнаружила их исчезновение только утром, когда проснулась.
Она также категорически отрицала, что кормила их плодами страны Фейри. В этом Эндимион Лер поддержал ее. Контрабандисты, заявил он, изобретательны и хитры и вполне могли поместить мерзкие плоды в партию невинных фиг и винограда.
— Ну, а в каждой школьнице четверть мальчишки смешана с тремя четвертями птички, — добавил он сухим смешком, — им не привыкать совершать налеты на сады… а раз поблизости нет сада, что ж, тогда можно слазить на чердак, где хранят яблоки. Ну, а если яблоки оказались не яблоками, то кого можно в этом винить?!
Тем не менее мисс Примулу заперли в Ратуше, в той из комнат, которую держали наготове для преступников из верхов общества по обвинению в получении контрабандных товаров в виде пряденого шелка — такова была единственная статья, по которой, благодаря слепоте закона, мисс Примулу можно было судить.
Тем временем оба йомена, разыскивавшие по всей стране Луноцвету Джимолост, вернулись с сообщением о том, что настигли девушку у подножия Спорных гор, и в последний раз видели, как она, словно коза, перепрыгивала с камня на камень, взбираясь по склону. Дальше они не решились ее преследовать. Ни один доримарит не решился бы.
Пару дней спустя с аналогичными новостями вернулись йомены, отправленные на розыски остальных Цветочков Кисл. По всей Западной дороге ходили слухи о стайке меланхоличных девиц, пропорхнувших мимо под звуки печальных и дикарских напевов. В конце концов йомены натолкнулись на пастуха, который видел, как они, следуя примеру Луноцветы, исчезали среди отрогов ужасных гор.
Погоня закончилась. Цветочки Кисл теперь, вне сомнения, сгинули в трясинах Эльфова перехода или в стране Фейри.
Скорбные дни наступили в Луде — в домах состоятельных горожан окна были закрыты ставнями, танцевальные залы и прочие увеселительные места прекратили свою деятельность, прохожие обменивались печальными взглядами, и, словно сочувствуя людям, попавшим в беду, дни стали короче, деревья пожелтели и роняли листву.
Эндимион Лер теперь пользовался большим спросом, особенно в тех домах, которые прежде были перед ним закрыты. Теперь-то он сновал между ними весь день, увещевая, утешая, советуя. И, судя по его словам, создавалось впечатление, что во всех бедах так или иначе виноват господин Натаниэль Шантеклер.
И можно не сомневаться, что в те дни не было в Луде менее популярного человека, чем господин Натаниэль.
В Сенате его коллеги ограничивались неодобрительными взглядами; на Высокой улице вслед ему неслись угрозы и проклятия; а однажды, обогнув угол улицы, он наткнулся на театр марионеток и обнаружил, что собственной персоной попал в главные злодеи пьесы. Ибо когда в кульминационный момент сюжета главный герой принялся обрабатывать деревянную голову злодея дубинкой, остававшийся за ширмой кукольник тоненьким голосом пропищал:
— Вот тебе, Нат Петушок, раз в глаз — за твои маленькие буханки, вот тебе в другой глаз — за кислое вино… а вот еще и в нос — за то, что слишком любишь габлоки и яруши.
Тут кукольник, изменив голос, спросил:
— Но послушайте, сэр, что такое габлоки и яруши?
— Спрашивайте у Ната Петушка, и он скажет вам, что это яблоки и груши, только привезенные из-за гор!
Но самым существенным оказалось то, что впервые за все время, которое господин Натаниэль являлся главой семейства, Эбенеезер Прим не явился собственной персоной в его дом, чтобы завести часы. Эбенеезера считали в городе воплощением достоинства и респектабельности, и в Луде пошучивали, что никто не может быть уверен в том, что достиг высокого общественного положения до тех пор, пока сам он не явится в дом заводить часы, а не пришлет вместо себя кого-нибудь из учеников. Впрочем, присланный им к господину Натаниэлю подмастерье выглядел почти столь же респектабельно, как и его хозяин. Голову его прикрывал аккуратный черный парик, на лице застыло предельно ханжеское выражение, а уголки рта были опущены вниз, как на циферблате часов в мастерской его хозяина, когда показывают 7.25.
Весьма респектабельный молодой человек, безусловно, был в курсе всех сомнительных слухов, ходивших о доме Шантеклеров, ибо он с таким ужасом взирал на дурацкую круглую, как луна, физиономию еще дедушкиных часов господина Натаниэля с их вращающимися стрелками, так осторожно открывал их изготовленный из красного дерева корпус, а подрегулировав маятник, с таким омерзением вытирал свои пальцы карманным платком, словно невинный часовой механизм являлся фамилиаром[5] беззаконного мэра, мерзким гоблином в обличье помойного кота, с мурлыканьем облизывающего усы после непристойной пирушки в мусорной куче.
Однако господин Натаниэль с безразличием относился к таким проявлениям непопулярности. Когда умственные страдания достигают определенной силы, они превращаются отчасти и в успокоительное средство в отношении прочих предметов.
Как только известие о побеге Цветочков Кисл достигло его слуха, он едва не потерял голову. Факты превратились в реальность.
И впервые за всю его жизнь тайные и неопределенные опасения в его душе начали обретать плоть, находить истинный фокус. И фокусом этим являлся Ранульф.
Он хотел бросить на волю волн свои муниципальные обязанности и помчаться на ферму. Но что это ему даст? Он только сыграет на руку врагам, и у них появятся основания поверить в истинность всего, что о нем говорили.
Безумием было бы и привезти Ранульфа в Луд. Бесспорно, для мальчика в эти дни во всем Доримаре не было места, более неподходящего, чем этот город, запятнавший себя употреблением плодов фейри. Господин Натаниэль ощущал себя крысой, попавшей в ловушку.
Поскольку от самого Ранульфа продолжали приходить бодрые письма, которые подтверждались благоприятными сообщениями Люка Хэмпена, владевшая им паника постепенно превратилась в полный покорности судьбе летаргический кошмар, который как бы освобождал его от необходимости предпринимать какие-либо действия. Будущее, казалось, превратилось в некую клейкую патоку, залившую собой и все настоящее, так что, к чему бы он ни прикоснулся, пальцы его становились слишком липкими, чтобы ими можно было пользоваться.
Не было покоя и в собственном доме. Календула, всегда заботившаяся о Прунелле больше, чем о Ранульфе, находилась в состоянии нервического изнеможения.
Стоило ей подумать о том, что Прунелла ела плоды фейри и потерялась либо в Эльфовых переходах, либо в самой стране Фейри, как на нее накатывала дурнота.
Так что облегчение Натаниэль испытывал лишь бродя по своей плетеной аллее или скитаясь по Грамматическим полям.
Переплетенная аллея приносила ему мир, присущий спокойной жизни — жизни, которая не движется и не страдает и только растет в тишине, вызревая безмолвно и тайно.
Молчаливый народ! Как бы хотел он принадлежать к этому племени!
Но иногда, по вечерам проходя по улицам города, он замечал, что и люди также владеют тайной спокойной жизни. Ибо в этот час все живое прекращало всякие действия. Торговцы, остановившись в дверях своих лавок, отсутствующими глазами обозревали улицу — столь же далекие от любых дел, как садовые цветы, отдыхавшие после долгого и трудного дня, праздно высовывая головки между зеленых ставен.
И парни, вывозившие девиц на лодочную прогулку по Пестрянке, глядели на них невидящими глазами, а сами девчонки смотрели вдаль, в рассеянности водя пальцами по воде.
Даже кузница, где у входа, как всегда, толклась кучка бездельников, следивших за тем, как взмывает и рушится молоток кузнеца, как пляшут по его лицу алые отсветы, казалась всего лишь ярмарочным шатром, в котором наслаждающиеся воскресным отдыхом горожане наблюдают за подвигами укротителя львов или профессионального силача, поскольку в сей неурочный час игра мышц, покорение сопротивляющегося металла человеческой ноле, укрощение огня, создания более прекрасного и опасного, чем любой лев, превращались всего лишь в увлекательное зрелище, не имеющее никакого полезного назначения.
Даже уличные шумы — стук колес, посвист парней, крики разносчика, нахваливавшего свой товар, — доносились словно бы откуда-то издалека, становясь такими же бесплотными и удаленными от повседневной деятельности человека, как птичье пение.
И если на Высокой улице еще можно было застать отголоски дневной суматохи, они обретали не менее утешительный облик, чем на какой-нибудь ферме. И вся улица — дома, мостовая и прочее — казалась созданной из растений, которым человек придал правильную форму, как в регулярном[6] парке. И господин Натаниэль брел в эти часы между рядами домов и лавок, как между толстыми зелеными стенами живой изгороди или по золотому тоннелю своей плетеной аллеи.
Он чувствовал, что если бы жизнь в Луде могла всегда оставаться такой, ему незачем было бы умирать.
Глава Х Песня Хэмпи
Впрочем, случались дни, когда даже эти тихие предметы не могли утешить господина Натаниэля. Такое состояние Ранульф уподобил заключению всего человека в пространство, столь же тесное, как один только зуб, из которого расходится мучительная боль, и оно становится настолько подавляющим, что он перестает замечать окружающий мир.
Итак, однажды в самом конце дня, поддавшись подобному настроению, ничего не замечая, господин Натаниэль бродил по Грамматическим полям.
В эпитафиях, начертанных на могильных камнях, можно было прочесть всю историю чувствительности доримаритов, начиная от тихой едкости надписей, восходящих ко дням герцогов —
«Эглантина[7] оплакивает Эндимиона, который был жив, а теперь мертв»; или «Когда она была жива, Амброзию часто снилось, что Незабудка умерла. Теперь он проснулся и обнаружил, что это правда»,
за которыми следовали мирные повествования о труде и процветании, относящиеся к первым годам Республики и кончая дешевым цинизмом недавних времен, например:
«Здесь почиет Гиацинт Хитротрусс, ткач, по привычке растянувший ткань своей жизни больше положенной меры и, к глубокой скорби своего семейства, скончавшийся в возрасте XCIX лет».
Но в тот вечер даже любимая эпитафия, посвященная старому пекарю, Эбенеезеру Спайку, который шестьдесят лет обеспечивал граждан Луда свежим и мягким хлебом, не могла утешить господина Натаниэля.
И в самом деле, кольца меланхолии настолько сдавили его, что распахнутая настежь дверь семейной могильной часовни не вызвала в нем ничего, кроме короткого и неопределенного удивления.
Часовня семейства Шантеклер являлась одним из красивейших сооружений Луда. Она была выложена из розового мрамора, а изящные желобчатые колонны и рельефы на стенах, изображавшие цветы, листья и пораженных ужасом беженцев, являлись превосходным произведением искусства старого Доримара. Пожалуй, более всего она напоминала предназначенный для увеселения павильон. Предание утверждало, что так оно и было на самом деле, а павильон принадлежал герцогу Обри. Это соответствовало и легенде, называвшей кладбище местом его бесчинств и пирушек. В часовню не входил никто и никогда, кроме господина Натаниэля и его домочадцев, являвшихся с цветами по случаю годовщины смерти его родителей. И тем не менее дверь была распахнута.
Оставалось только предположить, что днем здесь побывала благочестивая Хэмпи, чтобы отметить какую-нибудь памятную только ей одной годовщину из жизни своих усопших хозяев, после чего позабыла запереть дверь.
Пребывая в мрачном настроении, господин Натаниэль приблизился к западной стене и принялся рассматривать Луд, настолько одурманенный отчаянием, что в первое мгновение просто не способен был отреагировать на то, что предстало его глазам.
А потом — как случалось иногда, когда течение Пестрянки отражалось на стволах буков, росших на ее берегах, так что сквозь них нескончаемыми волнами протекал некий неведомый природе элемент, образованный наполовину водой, а наполовину светом, — предметы, которые он видел перед собой, начали отражаться в его фантазиях. Теснившиеся с одной стороны холма, явным образом спешили к гавани, стремясь превратиться в корабли и уплыть в неведомые края. От труб по крутым кровлям разбегались превращавшиеся в бархат тени. За домами высились колокольни.
А дома более всего напоминали стаю разнообразной по размеру и виду домашней птицы, собравшейся возле двери амбара на зов птичницы — цып! цып! цып! — чтобы получить вечернюю порцию корма.
Но сколь невинно не выглядели бы эти здания, именно в них обретались те темные тайны, которые наводнили Луд. Дома — тоже Молчаливый народ. У стен есть уши, но нет языков. Дома, деревья, усопшие — все безмолвны.
Глаз его перекочевал от города на лежавший за стеной сельский край, задерживаясь ненадолго на полях мака и золотого жнивья, на дымке далеких деревушек, на широкой голубой ленте Долы, узкой струе Пестрянки, первая из которых текла с севера, а вторая с запада, однако там, в нескольких милях за городом, русла их начинали казаться параллельными, так что само слияние возле гавани превращалось в истинное геометрическое чудо.
И господин Натаниэль опять начал ощущать покой тишины и, казалось, уже заметил краешек того тихого и спокойного края, который сулит ему будущее после смерти.
Только вот существовало старинное поверье, что тогда придется трудиться рабом в стране Фейри на засаженных левкоями полях.
Нет, нет. Старина Эбенеезер Спайк не мог стать рабом в том краю.
Господин Натаниэль оставил Грамматические поля, пребывая в благородной меланхолии, безысходность и отчаяние отступили.
Явившись домой, он обнаружил Календулу отрешенно сидящей в гостиной, вялые руки ее покоились на коленях; она даже развела огонь в камине, хотя вечер еще не наступил.
Она была бледна как снег, под глазами пролегли фиолетовые тени.
Остановившись возле двери, Натаниэль несколько мгновений молча разглядывал жену.
Тут ему припомнились две строчки из старой народной песни:
Сплетайтесь в венок вы, горя цветы, Чтобы прекраснее сделалась ты.И вдруг он увидел в ней то самое очарование, которое сводило его с ума в дни сватовства, очарование, присущее тому изяществу, хрупкому и далекому, которое заставляет плоть мужчины возжелать душу женщины.
— Календула, — негромко позвал ее Натаниэль.
Губы жены искривила тонкая пренебрежительная улыбка.
— Ну, что, Нат, полаял на луну, погонялся за собственной тенью?
— Календула! — Подойдя, он остановился за спинкой ее кресла.
Она вздрогнула и воскликнула тоном, раздраженным и одновременно извиняющимся:
— Прости меня! Но тебе превосходно известно, что я терпеть не могу, когда прикасаются к моему затылку! Ой, Нат, ну какой же ты сентиментальный для своих лет!
И тут все началось, как всегда: тщетные жалобы, завуалированные упреки; желание сделать ему больно боролось за власть с привычным милосердием, рожденным годами легкой, чуть пренебрежительной нежности.
К разразившемуся бедствию она относилась с физическим отвращением, к которому примешивался воинственный задор, ощущение жестокой несправедливости и — как это ни странно — смешной стороны происходящего.
Время от времени, уняв дрожь, она говорила:
— Жаль, что эта старушонка Примула не бежала вместе с ними, представляю, как бы она прыгала под звуки скрипки и верещала, словно старая помойная кошка на крыше.
Наконец Натаниэль потерял терпение. Вскочив на ноги, он вскричал:
— Календула, ты сводишь меня с ума! Ты… ты не женщина. На мой взгляд, тебе нужно самой отведать этих плодов. Хорошо бы разыскать их где-нибудь и затолкать тебе в глотку!
Он тут же пожалел о сказанном.
Что это на него нашло?
Натаниэль не мог больше оставаться в гостиной и, пробормотав извинения, покинул комнату.
Куда же пойти? Только не в трубочную. Он сыт по горло собственным обществом. И тогда он поднялся наверх и постучал в дверь Хэмпи.
Но как бы ни любил в детстве человек собственную няню, редко случается, чтобы, повзрослев, он чувствовал себя вполне непринужденно в ее обществе и не скучал. Связь, сделавшаяся искусственной и обусловленная чувством долга, а не душевной привязанностью, не бывает до конца искренней.
А няне особенно горько, когда великодушный враг — жена ее мальчика — заставляет его выполнять свой долг.
Долгие годы Календула время от времени спрашивала: «Нат, а ты давно поднимался наверх поговорить с Хэмпи?» Или же: «Нат, Хэмпи потеряла одного из своих братьев. Сходи вырази ей соболезнования».
Оказавшись в обитой веселым ситцем крохотной комнатке, Натаниэль почувствовал себя скованным, и язык его утратил былое красноречие, а охватившее его уныние мешало прибегнуть к ставшему привычным шутливому тону, которым он обычно говорил со старушкой.
Она как раз штопала его чулки и с негодованием предъявила ему особенно большую дыру, а потом, покачав головой, воскликнула:
— Не знаю мужчины, который столь сурово обходился бы со своими чулками, как ты, господин Нат! Хотелось бы еще узнать, как это у тебя получается и как тебе удалось научить этому своего сына, господина Ранульфа?
— Вот что, Хэмпи, я уже не раз говорил, что ты не вправе попрекать меня дырками на моих чулках, раз сама их вязала, — заученно возразил Натаниэль.
Ответ этот был рожден теми долгими годами, в течение которых Хэмпи выговаривала ему за чулки. Однако в эти кошмарные дни было нечто ободряющее в том, что в мире еще оставались люди, обладающие достаточно здравым и спокойным умом, чтобы волноваться из-за пары продранных чулок.
Хэмпи и в самом деле отнеслась к известию о побеге Цветочков Кисл с удивительным спокойствием. Она никогда не одобряла Прунеллу, считая, что она пошла в мать. Однако Прунелла оставалась дочерью господина Натаниэля и сестрой Ранульфа и обладала в глазах Хэмпи некоторой позаимствованной у них ценностью. И все же она не предавалась горю и хранила угрюмое молчание, когда речь заходила на эту тему.
Взгляд господина Натаниэля беспокойно обежал знакомую комнату. Ему было хорошо в этом уютном и невероятно опрятном помещении. «Так аккуратно выглядят только гостиные фейри» — пришло вдруг в голову старинное доримарское присловье.
На столе стояла ваза с осенними розами, воздух был наполнен легким ароматом. Ставят ли фейри вазы с розами в своих гостиных?
— Это новые, Хэмпи, кажется, так? — произнес он, показав на коробку со странными раковинами на каминной полке, с очень странными раковинами, тонкими, словно крылья бабочки, и такими же яркими. А рядом с ними стояли фарфоровые горшки, казалось, сделанные из лепестков маков и орхидей, очертания которых говорили, что ни один подобный сосуд не мог сойти с гончарного колеса ремесленника в Доримаре.
Тут он присвистнул и, указав на прибитую к стене конскую подкову из чистого золота, прибавил:
— И эта вещь тоже! Клянусь, я никогда не видел ее у тебя! Неужели из далеких краев пришел твой корабль, Хэмпи?
Старуха подняла глаза и спокойно посмотрела на него:
— Ох! Эти вещи я получила, когда скончался мой бедный брат и сломали наш старый дом. Я рада видеть их у себя, потому что не могу припомнить времени, когда бы они не стояли на нашей кухне.
И я часто думаю о том, как это странно, когда хрупкие черепки живут и живут, а плоть и кость давно истлели. Странная вещь, господин Нат, стареть и жить среди глухонемых. Фарфоровые черепки… и Молчаливый народ. — Она смахнула слезинки, а потом добавила: — Я никогда толком не знала, откуда к нам попали эти старые вещи. Подкова, наверно, дорого стоит, но даже во время неурожая мой бедный отец не стал ее продавать. Он говорил, что подкова эта висела над дверью и при его отце, и при его деде, и пусть дальше висит. Не удивлюсь, если он думал, что ее обронил конь герцога Обри. Что же касается раковин и горшков, то мы, когда были детьми, считали, что они пришли к нам из-за гор.
Господин Натаниэль вздрогнул и в крайнем изумлении посмотрел на нее.
— Из-за гор? — с ужасом переспросил он.
— А почему бы и нет? — невозмутимо отозвалась Хэмпи. — Я выросла в деревне, господин Нат, и мне нипочем ни запах лисы, ни виверры… ни фейри. Они — вредные создания, и потому их лучше оставить в покое. Соседей не выбирают, но быть соседом — это уже достоинство. Будь на то моя воля, я ни за что не выбрала бы фейри себе в соседи, но так получилось. А значит, мы обязаны жить с ними наилучшим образом.
— Во имя Солнца, Луны и Звезд, Хэмпи! — вскричал господин Натаниэль полным ужаса голосом. — Ты не знаешь, что говоришь, ты…
— Вот что, господин Нат, не пробуй на мне свои высокоумные штучки, ты здесь не его-Честь-Мэр-Луда-так-что-заткнитесь-и-благодарите-меня-за-все-благодеяния! — воскликнула Хэмпи, погрозив ему кулаком. — Я прекрасно знаю, что говорю. Однако хорошая няня обязана держать свое мнение при себе, если оно не совпадает с мнением ее хозяина и хозяйки. Поэтому я никогда не говорила ни тебе, пока ты был маленьким мальчиком, ни господину Ранульфу о том, что думаю по поводу некоторых вещей. И никогда не связывалась с фенхелем и тому подобными вещами. Может, его и не хотят здесь видеть, а смотришь, он тут как тут, будь то фейри или доримарит. Соседи обманывают нас только потому, что мы их боимся. К тому же я всегда считала, что здоровый желудок способен переварить все что угодно… даже плод фейри. Взять хотя бы моего мальчика, Ранульфа… Молодой Люк пишет, что он еще никогда не выглядел так хорошо. Нет, ни плод фейри, ни что-либо другое еще неспособно отравить чистый желудок.
— Понимаю, — сухим тоном промолвил господин Натаниэль, сопротивляясь тому утешению, которое, против его воли, приносили ему слова няни. — И участь Прунеллы тоже радует тебя?
— Может, и не радует, — парировала Хэмпи, — что толку рыдать, икать и рыгать весь день, как это делает твоя жена? У жизни есть и печальная сторона, и мы должны одинаково принимать радости и скорби. Случалось, что девицы умирали перед самой свадьбой или, хуже того, дав жизнь своему первому ребенку, но миру это безразлично. Жизнь, скажу откровенно, штука достаточно грустная, но страшного в ней ничего нет. Меня воспитывали в деревне и, как говаривала моя старая бабка, нет часов лучше солнца и календаря лучше звезд.
А почему? Потому что там ты привыкаешь смотреть в лицо Времени. Там, за горами, не найдется ничего более страшного, чем Время. Но когда ты всю жизнь видишь его таким, как оно есть, а не запертым, как здесь, в Луде, в коробку часов, то начинаешь различать в нем нечто спокойное и мирное, как впряженный в плуг старый вол. Потом, наблюдая за временем, ты учишься петь. Говорят, что привезенные из-за гор плоды заставляют человека петь. Я никогда не брала в рот ни кусочка, но петь умею и без того.
Неожиданно все скопившиеся за последние тридцать лет горести и страхи оставили сердце Натаниэля, по лицу его покатились слезы, а Хэмпи с победной нежностью гладила его руки и бормотала полные утешения слова, как делала это, когда он был еще ребенком.
Выплакавшись, Натаниэль присел на табурет у ног Хэмпи и, уткнувшись головой в ее колени, попросил:
— Спой мне, Хэмпи.
— Спеть, мой дорогой? Но что я могу тебе спеть? Мой голос теперь не тот, что прежде… Ладно, есть одна старая песня — Голубика, так, кажется, она зовется; теперь ее то и дело можно услышать на улице, красивая такая мелодия.
И голосом, надтреснутым и приятным, как звон старинного спинета, она запела:
Был Обри жив, и не был в горе бедняк, Лорд или нищий, тогда пировал здесь всяк. С лилией на окне, с соком травы в вине. С зеленью многоликой, С ветвью хлесткой и дикой, С клубникой и голубикой.Когда она пела, Натаниэль вновь услыхал свою Ноту. Но, как ни странно, она не показалась ему грозной. Она была тиха, как дерево, как нарисованный пейзаж, как прошлое, и умиротворяла, словно водяная капель, словно мычание коров, возвращающихся вечером на ферму.
Глава XI Противоядие, более сильное, чем рассудок
Няня закончила песню, а господин Натаниэль продолжал сидеть у ее ног. Ему казалось, что и душа его, и тело омылись в прохладной воде.
Итак, Эндимион Лер и Хэмпи пришли самыми разными путями к одному заключению, что в конце концов опасаться нечего и что ни в небе, ни в море, ни на земле нельзя найти пещеры достаточно зловещей и мрачной, чтобы вместить его тайный страх.
Да, были факты, но были и тени. И Хэмпи не дала ему никакого талисмана против фактов. Что, если участь Прунеллы ждет и Ранульфа? И он тоже исчезнет за Спорными горами.
Ничего подобного не случится, пока у Натаниэля есть силы и ум.
Возможно, он превращается в несчастное и бесполезное создание, когда ему угрожают порождения собственной фантазии. Однако, во имя Золотых Яблок Заката, Натаниэль больше не будет дрожать здесь, прячась среди теней, в то время как реальные опасности подстерегают Ранульфа.
Он должен превратить Доримар в страну, где сын его сможет жить в безопасности.
Он словно бы вдруг увидел перед собой белую и прямую полосу — реку или дорогу, прорезавшую мрачный, освещенный луной ландшафт. И эта прямая и белая полоса была его собственной волей.
Вскочив на ноги, Натаниэль прошелся по комнате.
— Но говорю тебе, Хэмпи, — воскликнул он, как бы продолжая разговор, — все они против меня! Как я могу действовать в одиночку! Повторю — все они против меня.
— Вот уж новость, господин Нат! — с нежностью усмехнулась Хэмпи. — Ты всегда считал, что все против тебя. И когда был маленьким, то и дело спрашивал у меня: «А ты не сердишься на меня, Хэмпи, не сердишься?» И все глядел на меня своими встревоженными глазками, хотя у меня и в мыслях не было на тебя сердиться.
— Но говорю же тебе, все они против меня! — нетерпеливо выкрикнул он. — Обвиняют меня в том, что произошло, а Амброзий обошелся со мной настолько грубо, что я велел ему впредь и носа не показывать в мой дом.
— Что ж, ты с господином Амброзием ссоришься не впервые, не впервые вам и мириться. Я столько раз слышала: «Хэмпи, а Брози жульничает!» или «Хэмпи, сейчас моя очередь кататься на ослике, а Нат меня не пускает!» — а через несколько минут все забыто, будто и ничего не было. Так и сейчас. Придешь к нему, он будет рад тебя видеть. Попомнишь мои слова.
Господин Натаниэль понял, что готов засунуть свою гордость в карман, обнять Амброзия и признаться, что Амброзий заранее согласен со всем, что бы тот ни сказал, если даже будет настаивать на том, что Натаниэль никудышный мэр, что лакомится плодами фейри, тайно доставляет их в страну и торгует ими из-под полы. В общем, он сделает все, чтобы помириться с другом.
— Клянусь Золотыми Яблоками Заката, ты права, Хэмпи! — воскликнул он. — Немедленно бегу к Амброзию.
И он решительно шагнул к двери.
На пороге вдруг вспомнил, что нашел часовню настежь открытой, и спросил у Хэмпи, не была ли она там в последнее время и не забыла ли запереть ее.
Оказалось, что Хэмпи не была там с ранней весны.
— Странно! — заметил господин Натаниэль.
И тут же выбросил это из головы, поглощенный мыслью о примирении с Амброзием.
Спустя несколько минут Амброзий, глядя на приятеля, кротко улыбавшегося у дверей, ощутил, что, в буквальном смысле слова, очнулся от недавнего кошмара. Перед ним стоял не пренебрегающий исполнением своих обязанностей мэр, худший среди всех, кем когда-либо был проклят Луд; ничего не было в нем и от зловещей фигуры, рожденной наговорами Эндимиона Лера. Это был всего лишь старый чудак Нат, которого он знал всю свою жизнь.
Каждая морщинка и складка на лице друга были знакомы ему, как карта окрестностей Луда, где вьющиеся линии означали потоки с плескавшимися в них рыбешками, а прямые черты соответствовали дорогам со всеми их верстовыми столбами; он читал в них все мелкие заботы, и тревоги, и каждую его шутку.
Все еще застенчиво улыбаясь, Натаниэль протянул руку. Амброзий нахмурился, фыркнул, попытался придать лицу суровое выражение и торопливо схватил протянутую ладонь. Так они и простояли минуты две, тряся друг друга за руку, посмеиваясь и моргая, чтобы скрыть слезы.
А потом Амброзий проговорил:
— Ладно, пойдем-ка в трубочную, Нат, разопьем по бокальчику моего нового янтарного цветка. Знаю я тебя, старый плут, ради этого ты и пришел!
Немного погодя, когда Амброзий под руку провожал Натаниэля к его дому, мимо них прошел Эндимион Лер.
Несколько секунд он смотрел им вслед с хмурым видом.
Давно уже господин Натаниэль не спал так сладко, как в ту ночь. Едва коснувшись подушки, он погрузился в сон. Впервые с тех пор, как услышал Ноту. Утром проснулся в отличном расположении духа. Нет лучшего лекарства, чем воля к действию.
Вчерашний разговор с Амброзием явился тому подтверждением. Он застал друга убитого горем. Амброзий мрачно заметил, что если дочь его навсегда исчезла в горах, оно, быть может, и к лучшему, учитывая тот порок, жертвой которого она пала. В здравом смысле, как его понимал Амброзий, всегда присутствовало нечто жестокое.
Однако он, так же как и сам Натаниэль, полагал, что необходимо срочно предпринять меры, дабы пресечь незаконную торговлю и арестовать контрабандистов. Они разработали план, и последующие дни ушли на то, чтобы провести его через Сенат.
Хотя коллеги воротили нос лишь при одном упоминании о господине Натаниэле, почтение к конституции было слишком глубоко укоренено в них, чтобы допустить саму возможность появления оппозиции к мэру Луда и Высокому сенешалю Доримара; к тому же мнение господина Амброзия Джимолоста было весьма весомо в их среде, и тот факт, что он во всем поддерживал предложения мэра, сыграл свою роль.
В итоге у каждых ворот Луда выставили по паре йоменов, которым было приказано не только обследовать багаж всех, кто бы ни приезжал в город, но и проверять каждую телегу с сеном, каждый мешок муки, каждую корзину с овощами или фруктами. Патрулировалась так же вся Западная дорога, от Луда до самого Эльфова перехода, где было выставлено подразделение йоменов, получивших строгий приказ денно и нощно наблюдать за горами. Ну а сенатским чиновникам пришлось наскоро заводить досье на каждого жителя Луда.
Энергия, с которой господин Натаниэль осуществил все эти меры, в значительной степени восстановила его репутацию среди горожан. И все же общественный барометр, а именно часовщик Эбенеезер Прим, продолжал присылать в его дом своего нового ученика. И дедушкины часы явным образом протестовали против подобного бесчестья. Если верить слугам, стрелки их частенько двигались вверх и вниз по циферблату, делая его похожим то на улыбающуюся физиономию, то на угрюмую. А однажды утром Прыщик, крохотный индиговый паж, влетел в кухню, вопя от ужаса, потому что — он был готов в этом поклясться — из отверстия внизу циферблата вдруг высунулся длинный зеленый, похожий на хвост ящерицы, язык.
Поскольку предпринятые господином Натаниэлем меры не позволили изловить ни единого контрабандиста или перехватить хотя бы одну из партий запретного плода, сенаторы стали поздравлять друг друга с тем, что наконец-то сумели искоренить зло, столетиями угрожавшее стране, и тут Немченс накрыл сразу троих потребителей таинственного продукта, явно находившихся под его влиянием, причем рты и ладони их покрывали пятна сока каких-то невообразимых цветов.
Одним из задержанных оказался северный пигмей, торговавший вразнос, почти ни слова не понимавший по-доримарски и потому не способный предоставить никакой информации о том, каким именно образом раздобыл плод. Вторым был мальчишка, нашедший несколько ломтиков в мусорном ящике, однако он находился в состоянии такого ошеломления, что не помнил, где именно это было. Третьей попалась глухонемая по прозвищу Распутная Бесс. Она, разумеется, тоже едва ворочала языком.
В общем, меры, предпринятые Сенатом, не помогли.
В результате к дверям Ратуши было прибито несколько подстрекательских памфлетов, обличавших бестолкового мэра, а сам господин Натаниэль получил несколько писем с угрозами, в которых ему рекомендовали не лезть не в свое дело, а то как бы не оказалось, что оно имеет к нему самое непосредственное отношение.
Однако все его действия полностью соответствовали конституции, так что он поклялся впредь удвоить усилия.
Глава XII Календула слышит стук дятла
Суд над мисс Примулой Кисл шел медленно. С точки зрения закона плоды фейри именовались шелковыми тканями, и время уходило на бесконечные ученые дискуссии, посвященные разнообразным свойствам золотой нити, кистей, фигурного атласа, шелковой нитки, мохера и лент.
И однажды утром Календула решила нанести визит своей заточенной в узилище старой классной даме, повинуясь отчасти любопытству, а также неосознанной надежде на то, что комическая сторона личности мисс Примулы сделает недавние события менее зловещими.
Она впервые оставляла дом после трагедии и, проходя по Высокой улице, гордо держала голову и слегка улыбалась — только для того, чтобы продемонстрировать вульгарному стаду, что никакое бесчестье не способно сломить дух особы, принадлежащей к семейству Вигилиев.
Теперь Календула потрясала Натаниэля той быстротой, с которой обнаруживала едва уловимый неприятный запах — скажем, крепкого табака или лука.
С такой же быстротой она могла обнаружить ссору или любовную интрижку задолго до того, как о них становилось известно всем остальным. И, приближаясь тем утром к Ратуше, она постепенно замечала во всем, что творилось вокруг нее, то, что можно назвать лишь изменением тональности.
Она могла поклясться, что посыльный пекаря, шедший с лотком на голове, полным буханок, высвистывал теперь не тот мотив, что несколько месяцев назад, а служанка, обихаживавшая горшки с цветами своей госпожи, напевала теперь совсем другую песенку.
Впрочем, в этом не было ничего удивительного. У каждой мелодии, как у плодов и ягод, есть свой сезон. Но то, что голоса лоточников, выкрикивавших: «Желтый песок!» или «Точить ножи-ножницы!» — звучали совсем по-другому, настораживало.
Дама Календула раздула ноздри и лицо ее приняло недовольное выражение. Она уловила какой-то неприятный запах.
Добравшись до Ратуши, она сразу же взяла дело в свои твердые руки: нет, нет абсолютно никакой необходимости беспокоить Его честь. Он уже дал ей разрешение посетить узницу, а потому часовой должен немедленно проводить ее к заключенной.
Календула принадлежала к числу тех женщин, которые могут бродить по полям и лесам, не замечая вокруг буквально ничего, однако, оказавшись между четырех стен обретают зрение, столь же острое, как у натуралиста, не пропускающего ни одной букашки. Поэтому, несмотря на уныние, глаза ее деловито сновали по сторонам, пока она поднималась следом за часовым по великолепной спиральной лестнице, по коридорам, обшитым деревянными панелями, увешанным великолепными гобеленами. Она подумала, что надо сказать Натаниэлю, что уборщик не подмел лестницу, что некоторые из панелей подточил червь и ими следует заняться. Кое-где она останавливалась, трогала пальцем уголок гобелена, размышляя о том, можно ли теперь отыскать шелк именно такого, небесно-голубого или розового, оттенка для своей вышивки.
— Вот и эту панель уже подточил червь, — пробормотала она, задержавшись, чтобы постучать по стене. — И тут же воскликнула с удивлением: — По-моему, за ней пустота!
Страж снисходительно улыбнулся:
— Вы прямо как доктор, мэм, доктор Лер. Мы зовем его Дятлом, потому что когда доктор обследовал Ратушу, чтобы написать свою книгу, он здесь ходил и выстукивал стены. Словно что-то искал. Не удивлюсь, если обнаружатся сдвижные панели. Говорят, эти старые герцоги были предусмотрительны, наверняка из дворца есть тайный выход!
Он многозначительно подмигнул.
— Да-да, конечно, — задумчиво произнесла дама Календула.
Наконец они приблизились к двери, запертой на висячий замок и засов.
— Узница здесь, мэм, — проговорил страж, отпирая замок и пропуская Календулу к ее старой наставнице.
Мисс Примула сидела, безукоризненно выпрямив спину, в старомодном кресле с прямой спинкой на фоне превосходных старинных гобеленов, выцветших до самых очаровательных пастельных тонов, столь же несовместимых с ее старческим уродством, как с юной миловидностью Цветочков Кисл.
Дама Календула несколько мгновений смотрела на нее с молчаливым негодованием. Наконец, опустилась в кресло и суровым тоном проговорила:
— Ну, мисс Примула? Хотелось бы знать, как можете вы здесь спокойно сидеть после той отвратительной выходки, которую учинили?
Однако мисс Примула пребывала в самом возвышенном состоянии духа — на собственном коньке, как говаривали в подобных случаях Цветочки Кисл. Посему она только блеснула на даму Календулу полными презрения крохотными глазенками и, отстранив царственным движением руки все эти мирские пустяки, воскликнула:
— Моя бедная слепая Календула! Быть может, из всех учениц, которые прошли через мои руки, ты меньше остальных достойна своего благородного наследия.
Календула прикусила губу, подняла брови и проговорила с крайним раздражением:
— Что вы хотите этим сказать, мисс Примула?
Та возвела очи к потолку и сочащимся патокой голосом произнесла:
— Я говорю об этой великой привилегии — быть рожденной женщиной!
Ее ученицы всегда считали, что слово «же-енщина», как произносила его мисс Примула, является самым непристойным из всех.
Календула полыхнула глазами:
— Возможно, я и не женщина, но тем не менее я мать, в отличие от вас! — возразила она.
А потом добавила со все возрастающим негодованием:
— Ну, а вы, мисс Примула, вы считаете себя «достойной своего великого наследия», обманув оказанное вам доверие? Хотелось бы мне знать, какое отношение имеют порок, ужас, позор, разбитые сердца родителей к «истинной женственности»? Да вы хуже убийцы… в десять раз хуже. И вот вы сидите, радуетесь содеянному, словно мученица и благодетельница общества, самодовольная и непонятая, как принцесса с луны, которую заставили пасти коз! И я искренне считаю…
Календула не договорила, потому что мисс Примула пронзительно заверещала:
— Бей меня! Втыкай в меня булавки! Бросай в Пестрянку! Я претерплю все мучения с улыбкой, и позор мой станет цветком, подаренным им!
Дама Календула с раздражением простонала:
— Скажите на милость, мисс Примула, кому именно вы собираетесь подарить цветок? — Тут ее непобедимое чувство юмора вырвалось на свободу, и она добавила: — Герцогу Обри или Эндимиону Леру?
Конечно же, Прунелла пересказала ей все шутки о гусыне и мудреце.
На этот вопрос мисс Примула ответила без промедления:
— О герцоге Обри, конечно!
Однако во взгляде ее сквозили лукавство, подозрительность и явный испуг.
Ни одна из этих подробностей не ускользнула от Календулы. Она смерила взглядом свою бывшую наставницу, насмешливо улыбаясь; мисс Примула заерзала и что-то забормотала.
— Гм! — только и могла произнести Календула.
Эндимиона Лера она на дух не переносила.
Недавний кризис, безусловно, не причинил ему никакого ущерба, только удвоил его практику и утроил влияние.
К тому же не красота и обаяние мисс Примулы побудили его недавно выказывать ей столь подчеркнутое внимание.
Однако вреда не будет, если выстрелить наудачу.
— Я, кажется, начинаю понимать, мисс Примула, — проговорила Календула неторопливо. — Два чужака решили придумать, как унизить этих глупых выскочек — «так называемые старые семейства Луда!» Ох! Только не надо отрицать, мисс Примула. Вы никогда и не пытались скрыть свое пренебрежение к нам. И я давно поняла, что вы не относитесь к всепрощающим душам. Но я вас не виню. Столько лет мы немилосердно высмеивали вас, а вы обижались. И все же ваша месть оказалась слишком жестокой; впрочем, для «настоящей женщины» слово «слишком» не существует, если речь идет о его интересах!
Но мисс Примула позеленела, словно трава, и, в отчаянии ломая руки, забормотала:
— Календула! Календула! Ну как ты можешь так говорить? Доктор такой милый, такой преданный своему делу человек! Лучше и добрее его нет на свете! Он больше всех рассердился на меня за ту, как он сказал, «преступную беззаботность», которую я проявила, допустив, чтобы жуткие фрукты спрятали на моем чердаке. Уверяю тебя, он приходит в бешенство от одного упоминания об этих… э… плодах. В молодости, во время великой засухи, он работал день и ночь, пытаясь остановить ее, и…
Однако Календула не случайно была наследницей многих поколений судейских крючкотворов. Она отреагировала с быстротой молнии.
— Великой засухи? Но она разразилась сорок лет назад, задолго до того, как Эндимион Лер появился в Доримаре.
— Ну, да, да, милочка… конечно… ты права… я просто вспомнила слова какого-то другого доктора… от всех этих неприятностей в моей бедной голове все перепуталось, — пробормотала мисс Примула, сотрясаясь всем телом.
Дама Календула поднялась с кресла и несколько мгновений рассматривала свою наставницу прищуренными глазами с достаточно жестокой улыбкой на лице.
А потом сказала:
— До свидания, мисс Примула. Вы предоставили мне весьма интересную информацию для размышлений.
В тот же день господин Натаниэль получил от Люка Хэмпена письмо, которое одновременно озадачило его и встревожило.
Вот что там было написано:
Ваша честь, заберите господина Ранульфа с этой фермы, потому что вдова замышляет недоброе, я в этом не сомневаюсь. Некоторые здесь говорят, что когда-то она убила собственного мужа. Не знаю, что она может иметь против господина Ранульфа, и, если позволите, просто перескажу Вашей чести то, что слышал.
Значит, было это так. Однажды ночью, не знаю, как это получилось, только я не мог заснуть и подумал, что, если я съем кусочек-другой, это может помочь мне, поэтому около полуночи выбрался из своей постели и отправился на кухню, чтобы найти кусок хлеба. Спускаясь по лестнице, я вдруг услышал голоса. Кто-то сказал: «Я боюсь Шантеклеров». Я замер на месте, чтобы послушать. Посмотрел вниз, очаг в кухне почти погас, однако света хватало, чтобы я мог видеть вдову и закутавшегося в плащ человека, который сидел напротив нее, повернувшись спиной к лестнице, так что я не видел его лица. Разговаривали они негромко, и сперва я различал только отдельные слова, однако они все время поминали Шантеклеров, и мужчина сказал что-то вроде того, что Шантеклеров и господина Амброзия Джимолоста нужно держать порознь, потому что господину Амброзию было видение герцога Обри. Несли бы я не знал вдову, того, что она не простая особа, то подумал бы, что вижу двух бедных старых сплетников, заговаривающихся от старости. Но тут мужчина положил свою ладонь на ее колено и сказал: «Я боюсь получить контрприказ. Ты знаешь Шефа и его манеры, он способен в любое мгновение предать своих агентов. Вилли Клок без моего ведома дал фрукт юному Шантеклеру. Но я у же рассказал тебе о том, что они успели сговориться с этим твоим полоумным старым ткачом, и это испугало меня больше всего».
Некоторое время он говорил совсем неслышно, а потом чуть громче сказал: «Те, кто ходит Млечным Путем, часто оставляют следы. Так что пусть идет другой дорогой».
Он поднялся, и я постарался неслышно улизнуть в свою комнату. Обдумывая все, что сумел разобрать, я уже не смог уснуть. Конечно, можно сказать, что все это ерунда, только у меня от нее мурашки по коже бегают, но все это было, а сумасшедшие люди часто не менее опасны, чем мерзавцы, поэтому надеюсь, Вашею честь простит меня за то, что я написал. Буду ждать от вас ответа, а господина Ранульфа заберите отсюда, очень вас прошу.
С надеждой на то, что письмо это попадет к вам так же легко, как и уйдет отсюда, остаюсь смиренным, и покорным слугой Вашей чести
Люк Хэмпен.Господин Натаниэль хотел немедленно вскочить на коня и галопом поскакать к ферме. Однако сделать это было невозможно. Тем не менее он немедленно отрядил одного из конюхов, приказав ему скакать день и ночь с письмом к Люку Хэмпену, с приказанием немедленно перевезти Ранульфа на ферму возле Лунтравы (деревни, лежавшей примерно в пятнадцати милях к северу от Лебедяни-на-Пестрянке) откуда он уже много лет получал свои сыры.
Затем он сел и попытался найти хоть какой-то смысл в таинственном разговоре, подслушанном Люком.
Амброзий имел видение! Таинственный Шеф! След на Млечном Пути!
Реальность начинала терять четкие очертания и приобретала угрожающий вид.
Придется навести справки об этой вдове. Но разве не была она однажды под судом? И господин Натаниэль решил сей же момент ознакомиться с ее делом.
Он унаследовал от отца отличную законоведческую библиотеку; и книжные полки в его трубочной были уставлены переплетенными в велень и старую телячью кожу томами, содержавшими эдикты, кодексы и материалы процессов. Некоторые из них восходили еще к тем временам, когда книгопечатания в Доримаре еще не было, и потому страницы их покрывали сделанные от руки неразборчивые записи городских писцов.
Прошлое становилось более реальным, давно скончавшиеся писцы приобретали знакомые и дружеские лица, когда, перелистывая желтые пергаментные страницы, господин Натаниэль наталкивался на оставленное далеким предшественником высокопарное или юмористическое замечание, как, скажем: «Если есть время суду, то есть время и обеду!» Или же натыкался на карикатурку на давно забытого даже собственными потомками судью.
Однако несравненное удовольствие господину Натаниэлю даровали уголовные процессы минувших лет. Сухой стиль юридической прозы как нельзя лучше подходил для повествования. И мелкие подробности повседневной жизни, объекты обихода обретали удивительную яркость, когда, подобно алым гераням, просвечивающим сквозь густой осенний туман, выглядывали из серого слога… такие яркие и зачастую связанные с весьма трагическими событиями.
Уже проглядев оглавление, он с величайшим удивлением обнаружил, что дело вдовы Тарабар придется искать среди уголовных процессов. Более того, связанных с убийством.
Но ведь Эндимион Лер заверил его, когда уговаривал отослать Ранульфа на ферму, что речь шла о деле совсем пустяковом: невыплата заработанных денег уволенному слуге.
Действительно, истец, батрак по имени Рой Карп, был уволен покойным фермером Тарабаром. Однако обвинял он вдову в том, что она отравила своего мужа соком ивы.
Тем не менее, ознакомившись с делом, господин Натаниэль обнаружил, что полностью согласен с решением судьи, оправдавшего вдову и сделавшего суровый выговор обвинителю за вынесение на суд подозрений против достойной женщины без достаточно веских оснований — тем более что речь шла о столь серьезном преступлении, как отравление.
Однако письмо Люка не шло у него из головы, и он окончательно лишился покоя, с нетерпением ожидая возвращения посланца.
Вечером он долго сидел у камина в гостиной, в сотый раз гадая, кем мог оказаться таинственный незнакомец в плаще, которого Люк видел со спины.
— Нат, а что тебе известно об Эндимионе Лере? — спросила Календула.
— Что мне известно об Эндимионе Лере? — в рассеянности повторил Натаниэль. — Ну, то, что он очень хороший лекарь, что носит безвкусные галстуки, что — если такое вообще возможно — у него еще более безвкусные шутки. И что по какой-то неизвестной причине питает ко мне неприязнь.
Он умолк, а потом пробормотал себе под нос:
— Солнце, Луна и Звезды! А если это…
Люк пишет, что незнакомец сказал, будто боится Шантеклеров.
А Лер — странный тип! В его голосе однажды прозвучала Нота. Откуда он явился? И кто он такой? В городе никто этого не знал.
Следовало также поразмыслить о его наклонностях к антикварному делу. Их считали безвредными и не приносящими никакого дохода. И все же… прошлое мрачно и полно зла, оно все равно что куча гнилой листвы. Прошлое безмолвствует, оно принадлежит Молчаливому народу… Тут дама Календула задала ему следующий вопрос, на первый взгляд не имевший связи с предыдущим:
— В каком году была великая засуха?
Натаниэль ответил, что случилась она ровно сорок лет назад, и с недоумением поинтересовался:
— С чего это ты вдруг спросила об этом, Календула?
Не ответив, она снова задала вопрос:
— А когда Эндимион Лер впервые появился в Доримаре?
Господин Натаниэль задумался. Потом сказал:
— Уж точно задолго до нашей свадьбы. Да, вспомнил, мы обращались к нему за консультацией, когда моя мать болела воспалением легких, а это было как раз после его появления здесь, потому что тогда он еще не совсем хорошо владел доримарским языком… должно быть, это случилось тридцать лет назад.
— Вот как, — сухо молвила Календула. — А мне стало известно, что он уже находился в Доримаре во время засухи.
И она пересказала ему свой разговор с мисс Примулой.
— Потом, — добавила она, — у меня возникла другая идея.
И Календула поведала мужу о панели в Ратуше, за которой угадывалась пустота, и о том, что рассказывал ей стражник об Эндимионе Лере, выстукивавшем стены, словно дятел.
— Возможно, что в порядке мести за нашу к нему холодность и отчасти из любви к власти, — продолжила она, — именно он и стоит за этим ужасным делом, а потайной ход очень удобен для контрабанды, и если он существует, все принятые тобой меры напрасны. А кто может знать о существовании тайного хода в Ратуше лучше, чем Эндимион Лер!
— Солнце, Луна и Звезды! — взволнованно воскликнул господин Натаниэль. — Я ничуть не удивлюсь, если ты окажешься права, Календула, у тебя на плечах действительно голова, а не кочан капусты!
Календула удовлетворенно улыбнулась. Господин Натаниэль вскочил с кресла.
— Бегу к Амброзию! — воскликнул он. — Надо все ему рассказать.
Но сумеет ли он убедить тугодума и упрямца Амброзия? Одних подозрений тут недостаточно.
И все же следует хотя бы попытаться.
— Амброзий, тебе когда-либо являлся бесплотный облик герцога Обри? — возопил он, ворвавшись в трубочную своего друга.
Амброзий нахмурился.
— На что это ты намекаешь, Нат? — спросил он ворчливым тоном.
— Отвечай на вопрос. Я не разыгрываю тебя, я говорю серьезно. Было ли тебе когда-нибудь видение герцога Обри?
Амброзий неловко шевельнулся в кресле. Ему не хотелось об этом вспоминать. Гордиться тут было нечем.
— Ну, — проговорил он без особого энтузиазма. — Наверно, это можно и так назвать. Это случилось в Академии — в тот день, когда убежала моя несчастная девчонка; я был до того расстроен, что мне могло померещиться все, что угодно.
— А ты кому-нибудь рассказывал об этом?
— Ну уж нет! — возмутился господин Амброзий, но тут же спохватился: — Упомянул об этом в разговоре с презренной маленькой жабой, Эндимионом Лером. И очень сожалею об этом. Жареный сыр! Но что случилось, Нат?
Господин Натаниэль едва не запрыгал от восторга.
— Я оказался прав! Я оказался прав! — радостно закричал он.
— Гм! Ну и чему же ты радуешься? — молвил господин Амброзий.
— Разве ты ничего не понял, Амброзий! — нетерпеливо воскликнул господин Натаниэль. — Таинственный незнакомец это и был Эндимион Лер. Потому что никто больше не знает о твоем видении.
— Ты прав, Нат, но прости меня, я действительно не понимаю, каким образом этот факт может нам помочь.
И тут Натаниэль рассказал другу о теориях и открытиях дамы Календулы.
Амброзий побурчал, пофыркал, помянул женский ум и склонность к опрометчивым заключениям. Однако на самом деле сообщение Натаниэля произвело на него более глубокое впечатление. Во всяком случае, он дал согласие отправиться вечером в Ратушу и обследовать полую панель. Со своей стороны, господин Амброзий делал эх им великую уступку, потому что подобные эскапады никоим образом не совмещались с его достоинством.
— Ура, Амброзий! — выкрикнул Натаниэль. — И я готов поставить головку своего сыра из Лунтравы против бутылки твоего янтарного цветка, что за всем этим мы обнаружим руку этого мерзкого лекаришки!
— Нат, ты всегда был мастером заключать выгодные сделки, — заметил Амброзий с кислым смешком. — Не помнишь, как в детстве выменял у меня породистого щенка на чучело фазана, изъеденное молью? Да, еще полпакета слипшихся конфет…
— На сломанную музыкальную шкатулку, которая начинала невыносимо врать прямо посреди «Вперед, отечества сыны, доримарцы удалые…», жужжать и скрипеть, как пьяный майский жук, — с гордостью продолжил Натаниэль. — Сделка была совершенно честной — количество за качество.
Глава XIII Что Натаниэль и Амброзий обнаружили в Ратуше
Господин Натаниэль находился в слишком большом беспокойстве и тревоге, чтобы отправиться исследовать Ратушу до возвращения конюха, которого он отправил с письмом к Люку Хэмпену.
Однако тот, по всей видимости, скакал денно и нощно, поскольку вернулся в Луд за невероятно короткий срок.
Натаниэль, конечно, был восхищен полученным посланием, хотя не сумел выпытать у парня, каково его впечатление о Ранульфе. Впрочем, главное, что мальчик хорошо себя чувствует и счастлив. А о подробностях конюх не стал распространяться, видимо, постеснялся хозяина.
В действительности конюх и не приблизился к ферме вдовы Тарабар.
Он познакомился в придорожной таверне с рыжеволосым юношей, угостившим его несколькими бокалами хмельного вина, в результате чего провел всю ночь и значительную часть следующего дня в глубоком сне на полу таверны.
Проснувшись, он с ужасом обнаружил, что не выполнил поручения. Но тут владелец гостиницы передал ему письмо от рыжего парня, который его опоил. Парень сообщил, что непременно доставит письмо адресату — еще быстрее, чем это сделал бы сам гонец.
Конюх ощутил огромное облегчение. Он нанялся на конюшню к господину Натаниэлю совсем недавно, после Иванова дня.
Поэтому господин Натаниэль встретился с господином Амброзием в ночь полнолуния перед великолепными резными дверями Ратуши с сердцем, свободным от всех страхов за Ранульфа, и жаждал приключений, как настоящий школьник.
— Знаешь, Амброзий, — прошептал он, — мне кажется, мы оба снова стали мальчишками и собрались залезть в чужой сад.
Амброзий фыркнул. Он самым решительным образом был настроен на выполнение собственного долга, однако считал, что это не имеет ничего общего с мальчишеской выходкой.
Огромные двери, скрипнув, повернулись на петлях. Бесшумно притворив их, оба достойных мужа на цыпочках поднялись по винтовой лестнице и двинулись по упомянутому Календулой коридору.
В царившей вокруг темноте светили лишь лучики двух фонарей, которые они держали в руках.
Дом, обставленный старинной мебелью, не нуждается в других призраках. Господин Натаниэль, как известно, был крайне чувствителен к безмолвным предметам — звездам, домам, деревьям; и нередко, находясь в собственной трубочной, зажигал свечи и сидел, разглядывая книжные полки, кресла, портрет отца и даже стоявший в углу красный зонт с таким трепетом, как если бы взирал на звезды.
Однако в ту ночь наличие молчаливых резных панелей, старинных гобеленов и всего остального влияло даже на невозмутимого господина Амброзия. Все это влекло его к себе словно магнитом.
Если бы они могли заговорить или шевельнуться — эти безмолвные предметы!
И тут господин Натаниэль замер на месте.
— По-моему, мы находимся сейчас примерно там, где Календула обнаружила пустоту за панелью, — прошептал он, осторожно простукивая деревянную обшивку стен.
Уже через несколько мгновений он проговорил взволнованным шепотом:
— Амброзий! Амброзий! Это здесь. Послушай! Гремит как барабан.
— Исстрадавшиеся Кошки! По-моему, ты прав, — ответил ему тоже шепотом господин Амброзий, волнение Натаниэля невольно передалось и ему.
Наконец панель, поддавшись, отъехала вбок, и при свете фонарей они увидели винтовую лестницу.
Пару секунд оба с торжествующим видом обменивались взглядами. Потом Натаниэль с усмешкой проговорил:
— Ну, вот, пора забрасывать ведерко в колодец! И хорошо бы вытащить из него не старый башмак или гнилой каштан, а что-нибудь получше!
С этими словами Натаниэль стал спускаться с лестницы, Амброзий с отважным видом последовал за ним.
Лестница спускалась все ниже и ниже, казалось, в самые недра земли. Наконец они попали в помещение, похожее на длинный тоннель.
— Ату его! Ату его! — нашептывал со смехом Натаниэль, радуясь приключению. — А теперь давай-ка галопом, Брози! Может быть, выйдем на открытую лужайку к пасущемуся оленю!
И, ткнув приятеля кулаком в ребра, добавил:
— Думаю, это веселее, чем ловить моль, согласен?
Тем не менее пробирались они по тоннелю осторожно ощупывая ногой почву.
Прошло довольно много времени, прежде чем господин Натаниэль остановился и шепнул через плечо:
— Пришли. Здесь дверь… запертая, разрази ее громом на веки вечные!
Охваченный гневом, он принялся колотить и пинать дверь как безумный.
И тут услышал пронзительный женский голос, потребовавший назвать пароль.
— Пароль? — взревел в ответ Натаниэль. — Именем Солнца, Луны и Звезд, Золотыми Яблоками Заката, какой еще…
Но не успел он договорить, как дверь отворилась, и оба приятеля оказались в невысокой квадратной комнатке, освещенной всего одной лампой, свисавшей на цепи с потолка. Правда, в этом не было необходимости, ибо от висевших на стенах чудесных гобеленов исходил яркий свет.
Джентльмены онемели от изумления. Таких гобеленов они еще не видели. Откуда такая голубизна и зелень и такой нежный розовый цвет! В какие же краски окунали эти шелка?
Рисунки на гобеленах были знакомы каждому доримариту — сцены охоты, преследуемые луной беглецы, пастухи и пастушки, ухаживающие за лазурными овцами. И все же, благодаря удивительным краскам, они казались угольками прошлого, вдруг вспыхнувшего огнем. Какой-то миг! И люди минувшего века — мужчины и женщины, — шумные, разодетые, важные, выплескивались на улицы, гоня перед собой живых, как сухую листву.
Но что это грудами лежит на полу? Огромные жемчужины и сапфиры, невероятной величины рубины? Или сброшенные ветром плоды, удивительные плоды, осыпавшиеся с изображенных на гобеленах деревьев?
Как только глаза привыкли к этому блеску, мужчины стали приходить в себя; они могли поклясться, что перед ними плоды фейри.
К удивлению Натаниэля и Амброзия, хранительницей странного сокровища оказалась хорошо знакомая им мамаша Тиббс.
Чистые, детские глаза, светившиеся на ее морщинистом, обветренном лице, взирали на них с кротким недоумением.
— Ну, если это не господин Гиацинт и не господин Джосайя, — воскликнула она с веселым, молодым смехом, — то кто еще может знать пароль!
Она внимательно вгляделась в их лица:
— Хорошо ли носятся ваши чулки? А то последняя пара никак не хотела намыливаться. Топать по Млечному Пути и забредать за край Луны не полезно для чулок.
Очевидно, она принимала обоих за их собственных отцов. Тем временем господин Амброзий набрал в грудь воздуха, что было непреложным доказательством для всякого, кто знал его по заседаниям Суда, что этот почтенный муж намеревается разразиться обличением.
Однако Натаниэль осадил его, ткнув кулаком ребра, и сердечным тоном обратился к хозяйке:
— Благодарю вас, и чулки наши, и башмаки еще не сносились. Значит, вы не думали, что мы знаем пароль, так? Ну-ну, возможно, нам известно куда больше, чем вы предполагаете. — И он шепнул Амброзию:
— Ради Кормы Моей Внучатой Тети, Амброзий, скажи мне, каким был этот самый пароль?
И снова повернулся к мамаше Тиббс, она слегка покачивала бедрами, словно намереваясь пуститься в джигу под слышную только ей самой музыку.
— Здесь превосходные гобелены! Ничего прекраснее я не видел!
Та улыбнулась и, подойдя поближе к нему, негромко проговорила:
— А знает ли Ваша честь, почему они так красивы? Нет? Потому что это плоды фейри! — И в подтверждение сказанного она несколько раз кивнула.
Охваченный гневом господин Амброзий негромко рыкнул, но господин Натаниэль предостерегающе посмотрел на него и проговорил:
— Конечно! Конечно! И откуда же, позвольте спросить, берутся эти… э… плоды?
Женщина весело рассмеялась:
— О, их доставляют благородные молодые люди! Красивые джентльмены в зеленой одежде, препоясанной лентами, на рассвете они покидают свои корабли, приплывшие под алыми парусами, чтобы есть золотые абрикосы, когда весь Луд крепко спит! И тогда петух кричит: «Кукареку! Кукареку! Кукарекуууу!»
И ее голос унесся в неведомые края, далекий и одинокий.
— Скажу тебе еще кое-что, господин Нат Петушок, — продолжила она, приблизившись к нему с таинственной улыбкой, — скоро ты окажешься мертвым!
Она отступила, улыбаясь и приветливо кивая, словно желая сказать: «Какой хороший подарок я сделала тебе! Береги его».
— А что касается мамаши Тиббс, — продолжила она торжествующим тоном, — то она скоро станет благородной леди, такой же, как жены сенаторов, и будет всю ночь танцевать под Луной! Так обещали ей эти джентльмены.
Господин Амброзий нетерпеливо фыркнул, но господин Натаниэль проговорил с добрым смешком:
— Почему это вы вдруг решили, что жены сенаторов проводят свое время подобным образом, а? Думаю, у них находятся и другие дела. А не кажется ли вам, что вы слишком стары для танцев?
Налицо женщины набежала легкая тень. Но она тут же тряхнула головой и воскликнула:
— Нет! Нет! Пока пляшет мое сердце, танцуют и ноги. А когда возвратится герцог, никто не будет стареть.
Амброзий не выдержал:
— Вот что, — сурово воскликнул он, — хотя с головой, моя добрая женщина, у тебя явно не все в порядке, как бы не пришлось тебе скоро плясать под другой мотив. Если только ты немедленно не скажешь нам, как зовут этих самых джентльменов, кто именно поставил тебя здесь на страже, кто доставляет сюда мерзкие плоды и кто уносит их отсюда, мы… мы перережем струны той самой скрипки, под которую ты танцуешь!
В угрозе этой отразилось подсознательное эхо последних слов, произнесенных его Луноцветой. Однако его слова произвели немедленное воздействие.
— Перережете струны скрипки! Перережете струны скрипки! — простонала она и жалобным тоном добавила: — Нет-нет, добрый господин, вы этого не сделаете! Неужели он так поступит?
Она с мольбой повернулась к господину Натаниэлю:
— Ведь это все равно что отобрать у бедняка землянику. Сенаторы едят персики, жареных лебедей и фазаньи сердца, они ездят в нарядных экипажах и спят на пуховых перинах до середины дня. Ау бедняка есть только черный хлеб, печеные бобы и его работа. Но летом он может собирать землянику и плясать под веселый мотив. Нет-нет, скажите же, что никогда не перережете струны скрипки!
К горлу господина Натаниэля подступил комок. Однако господин Амброзий не унимался.
— Надо же, что выдумала! — бушевал он. — Я перережу в нашем городе струны всех скрипок, не сомневайся, если ты нам не скажешь то, что мы хотели бы знать. Вот что, мамаша Тиббс, говори — ты знаешь, что я человек слова.
Женщина с мольбой посмотрела на сенатора, и в глазах ее блеснула хитринка. Приложив палец к губам, она несколько раз кивнула и прошептала:
— Обещайте мне не перерезать струны скрипки и я покажу вам самое прекрасное зрелище в мире — как крепкие парни с Грамматических полей с собственными гробами на плечах танцуют над маргаритками. Пойдемте за мной!
Она бросилась к боковой стене и отодвинула гобелен, за которым оказалась еще одна потайная дверь. Мамаша Тиббс нажала на какую-то пружинку, дверь распахнулась, и появился следующий потайной ход.
— Следуйте за мной, добрые господа! — воскликнула она.
— Делать нечего, — прошептал господин Натаниэль, — придется потешить ее. Что, если она покажет нам нечто ценное.
Амброзий что-то буркнул про парочку сумасшедших и о том, что не стоит ночью далеко отходить от собственного камина, чтобы развлечься своими безумными выдумками, однако же последовал за Натаниэлем, и вторая потайная дверь захлопнулась за ними.
Мужчины пыхтели, едва поспевая за своей легконогой проводницей.
Потом началась лестница, казавшаяся бесконечной, наконец они по очереди повалились, обо что-то споткнувшись, и за спинами их снова звякнул замок. Стеная, бранясь и потирая колени, оба достойных магистрата сердито потребовали у мамаши Тиббс честно признаться, в какое еще нечестивое место она привела их.
Та радостно захлопала в ладоши:
— Разве вы сами не знаете, благородные господа? Мы сейчас там, где отдыхают мертвые петушки! Вы вернулись в свой родной и уютный дом, господин Джосайя Шантеклер. Поднимите-ка повыше свой фонарик и оглядитесь.
Натаниэль огляделся, и его осенило.
— Клянусь Золотыми Яблоками Заката, Амброзий, — воскликнул он, — мы попали в мою собственную семейную часовню!
— Поджаренный сыр! — в смятении пробормотал Амброзий.
— Значит, здесь есть две двери, — заметил Натаниэль. — Потайная выводит на эту спрятанную внизу лестницу. Выходит, кое-кто в городе знает о моей часовне больше, чем я сам.
И тут вдруг он вспомнил, что однажды видел дверь в часовню распахнутой настежь.
Мамаша Тиббс посмеялась их удивлению, а потом, приложив палец к губам, поманила за собой. И на цыпочках они последовали за ней по озаренным светом Луны Грамматическим полям, где она жестом пригласила их спрятаться за стволом толстого сикомора.
Капельки росы были разбросаны по травянистой лужайке. Мраморные изваяния усопших, казалось, обменивались улыбками под лучами полной Луны; неподалеку от сикомора двое мужчин разрывали свежую могилу. В ушах одного из них, крепкого парня, поблескивали матросские золотые сережки, его напарником оказался Эндимион Лер.
Натаниэль бросил торжествующий взгляд на господина Амброзия и прошептал:
— С тебя бочонок янтарного цветка, Брози!
Какое-то время парни молча копали, после чего подняли наверх три больших гроба и поставили их на траву.
— Надо бы приглядеть, Себастьян, — проговорил Эндимион Лер, — чтобы весь товар попал по назначению. Мы имеем дело с привередливыми покупателями.
Тот, кого звали Себастьяном, ухмыльнулся и, достав складной нож, принялся открывать один из гробов.
Едва он вставил нож между крышкой и гробом, Натаниэль и Амброзий невольно поежились; мамаша Тиббс, к их ужасу, закрыла глаза и стала вдыхать распространившееся в воздухе благовоние.
Когда крышку наконец сняли, Натаниэль и Амброзий не увидели ничего особенного, если не считать плотно уложенных плодов фейри.
— Жареный сыр! — пробормотал господин Амброзий.
— Грудастая Бриджит! — молвил господин Натаниэль.
— Да товар, что надо, — сказал Эндимион Лер, — два других можно не вскрывать. Закрой его и взвали мне на плечо, а сам следуй за мной с двумя остальными — отнесем прямо в комнату с гобеленами. На полночь там назначен совет.
Выбрав мгновение, когда оба контрабандиста повернулись к ней спиной, мамаша Тиббс вылетела из-за сикомора и стрелой метнулась в часовню, явно опасаясь того, что ее не застанут на посту. Эндимион Лер и его напарник последовали за ней.
Сперва Натаниэль и Амброзий испытывали слишком сложные чувства, чтобы их можно было выразить словами, и только глядели друг на друга округлившимися от удивления глазами. Потом губы Натаниэля растянулись в улыбке.
— Итак, Брози, на этот раз ты остался без лунтравского сыра, — проговорил он. — Кто из нас был прав, ты или я?
— Ты, Нат, клянусь Млечным Путем! — немедленно отозвался господин Амброзий с волнением в голосе. — Негодяй! Негодяй и мошенник! Итак, дело его рук; это его мы, родители, должны благодарить за случившееся! Но он отправится за это на виселицу, пусть нам придется ради этого пересмотреть всю конституцию Доримара! Каков мерзавец!
— Провозят в город на катафалке, — задумчиво проговорил Натаниэль, — закапывают здесь, а потом через мою часовню доставляют в потайную комнату под Ратушей, а оттуда, как нетрудно предположить, раздают небольшими порциями. Теперь понятно, как эти плоды попадают в Луд. Остается выяснить, каким образом им удается обойти заставу наших йоменов на границе. Но что это с тобой, Амброзий?
Дело в том, что господин Амброзий буквально сотрясался от хохота, а его было трудно рассмешить.
— А мертвые кровоточат? — повторял он между взрывами смеха. — А что, Нат, лучшей шутки я не слышал лет двадцать!
Перестав смеяться, он поведал Натаниэлю о красном соке, который сочился из гроба и который он принял за кровь, и о том, как до смерти перепугал Эндимиона Лера, когда спросил его об этом.
Амброзий снова стал хохотать.
Однако господин Натаниэль только рассеянно улыбнулся в ответ; сама идея того, что мертвые могут истекать кровью, напоминала нечто, о чем он недавно читал или слышал, однако в данный момент никак не мог припомнить, где и как это было.
Окончательно успокоившись, Амброзий сказал:
— Давай поспешим, нельзя терять ни мгновения. Возьмем Немченса и его людей и вернемся в комнату с гобеленами, чтобы застать их на месте преступления.
— Ты прав, Амброзий! Ты прав! — воскликнул господин Натаниэль, и оба припустились трусцой сперва к воротам, а потом вниз по склону холма к спящему городу.
Поднять Немченса и воспламенить его собственным энтузиазмом им удалось без труда. После того, как они вкратце рассказали ему о своем открытии, уважение Немченса к Сенату подскочило буквально в одно мгновение, хотя он ушам своим не верил, услышав о том, какую роль во всей этой истории играл Эндимион Лер.
— А я-то! А я-то! — корил он себя. — А я-то всегда так уважал доктора!
Дело в том, что Эндимиону Леру в течение последних нескольких месяцев пришлось выслушивать жалобы Немченса на вялость и неэффективность действий Сената; кроме того, почтенный доктор успел посеять в голове доброго капитана самые зловещие подозрения в отношении господина Натаниэля. И теперь он испытывал угрызения совести, вызванные неверностью своему непосредственному начальнику — мэру.
— Очень хорошо, Ваша честь! — вскричал он. — Сегодня ночью дежурят Зелен и Лист. Сейчас вызову их из караулки, и тогда мы сумеем разделаться с негодяями.
Когда часы на колокольне вызванивали полночь, все пятеро осторожно пробирались по коридорам Ратуши. Полую панель они обнаружили без труда и, нажав на пружину, проникли в тайный ход.
— Амброзий, — торопливо прошептал Натаниэль, — что именно я сказал такого, что оказалось паролем? Я начисто забыл это за всеми треволнениями.
Амброзий покачал головой.
— Не имею ни малейшего представления, — ответил он также шепотом. — Говоря по правде, я совершенно не понял того, что она говорила насчет пароля. Помню только, что ты сказал «Жареный сыр!» или «Грудастая Бриджит» или что-то в этом роде.
Когда они оказались возле двери, она была закрыта изнутри, как и прежде.
— Вот что, Немченс, — в смущении проговорил господин Натаниэль. — Мы не можем вспомнить пароль, и они не откроют нам.
Немченс пренебрежительно улыбнулся:
— Ваша честь может не опасаться на этот счет. Полагаю, что мне известно другое слово, которое подойдет ничуть не хуже… так, Зелен и Лист? Но может быть — для порядка, — Ваша честь постучит и прикажет им отворить?
Натаниэль ощутил разочарование. С одной стороны, любимый им принцип экономии нарушался тем, что предстояло прибегнуть к драматическим мерам, когда нужного результата можно было достигнуть при минимальных затратах энергии. К тому же ему так хотелось продемонстрировать свой новый маленький фокус! Поэтому, скорбно вздохнув, он громко постучал в дверь и вскричал:
— Именем Закона, открывайте!
Слова эти, естественным образом, не вызвали никакой реакции, у Немченса был свой пароль. Все пятеро навалились на дверь.
Дверь скрипнула, послышался треск, и они наконец вломились в… пустую комнату. На полу не было никаких странных плодов, а на стенах висели выцветшие, изрядно побитые молью гобелены. Казалось, сюда никто не входил целый век.
Оправившись от удивления, господин Натаниэль яростно воскликнул:
— Значит, они заметили нас и улепетнули, прихватив с собой весь запас мерзких плодов, и я…
— Ваша честь, здесь не было никаких плодов, — перебил его Немченс. — От них всегда остаются пятна сока, а здесь их нет.
И он не отказал себе в удовольствии добавить, подмигнув Зелену и Листу:
— Смею сказать, что так получилось оттого, что Ваша честь забыли пароль!
Зелен и Лист ухмыльнулись от уха до уха.
Господин Натаниэль был чересчур озадачен, чтобы обратить на это внимание, но господин Амброзий, всегда ревниво следивший за сохранением достоинства в любой ситуации, бросил на Немченса испепеляющий взгляд, и тот сразу сник.
Глава XIV Мертвый с точки зрения Закона
На следующее утро господин Натаниэль проснулся поздно и встал с левой ноги, что, учитывая события прошлой ночи, было неудивительно. Общую ситуацию только ухудшила Календула, явившаяся к нему во время утреннего туалета, чтобы обвинить в том, что он курил свою зеленую махорку по всему дому, а не в своей трубочной.
— И ведь ты, Нат, прекрасно знаешь, как это мне неприятно! У меня голова кружится прямо с утра, весь дом пропах твоим табаком… Вот что, Нат! Ты просто старый негодяй! — И она погрозила ему пальцем, чтобы смягчить резкость тона.
— Ну, хотя бы один раз ты ошиблась, — отрезал господин Натаниэль. — Я не курил махорку даже в своей трубочной уже целую неделю — вот так! Честное слово, Календула, твой нос становится такой докукой, что уж лучше бы ты, как лошадь, держала его в торбе!
Хотя господин Натаниэль и пребывал в дурном настроении, ночные события совсем не обескуражили его.
Запершись в трубочной, он принялся энергично писать и уделил этому делу около четверти часа; а потом принялся расхаживать взад и вперед, стараясь запомнить написанное.
Когда он отправился на заседание Сената, то был настолько поглощен предстоящей речью, что, находясь в комнате отдыха, не заметил странных взглядов, которые бросали на него коллеги.
Как только господин Натаниэль заговорил, все поняли, что речь пойдет о чем-то очень важном, и обратились в слух.
— Сенаторы доримарские! Сегодня я намереваюсь просить вас восстать от сна. Мы дремали много веков, и Закон баюкал нас своими колыбельными песнями. Многие из нас недавно перенесли тяжелые потери. Ослабили они нас? Думаю, нет. Однако настало время взглянуть фактам в лицо, даже если факты эти странным образом сходны с мечтами и фантазиями. Друзья мои, древние враги нашей страны вновь угрожают нам. Предания говорят, что фейри (он без запинки произнес это жуткое слово) боятся железа; и мы, потомки купцов и воинов, должны были удержать в своих жилах капельку этого металла. Настало время доказать это. Иначе мы можем потерять все, что делает жизнь приятной и благополучной — смех, крепкий сон, радость домашнего очага, мирный покой садов. И если мы не сумеем передать все это нашим детям, кто сделает это за нас? А значит, нам, как отцам и гражданам, надлежит раз и навсегда искоренить угрозу, чьи корни уходят в прошлое, а ветви затеняют наше будущее. Вдвоем с одним из наших коллег мне наконец удалось выяснить, кто навлек недавнее горе и позор на головы столь многих из нас. Опасаюсь, что нам трудно будет доказать вину этого человека, поскольку он хитроумен, скрытен и насмешлив, и главным оружием и его самого, и невидимых союзников этого преступника является иллюзия. И я прошу вас всех отражать удары этого оружия верой и верностью, которые научат вас воспринимать слова ваших старинных и верных друзей как образец истины. И потом… мне иногда кажется, что на том, кто обманывает других, лежит меньше вины, чем на том, кто обманывает себя самого. Так что долой эти неуклюжие юридические ухищрения! Давайте называть вещи своими именами — не шелковой нитью или кистями, но плодами фейри. И если будет доказано, что какой-то человек доставил подобный товар в Доримар, этого преступника следует отправить на виселицу.
Закончив, господин Натаниэль опустился на свое место.
Однако где тот шквал аплодисментов, который, как он ожидал, разразится следом за последним его словом? Где слезы, где расспросы, где признаки глубокого душевного волнения?
Если не считать возмущенного: «Браво!» — сошедшего с уст Амброзия, речь его была встречена полным молчанием. Натаниэля окружали мрачные, ожесточившиеся лица, стиснутые губы и хмурые лбы, если не считать герцога Обри — тот, как обычно, чуть улыбался со своего портрета.
Тут поднялся господин Полидор Вигилий.
— Сенаторы Доримара! — начал он. — Те красноречивые слова, которые мы только что услышали из уст Его чести мэра, способны странным образом послужить прелюдией — золотой прелюдией — к моей скудной, свинцовой речи. Я также пришел сюда сегодня утром, чтобы обратить ваше внимание на законотворческие казусы, порой способные принести некоторую пользу. Но прежде, чем я продолжу свою речь, хочу обратиться к Его чести с просьбой разрешить моему клерку зачитать самую старую статью нашего Кодекса. Она содержится в первом томе Актов двадцать пятого года Республики, статут 5, глава 9.
Господин Полидор Вигилий сел на свое место, и собравшиеся начали обмениваться мрачными улыбками, тут же поблекшими и исчезнувшими под насмешливым взглядом портрета герцога Обри.
Натаниэль переглянулся с Амброзием, однако ему пришлось разрешить клерку исполнить поручение господина Полидора.
И клерк приступил к чтению:
— Далее, мы определяем, что ничто, кроме только смерти, не способно сместить со своего поста мэра Луда и Высокого сенешаля Доримара до полного истечения пятилетнего срока его правления. Но если мэр нем, слаб, склонен к измене и любит наряжаться, он может представлять угрозу безопасности доримаритов, и если коллеги сочтут его уличенным в любой из перечисленных слабостей, да будет он объявлен мертвым в глазах Закона и да будет избран на его место другой.
Глава XV «Хо-хо-хо!»
Клерк захлопнул увесистый том, низко поклонился и отправился на свое место. В зале воцарилась зловещая тишина.
Господин Натаниэль наблюдал за происходящим взглядом настолько холодным и трезвым, что само око Закона не могло бы оказаться трезвее и холоднее. Какие иллюзии, какие законоведческие фокусы могли свернуть его сейчас с той широкой и белой дороги, по которой гнала его таинственная сила?
Господин Амброзий вскочил со своего места и свирепым тоном потребовал, чтобы уважаемый сенатор немедленно объяснил высокому собранию мотивы своих грязных инсинуаций. Нисколько не смущаясь, господин Полидор вновь поднялся на ноги и, грозно указуя перстом на господина Натаниэля, сказал:
— Его честь мэр рассказывал нам о человеке хитроумном, насмешливом и скрытном, который навлек на нас недавнее горе и позор. Так вот, человек этот — не кто иной, как сам Его честь мэр.
Амброзий вновь вскочил на ноги и разразился гневными протестами, однако Натаниэль суровым тоном предложил ему замолчать и сесть.
Господин Полидор продолжил:
— Он был нем, когда пришло время говорить, слаб, когда пришло время действовать, склонен к измене, о чем говорят опустевшие дома его друзей. К тому же любит наряжаться, — он иронически улыбнулся, — но что есть желание наряжаться в мужчине, как не чрезмерная любовь к тафте, ниткам и дорогим шелкам? Посему я определяю, что его надлежит считать мертвым в глазах Закона.
Негромкий ропот одобрения пробежал по залу.
— Будет ли он отрицать свою чрезмерную склонность к шелкам?
Господин Натаниэль поклонился в знак того, что будет отрицать таковую склонность.
Господин Полидор спросил, желает ли он в таком случае, чтобы дом его обыскали. Господин Натаниэль вновь поклонился.
Прямо сейчас?
И Натаниэль поклонился еще раз.
Тогда весь Сенат поднялся, и двадцать сенаторов, не снимая одеяний, цепочкой вышли из Ратуши и попарно отправились к дому господина Натаниэля.
По пути к процессии приклеился не кто иной, как сам Эндимион Лер. Тут господин Амброзий полностью потерял терпение и захотел узнать, почему этот двуличный негодяй, этот бесстыдный сын фейри сует свой мерзкий нос в государственные дела! Однако господин Натаниэль нетерпеливо воскликнул:
— Ах, оставь его, Амброзий, пусть идет, если хочет. Тем веселее будет!
Можете себе представить, с каким выражением лица Календула несколько минут спустя выслушала просьбу своего брата, за чьей спиной столпились сенаторы, передать ему все ключи от дома.
И они приступили к тщательному обыску, осмотрев все буфеты, сундуки и бюро. Однако нигде не обнаружили ни ужасного плода, ни пятнышка подозрительного сока.
— Итак, — начал господин Полидор, с облегчением, смешанным с разочарованием, — похоже, наш обыск оказался…
— Бесплодным, так? — встрял Эндимион Лер, окинув взглядом собравшихся и потирая ладони. — Возможно, и так. Вполне возможно.
Они стояли в прихожей, у старых дедушкиных часов, тикавших с невинным видом.
Подойдя к ним, Эндимион Лер принялся их рассматривать, чуть наклонив голову набок. Зачем постучал по сделанному из красного дерева корпусу, напомнив тем самым Календуле дятла, с которым сравнил лекаря охранявший Ратушу стражник.
Отступив на несколько шагов, он с комической укоризной погрозил часам пальцем («Вульгарный фигляр!» — произнес господин Амброзий во всеуслышание), повернулся к господину Полидору и предложил:
— Чтобы не оставалось никаких сомнений, давайте заглянем в эти часы.
Господин Полидор втайне был согласен с господином Амброзием, полагая, что своей шуткой в самый неподходящий момент доктор прискорбным образом проявил дурной вкус и дурное воспитание.
Однако Закон есть Закон, и господин Полидор любезнейшим образом попросил господина Натаниэля предоставить ключ от часов.
Получив его, он открыл корпус. Календула скривилась и поднесла к носу дыхательную соль. Ко всеобщему удивлению, невинные с виду и дурацкие дедушкины часы оказались набитыми невероятным количеством экзотических, странно окрашенных, зловещего вида плодов.
Усыпанные яркими и опасными на взгляд ягодами лозы оплетали маятник и цепочки двух свинцовых грузов; а в самом низу стояла выдолбленная тыква абсолютно немыслимого цвета, наполненная ярко-фиолетовыми виноградными гроздьями, бурыми и мохнатыми фигами, зеленой, словно трава, малиной и другими, еще более странными плодами и ягодами, не имевшими себе подобных среди флоры Доримара.
Ужас и удивление охватили собравшихся. А из часов, или же из каминной трубы, а может, из-за занавесившего окошко плюща, словом, откуда-то поблизости донеслось насмешливое: «Хо-хо-хо!»
Не прошло и нескольких часов, как весь Луд хохотал над итогом, которым обернулась высокопарная речь, произнесенная мэром в Сенате. Вечером толпа сожгла его чучело, а среди тех, кто плясал вокруг костра, были Распутная Бесс и мамаша Тиббс. Впрочем, едва ли мамаша Тиббс понимала, что происходит. Для нее главное было поплясать.
Стало известно, что йомены и их капитан участвовали в вышеупомянутой демонстрации, взирали на нее с благосклонными улыбками.
Среди респектабельных торговцев, издалека наблюдавших за разбушевавшейся толпой, находился часовщик Эбенеезер Прим. Он тем не менее не позволил своим дочерям присутствовать при столь знаменательном событии; и они скучали дома, разогревая ужин для отца и его подмастерья.
Однако Эбенеезер вернулся домой в одиночестве, а Рози и Летиция не решились задавать ему какие бы то ни было вопросы. Вечер неспешно влачился к ночи, Эбенеезер сидел за чтением «Прогулки доброго мэра по Луду» (нравоучительной и невыразимо нудной поэмы, восходящей к начальным временам существования Республики) и время от времени строго поглядывал поверх очков на дочерей. Они сидели с вязанием, перешептывались и то и дело поглядывали на дверь.
Когда наконец они отправились спать, ученик еще не появился, и, оказавшись в своей спальне, девицы вынуждены были признать, что более скучного вечера после появления в доме этого подмастерья, то есть с начала весны, у них еще не было. Оставалось лишь удивляться тому, сколько веселья скрывалось под чопорной внешностью этого молодого человека.
И действительно, насколько разнообразили вечера, проведенные в обществе сухого отца, комические рожи, которые он корчил за спиной сего Добропорядочного джентльмена! А уж как было здорово, когда с губ его вдруг срывалось пронзительное хо-хо-хо, немедленно превращавшееся в самое приторно-благочестивое выражение. Кроме того, он, казалось, располагал неистощимым запасом загадок и смешных песенок, а изобретательности и разнообразию его розыгрышей практически не было конца.
С самого раннего детства обе мисс Прим мечтали обзавестись обезьянкой или какаду, подругам их привозили из дальних плаваний братья и кузены, но отец категорически отказывался держать в доме такое создание. Однако его новый ученик оказался куда более забавнее, чем любая мартышка или какаду с Коричных островов.
На следующее утро, когда упомянутый молодой человек не спустился к раннему завтраку, состоявшему из рулета и бокала домашней настойки, девицы заглянули в его комнату и обнаружили в ней нетронутую постель, на полу лежал брошенный за ненадобностью аккуратный черный парик. Молодой человек так и не вернулся за ним. И когда девушки попытались робко спросить у отца о том, что произошло с подмастерьем, Эбенеезер самым строгим тоном запретил им когда-либо упоминать его имя и добавил, загадочно покачав головой:
— Мне давно казалось, что этот юноша не тот, за кого выдает себя. — И со вздохом сожаления добавил: — У меня никогда еще не было ученика с такими удивительно умелыми пальцами.
Ну, а господин Натаниэль во время сожжения его чучела на рыночной площади благополучно сидел в собственной трубочной, погрузившись в чтение увесистого фолианта.
Он вдруг вспомнил, что именно в материалах по делу вдовы Тарабар видел нечто связанное с шуткой господина Амброзия относительно кровоточащих покойников, и теперь перечитывал протоколы. И пока он читал, цвета его умственного ландшафта постепенно менялись, как меняются краски естественного пейзажа в зависимости от положения Солнца. Но если мир перед тобой прорезает белая дорога, она остается белой, даже если на небе вместо Солнца светит Луна. А таковая дорога по-прежнему простиралась перед умственным взором господина Натаниэля.
Глава XVI Процесс по делу вдовы Тарабар
На следующий день, при всем столь любезном Закону маскараде, сенат провозгласил господина Натаниэля мертвым. С него сняли соответствующие посту облачения, которые были водружены на господина Полидора Вигилия, нового мэра. Самого же господина Натаниэля, облаченного в саван и уложенного на носилки, отнесли домой четыре сенатора, в то время как высыпавшее на улицы население сопровождало ложный траур кошачьими воплями и победными криками.
После завершения унизительной церемонии, когда кипящий гневом господин Амброзий явился, чтобы навестить друга, перед ним предстал весьма жизнерадостный покойник, приветствовавший его шлепком по спине и возгласом:
— Брози, жизнь никогда не прекращается! Хочу показать тебе одну интересную вещь.
И господин Натаниэль протянул другу открытый фолиант.
— Что это? — спросил господин Амброзий.
И с ноткой торжественности в голосе господин Натаниэль ответил:.
— Это Закон, Амброзий, в тех гомеопатических дозах, в которых его нашли полезным наши отцы. Садись и прочти все до конца.
Господин Амброзий знал, что когда Нат одержим какой-нибудь идеей, спорить с ним бесполезно. К тому же его разбирало любопытство, поскольку он давно понял, что под мимолетными настроениями Ната иногда кроются тонкие и полезные откровения интуиции. И потому, повинуясь силе привычки, что-то пробурчав насчет того, что сейчас не время для всякого вздора, он принялся читать книгу с того самого места, на котором ее оставил открытой господин Натаниэль, а именно с отчета о суде над вдовой Тарабар, обвинявшейся в убийстве мужа.
Обвинителем, как мы уже знаем, был работник по имени Рой Карп, которого нанял покойный фермер еще при жизни. Работник утверждал, что хозяин уволил его после уборки урожая, когда не легко найти работу.
Причина увольнения осталась неназванной, поэтому Рой отправился к самому фермеру, которого знал как доброго и справедливого хозяина, чтобы умолить того не увольнять Роя. Фермер признался, что причин для увольнения нет, если не считать того, что хозяйка невзлюбила Роя.
— Женщины вообще тонкая скотинка, Рой, — сказал он с виноватой улыбкой, — их лучше ублажать. Хотя тому, кого они невзлюбят, приходится несладко. Поэтому для всех будет лучше, если ты оставишь мою ферму, Рой.
Фермер наградил работника лишней горстью флоринов и сказал, что тот может взять из кладовки мешок чечевицы, только втайне от хозяйки.
Рой догадывался, почему хозяйка хочет от него отделаться. Вторая жена фермера, она была почти девчонкой, и скорее годилась своей падчерице в старшие сестры, чем в мачехи, однако ума и рассудительности ей было не занимать. Рой знал, что у нее есть любовник, и однажды вечером застал ее в саду в объятиях молодого иностранца Кристофера Месоглина — ботаника, объявившегося в окрестностях фермы как раз перед великой засухой.
— С тех пор, — показал на допросе Рой, — она все время придиралась ко мне и хотела побыстрее избавиться.
В общем, сам он и его жена и дети лишились крова.
В первую ночь заночевали в поле, и когда разгорелся костер, Рой развязал мешок, который с позволения фермера прихватил из амбара, чтобы сварить на ужин суп из чечевицы. Но вместо чечевицы в мешке оказались плоды, к которым Рой Карп, как житель западных краев, родившийся и выросший у Эльфовых переходов, не посмел бы прикоснуться сам и не позволил бы сделать этого жене и детям. В мешке оказались плоды фейри. Рой зарыл их в поле, поскольку слышал, что из них получается отменное удобрение.
Примерно неделю они бродили по окрестностям, питаясь одним подаянием. Иногда Рою удавалось кое-что заработать, исполняя всякие мелкие работенки для фермеров или играя на скрипке на деревенских свадьбах, поскольку был известным скрипачом.
Однако с приближением зимы жить становилось труднее, и его жена стала подумывать о том, чтобы снова заняться плетением корзин, каковому ремеслу научилась еще в юности. И как только они остановились на ночь в месте, где росли подходящие для этого кусты, решила проверить, сохранили ли ее пальцы прежнюю ловкость. Поскольку сок ивовых кустов ядовит, она не позволяла детям помогать ей в ее ремесле.
Итак, она занялась плетением коробов, в которых жены фермеров зимой хранили зерно, а также изящных корзинок — их деревенские парни дарили своим милкам, чтобы те держали в них ленты и безделушки. Дети распродавали их по деревням, и теперь им удавалось сводить концы с концами.
На следующее лето, как раз перед самой жатвой, старшая из дочерей Роя отправилась в Лебедянь, чтобы попытаться продать несколько корзин. Там она встретила жену фермера и попросила взглянуть на ее товар, надеясь, что та не признает в ней дочь Роя, потому что нанималась на другую ферму, пока отец ее работал у Тарабаров.
Обвиняемой корзины понравились, она купила две или три штуки и разговорилась с девушкой о плетении корзин, узнав из разговора о том, что наиболее пригодные для этого дела прутья ивы весьма ядовиты. Наконец, она попросила девушку принести ей охапку тех самых прутьев, о которых шла речь, сославшись на то, что плетением корзин сможет вносить приятное разнообразие в собственный вечерний труд, пока что заключавшийся в неизменном сидении за прялкой. Через несколько дней девушка принесла ей связку, и жена фермера ей щедро заплатила.
Но вскоре пришло известие о том, что фермер Тарабар скончался среди ночи, но не своей смертью. Старинный обычай требовал, чтобы, когда в доме приключалась внезапная смерть, все домашние прошли мимо усопшего. На самом деле это было нечто вроде примитивного расследования, потому что считалось, что в случае злого умысла из носа покойного хлынет кровь, когда убийца пройдет мимо него. Обычай этот, по словам Роя, неукоснительно соблюдался в его родных краях, даже тогда, когда подозревать было некого, — например, если женщина умирала в родах. А как шептались потом во всех соседних тавернах и на фермах, труп фермера Тарабара залился кровью, стоило мимо него пройти обвиняемой, а когда настала очередь Кристофера Месоглина, из носа покойного снова хлынула кровь.
Зная все это, Рой Карп счел своим долгом выступить с обвинениями против вдовы.
Доказательства вины с его стороны основывались на том, что труп кровоточил, когда она прошла мимо него, и на том, что она купила у его дочери прутья ивы, зная, что сок их ядовит. Мотивом преступления являлось наличие юного любовника, с которым она мечтала соединить свою жизнь после смерти мужа. Обвиняемой было бесполезно отрицать то, что Месоглин был ее любовником, — скандальный факт этот был известен соседям уже несколько месяцев; вскоре, потеряв всякий стыд, она поселила своего друга на ферме еще при жизни мужа. Вызванные Роем свидетели доказали все это, не оставив даже места для сомнения.
Что же касается кровоточения трупа, следовало честно признать, что вульгарные предрассудки никогда не пользовались одобрением Закона, и в своей защите вдова пренебрегла этим фактом. Однако, следуя другому, не менее вульгарному предрассудку, к которому склонялся обвинитель, она как бы мимоходом признала, что ее покойный муж иногда пользовался плодами фейри — естественно против ее желания — в качестве удобрения, хотя она так и не сумела узнать, где именно он их добывал.
В отношении ивы она признала, что действительно купила связку прутьев у дочери обвинителя, однако без всякого злого умысла, что и сумела доказать, призвав нескольких свидетелей — в том числе и деревенскую повитуху, которую всегда приглашали в случае болезни, — присутствовавших при последних часах жизни фермера, которые присягнули в том, что умер он без мучений. В то время как врачи, вызванные в качестве экспертов, утверждали, что жертвы смертоносного сока ивы всегда оканчивают свою жизнь в муках.
Потом она взялась за личность самого обвинителя. Она доказала, что увольнение Роя не было ни внезапным, ни несправедливым, ибо ее покойный муж нередко грозил прогнать его за воровские наклонности, и справедливость ее слов подтвердили несколько батраков.
В отношении горсти флоринов и мешка чечевицы она могла сказать только то, что не в обычае старого фермера было награждать бесчестных слуг подарками. Однако в суде не прозвучало ни слова относительно двух мешков зерна, свиньи и дорогой курицы вместе с выводком, которые исчезли одновременно с отбытием истца. Муж, как утверждала вдова, был крайне рассержен и хотел, чтобы Роя поймали и бросили в тюрьму, однако она уговорила его проявить милосердие.
Словом, вдова оправдана, а Рой получил десять лет за воровство.
Что же касается Кристофера Месоглина, он исчез еще до суда, и вдова заявила, что понятия не имеет о том, где он находится.
Глава XVII Правосудие мира сего
— Ну, что ж, — проговорил господин Амброзий, откладывая том, — женщина эта виновна не более, чем ты сам. И мне хотелось бы знать, какое отношение имеет ее дело к тому, что происходит в настоящее время.
Господин Натаниэль пододвинулся вместе с креслом к своему другу и негромко, словно опасаясь чужих ушей, проговорил:
— Амброзий, а ты не забыл, как ошарашил Лера своим вопросом относительно того, кровоточат ли покойники?
— Едва ли я сумею это забыть, — гневно усмехнулся господин Амброзий. — Но все это стало ясно еще позавчера ночью, на Грамматических полях.
— Да, но что если он думал о чем-то другом — не о плодах фейри. Что, если Эндимион Лер и Кристофер Месоглин на самом деле одно и то же лицо?
— Не вижу ни малейших причин для подобных подозрений. Но если даже ты и прав, какую пользу мы можем из этого извлечь?
— Дело в том, что в этом забытом деле, как мне кажется, припрятана крепкая пеньковая веревка, куда более прочная, чем все яркие ниточки фейри.
— Хочешь сказать, что мы можем отправить негодяя на виселицу? Ты оптимист, Нат, клянусь Жатвой душ. Если кто-нибудь и умер своей смертью в собственной постели, так это фермер Тарабар. Однако нельзя смириться с тем мерзким розыгрышем, который устроили тебе вчера. Клянусь Кормой Моей Внучатой Тети, я полагал, что Полидору и всем остальным хватит здравого смысла, чтобы не обмануться подобным вздором. Но главное в том, что этот негодяй Лер способен заставить их поверить в то, во что захочет.
— Именно так! — запальчиво воскликнул господин Натаниэль. — Первоначальный смысл слова «фейри» как раз и означает обман. Обман зрения — тут они мастера, мы сами убедились в этом в комнате с гобеленами. Как можем мы устоять против врага, обладающего такой силой?
— Не хочешь ли ты, Нат, сказать, что готов смириться? — вознегодовал господин Амброзий.
— Ничуть не бывало, просто на время мне надлежит превратиться в крота и заняться тайной работой. А теперь, Амброзий, хочу, чтобы ты выслушал меня, не ругая за то, что ты называешь отклонениями от темы и прозаичностью. Ты готов?
— Конечно, если ты скажешь что-нибудь путное, — пробурчал господин Амброзий.
— Тогда слушай! Как, по-твоему, Амброзий, для чего был нужен Закон?
— Для чего? К чему ты клонишь, Нат? Ну, наверно, для того, чтобы предотвратить насилие, грабежи, убийства и прочие преступления.
— А ты не помнишь, что говорил мой отец о том, что Закон заменяет человеку плоды фейри? Все, что связано с фейри, считается обманом и ложью. Но человек не способен жить без иллюзий, поэтому он изобретает для себя самого иную разновидность обмана — мир Закона, не подчиняющийся ничему другому, кроме как воле самого человека, где человек тасует факты в свое удовольствие и говорит: «Если я могу превратить в собственного сына старика, годящегося мне в отцы, и если при желании превращаю плоды в шелк, а черное в белое, значит, этот мир сотворил я сам, и я господин ему». Так он создает чудовище, способное обитать в этом мире, — человека, покорного Закону, механическую игрушку, похожую на нас с тобой не больше, чем мы на фейри.
Несмотря на все старания, господин Амброзий не нашел в себе сил сдержать стон нетерпения.
Однако, будучи человеком слова, продолжал внимательно слушать.
— За пределами мира Закона, — продолжал господин Натаниэль, — находится мир, который кажется нам таким, каким мы принимаем его ради собственного удобства, — мир иллюзии или реальности. И населяющие его люди столь же свободны от нашей хватки, как если бы они жили на другой планете. Нет, Амброзий, не надо оттопыривать губы подобным образом… Все, что я говорю, в той или иной степени можно отыскать в писаниях моего отца, а его никто никогда не обвинял в склонности к фантазиям, — наверно, потому, что никто не давал себе труда прочитать его книги. Признаюсь откровенно, я и сам не делал этого до вчерашнего дня.
Тут он бросил взгляд на портрет покойного господина Джосайи — он был изображен в том самом кресле, где в данный момент сидел сам Натаниэль. В облике господина Джосайи не было абсолютно ничего фантастического.
И все же в ярких птичьих глазах и остром подбородке угадывалось нечто не совсем человеческое. Неужели господин Джосайя тоже слышал Ноту и бежал от нее в мир Закона?
Натаниэль продолжил:
— Но сейчас я намерен изложить тебе свою собственную идею. Предположим, все, что происходит на одной планете, той, которую мы зовем Иллюзией, влияет на другую планету, то есть на тот мир, который мы предпочитаем видеть, мир Закона? Нет-нет, Амброзий! Ты обещал дослушать меня до конца! (Было ясно, что господин Амброзий начинает терять терпение.) Допустим, что одна планета влияет на другую, но что реакции их преобразуются в соответствии с их природой. Значит, то, что на одной планете считается духовным грехом, на другой — воспринимается как уголовное преступление? И что руки, в мире иллюзии запятнанные соком плодов фейри, в мире Закона превращаются в руки, запятнанные человеческой кровью? Короче говоря, что Эндимион Лер превращается в Кристофера Месоглина?
Нетерпение господина Амброзия уступило место неподдельной тревоге. Он опасался, что из-за недавних несчастий Натаниэль тронулся умом. Господин Натаниэль расхохотался:
— Видимо, ты решил, что я свихнулся, Брози, но, клянусь, это не так. Но ты должен понять, если мы не сумеем уличить этого Лера в каком-либо из прегрешений перед лицом Закона, он будет дурачить нас, осмеивать и губить нашу страну, то наследие, которое мы должны оставить детям, до тех пор, пока весь Сенат, кроме нас с тобой, не отправится в слезах и соплях следом за его погребальной процессией на Грамматические поля. Только тогда мы сумеем отделаться от него, Брози. С тем же успехом можно надеяться поймать мечту и засадить в клетку.
— Ну, Нат, сделать это будет не так уж и сложно, если следовать твоим представлениям о Законе, — сухо заметил господин Амброзий. — Поскольку ты явно намереваешься внести то, что называешь миром Закона — там, где с фактами обращаются как угодно, — новую статью, согласно которой ради твоего собственного удобства Эндимион Лер будет именоваться Кристофером Месоглином.
Господин Натаниэль рассмеялся:
— Надеюсь, нам удастся доказать это без новых статей Закона. Процесс по делу вдовы Тарабар произошел тридцать шесть лет назад, через четыре года после великой засухи, когда, как обнаружила Календула, Лер находился в Доримаре, хотя всегда стремился намекнуть, что объявился здесь значительно позже, чему можно не удивляться, если, называясь Месоглином, он бежал отсюда и вернулся под именем Лер. Кроме того, нам известно, что он близко знаком с вдовой Тарабар. Месоглин был ботаником, как и Лер. К тому же, почему он так испугался, когда ты спросил его о мертвых и крови? Ни за что не поверю, что мерзкий лекарь сразу подумал о ложных похоронах и гробах с плодами фейри, скорее всего он подумал о них потом. Надеюсь, что сумел убедить тебя в том, что достаточно скоро окажусь в этом деле правым, как и в другом вопросе. Это наша единственная надежда, Амброзий.
— Ну, Нат, — молвил господин Амброзий, — хотя за полчаса ты способен наговорить больше чуши, чем любой другой за всю свою жизнь, по-моему, ты не так глуп, как кажешься… Кстати говоря, в той старой бывальщине, которую рассказывала нам Хэмпи, хвост дракона солью посыпал деревенский дурачок.
Натаниэль рассмеялся, довольный услышанным комплиментом, поскольку Амброзий редко говорил их кому бы то ни было.
— Хорошо, — продолжил господин Амброзий, — и каким же образом ты намереваешься внести свою статью?
— О, для начала попробую отыскать кого-нибудь из свидетелей, может быть, еще жив и Рой Карп. Во всяком случае, займусь этим, поскольку сейчас в Луде мне нечего делать.
Господин Амброзий простонал:
— Ну неужели, Нат, дело и впрямь дошло до того, что тебе придется оставить Луд и что мы ничего не способны поделать с этой паутиной, сотканной из лжи и коварства, из этой иллюзии, если тебе угодно? Честно скажу тебе, я не стал щадить Полидора и прочую братию, однако мой язык оказался бессилен, этот Лер словно околдовал их.
— Но мы разрушим этот наговор, клянусь Золотыми Яблоками Заката, мы разрушим его, Амброзий! — воскликнул господин Натаниэль. — Пропустим все тени сквозь сеть Закона, и Лер закончит свою жизнь на виселице, не будь я Шантеклер!
— Ладно, — проговорил господин Амброзий, — раз уже тебе в башку втемяшилась эта мысль насчет Лера, возможно, тебе понравится маленькая памятка от него — вышитая туфелька, которую я позаимствовал в гостиной этой вздорной старухи, теперь уже более не нуждающейся в нем. (Найденный в Академии «шелк» был в итоге сочтен баратейной тафтой и полуфигурным мохером, и мисс Примулу, наложив на нее крупный штраф, отпустили на свободу.) Я уже говорил тебе, что лекарь подпрыгнул на месте от одного только ее вида. Причина достаточно очевидна — он решил, что на туфельке изображены плоды фейри. Я велю доставить ее тебе прямо сегодня.
— Ты очень любезен, Амброзий. Не сомневаюсь, что твой дар окажется весьма кстати, — с иронией в голосе заметил Натаниэль.
Во время суда над мисс Примулой туфелька время от времени переходила из рук одного судьи в руки другого, ни в малейшей мере не помогая им уточнять деликатные отличия между тафтой и мохером. В Натаниэле этот предмет пробудил легкую досаду и скуку, живо напомнив длинный ряд полученных от Прунеллы подарков на день рождения, предполагавших соответствующие выражения благодарности и восхищения. Он не испытывал ни малейшей потребности извлекать из этой туфельки сколько-нибудь полезную информацию, но пусть Амброзий потешится.
Они несколько минут посидели в молчании, потом Натаниэль поднялся и сказал:
— Мое расследование может затянуться, Амброзий, когда-то нам снова представится возможность поговорить. А не побаловаться ли нам джинчиком, настоянным на диком тимьяне?
— Я не из тех, кто способен отказаться от твоего фамильного джина, а ты, Нат, старый греховодник, не так-то часто угощаешь им, — сказал Амброзий, стараясь скрыть свои чувства за краснобайством.
Получив бокал, наполненный до краев душистым зеленым, как трава, напитком, он поднял его, и, улыбнувшись Натаниэлю, проговорил:
— Ну, Нат…
— Подожди минутку, Амброзий! — перебил его Натаниэль. — Мне в голову вдруг пришла совершенно глупая мысль о том, что нам с тобой надлежит дать клятву, о которой я читал в детстве в одной из старинных книжек, почему-то мне вдруг припомнились эти слова. Слушай: «Мы (тут ты скажешь свое собственное имя), Натаниэль Шантеклер и Амброзий Джимолост, клянемся Живыми и Мертвыми, Прошлым и Будущим, Воспоминаниями и Надеждами в том, что если Видение придет просить к нашим дверям, мы примем его и согреем у своего очага, и что не будем мудрее глупцов и хитрее простецов, и будем помнить, что тот, кто следует дыханию Ветра, должен отправляться туда, куда несет его этот Скакун». Повторяй это за мной, Амброзий.
— Клянусь Белыми дамами Зеленых Полей, никогда еще мне не приходилось слышать подобной чуши! — проворчал господин Амброзий.
Однако Нат явным образом не собирался отказываться от дурацкой церемонии, и господин Амброзий решил, что может потешить друга, ибо кто знает, что их ждет впереди и когда им доведется встретиться в следующий раз. И он произнес текст клятвы.
Когда и в какой книге отыскал эти слова господин Натаниэль? Ибо так звучал обет, который произносили те, кого посвящали в первую ступень древних мистерий Доримара.
Не следует забывать, что, с точки зрения Закона, господин Натаниэль являлся покойником.
Глава XVIII Мистрис Айви Пепперкорн
Дела, назначавшиеся клеркам в Счетной палате господина Натаниэля, не всегда бывали связанными с тоннами товаров и сотнями серебряных фунтов. Однажды, например, целых два дня ни один из них не открывал гроссбух, и под командой работодателя они вырезали из бумаги и скалывали фантастические маскарадные костюмы для празднования дня рождения Ранульфа. Все они привыкли и к тому, что он запирается у себя в кабинете, строго-настрого запретив беспокоить себя, для того, чтобы заняться, например, сочинением комического стихотворного послания в честь Валентинова дня, предназначенного престарелой даме Полли Мукомолл, то и дело приоткрывая дверь и высовываясь, чтобы попросить подсказать ему рифму. Поэтому в то утро их не удивило его распоряжение отложить книги и посвятить свои таланты расследованию, чтобы любым доступным им способом определить, найдутся ли в Луде какие-нибудь родственники жившего на западной окраине страны фермера по имени Тарабар, скончавшегося около сорока лет назад.
И к великому удовлетворению господина Натаниэля, один из них вернулся из своих поисков с информацией о том, что вдовая дочь покойного фермера, мистрис Айви Пепперкорн, недавно купила небольшую бакалейную лавку в Зеленой Кобылке — деревеньке, лежавшей в паре миль от северных ворот.
Времени терять было нельзя, поэтому господин Натаниэль приказал подать ему коня, облачился в костюм из бумазеи, в котором ходил на рыбалку, надвинул шляпу на самые уши и отправился в Зеленую Кобылку.
Оказавшись там, он безо всякого труда отыскал крохотную лавчонку мистрис Айви, где за прилавком сидела она сама.
Этой пригожей и румяной, как яблочко, особе следовало бы находиться среди коров и лугов, а не в душной тесной комнатушке, наполненной предметами роскоши и первой необходимости деревенского общества.
Она пребывала в приветливом и разговорчивом настроении, и господин Натаниэль перемежал различные приобретения тонкими замечаниями, витиеватыми коленцами и полными дружелюбия вопросами.
Отвесив ему две унции нюхательного табака и упаковав их в кулек, мистрис Айви сообщила ему, что ее девичья фамилия — Тарабар, что муж ее был капитаном корабля и до самой его смерти она проживала в портовом городке. Снабдив его четвертью фунта леденцов, она рассказала, что предпочитает сельскую жизнь торговле. Выслушав же похвалы шерстяному шарфу, получив за него деньги, обернув бумагой и перевязав, она поведала, что охотно поселилась бы возле своего прежнего дома, однако у нее были веские причины не делать этого.
Чтобы выяснить, каковы эти причины, потребовались такт и терпение. Однако вдумчивая пытливость господина Натаниэля, замаскированная теплым сочувствием, никогда еще не приносила лучшего результата, и мистрис Айви в итоге была вынуждена признать, что у нее есть ненавистная мачеха, и у нее есть все основания ей не доверять.
Тут господин Натаниэль счел возможным чуточку приоткрыть карты. С пониманием посмотрев на нее, он спросил, не хотела ли бы она добиться правосудия, чтобы негодяи получили по заслугам, и добавил:
— Нет более глупой поговорки, чем та, которая утверждает, что мертвые молчат. Помочь мертвецам вновь обрести язык — одно из главных назначений Закона.
Мистрис Айви встревожилась.
— А кто вы такой, сэр, скажите, будьте добры? — спросила она смущенно.
— Племянник одного фермера, у которого когда-то батрачил некто Рой Карп, — поторопился он с ответом.
И она с пониманием улыбнулась.
— Ну, кто бы мог подумать! — пробормотала мистрис Айви. — А как, интересно, звали вашего дядю? В наших краях я знала всех фермеров и их семьи.
В честных карих глазах господина Натаниэля вспыхнул огонек.
— Наверно, я несколько перемудрил! — рассмеялся он. — Понимаете, я долго работал в городском магистрате, а там невольно привыкаешь устраивать клиентам ловушки. Закон — коварная вещь. У меня нет дяди на западе, и я никогда не был знаком с Роем Карпом. Однако я всегда интересовался преступлениями и с интересом читал материалы старых процессов. Поэтому, когда вы сказали, что прежде носили фамилию Тарабар, я немедленно вспомнил всегда озадачивавшее меня дело и подумал, что имя Роя Карпа развяжет вам язык. Мне всегда казалось, что за этим процессом кроется нечто большее, чем видно невооруженным глазом.
— В самом деле? — уклончиво спросила мистрис Айви. — Видно, вас очень интересуют чужие дела.
И она с подозрением посмотрела на него.
Тут господин Натаниэль сел на своего конька.
— Вот что я скажу вам, мистрис Айви, не сомневаюсь, что вашему отцу было приятно видеть отличную пшеницу, даже если она выросла на чужом поле, а ваш муж любил отличные корабли и все такое…
Тут ему пришлось прервать свои объяснения и выслушать — притом с большим терпением и вниманием — воспоминания о вкусах и привычках покойного капитана.
— Как я уже говорил, — продолжил он, когда мистрис Айви на мгновение умолкла, чтобы вздохнуть, улыбнуться и вытереть глаза уголком фартука, — поле с налитыми колосьями золотой пшеницы радовало сердце вашего отца, а ведомый к причалу умелой рукой корабль веселил вашего мужа, такие же чувства вызывает во мне правосудие, обнаружившее виновного. Я, холостяк, сумел скопить некоторые средства и ничего не радует меня больше, чем возможность потратить их на восстановление справедливости, чем возможность отомстить за такого отличного человека, как ваш покойный отец. У нас, старых холостяков, как вам известно, есть свои излюбленные делишки. Они не производят столько шума, сколько полный дом ребятни, однако требуют порой не меньших расходов.
Усмехнувшись, господин Натаниэль потер руки.
Происходящее доставляло ему огромное удовольствие, он словно бы превратился в придуманного им проницательного, честного и несколько кровожадного детектива. В глазах господина Натаниэля зажигался фанатический огонек, когда он поминал Правосудие, этого тигра; он уже представлял себе тот уютный домик в Луде, в котором якобы живет, — маленький садик с веселыми цветами, крошечную лужайку и шпалеры плодовых деревьев, уходу за которыми он посвящает свой досуг. И своего пса, и канарейку, и старушку домоправительницу. И как сегодня, возвратившись домой, отужинает сосисками и картофельным пюре, завершив трапезу жареным сыром. И как, закончив трапезу, извлечет свое собрание зловещих сокровищ и за бокалом негуса будет любовно перебирать мотки виселичной веревки, запятнанную кровью перчатку убитой гулящей девки, кусочек янтаря, служивший талисманом предводителю мерзкой банды, наслаждаясь крадущейся поступью своего домашнего тигра — Закона. Да, такая незаметная и тихая жизнь полна увлечений, как и его дом цветами. Какими же уютными кажутся халат и тапки Другого человека!
— Ну, если вы хотите сказать, — проговорила мистрис Айви, — что намерены помогать Закону наказывать злых людей, что ж, я охотно поддержала бы вас в этом деле. Но все же, — она вновь бросила на него подозрительный взгляд, — почему вы решили, что отец мой умер не своей смертью?
— Мне это подсказывает интуиция. А она редко меня подводит! Я чувствую кровь. Разве в деле не было сказано, что труп кровоточил?
Дернув головой, она возмущенно воскликнула:
— Вам ли, городскому и, судя по всему, образованному человеку, верить в эти вульгарные россказни! Надо же знать селян, они все перелагают на старинный мотив. В таверне в самой Лебедяни говорили про две капельки крови, а к тому времени, когда история эта добралась до Лунтравы, эти капли превратились в целый галлон. Я проходила мимо тела отца вместе с остальными и не скажу, что заметила сколько-нибудь крови… конечно, тогда глаза мои опухли от слез. И все же именно эта причина заставила Месоглина оставить страну.
— В самом деле? — воскликнул господин Натаниэль.
— Да. Моя мачеха никогда не допускала непочтительного обращения с собой. У меня не было причин любить ее, но должна признать, что она держалась как королева, а он был чужаком, к тому же несколько простоватым, и деревенские ребятишки — да и все прочие — не давали ему прохода, выпрыгивали из-за заборов и преследовали по улице с криками: «А почему кровоточил труп фермера Тарабара?» — и так далее. Словом, он не мог больше переносить подобного обращения и однажды ночью улизнул из дома. Я и не думала, что увижу его еще раз. Но я встретила его на улице, в городе, причем не так уж давно, хотя он не заметил меня.
Сердце господина Натаниэля учащенно забилось.
— А как он сейчас выглядит? — спросил господин Натаниэль, затаив дыхание.
— О! Почти совсем не изменился. Недаром говорят, что ничто не сохраняет молодость так, как чистая совесть! — Она сухо усмехнулась. — Впрочем, он никогда не был особенно хорош собой — коренастый, упитанный, веснушчатый, с дерзкими, полными любопытства глазами!
Не сдерживаясь, господин Натаниэль хриплым от волнения голосом воскликнул:
— Значит, это… вы имеете в виду здешнего доктора, Эндимиона Лера?
Мистрис Айви многозначительно кивнула.
— Да, теперь он называет себя этим именем.
И вокруг него столько разговоров, что если послушать некоторых, не будь в городе такого врача, ни один ребенок не сумел бы правильно появиться на свет, а ни один старик подобающим образом умереть.
— Да-да. Но вы уверены, что он и есть Кристофер Месоглин? Готовы ли вы поклясться в этом на суде? — нетерпеливо воскликнул господин Натаниэль.
Мистрис Айви явно удивилась.
— Зачем это мне клясться? — с сомнением в голосе проговорила она. — Должна сказать, что всегда терпеть не могла крепких выражений в женских устах, и мой бедный Пепперкорн тоже, хотя и был моряком.
— Да нет же, — возразил господин Натаниэль, — я, должно быть, оговорился. Я хотел сказать, присягнуть в этом перед судом.
Чуть усмехнувшись собственной ошибке, она спросила несколько напряженным тоном:
— И что же может привести меня в суд, хотелось бы знать? Прошлое давно забыто, а сделанного не изменишь.
Господин Натаниэль испытующе посмотрел на нее.
— Мистрис Пепперкорн, — проговорил он торжественным тоном, — разве вам не жалко мертвых, немых и беспомощных? Вы любили своего отца, я в этом не сомневаюсь. И если сказанное вами слово способно помочь отмщению за него, неужели вы оставите это слово непроизнесенным? Кто может сказать, что мертвые не ощущают благодарности к живым за любовную память, что им не спокойнее почивать в своих могилах, зная, что они отомщены? Неужели в вас не осталось жалости к усопшему отцу?
Впечатление, произведенное этой короткой речью, живо отразилось на лице мистрис Айви, она даже прослезилась.
— Не надо так думать, сэр, — она хлюпнула носом, — не надо так думать! Я хорошо помню, как мой бедный отец сиживал напротив нее вечерами, говоря не языком, а глазами: «Нет, Клем (мою мачеху звали Клементиной), я не верю тебе ни на грош, и все же ты умеешь обвести меня вокруг пальца, вокруг своего мизинца, потому что я глупый и бестолковый старик, и это понятно нам обоим». Нет! Я всегда говорила, что отец мой ни на что не закрывал глаза, хотя и был рабом ее приятной мордашки. Дело не в том, что он чего-то не видел, у него просто не хватало решимости произнести это вслух.
— Бедняга! А теперь, мистрис Айви, мне кажется, что вы должны рассказать мне все, что вам известно и что заставляет вас думать — вопреки свидетельству медиков, — что ваш отец был убит. — Облокотившись о прилавок, он посмотрел ей прямо в глаза.
Однако мистрис Айви возразила:
— Я не сказала, что мой бедный отец был отравлен ивой. Он скончался в тишине и покое.
— И все же вы подозреваете в этом злой умысел. Теперь, зная, что в этом деле замешан доктор Лер, я не могу сказать, что отношусь к нему бесстрастно. Дело в том, что я кое-что имею против этого человека.
Мистрис Айви сперва закрыла входную дверь, а потом, перегнувшись через прилавок, приблизилась к нему и негромко произнесла:
— Да, я действительно всегда видела здесь злой умысел и могу объяснить почему. Как раз перед кончиной отца мы варили варенье. А у него была такая маленькая слабость, он очень любил пенку, и поэтому мы всегда оставляли ему блюдце от каждой варки. Ну, мой младший братец Робин и ее дочка — трехлетняя воструха — жужжали вокруг ягод и сахара, как две маленькие осы, воображая, что помогают варить варенье. И вдруг мачеха повернулась и увидела свою маленькую Полли со ртом, черным от сока шелковицы. Какую же суматоху она подняла! Она поймала девчонку, встряхнула, велела выплюнуть все, но, убедившись в том, что это шелковица, сразу успокоилась и сказала Полли, чтобы та была хорошей девочкой и ничего не брала в рот без разрешения.
Варенье кипело в больших медных тазах, но я заметила сбоку на очаге небольшой котелок и спросила у мачехи, что в нем. Та беззаботно ответила: «Это для моего деда». Подслащенное вместо сахара медом шелковичное желе. В тот же вечер, оказавшийся последним в жизни моего отца (я не рассказывала об этом ни единой душе, кроме моего бедного Пепперкорна), после ужина он отправился на крыльцо покурить трубку, оставив их обоих заниматься в кухне своими делами, она явным образом злилась, а отец мой был достаточно слаб, раз позволил этому типу поселиться у нас в доме. Он был странным, мой отец, слишком гордым, чтобы находиться там, где его присутствие было нежелательно, даже в кухне собственного дома. Я тоже вышла, но устроилась поодаль, потому что ждала заката, чтобы нарвать цветов и наутро отнести их больной соседке. И я услышала, как он говорит своему спаниелю Рыжику, который буквально не отходил от него. Слова его я помню так, как если бы он произнес их только вчера. «Бедный мой, старый пес! — сказал он. — Думал я, что это мне придется рыть твою могилу. Увы, Рыжик, получилось совсем по-другому. Завтра к этому времени я умолкну навеки, а ты будешь скучать по нашим беседам, бедняга». Тут Рыжик отчаянно взвыл, так что у меня кровь в жилах застыла, и я подбежала к отцу спросить, не заболел ли он и не надо ли ему чего-нибудь. Он рассмеялся, но так печально. Мой бедный отец был человеком открытым, бесхитростным, незлопамятным. Но сейчас его смех был пропитан не только печалью, но и желчью. Он сказал: «Ну, Айви, девочка моя, не хочешь ли ты принести мне пионов, ноготков и пастушьего тимьяна с холма, где танцевал Молчаливый народ, и сделать из них салат?» Увидев мое удивление, он опять рассмеялся: «Нет, нет. Сомневаюсь, чтобы все цветы, растущие по эту сторону гор, смогли помочь твоему бедному отцу. Иди поцелуй меня, ты всегда была хорошей девочкой». Из цветов этих старухи готовили приворотное зелье, как я знала от своей бабки, разбиравшейся в травах и талисманах, хотя отец всегда посмеивался над ней из-за этого, и я решила, что он говорит о моей мачехе и Месоглине, не зная, удастся ли ему вернуть ее расположение другим способом.
Однако в ту ночь он умер, и тогда я начала размышлять об этом самом котелке и готовившемся в нем желе; зная, как он любил пенки, нетрудно было приготовить для него какую-нибудь отраву, так чтобы никто к ней больше не прикоснулся. Месоглин прекрасно разбирался в травах и мог дать ей дельный совет. Мне было ясно как день, что отец готовился к смерти, а из пиона получается хорошее слабительное; и потом я всегда думала, что, наверно, затем эти цветы ему и понадобились. Вот и все, что я знаю, и хотя это, конечно, немного, однако воспоминаний мне хватило на множество бессонных ночей, когда я размышляла о том, как поступила бы, будь я тогда постарше. Ведь мне тогда было всего десять лет, посоветоваться было не с кем, а мачехи я боялась, как пичужка змеи. Я была слишком мала, чтобы давать показания, иначе все всплыло бы еще на суде.
— Но может быть, нам удастся обнаружить Роя Карпа?
— Роя Карпа? — удивилась она. — Разве вы не знаете, что с ним случилось? Ах, печальная вышла история! Дело в том, что пока он сидел в тюрьме, случилось подряд три или четыре недорода, голод был страшный. Еда стала настолько дорогой, что у людей уже не было денег на такую роскошь, как красивые корзинки, и когда Рой вышел из тюрьмы, то обнаружил, что жена и дети умерли от голода. В голове его помутилось, он явился к нашей ферме, проклиная мою мачеху и уверяя, что однажды вернется и отомстит ей. Однако в ту же самую ночь он повесился на одном из деревьев в нашем саду, где его и нашли на следующее утро.
— Грустная история, — согласился господин Натаниэль. — Итак, впредь его можно не учитывать в наших расчетах. Но все, что вы мне сказали, весьма интересно, весьма и весьма. Однако необходимо распутать еще кое-какие узлы, чтобы добраться до нужной мне веревки. Мне надо понять, зачем Рой Карп говорил об иве. Эта история была его выдумкой?
— Бедный Рой! Конечно, он был не из тех, на чье слово можно безоговорочно положиться, свои десять лет он заслужил, поскольку сызмальства был вором. Но не думаю, что у него хватило ума выдумать все это. Полагаю, все было так, как он и рассказал, его дочь действительно продала связку прутьев ивы моей мачехе, однако прутья нужны были ей только для плетения корзин. Вина — странная вещь; она как запах, иногда не сразу поймешь, откуда он исходит. Я думаю, что Рой не ошибся в том, что уловил запах преступления, однако ошибочно истолковал его. Моего отца отравили не ивой.
— Чем же тогда, как, по-вашему?
Мистрис Айви покачала головой:
— Я сказала вам все, что знаю.
— Мне бы хотелось услышать от вас нечто более определенное, — с легким недовольством произнес господин Натаниэль. — Закону нужны доказательства, которые можно потрогать — например, испачканный кровью нож. Смущает меня еще одна вещь. Судя по вашим словам, ваш отец был преданным и слепым мужем и не проявлял своей ревности. Зачем же ей понадобилось его убивать?
— Ах! Ну, это я вполне могу объяснить! — воскликнула она. — Видите ли, наша ферма была расположена самым удобным образом для… ну, для контрабанды некоего предмета, который мы называть не станем. Она располагается в низинке, лежащей между Переходом и Западной дорогой, а контрабандистам всегда нужно тихое и спокойное место, где можно разгрузить собственный товар. Но мой бедный отец, хотя он мог тихо мучиться как бессловесное животное, пока его жена любезничала со своим молодым кавалером, тем не менее в два счета вышвырнул бы Месоглина из дома, как только узнал бы, что хранится в его кладовых, невзирая на то, вопит она на него или нет. Отец в общем-то был мягок, но далеко не всегда, в зависимости от обстоятельств, и ни одна женщина, если только она не полная дура (а мачеха дурой не была), не сумеет прожить с мужем, не обнаружив этих черт его характера.
— Ого! Значит, все, что сказал Рой Карп о содержимом того мешка, было правдой? — И господин Натаниэль в душе поблагодарил собственную звезду за то, что с Ранульфом не случилось ничего плохого во время пребывания в столь опасном месте.
— О, это было действительно так, не сомневайтесь; и хотя я была тогда ребенком, но после суда проплакала полночи от ярости, когда мне передали, что эта баба сказала там, что отец пользовался ими как удобрением, вопреки всем ее мольбам! Просила она его, как же! Я могла бы рассказать на суде совсем другое. За всем этим делом стоял Месоглин, и он взял у нее ключ от кладовой, чтобы они могли хранить там свои товары. Отец мой незадолго до смерти проведал об этом — я это помню, потому что подслушала их разговор. Комната, в которой спали мы с братом Робином, примыкала к родительской спальне, и мы всегда держали нашу дверь открытой, потому что Робин был робким ребенком и не мог уснуть, если не слышал отцовского храпа. Примерно за неделю до его смерти я услышала, что он говорит с мачехой таким тоном, которого я прежде от него не слыхала. Он сказал, что уже дважды предупреждал ее в этом году, и теперь предупреждает в последний раз. До сих пор, сказал он, ему нечего было стыдиться, потому что руки его оставались чистыми, а на совести не было никаких грязных дел. Но если с этим не будет покончено раз и навсегда, Месоглина вываляют в смоле и перьях и соседи изгонят его из округи. Помню, тут он принялся отплевываться, словно бы в рот его попало нечто дурное. Потом он сказал, что Тарабаров всегда уважали и что ферма, с тех пор как она перешла в руки нашего семейства, служила только для того, чтобы люди Доримара были здоровы телом и духом, что он всегда готов поставлять на рынок парное мясо и молоко, привозить мельнику доброе зерно, а виноделу сочные гроздья, но если из его амбаров будут развозить людям ядовитую мерзость, способную превращать честных парней в воющих на Луну идиотов, он продаст ферму. Тогда мачеха принялась успокаивать его, однако говорила негромко, чтобы я не разобрала слова. Должно быть, она дала ему какое-то обещание, потому что он сказал недовольным тоном: «Ладно, смотри, чтобы так и было, потому что я свое слово сдержу».
Через неделю его не стало. Бедный отец. Думаю, я чудом осталась жива. Но еще большее чудо, что с Робином ничего не случилось. Ведь это он унаследовал ферму. Умерла ее собственная дочь, а Робин вырос и женился, и хотя умер в расцвете сил, но виной тому был нарыв в горле. Он всегда ладил с мачехой. И мачеха вырастила его маленькую дочку, потому что жена Робина умерла в родах. Но сама я никогда не видела эту девочку, так как мы с мачехой не испытывали друг к другу никакой симпатии, и после свадьбы я так ни разу и не побывала в своем прежнем доме.
Она умолкла, и в глазах ее появилось печальное и задумчивое выражение, с каким люди обычно предаются воспоминаниям.
— Так, так, — погрузился в размышления господин Натаниэль. — А что происходило с Месоглином? Встречали ли вы его до того, как недавно заметили на улицах Луда?
Мистрис Айви покачала головой:
— Нет, он исчез, как я говорила вам, перед самым судом. Не сомневаюсь в том, что она хорошо знала, где он находится, получала от него весточки и даже встречалась с ним, потому что после наступления темноты мачеха всегда отправлялась погулять. В общем, теперь я рассказала вам все, что знаю, хотя мне лучше было бы придержать язык: копание в прошлом к добру не приводит.
Господин Натаниэль молчал, обдумывая услышанное.
— Вы сообщили мне много интересного, — сказал он наконец, — но даст ли это результаты, пока сказать затрудняюсь. Все доказательства носят чисто косвенный характер. Тем не менее весьма благодарен вам за откровенность. Если сумею разыскать что-либо, дам вам знать. В ближайшее время я покину город, но буду поддерживать с вами связь. Учитывая все обстоятельства, было бы разумно условиться относительно какого-нибудь знака пли слова, чтобы вы могли удостовериться, что вестник действительно прибыл от меня, потому что тот, кого вы знаете под фамилией Месоглин, по-прежнему хитер и полон самых коварных замыслов. Если однажды он проведает о том, что мы ищем, то пойдет на все, только бы сорвать наши планы. Какой бы нам придумать знак?
И тут глаза его блеснули.
— Сообразил! — воскликнул он. — Неплохо бы дать вам небольшой урок в божбе, которая вам так не по душе. Мой вестник поприветствует вас словами: Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката!
И, восторженно потирая руки, господин Натаниэль рассмеялся. Все-таки он был прирожденным шалуном.
— Как не стыдно вам говорить такое! — расплылась в улыбке мистрис Айви. — Вы такой же негодник, как мой бедный Пепперкорн. Но он всегда говорил…
На сегодня чужих воспоминаний было довольно даже для господина Натаниэля. Поэтому он пресек ее дальнейшие излияния самым сердечным прощанием, не переставая благодарить за то, что она сообщила ему.
Однако, остановившись возле двери, он погрозил ей пальцем и проговорил с деланной торжественностью:
— Запомните, он скажет: Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката!
Глава XIX Ягоды милостивой смерти
Весь вечер господин Натаниэль расхаживал по своей трубочной, пытаясь разумом пронзить преграду, составленную сухими словесами Закона и более яркими, хотя и менее надежными, воспоминаниями мистрис Айви, и увидеть давнюю деревенскую трагедию такой, какой она была, прежде чем коршуны Времени расклевали ее, оставив высохшие кости.
Он был уверен, что представленная ему мистрис Айви реконструкция давнишних событий по сути своей верна. Фермера отравили, хотя и не с помощью ивы. Но чем же тогда? И какую роль сыграл в этих событиях Месоглин, он же Эндимион Лер? Конечно, тщеславию его льстило, что, инстинктивным образом отождествив их обоих, он оказался прав. Однако теперь господин Натаниэль испытывал истинную муку оттого, что повесть о смерти этого человека может не дойти до ушей.
На столе перед ним лежала туфелька, которая, по ироническому предположению господина Амброзия, должна была сослужить ему великую службу. Взяв ее в руки, господин Натаниэль рассеянно посмотрел на туфельку. Амброзий сказал, что лишь взглянув на нее, Эндимион Лер едва не выскочил из собственной шкуры, а это означало, что причина была очевидна. Однако фиолетовые земляничины нисколько не походили на ягоды из страны Фейри, господину Натаниэлю за последнее время пришлось достаточно близко познакомиться с этими плодами, что научило его мгновенно распознавать их вне зависимости от разновидности. И хотя ему не доводилось видеть точно такие же ягоды, можно было не сомневаться — они выросли не за горами.
Подойдя к книжному шкафу, он извлек из него толстый, переплетенный в веленевую кожу том. Это был весьма древний иллюстрированный определитель растений Доримара. Господин Натаниэль вяло перелистывал страницы, не надеясь найти ничего полезного. И вдруг увидел иллюстрацию с подписью ягоды милостивой смерти. Негромко присвистнув, он положил туфельку рядом с рисунком. На рисунке и на вышивке вне всякого сомнения были изображены одни и те же ягоды.
На противоположной странице находилось описание ягод, которое, судя по стилю, любой литературный критик отнес бы к периоду правления герцога Обри. Там было написано следующее:
ЯГОДЫ МИЛОСТИВОЙ СМЕРТИ
Ягоды эти уподоблены цветом темному вину, плеть их вьется по земле, и листья ее такие же, как у лесной земляники. Они вызревают к первой четверти Луны Жатвы, и их можно отыскать лишь в некоторых долинах Западного края, но даже там они встречаются довольно редко, и благо есть в том для птиц, детей и всяких других бестолковых любителей ягод, ибо они представляют собой смертоносный и губительный яд, действующий, впрочем, не сразу, а лишь через несколько дней. Начинается зуд, в то время как язык, словно в наказание за свою лживость, покрывается черными пятнами и становится похож на крылья божьей коровки, и это единственное предупреждение о близком конце. Ибо если зло когда-либо и принимало облик добродетели, так именно в этих злодейских ягодах, которые можно назвать милостиво жестокими, поелику они избавляют свою жертву от икоты, тошноты, огненной лихорадки и мучительных колик. Перед самым концом жертва испытывает приятную сонливость и впадает в мирную дремоту, переходящую в последний сон. А теперь я дам вам рецепт, который, если нет греха на вашей совести и если вы находитесь в мире с живыми и мертвыми, и никогда не убивали малиновку, не грабили сироту, не убивали чужую мечту, может оказаться противоядием от яда этих ягод, а может и не стать таковым. Возьмите пинту салатного масла и налейте в стеклянный фиал, но сперва смешайте его с розовой водой и водой, настоявшейся на цветках ноготков, собранных в Западном краю. Трясите фиал, пока масло не побелеет, а потом перелейте его в стеклянную посудину и положите в него бутоны пионов, цветы ноготков и цветы и верхушки пастушьего тимьяна, который следует собирать на склоне холма, где танцуют фейри.
Господин Натаниэль отложил книжку, и в глаз его скорее можно было прочесть испуг, чем торжество. Было нечто зловещее в языке, на котором ушедшие поколения рассказывали свои повести — лукавых вышивках поверх холстов старых дев, спрятанных в старинных фолиантах, написанных задолго до его рождения. Но почему только его с так восприимчив к этой немой речи?
С его точки зрения, тот старый ботаник писал для убийцы утонченного, зловещего, прячущего темные дела за милосердием, убийцы, чье прикосновение избавляло от боли, а голос мог убаюкать. И все же старый ботаник рассказал свою собственную повесть. О жестокой и злой, опрометчивой женщине, желавшей извести своего мужа средством, которое подвернулось ей под руку, — ивой, чей сок приносит жестокую и мучительную смерть. Но осторожный и не менее злой друг забрал у нее иву, заменив ее ягодами милостивой смерти.
Определитель без тени сомнения доказывал, что главным злодеем в этой истории был Эндимион Лер.
Да, но как он может заставить мертвых говорить настолько громко, чтобы голос их услышал даже Закон?
Как бы то ни было, он должен оставить Луд, и чем скорее, тем лучше.
Тогда почему бы ему не посетить место, где разыгралась старая драма, — ферму вдовы Тарабар? Быть может, там он сумеет отыскать свидетелей, чьи слова будут понятны каждому.
На следующее утро господин Натаниэль приказал оседлать коня, уложил несколько нужных вещей в рюкзак, после чего сказал Календуле, что ему необходимо покинуть город.
— А тебе, — добавил он, — советую перебраться к Полидору. Сейчас я самый непопулярный человек в городе, так что пусть лучше они видят в тебе сестру Вигилия, а не жену Шантеклера.
Календула в то утро была бледна, но глаза ее горели.
— Ничто не заставит меня, — сказала она негромким голосом, — вновь переступить порог дома Полидора. Я никогда не прощу ему того, как он обошелся с тобой. Нет, я останусь здесь — в твоем доме. — И добавила: — Можешь не беспокоиться обо мне. Я еще не встречала представителя низших классов, который может сравниться с одним из нас, — они уступают так же легко, как какой-нибудь пес. Я нисколечко не боюсь толпы, она ничего не сумеет сделать со мной.
Господин Натаниэль усмехнулся и с одобрением воскликнул:
— Именем Солнца, Луны и Звезд! Ты действительно наследница старой породы, Календула!
— И не задерживайся там слишком долго, Нат, — сказала она, — а то как бы я не превратилась в полоумную — такую же, как все остальные. Чего доброго пущусь в пляс, как мамаша Тиббс, и буду петь песни про герцога Обри! — Сказав это, она очаровательно улыбнулась.
Потом он отправился наверх попрощаться со старой Хэмпи.
— Ну, Хэмпи! — бодро произнес он, — в Луде для меня становится слишком жарко. И я уезжаю — с мешком за плечами, искать счастья, — как младший сын в твоих сказках. Хочешь пожелать мне удачи?
Старая женщина посмотрела на него со слезами на глазах, а потом улыбнулась.
— Ну, господин Нат, — воскликнула она, — едва ли после того как ты стал взрослым, у тебя бывало так же легко на душе, как сегодня! Однако странные настали времена, раз Шантеклера выгнали из города! А об этих Вигилиях и всех прочих я даже думать не хочу! — Глаза ее сверкнули. — Не позволяй себе унывать, господин Нат, и не забывай, что в нашем городе всегда был Шантеклер, и всегда будет! Смущает меня только одно — неужели тебе хватит трех пар чулок, когда некому заштопать их?
— Ну, Хэмпи, — он рассмеялся, — говорят, что у фейри удивительно ловкие пальцы, а кто знает, быть может, в своих скитаниях я встречусь с домохозяйкой из этого народа, которая и починит мои чулки.
Отметим, что запретное слово соскользнуло с его языка с удивительной легкостью, словно бы он постоянно пользовался им.
Примерно через час после того, как господин Натаниэль отъехал от дома, к дверям прискакал Люк Хэмпен, взбудораженный, встрепанный, с весьма огорчительными новостями. Однако передать их господину Натаниэлю было невозможно, тот никому не сказал, куда направляется.
Глава XX В ночном
В промежутке между двумя письмами, отправленными Хэмпи и господину Натаниэлю, Люк решил, что его подозрения не имеют никаких оснований, жизнь на ферме текла мирно, а Ранульф загорел и с каждым днем становился все веселее.
Но по мере приближения осени мальчик начал увядать, и наконец Люк подслушал тот странный разговор, о котором сообщил в письме господину Натаниэлю; после этого ферма снова сделалась ему ненавистной, и он стал следовать за Ранульфом как тень и считал часы до получения от господина Натаниэля разрешения возвратиться вместе с мальчиком в Луд.
Возможно, вы запомнили, что в первый проведенный им на ферме вечер Ранульф выразил желание присоединиться к детям, которые ночью следили за коровами вдовы, но желание это, по всей видимости, оказалось мимолетным, и он просто забыл о нем.
А потом в конце июня — точнее говоря, на самый Иванов день — вдова спросила у Ранульфа, не хочет ли он присоединиться к маленьким пастухам. Но к вечеру начался сильный дождь, и план сам собой отпал.
И о нем не вспоминали до самого конца октября, за три или четыре дня до того, как господин Натаниэль покинул город. Осень на западе была крайне мягкой, ночи сделались скорее свежими, чем холодными, и когда в тот вечер дети постучали в дверь, чтобы получить хлеб и сыр, вдова начала безобидно посмеиваться над Ранульфом за то, что он, выросший в городе, ни разу не провел ночи под открытым небом.
— Почему бы тебе не сходить в ночное с пастушатами? Ты ведь хотел, когда приехал сюда, и доктор говорил, что это не причинит тебе вреда.
В тот вечер Люк пребывал в особо глубоком унынии; господин Натаниэль еще не прислал ответа на его письмо, хотя прошло уже больше недели. Он чувствовал себя несчастным и одиноким, ответственность тяжелым грузом давила на его плечи, и Люк опасался, что, проведя ночь под открытым небом, Ранульф простудится. Кроме того, любое предложение со стороны вдовы казалось ему подозрительным.
— Господин Ранульф, — воскликнул он взволнованно, — я не могу тебя отпустить. Его честь и моя старая тетя были бы против, ведь ночи-то теперь сырые. Нет, господин Ранульф, будь хорошим мальчиком и отправляйся спать, как всегда, в свою постель.
Говоря это, он поймал на себе взгляд Хейзл, которая незаметно ему кивнула.
Однако вдова воскликнула с пренебрежительным смешком, к которому присоединился пронзительный голос Ранульфа:
— Ничего себе ночи сырые! Да ведь за последние четыре недели не пролилось ни капли дождя! Не позволяйте ему нянчиться с вами, господин Ранульф. Молодой Хэмпен у нас просто старая дева в брюках. Такой же, как моя Хейзл. А я всегда говорила, что если даже она не умрет старой девой, это вовсе не значит, что она по природе такая!
Хейзл ничего не сказала, только обратила к Люку умоляющий взгляд.
Однако Ранульф, увы, был испорченным мальчишкой, а потому непрочь был насолить Люку, поэтому он запрыгал на месте, выкрикивая:
— Девица Хэмпен! Девица Хэмпен! Значит, я иду с ними!
— Так и надо, маленький господин! — расхохоталась вдова. — Из тебя получится настоящий мужчина.
Три маленьких пастушонка, застенчиво улыбавшиеся во время всей этой сцены, широко ухмыльнулись.
— Делай, как хочешь, — мрачно промолвил Люк. — Но я тоже пойду. А тебе все равно придется одеться потеплее.
И они отправились наверх — надевать сапоги и брать шарфы.
Когда они спустились, Хейзл, поджавшая губы и хмурившаяся, выдала им положенные сыр, хлеб и мед, а потом, глянув украдкой в сторону вдовы, которая, повернувшись спиной, разговаривала с маленькими пастушками, сунула в руку Люка две веточки фенхеля.
— Постарайся заставить господина Ранульфа прикрепить к своей одежде одну из них, — шепнула она.
Уже это не вселяло особой радости. Но как может подручный садовника, еще не достигший восемнадцати лет, справиться с избалованным сыном своего господина, особенно если этому препятствует волевая пожилая женщина?
— Вот и хорошо, — проговорила вдова, — пора вам выходить. Идти предстоит полных три мили.
— Да, да, пошли! — взволнованно воскликнул Ранульф.
Люк понял, что дальнейшие возражения бесполезны, и посему маленький отряд погрузился в лунную ночь. Мир вокруг казался прекрасным. Одну грань темноты представляли собой сосны, тонувшие в густой черной тени; другую — строения фермы, похожие на бледные человеческие лица. А между двумя этими крайностями располагались все оттенки серого цвета — плещущая волна Пестрянки казалась скорее белой, чем серой, а все прочие деревья — платаны, падубы, оливы — можно было отличить скорее не по форме листьев, а по яркости черного цвета.
Они молча топали вверх по течению вдоль берега Пестрянки — Люк был слишком встревожен и расстроен, чтобы говорить, Ранульф погрузился в мечты, а маленькие пастушки молчали от застенчивости.
Под ногами то и дело попадались протоптанные скотом тропы — идти было бы тяжело даже днем, не говоря уже о ночи, — они не проделали еще и половины пути, как Ранульф начал отставать.
— Может быть, хочешь передохнуть и вернуться назад? — с надеждой спросил Люк.
Ранульф только пренебрежительно дернул головой и прибавил шагу.
Теперь он старался не отставать до тех пор, пока не добрались до места назначения — крохотного оазиса богатых пастбищ, расположенного на склоне в миле или двух от гор.
Здесь, оказавшись в собственном королевстве, маленькие пастушки оживились и, обмениваясь шутками с Ранульфом, принялись собирать ветки и сучья для шалашей, пострадавших за двенадцать часов от ветра. Потом все занялись сбором хвороста, чтобы развести костер, и Ранульф проявил максимум энергии.
Наконец все устроились для долгого бдения, расположившись возле костра, смеясь и радостно ожидая наступления восьми темных часов, когда случаются всякие приключения.
Коровы устроились неподалеку и жевали свою жвачку, дремля с открытыми глазами. Небольшое освещенное костром пятно казалось единственным обитаемым миром в окружающем их темном пространстве.
Тут Люк заметил, что у каждого из пастушков к одежде, как и у него самого, приколота веточка фенхеля.
— Вот это да! А почему, ребята, вы все носите фенхель? — спросил он.
Они посмотрели на него с удивлением.
— Но ведь вы тоже носите веточку, господин Хэмпен, — с недоумением проговорил старший из них, которого звали Тоби.
— Конечно, потому что это подарок молодой леди, — добавил Люк непринужденным тоном. — Но разве вы всегда выходите в ночное с веточкой фенхеля?
— Нет, только в эту ночь, — откликнулись дети.
И поскольку на лице Люка сохранялось недоумение, Тоби спросил:
— А разве у вас в Луде не носят веточку фенхеля в последнюю ночь октября?
— Нет, — ответил Люк. — А зачем?
— Ну, как же, — воскликнул Тоби, — ведь это та самая ночь, когда Молчаливый народ — мертвые то есть — возвращается в Доримар!
Ранульф посмотрел на него. Люк нахмурился — хотя его уже тошнило от всех западных суеверий, он почувствовал страх. Вынув из петлицы вторую из полученных от Хейзл веточек фенхеля, он протянул ее Ранульфу со словами:
— Вот, молодой господин! Возьми и заткни за ленточку шляпы или куда-нибудь еще.
Ранульф покачал головой:
— Спасибо тебе, Люк. Но мне не нужен фенхель. Я ничего не боюсь.
Дети посмотрели на него с большим удивлением, а Люк мрачно вздохнул.
— Значит, ты не боишься… Молчаливого народа? — спросил Тоби.
— Нет, — ответил Ранульф и добавил: — Во всяком случае сегодня ночью.
— Готов поклясться, что вдова Тарабар фенхель вообще не носит, — едко усмехнулся Люк.
Обменявшись странными взглядами, дети начали пересмеиваться. И Люк полюбопытствовал:
— Ну-ка, выкладывайте, что у вас на уме, молодые люди! Почему это вдова Тарабар обходится без фенхеля?
Однако те только подталкивали друг друга локтями, прикрывая пальцами лукавые физиономии.
Это возмутило Люка.
— Вот что, молокососы, — воскликнул он, — не забывайте, что перед вами сын Высокого сенешаля, и если вам известно о вдове нечто… ну, скажем, сомнительное, вам надлежит сообщить мне об этом. А то, чего доброго, в тюрьму угодите. Так что выкладывайте все, что вам известно!
И он посмотрел на них так свирепо, как никогда ни на кого не смотрел.
Дети не на шутку перепугались.
— Но вдова не знает, что мы кое-что видели. И если разведает об этом и о том, что мы проболтались, нам не поздоровится! — воскликнул Тоби.
— Нет, вы меня не поняли. Даю вам слово, — пообещал Люк, — если вы знаете нечто действительно интересное, сенешаль будет вам весьма благодарен, и тогда в кармане у каждого из вас может оказаться столько денег, сколько все ваши отцы не видели за всю свою жизнь. А пока, если узнаю у вас что-нибудь интересное, отдам вам этот нож, самый лучший во всем Луде! — И Люк извлек из кармана свое сокровище, великолепный нож с шестью лезвиями, однажды подаренный ему на Иванов день господином Натаниэлем.
Нож и впрямь был чудом оружейного искусства и произвел на мальчишек ошеломляющее впечатление. Поддавшись соблазну, они стали рассказывать испуганным шепотом, то и дело озираясь по сторонам, словно вдова могла подслушать их. И вот что они рассказали.
Однажды ночью, почти на рассвете, корова, которую прозвали Незабудкой за необычный голубой оттенок шкуры, лишь недавно вошедшая в стадо, вдруг начала тревожно мычать и припустила во тьму. Незабудка была животным весьма ценным, вдова велела им особо внимательно приглядывать за ней, и Тоби, оставив двоих приглядывать за стадом, заторопился следом за беглянкой в уже редеющую мглу и, хотя была она довольно далеко, продолжал погоню. Нагнал он ее на самом берегу Пестрянки, где она обнюхивала воду. Подойдя ближе, Тоби заметил, что корова щиплет что-то из-под воды. Тут как раз к реке подъехала тележка, в ней сидели вдова и доктор Эндимион Лер. Они явно были недовольны тем, что Тоби оказался у реки, однако помогли ему отогнать корову от воды. Изо рта ее свисали соломины, морда была испачкана непонятного цвета соком. Тут вдова велела Тоби возвращаться к друзьям и сказала, что утром сама пригонит Незабудку к стаду. А свое неожиданное появление объяснила тем, что вместе с доктором приехала, чтобы поймать чрезвычайно редкую рыбу, которая всплывает к поверхности воды уже на рассвете.
— Понимаете, — продолжил Тоби, — мой отец — отменный рыбак, и он часто берет меня с собой на рыбалку, но никогда не рассказывал о том, что в Пестрянке водится такая рыба, которую можно поймать лишь перед рассветом, потому я решил остаться и поглядеть, что за рыбу они собираются поймать. Я не стал возвращаться к костру, а спрятался за деревьями. Они действительно достали из тележки сети, только ловили не рыбу…
Он умолк в смущении, а его друзья вновь зафыркали.
— Ну же! — воскликнул, теряя терпение, Люк. — Что же оказалось у них в сетях? Ты получишь нож лишь в том случае, если расскажешь все.
— Говори ты, Дориан, — еще больше смутился Тоби, подталкивая вперед другого паренька, следующего за ним по старшинству, по имени Дориан. Однако тот лишь хихикал, опустив голову.
— А я скажу! — смело заявил самый младший из троих, по имени Питер. — Они ловили плоды фейри, вот что!
Люк вскочил на ноги.
— Грудастая Бриджит! — воскликнул он в ужасе.
Ранульф усмехнулся:
— А ты не догадался, что там было, Люк?
— Да, — продолжил Питер, приободренный тем эффектом, который произвели его слова, — там были плетеные корзины, наполненные плодами фейри, я знаю это, потому что Незабудка сорвала с одной из них крышку…
— Да, — перебил его Тоби, осознав, что маленький Питер украл часть его славы, — она сорвала крышку с одной из корзин, и я впервые увидел эти плоды. Они казались звездочками, упавшими с неба, осветили всю долину. Незабудка все ела, ела их и никак не могла наесться… как пчела, которая пьет нектар с цветов. Вдова и доктор смеялись, глядя на нее, хотя были недовольны. А молоко ее на следующее утро… Боже! Оно пахло розами и пастушьим тимьяном, однако корова эта больше не вернулась в стадо, вдова продала ее какому-то фермеру, который живет в двадцати милях от нас, и…
Тут Люк не выдержал.
— Ах вы, мелкие негодяи! — воскликнул он. — Трудно представить себе все беды, которые творятся сейчас в Луде, когда магистраты и городская стража лезут из кожи вон, пытаясь выяснить, как эта отрава пересекает границу, а три маленьких прохвоста все знают и молчат!
— Мы боялись вдовы, — растерянно произнес Тоби и добавил с мольбой в голосе: — Только не говори ей, что мы проболтались.
— Не беспокойтесь, не скажу, — пообещал Люк. — Вот вам нож, а вот монетка, разыграйте его между собой… Поджаренный сыр! В каком же милом местечке мы оказались! А ты уверен, Тоби, что это был доктор Лер?
Тот энергично закивал и выставил вперед свою; загорелую пятерню:
— Да, уверен, руку даю на отсечение.
— Подумать только, доктор Лер! — воскликнул Люк, а Ранульф усмехнулся.
Люк уже видел себя героем, разоблачившим контрабандистов, а главное — доктора Лера. Это он, всеобщий любимец, вел тогда разговор со вдовой, его случайно подслушал Люк. Просто уму непостижимо.
Теперь у Люка есть доказательства, и он сделает все, чтобы Ранульф не провел больше ни одной мочи на ферме вдовы Тарабар.
Нож выиграл Тоби, очень довольный, спрятал его в карман. Разговоры прекратились, наступило молчание.
Время от времени лягушка напевала свою серебряную песенку да набегал легкий ветерок.
Первым нарушил молчание Ранульф.
— А далеко ли отсюда до страны Фейри? — спросил он, чем немало удивил собравшихся.
Мальчишки вновь начали толкать друг друга локтями и хихикать в кулак.
— Как не стыдно, господин Ранульф! — вознегодовал Люк. — Произносить такие слова при детях!
— Но я хочу знать! — воинственным тоном ответил Ранульф.
— Скажи, Дориан, что говорила твоя бабуля? — хихикнул Тоби.
И Дориан после некоторых уговоров повторил старинную поговорку:
— За десять тысяч лиг по большой Западной дороге и в десяти милях по Млечному Пути.
Тут Ранульф вскочил на ноги и, хохоча, вскричал:
— Тогда бежим до земли Фейри. Держу пари, я прибегу первым. Раз, два, три…
Он исчез бы во тьме, если бы трое ребят, потрясенных и восхищенных такой отвагой, не бросились следом за ним и не остановили возле костра.
— Вижу, господин Ранульф, сегодня в тебя вселился бес баловства, — буркнул Люк.
— Такими вещами не следует шутить, в особенности сегодня, господин Шантеклер, — серьезным тоном промолвил Тоби.
— Ты прав, юный Тоби, — согласился Люк, — ему бы хоть половину твоего здравого смысла.
— Он просто пошутил, правда, господин Шантеклер. Ты ведь не хотел, чтобы мы и в самом деле бежали… туда? — испуганно спросил маленький Питер, во все глаза глядя на Ранульфа.
— Конечно, пошутил, — проговорил Люк.
Ранульф промолчал.
Снова воцарилась тишина. А вокруг, подчиняясь слепым извечным законам, не замечая человека, происходили мириады событий — в траве, на деревьях, в небе.
Люк зевнул и потянулся.
— Скоро начнет светать, — проговорил он.
Самая опасная часть ночи позади, и Люк надеялся, что им удастся благополучно пережить оставшуюся часть темного времени суток.
Был тот самый час, когда ночные скитальцы начинают мечтать о постели и, следуя примеру Санчо Пансы, благословлять человека, который придумал ее. Поеживаясь, они поплотнее закутались в плащи.
И тут произошло нечто необычайное. После перенесенного напряжения каждый скорее ощутил, чем увидел, что ночь вдруг утратила темноту и между двумя холмами истекает кровью рассвета.
Сперва это место в небе стало менее черным. Затем посерело, после чего пожелтело и, наконец, покраснело. Таким же образом преобразилась земля. Там и сям над черным полем травы стали проступать серые клочки, и спустя несколько секунд стало ясно, что это заросли цветов. Потом к серому цвету примешался оттенок морской зелени, и стало видно, что серо-зеленый цвет принадлежит листве, на фоне которой сначала белели, а потом розовели или голубели лепестки; однако и желтизна примул, и голубизна диких барвинков казались неуловимыми, словно оттенки света, и казалось, если сорвать цветок, он окажется чисто-белым.
А потом всякие сомнения исчезли! Синий и желтый цвета разом стали реальными и осязаемыми. Краски вливаются в жилы земли, и она вот-вот оживет. Однако тот, кто способен одним глазом смотреть на землю, а другим на небо, заметит, что когда на земле вспыхивает цветок, на небе гаснет звезда.
И вот виноградники долины вновь сделались красными и золотыми, горы оделись зеленью, а Пестрянка порозовела.
Пропел петух, за ним второй, странный призрачный звук, явно принадлежавший не улыбающейся и торжествующей земле, а одной из далеких, умирающих звезд. И тут с Ранульфом что-то случилось. Он вскочил на ноги, замер, в глазах зажегся странный огонек.
Тут с еще более далекой звезды тоже пропел петух, и ему откликнулся другой.
— Это зов! Это зов! — воскликнул Ранульф.
И не успели его спутники вскочить на ноги как мальчик понесся по одной из коровьих троп к Спорным горам.
Глава XXI Старый козопас
На несколько секунд они словно оцепенели, а потом охваченный паникой Люк крикнул мальчишкам, чтобы они оставались на месте, а сам пустился в погоню.
Он топал вверх по тропе, время от времени строго приказывая Ранульфу вернуться, однако расстояние между ними все увеличивалось.
В ушах у Люка звенело, голову жгло, он постепенно терял чувство реальности, словно бежал не по земле, а летел сквозь безвоздушные космические пространства.
Он не знал, как долго бежит, тот, кто вкладывает в бег все силы, оставляет позади не только пространство, но и время. В конце концов в полном изнеможении он упал на землю.
А когда пришел в себя и хотел продолжить бег, оказалось, что небольшое пятнышко впереди, в которое превратился Ранульф, исчезло.
Тут бедный Люк начал казнить себя и ругать Ранульфа.
Впереди послышался звон колокольчиков, и на вьючной тропе появилось стадо коз и очень дряхлый пастух, если судить по согбенной спине, потому что лицо его скрывал капюшон.
Он приблизился к Люку, остановился, тяжело опираясь на посох, и внимательно поглядел на него.
— Ты, молодой господин, видно, бежал во всю прыть, — проговорил старик. Его старческий голос дрожал. — И ты не первый бежал что есть мочи нынешним утром.
— Не первый? — обрадовался Люк. — А кто первый? Невысокий рыжеволосый парнишка, лет двенадцати, в зеленом, расшитом золотом камзоле?
— Ну, рыжий он был это точно, а вот камзол…
Тут старик зашелся кашлем и долго не мог остановиться. Люк едва сдерживался, чтобы хорошенько не потрясти его.
— А вот камзол… глаза у меня теперь не такие острые, как прежде…
— Ладно, забудем камзол! — воскликнул Люк. — Ты говорил с ним?
— А вот камзол… негоже это молодому перебивать старика… камзол мог быть и зеленым, однако мог быть и желтым. Только молодой джентльмен не тот, за которым ты гонишься.
— Откуда ты знаешь?
— Тот, которого я видел, сын сенешаля, — промолвил старик.
— Как раз за ним я и бегу, за господином Ранульфом Шантеклером! — воскликнул Люк. — Давно ли ты видел мальчика? Мне необходимо его догнать.
— Тут надо не две ноги, а четыре, иначе не догонишь, — невозмутимо ответил козопас. — Молодой джентльмен сейчас на пути в Лунтраву.
— В Лунтраву? — Люк с удивлением поглядел на него.
— Ага, в Лунтраву, туда, где делают сыры. Я пасу коз для йоменов Луда, их сенешаль послал на границу, чтобы в страну не проникло, сам знаешь что. И кто, по-твоему, прибежал в их лагерь с полчаса назад в красном камзоле и с зелеными волосами если не твой юный джентльмен. «Стой!» — кричит ему караульный йомен. «Пропустите меня. Я молодой господин Шантеклер», — отвечает он. «И куда же ты направляешься?» — спрашивает йомен. «В страну Фейри», — отвечает он. Тут все так и покатились со смеху! А парнишка знай твердит, что ему нужно в страну Фейри, и никто, мол, не остановит его. Тут все еще больше развеселились. Не пропускают негодника, говорят, что отвезут его туда, откуда он явился. В ответ он вытаскивает подписанное сенешалем письмо, в котором ему приказано оставить ферму вдовы Тарабар и отправляться к фермеру Зеледжелли в Лунтраву. Тут один из йоменов оседлал коня, мальчик сел в седло позади него, и они немедленно направились в Лунтраву по одной из уходящих на северо-восток скотских троп, выходящих примерно на середину дороги между Лебедянью и Лунтравой. Вот такие дела, мой юный друг.
Люк с облегчением подбросил кепку в воздух.
— Ах, мелкий негодник! — воскликнул он радостно. — Надо же, ничего не сказал мне о том, что получил письмо от Его чести, а я целых три дня жду этого письма! Значит, молодой господин отправляется в надежное место! Здорово же меня напугал. Ну, спасибо тебе, старичок, громадное спасибо! Вот тебе пятачок, выпей за здоровье господина Ранульфа Шантеклера. — И с легким сердцем Люк решил возвратиться в долину.
И вдруг услышал за спиной нечто похожее на Хо-хо-хо! наглого Вилли Клока, который недолго проработал конюхом у Его чести.
Люк остановился и огляделся. Но увидел только старого козопаса, опиравшегося на свой посох.
Добравшись до фермы, Люк обнаружил там полный переполох. Мальчики-пастушата насмерть перепугали Хейзл, подтвердив самые худшие из ее опасений, когда сообщили, что господин Ранульф бежал в сторону гор, а господин Хэмпен последовал за ним.
— Бабушка, — вскричала Хейзл, ломая руки, — необходимо послать гонца к сенешалю!
— Вздор! — гневно возразила вдова. — Занимайся своими делами, мисс! Оба вернутся целыми и невредимыми задолго до того, как гонец домчится до Луда. Скажете тоже, к горам! Да этот Люк Хэмпен — настоящая старая баба. Просто господин Ранульф решил чуточку позабавиться. Считай, что он спрятался за дерево и вот-вот с криком выпрыгнет из-за него. В жизни не видала, чтобы из ничего устраивали столько шума.
Потом, повернувшись к испуганным батракам и работникам, окружившим троих ребятишек, приказала всем заняться делами и не болтать всякого вздора.
Однако слова ее Хейзл не убедили. Она не доверяла вдове чуть ли не с самого детства и чувствовала, что та враждебно настроена к Ранульфу.
Хейзл ни на мгновение не забывала о том, что является законной владелицей фермы. Не пора ли наконец поставить все на свои места, вопреки желанию вдовы, доложить о случившемся местному законоведу и отправить гонца к господину Натаниэлю?
Нет, надо дождаться совершеннолетия, или замужества, или… впрочем, вряд ли ей удастся разорвать отношения со вдовой и поступить так, как она сама считает нужным. Сколько Хейзл себя помнила, эта ужасная женщина порабощала ее волю, полностью подчинив себе девушку.
Хейзл стиснула кулаки и поджала губы. Она должна переломить ситуацию. Но может быть, подождать, пока они вернутся? Да, надо подождать до полудня.
Люк прибыл еще до полудня и смущенно сообщил, что господин Ранульф всех обманул.
— Итак, мисс Хейзл, если вы дадите мне что-нибудь перекусить и одолжите коня, я съезжу за юным проходимцем в Лунтраву. Надо же так обойтись со всеми нами, даже не намекнуть мне, что он получил весточку от отца! А я так ждал письма от Его чести, надеясь, что он прикажет нам вернуться…
Хейзл вскинула бровь:
— Вернуться? Но почему? Люк покраснел и пробормотал что-то невнятное.
Хейзл смотрела на него несколько секунд, после чего очень спокойно произнесла:
— Впрочем, ты не напрасно просил сенешаля забрать отсюда господина Ранульфа.
Люк многозначительно посмотрел на девушку.
— Да… Увы, здесь не место для господина Ранульфа. Прошу прощения, мисс, но мне бы хотелось предостеречь — не доверяйте этому Эндимиону Леру и никогда не соглашайтесь отправляться с вашей бабушкой на рыбную ловлю!
— Благодарю вас, господин Хэмпен, но я сама могу о себе позаботиться, — с достоинством ответила Хейзл. Однако глаза ее были полны тревоги: — Надеюсь… Ох! Надеюсь, что ты обнаружишь господина Ранульфа в Лунтраве целым и невредимым! Все это… все это очень странно. И старый козопас… кто бы это мог быть? Возле Эльфова перехода иногда встречаешь странных людей. Ты дашь мне знать, если ничего плохого не случится?
Люк пообещал. Слова Хейзл смутили юношу, его опять охватила тревога, и пятнадцать миль пути до Лунтравы на добром коне показались ему бесконечными.
Увы! На ферме Зеледжелли Ранульфа не оказалось, но, как выяснил Люк, фермер ждал его, потому что несколько дней назад получил от господина Натаниэля письмо, из которого следовало, сын его уже должен был находиться в Лунтраве. Теперь Люку оставалось лишь на следующее утро выехать в Луд, куда, как мы уже знаем, он прибыл спустя несколько часов после отъезда господина Натаниэля.
Глава XXI! Кто такой Портунус?
Проделав половину пути до Лебедяни, господин Натаниэль привязал коня к дереву и решил немного вздремнуть. Время перевалило за полдень, и чем дальше он уезжал на запад, тем становилось теплее, словно вернулось лето.
Его разбудил сухой смешок, и, оглядевшись, он увидел присевшего возле него старика — странного на вид, который внимательно смотрел на него.
— Кто это меня разбудил, хотел бы я знать? — недовольным тоном спросил господин Натаниэль.
Старик закрыл глаза, сглотнул несколько раз и сказал:
— Кто ты? И кто я? Отвечай! Сам загадку мою разгадай.После чего нетерпеливо топнул ногой.
Свихнулся, что ли, старик, подумал господин Натаниэль и закрыл глаза, надеясь, что старикан уйдет.
Однако тот не собирался уходить и то и дело подталкивал Натаниэля в бок.
— Что ты делаешь? — возмутился господин Натаниэль.
— Дою голубых овец; красный сбираю цвет, сплетаю истории ушедших и мертвых лет, —ответил старик.
— Вот и ступай доить своих красных овец, а я хочу спать, — с этими словами экс-мэр надвинул на глаза шляпу и притворился, будто храпит.
Но тут же вскочил, взвизгнув от боли. Старик изо всех сил ткнул его в живот и уставился на него, склонив голову набок. Глаза его, казалось, полыхали огнем, до того были яркими.
— Что ты себе позволяешь, старикан! — рассердился господин Натаниэль. — Почему не даешь мне спать? Шел бы ты своей дорогой и оставил меня в покое.
Тут старик стал тыкать пальцем в дерево, издавая нечленораздельные звуки.
Затем подобрался поближе к господину Натаниэлю и прошептал:
— Скажи, что есть дерево и не дерево, человек и не человек, кто нем, но может рассказать тайну, кто без рук, но умеет бить?
Старик попятился и замер на месте, потирая ладони и что-то кудахча себе под нос.
Может, потешить старикашку, подумал господин Натаниэль, и приветливо спросил:
— Ну и каков же ответ на твою загадку?
Тут старец окончательно лишился дара речи и бурчал себе под нос:
— Рой… рой… рой.
— Рой, рой, рой… Неужели это и есть ответ на твою загадку? Не могу же я торчать здесь целый день, разгадывая твои загадки. Если хочешь мне что-то сказать, говори внятно, чтобы можно было понять?
Тут господин Натаниэль вспомнил, что, согласно поверью, Молчаливый народ, возвращаясь в Доримар, мог говорить только загадками или в рифму, и испытующе посмотрел на старика:
— Кто ты?
Старик продолжал твердить:
— Рой… рой… рой.
— Попробуй еще раз. Может, что-нибудь и получится, — посоветовал господин Натаниэль. — Ты пытаешься мне назвать свое имя?
Старик зажмурился, глубоко вздохнул и, сделав над собой усилие, произнес:
— Используй… возможность. Рой… рой. Портунус мое имя.
— Ну, вот, наконец-то. Итак, ты зовешься Портунус?
Старик нетерпеливо топнул ногой:
— Рак! Рак!
— Какое отношение имеет к происходящему рак, а, старина? — спросил господин Натаниэль.
Старик недовольно мотнул головой.
— Батрак, — выдал он наконец. — Рой… рой.
После чего произнес незатейливый стишок:
Рой и копай, рой и копай, В телегу фермера коня запрягай.Отчаявшись добиться от него толку, господин Натаниэль отвязал коня. Но когда попытался сесть на него, старик схватился за стремя и с мольбой в голосе повторил:
— Рой… рой… рой.
Господин Натаниэль оттолкнул его и, когда отъехал, все еще слышал голос старика:
— Рой… рой.
— Хотелось бы знать, что именно собирался поведать мне этот старик, — пробормотал себе под нос господин Натаниэль.
Утром следующего дня он въехал в деревню Лебедянь-на-Пестрянке.
Здесь осень уже вступила в свои права. Надевшие желтый и красный убор деревья полыхали на фоне темно-зеленых сосен на склонах далеких гор.
— Вот тебе и Золотые Яблоки Заката! — пр бормотал господин Натаниэль. — Ни малейшего представления не имел о том, что эти поганые горы здесь совсем рядом. Хорошо, что Ранульф в безопасности.
Спросив дорогу к ферме Тарабаров, он съехал с большака в долину, весьма очаровательную в своей осенней раскраске. Урожай убрали, и лозы покрыла золотая и красная листва. Некоторые из узких и продолговатых листьев дикой вишни сохранили еще свой бутылочно-зеленый цвет, хотя между ними, на том же самом сучке, то здесь, то там проглядывал нежно-розовый, как лососина; тутовые деревья казались то канареечно-желтыми, то зелеными, словно трава. Горный ясень горел огнем розового бутона, гася пламя своей нежной серой зеленью. Березы сыпали желтые искры и шелестели; тропа была усыпана черными продолговатыми маслинами, похожими на козий помет. Был один из тех таинственных осенних дней, которые полны света, хотя солнце прячется за облаками, и, глядя на эти сверкающие осенним великолепием деревья, можно было подумать, что именно они-то и являются источником затопившего долину света.
Время от времени мимо господина Натаниэля пролетала крошечная желтая бабочка — желтый листок, сорвавшийся с одной из ветвей; время от времени с облитых кровью, корявых от муки дубовых ветвей срывался желудь и со стуком падал на землю.
После того как господин Натаниэль покинул деревню, навстречу ему не попалось ни единого человека, хотя время от времени он замечал вдалеке работников, шедших за плугом по винограднику, их блузы как раз и являлись тем самым темным пятном, которое превращает картину в повествование. Голубой дымок так же говорил о близости человеческого жилья, как и редкие петухи, каждый расхаживал перед своей красной лозой. А вдали виднелся связанный в снопы тростник, казавшийся то белым, то розовым, то серым, как плодовое дерево в цвету.
Направив неторопливой рысью коня, господин Натаниэль обратился мыслями к фермеру Тарабару, много раз проезжавшему этой дорогой.
Да, фермер Тарабар был некогда тоже живым, как и Натаниэль, как миллионы других людей, чьи имена ему неизвестны. Когда-нибудь и он, Натаниэль, будет жить лишь в памяти других людей. И останется от него всего несколько слов, высеченных на камне. Ему вдруг захотелось обнять Ранульфа. Отрадно сознавать, что сын ждет его на ферме!
Путешествие его близилось к концу — еще издали он увидел женщину, стиравшую белье у каменного корыта.
«Не вдова ли это», — подумал Натаниэль, и по спине его побежали мурашки.
Однако подъехав поближе, он увидел, что прачка — совсем юная девушка.
Натаниэль не ошибся, подумав, что это внучка Хейзл. Когда он спросил, не ферма ли это вдовы Тарабар, она ответила:
— Да, сэр.
— Недаром я так стремился сюда, — сказал господин Натаниэль. — Мне говорили, что здесь процветающая ферма и отличное стадо, но забыли упомянуть о том, что хозяйничает на ферме здесь настоящая роза. — И он игриво подмигнул девушке.
Такая вольная манера обращения с юными леди была чужда господину Натаниэлю. Однако на ферме он собирался сыграть некую роль и уже начинал в нее вживаться.
Он и не подозревал, как его слова обрадуют девушку. Ведь он по сути дела признал ее законной владелицей фермы. А именно об этом она и мечтала.
— Если хотите посмотреть ферму, я охотно покажу ее вам, — любезно предложила она, приветливо улыбаясь.
— Благодарю, от всей души благодарю. Я торговец сыром из Луда гуманного. А в наши дни за прилавком не подремлешь, если хочешь оставаться на плаву. Конкуренция, мисс, конкуренция не дает покоя таким старикашкам, как я. Не так давно во всем Луде сыром торговали шесть человек, а теперь только на моей улице нас шестеро. Вот я и решил поездить да посмотреть, где можно закупить самый лучший товар.
И псевдоторговец приступил к подробному и обстоятельному повествованию о прочих фермах, которые он якобы посетил в своем воображаемом путешествии. Самой лучшей он назвал ферму, принадлежавшую его старому приятелю — фермеру из Лунтравы, где в настоящий момент должны были находиться Ранульф и Люк.
Тут Хейзл насторожилась и дрожащим от волнения голосом спросила, не видел ли он там двоих парней — старшего и еще маленького, сына сенешаля.
— Вы имеете в виду маленького господина Ранульфа Шантеклера и Люка Хэмпена? Ну, конечно же, видел. Они-то и посоветовали мне съездить сюда… И я им очень благодарен за это, потому что здесь есть на что посмотреть.
Хейзл с облегчением вздохнула.
— Ой… ой! Я так рада, что вы их видели! — выпалила она.
«Ага! Мой приятель Люк в свободное время нашел себе хорошее занятие — юный барбос!» — подумал господин Натаниэль, подробно рассказывая о том, как живет на новом месте.
Хейзл чувствовала себя в обществе веселого и любезного сыроторговца вполне непринужденно. Она предпочитала пожилых мужчин молодым, и в лице господина Натаниэля обнаружила надежного собеседника, с которым можно быть до конца откровенной. Господин Натаниэль ловил каждое ее слово и мечтал услышать побольше.
— Но, мисс, неужели здесь все с утра до вечера работают и нет никаких развлечений! — воскликнул он наконец. — Нет времени погулять и порезвиться?
— Иногда мы танцуем по вечерам, когда приходит старый Портунус, — ответила она.
— Портунус! — воскликнул он с интересом. — А кто он такой?
Этот вопрос заставил девушку насторожиться.
— Старый ткач, он умеет играть на скрипке, — ответила она натянутым тоном.
— Тот, у которого мозги набекрень?
— Значит, вы знаете Портунуса, сэр?
— Да, я встретил его в пути. Он явно хотел что-то сказать, но не смог. Попугай и тот намного красноречивее.
— Мне тоже так частенько казалось! — воскликнула Хейзл в порыве откровенности. — Он все время пытается что-то сказать мне, ходит за мной по пятам. Иногда я думаю, что надо ему помочь, быть с ним помягче, но не могу… у меня от него мурашки по коже.
— Мурашки по коже, говорите?
— Да-да! — воскликнула она, поежившись. — Посмотрели бы вы, как он набивает брюхо недозрелыми плодами! Точь-в-точь как насекомое или птица. А навязчивый, как кот, — те тоже липнут к людям, которые их не любят. Ой, он такой противный! А еще злобный и вредный. Впрочем, ничего удивительного, если…
Она вдруг умолкла.
Господин Натаниэль пытливо посмотрел на нее:
— Что, если?
— Ну… ну, это просто глупые деревенские сплетни, — уклончиво проговорила Хейзл.
— Что он… э, ну, скажем, один из тех, кто принадлежит к Молчаливому народу?
— А откуда вам это известно?
— Просто догадался. Понимаете, мисс, здесь, на западе, я наслушался подобных историй. Он хотел что-то сообщить мне, но не смог. Лишь без конца твердил: «Рой, рой, рой…»
— О, это его любимое слово! — воскликнула Хейзл. — Старухи говорят, что он пытается назвать свое имя. Видите ли, они считают, что… ну, что он умер, а потом вернулся на землю, и что при жизни был здесь батраком по имени Рой Карп.
— Рой Карп? — вскричал господин Натаниэль.
Удивленно поглядев на него, Хейзл спросила:
— Значит, вы все-таки знали его, сэр?
— Нет-нет, просто я где-то слышал это имя. Впрочем, в здешних краях оно довольно часто встречается. И что же говорят здесь об этом Рое Карпе?
Хейзл смутилась.
— Со мной они не слишком откровенны, сэр. Иногда мне кажется, что с его именем связана какая-то тайна. Я знаю только, что он был веселым и добрым, прекрасным скрипачом, которого все любили. Но он плохо кончил, однако я знаю, что именно с ним случилось. Говорят, — она понизила голос, — когда человек уходит к Молчаливому народу, он становится вредным и злобным, каким бы хорошим ни был при жизни. А если с ним обошлись нечестно, а с Роем именно так и обошлись, он становится еще более злобным, так по крайней мере мне кажется. То что он хочет сказать, как-то связано со старой каменной гермой в нашем саду… он так любит возле нее плясать.
— В самом деле? И где же она находится, эта старая герма? Мне бы хотелось посмотреть на нее из чистого любопытства, надо же оправдать впечатлениями все расходы на мое путешествие! — Господин Натаниэль вновь стал разыгрывать из себя веселого сыроторговца.
Провожая гостя в сад, Хейзл в волнении проговорила:
— Возможно, вам это неизвестно, сэр, но я живу здесь с бабушкой; она мне не родная. А… а… а она, как кажется, любит старого Портунуса, так что лучше не говорить при ней о том, что вы видели его.
— А я и не собираюсь. Пока. — И господин Натаниэль сурово улыбнулся.
Хотя все плоды в саду уже сняли, красные и желтые листья и удивительные, отливающие рубином ветви персиковых деревьев создавали достаточно яркий фон для старой серой гермы, к тому же она была увита алой с золотом виноградной лозой.
— Мне порой кажется, что в ней воплощен дух — хранитель фермы, — застенчиво произнесла Хейзл, украдкой бросив взгляд на Натаниэля. Однако восхищения в его глазах она не увидела. Поглядев на каменный столб, он хлопнул ладонями по бедрам и рассмеялся.
— Солнце, Луна и Звезды! — воскликнул Натаниэль. — Вот и ответ на загадку Портунуса: «Дерево, которое не дерево, и человек, который не человек». — И он пересказал Хейзл слова Портунуса, единственные, которые ему удалось произнести.
— У кого нет рук и кто может ударить, кто нем, и может рассказать тайну, — повторила она следом за ним. — Значит, ты умеешь драться и рассказывать тайны, старый приятель? — проговорила девушка загадочным тоном, поглаживая серый, поросший лишайником камень. И, покраснев, со смехом попросила прощения за ребячество.
С сельским гостеприимством Хейзл предложила незваному гостю провести на ферме несколько дней и велела отвести его лошадь в конюшню, а для него самого приготовить лучшую комнату.
Вдова тоже сердечно приветствовала господина Натаниэля, когда он спустился в просторную кухню к полуденной трапезе.
За обедом Хейзл сказала:
— Этот джентльмен только что прибыл из Лунтравы, он говорит, что маленький господин Шантеклер и молодой Хэмпен устроились на ферме. Оба процветают и передают нам привет.
— Да, — бодрым тоном проговорил господин Натаниэль, мастер придумывать всякие небылицы, — мой старый друг фермер в восторге от обоих мальчишек. В Луде поговаривали, что маленький Шантеклер болен, но вы здесь сотворили настоящее чудо, теперь он розовый и круглый, как лунтравский сыр.
— Ну что ж, рада, что вид юного джентльмена порадовал вас, сэр, — очень довольная произнесла вдова. Однако в глазах ее промелькнула тревога.
После обеда вдова и Хейзл отправились по своим делам, а господин Натаниэль принялся расхаживать перед домом, погрузившись в раздумье, мысленно возвращаясь снова и снова к странному старику — Портунусу.
Неужели он и впрямь был некогда Роем Карпом и теперь вернулся на старое место, чтобы передать людям весть?
Как обычно, господин Натаниэль рассматривал в первую очередь метафизические аспекты ситуации, а уже потом практические. Если Портунус действительно Рой Карп, значит, мир и покой скоро оставят эти сжатые поля и убранные виноградники, красные и золотые деревья. Ибо теперь бывший мэр наконец понял, что духовное утешение черпал в предметах безмолвных, свидетельствующих о том, что человеческие страсти и мучения не имеют ни смысла, ни корней, ни длительности, что они вообще не присущи этому миру.
Говорят, будто страна Фейри — не что иное как иллюзия, что существуют лишь жизнь и смерть, и ничего более. Но разве эти слова когда-либо утешали его? Разумеется, нет.
— Так, так, — вслух произнес Натаниэль и вздохнул.
Но хватит предаваться праздным размышлениям, пора приступать к делу. Кем бы ни оказался Портунус — призраком Роя Карпа или просто свихнувшимся старым ткачом, — он явно знает нечто такое, чем хотел бы поделиться, тайна его связана с находившейся в саду гермой. Конечно, вполне могло оказаться, что она не имеет никакого отношения к убийству фермера Тарабара, однако, памятуя об украшенной вышивкой туфельке, господин Натаниэль полагал, что отвергать возможный ключ к решению загадки было бы откровенным безумием.
Он все время прокручивал в памяти слова старика: «Рой, рой, рой…»
И тут его осенило: почему бы не истолковать это слово в его прямом значении? «Рыть… штыковой или совковой лопатой?» А рыть в таком случае следовало под гермой, и он решил, что займется этим при первой же представившейся возможности.
Глава XXIII Северная печурка и письмо мертвеца
В ту ночь Хейзл никак не могла уснуть. Быть может, потому, что днем сделала некоторые наблюдения. Вечера становились холодными, и перед ужином она поднялась в комнату господина Натаниэля, чтобы развести в ней очаг. Там она обнаружила вдову и одну из ее служанок, которые, к удивлению девушки, принесли с чердака старую чугунную печурку, ею многие годы никто не пользовался, ибо в Доримаре предпочитали камины. Вдова привезла эту печку на ферму вместе со своим приданым, поскольку ее мать была родом с далекого севера.
Заметив удивление на лице Хейзл, вдова невозмутимо сказала:
— Дрова отсырели, и я подумала, что так нашему гостю будет уютнее.
Однако Хейзл знала, что дрова не могли отсыреть, поскольку дождей давно не было. И она заподозрила неладное.
Хейзл по своей природе была очень гостеприимна, и о гостях пеклась больше, чем о самой себе.
Между тем господин Натаниэль, несколько озадаченный иноземным прибором, обогревавшим его комнату, забрался в постель. Но свечу погасил не сразу.
И глаза его обратились к расписному потолку, тому самому, на который смотрел и Ранульф, засыпая в этой комнате. На фоне густого винного цвета вились лазурные арабески, перемежавшиеся с тиснеными тусклыми золотыми точками, а в четырех углах размещались алебастровые гроздья винограда и алые ягоды. Хотя от времени краски поблекли и с гроздьев исчезло довольно много ягод, они не утратили своей красоты и выглядели, как живые.
Натаниэля клонило в сон, мысли путались, тело отяжелело. Краски на потолке сливались в единое пятно, старинные нашлепки отделялись от фона и начинали сверкать в пространстве, как Солнце, Луна и Звезды или же как яблоки… Золотые Яблоки Заката? И залитый алым кларетом потолок превратился в поле — поле, сплошь усыпанное алыми цветами. Среди цветов Натаниэль увидел ухмыляющегося Портунуса и плачущего Ранульфа. Прежде чем погрузиться в сон, Натаниэль вышел на прямую дорогу, по которой следовал к своей цели. Ну, конечно же, это был Млечный Путь!
Тревога Хейзл росла. Наконец она не выдержала, поднялась с постели и, бесшумно ступая, отправилась в комнату Натаниэля.
У двери остановилась и, приложив ухо к замочной скважине, прислушалась. Из комнаты не донеслось ни звука. Тогда она осторожно приоткрыла дверь. Свеча догорала, а гость неподвижно лежал на кровати. Уж не умер ли? В комнате было нестерпимо душно. В панике Хейзл распахнула окно, плеснула в печку воды из кувшина, чтобы загасить ее, и окатила самого господина Натаниэля. Он открыл глаза, застонал и что-то пробормотал.
— О, сэр, какое несчастье! Вы живы! — сквозь слезы произнесла Хейзл. — Схожу за кружкой настойки и нюхательной солью.
Вернувшись, она обнаружила господина Натаниэля сидящим в постели, он еще не совсем пришел в себя, но не был уже таким бледным, а настойка привела его в обычное состояние.
Тут Хейзл опустилась на пол и после пережитого разразилась рыданиями.
— Ну, ну, дитя мое, — ласково промолвил господин Натаниэль, — плакать нам не о чем. Я чувствую себя нормально… Впрочем, клянусь Жатвой душ, не могу понять, что со мной приключилось. Не помню, чтобы когда-либо я терял сознание.
Однако Хейзл была безутешна.
— Надо же, чтобы такое случилось в моем доме, — рыдала она. — Тем более с немолодым джентльменом… А ведь мы славимся своим гостеприимством… О, Боже, о, Боже!
— Вы не должны себя винить, дитя мое? — промолвил господин Натаниэль. — Должно быть, я потерял сознание после всех треволнений последних дней. Так что вам не в чем себя упрекать.
Но Хейзл продолжала рыдать:
— Мне сразу не понравилось, что она притащила сюда эту железную печку! И надо же, чтобы такое произошло под моим кровом! Ведь это мой дом… и теперь она не проведет в нем даже ночи!
Хейзл вскочила на ноги, глаза ее пылали.
— Вы имеете в виду вдову вашего деда? — спросил Натаниэль.
— Да-да, ее самую! — воскликнула Хейзл негодующим тоном. — Она у нас со странностями… так было всегда… ни один честный фермер не ведет себя подобным образом — у нас ни фенхеля над порогом, в закромах эта гадость… и сердце у нее такое же мерзкое. Я сразу заметила, с какой улыбкой она смотрела на вас за обедом.
— Полагаете, эта женщина покушалась на мою жизнь? — спросил он.
Столь откровенный вопрос привел девушку в замешательство, и она вновь зарыдала. Господин Натаниэль подождал, пока она успокоится, и негромко сказал:
— Хватит плакать, дитя мое. Вы проявили истинную доброту, но вдове вашего деда мое общество почему-то не нравится, поэтому я не стану здесь задерживаться. Но прежде чем покинуть ваш дом, я должен кое-что сделать, мне понадобится ваша помощь.
Он назвал девушке свое имя, сказал, что хочет найти улики против одного своего врага, зачем, собственно, и приехал на ферму.
Он задумчиво поглядел на девушку и продолжил:
— Полагаю, дитя мое, если мне удастся найти эти доказательства, они могут коснуться и вашей бабушки. Известно ли вам, что ее уже судили по обвинению в убийстве вашего деда?
— Да. — Голос Хейзл дрогнул. — Я думала, ее оправдали.
— Да. Однако бывают судебные ошибки. Уверен, что вашего деда убили и что мой враг — чьего имени я не хочу называть, пока не буду окончательно убежден в этом, — замешан в этом деле. Подозреваю, что вдова была его сообщницей. Учитывая все обстоятельства, согласны ли вы помочь мне?
Хейзл сначала покраснела, потом побелела и нижняя губа ее задрожала. Вдову она не любила, однако следовало признать, что та всегда хорошо относилась к ней, и что хотя кровное родство их не связывало, более близкого родственника у нее не было. И все же, Хейзл всегда была на стороне Закона. Преступление не должно оставаться безнаказанным; а кровная родня — не отомщенной.
Однако сама та страсть, с которой девушка стремилась избавиться от опеки вдовы, рождала в ее душе иррациональное чувство вины; к тому же, говоря откровенно, девушка попросту боялась старухи.
Что, если эти доказательства не найдутся, а вдова узнает о том, что они сделали? Как она после этого ей посмотрит в глаза? Как сможет жить с ней под одной крышей?
И все же… Хейзл не сомневалась, что вдова только что попыталась убить их гостя. Как она посмела?
Хейзл сжала кулаки и едва слышно выдохнула:
— Да, сэр, я помогу вам.
— Вот и отлично! — отозвался господин Натаниэль. — Я хочу воспользоваться советом старого Портунуса — посмотреть, что может оказаться под этой гермой, притом прямо сейчас. Впрочем, вполне возможно, что, вняв бреду безумца, мы не найдем там никаких доказательств, или же под камнем может обнаружиться какое-нибудь сокровище, или некая вещь, не имеющая отношения к убийству вашего деда. Если же мы все-таки извлечем из-под камня весомые доказательства, нам необходимо заручиться поддержкой свидетелей. Например, районного законоведа… кстати, кто он?
— Местный кузнец, Питер Горошина.
— Доверяете ли вы кому-нибудь из слуг настолько, чтобы послать за ним? Преданный вам больше, чем вдове?
— Я верю им всем, и все они преданны мне, — ответила девушка.
— Хорошо. Ступайте, разбудите любого из слуг и немедленно пошлите за кузнецом. Пусть приведет законоведа не в дом, а прямо в сад, не стоит будить вдову раньше, чем это потребуется. Кроме того, слуга может остаться и помочь нам выполнить эту работу: чем больше свидетелей, тем лучше.
Происходящее казалось Хейзл кошмаром. Однако она заставила себя подняться на чердак и разбудила одного из неженатых работников, который, согласно старинному обычаю, ночевал в доме хозяина, и приказала ему скакать в Лебедянь и привезти оттуда кузнеца.
Хейзл прикинула, что ее посланцу потребуется примерно час, чтобы добраться до Лебедяни и вернуться назад, и, прихватив с собой по лопате, они с господином Натаниэлем осторожно выбрались из дома и отправились в сад.
Луна заметно пошла на убыль, однако полная темнота еще не наступила.
— Бедная старушка Луна, — усмехнулся господин Натаниэль, пребывавший в превосходном расположении духа, — крадет у мира все краски, чтобы разрисовать свою бледную физиономию, однако безуспешно! Но поглядите, Хейзл, на своего друга, господина Герма. Судя по его взгляду, ему что-то известно!
Дело было в том, что освещенная лунным светом старая герма попала в, так сказать, родную среду, и под лучами ночного солнца камень ее мерцал и искрился, преобразуясь в серебристую плоть, а загадочная улыбка как бы сделалась еще более многозначительной.
— Простите меня, сэр, — робко произнесла Хейзл, — но мне хотелось бы знать, кого именно вы подозреваете, быть может, доктора Лера?
— А почему вы так думаете? — резким тоном спросил господин Натаниэль.
— Сама не знаю, — произнесла Хейзл.
Вскоре появились посланный в деревню батрак вместе с кузнецом-законоведом, крепким, бодрым и рыжеволосым селянином лет пятидесяти.
— Добрый вечер, — поздоровался с прибывшими господин Натаниэль. — Я — Натаниэль Шантеклер (он был уверен в том, что новость о его смещении еще не достигла Лебедяни), и у меня есть дело, настолько неотложное и тайное, что я был вынужден поднять вас с постели в столь неурочный час. Я имею основания предполагать, что под этой гермой закопан крайне важный предмет, и хочу, чтобы вы засвидетельствовали полную законность всего происходящего. — Он любезно улыбнулся. — А вот и свидетельство моей личности. — Он снял свой перстень и подал кузнецу.
Перстень был украшен известным всей стране гербом его рода — изображением петуха с шестью шевронами, обозначавшими, что шестеро из предков господина Натаниэля занимали пост Высокого сенешаля Доримара.
Появление столь знаменитой личности ошеломило кузнеца и работника. Между тем разжалованный мэр сунул им обоим по лопате и попросил без промедления приступить к делу.
Некоторое время оба селянина копали молча, а потом одна из лопат наткнулась на что-то твердое. «Что-то» оказалось небольшой железной коробочкой, к которой был приложен ключ.
— Доставайте! Доставайте ее! — с волнением в голосе поторопил обоих работников господин Натаниэль. — Хотелось бы поскорее узнать, найдется ли в ней удавка для кое-кого! Клянусь Солнцем, Луной и Звездами!
Увидев, как побледнела Хейзл, господин Натаниэль уже мягче сказал:
— Простите меня, дитя мое, жажда отмщения заставила меня забыть и о хороших манерах, и о благопристойности. Кроме того, не исключено, что мы ничего не обнаружим, кроме горсти золотых крон герцога Обри, закопанных одним из ваших предков.
Открыв коробочку, они обнаружили в ней только запечатанный и упакованный пергамент с надписью: «Первому, кто отыщет меня».
— По-моему, мисс Хейзл, право вскрыть его принадлежит вам. Надеюсь, вы согласны со мной, господин Законовед? — проговорил Натаниэль.
Хейзл дрожащими пальцами сломала печать, разорвала обертку и развернула исписанный лист.
При свете фонаря они прочли следующее:
Я, Иеремия Тарабар, фермер и законовед волости Лебедянь-на-Пестрянке, как человек веселый и любивший шутку, этим вершу свой последний розыгрыш по сю сторону Спорных гор, в надежде, что послание мое не пролежит слишком долго в сырой земле, и порох в нем не подмокнет к тому времени, когда настанет пора поджигать эту ракету. Вот вам моя последняя шутка, и пусть все, кто слышит ее, держатся за бока и рыдают от смеха. Я, Иеремия Тарабар, был коварно и преднамеренно умерщвлен моей второй женой Клементиной, дочерью моряка Ральфа Драные Штаны и чужестранки, явившейся к нам с далекого севера. К преступлению этому ее подстрекал и содействовал ее же любовник, Кристофер Месиглин, иноземец, называвший себя торговцем лекарственными травами. Зуд, который меня терзает, пока я пишу эти строки, и выступившие на моем языке пятна свидетельствуют о том, что меня накормили ягодами, именуемыми в народе ягодами смерти, Моя дорогая жена сварила из них желе, похожее на шелковичное, и дала мне, и я по неведению съел его. Прошу того, кто найдет это послание, отыскать парнишку, по имени Питер Горошина, сына выпивохи-лудильщика, ибо парнишка этот, вечно голодный и ценящий всякий пенс, явился ко мне час назад с корзинкой, полной этих самых смертоносных ягод, и предложил купить их. Я же, чтобы испытать его, спросил, не думает ли он, что в саду у меня неурожай, и я вынужден питаться подобными ягодами. Он сообщил, что видел собственными глазами, как живший у нас джентльмен (Кристофер Месиглин) всего педелю назад собирал эти ягоды, и потому решил, что мы их употребляем. Если же Кристофер покинет паши края, пусть Закон ищет человека кряжистого, с каштановыми волосами, курносого и веснушчатого, как яйцо дрозда, с одним глазом карим, а другим голубым. А чтобы последняя шутка моя не оказалась вздорной, хотя и против собственного желания, я накормил ягодами, купленными у упомянутого парнишки, одного из кроликов некоей малой девицы, рекомой Марджори Бич, дочери моего возницы. И сделал я так ради того, что она, будучи девицей семи лет отроду и крепкой, имеет шанс пребывать по сю сторону гор до тех пор, пока кто-либо не выкопает эту спрятанную мной шутку. Если же окажется по моему слову, она, конечно же, не забудет, как один из ее кроликов вдруг начал чесаться, как язык его покрылся пятнами и стал похож на змеиную шкуру и как она нашла его мертвым. Смиренно прошу у нее прощения за столь жестокую шутку и прошу моих наследников (если таковые будут в живых) отослать ей отличного кролика-самца, окорок и десять золотых монет. Как законовед я мог бы арестовать их еще до кончины, однако решил не торопиться с возмездием. Я делаю это отчасти потому, что всю жизнь был охотником, а и у зайца, и у оленя всегда есть путь к спасению; так что пусть такая возможность останется и у них. Кроме того, мне бы хотелось оказаться как можно дальше в своей дороге по Млечному Пути к тому времени, когда Клементина залезет на деревянную лошадку герцога Обри — предсмертные хрипы ее в петле будут мне неприятны; к тому же я сильно устал. А посему в последний раз подписываюсь здесь своим собственным именем.
Иеремия Тарабар.Глава XXIV Как лису выкуривали из норы
Когда они закончили чтение, Хейзл разразилась истерическими рыданиями, перемежая их возгласами: «Бедный дедушка!» и вопросами: «Неужели ее повесят за это?» Господин Натаниэль, как мог, утешал ее, а когда слезы на глазах Хейзл наконец высохли, она проговорила:
— Бедная Марджори Бич! Она должна получить и окорок и этого кролика.
— Значит, она еще жива? — поинтересовался господин Натаниэль.
Хейзл кивнула:
— Она так и осталась в старых девах, бедствует и живет в Лебедяни.
— А что там сказано о Питере Горохе, смышленом парнишке лудильщика? Ему там ничего не отписано, мисс Хейзл? — лукаво подмигнул кузнец.
Хейзл с удивлением уставилась на него, а господин Натаниэль с радостью воскликнул:
— Действительно, имя-то то же самое, клянусь Жатвой Душ! Значит, это вы парнишкой видели, как Месиглин собирал ягоды?
Хейзл удивилась:
— Значит, вы маленьким мальчиком говорили с моим дедом… в ту ночь? Никогда не думала…
— Что я начинал с такой малости, так? Да, я был потом чем-то вроде лудильщика, как у нас говорят, кузнецом белым, а теперь стал кузнецом черным. Но белое-то лучше черного, вот и выходит, что положение мое ухудшилось. — И он весело подмигнул.
— А помните ли вы, как все было? — поинтересовался господин Натаниэль.
— Как же не помнить, милорд сенешаль. Мне кажется, все это было вчера. Не так-то просто забыть, как посмотрел на меня покойный Тарабар, когда я показал ему свою корзинку. Ягоды смерти в лесу попадаются нечасто, но в те дни мне было проще отыскать их, чем монетку в полпенни. Месиглин был таким бледным, когда собирал их, он и не подозревал, что за ним подсматривают.
— А видели ли вы его с тех пор? — Кузнец подмигнул.
— Не надо, не надо! — нетерпеливо воскликнул господин Натаниэль. — Случалось ли вам видеть его в последующие годы? У нас нет времени на подробности.
— Ну, может быть, и встречал, — неторопливо ответил кузнец, — снующего вокруг Лебедяни, такого же резвого и довольного, как лиса с гусенком в зубах. Я часто задумывался о том, не следует ли мне, как волостному законоведу, выдвинуть против него обвинение, все это было так давно, и живой он показался мне ценнее мертвого. Он прекрасный врач и сделал много добра.
— Значит… значит, это был доктор Лер? — негромко спросила Хейзл, и кузнец подмигнул в ответ.
— Ну что ж, теперь мы можем вернуться в дом, — сказал господин Натаниэль. — Нас еще ждут кое-какие дела. — И, понизив голос, добавил: — Увы, не слишком приятные.
— Полагаю, Ваша честь говорит о том, что лису пора выкурить из норы? — отозвался кузнец с небрежным смешком. — Более паскудного дела представить себе не могу. У этой лисы клыки, как у волка.
На пути к дому батрак шепотом спросил у Хейзл:
— Мисс, выходит, мистрис убила своего мужа? Так всегда говорили в деревне, однако…
— Не надо, Бен, не надо, прошу тебя! Я не в силах этого слышать! — воскликнула Хейзл. Едва они вошли в дом, как она поднялась в свою спальню и заперлась там.
Бена отправили за мотком крепкой веревки, а господин Натаниэль и кузнец изрядно проголодавшись, стали искать какую-нибудь еду.
— И что, скажите на милость, вы ищете в моей кладовке, джентльмены? — раздался голос вдовы.
Она посмотрела на господина Натаниэля — он был бледнее обычного с синевой под глазами, но живой и бодрый. Затем перевела взгляд на Питера Горошину. В этот миг в кухню вошел Бен с веревкой в руках, и господин Натаниэль толкнул в бок законоведа, который, прокашлявшись, провозгласил бесстрастным фальцетом, подобающим его судебному сану:
— Клементина Тарабар! Именем государства Доримарского и чтобы мертвые, живые и еще не рожденные могли спокойно почивать в могилах, постелях и материнском лоне, я арестовываю вас за убийство вашего покойного мужа, Иеремии Тарабара.
Вдова побледнела и несколько секунд просто взирала на них в молчании, а потом пренебрежительно усмехнулась:
— И какую же новую шутку придумал ты, Питер Горошина? Ведь суд оправдал меня, да еще мне принесли извинения. Должно быть, Закон в Лебедяни совсем ослабел, раз ты не находишь ничего лучшего, чем являться к бедной женщине в ее собственный дом и пугать ее старинными лживыми наговорами, забытыми раз и навсегда еще сорок лет назад. Мой покойный муж мирно скончался в своей постели, чего я и тебе желаю. К тому же, Питер Горошина, ты мало смыслишь в Законе, если не знаешь, что человека нельзя судить дважды за одно и то же преступление.
Тут вперед выступил господин Натаниэль.
— Вас судили прежде, — произнес он невозмутимо, — за отравление мужа соком ивы. На сей раз вам будет предъявлено обвинение в отравлении его ягодами милостивой смерти. Сегодня ночью мертвые обрели дар речи.
Вдова завопила, и Хейзл, услышав, натянула одеяло на голову.
Господин Натаниэль сделал знак Бену, и тот подошел к своей хозяйке с мотком веревки, чтобы связать ее. Однако это оказалось непросто. Понадобилась вся сила кузнеца и господина Натаниэля. Вдова царапалась и кусалась, как дикая кошка.
Когда женщине наконец крепко связали руки, господин Натаниэль произнес:
— А теперь я прочитаю вам то, что сказали о вашем деле мертвые.
И господин Натаниэль прочел письмо.
— А не хотите ли узнать, — спросил он, с любопытством разглядывая ее, — кто именно навел меня на след этого письма? Некий старичок, которого, как мне кажется, вы знаете под именем Портунус.
Она еще больше побледнела и с ужасом произнесла:
— Я давно догадалась, кто он такой, и всегда опасалась, что он погубит меня.
Вдова уставилась в одну точку и крикнула:
— Молчаливый народ! Немые — которые говорят! Связанные — которые ударяют! Я привечала и прикармливала старого Портунуса, как домашнюю птицу. Но мертвым неведома благодарность?
— Если старик Портунус действительно тот, за которого вы его принимаете, едва ли у него найдутся основания для благодарности вам, — сухо произнес господин Натаниэль. — Итак, он отомстил — и вам, и вашему сообщнику.
— Моему сообщнику?
— Ну да, Эндимиону Леру.
— Ах, Леру! — Она пренебрежительно усмехнулась. — Нет, умертвить фермера Тарабара приказал некто более могущественный, чем Эндимион Лер.
— В самом деле?
— Да. Тот, кто не видит различия между добром и злом.
— Кто же он?
Женщина снова рассмеялась:
— При вас я не назову его имени. Но не сомневайтесь, его нельзя вызвать в суд. — Она пристально посмотрела на Натаниэля: — Кто вы?
— Меня зовут Натаниэль Шантеклер.
— Так я и думала! — воскликнула она торжествующим тоном. — Хотя не была в этом уверена, ваша жизнь зачарована.
— Вы имеете в виду проявленную вами обо мне заботу, когда поставили в мою комнату смертоносную печку.
— Именно так, — нагло ответила вдова. И, мерзко улыбнувшись, с выражением неописуемой злобы на лице, она сказала: — Даже не подозревала этого, вы сами выдали себя за обедом.
— В самом деле? И каким же это образом?
Она ответила не сразу, рассматривая его, как кошка мышку. А потом негромко произнесла:
— Вы столько наговорили мне всякой ерунды о том, как вашим парням хорошо в Лунтраве. Но вашего сына нет в Лунтраве, и никогда не будет.
— Что вы хотите этим сказать? — воскликнул господин Натаниэль.
Она пронзительно расхохоталась.
— В ночь на тридцать первое октября он услышал призыв герцога Обри и, повинуясь ему, отправился через горы.
— Женщина… о чем… о чем… ты… говоришь… — Жилы на висках Натаниэля вздулись, его бросило в жар.
Вдова еще громче захохотала.
— Ты никогда больше не увидишь своего сына! Юный Ранульф Шантеклер отправился в те края, откуда никто не возвращается.
Он ни на мгновение не усомнился в сказанном. Перед его глазами мелькнула картина, которую он увидел в узорах на потолке, прежде чем потерять сознание.
Обратив потускневший взор к вдове, господин Натаниэль промолвил:
— Если из тех краев никто не возвращается, я могу пойти следом за ним.
— Это через горы-то? — презрительно фыркнула она. — Нет, ты вылеплен не из того теста.
Господин Натаниэль жестом подозвал к себе Питера Горошину, и они вместе вышли из дома. Неподалеку голосили петухи, близился рассвет.
— Мне нужен мой конь, — тупо проговорил Натаниэль. — Вы можете найти мисс Хейзл?
Но девушка уже подходила к ним — бледная и испуганная.
— Все… все кончено?
Господин Натаниэль кивнул и рассказал Хейзл то, что недавно узнал от вдовы. Глаза девушки наполнились слезами.
Потом, повернувшись к Питеру Горошине, он, сказал:
— Немедленно выписывайте ордер на арест Эндимиона Лера и отошлите его в Луд новому мэру, господину Полидору Вигилию. А вам, мисс Хейзл, лучше уехать отсюда — вы будете обвинителем на суде. Остановитесь у своей тети, мистрис Айви Пепперкорн, которая содержит лавку в деревеньке Зеленая Кобылка, что под Лудом.
Но запомните одно: ни в коем случае не упоминайте о моем участии в этом деле — это очень важно. В настоящее время в Луде меня не любят.
А теперь, будьте любезны, прикажите, оседлать моего коня.
Голос его прозвучал настолько бесстрастно, что Хейзл и кузнец, исполненные сочувствия, замерли в трепетном молчании, не найдя нужных слов, наконец, девушка пошла распорядиться.
— Сэр, вы… вы и в самом деле намереваетесь сделать то, о чем сказали вдове… ну, что отправитесь… туда? — обратился Питер Горошина к господину Натаниэлю исполненным благоговения тоном.
Тут в глазах господина Натаниэля вновь зажегся огонь, и он в ярости воскликнул:
— Да, именно туда, к горам и дальше, если потребуется… Буду идти, пока не найду сына.
К дому подвели оседланного коня.
— Прощайте, дитя мое, — обратился господин Натаниэль к Хейзл, взяв ее за руку, и добавил с улыбкой: — Вчера вечером вы вернули меня с Млечного Пути… И теперь мне придется идти земными тропами.
Хейзл и Питер смотрели вслед всаднику, пока он не исчез из виду.
— Ну и ну, — промолвил наконец Питер Горошина, — по-моему, в Доримаре с давних времен не было такого отца, который настолько любил бы своего сына, чтобы рискнуть собственной жизнью.
Глава XXV Закон подбирается поближе и прыгает
Господин Полидор Вигилий воистину испытал самое огромное потрясение в своей жизни, когда по прошествии нескольких дней после описанных в предыдущей главе событий получил ордер на арест Эндимиона Лера, подписанный законоведом волости Лебедяни-на-Пестрянке, а также снабженный соответствующей печатью. Календула ничуть не ошиблась, сказав, что ее брат полностью находится под влиянием доктора. Господин Полидор, человек ленивый и слабый, упивался своей властью: пользовался всеми почестями, положенными первому гражданину, к слову будет сказано, совершившему государственный переворот, при этом сняв с себя всякую ответственность за содеянное.
И теперь этот чудовищный документ был равносилен попытке отсечь его правую руку. Прежде всего он решил броситься за советом к самому Эндимиону Леру. Всеведущий и находчивый доктор наверняка сумеет превратить в прах и пустить на ветер даже такую грозную вещь, как ордер на арест. Однако почтение к Закону и вера в него глубоко укоренились в душе господина Полидора. Если против Эндимиона Лера выдвинуто обвинение, значит, и он, Полидор, должен предстать перед судом.
У Полидора опустились руки и, тяжело вздохнув, он поднялся. Оставалось лишь призвать Немченса и поручить ему арестовать доктора. Полидор не сомневался, что доктор оправдается перед Судом, и чем быстрей все произойдет, тем лучше, тем скорее господин Полидор вернет себе свою правую руку.
Увидев явившегося по вызову Немченса, господин Полидор по возможности непринужденным тоном произнес:
— Ах да, Немченс! Да… Я попросил вас прибыть, потому что… — тут он слегка усмехнулся, — я получил ордер… конечно, это недоразумение, что, несомненно, выяснится на суде… Словом, законовед Лебедяни прислал ордер на арест… не кого-нибудь, а самого доктора Эндимиона Лера!
Он вновь усмехнулся.
— Да, Ваша честь, — молвил Немченс без всякого удивления, даже с некоторой суровостью.
— Ерунда какая-то, не правда ли? — заметил господин Полидор.
Немченс прокашлялся.
— Убийца — он убийца и есть, Ваша честь, — сказал Немченс. — Мы, то есть я и моя жена, прошлым вечером гостили в Зеленой Кобылке — кузен моей половины содержит там таверну, вчера он праздновал свою серебряную свадьбу. Среди приглашенных оказались обвинительница и ее тетка, скажу одно: не всегда можно отвертеться. Подробностей пока излагать не стану.
— Надеюсь, надеюсь на это, Немченс, вы, как я успел заметить, забылись в моем присутствии.
И господин Полидор устремил свирепый взгляд на явно не думавшего раскаиваться Немченса. Однако позиция, занятая сим достойным мужем, несколько смутила его.
По прошествии двух часов, после делового утра, посвященного профессиональным визитам, и не только профессиональным, Эндимион Лер сел за обеденный стол. Во всем Луде нельзя было найти более счастливого человека — он стал самым влиятельным лицом в городе, с ним по всякому делу советовались чиновники, что же касается вселявшего в него ужас Шантеклера… ну, что ж, он благополучно вырвал у этого господина жало. В то утро доктор полакомился печеными плодами боярышника, и теперь его ждала более сочная трапеза. Но не суждено было Эндимиону Леру ее вкусить. В дверь дважды громко постучали, после чего раздался голос капитана Немченса, потребовавшего немедленно проводить его к доктору. Домоправительница не хотела его пускать, объяснив, что доктор строго-настрого запретил беспокоить его во время трапезы, однако капитан грубо отстранил ее.
— Закон, моя добрая леди, не может считаться с пищеварением отдельного джентльмена, — заявил он и с невозмутимым видом прошествовал в гостиную.
— Доброе утро, Немченс! — воскликнул доктор приветливым тоном. — Не хотите ли отведать этот великолепный пирог с голубятиной?
Секунду-другую капитан взирал на врача с плохо скрываемым отвращением. Тут необходимо вспомнить, что Немченс отождествлял себя с Законом и любое его нарушение воспринимал, как личное оскорбление, более того — ощущал себя глубоко уязвленным в своей профессиональной гордости, поскольку не сумел лично распознать убийцу по его запаху.
Капитана Немченса нельзя было назвать впечатлительным, однако, стоя сейчас перед доктором, он готов был поверить, что черты его и выражение лица претерпели едва заметные и самые неприглядные изменения с тех пор, как он в последний раз видел лекаря. Казалось, будто теперь того освещал некий призрачный зеленый свет — таков уродливый и зловещий эффект, который Закон коварным образом оказывает на внешность, — свет, исходящий от самого слова убийство.
— Нет уж, благодарю, — буркнул он недовольным тоном. — Я не сажусь за стол с такими, как вы.
Доктор самым внимательным образом поглядел на него, приподнял брови и сухо возразил:
— Насколько я помню, в последнее время вы не раз садились за этот самый стол.
Капитан фыркнул и громко провозгласил:
— Эндимион Лер! Вы арестованы именем страны Доримарской, и дабы мертвые, живые и еще не рожденные могли спокойно почивать в своих могилах, постелях и материнском чреве.
— Пустые слова и профессиональный жаргон! — раздраженно воскликнул доктор. — Что за игру вы со мной затеяли, Немченс?
— По-вашему, убийство это игра? — спросил капитан.
Доктор побледнел, и тогда Немченс добавил:
— Вы обвиняетесь в убийстве покойного фермера Тарабара.
Слова эти подействовали на Эндимиона Лера, как заклинание. Казалось, с его лица соскользнула лукавая, ироническая и птицеподобная маска.
Бледный как мел он замер в молчании, а потом возопил:
— Измена! Измена! Молчаливый народ предал меня! Плохо тому, кто служит вероломному господину!
Весть об аресте Эндимиона Лера по обвинению в убийстве распространилась по городу с быстротой лесного пожара.
На каждом углу собирались группки торговцев, учеников и подмастерьев, матросов, между ними порхала глухонемая блудница, Распутная Бесс, подстрекавшая спорщиков странными бессмысленными словами, следом за ней неслась пляшущей походкой старая мамаша Тиббс, то ликующая, то рыдавшая. Ломая руки, она вопила, что не успела доставить доктору его последнюю стирку и, возможно, ему придется отправиться в свою последнюю поездку в грязном белье.
— Уж его-то ждет деревянный конек герцога Обри — так сказали мне джентльмены, — кивая, таинственно добавляла она.
Тем временем Люк Хэмпен доложил Немченсу о том, что маленькие пастушата рассказали ему, будто видели, как вдова и доктор ловили «рыбу» в реке. Об этом немедленно известили стоявших на границе йоменов, которым приказали пройти с сетями всю Пестрянку у того места, где река, бурля, вырывалась из своего подземного прохода сквозь Спорные горы. Исполнив приказ, йомены обнаружили груженные плодами фейри плетеные короба, так хитроумно уравновешенные, что, пребывая на плаву, оставались под водой.
Узнав об этом, господин Полидор резко изменил свое отношение к Эндимиону Леру. Разумеется, в худшую сторону.
Глава XXVI «Не деревья и не люди»
Учитывая смятение, которое произвел в народе арест Эндимиона Лера, Сенат счел возможным рекомендовать суду рассмотреть дело его и вдовы Тарабар незамедлительно. И как только два последних важных свидетеля, Питер Горошина и Марджори Бич, прибыли в город, дата заседания была назначена на ближайшие дни.
Никогда еще в Доримаре не было процесса, которого ждали бы с таким нетерпением. Суд начинался в девять утра, но уже в семь зал заседаний был набит битком, а бурлящая толпа переполняла двор и даже часть Высокой улицы.
Передние скамьи занимали дамы Календула, Жасмина, Валериана и прочие жены городских чиновников; оставшуюся часть зала заполняли торговцы с женами, а также благопристойные состоятельные горожане, за их спинами собрались ученики и подмастерья, моряки, разносчики, девицы легкого поведения. Шум стоял невообразимый.
Но когда часы пробили девять, появился господин Полидор Вигилий в фиолетовом одеянии, расшитом золотыми изображениями Солнца, Луны и Звезд. Еще десять судей в алых с горностаевыми хвостиками мантиях неторопливо вошли в зал, степенно поклонились честному собранию и заняли свои места на помосте. В зале немедленно воцарилась тишина, ибо страх перед Законом от рождения живет в душе каждого доримарита, сколь бы низкое общественное положение он ни занимал.
Но когда вооруженный топором, облаченный в зеленый мундир Немченс вместе с тремя йоменами ввел в зал обоих арестантов, по залу прокатился ропот.
Эндимион Лер давно являлся одним из самых известных жителей Луда, и все взоры устремились к нему. Многие из собравшихся заметили следы зловещей жизни, запечатленные на знакомом лице врача. Таково влияние Закона.
Менее впечатлительные не нашли в облике Лера особых изменений, если не считать разлившейся по лицу бледности. Он окинул зал привычным дерзким и оценивающим взглядом.
— Видно, решил как следует погонять судей за их собственный счет! Если ему и суждено умереть, просто так он не сдастся! — радостно перешептывались его приверженцы.
Что касается вдовы, то ее все еще миловидное, но покрытое смертельной бледностью лицо было совершенно бесстрастным, что придавало ей некую трагическую и зловещую красоту, сродни той, которой наделены лики изваяний на Грамматических полях.
— Да, не хотел бы я повстречаться с этой бабенкой с глазу на глаз в темном переулке, — шептались собравшиеся.
Клерк обвинения потребовал тишины, и господин Полидор торжественным тоном произнес:
— Эндимион Лер и Клементина Тарабар, поднимите правую руку.
Они повиновались. После чего господин Полидор зачитал обвинительный акт:
— Эндимион Лер и Клементина Тарабар, вы обвиняетесь в отравлении покойного Иеремии Тарабара, фермера и законоведа волости Лебедянь-на-Пестрянке, плодами, носящими название «ягод милостивой смерти». Это произошло тридцать шесть лет назад.
Истица, юная девушка (как вы догадываетесь, наша старинная знакомая Хейзл), преклонила колени возле помоста, после чего ей дали поцеловать великую печать, затем клерк обвинения подвел ее к резной кафедре, и она поведала историю убийства своего деда. Говорила она негромко, но ее звонкий голос был слышен в самых отдаленных уголках зала.
После нее мистрис Айви пересказала судьям — в несколько хаотичной манере — то, что уже поведала господину Натаниэлю.
Далее в качестве свидетелей выступили Питер Горошина и Марджори Бич. Последний передал судьям документ, составленный покойным фермером.
— Эндимион Лер! — обратился к подсудимому господин Полидор. — Закон предлагает вам говорить или молчать — в зависимости от того, что повелевает вам совесть.
И когда Эндимион Лер поднялся, чтобы произнести последнее слово подсудимого, все затаили дыхание.
— Милорды судьи! — начал он. — Прежде всего хочу напомнить вам, что жизнь моя была отдана служению Доримару.
Слова эти вызвали в задней части зала ропот и выкрики: «Долой сенаторов!», «Да здравствует добрый доктор!» Но тут раздался громоподобный голос клерка обвинения:
— Требую тишины!
— Я врачевал и хранил вашу плоть и не только плоть, но и душу. С этой целью написал книгу, опубликованную анонимно несколько лет назад, в которой попробовал показать те странные семена, которые дремлют в каждом из вас. Однако книга моя не вызвала заслуженного внимания. Более того, нераспроданные экземпляры были сожжены обыкновенным палачом… Если бы вы нашли автора, наверняка сожгли бы его вместе с книгой. Уверяю вас, после написания ее я жил в страхе за собственную жизнь и не смел даже взглянуть в лицо рыжему человеку, не говоря уже о голубой корове!
Тут приверженцы доктора восторженно заржали.
Сделав небольшую паузу, Лер продолжил уже более серьезным тоном:
— Но зачем я потратил столько сил! Употребил всю свою эрудицию и мастерство? Признаться, я и сам не знаю… Быть может, мне просто нравится играть с огнем, или же меня побудило это сделать сочувствие к вам.
Друзья, вы стали отверженными, хотя и не сознаете этого, утратили положенное вам место на земле. Ибо существуют два народа — деревья и люди, и каждый устроен по-своему. Деревья молчаливы, неподвижны и безмятежны. Они живут и умирают, не зная вкуса жизни и смерти; тайна была доверена им, но не открыта.
Но как быть с другим племенем — страстным, трагичным, лишенным корней, — с людьми? Увы! Человек наделен величайшими привилегиями, которые стали его проклятием. Рот его всегда наполняет сладкая горечь жизни и смерти, неведомая деревьям. Его влекут за собой вперед два диких коня — память и надежда; его мучает тайна, которой он не может понять. Ибо любой человек, достойный своего имени, является посвященным — только каждый в свою мистерию. И некоторые ходят между своих собратьев с соболезнующей, чуть пренебрежительной улыбкой адепта, находящегося среди новообращенных. Другие, напротив, доверчивы и болтливы, они охотно поделились бы своим уникальным секретом — но их попытки тщетны! Они кричат о собственной тайне на рыночных площадях, такие люди подобны призракам, которым доверена весть колоссальной важности, но они в состоянии только звенеть своими цепями и плести околесицу.
Таковы оба эти племени. К какому же из них принадлежите вы, жители Луда? Ни к тому, ни к другому. Я не способен превратить вас в деревья, но надеялся сделать из вас людей. Я питал и исцелял ваши тела и пытался проделать то же самое с вашими душами.
Смолкнув на мгновение, он промакнул лоб: речь явно стоила Леру больших усилий, о чем можно было бы догадаться. Потом он продолжил, и голос его обрел странную пронзительность:
— Есть такая земля, где не светят Солнце и Луна, где, как птицы, летают мечты, где звездами светят видения, а бессмертные цветы вырастают из размышлений о смерти. В стране этой вызревают плоды, чей сок порой вызывает безумие, но способен даровать мужество, ибо вкус этого плода приправлен жизнью и смертью, и потому буквально незаменим для души. Вы недавно узнали, что многие годы я помогал тайно провозить эти плоды в Доримар. Фермер Тарабар хотел лишить вас этой возможности, и я прописал ему ягоды милостивой смерти.
Из задней части зала понеслись крики:
— Не верьте ему! Доктор, смерть не для вас! — и так далее.
Йоменам пришлось выдворить из зала нескольких разбойного вида мужчин, и господин Амброзий со своего места на помосте узнал среди них моряка Себастьяна Головореза, которого они с господином Натаниэлем видели на Грамматических полях. Когда тишина и порядок были восстановлены, Эндимион Лер продолжил:
— Да, я прописал ему ягоды милостивой смерти. Не все ли равно для окружающих, какие поля он будет обрабатывать — пшеничные в Доримаре или засеянные левкоями за горами?
А теперь, милорды судьи, позволю себе предугадать ваш приговор. Я признал собственную вину, и вы посадите меня, как принято говорить в народе, на деревянную лошадку герцога Обри, полагая, что я помог убить фермера Тарабара. Однако, милорды судьи, вы подслеповаты и даже в очках способны прочесть только написанное крупными буквами. Не вы наказываете меня, но другие — за совершенный мною духовный грех. Во дни своего заточения я много размышлял над собственной жизнью и понял, что грешил. Но как? Я гордился тем, что являюсь хорошим химиком, и в моих тиглях выдают собственные секреты самые тонкие субстанции — будь то белый мышьяк, розальгар, ртутный сублимат или шпанские мушки. Но какой химик и в каком тигле сумеет проанализировать духовный грех?
Однако жизнь моя прошла не напрасно. Вы пошлете меня прокатиться на деревянной лошадке герцога Обри, и со временем двуличный доктор окажется забытым, как и вы, милорды судьи. Однако Луд останется на своем месте, как и страна Доримарская, и страшная держава за горами. Деревья по-прежнему будут питать свою жизнь соками земли и облаков, ветер будет завывать по ночам, люди будут видеть сны. Но кто знает? Быть может, однажды мой непостоянный, то горький, то сладкий господин, властный над жизнью и смертью, танцующей походкой явится во главе своих безмолвных батальонов вносить какофонию в Доримар.
Вот все, милорды, что я хотел сказать в своем последнем слове.
И он отвесил поклон в сторону судей.
Пока Лер говорил, судьи едва сдерживали раздражение и нетерпение: Закон не вещает таким языком.
Что касается публики, мнения разделились. Некоторые внимали с напряжением, но большинство, даже сторонники доктора, чувствовали себя обманутыми. Они рассчитывали, что их герой, виновен он или нет, собьет с толку судей ловкими манипуляциями со свидетельствами и блестящей казуистикой. Но речь его оказалась туманной и даже непристойной. Девицы хихикали, а молодые люди строили гримасы.
— Ужасная безвкусица, сказала бы я, — шепнула Валериана Календуле (обе свояченицы решили не портить отношений), — ты всегда говорила, что этот коротышка — презренный вульгарный тип.
Дама Календула лишь повела плечами и тихонько вздохнула.
Настал черед вдовы Тарабар произнести последнее слово.
Она подошла к кафедре, обвела судей, истицу и публику наглым, полным презрения взглядом, после чего произнесла:
— Вы задали мне вопрос, заранее зная, каков будет ответ. Иначе я не стояла бы здесь перед вами. Да, я убила Тарабара и нисколько не жалею об этом. Я намеревалась отравить его соком ивы, однако тот, кого вы зовете Эндимионом Лером, принес мне ягоды смерти и настоял, чтобы я сварила из них желе и заменила им зелье из ивы. Он предпочел эти ягоды не только потому, что они приносят безболезненную смерть. Он еще хотел проверить их действие. Он любил смерть во всех ее проявлениях и пробовал ее на зуб, ощупывал и обнюхивал, как фермер на рынке зерно.
Впрочем, надо отдать ему должное: если бы не его старания, и эта девица, которая только что разоблачала здесь нас обоих, — вдова кивнула в сторону бледной Хейзл, — и ее отец давным-давно бы отправились бы следом за фермером. Надеюсь, совесть иногда будет будить по ночам эту девку, напоминая ей о том, как она обошлась с человеком, спасшим ее жизнь.
А теперь, люди добрые, вот вам мой совет, прежде чем я отправлюсь в свою последнюю поездку, устроившись в седле позади своего старого приятеля Эндимиона Лера: никогда не делайте своими любимцами мертвецов. Покойники, как мерзкие злые псы, всегда готовы укусить руку, которая их кормит.
Она спустилась с кафедры со злобной улыбкой, леденящей кровь. Иные, глядя на нее, были готовы покинуть зал.
Теперь господину Полидору оставалось только произнести приговор, и хотя обвиняемые своими речами несколько подпортили ожидавшийся эффект, тем не менее торжественные, освященные временем слова все-таки произвели необходимое впечатление.
— Эндимион Лер и Клементина Тарабар, я считаю вас виновными в совершенном убийстве и отдаю ваши тела на прокорм птицам, а души отсылаю туда, откуда они пришли. И пусть ваша участь послужит примером всем. Ибо из каждого дерева можно устроить виселицу, и у каждого человека есть шея, за которую его можно повесить.
Вдова выслушала приговор в полном спокойствии, а Эндимион Лер с пренебрежительной улыбкой на лице. Неожиданно в последних ряд; зала началась суета.
Вырвавшись из рук удерживающих ее соседей, к помосту подбежала женщина и упала к ногам гос подина Полидора. Это была мисс Примула Кисл.
— Ваша честь! Ваша честь! — завопила она. — Вешайте меня вместо доктора! Разве это не я, сознавая все последствия, накормила ваших дочерей плодами фейри! И я счастлива, что сделала это. Что оказала услугу тому же самому господину, которому столь преданно служил доктор. Дорогой господин Полидор, пожалейте нашу страну, сохраните жизнь ее благодетелю, и если Закон требует жертвы, пусть ею стану я!
Мисс Примулу выставили из зала — рыдающую и сопротивляющуюся — под хохот и иронические реплики присутствующих.
Днем к господину Полидору явился Немченс и уведомил его о том, что в караулку только что прибежала молоденькая служанка из Академии, сообщившая, что мисс Примула Кисл свела счеты с жизнью.
Господин Полидор немедленно отправился на место трагедии собственной персоной и обнаружил мисс Примулу висящей на яблоне без малейших признаков жизни в милом старом саду, где столько поколений Цветочков Кисл носились, хихикали и обменивались своими маленькими секретами.
— Что ж, Немченс, все как в старой песне, — промолвил господин Полидор. — Истинно: «Вот висит дева, которая умерла от любви».
Виселицу соорудили в большом дворе Ратуши, и на следующий день, на заре, Эндимион Лер и вдова Тарабар были повешены.
По слухам, в тот момент, когда лицо доктора исказила предсмертная гримаса, из комнаты, в которой когда-то повесился шут герцога Обри, донесся переливчатый серебристый смех.
Глава XXVII Ярмарка посреди Эльфова перехода
Примерно через два часа после того как господин Натаниэль выехал с фермы, он добрался до уютной низинки у подножия холмов, где расположился лагерем отряд йоменов Луда, прибывший, по его приказу, к Спорным горам.
— Стой! — выкрикнул часовой и тут же в изумлении опустил мушкет.
— Вот это да, к нам пожаловал сам Его честь мэр! — воскликнул он.
Несколько его товарищей, находившихся в лагере, игравших в карты или лежа на спине взиравших на небо, окружили господина Натаниэля и с удивлением принялись разглядывать его.
— Я приехал сюда потому, что разыскиваю своего сына, — сказал он. — Я слышал, что он… э… что он побывал здесь две или три ночи назад. Если так, вы могли видеть его.
Йомены дружно загалдели:
— Нет, Ваша честь, никаких мальчат мы здесь не видели. Вообще за все то время, что нам пришлось здесь провести, мы не видели ни одной живой души.
Господин Натаниэль устало вздохнул.
— Я так и думал, — проговорил он и обратился скорее к себе самому, чем к окружающим: — Кто знает? Может быть, он ушел Млечным Путем.
Тут ему пришло в голову, что это, возможно, его последняя встреча с простыми смертными, и бывший мэр задумчиво улыбнулся:
— Ну-ну, вижу, вы здесь как на отдыхе… особых дел нет, еды и питья вдоволь. Вот вам еще пара крон. Пошлите кого-нибудь на соседнюю ферму, купите бурдючок красного вина и выпейте за мое здоровье… и за здоровье моего сына. Я уезжаю, и путешествие мое может оказаться весьма долгим… Надеюсь, эта вьючная тропа ничуть не хуже остальных?
Йомены с изумлением уставились на него.
— Прошу прощения, Ваша честь, но боюсь, вы совершаете ошибку, — молвил, преодолевая потрясение, часовой. — Все вьючные тропы отсюда ведут не куда-нибудь, а в Эльфов переход… и еще дальше.
— Именно еще дальше мне и надо, — не стал вдаваться в подробности господин Натаниэль и, пришпорив коня, ринулся мимо потрясенных йоменов вверх по вьючной тропе, словно бы желая вихрем взлететь на Спорные горы.
Несколько секунд они стояли, недоуменно переглядываясь между собой. А потом часовой негромко присвистнул.
— Должно быть, мэр очень любит своего парнишку, — проговорил он. — Но если мальчуган действительно сумел незаметно проскользнуть мимо нас, это будет уже третий Шантеклер, который отправился за горы. Первой была маленькая мисс, сбежавшая из Академии, потом малыш, а теперь и сам мэр.
— Так-то оно так, но они отправились туда не на пустой желудок. Во всяком случае, Цветочки Кисл — это уж точно, а если в Луде говорили правду, парнишка тоже отведал того, чего не следовало бы, — сказал другой. — Однако отправляться туда, будучи в здравом уме… Доктор Лер что-то напутал, когда сказал, что все магистраты выдохлись, поскольку более мужественного поступка не совершал еще ни один из доримаритов.
Господин Натаниэль поднимался все выше и выше по вьючной тропе, петлявшей среди холмов, и уже потерял счет времени. На пути ему не попалось ни единого живого существа, даже птица не пролетела. Его одолевала дремота.
Неожиданно господин Натаниэль оказался на столбовой дороге посреди толпы селян в праздничных одеждах. Появление их нисколько не удивило его — то пассивное и не склонное к оценкам состояние, в котором он пребывал, не оставляло места для удивления.
И все же… все же, что это за толпа? Неужели это просто крестьяне? Среди них были хорошенькие девушки в красных и синих платках, из-под платков выбивались золотистые волосы, деревенские кавалеры в разноцветных скрещенных подвязках, старухи, тихие и благородные с виду.
Но почему все они смотрят в одну точку, почему хранят молчание?
Некий незримый наставник, проводник в сновидениях, часть его самого, как внутренний голос, шепнул ему на ухо: «Это те, кого люди зовут мертвыми».
И тут все встало на свои места.
Дорога сделала неожиданный поворот, и впереди показался пустырь с белыми палатками ярмарки.
«А вот и ярмарка душ», — шепнул невидимый проводник.
— Ну, конечно же, это она, — пробормотал господин Натаниэль, словно всегда знал о ее существовании. Более того, он совсем забыл о Ранульфе и думал, что именно посещение этой ярмарки и является единственной целью его путешествия.
Они ступили на пустошь и заплатили за вход молчаливому старику. И хотя господин Натаниэль расплатился монеткой из неведомого ему металла, которого никогда в жизни не видел, его нисколько не изумил разрыв цепи причин и следствий, поскольку денежку эту он извлек из собственного кармана.
На первый взгляд ярмарка эта ничем не отличалась от доримарских. Оловянщики, сапожники, серебряных дел мастера выставляли свои товары; около шатров были привязаны коровы, овцы и свиньи; в других палатках можно было пропустить стаканчик и посмотреть всякие диковинные вещицы. Но вместо веселого и разнообразного гама, являющегося неотъемлемой частью любой ярмарки, здесь царило безмолвие, ибо звери вели себя так же тихо, как люди. Над полнейшим безмолвием висело ослепительное солнце.
Господин Натаниэль принялся обходить киоски. В одном из них метали маленькие стрелки в картонную мишень, где были нарисованы разнообразные небесные светила, а посередине Луна. Тот, чья стрелка попадала в Луну, получал право выбрать приз из груды различных блестящих предметов — золотых перьев, раковин, разрисованных узорами, ярко раскрашенных горшков, вееров, серебряных колокольчиков для овец.
«Точь-в-точь такие я видел у Хэмпи», — подумал Натаниэль.
В другом шатре находилась карусель, где серебряные лошадки чередовались с позолоченными колесницами, увы, утратившими свой блеск. Примитивное устройство приводилось в движение не механизмом, а ходившим по кругу живым пони. Движение карусели сопровождалось музыкой — мотивчиками, популярными в Луде в те дни, когда господин Натаниэль был еще мальчиком.
Одна мелодия сменяла другую.
Почерневшие кони и колесницы кружили без седоков, если не считать одного маленького мальчика, а бойкие мелодии звучали столь горестно и уныло, что лишь усугубляли общую атмосферу тишины и меланхолии.
Мальчик плакал — самозабвенно и безнадежно. Так, словно ощущал, будто обречен на вечное кружение вместе с этими мрачными конями и колесницами, с темным и терпеливым пони, под надтреснутую мелодию.
— Этот парнишка украден у смертных не так уж давно, — промолвил невидимый проводник. — Он еще может плакать.
К горлу господина Натаниэля подступил комок. Бедный маленький мальчик! Бедный маленький одинокий мальчик! Но о чем он напоминает ему, господину Натаниэлю? О чем-то болезненном и очень близком сердцу.
Круг за кругом совершал пони, снова и снова дребезжала музыкальная шкатулка, выводя тонкую и не слишком отчетливую мелодию.
Отчего же карий глаз ее смотрит не на нас? А тому такая честь, у кого монеты есть.Вульгарные куплеты эти на самом деле не были старыми. Однако господин Натаниэль не знал более древних, ему казалось, что их пела Утренняя Звезда, когда мир был еще совсем молодым. Ибо они говорили ему о детстве, приносили воспоминания… нет, чувство, запах, вкус полного невинной торжественности мира детей… мира, не знающего лукавства, не знающего юмора, не знающего вульгарности, когда и слова эти, и мотив казались чистыми и серебристыми, как напев пастушьего рожка.
Прислушиваясь, господин Натаниэль понял, что другие люди могут услышать здесь другие мелодии — те, которые насвистывал молочник, или выводила дребезжащая скрипка уличного музыканта, или нестройные голоса молодых гуляк, за полночь возвращавшихся из таверны, — если только именно их напевала им Утренняя Звезда.
Где твой, крошка-чаровница, красно-розовый платок, Я скажу твоей мамаше, не заткнешь ты мне роток!Круг за кругом совершали черненые кони и колесницы, увлекая за собой жалкого маленького наездника; круг за кругом накручивал пони — маленький, пыльный и прозаичный.
Господин Натаниэль протер глаза и огляделся; ему казалось, что он поднимается к поверхности из глубины вод, в которые неведомо как нырнул. Ярмарка постепенно оживала, тишина сменилась негромким гулом, уже можно было различить голоса, мычание коров, хрюканье свиней, трубные гласы лоточников, нахваливавших свой товар, — в общем, как это обычно бывает на ярмарке.
Он неторопливо отошел от карусели и углубился в толпу. В киосках шла бойкая торговля, особенно в тех, где торговали плодами.
Такие плоды он видел в таинственной комнате под Ратушей, их обнаружили также в часах его дедушки — плоды страны Фейри, однако у Натаниэля это не вызывало возмущения.
В горле у Натаниэля вдруг пересохло от жажды, однако утолить ее он мог лишь одним из этих наливных и прозрачных плодов.
Торговавшая ими морщинистая старуха предложила ему выбрать:
— Три штуки на один пенни, сэр! Вам уступлю — четыре штуки на пенни, ради прекрасных глаз вашей Хейзл, милок! Сочные, как роса на цветке, — четыре штуки на пенни, добрый господин. Берите же!
Тут Натаниэль вспомнил одну из сказок, которую ему рассказывала Хэмпи, — о том, как младшему сыну говорили, что нельзя брать ничего съестного у незнакомых людей. Поэтому он решил не прикасаться к этим плодам и сказал:
— Нет, спасибо, как-нибудь в следующий раз. — И он отвернулся от прилавка.
Но кому принадлежит этот пронзительный голос? Наверняка одному из лоточников, чьи прибаутки или невидимый глазу товар обладали особым качеством, если судить по собравшейся вокруг толпе. Голос показался Натаниэлю знакомым, и любопытство заставило его присоединиться к остальным.
Со своего места он мог видеть только рыжую макушку, однако слышно было просто превосходно.
— Не упустите своего счастья, джентльмены! Красота не вечна, она портится словно яблоки. Яблоки! Четыре очка тому, кто попадет ей в грудь, шесть, если в рот. Кто первым наберет двадцать очков, получает девицу. Не смущайтесь! Ни яблоки, ни красота не вечны, и то, и другое подтачивает червь. Подходите, подходите, джентльмены!
Да, голос этот ему знаком. И господин Натаниэль начал протискиваться вперед. Толпа оказалась на удивление уступчивой, и он без всякого труда пробился в самый центр, где на деревянном помосте жестикулировал, кривлялся и вертелся не кто иной, как его собственный конюх, негодяй Вилли Клок в костюме арлекина. Но что там Вилли Клок. Прямо на помосте росла яблоня, к ней была привязана его родная дочь Прунелла, а рядом с ней в горестных позах застыли прочие Цветочки Кисл.
И тут господин Натаниэль ощутил уверенность в том, что находится не только в придуманной им же самим истории, но к тому же во сне — причудливом, нелогичном, соединяющем в себе клочки реальности, к которым он мог добавлять все, что пожелает.
— Что здесь происходит? — спросил он у своего соседа.
Однако ответ ему был заранее известен: Вилли Клок продавал девиц с аукциона; тому, кто больше даст, — работать на засаженных левкоями полях.
— Но ты не имеешь права! — гневно вскричал господин Натаниэль. — Это тебе не страна Фейри, а всего только Эльфов переход. Девушек нельзя продавать, пока они не пересекут границу страны Фейри… ты слышишь, их нельзя продавать.
Вокруг него зазвучали благоговейные голоса:
— Это Шантеклер… мечтатель Шантеклер, еще не отведавший плодов.
Тут господин Натаниэль стал излагать кодекс законов о собственности, действующих в Эльфовом переходе. Толпа внимала ему с почтительным молчанием. Слушал даже сам Вилли Клок, а Цветочки Кисл смотрели на него с невыразимой благодарностью.
Когда он красноречиво закончил речь, Прунелла со слезами на глазах произнесла:
— Папа, ты спас нас! Ты и Закон!
— Вы и Закон! Вы и Закон! — эхом повторили за ней остальные Цветочки Кисл.
— Шантеклер и Закон! Шантеклер и Закон! — завопила толпа.
* * *
Ярмарка вдруг исчезла. Он оказался в незнакомом городе, посреди огромной толпы, спешившей в одном направлении.
— Они ищут кровоточащий труп, — прошептал невидимый проводник, и слова эти наполнили господина Натаниэля невыразимым ужасом.
Толпа тоже исчезла, оставив его в одиночестве на улице, безмолвной, словно могила. Однако он заторопился вперед, так как знал, что должен что-то найти, хотя никак не мог вспомнить, что именно. На каждом углу господин Натаниэль натыкался на покойника, которого стерег каменный попрошайка с лицом точь-в-точь таким, как у гермы в саду Тарабаров. Ужас объял его. Что, если среди трупов он обнаружит одинокого мальчика с веселой карусели!
Сама мысль об этом причинила ему невыносимую боль.
И тут господин Натаниэль вспомнил Ранульфа… Ранульфа, ушедшего в страну, из которой нет возврата.
Однако он последовал за сыном, чтобы вернуть его назад. И ничто не остановит его.
Наклонившись, господин Натаниэль прикоснулся к одному из трупов. Он был еще теплым и шевелился. Натаниэль подумал, что может заразиться какой-нибудь таинственной болезнью.
«Все это нереально, — твердил он себе. — Просто у меня разыгралось воображение. Так что беспокоиться не о чем, что бы не случилось».
Стало темнеть. Натаниэль заметил, что один из каменных попрошаек увязался за ним, превратившись в четырехногое животное. Это оказался Портунус. Животное могло защитить его, но могло и причинить ему вред. Поэтому следовало соблюдать осторожность.
Наконец Натаниэль вышел на площадь и увидел по одну ее сторону огромное здание с куполом, а по другую — скрытый в темноте дом, населенный причудливыми созданиями.
— Что еще могло привести его сюда, если не эти очаровательные твари? — произнес кто-то совсем рядом.
Господин Натаниэль оглянулся. Улицы вдруг наполнились крошечными зелеными человечками, восковыми фигурками с каминной доски Хэмпи, гримасничающими седобородыми старикашками, окруженными очаровательной ребятней, одетой в жучиные крылышки.
Они танцевали старомодный танец. Так ведь это фигурки на развевающемся на ветру гобелене!
Он вновь ощутил под собой седло своего коня. И вдруг услышал позади тихие шаги. Обернулся, но оказалось, что это ветер шуршит опавшими листьями. Город и его странная фауна исчезли, он вновь скакал по вьючной тропе в полной темноте. Наступила ночь.
Глава XXVIII «Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотых Яблок Заката»
Хотя возвращение на свежий воздух реальности принесло ему облегчение, Натаниэль испытывал страх. Он оказался в полном одиночестве посреди ночи в самой сердцевине Эльфова перехода. К тому же Луна принялась подшучивать над ним, превращая деревья и валуны в гоблинов и диких зверей. Луна была почти полной, а прошлой ночью — или это ему показалось — она находилась в третьей четверти и шла на ущерб. Как могло случиться такое?
Но неужели это время осталось позади него в Доримаре? И вдруг крылатым чудовищем, вырвавшимся из своего воздушного логова, на него налетел вихрь. Сосны скрипели, трещали и гнулись, шелестела трава, тучи закрыли Луну.
Несколько раз его едва не выбросило из седла. Поплотней запахнувшись в плащ, он с невыразимой тоской вспомнил про оставшуюся в Луде теплую постель; и тут ему пришло в голову, что он как раз очутился в той самой ситуации, которую нередко воображал на уютном ложе, чтобы подчеркнуть степень своего благополучия, — он был утомлен, ему было холодно, а ветер старался забраться под камзол.
Неожиданно ветер стих. Луна выплыла из-за облаков, сосны выпрямились и замерли. Однако конь его почему-то забеспокоился, встал на дыбы. Натаниэль тщетно пытался успокоить животное. Конь задрожал и рухнул на землю.
К счастью, Натаниэль остался цел и невредим, если не считать нескольких синяков, неизбежных при падении мужчины его комплекции и веса. С трудом поднявшись, он склонился к животному. Конь испустил дух.
Некоторое время он сидел рядом с павшей лошадью… его последней связью с Лудом и привычным миром; глубокое уныние и боль в теле мешали ему продолжить путешествие пешком.
Вдруг откуда-то донеслась пронзительная и сладкая мелодия, кто-то играл на неведомом ему инструменте. Или это был голос? Натаниэль отчетливо различил слова:
Ветер несет мечты, Волк прячется в звездный куст, А жизнь — это нимфа… Улыбка не тебе предназначенных уст. С лилией на окне, с соком травы в вине. С зеленью многоликой, С ветвью хлесткой и дикой, С клубникой и голубикой.Голос умолк, Натаниэль закрыл лицо ладонями и зарыдал.
В этой волшебной и сладостной музыке звучала его Нота. На сей раз в ней не было страха перед грядущим, однако она пробудила в его груди мучительное раскаяние, он осознал, что упустил нечто важное, что уже никогда не вернется к нему.
Вдруг он ощутил чье-то прикосновение к своему плечу.
— А, это ты, Шантеклер! Старый фантазер! Что с тобой? Неужели крик петуха досаждает теперь и Шантеклерам? — нежно и в то же время насмешливо произнес ему кто-то на ухо. Обернувшись, Натаниэль увидел герцога Обри.
Герцог улыбнулся.
— Ну, вот, Шантеклер, — проговорил он, — вот мы и встретились наконец! Твоей семейке удалось избегать сетей не один век, но когда-нибудь вы должны были угодить в них. К тому же, сам того не подозревая, ты был одним из моих тайных агентов. А как я смеялся, когда вы с Амброзием Джимолостом клялись друг другу словами, взятыми из моих мистерий! И когда ты, ругаясь и божась перед дверью в комнату с моими гобеленами, произносил заклятие сильнейшее из всех известных в стране Фейри.
Запрокинув голову, он залился серебристым смехом. Внезапно смех умолк, и герцог с глубоким сочувствием посмотрел на господина Натаниэля.
— Бедный Шантеклер! Бедный мечтатель! — мягко проговорил он. — Как часто я желал, чтобы мой мед не был столь горек на вкус! Поверь мне, Шантеклер, я охотно отыскал бы противоядие против горьких трав жизни, однако такого рода растений нет ни по эту сторону гор, ни по ту.
— И все же… я никогда не ел плодов фейри, — промолвил господин Натаниэль, при этом голос его дрогнул.
— В моем саду растет много деревьев, и они приносят многочисленные плоды — музыку, мечты, горе, а иногда и радость. И ты, Шантеклер, ел плоды фейри каждый день, и однажды, возможно, вновь услышишь свою Ноту, впрочем, этого я не могу тебе обещать. А теперь я дарую тебе видение, иногда они оказываются сладкими на вкус. — Умолкнув на мгновение, он сказал: — А знаешь, почему пал твой конь? Потому что ты достиг пределов страны Фейри. Ее ветры убили животное. Пойдем со мной, Шантеклер.
Взяв господина Натаниэля за руку, герцог поднял его на ноги, и, преодолев несколько ярдов по вьючной тропе, они остановились на краю просторного плато. Под ними призрачный лунный свет озарил унылый простор нагорья.
Тогда, воздев к небу руки, герцог Обри возопил громким голосом:
— Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката!
И пустошь вдруг превратилась в прекрасную плодородную вечную обитель Весны. Среди яркой зелени юных пшеничных полей белые и розовые стояли плодовые деревья в полном цвету, между ними курились синие дымки далеких селений, а дальше простирался огромный луг, усыпанный васильками и маргаритками, образовывавший великое внутреннее море страны Фейри. И все здесь — корабли, шпили, дома — было небольшим, ярким, изящным и все же реальным. Это был как бы Доримар, но не совсем; скорее, Доримар преображенный, каким господин Натаниэль увидел однажды свой город с Грамматических полей. Вглядываясь вдаль, он понял, что в этой земле не воет по ночам ветер, что все здесь постоянно и незыблемо, как деревья, как нарисованный на картине пейзаж.
И вдруг все исчезло. Как, впрочем, и сам герцог Обри, и теперь господин Натаниэль оказался один перед разверзшейся перед ним черной бездной, откуда доносился гомерический хохот.
Значит, и страна Фейри тоже иллюзия? Неужели Ранульф сгинул в пустоте?
Помедлив секунду-другую, Натаниэль бросился в пропасть.
Глава XXIX Хейзл получает известие, а к ламе Календуле прилетает первая ласточка
Полученная от Люка Хэмпена информация позволила властям Луда пресечь наконец контрабандный ввоз плодов фейри. Теперь Пестрянку перегородили сетями, и все хитроумно сплетенные короба, плотно набитые плодами, перехватывали у самого истока. После этого Немченс больше не сталкивался со случаями употребления в пищу зловредных плодов. Тем не менее жизнь его легче не стала, поскольку казнь Эндимиона Лера едва не вызвала народное восстание. Вооруженная дубинками рассвирепевшая толпа, во главе с Распутной Бесс, ворвалась во двор Ратуши, перерезала веревку, на которой тело оставили висеть на виселице в назидание всем злодеям, и унесла его прочь — на Грамматические поля, где еще не видели столь длинной погребальной процессии.
Осторожный Немченс посчитал неблагоразумным чинить препятствия похоронам.
— В конце концов, Ваша честь, — сказал он господину Полидору, — Закон получил причитающуюся ему кровь, и если это принесет нам мир и покой, вполне можно обойтись без трупа преступника.
На следующий день подмастерья и ремесленники объявили забастовку, а капитаны нескольких торговых судов сообщили, что их экипажи вот-вот выйдут из повиновения.
Господин Полидор перепугался до потери сознания, Немченс тоже был весьма мрачно настроен.
— Если горожане поднимутся против власти, йомены не справятся с ними, — с унынием констатировал он. — Мы не способны подавить волнения… нет, не способны.
Неожиданно все успокоилось каким-то непостижимым образом. Забастовщики вернулись на свои рабочие места, волнения среди моряков улеглись, и Немченс заявил, что у йоменов почти не осталось работы.
— Вовремя принятые строгие меры всегда дают положительный результат, — удовлетворенно заметил господин Полидор, обратившись к господину Амброзию (занявшему место его наставника, освободившееся после кончины Эндимиона Лера). — Когда народ чувствует, что у руля сильная личность, с ним можно делать все что угодно. Не то что при бедном старине Нате.
Господин Амброзий лишь хрюкнул в ответ и сардонически улыбнулся. Он относился к числу тех немногих, которые знали, что именно произошло на самом деле.
Причиной внезапного умиротворения явилось не чудо и не твердая рука господина Полидора. Все успокоилось благодаря мистрис Айви Пепперкорн и Хейзл Тарабар.
Однажды вечером обе сидели у огонька в небольшой гостиной позади бакалейной лавки мистрис Айви.
Как истец и основной свидетель по весьма непопулярному делу, они оказались в затруднительном положении. Более того, Немченс посоветовал обеим оставаться в Луде до тех пор, пока все не уляжется. Однако Хейзл была убеждена, что не сможет уснуть, зная, что в этом городе похоронена вдова, с которой они враждовали. Возвратиться на ферму она тоже не могла. Тетя рассказала ей, что господин Натаниэль наполовину в шутку, наполовину всерьез обещал поддерживать с ней связь, и Хейзл решила, что должна оставаться на месте, даже если бывший мэр и в самом деле отправился за Спорные горы.
В тот вечер мистрис Айви пыталась сломать ее упрямство.
Мне иногда кажется, Хейзл, что жизнь бок о бок с этой скверной и безрассудной женщиной повлияла на тебя не в лучшую сторону. И тут нечего удивляться, мое бедное дитя. Не подвернись мне мой бедный Пепперкорн, уж и не знаю, что было бы со мной. Но уверяю тебя, оставаться здесь нет никакого смысла, тем более что дома еще не накоптили окороков и грудинки на зиму, не засолили вдоволь рыбы, не наварили варенья. Теперь ты самостоятельная фермерша и об этом нельзя забывать. Словом от всей души желаю, чтобы ты выбросила весь этот вздор из головы. Письмо от самого мэра! С другой стороны, я тоже никак не могу забыть, что он побывал и у меня, а я-то не знала и говорила с ним, как с любым из приятелей моего бедного Пепперкорна! Нет-нет, бедный джентльмен, мы никогда не получим вестей от него! Во всяком случае, пребывая по эту сторону Спорных гор.
Хейзл ничего не ответила. Только выше вздернула подбородок.
И вдруг она посмотрела на родственницу удивленными глазами.
— Послушай, тетя! — воскликнула она. — По-моему, кто-то стучит?
— Ну и выдумщица же ты! Это всего лишь ветер, — ворчливо возразила мистрис Айви.
— Нет же, тетя, прислушайся. Точно кто-то стучит. Надо сходить посмотреть. — И она дрожащей рукой взяла свечу со стола.
Теперь стук услышала и мистрис Айви.
Лучше оставайся на месте, моя девочка! — воскликнула она. — Наверное, это один из городских грубиянов, и я не хочу, чтобы ты открывала им дверь… это совсем не нужно.
Однако Хейзл, хоть и побледнела, и в глазах ее читался откровенный испуг, отважно спустилась в лавку и, не отпирая двери, спросила:
— Кто там?
— Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката! — донесся ответ.
— Тетя! Тетя! — воскликнула Хейзл. — Это посланец мэра. Он приехал, и ты должна спуститься.
Мистрис Айви заспешила к двери, стуча зубами от страха. Посланец, между тем, явно теряя терпение, выстукивал пальцами дробь на стене и напевал пронзительным сладким голосом:
Ох, эти девчонки, юбки да рубашонки, Каб не пришел к ним пес да с собой не унес.Хейзл отодвинула засовы, приподняла крючок и настежь распахнула дверь. Внезапный порыв ветра загасил свечу, и лица посланца они не увидели.
— Я назвал пароль, поэтому вы знаете, кто меня прислал. Вам надлежит немедленно отправиться в Луд, найти там моряка по имени Себастьян Головорез — скорей всего, он сейчас в таверне Единорог — и глухонемую женщину по прозвищу Распутная Бесс, которую вы наверняка отыщете там же. Скажете им те же самые слова: Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката. Передадите им, чтобы они немедленно прекратили бунт и успокоили народ, потому что герцог пришлет своего представителя. А потом найдите господина Амброзия Джимолоста и напомните ему о клятве, которую они с господином Натаниэлем принесли друг другу, когда пили джин, настоянный на диком тимьяне, обязывающую их довериться ветру и не гнать от себя видения. Скажите ему, что Луд должен встретить свою судьбу с распахнутыми воротами. Запомнили, что я сказал?
— Да, — тихо ответила Хейзл вне себя от удивления.
— А теперь пора дать грошик и гонцу за все его труды! Я привык воровать в чужих садах на просторах зеленого мира. Поцелуй меня, зеленая дева!
И прежде чем Хейзл успела возразить, он крепко поцеловал ее в губы и растворился в ночи, оставив за собой только смешок — хо-хо-хо.
— Вот уж не думала! — воскликнула мистрис Айви, весело смеясь, что такие лихие парни живут даже по ту сторону гор. И теперь, моя девочка, просто не знаю, что нам делать. Как узнать, действительно ли он явился от мэра?
— Этого, тетя, мы не можем узнать, но мне кажется, что он не из доримаритов. Однако он назвал пароль, поэтому мы можем передать присланные вести, в конце концов в них нет ничего, способного причинить вред.
— Ты права, — согласилась мистрис Айви. — Хотя у меня нет ни малейшего желания тащиться в Луд в такое время да еще по дурацкому делу. Однако обещание есть обещание — и его надо выполнять, особенно если оно дано, возможно, уже умершему человеку.
Они надели башмаки и плащи, зажгли фонарь и направились в сторону Луда так быстро, как позволяли возраст и вес мистрис Айви, чтобы успеть в город до закрытия ворот. Господин Амброзий — сенатор и даст им пропуск, чтобы их выпустили обратно.
Единорог — небольшая таверна с весьма сомнительной репутацией. Хейзл стоило немалых усилий уговорить мистрис Айви войти внутрь.
— Меня смущают слова, которые нам надлежит произнести, — сетовала мистрис Айви. — Ведь это почти ругательство, и неизвестно, как пьяный на него отреагирует.
Едва женщины переступили порог, их встретили враждебными взглядами и непристойными жестами, один из мужчин узнал в них двух главных участниц суда. Неизвестно, чем бы это закончилось, но, к ужасу мистрис Айви, Хейзл приложила рупором ладони ко рту и выкрикнула что было сил.
— Себастьян Головорез и мистрис Бесс! Именем Солнца, Луны и Звезд и Золотыми Яблоками Заката!
Слова эти подействовали, как заклинание, утихомирив собравшихся. Высокий матрос, дочерна загорелый, со светлыми глазами, и крашеная женщина вскочили с места и поспешили к Хейзл. Молодой человек проговорил почтительным тоном.
— Простите нас за грубое обхождение, мисс, мы не знали, что вы тоже из наших. — Он ухмыльнулся, блеснув белыми зубами, и добавил: — Понимаете, юные красотки нечасто заходят сюда, а морские псы всегда брешут, увидев нечто непривычное для себя.
Распутная Бесс не отводила глаз от его губ, и последние слова молодого человека заставили ее нахмуриться и тряхнуть головой, но на лице Хейзл они вызвали легкую и вполне дружелюбную улыбку. По всей видимости, следуя примеру тети, она испытывала расположение к мореходам. Кроме того, моряки не лишены какого-то особого обаяния. Оказавшись на суше, они ходят, как призраки, словно пришельцы из другого мира. Себастьян Головорез был истинным мореходом.
Тогда Хейзл негромким голосом передала полученное ею известие, а Головорез жестами переводил его на понятный Распутной Бесс язык. Потом он настоял на том, чтобы проводить их до дома господина Амброзия, и сказал, что будет ждать их снаружи.
Господин Амброзий заставил Хейзл несколько раз повторить заученные слова, а потом принялся расспрашивать, как выглядел незнакомец.
Затем прошелся по комнате, бормоча себе под нос:
— Иллюзия! Иллюзия!
Повернувшись к девушке, он резким тоном спросил:
— Вы уверены, что этот гонец действительно прибыл от господина Натаниэля?
— Нет, сэр, не уверена, — ответила Хейзл. Но мы не могли не выполнить данного поручения.
— Понимаю, понимаю. Вы тоже следуете дуновению ветра… так, кажется, говорят? Ну что ж, ну что ж, мы живем в странные времена.
Сенатор погрузился в размышления и явно забыл о женщинах. И они сочли за лучшее незаметно удалится.
С тех пор городские низы Луда больше не беспокоили власть.
Когда стоявшие на границе йомены были отозваны в Луд и стало известно, что они видели господина Натаниэля скачущим в сторону Эльфова перехода, его жене принесли соболезнования как вдове, после чего она удалилась от общества и отказывалась видеть даже самых близких подруг.
Иногда, правда, она принимала господина Амброзия, однако истинной опорой ее и поддержкой была старая Хэмпи. Ничто не могло поколебать уверенности старухи в том, что со всеми тремя Шантеклерами ничего не случилось. И веселая опрятная комнатка на верхнем этаже, где господин Натаниэль в детстве играл, стала единственным убежищем Календулы, где она и проводила большую часть дня.
И хотя Хэмпи ни на мгновение не забывала, что имеет дело всего лишь с представительницей семейства Вигилиев, старуха тем не менее по-своему начала привязываться к ней. Даже простила ей чашку шоколада, которую та пролила на скатерть, когда после помолвки явилась с визитом к родителям господина Натаниэля.
Однажды вечером, в начале декабря, когда уже выпал первый снежок, Календула, почти разучившаяся спать, беспокойно ворочалась в постели. Одно из окон ее спальни было обращено в переулок. Вдруг ей показалось, что во входную дверь кто-то стучит. Она села и прислушалась. Стук повторился.
Выскочив из постели, она торопливо набросила на плечи халат и бросилась вниз по лестнице с сильно бьющимся сердцем.
Трясущимися пальцами Календула отодвинула засовы и распахнула дверь.
— Прунелла! — выдохнула она.
И девочка с коротким всхлипом упала в объятия матери. Некоторое время обе плакали, не выпуская друг друга из объятий, не в силах произнести ни слова.
В это время сверху донесся строгий голос Хэмпи:
— Календула, мне стыдно за вас, неужели у вас не хватает ума не морозить у открытой двери и без того продрогшего ребенка! Мисс Прунелла, немедленно отправляйтесь в свою комнату! Я распоряжусь затопить в ней камин, а в постель положи грелку с углями.
Плача и смеясь, Прунелла бросилась наверх и повисла на шее у старухи.
Хэмпи высвободилась из объятий и, не переставая ворчать, отправила девушку в ее комнату. Прунелла уже лежала в постели, когда в спальне появилась Хэмпи с дымящейся чашкой.
Это был чай из черной смородины. Никто в городе не умел заварить его так, как это делала Хэмпи.
— А теперь, мисс, вы выпьете чашку до последней капли! — строго произнесла старуха.
В ту ночь Прунелла была слишком утомлена, чтобы рассказывать о том, что с ней произошло. Однако утром сбивчиво поведала о своих скитаниях на дне морском и о том, как все они заблудились в подводных джунглях, откуда их вывел господин Натаниэль. Было ясно, что она весьма смутно представляет себе, что произошло с ней после побега из Луда, точнее, после того, как «профессор Клок» дал девочкам первый урок танца.
В ту же ночь домой возвратились и остальные Цветочки Кисл; и все они рассказывали о случившемся с ними по-разному. Но сходились в одном — их освободил господин Натаниэль Шантеклер.
Глава XXX Амброзий исполняет свой обет
Сперва Цветочкам Кисл казалось, что они видели дурной сон, но скоро обнаружилось, что случившееся оставило глубокий след в их душе. Они стали капризными, молчаливыми, без конца плакали, все время испытывали страх.
Однако Амброзий Джимолост все прощал дочери, относился к ней с безграничной нежностью и терпением. Вечерами он сидел у постели дочери, держа ее за руку, пока она не засыпала, а днем, когда она бывала относительно спокойна, они подолгу беседовали, чего никогда не случалось до того, как она убежала из дома. Луноцвета утверждала, что хотя плоды фейри лишили ее душевного покоя, вернуть его ей могут только они, и что у мисс Примулы Кисл ее накормили либо не теми плодами, либо дали их в недостаточном количестве.
Наступила зима, и жизнь в городе пошла по старой наезженной колее.
О господине Натаниэле теперь говорили как о «бедном старом Нате», и большинство горожан видели в нем всего лишь тень прошлого. А господин Полидор уже подумывал о том, что пора предложить его супруге поставить в фамильном склепе Шантеклеров два пустых гроба с именами Натаниэля и Ранульфа.
Сенат активно готовился к ежегодному банкету, который каждый декабрь происходил в Ратуше в память изгнания герцогов, и был полностью поглощен такими важными вопросами, как: сколько индюшек следует заказать и у каких именно торговцев; кто из сенаторов получит почетное право поставить вино, а кто марципаны и имбирный эль и справедливо ли истратить на гусиную печень и фазаньи сердца ту сумму, которую недавно скончавшийся торговец полотном завещал всем жителям Луда.
Но однажды утром речь господина Полидора была неожиданно прервана Немченсом. Вне себя от ужаса он сообщил, что войско Фейри только что пересекло Спорные горы, и охваченные паникой толпы крестьян бегут в Луд.
Новость произвела в Сенате ошеломляющее впечатление. Все разом заговорили, предлагая всевозможные способы обороны, один нелепее другого.
Тут поднялся господин Амброзий Джимолост. Его суждение имело наибольший вес среди коллег, и все взоры обратились к нему. Спокойным и деловитым тоном он обратился к собравшимся:
— Сенаторы Доримара! Перед тем как в зале появился капитан йоменов, мы обсуждали варианты десерта для нашего ежегодного пиршества и еще не пришли к единому мнению. Так стоит ли менять тему? Думаю, не стоит. И хочу добавить к упомянутым блюдам еще одно. — Он сделал паузу и громко, с вызовом, произнес: — Плоды фейри!
Собравшиеся разинули от изумления рты. Что это? Неуместная шутка? Однако Амброзий был человеком серьезным и ничего подобного себе не позволял.
Затем он перешел к событиям заканчивающегося года и урокам, которые следовало из них извлечь.
— Смирение и вера, — вот главное, что нам необходимо, — сказал господин Амброзий.
Закончил он следующим образом:
— «Помни о том, что Пестрянка впадает в Долу». Я иногда задумывался над тем, понимаем ли мы истинный смысл этой пословицы. Наши предки возвели славный град Луд между двумя реками, и каждая из них приносила нам свою дань. Дола даровала золото, и мы охотно его принимали, отвергая в то же время дар Пестрянки. Дар нашего кроткого старого друга, в чьих водах мы парнишками учились благородному искусству ужения рыбы, который столетие за столетием приносил в Доримар плоды фейри… каковой факт, по моему разумению, доказывает, что эти фрукты являются столь же полезными и необходимыми для человека, как и прочие дары, которые мы получаем от своих безмолвных друзей: золото, которое приносит нам Дола, зерно, которое родит земля, пастбища, где пасется скот, горы, защищающие нас от ветра, яблоки и тень, даруемые нам деревьями.
И если хороши все плоды Жизни, значит, прекрасны и те формы, которые она выбирает и которые мы отменить не в силах.
Сейчас к Доримару движутся наши древние враги. Почему бы не превратить необходимость в добродетель, не открыть настежь ворота, не принять, их как друзей.
Вначале сенаторы пришли в ужас.
Но в результате побеждает сильнейший. А сильнейшим был Амброзий Джимолост.
Когда Сенат принял решение, он обратился к пребывавшему в ужасе населению на рыночной площади и уже к ночи успокоил запаниковавшую толпу, убедив граждан принять то, что уготовано Доримару.
Наиболее пылкими его сторонниками оказались Себастьян Головорез и недостойная Распутница Бесс.
Кто бы мог подумать, что в один прекрасный день господин Амброзий превратится в демагога и с помощью грубияна матроса и простой горожанки будет уговаривать граждан Луда открыть настежь городские ворота и встретить фейри хлебом и солью?
Город украсили флагами, на окнах появились гирлянды из плюща герцога Обри, западные ворота распахнули настежь, люди вышли на улицы встречать гостей.
Сперва до ушей их донеслись звуки сладостной бравурной музыки, затем топот множества ног — и в город хлынула армия захватчиков, подобных несомым ветром листьям.
Наблюдая за происходящим, господин Амброзий вспоминал гобелены в Ратуше, и впечатление, которое они производили.
Позади батальонов одетых в панцири мертвецов шествовали три старика гигантского роста, чьи длинные седые бороды свисали ниже поясов. Их длинные одеяния были расшиты золотом и драгоценными камнями, складывавшимися в странные эмблемы, за ними вели мулов, груженных сундуками из кованого золота. Среди толпы распространился слух, что эти трое и есть питающиеся бальзамом жрецы Солнца и Луны.
Шествие замыкал на рослом белом коне господин Натаниэль Шантеклер, а рядом с ним ехал Ранульф.
То, что произошло потом, после того как войско Фейри вступило в город, похоже, скорее, на предание, чем на историю.
Деревья вдруг оделись листвой, мачты находившихся в гавани кораблей покрылись цветами, в тот день и в ту ночь петухи ни на минуту не умолкали. Из-под снега выглядывали фиалки и анемоны, матери обнимали умерших сыновей, а девушки — утонувших в море любимых.
Однако уверенным можно быть только в одном: окованные золотом сундуки вмещали древний дар земли Фейри Доримару. Плодов хватило и еще осталось не только на послеобеденное угощение сенаторов, но и на каждый дом в городе.
Глава XXXI Посвященный
Вас, возможно, удивит, что столь выдающаяся роль выпала на долю человека, обладающего массой недостатков, отнюдь не героя. Однако высший духовный путь не всегда предначертан самому сильному или добродетельному.
И хотя герцог Обри назначил его своим представителем и посвятил в Древние Мистерии, господин Натаниэль остался самим собой — переменчивым, как дитя, и частенько неразумным. Не покидала его и меланхолия. Посвящения в Мистерии не делают человека счастливым. Возможно, их самая последняя тайна совершенно безрадостна… или же ее так и не открыли господину Натаниэлю.
Как ни странно, новые почести не приободрили его, он даже ощущал неловкость.
* * *
Когда жизнь снова вернулась в свою обычную колею, господин Амброзий явился вечерком к господину Натаниэлю.
Некоторое время они просто молча попыхивали трубками, а потом Амброзий спросил.
— Что ты думал об Эндимионе Лере, Нат? Надеюсь, он действительно был двуличным негодяем?
Натаниэль помолчал и в раздумье ответил.
— Полагаю, что так. Я прочитал отчет о его процессе, по-моему говорил он искренне. И все же в душе его таилось некое зло, которым он заражал все, к чему бы ни прикасался… даже плоды фейри… даже герцога Обри.
— А в каком духовном грехе он, по-твоему, признался?
— По-моему, — неторопливо проговорил господин Натаниэль, — он мог осквернить священные предметы Мистерий.
— А что это за предметы, Нат?
Натаниэль усмехнулся:
— Жизнь и смерть, насколько я понимаю.
Он терпеть не мог расспросов на подобные темы.
Господин Амброзий по некотором размышлении проговорил:
— Однако любопытно, почему, нападая на тебя, он всегда губил собственные цели.
— Да, — воскликнул господин Натаниэль, — и в самом деле любопытно! Все, что он делал, приносило эффект, в точности противоположный тому, который он ожидал. Он боялся Шантеклеров, старался избавиться от них, и потому отправил Ранульфа в страну Фейри, откуда никто никогда не возвращался. Он так скомпрометировал меня, что я вынужден был покинуть Луд, и Эндимион Лер решил, что устранил меня со своего пути. Но тем самым лишь ускорил собственное падение. Вынужденный оставить Луд, я отправился на ферму, где и обнаружил написанный старым Тарабаром обвинительный документ. То, что Ранульф отправился дальше, заставило меня последовать за ним, и именно поэтому я вернулся в качестве представителя герцога Обри. — И он вновь смущенно рассмеялся, а потом сказал: — Герцога, как ни пытайся, не обойдешь.
— «Тот, кто мчится с ветром, должен скакать туда, куда несет его конь», — процитировал господин Амброзий.
Натаниэль улыбнулся, и несколько минут они вновь молча попыхивали трубками.
Первым нарушил молчание Натаниэль.
— Мы пережили странные времена, Амброзий! Все мы, то есть те из нас, у кого была своя роль, словно бы жили чужими снами, или же нам снились чужие жизни, и в них самым непостижимым образом соединились яблоки и кровоточащие мертвецы, деревья и призраки. Лер произносит речь о людях и деревьях, я нахожу решение загадки под гермой, получеловеком, полудеревом, ты принимаешь сок плодов фейри за кровь мертвецов, и так далее. То, что случилось со мной, больше походит на сон. — Он вдруг умолк.
На сей раз молчание нарушил господин Амброзий.
— Ну, Нат, — проговорил он, — по-моему, я получил урок смирения. Прежде я был весьма высокого мнения о собственной персоне — как и большинство людей, я полагаю, но теперь я убежден, что ничего особенного собой не представляю и вылепили меня на самом деле из куда худшей глины, чем тебя и мою Луноцвету. Все, что ты осознал сам, мне пришлось принимать на веру.
— А если, Амброзий, все, что мы знаем на самом деле, сводится к одному, к тому, что нам нечего знать? — промолвил Натаниэль с легкой печалью.
Он погрузился в размышления, и Амброзий, решив, что друг хочет побыть один, тихонько вышел из кабинета.
Господин Натаниэль задумчиво взирал на огонь, трубка его погасла, однако он даже не заметил этого. А потом дверь негромко отворилась, кто-то тихо вошел и стал позади его кресла. Это была его супруга. Она сказала только.
— Мой старый и смешной Нат! — Голос ее был полон нежности.
Она опустилась рядом с ним на колени и обняла теплыми мягкими руками. И тогда в душе господина Натаниэля вновь вспыхнула надежда на то, что однажды он снова услышит Ноту, и все станет на свои места.
Глава XXXII Заключительная
Мне хотелось бы закончить повествование несколькими словами о дальнейшей судьбе его героев.
Хейзл Тарабар вышла замуж за Себастьяна Головореза, из которого получился великолепный муж. Он оставил море и поселился на ферме жены. Мистрис Айви Пепперкорн поселилась вместе с ними, а господин Натаниэль и Ранульф каждое лето гостили у них. Распутная Бесс исчезла из Луда чуть ли не в день свадьбы Себастьяна — как говорили злые языки, из оскорбленного самолюбия.
Люк Хэмпен поступил в йомены и преуспел, после отставки Немченса его избрали капитаном.
Хэмпи дожила до весьма преклонных лет, рассказывала свои сказки детям Ранульфа. А когда скончалась, в благодарность за любовь и верность ее похоронили в семейной часовне Шантеклеров.
Мамаша Тиббс, принявшая самое подозрительное участие в буйном кутеже, разразившемся после вступления в город армии Фейри, навсегда исчезла из Доримара. Никто больше не видел Портунуса. Однако время от времени на свадьбах и сельских праздниках неведомо откуда появлялся буйный рыжий юноша, который исчезал из дома под возгласы: Хо! Хо! Хо! — поставив все с ног на голову своими выходками.
Цветочки Кисл постепенно оправились от пережитого, но так и не стали настоящими леди, о чем мечтали их матери, когда отправляли их учиться в Академию мисс Примулы Кисл. Они никогда не знали недостатка в плодах фейри, ибо Пестрянка продолжала доставлять свою дань в Доримар, значительно укрепляя тем самым благосостояние страны. Дело в том, что, благодаря деловитости господина Амброзия, в городе появилась новая отрасль промышленности, и засахаренные плоды фейри отправляли во все ближние и дальние страны в изящных и модных коробках с разрисованными крышками. Это свидетельствовало о том, что искусство вновь возвращается в Доримар.
Ранульф вырос и стал сочинять замечательные песни, каких не слыхали в стране со времен герцога Обри, и песни эти пересекали моря; их пели и одинокие рыбаки на далеком севере, и матери, баюкавшие детишек с индиговой кожей возле дверей своих хижин на Коричных островах.
Дама Календула все улыбалась и грызла марципаны, болтая с подружками. Однако ей не давала покоя мысль о том, что господин Натаниэль по-настоящему не вернулся из своего путешествия за Спорные горы.
А что произошло потом с самим господином Натаниэлем? Не знаю, услышал ли он снова свою Ноту. Но в положенное время он отправился либо обрабатывать поля левкоев, либо на Грамматические поля разлагаться. И в семейной часовне над его гробом прикрепили латунную табличку со следующей эпитафией:
ЗДЕСЬ ПОКОИТСЯ НАТАНИЭЛЬ ШАНТЕКЛЕР,
ПРЕЗИДЕНТ ТОРГОВОЙ ГИЛЬДИИ,
ТРИЖДЫ МЭР ЛУДА ТУМАННОГО,
ЕМУ БЫЛА ЖАЛОВАНА НЕМАЛАЯ ТОЛИКА МИРА И ПРОЦВЕТАНИЯ,
КОТОРЫЕ ПОМОГ ОН ДАРОВАТЬ СВОЕМУ ГОРОДУ И СТРАНЕ.
Эпитафия эта немногим отличалась от тех, на которые он столь задумчиво взирал на Грамматических полях.
И это служит еще одним доказательством того, что слово написанное в своем роде тоже фейри — существо столь же насмешливое и неуловимое, как Вилли Клок. Пусть помнят об этом все любители чтения! Сим последним наставлением и заканчивается эта книга.
Примечания
1
Имеется в виду немецкий историк искусства Иоганн Иоахим Винкельман, 1717–1768.
(обратно)2
Небольшие клавикорды или пианино.
(обратно)3
Течение в англиканской церкви, близкое к католицизму.
(обратно)4
Английский король династии Стюартов, казненный в 1649 году.
(обратно)5
Зверь, который прислуживает колдуну или ведьме.
(обратно)6
Примером регулярных парков могут служить сады Версаля или верхние сады Петергофа, образованные подстриженными кустами и деревьями.
(обратно)7
Название цветка, австрийский шиповник.
(обратно)
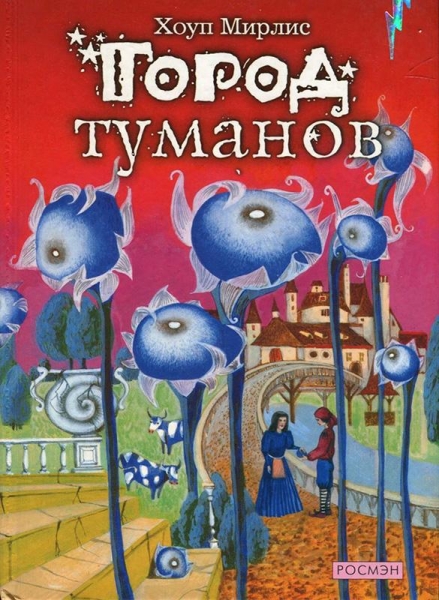


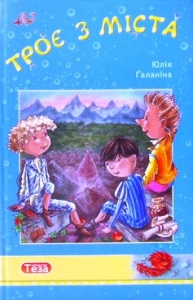

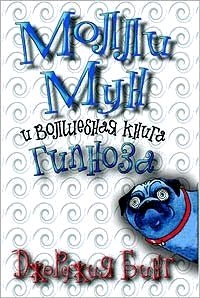
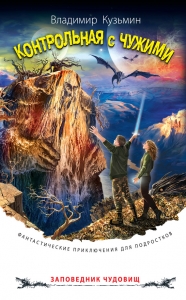

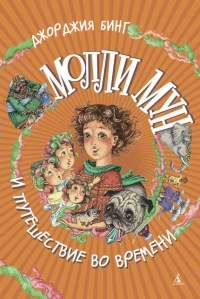




Комментарии к книге «Город туманов», Хоуп Миррлиз
Всего 0 комментариев